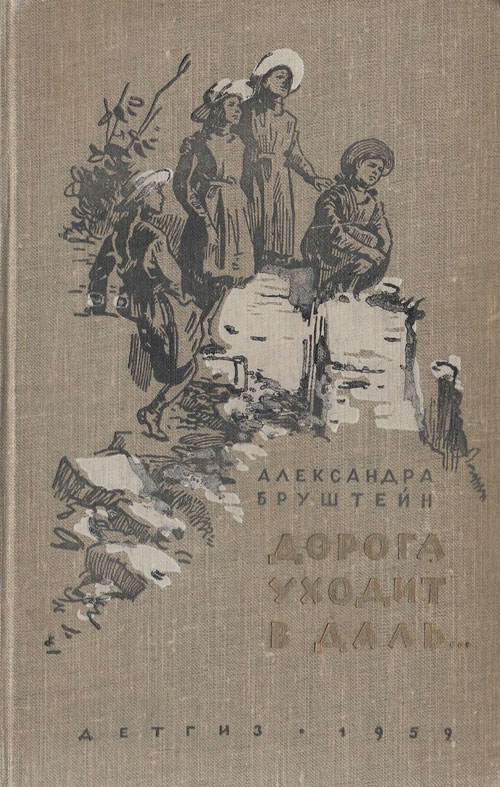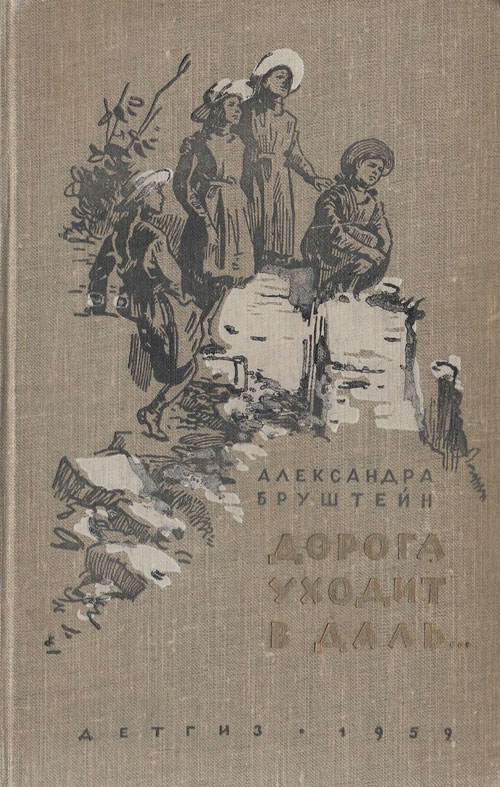|
Глава первая. СВОЕЙ ДОРОГОЙ
— Спать! — командует мама.
— Мамочка…
— Ничего не «мамочка»! Спать!
— Но ведь сейчас только восемь… Я всегда до девяти!
— Тебе надо хорошенько выспаться! — отчеканивает мама с необычной для неё твёрдостью. — Чтобы завтра не проспать, не опоздать, сохрани бог, на уроки!
Конечно, это серьёзный довод. И я подчиняюсь, хотя и очень неохотно.
— Всё равно не засну… — ворчу я, укладываясь в постель. — Как я могу заснуть в восемь часов! Цыплёнок я, что ли?
С этой мыслью — «всё равно не засну!» — я лежу в постели. Поль, моя учительница французского языка, тоже почему-то улеглась в такую рань, одновременно со мной. Она очень волнуется за меня, даже несколько раз в течение этого дня принималась сосать лепёшечки из своей заветной коробки. Эти лепёшки — ужасно невкусные! — сделаны из сока дерева эвкалипт. Такое красивое название, и такие противные на вкус лепёшки! Они, собственно говоря, предназначены для лечения людей от кашля, но Поль принимает их от всех болезней: от головной боли, от сердцебиения, даже от ангины и расстройства желудка. Поль уверяет, что эвкалиптовые лепёшки — «совершенно волшебное лекарство!».
В общем, учиться пойду завтра я, а волнуется из-за этого весь дом! И не только Поль без конца ворочается в постели и сосёт свои лепёшечки. Даже маленький Кики, блёкло-зелёный попугайчик, слепой на один глаз, — даже он сегодня почему-то не засыпает, шебаршит в своей клетке. При этом он издаёт порою тихие «звучки», словно жалуется:
«Где мой глаз? Почему у меня только один глаз?»
В другое время Поль сказала бы с гордостью: «О Кики такой умный! Он всё понимает — как человек!».
Но сегодня Поль даже не замечает этого. Она так волнуется, что ей не до Кики…
Дверь в столовую открыта, и, лёжа в кровати, я вижу всё, что там делается. Мама за столом раскладывает пасьянс, но совершенно ясно, что карты её не интересуют и она в них почти не смотрит. Порой она неожиданно задумывается и неподвижно глядит в одну точку. По другую сторону стола сидит наш старый друг доктор Рогов, Иван Константинович. Он тоже раскладывает свой любимый пасьянс «Могила Наполеона» (он только этот один пасьянс и знает) и тоже часто отрывается от карт, словно его тревожат другие мысли. Папа ходит по столовой — взад-вперёд, взад-вперёд. А Юзефа отчаянно, на всю квартиру, гремит в кухне посудой и утварью, поминутно роняя на пол то одно, то другое. Грохоту — на весь дом!
— Юзефа! — просит мама мягко. — Не гремите кастрюлями!
— А когда ж яны — бодай их, тыи каструли! — сами з рук рвутся! Як живые…
— Яков… — пробует мама остановить папино вышагивание по столовой. — Перестань метаться, как леопард в клетке!
— «Яков ты, Яков, цвет ты наш маков…» — вдруг напевает Иван Константинович. — Не мечись как угорелый. Ребёнок и без того волнуется.
— Вспомни, как ты когда-то сам в первый раз пошёл в гимназию, — напоминает мама.
Папа, по своему обыкновению, присвистывает:
— Фью-ю-ю! Это же было совсем другое дело!
— Почему «другое»?
— Потому, что я был пятнадцатилетний парень, почти взрослый. Моя мать хотела, чтобы я непременно стал учёным раввином. Меня учили всякой религиозной премудрости, а я мечтал учиться светским наукам — и в особенности математике и медицине!
— Вот! — радуется Иван Константинович. — В рифму со мной! Я в Военно-медицинскую академию из духовной семинарии подался. Меня папаша с мамашей в священники прочили… Как же ты всё-таки, Яков Ефимович, в гимназию попал?
— Не попал бы! — говорит папа. — Не попал бы, если бы не мой отец. Он был целиком на моей стороне. Он нанял мне учителя — гимназиста последнего класса, и тот за три рубля в месяц занимался со мной потихоньку от моей матери, у нас на чердаке. Мышей там было! Как-то мыши изгрызли латинскую и греческую грамматики Кюнера и Ходобая, и я, почти взрослый, заплакал, балда, навзрыд. Как ребёнок!.. Отец ничего не сказал, только вздохнул — это ж было бедствие, катастрофа! — и стал шарить по карманам. Выложил всю обнаруженную наличность — шестьдесят две копейки! — и дал мне. «На, сбегай в лавку, купи новые книжки…»
Лёжа в постели, не подавая голоса, я внимательно слушаю папин рассказ. Я думаю о своём дедушке — папином отце. Этот дедушка ведь совсем неучёный, только грамотный, а вот понимал, что детей надо учить, что для этого ничего не жалко. Молодец дедушка! Когда они с бабушкой вернутся с дачи в город, я ему скажу, что он хороший и я его люблю.
— Ну, в общем, — рассказывает папа в столовой, я благополучно одолел меньше чем за два года курс четырёх классов гимназий — и выдержал экзамен экстерном при Учебном округе. Это было почти чудо: никто там экзаменов не выдерживал, всех резали. Но я всё-таки получил круглые пятёрки: и за латынь, и за греческий, и по математике, и по всем предметам — и мне дали свидетельство от Учебного округа. С этим свидетельством отец поехал — будто бы по делу! — в город Мариамполь, и там меня приняли в пятый класс местной гимназии…
— Почему в Мариамполе? — удивляется Рогов. — Почему не здесь, в своём городе?
— Что вы, что вы! — Папа, смеясь, машет рукой. — Здесь мамаша не дала бы мне учиться. Нет, отец разработал хи-и-итрый стратегический план! Мы с ним тайком перетаскали на чердак все мои книги и вещи. Отец, потихоньку от матери, купил мне на толкучке подержанную гимназическую форму: брюки, блузу с поясом, шинель, фуражку с гербом. Всё это мы связали в узел. Поздно вечером отец посадил меня в поезд, идущий в Мариамполь. В вагоне он обошёл всех пассажиров, всякому поклонился и сказал: «Вот это — Яков, мой сын, он едет учиться. Будьте ласковы, присмотрите за мальчиком». А кондуктору отец дал гривенник: «Имейте в виду, мальчик у меня такой: если он начнёт читать книжку, он до Парижа доедет! Так уж вы, пожалуйста, высадите его раньше: в Мариамполе!»
— Ну, и как ты доехал? — интересуется мама.
— Ох, лучше не спрашивай! Я ведь в первый раз в жизни ехал по железной дороге… Меня тошнило и мутило, как на океанском пароходе!
— А в Мариамполе как ты устроился?
— Роскошно! Я высадился со своим узелком и с семью рублями, которые мне дал отец. Нашёл «ученическую квартиру», где за пять рублей в месяц давали угол и стол таким бессемейным гимназистам, как я. И зажил почти как принц!
— Почему только «почти»? — не выдержав, подаю я голос из своей комнаты.
— Смотри ты, она не спит!
— Ты скажи мне, почему только «почти как принц», папа, и я сию минуту усну!
— Да потому, что ведь принцы, насколько мне известно, не учатся в мариампольской гимназии, — по крайней мере, при мне там не было среди учеников ни одного принца. Ну, и конечно, принцы вряд ли живут на «ученических квартирах», не едят одну только картошку с селёдкой… В общем, я думаю, что принцам ученье достаётся лучше, чем нашему брату.
— А учился ты хорошо, папа?
— Да как же иначе? — удивляется папа. — Я поступил прямо в пятый класс, проучился четыре года и кончил гимназию с медалью. Без медали меня не приняли бы в университет.
— Молодец! — хвалю я.
— Не я молодец, а мой отец: он моей головой пробил дверь к ученью всем моим шести младшим братьям.
— А как же бабушка?
— Бабушка поплакала, погоревала — и смирилась. Теперь она даже рада, гордится тем, что четверо из нас уже кончили университет и «вышли в люди». Остальные трое ещё учатся… — Но тут, вдруг спохватившись, папа сердито кричит мне: — Да будешь ты наконец спать или нет? — и притворяет дверь из столовой.
Я благоразумно умолкаю.
«Всё равно мне так рано не уснуть!» — продолжаю я думать. Кровать моя стоит у окна, и я вижу спокойное, глубокое ночное небо. Луна висит в небе, как золотая дыня. Я вижу на ней глаза, нос, рот… Конечно, я знаю, что это горы на далёкой луне, но до чего это похоже на человеческое лицо! Бывают вечера, когда луна смотрит на землю весело, добродушно — вот-вот улыбнётся и подмигнёт! И иногда у луны лицо недовольное и обиженно поджаты губы.
Сегодня луна очень ласковая и доброжелательная. На неё просто приятно глядеть. «Конечно… я… так рано… не усну…» — продолжает вертеться у меня в голове. Луна закрывается лёгким облачком, как шарфиком. Потом из глаз луны выкатываются крупные слёзы, похожие на перевёрнутые вниз головой запятые. Потом луны уже не видно, а идёт дождик, такой тёпленький, будто небо плачет супом! Капли этого дождя-супа падают на моё лицо, скатываются ко мне за ухо, за ворот моей ночной рубашки и пахнут чем-то очень знакомым и уютным… Кухней, плитой, свежемолотым кофе… Юзефой!
Это и в самом деле Юзефа, моя старая няня. Стоя на коленях около кровати, она чуть-чуть касается меня рукой, загрубелой от работы, шершавой от стирки. При этом она еле слышно шепчет на том языке, на котором молятся в костёлах и который сама Юзефа не без гордости называет «латыньским». Впрочем, латинских слов Юзефа знает только два: «патер ностер» («отче наш»), а за этим следует перечисление Христа, всех католических богородиц и святых:
— Патер ностер… Езус Христос… Матка боска Острабрамска, Ченстоховска… — бормочет Юзефа. Это она призывает мне в помощь всех небесных заступников, продолжая кропить меня слезами.
— Юзенька… — бормочу я сквозь сон, — как ты мокро плачешь…
И снова закрываю глаза, снова меня качает на сонной волне. Но тут вдруг будто кто крикнул мне в ухо: «Юзефа плачет!» Я раскрываю глаза, мне больше не хочется спать.
— Юзенька! Тебя кто-нибудь обижает?
— Никто мене не забижает… Тебя, шурпочку мою, не забидел бы кто там, у кляссе… Смотри, будут бить — не давайся!
Никакими уверениями невозможно поколебать Юзефину убеждённость в том, что в институте («у кляссе») детей бьют. Бьют и учат, учат и бьют.
Я начинаю повторять все давно уже приведённые доводы: теперь в школах не бьют — если бы там били, разве папа и мама отдали бы меня туда? — и т. д. Но вдруг замолкаю на полуслове, на меня нападает страх: опоздаю! Вон уже как светло, уже утро, — опоздаю на первый урок в институт!
Срываюсь в ужасе с кровати:
— Который час?
Нет, не опоздаю: сейчас только семь часов утра. Уроки начинаются в 9 с половиной, а ходу от нашего дома до института всего минут десять, да и то если останавливаться перед каждым магазином и засматриваться на все витрины! Времени ещё много!
Всё-таки на всякий случай: а вдруг что-нибудь меня задержит? Вдруг улицу перегородят телеги или марширующие солдаты? — я начинаю мыться и одеваться. Так поспешно, что всё валится у меня из рук.
Скорее, скорее, уже десять минут восьмого!
Когда человек торопится, вещи, словно нарочно, стараются мешать ему. Где моя левая туфля? Куда она убежала? Ведь это же безобразие: у человека две ноги — и почему-то только одна туфля! Я с негодованием повторяю по адресу своих туфель то, что постоянно твердит наш друг, старый доктор Иван Константинович Рогов, когда он на что-нибудь или кого-нибудь рассердится:
— Это хамство, милостивые государи! Да-с!
К счастью, «милостивая государыня» — левая туфля моя — отыскалась: она почему-то засунулась за ножку кровати. С форменным коричневым платьем — новая беда: оно почему-то застёгивается на спине! Ну что за глупая выдумка портнихи! Застёгивать платье на спине — этак можно целый час проканителиться. И, по-моему, когда я примеряла платье, застёжки были сделаны по-людски, спереди…
— Да ты надела платье задом наперёд! — показывает мама.
— А то — добре! — серьёзно уверяет Юзефа. — Наизнанку надеть платье — плохо. А задом наперёд — добрый знак!
Все мои вещи ещё с вечера уложены в большой, вместительный кожаный ранец с мохнатой, ворсистой крышкой из жеребячьей шкуры.
Мне, конечно, немного досадно, почему у меня ранец, как у мальчишек, а не изящная сумка для книг и тетрадок, как у большинства девочек-учениц, встречающихся на улице. Но ранец — это папина причуда, докторская. Сумку-де надо носить на одной руке, а от этого у девочек позвоночник искривляется на ту именно сторону. Конечно, если папа говорит, так это, наверно, правда, и позвоночник в самом деле искривляется. Но всё-таки мне хотелось бы шагать в школу с лёгонькой сумкой, висящей на руке. И ещё бы я хотела — моё давнишнее затаённое мечтание! — чтоб по спине у меня спускалась длинная коса… Ох, косой мне всё ещё не приходится хвастать! На затылке у меня малютка-косюля с бантиком — всё равно как если бы сплели косу из весенних стебельков травы, только что пробившихся из-под земли.
Зато в ранце у меня множество сокровищ, новеньких, ещё не опробованных. Книжки, тетрадки со вложенными в них четырёхугольниками промокашек — от всего этого вкусно пахнет клеем. Карандаши, перья, резинка — одна половинка её светлая, другая тёмная: под карандаш и под чернила. Ручка, на которую насажена петушиная головка. Когда пишешь, то головка эта качается, словно приговаривает: «Так, так, так… Пиши, пиши, пиши… Очень, очень, очень прекрасно!» Пенал, подарок Поля, — мечта, а не пенал! На деревянной крышке его выжжено изображение роскошного зайца. Выжигали, видимо, не очень большие искусники: рот и нос зайца слились воедино — похоже, что заяц с аппетитом сосёт свой собственный нос, а удивлённые раскосые заячьи глаза будто говорят: «Смотри ты! Обыкновенный нос, а как вкусно!»
В боковом карманчике ранца лежит завёрнутый в пергаментную бумагу мой завтрак — я буду есть его на большой перемене: между третьим и четвёртым уроками.
— Я положила тебе побольше, — говорит мама. — Захочешь — угостишь какую-нибудь подружку.
— Сама ешь! У них — своё, у тебя — своё! — сердится Юзефа и с укором обращается к маме: — Вы ей эту моду не показывайте: подружков кормить! Она тогда сразу всё отдаст и голодная бегать будет.
Только одной вещи нет у меня в ранце (а её-то мне, ох, как хотелось бы иметь!): перочинного ножа! Когда обсуждался вопрос о перочинном ноже, Поль стояла за то, что ножик — полезная вещь и надо купить мне ножик. Но Юзефа начала так плакать, так божиться, так кричать «по-латыньски»: «Езус Мария, матка боска Острабрамска, Ченстоховска», что мама заколебалась.
— Зачем ребёнку ножик? — возмущалась Юзефа. — Что яна — разбойник или что? Да яна ж — маленькая: дайте, ей ножик, яна домой без пальцев придёт!
Так ножа и не купили.
Папа смотрит на часы.
— Без четверти девять… Пора!
— Да? — говорит вошедший в комнату высокий крепкий старик с густой раздвоенной каштановой бородой, в которой не видно ни одного седого волоса. — Да? Ребёнок пойдёт в первый раз в жизни учиться без своего дедушки? Очень мерси вам, дорогие дети, но я — не согласный!
— Дедушка! — бросаюсь я к нему на шею. — Миленький!
Это тот дедушка мой, папин отец, о котором папа рассказывал вчера вечером Ивану Константиновичу и маме. Тот дедушка, который, урезывая себя и бабушку во всём, добился университетского образования для всех своих семерых сыновей.
— Дедушка пришёл! — прыгаю я вокруг него.
— Дедушка пришёл, — подхватывает дедушка, — не с пустыми руками: он принёс внучке подарок!
И на протянутой ко мне широкой дедушкиной ладони я вижу… отличный перочинный ножик!
Пока идут препирательства из-за того, нужен девочке ножик или не нужен, и вопли Юзефы, что этим ножиком я обязательно отрежу себе нос, папа снова смотрит на часы.
— Без десяти минут девять… Пора!
И одновременным движением мама берётся за свою шляпку, а Юзефа набрасывает на голову платок. Дедушка тоже берёт шляпу и палку.
— Куда? — прищуривается папа. — Куда вы все собрались? Вы хотите проводить её в институт? «За ручку» — да? Может, ещё на руках понесёте её?
— Так яна ж маленькая… — жалобно возражает Юзефа.
— Она уж не маленькая! — твёрдо отрезает папа. — Она идёт учиться.
— Яков… — нерешительно начинает мама.
Но папа властно перебивает её.
— Она пойдёт одна. И — всё.
— Но она может попасть под извозчика…
— Непременно! — гремит папа. — Если она привыкнет, чтобы её водили «за ручку», она непременно попадёт под извозчика в первый же раз, как очутится на улице одна. Она должна учиться быть взрослой.
Юзефа с сердцем срывает с головы платок и убегает на кухню. Там она — я знаю — плюнет в сердцах и заплачет:
— Нехай дитя зарежется… нехай яво звозчик задавит — им что.
Но мне папины слова очень нравятся.
— Ты сегодня пойдёшь своей дорогой… Понимаешь, Пуговка? И с тобой не будет ни мамы, ни меня, ни дедушки, ни Юзефы, ни мадемуазель Полины — никого. Ты сама будешь отвечать за всё, что делаешь. И не держаться за мамину юбку или за Юзефин фартук… Сама надевай ранец! Не помогайте ей! — сердится папа. — Ну вот, молодец! А теперь попрощайся, и в добрый час…
Все провожают меня в переднюю. Все, кроме Юзефы, которая заперлась на ключ в кухне и, наверно, горько плачет.
Я через дверь прошу её выйти, но она не откликается.
У мамы полные глаза слёз. Поль крепко жмёт мне руку.
— Бонн шанс! (Счастливо!) — говорит она мне и тихо, на ухо, добавляет: — Твой отец сказал тебе всё, что я думаю… Как будто он читал мои мысли!
Дедушка обнимает меня.
— Другой твой дедушка, отец твоей мамы, — он был учёный человек! — он бы тебе сегодня сказал, наверно, какую-нибудь «алгебру»… Или что «птичка божия знает», или что она, бедная, чего-то там не знает… Ну, а я — простой дедушка. И я тебе только скажу: будь здорова, будь умная и будь хорошая. Больше я от тебя ничего не хочу!
Я берусь за ручки двери. Сейчас уйду.
— Стой, стой! — вдруг спохватывается папа и быстро уводит меня в свой кабинет. — Помни: не врать! Никогда не врать!
И, погрозив перед моим носом своим разноцветным «хирургическим» пальцем, с которого уже невозможно смыть следы йода и ляписа, папа поворачивает меня за плечи и подталкивает в переднюю.
— Вещи-и-и! — раздаётся вдруг из кухни рыдающий голос Юзефы. — Вещи берегчи надо: за них деньги плачены, не черепья!
Выйдя на улицу и задрав голову, я смотрю наверх, на наши окна. В них — папа, мама, дедушка. В окне нашей комнаты — Поль и Кики, мечущийся в своей клетке. В окне кухни — распухшее от слёз лицо Юзефы. Папа многозначительно поднимает свой пёстрый указательный палец, это означает: «Помни: не врать!» Я понимающе киваю папе и всем. Юзефа машет мне чайным полотенцем и кричит:
— Вещи… И через улицу ходи остру-у-ужненько!
Я шагаю по улице. Не спеша, как взрослая. На витрины магазинов не гляжу. Даже на витрину магазина «Детский рай». Даже на окно кондитерской, где выставлен громадный фарфоровый лебедь; вся его спина густо нафарширована множеством крупных конфет в пёстрых, бахромчатых бумажках — совсем как панталонцы у кур-брамапуток.
Я не смотрю по сторонам, не хочу отвлекаться от моего пути. Но, пройдя мимо кондитерской, я вдруг останавливаюсь. Я чувствую неодолимое желание ненадолго — совсем ненадолго, на две-три минуты! — отклониться от прямой дороги, сделать ма-а-аленький крючок, чтобы повидать одного человека… Мне бы надо свернуть от кондитерской налево, а я иду направо, где сейчас же за углом находится чайный магазин известной фирмы «К. и С. Попов с сыновьями». В этом магазине у меня есть друг, и мне совершенно необходимо показаться ему во всём великолепии коричневого форменного платья, ученического фартука, моего нового ранца с книжками — ну, словом, во всей блеске. Этот друг мой — китаец, настоящий живой китаец Ван Ди-бо. Его привезли в прошлом году специально для рекламы — чтоб люди шли покупать чай и кофе только в этот магазин. И покупатели в самом деле повалили валом. Всякий покупал хоть осьмушку чаю иди кофе, хоть полфунта сахару — и при этом глазел на живого китайца. Так и стоит с тех пор Ван Ди-бо в магазине с утра до вечера, рослый, статный, в вышитом синем китайском халате. Голова у него обрита наголо, только на затылке оставлены волосы, заплетённые в длинную косу ниже поясницы. Ох, мне бы такую!
Ван Ди-бо немножко говорит по-русски. Произносит он слова мягко, голос у него добрый, ласковый. И на всех покупателей, входящих в магазин, Ван Ди-бо смотрит умными раскосыми глазами и всем улыбается одинаковой казённо-приветливой улыбкой. Ведь он для того и нанят, чтобы привлекать покупателей!
Так же смотрел всегда Ван Ди-бо и на меня, когда я приходила с мамой в магазин. Ван Ди-бо кланялся нам, когда мы входили и выходили, и, пока продавец отвешивал и заворачивал нам товар, — а иногда это делал и сам Ван Ди-бо, он быстро научился этому нехитрому искусству, — Ван Ди-бо ласково улыбался нам, как всем покупателям.
Но однажды всё неожиданно изменилось. Мама как-то обратила внимание на то, что у Ван Ди-бо очень грустный, совсем больной вид. Он улыбался, как всегда, но улыбка была вымученная, запавшие глаза смотрели страдальчески, лицо было в испарине. Мама спросила Ван Ди-бо, не болен ли он. Опасливо оглядываясь на управляющего магазином, Ван Ди-бо стал торопливо бормотать:
— Холесо… Сё холесо, мадама…
Был уже вечер, торговый день кончался.
Управляющий надел пальто, шляпу и ушёл из магазина. Тогда Ван Ди-бо оживился — он, видимо, боялся управляющего, — а продавец сказал маме, что у Ван Ди-бо на руке «гугля агромадная — от какая!» Сам Ван Ди-бо мялся, улыбка у него была похожа на гримасу, но показать маме свою больную руку стеснялся.
— От-т-то дурень! — сердился на него продавец. — Откусит барыня твою лапу, что ли?
Тогда мама предложила, чтобы Ван Ди-бо показал больную руку папе. Это, конечно, была очень правильная мысль, но… Тут встал новый вопрос: каким образом попадёт Ван Ди-бо к нам на квартиру? Ему строжайше воспрещено не только выходить на улицу, но даже стоять на пороге магазина, где его может увидеть с улицы всякий и каждый. Управляющий ежедневно повторяет это Ван Ди-бо:
«Зачем тебя, китайсу, сюды привезли, а? Чтоб люди на тебя задарма шары пучили? Не-е-ет! Желаете живого китайсу видеть — пожалуйте-с! В магазин-с! Вошли, купили чего ни то, — вот он вам, живой китайса, смотрите в своё удовольствие!»
Так и живёт Ван Ди-бо в тёмном чулане позади магазина и никогда не выходит на улицу. Если он сейчас пойдёт вместе с нами, немедленно сбегутся сотни людей. Нам и не пробиться будет сквозь эту толпу, и, уж конечно, управляющий магазином завтра же узнает о запретном путешествии Ваи Ди-бо по улицам города. Скандал будет неописуемый!
Как же поступить?
Все предлагали разные способы сделать Ван Ди-бо неразличимым среди уличных прохожих. Самое умное придумала жена продавца, пришедшая за своим мужем: пусть Ван Ди-бо наденет её широкое, длинное пальто.
— А коса-то? Куда косу девать?
— А под мой платок, — спокойно предложила жена продавца.
Так и сделали. Ван Ди-бо, в пальто и повязанный платком, совершенно похож на женщину, только очень огромную ростом.
— Мадама… — говорил он про самого себя, тыча себя пальцем в грудь.
Продавец и его жена остались в магазине дожидаться возвращения Ван Ди-бо, а он ушёл с нами.
На всякий случай мы вели Ван Ди-бо плохо освещёнными переулочками.
Всё прошло благополучно. Только у самого нашего подъезда Ван Ди-бо споткнулся, платок соскользнул с его головы, и тяжёлая чёрная коса змеёй сползла на его спину.
— Саляпа — испуганно вздыхал Ван Ди-бо. — Саляпа упаль…
Но при женском пальто коса не обращала на себя внимания, да и никого вокруг не было. Мы быстро вошли в наш подъезд.
У Ван Ди-бо оказалась на руке флегмона, глубокая, уже назревшая. Он терпел больше недели и молчал — боялся управляющего. Папа вскрыл ему флегмону, выпустил много гноя, перевязал руку. Ван Ди-бо сразу повеселел и без конца кланялся:
— Пасиба, докта! Пасиба!
Проводить его обратно в магазин вызвалась Поль. Юзефа наотрез отказалась:
— Я этих жёлтых румунцев боюсь! — повторяла она. — Румунцы, я знаю, они такие… Только отвернись, а он тебе голову — ам! — и откусил.
С того случая у нас с Ван Ди-бо дружба. Когда я прихожу в магазин, он меня радостно приветствует:
— Маленьки докта пилисол!
Ну, разве можно не показаться такому другу в торжественный день моей жизни? Нет, пойду. На одну минуточку.
Подходя к чайному магазину, гадаю: увижу я Ван Ди-бо или не увижу? Если управляющий уже явился, то я Ван Ди-бо не увижу, потому что при нём Ван Ди-бо не позволено даже приближаться к двери на улицу. На моё счастье, управляющего магазином ещё нет, и Ван Ди-бо, примостившись бочком, опасливо выглядывает на улицу, как белка из дупла, готовый юркнуть и скрыться.
Увидев меня, Ван Ди-бо, по обыкновению, радостно меня приветствует.
— Ван Ди-бо… — говорю я. — Видите?
И поворачиваюсь вокруг себя, чтобы Ван Ди-бо мог разглядеть меня со всех сторон.
Ван Ди-бо с восхищением цокает языком:
— Ой, каласива, каласива!
— Я, Ван Ди-бо, учиться иду!
— Ну, уциси, уциси! Будеси бальсой докта!
Но в эту минуту Ван Ди-бо внезапно ныряет в полумрак магазина. Наверно, его зоркие глаза заметили издали приближение грозного управляющего.
Я снова иду налево, по направлению к институту. Останавливаюсь на противоположном тротуаре и пристально разглядываю это длинное, скучное здание. Непроницаемо и отчуждённо смотрят на мир окна, закрашенные до половины белой масляной краской. Ни одной раскрытой форточки, ни одного выставленного на солнце цветочного горшка, ни одного выглядывающего из окна человеческого лица… В подъезде — глубокая, тёмная — ниша, похожая на запавший рот древней бабы-яги. И массивная входная дверь враждебно скалится медным кольцом, как последним уцелевшим зубом.
Сейчас перейду улицу. Сейчас войду в подъезд института…
Глава вторая. ПЕРВЫЕ ПОДРУГИ, ПЕРВЫЕ УРОКИ
— Здравствуй… — слышу я вдруг негромкий голос. — Ты меня узнаёшь?
Ну конечно, я узнаю её! Это Фейгель, та девочка, которая экзаменовалась вместе со мной и так хорошо отвечала по всем предметам. Я радостно смотрю на Фейгель: вот я, значит, и не одна!
Тогда, во время экзаменов, Фейгель показалась мне усталой, словно несущей на себе непосильную тяжесть. Но в тот день мы все устали от непривычного волнения и напряжения — я, наверно, была такая же измученная, как она. А сегодня в Фейгель ничего этого нет. Глаза, правда, грустные, но, наверно, они всегда такие. А в остальном у неё такое лицо, как у всех людей.
— Почему ты здесь стоишь? — спрашивает она.
— А ты?
— Нет, я хотела спросить, почему ты не входишь в институт? — поправляется Фейгель.
— А ты? — отвечаю я и смотрю на неё с улыбкой.
Ведь мы обе отлично знаем, что мешает нам перейти через улицу и войти в подъезд института: мы робеем, нам даже немного страшно… и одиноко… все близкие нам люди остались дома. И по этой же причине мы так обрадовались друг другу, что сперва заулыбались, а потом начинаем смеяться. На нас нападает внезапный беспричинный «смехунчик». Прохожие оглядываются на нас: стоят две девочки в форменных коричневых платьях, крепко держась за руки, и заливаются смехом, глядя друг другу в глаза. У Фейгель от смеха выступили на больших тёмных глазах слёзы.
— Ты плачешь? — пугаюсь я.
— Нет, нет! — успокаивает меня Фейгель. — Это у меня всегда такой смех.
— А как тебя зовут?
— Маней. А тебя — я знаю! — Сашей… Ну, пойдём, скоро начнутся уроки.
Мы переходим улицу. У тёмной глубокой двери с медным кольцом я снова останавливаюсь:
— Постоим одну секундочку, хорошо?
Маня соглашается. Ей, видно, тоже страшно взяться за медное кольцо.
Др-р-р! Др-р-р! — барабанит вдруг дробь по моему ранцу, словно его общёлкали целой пригоршней орехов.
Я вздрагиваю от неожиданности!
Быстро оборачиваюсь: позади меня стоит невысокая толстенькая девочка в чёрном чепчике, обшитом чёрными кружевами и скрывающем всю её голову. Девочка что-то с аппетитом жуёт и весело смеётся.
— Это я! Я по твоему горбу барабаню. А почему у тебя ранец? Разве ты солдат или гимназист? — продолжает она, смеясь.
Смеяться мне не хочется. Сердиться или обижаться тоже не хочется. Поэтому я просто объясняю:
— Если носишь книжки в ранце, за плечами, спина всегда будет прямая.
— Глупости какие! — продолжает смеяться девочка в чёрном чепчике. Она уже прожевала то, что у неё было во рту, и куснула новую порцию от того, что она держит в горсти.
— Вовсе не глупости! Это мой папа говорит.
— А откуда он знает, твой папа?
— А оттуда, что он — доктор.
Толстенькая девочка в чёрном чепчике миролюбиво уступает:
— Ну, если доктор, тогда, может, и вправду так. Ладно, носи ранец, я разрешаю!
Она делает величественный королевский жест. Говорит она чуть шепеляво: не «разрешаю», а «разрешяю», и губы складывает трубочкой вверх к носу. Всё это у неё выходит так добродушно-мило, что и я, и Маня Фейгель (я вижу это) просто очарованы ею.
— А мой папа знаешь кто? — продолжает она. — Норейко! Сам Норейко!.. Знаешь ресторан на Большой улице?
Мои познания в области ресторанов очень скудные. Я знаю только ресторан в Ботаническом саду: там служит лакеем отчим моей подружки Юльки и судомойкой — её мать. А больше я никаких ресторанов даже и назвать не могу.
Толстушка в чёрном чепчике смотрит на меня с самым настоящим сожалением.
— Не знаешь ресторан Норейко? Не знаешь? Вот смешно! (Она произносит «смишьно».) Никогда такой дурноватой девочки не видела! Ну, одним словом, у моего папы самый большой ресторан в городе. А я — папина дочка, Меля Норейко. Меля — значит Мелания. А тебя как зовут?.. Сашей?.. А тебя — обращается она к Фейгель. — Маней? А кто твой папа?
— Мой папа — учитель, — отвечает Маня так же твёрдо и уверенно, что я чувствую: она рада, что её папа учитель, она любит своего отца и гордится им.
И мне это почему-то приятно.
— Ну, вот что, пичужки… (Меля, по своему обыкновению, вытягивает губы трубочкой к носу, и у неё выходит «пичьюжьки».) А в каком классе вы будете учиться? — И она деловито засовывает за щёку конфетку.
— В первом! — отвечаем мы в один голос.
— Ну, тогда ступайте за мной — я тоже в первом — и делайте тють-в-тють всё, что я!
С удивляющим нас бесстрашием толстенькая Меля Норейко берётся за тяжёлое медное кольцо входной двери и широко распахивает её перед нами.
— Аллэ! — командует она. — Да что вы стоите, как глупые куклы? Входите!
И вот мы в большой темноватой швейцарской. Куда ни посмотришь, вешалки для верхнего платья, над каждой вешалкой надпись: III кл., V кл. и т. д. Меля уверенно ведёт нас в самый угол швейцарской — там наша вешалка: I кл. 2-е отд., то есть первый класс второе отделение. У соседней вешалки — I кл. 1-е отд. — я вижу снимающую пальто Зою Шабанову: она будет учиться в первом отделении.
Между вешалками снуют женщины в полосатых холщовых платьях. Они помогают девочкам-ученицам раздеваться, вешают их пальто и шляпы.
— Это полосатки! — объясняет нам Меля Норейко и, завидев издали идущую по швейцарской пожилую сухопарую женщину в синем платье учительницы или классной дамы, Меля быстро, едва не поперхнувшись, проглатывает очередную конфетку и шепчет нам: — А это синявка! Её Дрыгалкой зовут.
Сухопарая «синявка», у которой такая странная, смешная кличка, уже стоит около нас и, укоризненно качая маленькой головкой, говорит Меле:
— Ну конечно, это Норейко! Удивительно шумная особа! Отчего вы не раздеваетесь, Норейко? Вы не знаете правила? «Не задерживаться в швейцарской! Раздеться — или одеться — и уходить наверх или на улицу!»
— Я, Евгения Ивановна, новеньким помогаю, — отвечает Меля благонравненьким голоском. — Они же, Евгения Ивановна, просто ничего не знают, — даже смишьно! — я их всему учу!
Оказывается, у «Дрыгалки» есть и человеческое имя: Евгения Ивановна.
Дрыгалка грозит Меле тощеньким пальчиком:
— Ну, ну!.. Смотрите!.. — и идёт прочь от нас.
Мы смотрим ей вслед… Ну конечно, она — Дрыгалка! Это очень меткая кличка. Она движется какой-то подпрыгивающей, подрыгивающей походочкой, плечи её при этом вздрагивают, локти, прижатые к туловищу, дёргаются, головка тряско дрожит…
— Ну, девочки, идём! — командует Меля.
И она ведёт нас по узорной чугунной лестнице наверх, во второй этаж. На стыке двух длиннейших коридоров, в том месте, где более узкий коридор вливается под прямым углом в более широкий, стоит очень большой письменный стол.
— Директорский стол! — шепчет нам Меля Норейко и показывает глазами на человека, сидящего за этим столом.
Человек этот одет в синий вицмундир учебного ведомства, из-под бархатного лацкана вицмундира выглядывает половина большой звезды, сверкающей серебром и эмалью. На шее — под подбородком — у него орден. Человек сидит неподвижно — кажется, он дремлет сидя; глаза его закрыты, а щёки, какие-то неправдоподобно красные, осыпаны целыми выводками жёлтых прыщиков, как грибами-поганками. Нос у него тоже красный, даже красно-сизый. Всё остальное лицо, за вычетом носа и щёк, нездорово-жёлтого цвета, измятое, как квёлая репа.
— Директор… — шепчет нам Меля. — Тупицын…
Около директорского стола две-три неподвижные фигуры синявок, окаменевших в благоговейном страхе, как бы не потревожить директора в его дремоте.
Меля Норейко старается как можно быстрее и беззвучнее миновать директорский стол и проскользнуть в коридор направо, увлекая за собой и меня с Маней Фейгель.
Но тут — вдруг! — начинаются пугающие чудеса. За спиной дремлющего директора раздаются странные звуки — сперва сип, потом хрип, потом всё нарастающий гул, потом — щёлк! — и медленно, ритмично сменяющиеся торжественные удары часов. Только тут мы замечаем, что за спиной директора висят на стене круглые часы — это они и бьют.
Сам директор, словно проснувшись от дремоты, медленно раскрывает глаза, а потом яростно выпучивает их, уставившись на нас, как варёный рак. Нас с Маней охватывает настоящий ужас. Он ещё усиливается оттого, что Меля Норейко испуганно шепчет нам:
— Макайте! Да макайте же!
Мы не понимаем, чего она от нас хочет. Чтоб мы махали? Кому махать — директору? Чем махать?
Маня Фейгель делает слабую попытку изобразить пальцами правой руки нечто вроде приветственного жеста, такого робкого, что невозможно понять, что она, собственно говоря, хочет этим выразить.
Но тут сама Меля, не переставая шипеть на нас «макайте!» — опускается в глубоком реверансе, словно в воду ныряет. Тогда и мы как умеем делаем реверанс (у нас он получается очень коряво). Затем, схватив за руки, Меля быстро увлекает нас за собой в небольшой темноватый боковой коридорчик.
Там она обрушивается на нас:
— Я вам говорю, я вам шепчу «макайте», а вы стоите, как глупые куклы!
— А кому махать?
— Да не «махать»! Господи, твоя воля, никогда таких дурноватых детей не видала! — искренне возмущается Меля. — Не «махать», а «макать»! Понимаете? Макать, макать — ну, свечкой макать! Соображаете вы?
Вероятному нас очень растерянные лица, потому что, глядя на нас, Меля начинает громко хохотать. Потом она объясняет: макать свечкой — значит делать реверанс при встрече с начальством.
— Кого ни увидите в коридоре — учителя, синявку, — макайте свечкой, вот так! Директора встретите или начальницу — макайте глубоко… Видели, как я сейчас директору макнула? — с торжественной хвастливостью напоминает нам Меля. — Ну, теперь поняли, пичюжьки?
— А откуда ты все правила знаешь? — спрашиваю я, глядя на Мелю с величайшим удивлением.
— А оттуда, что я — второгодница! — выпаливает она с такой гордостью, как если бы она говорила: «Я — академик!»
Мы с Маней смущённо переглядываемся. По нашим понятиям, быть второгодницей — это ужасно, это позор!
— Дурочки! — смеётся Меля. — Ну вот совсем глупышьки! Вы думаете, меня оставили на второй год потому, что я плохо училась? Нич-чего подобного! Вот смотрите…
Меля рывком стаскивает с головы чёрный чепчик с чёрными кружевцами. Мы видим её голову, остриженную наголо.
— У меня в прошлом году сперва корь была, потом — скарлатина. Три месяца я больная лежала… Ну, потом, конечно, уже мне не нагнать было, что пропустила… И волосы стали очень выпадать, пришлось остричь, два раза, совсем напрочь. Второй раз вчера остригли — это уж в последний раз. Теперь волосы будут расти хорошо, густо!
Всё это Меля рассказывает, быстро-быстро вертя на указательном пальце свой чепчик. Потом с маху напяливает его обратно на голову.
И как раз в эту минуту начинается пронзительный звон. Оглушительный, непрекращающийся, несмолкающий, он заполняет всё здание. С того места, где мы стоим, мы видим и самого «звонаря». Это — служитель Степан, мужчина среднего возраста, с могучими усами, мирно лежащими на пышных и коротких баках, похожих на две котлетки. Этот человек одет в форменную куртку с металлическими пуговками. И звонит он не просто так — «дали звонок в лапу!» — нет, он то держит звонок над головой, то вертит им, так что получается нечто вроде трелей.
— Звонок! — кричит Меля. — Бежим в класс!
Мы спешим по коридорам, по которым в разных направлениях бегут на первый урок девочки всех классов.
Мы добежали до своего класса — и попадаем в царство Дрыгалки! Наша классная дама — Дрыгалка.
— Дети! — говорит Дрыгалка нам, рассевшимся на партах как попало, «как селось». — Встаньте, дети! Перед ученьем надо помолиться. Пусть читает молитву… ну, хотя бы Горбова!
Горбова, высоконькая, чернявая, выходит из-за парты, становится впереди всего класса. Мы тоже все встаём. Обратившись лицом к иконе, Горбова осеняет себя крестом. То же делают и остальные девочки и сама Дрыгалка.
— «Преблагий господи! — начинает молитву Горбова. — Ниспошли нам благодать духа твоего святого…»
Горбова сказала последние слова молитвы и трижды перекрестилась. Перекрестились все остальные девочки и Дрыгалка. Горбова возвращается на своё место.
Молитва кончена, сейчас начнётся урок.
— Дети! — снова обращается к нам Дрыгалка. — Достаньте свои дневники.
Мы выполняем приказание, но делаем это с сильнейшим стуком и грохотом. Стучат откинутые половинки пюпитров на партах, кое у кого падают книжки на пол. Вынутые нами дневники — без всякой злой воли с нашей стороны! — громко стучат, ложась на парты.
— Дети! — стонет Дрыгалка с укором. — Ну разве можно так шуметь, когда вас целых тридцать четыре человека?! Вы должны помнить, что вы — приличные, воспитанные девочки, а не какие-нибудь уличные оборванки. Каждую вещь надо брать в руки осторожно, класть на парту бесшумно… Ну, положите дневники обратно в сумки и выньте их снова — осторожно и тихо.
Это «осторожное и тихое» доставание дневников мы повторяем несколько раз — до тех пор, пока оно наконец получается относительно осторожным и приблизительно тихим.
И вот перед нами лежат на парте наши дневники — тоненькие тетрадки в твёрдых переплётах с белой наклейкой.
— Напишите на белой наклейке, там, где точки, — предлагает нам Дрыгалка, — «ученицы первого класса» и ваше имя и фамилию… Написали? Теперь откройте дневник… Какой сегодня день?
— Суббота! Суббота! — нестройно галдим мы.
Мученически сморщившись, Дрыгалка хватается за виски:
— Боже мой! Тише! Не все враз! Потом, успокоившись, она продолжает:
— Найдите в дневнике субботу… Нашли? Так, пишите названия сегодняшних уроков, я буду диктовать. Первый урок — свободный. Второй — рисование. Третий урок — арифметика. Четвёртый — танцевание. Пятый — французский язык. Записали?
— Записали.
— Итак… — продолжает Дрыгалка. — Какой у нас сегодня первый урок?
Весь класс вразнобой кричит:
— Свободный! Свободный!
Дрыгалка со страдальческим выражением затыкает уши пальцами:
— Господи! Оглушили! Разве можно говорить всем сразу! Я задала вам вопрос, и кто хочет ответить, пусть поднимет руку…
Вырастает целая рощица тоненьких ребячьих рук: все хотят ответить на вопрос Дрыгалки.
Дрыгалка медленно переводит взгляд с одной девочки на другую.
— Н-ну-с… Я спросила: какой у нас сегодня первый урок? А отвечать будет… ммм… ммм… Вот вы отвечайте! — обращается она к красивой рослой девочке с длинной тёмной косой. — Встаньте, откиньте бесшумно пюпитр и отвечайте: какой у нас первый урок?
Девочка послушно встаёт и совершенно неожиданно громыхает гулким басом, как из пустой бочки:
— Свободный!
Дрыгалка печально качает головой:
— Я вас спросила: «Какой у нас сегодня первый урок?» А вы рявкаете: «Свободный!» — Дрыгалка очень похоже передразнила басовитый голос девочки. — Надо отвечать полным ответом: «Евгения Ивановна, сегодня первый урок — свободный». Повторите!
Я немножко знаю эту девочку, мы иногда встречались с нею в сквере. Ей одиннадцать лет, но она высокая, крупная, как четырнадцатилетняя. У неё большие тёмные глаза, задумчивые и добрые, и сама она хорошая, милая. Её зовут Варя Забелина.
— Евгения Ивановна, — повторяет Варя своим оглушительным басом, — у нас сегодня первый урок — свободный.
— Вот теперь хорошо! — милостиво кивает Дрыгалка. — Надо бы только не так громко… Бас — это не дамский голос.
Свободный урок Дрыгалка использует прежде всего для того, чтобы сделать перекличку и таким образом познакомиться со всеми нами. Каждая девочка, выкликнутая Дрыгалкой по списку, встаёт в своей парте и стоит, как перед фотографом. Дрыгалка несколько мгновений смотрит на неё, словно запечатлевая её в своей памяти. Затем кивает, говорит: «Садитесь», — и вызывает другую, следующую по алфавиту. В дальнейшие дни мы убеждаемся в том, что память у Дрыгалки поразительная! Она запомнила всех с одной переклички и никогда не ошибается.
После переклички она начинает отбирать нас по росту. Две девочки совершенно одинакового роста — это пара, а каждая следующая пара иногда такая же, а иногда чуть-чуть, хотя бы на самую малость, выше предыдущей.
Вот тут со мной случается первое печальное происшествие — я не попадаю в одну пару ни с Маней, ни с Мелей. Это меня так огорчает, что я, не выдержав, говорю Дрыгалке тихо, горестно:
— А я хотела с Фейгель… Или с Норейко…
Дрыгалка бросается на меня, как хорёк на цыплёнка, и говорит протяжно, с насмешкой:
— Ах, вы хоте-е-ели? Скажите, пожалуйста! Так вот, запомните: хотеть можно дома. А здесь надо слушаться. И — больше ничего. Ни-че-го! — отчеканивает Дрыгалка, словно наступая ногой на мои ребячьи фантазии и испытывая от этого явное удовольствие. — Ни-че-го! Поняли вы мои слова?
Стоящие около меня Меля и Маня смотрят на меня с испугом, как если бы я на их глазах упала в реку. Меля наступает мне на ногу — это чтобы я молчала и не спорила. Маня незаметно гладит пальцы моей опущенной руки.
— Вы меня поняли?
Дрыгалка стоит передо мной прямая, вытянувшаяся вверх, и правая рука её, вся усыпанная коричневыми веснушками, пёстрая, как кукушечье яйцо, прижимает к груди колечко от часовой цепочки. На одну какую-то долю секунды в моей памяти всплывает воспоминание, как я, совсем ещё маленькая, забралась под балкон дачи и увидела там издохшую лягушку. Лягушка, вся вытянувшись, лежала зелёной спинкой вниз и зеленовато-белым брюшком вверх. Правая верхняя лапка её была прижата к грудке. Почему-то Дрыгалка с её пёстрой рукой, прижатой к груди, напоминает мне ту издохшую лягушку.
— Вы меня поняли? — настойчиво повторяет Дрыгалка.
Я молчу. Понимаю, что это молчание выглядит, как упрямство, как каприз, но не могу выжать из себя ни одного слова.
В классе очень тихо. Все девочки глядят на нас.
Несколько секунд мы с Дрыгалкой смотрим друг на друга, глаза в глаза. Эго — поединок…
Ещё секунда — и я опускаю глаза.
— Поняли? — в голосе Дрыгалки звучит торжество.
Чуть слышно, почти шёпотом, я отвечаю:
— Поняла.
— Полным ответом! — приказывает Дрыгалка. — Полным ответом!
И я бормочу полным ответом:
— Евгения Ивановна, я поняла…
Это неправда. Я поняла далеко не всё. Лишь много лет спустя я пойму, что это был только первый шаг Дрыгалки к тому, чтобы согнуть, искалечить меня так, как когда-то, вероятно, согнули, искалечили в такой же школе её самое.
Но я не хочу этого! Мысленно я повторяю только одно слово:
«Папа… папа… папа…»
В этом слове очень многое. Это значит: «Видишь, папа, какая Дрыгалка злая тиранка?» Это означает: «Папа, ты бы, наверно, не опустил глаз, а я вот опустила, отвела их, как виноватая, хотя я ни в чём не виновата, я ничего не сделала плохого. Я — малодушная, да, папа?»
Дрыгалка уже отошла от меня. Она продолжает подбирать девочек и ставить их в пары по росту, но при этом она всё ещё говорит с величайшим презрением по моему адресу:
— Она хоте-е-ела сидеть по своему выбору! Скажите, пожалуйста! Она хоте-е-ела!
Меля быстро-быстро шепчет мне:
— Что ты с Дрыгой в разговоры лезешь! Ну какая, право, дурноватая, ей-богу… Смеешь-шься, шьто ли?
И быстро ускользает в сторону от меня.
Со мной в пару Дрыгалка ставит девочку — глаз её не видно, они опущены вниз.
— Вот ваша пара!
Я так огорчена, что даже не смотрю на свою «пару» — ну её! Не хочу её видеть! При перекличке Дрыгалка назвала её: «Кандаурова Екатерина» — вот всё, что я о ней знаю. Какая-то она растрёпанная, всклокоченная… Бог с ней совсем!
Издали я обмениваюсь взглядом с Маней и Мелей. Чёрные глаза Мани печальны, она тоже хотела быть моей «парой». Меля делает мне свирепое лицо. Я понимаю: это чтобы я не «лезла в разговоры», не спорила с Дрыгалкой.
Потом Дрыгалка рассаживает нас по партам — пара за парой, пара за парой. Девочки побольше ростом сидят на задних партах, девочки поменьше — впереди. Потом Дрыгалка учит нас вставать и кланяться при входе преподавателей. Плавно! Тихо! Бесшумно приподнимать пюпитр, не выпуская его из рук, чтоб он не стукнул о парту, затем снова садиться, всё так же тихо и плавно.
— Встаньте! Тихо-плавно… Садитесь! Тихо-плавно… — командует Дрыгалка, и мы без конца встаём и садимся, встаём и садимся.
Нужно признать правду — к тому времени, как из коридора доносится звонок и свободный урок кончается, усилия Дрыгалки уже достигли порядочных успехов. Мы — уже не стадо, нестройное, разноростное, шумное, громыхающее пюпитрами. Мы — класс, построенный по росту, наученный тому, как надо отвечать полным ответом, как вставать, здороваться с «господами преподавателями» и плавно опускаться на место, не стуча пюпитрами, не шаркая ногами, не роняя на пол ни книг, ни тетрадей.
Всё-таки звонок, возвещающий «маленькую перемену» — между первым и вторым уроком, — мы все воспринимаем как облегчение, как освобождение. Все мы — кто больше, кто меньше — изрядно «озябли» от холода, напущенного на нас Дрыгалкой и её муштрой:
«Встать — сесть! Плавно-бесшумно! Сесть — встать! Плавно-тихо!»
Вряд ли которая-нибудь из девочек отдаёт себе ясный отчёт в том, как сильно поразила её эта первая встреча со школой. Но каждая из нас — даже, может быть, бессознательно — чувствует разочарование. Так вон он, значит, какой, этот институт! Ничего в нём нет увлекательного, всё очень просто, даже чуть скучновато.
Во время первой перемены мы снова сходимся вместе — Меля, Маня и я. Взявшись под руки, мы ходим по коридорам. Меля ест булочку-розанчик (в булочных нашего города их называют «гамбурками») с копчёной колбасой и поучает нас — «несмышьленышей»:
— Не надо киснуть, пичюжьки… Конечно, Дрыга — она ж-жяба, ничего не поделаешь. Но ведь здесь и другие есть, не одна Дрыга!
"Ох! — думается мне. — Есть ли они здесь, эти «другие»?
Но на следующем уроке — рисования — мы с радостью видим одного из этих «других»!
В класс входит очень высокий, очень прямой старик, — и мы сразу смотрим на него радостными глазами уже потому, что он напоминает нам что-то очень весёлое и желанное. На кого он похож? Ох, знаю, знаю — на деда-мороза! Если бы деда-мороза одеть в синий учительский вицмундир, вот и был бы наш учитель рисования! Только у деда-мороза нос картошкой, красный от декабрьского холода, а у нашего учителя рисования прекрасная голова, красиво откинутая назад, с красивым, прямым носом и зоркими, орлиными глазами. Волосы и борода у учителя седые, белые, только около рта они чуть-чуть отдают желтизной — наверно, от табака.
— Здравствуйте, милые девицы! — говорит дед-мороз в учительском вицмундире. — Я ваш учитель рисования, Виктор Михайлович Резанов. Художник.
На миг вспоминаю безрукого художника (других художников я никогда не видела), и от этого Виктор Михайлович кажется мне ещё милее.
А он уже оглядывает нас молодыми, пронзительными глазами, словно высматривает, кто из нас та, способная, талантливая, ради которой стоит возиться с остальными тридцатью тремя тупицами.
— Что же, милые девицы? Давайте рисовать! А? И так как Дрыгалка зачем-то вышла, весь класс радостно грохает:
— Рисовать! Рисовать! Давайте!
Виктор Михайлович вызывает нас по очереди и «заказывает» каждой, что именно она должна сейчас нарисовать мелом на доске.
— Вот вы, беленькая, нарисуйте корабль…
Или:
— А вы, чёрненькая, изобразите… ну, что бы такое?.. А, знаю, — кошку!
Корабль — с парусами! — нарисованный «беленькой», похож на мотылька. Кошка — её изобразила Варя Забелина — вообще ни на что не похожа. Но Виктор Михайлович смотрит на эти рисунки, склонив набок свою белоснежно-седую голову, говорит поощрительно, даже негромко мурлычет, как большой белый кот:
— Ммм… Н-нич-чего… Ничего-о…
Я с ужасом думаю: ох, вот сейчас я осрамлюсь, ох, как это будет стыдно!..
— Н-ну-с… — приглашает меня жестом Виктор Михайлович. — Нарисуйте-ка селёдку!
Иду к доске, беру мел и начинаю работать. Рыбка под моим мелком смотрит в профиль — одним глазом. Я делаю на её спине закорючку — это плавник! — очень старательно вырисовываю раздвоенный хвостик. Смотрю, чего-то ещё недостаёт. Ах, да, этак рыбка выглядит плавающей, как и всякая другая, как окунь или ёрш, а ведь Виктор Михайлович заказал мне именно селёдку. Недолго думая пририсовываю к ней селёдочницу и вдобавок окружаю селёдку целым рядом аккуратненьких колечек.
— Гм… — всматривается Виктор Михайлович. — Рыбка, да… А почему же это она едет в лодке?
— Это не лодка, — объясняю я. — Это селёдочница… Селёдка на селёдочнице…
— Ишь ты! — удивляется Виктор Михайлович. — А что же это за колечки вокруг неё?
— Лук! — уточняю я. — И ещё вот… сейчас…
Быстро пририсовываю ко рту селёдки какую-то длинную, разветвлённую запятую.
— Да-а… — понимающе кивает Виктор Михайлович. — Селёдка папиросу курит.
— Нет… — почти шепчу я в полном отчаянии. — Это у неё во рту петрушка…
Девочки взрываются хохотом. Смеётся и сам Виктор Михайлович. Но во всем этом нет ничего обидного, — я ведь и сама знаю, что рисование мне не даётся.
Возвратившаяся в класс Дрыгалка, сидя за своим столиком, смотрит на мой рисунок, неодобрительно поджав губки.
— Какие-то нелепые остроты! — пожимает она сухонькими плечиками.
— Э, нет, не скажите! — заступается за меня Виктор Михайлович. — Рисунок, конечно, не так чтобы уж очень… Но фантазия какая! И — наблюдательность: лук, петрушка…
Дальше — урок арифметики. У учителя, Фёдора Никитича Круглова, голова в седеющих рыжих волосах, прямых и жёстких, на макушке торчит упрямый хохолок, который Фёдор Никитич часто пытается пригладить рукой. Близко сдвинутые глаза сидят глубоко под узеньким лбом — совсем как у гориллы на рисунке в книге Брема «Жизнь животных». Но лицо у Фёдора Никитича — не злое.
Просмотрев весь список учениц, Фёдор Никитич останавливается на последней фамилии — моей! — и громко вызывает:
— Яновская Александра!.. Прошу к доске.
Задача, которую я должна решить, — самая пустяковая. Я её решаю, а потом объясняю вслух ход решения.
— Гм… — говорит Круглов, рассматривая то, что я нацарапала мелом на доске, и выслушав мои объяснения. — Задача решена правильно. Но — почерк! Не цифры, а иероглифы… Это что? — тычет он указкой в одну из цифр.
— Четвёрка…
— Четвёрка? Это пожарный, а не четвёрка! Пожарный с топором или с крючком — вот это что! Садитесь.
Фёдор Никитич возвращается к своему столу, пододвигает к себе журнал, на секунду задумывается.
— За решение задачи я бы вам поставил пятёрку… — говорит он, словно соображая вслух. — Но из-за пожарников этих не могу поставить больше чем четыре с минусом.
Четыре с минусом… Первая моя отметка — четыре с минусом!
Фёдор Никитич берёт перо и собирается вписать отметку в журнал.
— Нет! — говорит он, глядя на меня своими «горилльими» глазами из-под нависшего над ними узкого лба. — Нет, и четвёрки с минусом поставить не могу. А тройку тоже не поставишь: мало. Четыре с двумя минусами — вот это будет справедливая отметка!
Четыре с двумя минусами… А дома-то, дома думают, что я здесь ловлю пятёрки сачком, как бабочек!
Весь урок проходит для меня как-то смутно. Вслушиваться в то, что говорит Фёдор Никитич, что отвечают девочки, мне неинтересно: я это знаю. А моя собственная четвёрка с двумя минусами давит меня непереносимо. В книгах часто пишут: «Она сидела, глотая слёзы…» Я не глотаю слёз, да и как это можно делать, если слёзы льются из глаз, а глотать их надо вовсе горлом? Но я сижу, пришибленная своей неудачей. Я не обижаюсь на Фёдора Никитича — конечно, он прав. Ведь и Павел Григорьевич, и Анна Борисовна сто раз говорили мне, что у меня невозможный почерк. Но всё-таки мне ужасно грустно…
После урока ко мне подбегают Меля и Маня.
— Ну, что ты скисла? — с упрёком говорит Меля. — Радуйся! Четвёрку получила!
— Да… С двумя минусами… — говорю я горько.
— Всё равно четвёрка! Мало тебе?
— Мало.
— Да ведь четвёрка — это «хорошо»!
— А мой папа говорит: надо всё делать отлично!
— Ну, знаешь, твой папа! Его послушать, так надо ранец на спине таскать и на одни пятёрки учиться… Что за жизнь!
Маня хочет предотвратить ссору. Она мягко вставляет:
— Мой папа тоже так думает: «Что делаешь — как можно лучше делай!»
Меля не хочет ссориться.
— Ладно! — говорит она мне. — Сейчас у нас большая перемена, покушаешь — успокоишься. А после большой перемены — урок танцев, вот ты и совсем развеселишься.
Большая перемена. Из всех классов высыпают девочки, у всех в руках пакетики с завтраком; все едят, разгуливая по коридорам. Но Меле это не нравится. Она хочет завтракать с удобствами.
— Нет-нет! На ходу и собаки не едят!.. Пичюжьки, за мной! — командует Меля и ведёт нас в боковой коридорчик, где в тёмном уголке около приготовительного класса стоит большая скамья. Мы усаживаемся.
Когда мы с Мелей уходили из класса в начале большой перемены, мне показалось, что моя «пара», Кандаурова, провожает нас тоскливым взглядом. Но мне некогда думать об этом — перемена короткая, надо успеть позавтракать. Меля раскрывает корзиночку, где у неё находятся изрядные запасы еды. Она бережно и аккуратно, как-то очень аппетитно раскладывает всё на большом листе бумаги и, откинув руку назад, словно прицеливаясь, негромко бормочет:
— Ну-ну-с… Посмотрим, что тут есть… — И вдруг тихонько напевает: — «Смотрите здесь, смотрите там! Нравится ли это вам?..» Это, пичюжьки, такая песенка, я слыхала… Ну, мне нравится вот эта сёмга! Очень славненькая семужька, Фомушька, Еремушька… Потом поедим телятинки… А на десерт — пирожные! Ну, восподи баслави!
И она с аппетитом начинает поглощать бутерброды с сёмгой.
— Я, понимаете, деточки, уж-ж-жясная обжера! Люблю покушять!
Меля могла бы нам этого и не говорить — мы с Маней уже раньше заметили это.
Некоторое время мы все едим молча: с полным ртом не разговоришься. Меля ест, прямо сказать, с упоением. На неё даже интересно смотреть. Съев сёмгу, она облизывает пальцы, потом вытирает их бумажкой и берётся за телятину. Пирожных у неё два: наполеон и трубочка с кремом.
Она протягивает их нам на ладони:
— Которое раньше съесть, которое — потом, а?
— А какое тебе больше нравится, с того и начинай.
— Оба нравятся! — говорит Меля даже со вздохом, но, подумав, берётся за наполеон.
Мы с Маней тоже доедаем свой завтрак.
Меля съела пирожное наполеон и принимается за трубочку с кремом. Но, едва надкусив, она корчит гримаску:
— Крем скис… Фу, какая гадость!
С размаху Меля ловко бросает пирожное в мусорный ящик. Слышно, как оно мягко шмякается о стенку ящика.
— Сколько раз я тёте говорила, — капризно тянет слова Меля, — не давай мне пирожных с кремом! А она забывает! Не может запомнить, — смишьно!
Глава третья. А ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВСЁ ДЛИТСЯ!..
Урок танцев происходит в актовом зале. Зал — большой, торжественный, по-нежилому холодноватый. В одной стене — много окон, выходящих в сад. На противоположной стене — огромные портреты бывших царей: Александра Первого, Николая Первого, Александра Второго. Поперечную стену, прямо против входа в зал, занимает портрет нынешнего царя — Александра Третьего. Это белокурый мужчина громадного роста, тучный, с холодными, равнодушными, воловьими глазами. Все царские портреты — в широких золочёных рамах. Немного отступя от царей, висит портрет поменьше — на нём изображена очень красивая и нарядная женщина. Меля объясняет нам, что это великая княгиня Мария Павловна, покровительница нашего института. Под портретом великой княгини висит небольшой овальный портрет молодой красавицы с лицом горбоносым и надменным. Это, говорит Меля, наша попечительница, жена генерал-губернатора нашего края Оржевского.
Мы входим в зал парами — впереди нас идёт Дрыгалка. Паркет в зале ослепительный, как ледяное поле катка. Даже страшно: «Вот поскользнусь! Вот упаду!» Вероятно, так же чувствует себя Сингапур, попугай доктора Рогова, когда его в наказание ставят на гладко полированную крышку рояля.
Дрыгалка расставляет нас поодиночке — на некотором расстоянии друг от друга. Мы стоим, как шахматы на доске, как посаженные в землю маленькие ёлочки.
— Как начну-у-ут играть! Как пойде-е-ем плясать! — чуть слышно говорит стоящая позади меня Меля Норейко.
Ну что тут смешного, в этих Мелиных словах? Ровно ничего. Но мне вдруг становится так смешно, что я начинаю неудержимо хохотать.
— Тише, медам! — командует Дрыгалка. — Тише! Сейчас придёт госпожа преподавательница…
И так как смех всё не оставляет меня, я вся трясусь — как мне кажется, беззвучно, — то Дрыгалка начинает искать, откуда исходит этот неприличный смех. Вся вытянувшись вверх, как змейка, она поводит удлинённой головкой, стараясь охватить всю группу построенных для урока девочек.
— Ах, вот это кому так смешно… Яновская! Почему вы смеётесь?
Смех замирает у меня в горле.
— Что вас насмешило, Яновская? Может быть, кто-нибудь сказал вам что-нибудь смешное?
Конечно, сказал. Меля сказала. И если бы мне задали этот вопрос ещё сегодня утром, когда я пришла сюда, я бы от чистого сердца сказала правду: «Да, меня насмешила Норейко». Но трёх часов, проведённых в институте, оказалось достаточно, чтобы совершенно ясно понять: здесь нельзя говорить правду. Если я скажу, Дрыгалка, может быть, отвалится от меня, но она присосётся к Меле, будет её бранить… может быть, даже накажет… Нет, нельзя здесь говорить правду! А папа-то, папа… Как он нынче утром грозил мне своим разноцветным «хирургическим» пальцем: «Помни: не врать! Никогда не врать!.. Только одну правду говори!» Скажешь тут правду, как же!
— Кто вас так насмешил, Яновская?.. Не хотите отвечать? Ну, тогда пеняйте на себя: ступайте в угол!
Я смотрю на Дрыгалку растерянно. Почему в угол? В какой угол?
Вытянув руку с длинным, сухим, изящно подстриженным ногтем указательного пальца, — ох, как он не похож на папин! — Дрыгалка показывает, в какой угол мне надо стать.
— Постойте в углу и подумайте над своим неуместным смехом.
Почти ничего не соображая, я становлюсь в угол.
Носком ботинка Дрыгалка брезгливо тычет в обронённый мною на пол носовой платок. Платок — хорошенький, вышитый, мамин. Мама дала мне его «на счастье». Я подбираю его с зеркального паркета — нечего сказать, хорошо «счастье»! — и снова возвращаюсь в угол.
— Да, да, — говорит Дрыгалка с насмешкой. — Поплачьте в платочек, это вам будет полезно!
Ну, нет! Этого не будет, не увидит Дрыгалка моих слёз, дудки! «Ненавижу плакс!» — говорит папа, когда я реву по пустякам. Но уж таких плакс, которые унижаются перед всякими дрыгалками, — таких я сама презираю! И я стою в углу, внешне изо всех сил стараясь сохранить спокойное лицо. Не плакать! Не дать Дрыталке возможности торжествовать! Но мыслью-то ведь я понимаю: меня поставили в угол, это позор! Весь класс стоит на середине зала, как одно многоголовое целое, а меня отщепили, как лучину откалывают топором от полена, и отшвырнули в угол. Я стою в углу, осрамленная, ошельмованная. Всякий входящий в зал сразу увидит и поймёт: «Ага, вот эта — с косюлей на затылке — это преступница, её поставили у позорного столба!»
И как раз в эту минуту в зал входит маленькая женщина — синявка, преподавательница танцев. За нею следует унылая старушка с нотами под мышкой. Это — тапёрша. Она сразу проходит к роялю.
Я смотрю во все глаза на учительницу танцев — до чего хорошенькая! Как всегда у детей, настроение моё легко переключается с глубокого отчаяния на радостное любопытство. У учительницы танцев — её зовут Ольгой Дмитриевной — головка напудрена, как парик у маркизы. Головка поворачивается на.шее, как цветок маргаритки, и такая же кудрявая, пушистая, как махровая бело-розовая маргаритка. Весёлые молодые глаза, капризный ребячий рот. Она, наверно, сластёна, любит конфеты и пирожные, любит смеяться и — наверно, наверно! — не любит плакать…
Все девочки делают ей реверанс. И я, стоя в углу, тоже делаю реверанс. Ольга Дмитриевна смотрит на меня: что за чучело стоит отдельно от других?
— Это наказанная! — с удовольствием докладывает ей обо мне Дрыгалка. И, обращаясь ко мне, командует: — Яновская! Ступайте на своё место. Сейчас начнётся урок.
Я прохожу мимо Ольги Дмитриевны, сгорая со стыда. Теперь она не только видела мой позор, когда я стояла в углу, но она даже знает мою фамилию: Яновская!
Однако глаза Ольги Дмитриевны скользят по мне равнодушно-безразлично, словно она ничего и не видала и не слыхала. Только потом я пойму, что бело-розовая маргаритка видит ежедневно столько наказанных — за дело и без дела, за вину и без вины, — столько детских слёз, столько несправедливостей, что она уже не воспринимает всего этого. Она не хочет думать об этом, потому что, если задумаешься, тогда надо либо уходить из института и, значит, лишиться заработка, либо самой страдать и мучиться, желтеть и преждевременно стариться, как старятся и сморщиваются остальные синявки.
— Начнём, медам! — бодрым голосом говорит Ольга Дмитриевна.
Но в эту минуту в зал поспешно входит дежурная воспитательница (дежурство это каждый день сменяется) — Антонина Феликсовна Воронец. Я уже знаю от Мели Норейко, что Антонину Феликсовну Воронец девочки прозвали «Вороной». И она в самом деле зловещая, как ворона. Смотришь на неё — и кажется, что несчастье притаилось в складках уныло висящего на ней платья, в тальмочке на её плечах, даже в маленьком бубличке пыльно-седых волос, заколотых на её затылке. Так и ждёшь, что она сейчас каркнет, как ворона, возвестит о приближающемся несчастье.
Остановившись на пороге зала, Ворона в самом деле возвещает:
— Александра Яковлевна!
На один миг у меня мелькает нелепая мысль: «Это она меня вызывает. Но откуда она знает, что я — Александра Яковлевна?»
Ворона в это время отступила от двери, почтительно пропуская кого-то в зал.
Меля шепчет мне сзади:
— Начальница идёт! Макай! Глубже макай!
И я в первый раз вижу начальницу нашего института — Александру Яковлевну Колодкину.
Теперь, когда я вспоминаю А. Я. Колодкину, то понимаю, что в молодости она была, вероятно, очень красива. У неё и в старости сохранилось красивое лицо — в особенности глаза. Лет двадцать спустя я прочитала напечатанные в журнале «Вестник Европы» письма знаменитого писателя И. А. Гончарова к А. Я. Колодкиной, в которую он был влюблён в годы её молодости. Мне тогда подумалось: «Ох, и сумасшедший же был Гончаров! В Колоду нашу влюбился. Нашёл в кого!» Если бы в наши школьные годы кто-нибудь назвал А. Я. Колодкину красивой, мы бы от души посмеялись. Для нас она была только «Колода» — очень тучная, грузная, очень старая старуха, у которой не было видно ни шеи, ни талии, ни ног: голова казалась воткнутой прямо в плечи, верхняя часть туловища — в нижнюю, нижняя — в пол. Какая уж тут красота! К тому же она сама себя видела, очевидно, такою, какой была лет сорок назад — очень юной, очень нежной, очень хрупкой. Все её движения, выражение лица, улыбка были бы уместны у молоденькой девушки, но совершенно комичны у грузной, старой Колоды!
Медленными, маленькими шажками Колода входит в зал. Платье на ней синее, как у всех синявок, но не шерстяное, а из красивого, переливчатого шёлка. Там, где бы полагалось быть шее, наброшено боа (горжетка) из красивых серых страусовых перьев. По знаку Дрыгалки все девочки «макают» — делают реверанс нестройно и не в лад.
Остановившись перед каре девочек, Колода говорит довольно ласково:
— Здравствуйте, дети! — и улыбается нам так, как улыбалась, вероятно, сорок лет назад, склонив головку на плечо и сделав губки бантиком. — Я ваша начальница, Александра Яковлевна Колодкина.
Дрыгалка и Ворона подставляют Колоде кресло. Она садится и спрашивает:
— Дети! Какой у вас сейчас урок? Ну, вот вы скажите… — обращается она к одной из девочек.
— Танцы… — говорит девочка.
Колода делает непонимающее лицо и с нарочитым недоумением ворочает головой, как буйвол, словно ищет кого-то.
— Кто это говорит? Не понимаю!
— Выйти из рядов! Выйти из рядов! — каркает Ворона, тыча пальцем в ту девочку, которой начальница задала вопрос.
Девочка выходит из рядов. Мне даже страшно смотреть на неё: шутка сказать, одна среди зала и перед самой начальницей!
— Я спрашиваю вас, — повторяет Колода, — какой у вас сейчас урок?
— Танцы… — шелестит девочка.
Колода грациозно разводит руками, похожими на брёвна средней толщины:
— Ничего не понимаю! С кем она говорит?
— Реверанс! — подсказывает девочке Дрыгалка. — Сделайте реверанс и отвечайте!
Девочка «макает» и снова говорит еле слышно:
— Танцы…
Колода безнадёжно уронила обе руки на колени.
Дрыгалка с мученическим выражением смотрит в потолок.
— Полным ответом! Сколько раз я вам сегодня повторяла: отвечать полным ответом!
Девочка наконец понимает, чего от неё хотят. Она отвечает «полным ответом»:
— Александра Яковлевна, у нас сейчас урок: танцы…
Маленькая пауза. И вдруг — взрыв возмущения Колоды.
— Ничего подобного! Нич-ч-чего подобного! — грохочет она, как гром. — У вас урок танцевания! Здесь не бывает танцев, да… Танцы — это на балу, это — развлечение, да… А у нас — танцевание. Это — урок, наука. Мы будем учить вас танцеванию, чтобы вы стали лёгкими, изящными. Девушка должна быть грациозна, как фея… Как фея! — повторяет она, закрыв глаза, подняв кверху нос и упоённо поводя головой.
Дрыгалка и Ворона тоже делают восторженные лица.
— Вот сейчас, — продолжает Колода, — когда я вошла в зал, вы все сделали реверанс… Ужасно! Нестройно, неуклюже, да… Как гип-по-потамы!
— Вот именно — гиппопотамы! — каркает Ворона.
— Ольга Дмитриевна! — обращается Колода к учительнице. — Займитесь, пожалуйста, в первую очередь реверсами.
Ольга Дмитриевна приподнимает край своего синего платья, для того чтобы мы видели, как именно делается настоящий реверанс. Мы видим её грациозные, стройные ноги в прюнелевых ботинках. Левая нога стоит неподвижно, медленно сгибаясь в колене, пока правая нога описывает полукружие и, очутившись позади левой ноги, тоже сгибается в колене. Получается не «макание свечкой», а плавное, грациозное опускание в реверансе.
— Видели? — обращается к нам Колода. — Вот это реверанс, настоящий придворный реверанс! Кто хочет повторить, медам? — обращается Колода к нам с улыбкой, когда-то, вероятно, обворожительной. — Давайте все по порядку! Начиная справа. Пусть каждая по очереди выйдет и встанет передо мной. Прошу!
Девочка, стоящая первой с правого фланга, выходит и останавливается в нескольких шагах от начальницы.
— Представьте себе, — говорит Колода мечтательно, — что вы идёте по нашему коридору и встречаете кого-либо из преподавателей, да… Вы делаете реверанс… Покажите, как вы это делаете.
Девочка ныряет в реверансе и делает это неплохо. Колода одобрительно кивает головой:
— Прилично. Можете идти на своё место… Следующая! Представьте себе, мой дружочек, что вы встретили меня или господина директора, Николая Александровича Тупицына… Как вы нам поклонитесь?
Эта вторая девочка тоже вполне справляется с реверансом. Я с тревогой думаю: «Ох, я так не могу!»
Колода милостиво отпускает её на место и вызывает третью.
— А вы, — предлагает ей Колода, — вообразите, будто вы идёте по коридору и вам навстречу идёт ваша попечительница, супруга господина генерал-губернатора, кавалерственная дама, Наталья Петровна Оржевская! — Тут Колода показывает на портрет горбоносой красавицы.
Девочка делает реверанс перед воображаемой «кавалерственной дамой».
Колода недовольно качает головой:
— Тут нужен особенный реверанс! А вы делаете самый простой. Ступайте на место и непременно поупражняйтесь дома, непременно!
Четвёртая девочка — это моя «пара», Катя Кандаурова, — получает совершенно ошеломляющее предложение.
— Представьте себе, — говорит Колода, — что вы стоите перед их величествами, да… Перед государем императором и государыней императрицей!.. Представили, да? Ну, сделайте реверанс!
У Каги Кандауровой, которой предложена такая высокая задача, необыкновенно пришибленный и даже какой-то несчастный вид. Голова у неё — вся в вихрах, в которые воткнут круглый розовый гребешок. Вихры стремительно вырываются из-под него во все стороны. Платье на ней измято, словно она во время перемены дралась с целой армией уличных мальчишек. И передник как-то скособочился. Ботинки нечищеные. Очень трудно представить себе Катю Кандаурову стоящей перед царём и царицей!
Но Колода ждёт, и Кандаурова начинает мучительно подражать тому «придворному реверансу», какой показала учительница Ольга Дмитриевна. Это оказывается таким трудным делом и реверанс выходит до того плачевно-неуклюжим, что по рядам девочек проносится смешок. Я не смеюсь, а с ужасом думаю о том, что сейчас после Кандауровой моя очередь, и, ох, какой корявый крендель вылеплю сейчас я, если меня заставят кланяться «как будто царю и царице»! Смотрю на Варю Забелину, на Маню, — у них тоже лица перепуганные, они, наверно, думают о том же.
— Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! — укоризненно говорит Кандауровой Колода. — Если вы сделаете государю и государыне такой поклон, то государь император скажет государыне императрице: «Ах, какая неизящная, какая неграциозная девочка!»
У меня вертится в голове дерзновенная мысль: где же это мы можем увидеть государя императора и государыню императрицу? Только на картинке! Приедут они к нам, что ли? Или мы полетим на ковре-самолёте в Петербург, в царский дворец? Зачем же нам зря стараться? Ох, папа, папа, а ты, наверно, думаешь, что меня здесь тригонометрии обучают!
Колода между тем, приложив к глазам лорнет, в упор разглядывает «неизящную, неграциозную» Кандаурову, которая не умеет делать придворный реверанс.
— Как ваша фамилия?
Еле слышно девочка отвечает:
— Кандаурова…
— Что у вас за голова! — показывает Колода на жёсткие вихры, выбивающиеся из-под круглого розового гребешка. — Дикобраз! Совершенный дикобраз! И вся вы какая-то неаккуратная, измятая, да…
— Ужасно! Ужасно! — каркает Ворона.
— Евгения Ивановна! — обращается Колода к Дрыгалке. — Займитесь, пожалуйста, этой воспитанницей… Кандауровой…
Дрыгалка с готовностью кивает:
— Конечно, конечно, Александра Яковлевна!
Она говорит это с такой кровожадной радостью, как волк, которому поручили «заняться» ягнёнком. Ох, и наплачется Кандаурова в Дрыгалкиных лапах!
Наши страхи перед продолжением «придворных реверансов» оказываются напрасными: Колода больше никого не заставляет кланяться, «как если бы» царю с царицей или кавалерственной даме Оржевской.
— Ну, медам, — обращается к нам Колода с самой очаровательной улыбкой, от которой сорок лет тому назад, наверно, сходили с ума поклонники и даже великий русский писатель Гончаров! — хотя нам с вами и весело (да, уж весело, что и говорить!), но ничего не поделаешь, меня призывают дела. Впрочем, следующий урок в вашем классе — мой: французский язык. Итак, до свидания. А бьентО! (До скорой встречи!)
И Колода медленно катится к выходу. Забежав вприпрыжку вперёд, Ворона почтительно распахивает перед ней дверь из актового зала в коридор.
После её ухода по рядам девочек проносится явственный вздох облегчения. Я смотрю на учительницу «танцевания» Ольгу Дмитриевну: ей-то как? Легче без Колоды или нет? Но прелестная пудреная головка и личико, похожие на махровую бело-розовую маргаритку, по-прежнему не отражают никаких чувств.
Минут десять мы ещё занимаемся реверансами. Без мыслей о царе и царице и кавалерственной даме реверанс оказывается вовсе не такой трудной наукой. Мы ныряем все сразу, не спуская одновременно глаз с ног Ольги Дмитриевны, которая проделывает перед нами это несложное упражнение. В общем, дело помаленьку идёт на лад.
Затем Ольга Дмитриевна показывает нам пять основных танцевальных позиций. Это так же скучно, как реверансы, и так же незамысловато.
Наконец, когда остаётся всего минут десять до звонка, Ольга Дмитриевна объявляет:
— А теперь потанцуем. Анна Ивановна, будьте добры — польку… Польку, медам! Кто танцует за кавалера, пусть загнёт угол фартука.
Тапёрша Анна Ивановна — она, бедная, наверно, соскучилась, играя всё время только одни экзерсисы, — играя польку, весело встряхивает в такт старенькой головой, как заведённая кукла. А девочки — ну, понятно же! — девочки бросаются в эту польку, словно в жаркий день с разбегу в холодную речку! После реверансов, царя и царицы, кавалерственной дамы, после страхов («Ой, сейчас меня заставят делать реверанс!») и унижений («Встаньте в угол!», «Что у вас за голова? Дикобраз!» и т. п.) весёлый танец, как вода, смывает с девочек все огорчения и неприятности. Они танцуют весело, самозабвенно. Польку умеют танцевать все. Это простой танец. Даже мой папа и тот, когда был студентом, научился танцевать польку.
Только одна пара не танцует: я и Кандаурова.
Чуть только раздались первые звуки польки, Кандаурова со стоном зажала уши руками. С растрёпанной головой, в измятом платье и нечищеных ботинках, она убегает в дальний угол зала, забивается там на крытую чехлом банкетку и с тупым отчаянием смотрит в зеркально-натёртый паркетный пол.
Мы с Маней бежим за Кандауровой.
Маня взяла Кандаурову за руку, уговаривает её: «Пойдём, пойдём, с нами… Пойдём танцевать…»
Кандаурова только молча трясёт головой в знак отказа.
Ольга — Дмитриевна не подходит к Кандауровой, даже не смотрит в её сторону: вероятно, она не хочет расстраиваться, но Дрыгалка уже вприпрыжку мчится к Кандауровой и Мане.
— Это ещё что за трагедии вы разыгрываете? Почему вы не танцуете, Кандаурова? И прежде всего встаньте, когда я с вами говорю!
Кандаурова встаёт и, всё так же глядя в пол, отвечает Дрыгалке ровным, как будто безучастным голосом:
— У меня папа умер в среду… Вчера похоронили…
— Ну, а мама у вас есть? — говорит Дрыгалка уже без обычной ядовитости.
— Мама умерла… давно… я её и не помню…
Мы все сгрудились около Кандауровой и Мани. Маня обнимает её, что-то тихонько говорит ей на ухо. Мы молчим. Мы потрясены горем Кандауровой и своим бессилием хоть чем-нибудь помочь ей… Ну и, конечно, своей тупой чёрствостью: ведь никто, кроме Мани, не почувствовал, что с Кандауровой неладно!
Тут раздаётся звонок — конец уроку танцевания. Ольга Дмитриевна с весёлой улыбкой обращается к нам:
— До свидания, медам! Упражняйтесь дома…
Она уходит, неся на стебельковой шее пудреную головку-маргаритку. Зато Дрыгалка считает, очевидно, необходимым выразить Кандауровой участие:
— Ну что ж, Капдаурова. Бог дал, бог и взял вашего папу… Не горюйте!
И тут же, меняя казённо-жалостливый тон на привычный, синявкин, она кричит всем нам:
— В коридор, медам, в коридор! Следующий урок — французский язык.
Маня осторожно ведёт под руку Кандаурову.
В коридоре мы видим Ольгу Дмитриевну: она весело хохочет, слушая то, что ей говорит подружка, молодая классная дама Прокофьева.
Я хочу сказать здесь, чтоб не забыть. Сорок лет спустя, в Ленинграде, — уже после Октябрьской революции — я увидела в трамвае маленькую старушку в аккуратной плюшевой шубке с посветлевшим от времени, словно поседевшим, собольим воротничком. Головка её была беленькая уже не от пудры, а от старости. Но всё так же прямо держалась эта головка на стебельке шеи, всё так же безмятежно смотрели слегка выцветшие глаза, и даже увядшие губки были сложены всё так же капризно. «Маргаритка! — узнала я её. — Махровая бело-розовая маргаритка…»
— Здравствуйте, Ольга Дмитриевна… Вы меня не помните? Я — ваша бывшая ученица. Узнаёте?
Она всмотрелась в меня:
— Как же… как же… Ну конечно, узнаю! Я вас очень любила — вы прелестно танцевали.
Она сказала слово «прэлэстно» так, как произносила его когда-то начальница А. Я. Колодкина, которой подражали все синявки. Колода говорила ещё: «будьте любэзны» и «бэзумно, бэзумно!» вместо «безумно». И от этого «прэлэстно», сказанного Ольгой Дмитриевной, во мне сразу возник целый рой воспоминаний: торжественный актовый зал, портреты царей с надутыми глупыми лицами, и зеркальный пол, похожий на ледяное поле катка, и равнодушный, отсутствующий взгляд, каким скользили глаза Ольги Дмитриевны по лицам девочек, плачущих, наказанных, испуганных…
Вряд ли она в самом деле меня узнала, — разве можно в пятидесятилетней женщине узнать шестнадцатилетнюю девочку, какой я была, когда кончала институт! Да и танцевала я вовсе не «прэлэстно», а, как все другие девочки, скакала козлёнком под музыку. Это была явная «любэзность», равнодушная «любэзность» старой учительницы, которой нечего сказать своей давнишней ученице.
Я не спросила её ни о чём — зачем? Она тоже меня ни о чём не спросила — ей было неинтересно. Трамвай подошёл к остановке. Ольга Дмитриевна приветливо кивнула мне и вышла. Она сошла по ступенькам легко и грациозно, совсем не по-старушечьи — а ведь ей было уже лет под семьдесят! — и пошла по тротуару, не оглядываясь на трамвай, откуда я-следила за ней глазами: она, вероятно, уже не помнила, что за несколько минут перед тем она встретила в трамвае свою далёкую молодость…
Я вспоминала её ещё частенько после этой неожиданной встречи. Я восхищалась тем, как удивительно сохранила она в глубокой старости очаровательный, хоть и увядший облик махровой маргаритки. Но вместе с тем мне всё время думалось, что это было достигнуто ценой глубочайшего равнодушия к людям. Ведь людей старят не годы — что годы! — нас старит не только своё, но и чужое горе, чужие беды, которые мы переживаем вместе с другими людьми, несправедливость, которая падает не на нас, а на других людей, а мы порой бессильны помочь. Ольга Дмитриевна прожила жизнь, глядя на мир словно с далёкой луны. Это сохранило её… Для кого? Очевидно, не для людей: к людям и их жизни она была равнодушна. А если не для людей, не для жизни, то, значит, ни для кого и ни для чего…
Всю перемену, последнюю в этот день, Маня обнимает Кандаурову, гладит её по голове, говорит ей какие-то добрые, ласковые слова. Я тоже стою рядом. Сердце у меня разрывается от жалости, но вот… не умею я так нежно, по-матерински подойти к Кандауровой. А Маня, вынув из волос Кандауровой розовый гребешок, расчёсывает и разглаживает её вихры, оправляет на ней фартук, вид у Кандауровой становится несколько более благообразным.
Но вот в класс входит Колода. Она прежде всего заставляет всех нас по очереди — по скамейкам, как сидим, — читать по нескольку строк из французской хрестоматии. Выясняется, что примерно три четверти класса ещё не умеют даже читать по-французски. Только шесть или семь девочек читают, но запинаясь, по складам, видимо, не очень понимая смысл прочитанного.
Когда очередь доходит до меня, я читаю бойко и осмысленно. Колода смотрит на меня ласково и, прервав меня, спрашивает по-французски:
— Вы говорите по-французски?
— Да.
Она мягко поправляет меня:
— Надо отвечать полным ответом: «Да, сударыня, я говорю по-французски».
Я повторяю за ней:
— Да, сударыня, я говорю по-французски.
— У кого вы научились? — продолжает Колода по-французски.
— Я научилась у француженки, мадемуазель Пикар.
— Она живёт в вашей семье?
— Да, она живёт в нашей семье.
— Остальные члены вашей семьи тоже знают французский язык?
— Да, моя мать и мой отец говорят по-французски.
Лицо Колоды всё светлеет и добреет.
— Чем занимается ваш отец?
— Мой отец — врач.
Тут Колода переходит на русский язык — очевидно, желая, чтоб её понял весь класс:
— Очень хорошо, Яновская. Я поставила вам пятёрку… Садитесь!
Но тут же, словно вспомнив что-то очень важное, она снова говорит мне по-русски:
— А скажите… какого вы вероисповедания?
— Еврейского.
— Вы неправильно отвечаете. Еврейского вероисповедания нет — ведь нет русского или польского вероисповедания, или немецкого, или татарского, да… Есть православное, римско-католическое, лютеранское, магометанское. Евреи — иудейского вероисповедания. Вот как вы должны отвечать на этот вопрос, да… Садитесь!
Я отправляюсь на своё место и слышу, как Колода (ох, и умница!), забыв, что я понимаю по-французски, говорит негромко Дрыгалке и именно по-французски:
— Подумайте! Какая жалость!
На это Дрыгалка шепчет Колоде что-то на ухо. Наверно, про то, что я нахально «хоте-ела» чего-то, и ещё про то, что меня пришлось поставить в угол «за неуместный смех». С лица Колоды сходит доброе выражение. Нахалка, шалунья, да ещё и «иудейского вероисповедания», — нет, я разонравилась своей начальнице. После меня вызывают Маню Фейгель: она отлично читает французский рассказ и отвечает по-французски на вопросы Колоды.
— Кто вас научил говорить по-французски?
— Мой отец, — отвечает Маня.
Брови Колоды удивлённо приподнимаются:
— Откуда ваш отец знает французский язык?
— Мой отец учился в Париже. Окончил Сорбонну…
— Чем же он занимается? — недоумевает Колода.
— Мой отец — учитель.
— В гимназии?
— Нет, — отвечает Маня. — В еврейском двухклассном начальном училище…
Маня не рассказывает Колоде того, что на одной из перемен рассказала мне. Её отец учился в Париже не от лёгкой жизни: его не приняли ни в один из восьми университетов России. Он работал, как каторжник, давал уроки, не спал ночами — брал переписку, — скопил денег на дорогу до Парижа и на первый год обучения в Сорбонне. Все годы студенчества он не приезжал домой — не на что было! — а все каникулы проводил во Франции: работал батраком у богатых крестьян, носильщиком на вокзалах, грузчиком на складах, голодал, бедовал, — но окончил Сорбонну! А когда он вернулся в Россию, то оказалось, что его солидный, не часто встречающийся у нас диплом никому не нужен! Как еврей, отец Мани не имеет права преподавать в русских школах, только в еврейских двухклассных училищах, где французский, конечно, не преподаётся. Он и преподаёт там русский язык и арифметику. Даёт ещё и частные уроки, бегает весь день как белка в колесе. Детей своих — Маню и её старшего брата — отец учит французскому языку «в свободное время». А так как «свободного времени» у него нет — он занят с раннего утра до поздней ночи, — то дети каждое утро в рассветную рань (иногда ещё затемно — зимой, например) провожают отца до его училища — далеко, на другой конец города! — и по дороге он учит их французскому языку. Рассказывая мне всё это на одной из перемен, Маня сказала с гордостью:
— Мой папа — замечательный учитель!
Сейчас, на уроке Колоды, мы с Маней переглядываемся издали. Мы довольны: мы получили по пятёрке.
Колода рассматривает в лорнет список учениц в школьном журнале и вдруг, остановившись, вызывает:
— Карцева Лидия!
Встаёт и выходит из-за парты очень высокая девочка — Лида Карцева. У неё серые глаза, умные и смелые. Губы сложены треугольником, вершиной вниз — от этого у неё выражение лица чуть насмешливое. Лида Карцева открывает французскую хрестоматию наудачу и читает вслух басню Лафонтена «Ворона и лисица». Она читает не просто бегло, как делали перед тем мы с Маней, — она читает спокойно — за автора басни, униженно-льстиво — за лисицу. Весь класс, хотя и не понимает французских слов, слушает Лиду Карцеву с интересом. Мы с Маней, восхищаясь, улыбаемся до ушей. Колода просто наслаждается Лидиным ответом: говорит Лида превосходно, с настоящим парижским акцентом, как не говорит и сама Колода.
— Где вы учились французскому языку? — спрашивает Колода, сияя улыбкой.
— Мы с мамой прожили целый год во Франции. Мама была больна и лечилась там, — спокойно отвечает Лида.
— Чем занимается ваш отец?
— Мой отец — юрист.
— Хорошо, дружочек мой, очень хорошо… Садитесь!
Я смотрю на Лиду не отрываясь, как зачарованная. Как-к-кая удивительная девочка! Какие у неё умные серые глаза! Нет, серо-голубые, — всматриваюсь я. Наверно, она прочитала много книг — и русских, и французских. И с каким достоинством она держится, — не то что все мы! «Все мы» — это я, конечно, имею в виду самое себя: мне очень трудно было не расплакаться, когда Дрыгалка поставила меня в угол. И с какой непринуждённостью носит Лида своё коричневое форменное платье! У всех нас — кроме только Мели, но она ведь второгодница, — у всех нас видно, что мы только сегодня впервые надели форму. Она нас смущает, подавляет, стесняет наши движения. А у Лиды, по-видимому, есть счастливый дар держаться в любом костюме так, словно она носит его всю жизнь, от самого рождения. Нет, замечательная девочка Лида Карцева, замечательная! Хорошо бы дружить с такой умной, спокойной подругой! Конечно, я не стану набиваться на дружбу; я буду издали смотреть, как она ведёт себя, как поступает, и буду во всём ей подражать. Я тут же пытаюсь для начала сложить губы треугольником, как у Лиды Карцевой, но у меня это не получается.
Глава четвёртая. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОКОНЧЕН
После уроков Дрыгалка не сразу отпускает нас домой. Сперва она диктует нам, что задано к следующему уроку. Потом длинно объясняет: каждая девочка должна принести из дома мешок для калош, стянутый вверху верёвочкой или тесёмкой, — мешок этот должен висеть на вешалке, на «номере» своей хозяйки. Она диктует нам эти номера. Мой номер оказывается «тринадцатый». Затем чёрненькая Горбова читает «молитву по окончании ученья»:
— «Благодарим тебя, создателю, яко сподобил еси нас благодати твоея во еже внимати учению. Благослови наших начальников, родителей и учителей, и всех ведущих нас к познанию блага и подаждь нам силу и крепость для продолжения учения сего».
Дрыгалка строит нас в пары — пара за парой, пара за парой! — десять раз повторяет, что внизу, в швейцарской, мы не должны галдеть, заводить между собой длинные разговоры: «Одеться — и домой!» Наконец она ведёт нас вниз, в швейцарскую. Когда мы уже двинулись, Дрыгалка вдруг спохватывается, останавливает наше начавшееся было шествие:
— Помните! Идти ровно, плавно, не возить ногами, не шаркать!
Ну, слава богу, тронулись… Но когда мы уже подходим по коридору к лестнице, ведущей вниз, нам навстречу приближается колонна учениц первого отделения нашего же класса. Их ведёт своя классная дама. От всеведущей Мели мы знаем, что её прозвали «Мопсей» (очень метко!). Дрыгалка останавливает нашу колонну. Мы, второе отделение, стоим и пропускаем вперёд себя первое отделение. Первые десять пар девочек не идут вниз по лестнице: они — пансионерки, они живут в самом институте. Лестница не кончается на нашем втором этаже (здесь только классы, актовый зал и коридоры), она заворачивает выше, на третий этаж. Там находятся дортуары (спальни) и другие помещения для пансионерок. Медленно («Тихо! Плавно» — покрикивает на девочек повизгивающим голосом Мопся) десять пар пансионерок поднимаются, по лестнице на третий этаж. После этого оставшиеся восемь пар приходящих учениц первого отделения спускаются вниз по лестнице в швейцарскую. И лишь тогда Дрыгалка ведёт вниз нас, второе отделение. Мы должны знать своё место. В первом отделении учатся «сливки» — внучка городского головы, дочка командующего военным округом, дочери богатых фабрикантов и купцов, а во втором отделении мы. Мы — «снятое молоко»: дети интеллигенции, младших офицеров, более мелкого купечества.
Внизу, в швейцарской, мы снова обступаем Катю Кандаурову. Она молча схватила руку Мани и прижимает её к себе, словно это спасательный круг, за который она, утопая, хватается.
— Катенька… — говорит ей Маня. — Ты куда сейчас пойдёшь?
— Не знаю… — полушёпотом отвечает Кандаурова.
— У тебя дома кто-нибудь есть? — осторожно допытывается Маня.
— Нету… То есть нет, неверно я говорю… Есть муж тёти Клани… маминой сестры… Мы с папой к нему въехали, когда папу сюда перевели… Месяц назад…
— А где эта тётя Кланя?
— Умерла. Только муж её остался, больше никого…
В общем, всё приблизительно ясно. Катя Кандаурова месяц назад приехала в наш город с отцом — его перевели сюда на службу из Костромы. Здесь они остановились — пока, временно, у мужа покойной тёти Клани. Хотели снять квартирку и устроиться самостоятельно — совсем было уже собрались, даже чемоданы уложили, — но не успели: папа Кати заболел брюшным тифом. Катя осталась одна. Мы не хотим мучить её расспросами, но мы чувствуем, что она не хочет идти на квартиру мужа тёти Клани — вот не хочет и не хочет, это ясно! То ли Кате горько в этой квартире, где все разбросанные вещи напоминают о её сиротстве, то ли муж тёти Клани плохой человек и Катя его не любит, словно боится…
— Даже на похороны папины вчера не пришёл он… тёти Кланин муж… — вдруг вспоминает Катя.
— Знаешь что, Катя? — говорит Маня, и лицо её светлеет оттого, что она нашла какое-то решение. — Пойдём ко мне! Ты у нас побудешь, пообедаешь, умоешься хорошенько. Мы с мамой платье твоё выутюжим, почистим… Пойдём, Катя, к нам? У нас и переночуешь.
Катя ещё крепче прижимает к себе руки Мани.
— А можно? — говорит она с надеждой. — Мама твоя… и папа… Они не рассердятся? Нет?
— Ну конечно!! — уверяет Маня. — Мои мама и папа будут очень рады, вот увидишь… Пойдём, Катя!
Катя так обрадовалась, что прежде всего разражается целой рекой слёз. Она плачет так тяжело, что и у всех нас начинает щипать в носу. Ещё минута — и мы все зарыдаем…
— Да что тут происходит? — врывается внезапно в наш круг Дрыгалка. — Я думала, они давно разошлись, а они, изволите видеть, ещё болтовнёй занимаются! В чём дело? Опять Кандаурова плачет! Ну, отведите её кто-нибудь домой — и конец делу. Разойдитесь, медам, разойдитесь!
И тут я понимаю самое главное в Дрыгалке: она нас не любит. Она не любит детей. Все женщины, каких я знаю: моя мама, Поль, Юзефа, Анна Борисовна, Юлькина мать Анеля Ивановна — все они обласкали бы несчастную девочку, согрели её, может быть, даже заплакали над её горем. Даже Серафима Павловна погладила бы Кандаурову по голове своей доброй, толстой рукой, даже смешная, восторженная тётя Женя обняла бы её и сказала какие-нибудь никому не понятные слова. А Дрыгалка только брезгливо повела плечами. Даже тогда, когда Катя Кандаурова сказала, плача, что вчера похоронили отца, рука Дрыгалки не потянулась, чтобы приласкать девочку…
Мы выходим на улицу. Держа Кандаурову за руку, Маня уводит её в сторону, противоположную дороге к моему дому. Мы группкой остаёмся стоять у подъезда института.
— Стойте! Стойте! — вдруг вспомнив что-то, бросается Лида Карцева догонять Маню, уводящую Катю. — Скажи свой адрес, Катя! Я зайду — скажу этому дяде, что ты сегодня не придёшь. А не то он может заявить в полицию, что ты пропала… Скажи свой адрес!
— Андреевская улица, дом Клебанова.
— А фамилия дядина какая?
— Полуэктов… А он придёт за мной к Мане? — со страхом спрашивает Катя.
— Я ему не скажу! Я ведь и сама не знаю, где Маня живёт! — смеётся Лида.
— Не ходи! — просит Катя. — Он на тебя накричит, нагрубит…
Лида Карцева вскидывает голову:
— Не накричит! Не нагрубит. Я этого не позволю!
Мне ясно: Лида не даст себя в обиду.
Оставшись с Лидой, я всё-таки чувствую, что должна, обязана пойти с ней к Катиному дяде.
— Я пойду с тобой.
— Куда?
— К этому… ну, Кланиному или как его там…
— К Полуэктову! — поправляет Лида со смехом. — Хорошо, идём.
— И я с вами пойду, ладно? — гудит Варя Забелина. Домик, где живёт Полуэктов, находится в глубине одного из дворов по Андреевской улице. Из окошек, заросших снаружи кустами боярышника и черёмухи, доносится пение — тенор выводит с пьяным надрывом:
Дверь не заперта. Мы входим в домик и останавливаемся в прихожей.
— Здесь живёт господин Полуэктов? — спрашивает Лида таким великолепным «взрослым» голосом, что я прихожу в неописуемый восторг.
Одна из дверей рывком раскрывается. В ней стоит пьяный мужчина в одних брюках, без пиджака и босой. От этого растерзанного костюма ещё смешнее кажется величественный жест, с которым он тычет себя в грудь:
— Я — Полуэктов! Чем могу служить и, прежде всего, с кем имею честь?
Лида всё так же уверенно заявляет:
— Я — Карцева. Дочь юриста Карцева. Я пришла предупредить вас, что Катя Кандаурова сегодня домой не придёт. Она — у хороших людей, и вам о ней беспокоиться не надо.
— А я и не беспокоюсь! — говорит Полуэктов. — Хоть пропади она навсегда, — даже, пардон, не почешусь!
. — Ещё одно, — добавляет Лида с такой спокойной уверенностью, словно она совсем взрослая. — Всё имущество Кандауровых, которое находится в вашей квартире, не-при-кос-но-вен-но!
— И вы отвечаете за каждую вещь! — вдруг гудит басом Варя Забелина.
Тут и мне хочется сказать что-нибудь. Но я ничего не могу придумать подходящего и потому повторяю Варины слова.
— Отвечаете, да! — выкрикиваю я неожиданно тоненьким голоском. Как уличный петрушка. Даже самой смешно…
— Можете не продолжать! — говорит Полуэктов, глядя с величайшим презрением на Лиду Карцеву, которая, он понимает, среди нас главная. — Иван Полуэктов, конечно, пьяница, он, может быть, пардон, даже сволочь, но — не вор! — И он шумно, размашисто бьёт себя в грудь. — Понятно вам, Миликтриса Кирбитьевна, Сумбека — царица казанская?
— Очень рада за вас, господин Полуэктов! — И Лида с величественным кивком головы уходит, уводя нас за собой.
На улице мы долго хохочем.
— Хороши вы обе! — смеётся Лида над Варей и мной. — Одна, как из бочки, грохнула, другая пищит, как мышь!.. Я чуть не прыснула там…
— И откуда ты такие слова знаешь? — удивляюсь я. — Не-при-кос-ни-тельно!
— Не «неприкоснительно», а «неприкосновенно», — поправляет Лида. — Папино слово, юридическое. Разве ты не слыхала от своего папы докторских слов?
— Слыхала, конечно…
— Вот бы и сказала Полуэктову, — вмешивается Варя Забелина. — Берегитесь! Если пропадут вещи Кати Кандауровой, у вас сделается ам-пен-дин-цит!
Мы уходим. Вслед нам из полуэктовского домика летит песня:
На углу мы расстаёмся. Я иду домой и всё время отгоняю, отталкиваю от себя какие-то невесёлые мысли. По мере приближения к нашей улице я иду всё медленнее, всё медленнее. По лестнице я поднимаюсь так, словно за спиной у меня по крайней мере вязанка дров. Что я расскажу дома? Такой длинный был этот первый день моей самостоятельной дороги, столько в нём было всякого — и хорошего, и плохого. Нет, я расскажу не всё сразу; начну с хорошего, — ведь все ждут меня дома радостно, ждут к обеду. И не надо портить им аппетит…
На мой звонок выбегают сразу все — и мама, и Поль, и Юзефа, и даже папа! Меня ведут — все! — переодеваться в домашнее платье, мыть руки и обедать.
— Ну как! Рассказывай, рассказывай!
— Всё хорошо… — говорю я.
И рассказываю про всё, что было хорошего. Пятёрку по французскому языку поставила мне сама начальница. Поль торжествует и умиляется:
— Какая милая дама!
— По арифметике, — продолжаю я, — четвёрка… — И добавляю с огорчением: — с двумя минусами…
— Ничего! — подбадривает меня папа. — Мы это переживём. Не всё ведь сразу.
— Учитель рисования — художник, старый, с белой бородой — чудный! Девочки очень хорошие: Маня Фейгель, Лида Карцева, Варя Забелина. Есть ещё Меля Норейко — она весёлая, смешная, ужасная обжора…
Что ещё было сегодня хорошего? Больше ничего. И, значит, надо рассказывать про всё плохое, а это, ох, как трудно, как не хочется!..
Я сижу со всеми за столом. Голова моя клонится всё ниже и ниже над тарелкой, словно я собираюсь лакать суп языком, как кошка молоко.
Все молчат.
— Юзефа! — обращается папа к вошедшей из кухни Юзефе. — Вы посолили суп?
— А як же ж! — удивляется Юзефа. — Что я, молодая, что ли, чтоб соль забыть? Солила!
— А вот наша ученица, кажется, собирается посолить суп слезами…
Я понимаю: папа пытается обратить всё в шутку. Но в голосе его — тревога.
Мама и Поль смотрят на меня с огорчением.
Но всех сильнее действует всё это на Юзефу. Она бросается ко мне, обнимает меня, словно хочет защитить от всех врагов, и, глядя мне в глаза, с отчаянием кричит:
— Били? Кто бил? Скажи, я тому очи повыдираю!
— Перестань, Юзефа! Глупости какие! — сердится папа.
Я беру себя в руки и с запинками, с заминками рассказываю всё, что было плохого… У нас очень плохая классная дама, очень злая, её все ненавидят, зовут Дрыгалкой… Дрыгалка на меня кричала: «Здесь вам не полагается хоте-е-еть, здесь нужно слушаться!» Про селёдку, которую я нарисовала на доске, Дрыгалка сказала: «Глупые остроты!» — и повела плечом: вот так!.. Перед уроком танцевания Дрыгалка поставила меня в угол: «за неуместный смех!» А когда она спросила, кто же это меня так рассмешил, я не могла сказать правду, что меня рассмешила Меля Норейко: её бы тоже поставили в угол, если б я сказала правду… А ты говоришь, папа: «Правду, правду!» Как её говорить, правду?.. И ещё было плохое: у Кати Кандауровой вчера похоронили отца, она плакала, она такая несчастная, — и ни Дрыгалка, ни учительница танцев даже не пожалели её… И ещё я — юдейская… Что это такое?
— Все? — спрашивает папа.
— Все.
— Ну, так перестаньте все над ней страдать! Ничего страшного во всём этом нет.
— Как же нет, Яков? — говорит мама, вытирая платком глаза.
— А так, что нет! Может быть, эта классная дама, в самом деле, плохой человек, не знаю… Что же, девочка проживёт жизнь и не увидит плохих людей? Их очень много на свете! Жаль, что она сталкивается с ними так рано, но что поделаешь?.. А что в школе «надо не хотеть, а слушаться», так ведь это правильно! Подумай, если всяким начнёт выкомаривать на свой салтык, что ему «хочется», никакого ученья не будет! И в угол её поставили за дело — она смеялась во время урока. Я бы, — оговаривается пала, — не ставил детей в угол: по-моему, нехорошо так срамить их, да ещё в первый же день. Но ведь у неё могут быть другие мысли, не такие, как у меня, у этой вашей… ну, как её? Не Дрыгалкой же мне её звать, есть у неё, наверно, имя и отчество, — Христофора Колумбовна, что ли…
— Евгения Ивановна… А как же, папа, правду? Сам видишь, правду ей говорить нельзя!
Папа задумывается. Молчит. Ох, как ему трудно ответить на этот вопрос!
И вдруг в разговор вступает Поль.
— Помнишь, — говорит она, — как первого мая мсье ле доктер ходил всю ночь по квартирам, а там спрятали людей, которых избили полиция и казаки? И я — спасибо ему! — ходила с ним… Ну вот, если бы на следующий день твоего отца позвали в полицию и приказали: «Назовите адреса, по которым вы ходили оказывать помощь!» — как ты думаешь, он назвал бы эти адреса?
— Конечно, нет! Он ни за что не сказал бы!
— Да, не сказал бы, — подтверждает папа. — Потому что тогда всех этих избитых, раненых людей арестовали бы и заперли в тюрьму!
— А что бы ты им сказал, этим полицейским?
— Я бы сказал: «Да отстаньте вы от меня! Какие квартиры? Какие раненые? Я ничего не знаю, я всю ночь спокойно спал дома!»
— Ты солгал бы?
— А по-твоему, надо было сказать правду? Мы все долго молчим.
Глава пятая. ЧТО ДЕЛАТЬ С КАТЕЙ КАНДАУРОВОЙ?
В понедельник утром — ничего не поделаешь! — я отправляюсь в институт. Торжественных проводов мне уже не устраивают. Папы нет дома — и всю ночь не было: он у больных. Без папы некому напомнить мне о том, что в жизни надо говорить одну только правду. Да и опыт первого дня ученья уже показал нам с папой, что в институте надо говорить правду лишь с оговоркой: «Если это не повредит моим подругам!» Это компромисс, говорит папа, то есть отступление от своих правил, уступка жизни. Когда-нибудь, думает папа, компромиссов больше не будет — будет одна правда и честность.
— А скоро это будет?
— Может быть, и скоро…
Папа говорит это так неуверенно, как если бы он утверждал, будто когда-нибудь на кустах шиповника будут расти пирожки с капустой.
Но всё-таки ещё вчера вечером мы с папой уточнили: солгать из страха перед Дрыгалкой или Колодой, из страха перед наказанием — нельзя. Это трусость, это стыдно. Солгать из желания получить что-нибудь для своей выгоды — тоже нельзя. Это шкурничество, это тоже стыдно. Говорить неправду можно только в тех случаях, когда от сказанной тобою правды могут пострадать другие люди. Тут надо идти на компромисс. Это и горько, и больно, и тоже, конечно, стыдно, но что поделаешь?
Мама и Поль прощаются со мной молча, крепко целуют меня. Обе они — грустные, словно провожают меня не в институт, а на гильотину. Одна только Юзефа верна себе: она раз десять напоминает мне о том, что вещи надо «берегчи», потому что за них плачены «деньги, а не черепья».
Первые, кого я встречаю в швейцарской, когда вешаю на тринадцатый номер свою шляпенку, — это Маня и Катя Кандаурова. Катю совершенно нельзя узнать! Она чистенькая («Мы с мамой её в корыте вымыли!» — радостно объясняет Маня), платье её и фартук тщательно выглажены, ботинки начищены, как зеркало. Но главная перемена — в её голове. Теперь Колода уже не скажет, не может сказать, что Катя Кандаурова — дикобраз. Ей старательно вымыли голову, волосы стали мягче и лежат ровненько под розовым гребешком. Все мы, обступив Катю и Маню, говорим о том, какая Катя стала аккуратная, — и все мы этому радуемся. Уж очень она была жалкая в субботу, когда стояла перед Колодой и Дрыгалкой! Теперь этого нет. Нельзя сказать, что Катя Кандаурова весёлая — да и с чего бы ей веселиться? — но она спокойна, нет в ней этого пугливого шараханья, как у птенца, который выпал из гнезда и боится, что сейчас на него наступит чья-то нога. Иногда она взглядывает на Маню, и глаза её словно спрашивают:
«Всё будет хорошо, да?»
И Маня отвечает ей без слов матерински-ласковым взглядом своих чудесных глаз, которые никогда не смеются и даже в смехе плачут:
«Да, да, не бойся, всё будет хорошо».
Маня рассказывает мне и Лиде, что они написали письмо Катиной тёте Ксении, которая живёт в другом городе. Тётя Ксения, по словам Кати, хорошая, добрая. Папа её очень любил, так что и Катя её любит — так сказать понаслышке, потому что сама никогда её не видала. Перед смертью папа написал сестре, прося позаботиться о Кате.
Единственный человек, который словно даже не замечает перемены в Кате Кандауровой, — это Дрыгалка. Конечно, если бы Катя снова явилась в виде Стёпки-растрёпки, Дрыгалка, наверно, заметила бы это, она бы опять сказала какие-нибудь насмешливые и обидные для Кати слова. Но простое, доброе слово ободрения, вроде: «Ну вот, молодец, Кандаурова, совсем другой вид теперь»! — такого Дрыгалка не говорит и никогда не скажет. Она, наверно, и не умеет говорить такого! Окинув Катю быстрым, скользящим взглядом, Дрыгалка только, по своему обыкновению, обиженно поджимает губки. Что означает эта Дрыгалкина мимика — непонятно. Но совершенно ясно: она не выражает ни внимания, ни сочувствия к Кате, ни заботы о ней.
— Знаешь что? — говорит мне Лида Карцева, глядя на меня в упор умными серо-голубыми глазами. — Нехорошо, что о Кате Кандауровой заботятся только Маня и её семья. Что же мы ей — не подруги, что ли?
— Надо и нам тоже! — гудит басом Варя Забелина.
Мы стоим все в коридоре, в глубокой нише под одним из огромных окон, закрашенных до половины белой краской.
— Можно внять Катю к нам, — говорю я, — только я должна сперва спросить маму, разрешит ли она…
— Нет! — решительно отрезает Лида, — Это не дело, чтобы Катя каждый день из одной семьи в другую переходила.
— Так что же делать?
— Нам надо сложиться, кто сколько может, — предлагает Лида, — и отдать эти деньги Мане. Потихоньку от Кати, понимаете? Чтобы Кате не было обидно.
— И чтобы Мане не было обидно! — вмешивается Варя Забелина. — Это надо не нАбалмошь делать. Я Маню знаю. Её отец, Илья Абрамович, — учитель. Он мне уроки давал. Бедно живут они… А тут ещё — Катя, лишний человек… Нет, надо что-нибудь придумать, чтобы их не обидеть.
И тут, словно её озарило, Варя предлагает:
— Надо сказать Мане, что нам обидно, почему мы ничем не помогаем Кате. «Нехорошо это, Маня! — надо сказать. — Ты всё делаешь для Кати без нас. Мы тоже хотим!»
— Да, это будет правильно! — одобряет Лида — Давайте после уроков пойдём ко мне. Моя мама, наверно, даст нам денег. А потом пойдём ко всем вам — тоже попросим.
— Моя мама даст наверное! — говорю я,
— И моя бабушка — тоже! — уверена Варя Забелина.
— Ну, а моя тётя, наверно, не даст… — в раздумье качает головой Меля Норейко. — Она ужасно не любит давать…
— Почему?
— Ну, «почему, почему»! Не знаю я, почему… Наверно, она немножечко жядная, — объясняет Меля.
Мы и не заметили, как около оконной ниши, где мы стоим, скользнула как тень Дрыгалка.
— Что это вы тут шепчетесь? У нас правило: по углам шептаться нельзя! Это запрещается, медам!
— А мы не шепчемся… Мы громко разговариваем, — говорит Варя.
Во мне поднимается возмущение против Дрыгалки. Да что же это за наказание такое, что она всюду подкрадывается и всё запрещает? Этого «нельзя»! Это «не разрешаю»!
Звонок прерывает наш разговор с Дрыгалкой.
— В класс, медам! На урок!
И Дрыгалка стремительно мчится в класс, за нею бегут Варя и Меля.
Мы с Лидой на несколько секунд остаёмся стоять в нише.
— Ты — Саша, да? — спрашивает Лида. — Можно, я буду тебя Шурой звать? И, знаешь, давай дружить. Хочешь?
— Очень хочу!
Так началась моя дружба с Лидой Карцевой. Она продолжалась и после окончания института — с перерывами, когда мы оказывались на много лёг в разных городам, — но встречались мы неизменно сердечно и тепло.
Катя, как и прежде, сидит на парте рядом со мной. Но теперь я уже не злюсь на это, как в первый день. Ох, как стыдно мне теперь это вспоминать! Наоборот, я стараюсь чем могу выразить доброе отношение к ней. Я показываю ей нужную страницу в учебнике, объясняю ей то, чего она не понимает. У неё нет лишнего пера — я даю ей своё. Вообще стараюсь изо всех сил. (Меля бы сказала: «Ужясно!») Но всё-таки так мягко заботиться о Кате, как Маня, не умею я.
Сегодня опять арифметика, и Круглов с глазами, забившимися глубоко под лоб, объясняет так скучно — я всё время ловлю себя на том, что не слушаю. Потом идёт урок русского языка, его преподаёт сама Дрыгалка. Это тоже очень скучно, — проходят имя существительное, склонения, падежи и т. д., я это давно знаю, — но тут уж я слушаю внимательно: я знаю, Дрыгалка мне ничего не простит! И в самом деле, она вызывает меня и велит мне просклонять во всех падежах слово «подорожник». Немножко подумав, я отвечаю ей урок, как учили меня Павел Григорьевич и Анна Борисовна:
— Именительный — около тропинки рос подорожник. Родительный — мы увидели в траве листья подорожника. Дательный — мы подошли к подорожнику. Винительный — мы сорвали подорожник. Творительный — мы вернулись домой с подорожником. Предложный — ведь мы знали о подорожнике, что он — целебная трава.
Дрыгалка слушает меня с каменным лицом.
— А звательный падеж где?
Я на секунду задумываюсь, потом отвечаю:
— Звательный — спасибо, подорожник, за то, что ты лечишь людей.
Дрыгалка недовольно сморщивается.
— Всегда у вас какие-то нелепые затеи, Яновская! Надо говорить просто: именительный — так-то, родительный — так-то и так далее. А вы тут целый роман наболтали!
Я послушно затягиваю:
— Именительный и звательный — подорожник. Родительный — подорожника. Дательный — подорожнику. Винительный — подорожник. Творительный — подорожником. Предложный — о подорожнике.
— Ну, вот так правильно, — говорит Дрыгалка.
Но мне не нравится. Правильно, да, но — скучно. И я ничего не вижу из того, о чём говорю. А Павел Григорьевич всегда, что бы мы ни делали — читали, делали грамматический разбор предложения, склоняли, спрягали, — всё равно Павел Григорьевич говорил мне:
«Ты видишь всё это? — упирая на слово „видишь“. — Надо видеть, иначе всё мёртво и скучно, а сама ты — сорока, больше ничего».
От этого, читая стихотворение Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива», я видела и колыхание спеющей ржи или пшеницы, и лес, качающийся на ветру, и сливу в сизоватом налёте, и ландыш, — всё это я видела. И подорожник я сегодня видела, когда склоняла, — кустик закруглённых листьев с глубокими морщинками, которые с изнанки похожи на жилы, вздувшиеся на трудовых руках, и то, как колышется среди кустика стрелка подорожника, вся в мелких бородавочках. Когда я была маленькая и угощала моих кукол обедом, стрелки подорожника изображали спаржу.
«Пожалуйста, возьмите ещё спаржи! — просила я кукол очень вежливо. — Это очень питательно».
Дрыгалка, к сожалению, этого не понимает. Она ничего не видит. Она никого не видит. Она видит только то, на что можно обрушить свою злость.
Урок чистописания — скучный, как дождик на даче. А для меня ещё и пренеприятный — всё из-за моего несчастного почерка. «Ужасный почерк! Ужасный!» — ахает учитель, и ему вторит Дрыгалка.
— Ужасный! — говорит она и даже закатывает в ужасе глаза. — Просто непозволительный почерк!
Подождите, злыдни вы этакие! Мама ещё вчера пригласила учителя. Он будет приходить к нам домой. Начнёт он со мной заниматься завтра. Я буду очень стараться — почерк у меня станет прелестный-прелестный! Что вы тогда скажете, злые люди? Вам не к чему будет придраться, вы будете вынуждены молчать, а я буду мысленно насмехаться над вами: «Ха, ха! ха! ха!»
Уроки кончены. Мы выходим на улицу. Ох, как хорошо, как вольно дышится. Но нам некогда наслаждаться золотым августовским днём: мы должны идти к своим мамам, попросить у них денег, а потом отнести эти деньги Мане — для Кати Кандауровой.
Решаем идти сперва к Меле Норейко, потом к Вариной бабушке, к Лидиной маме, а затем к моей.
Идём мы весело, шутим, смеёмся. Только Меля почему-то на себя не похожа. Она всё время молчит, даже иногда вздыхает. Наконец, не выдержав, она берёт меня под руку, чтоб я шла медленнее. Когда мы таким образом немножко отстаём от Лиды и Вари, Меля говорит мне негромко и как-то нерешительно:
— Знаешь что? Я побегу вперёд и посмотрю, кто у нас дома, тётя или папа… А?
— А почему? — недоумеваю я. — Разве это не одно и то же?
— Ну да! Одно и то же!.. У меня папа — это одно, а тётя — папиного брата жена — совсем не то же! И мне бы хотелось, понимаешь… Ну, одним словом, гораздо бы лучше, если бы мы застали папу, а не тётю. Я побегу, а?
Меля летит стрелой вперёд, к своему дому. А мы идём медленно, мы немного озадачены загадочными Мелиными словами.
Когда мы подходим к дому с большой вывеской «Ресторан Т. Норейко», Меля уже дожидается нас у ворот. Она бросается к нам озабоченная, но довольная:
— Где вы копаетесь? Скорее, скорее!
И, ведя нас во двор дома, Меля тихонько шепчет мне:
— Тётя занята, она грязное бельё в стирку отдаёт. Ресторанное: скатерти, салфетки… А папу я сейчас приведу! Если тётя войдёт, вы, смотрите, ничего при ней не говорите!
Всё это мне не нравится, но отступать поздно.
Мы входим в квартиру Норейко. Меля вводит нас в маленькую переднюю. В ней нет даже стульев. Из соседней комнаты доносится негромкий голос, мерно считающий:
— Тридцать шесть… тридцать семь… тридцать восемь…
— Подождите здесь, я сию минуту…
Меля в самом деле через минуту-другую приводит к нам толстого человека с добродушным лицом.
— Вот. Это мой папулька… Папулька, это мои коллежанки (соученицы)… Папулька, мне нужны деньги — понимаешь? И не марудь, папулька, — слышишь, тётя уже пятьдесят вторую салфетку считает! Скоро кончит…
— Деньги? — пугается папулька. — А на что тебе деньги?
— Ну, мало ли, папулька, какие у меня расходы? Давай скорее!
Папулька ужасно растерян. У него даже взмокли колечки волос на лбу.
— Полтинник — довольно?
— Папуля! — укоряет его Меля. — Дай канарейку. И поживее — слышишь?
Из соседней комнаты доносится:
— Шестьдесят восемь… шестьдесят девять… семьдесят… семьдесят один… семьдесят два…
— К сотой салфетке подходит! — торопливо шепчет Меля. — Беги скорей к кассирше, возьми у неё канарейку, и конец!
Папулька исчезает на одну-две минуты. Затем, вернувшись, достаёт зажатую в кулаке измятую рублёвую бумажку. Испуганно оглядываясь на дверь, отдаёт деньги Меле. Меля быстро суёт их в карман.
С этой минуты и Меля, и её папулька преображаются. С их лиц сходит выражение пугливой насторожённости. На папулькином лбу разглаживаются морщины. Отец и дочь весело, радостно обнимаются. Меля шутливо пытается головой боднуть отца в живот. Отец и дочка, видно, любят друг друга.
— Дочка у меня, а? — подмигивает нам папулька. — Министерская голова, нет?
Но Меля бесцеремонно выталкивает отца из комнаты:
— В ресторан, папулька! Там лакеи без тебя всё разворуют.
Папулька скрывается.
Меля торопливо передаёт папулькину рублёвку Лиде.
— Прячь, прячь скорее!
Между тем в соседней комнате голос, монотонно считавший бельё, смолкает. В переднюю, где мы стоим, входит миловидная женщина, толстенькая и кругленькая, как пышка. На лбу у неё — мокрое полотенце, которое она придерживает одной рукой. Другой рукой она запахивает на груди свой растерзанный капот.
— Ох, голова! Ох, голова! — стонет она.
— Болит, тётечку? — участливо спрашивает Меля.
— Не дай бог! Просто на кусочки раскалывается. Пропади оно, это ресторанное бельё! Пока считаешь, глаза на лоб вылезут.. А это кто? — вдруг замечает нас Мелина тётя. — К кому пришли? Зачем?
— Это, тётечку, мои подруги пришли… В гости…
— Ох, тесно у нас тут!.. Какие уж гости! — неприветливо говорит Мелина тётя. — Тебе обедать надо…
— Мы уходим, — спокойно говорит Лида.
— Нет, зачем же? — слабо протестует госпожа Норейко. — Меля пойдёт к нам в столовую комнату, пообедает, а вы её тут подождите, если хотите… Ступай, Мелюня, там сегодня твоё любимое…
Но мы, простившись, выходим на улицу.
— Не понравилась мне эта «тётечка»! — мрачно говорит Варя.
— А папулька этот тоже… Рубля давать не хотел, полтинник предлагал… Вот выжига! А ведь богатый! Ну ладно, идём теперь к Варе, — напоминает Лида.
К Варе идти далеко. Мы успеваем переговорить обо всём. О Дрыгалке, о Колоде, об учителях. Вспоминаем то, что рассказала сегодня Меля (она знает всё на свете!): наш теперешний директор, Николай Александрович Тупицын, вступил в эту должность всего год назад, вместо прежнего директора, которого звали Яков Иванович Болванович. Этот прежний директор подписывал бумаги размашисто: Я. Болван… — и росчерк. А под этим шла подпись начальницы — Колоды: А. Я. Колод… — и тоже росчерк. Получалось: «Я — Болван, а я — Колода».
Так, болтая, смеясь, мы подходим к домику на окраине города.
— Вот. Наш домик, — говорит Варя и смотрит на этот домик так ласково, как на человека.
Это и вправду славненький домик! Не знаю, как выглядит он зимой, но сейчас он густо увит диким виноградом, и конец лета раскрасил листья во все цвета. Тут и зелёные листья, их уже меньше, и розовеющие, и вовсе красные, — красота! Мы входим в калитку и заворачиваем за дом. Там, в садике, на маленькой жаровне стоит таз, в котором варится-поспевает варенье. Около жаровни сидит на стуле старушка и ложкой снимает с варенья пенки.
— Бонжур, мадам Бабакина! — весело приветствует старушку Варя.
— Бонжур, мадемуазель Внучкина! — спокойно отзывается «мадам Бабакина». — О, подружек привела! В самый раз пришли — варенье готово! Из слив… Вон с того дерева собрала я сегодня.
Мы не успеваем оглянуться, как Барина бабушка уже усадила нас за круглый садовый стол, врытый в землю, поставила перед каждой из нас полное блюдце золотисто-янтарною варенья и по куску хлеба.
— Как вкусно! — восхищается Лида.
— До невозможности! — говорю и я с полным ртом.
Варя обнимает твою бабушку:
— Ещё бы не вкусно! Кто варил? Варвара Дмитриевна Забелина! Сама Варвара Дмитриевна! Понимаете, пичюжьки?
Варя очень похоже передразнила Мелино «пичюжьки». Это, конечно, опять вызывает смех. Впрочем, в этом чудесном садике, позади дома, увитого разноцветным диким виноградом, да ещё за вареньем Вариной бабушки, нам так радостно и весело, что мы смеёмся по всякому пустяку и жизнь кажется нам восхитительной. Я смотрю то на Варю, то на её бабушку — они удивительно похожи друг на друга! Бабушка говорит басом, как Варя, и у обеих — у бабушки и внучки — одинаковые карие глаза, подёрнутые поволокой, и веки открываются, как створки занавесок, раздвигающиеся не до конца в обе стороны.
— Спасибо, Варвара Дмитриевна! — благодарим мы с Лидой.
— Какая я вам «Варвара Дмитриевна»! — удивляется старушка. — Бабушкой зовите меня — ведь вы подружки Варины! Сына моего, Вариного отца, товарищи — по морскому корпусу и по плаванию — всегда меня «мамой» звали. А вы зовите «бабушкой», а не то не будет вам больше варенья!
— А ведь мы к тебе по делу пришли, бабушка! — вспоминает Варя.
Выслушав наш рассказ о Кате Кандауровой, которая живёт в семье Мани Фейгель, Варвара Дмитриевна говорит растроганно:
— Смотри ты, Илья Абрамович сироту пригрел! Ничья беда мимо него не пройдёт… И Маня, видно, в отца растёт, добрая… Ну-ка, Варвара, где наш банк?
Варя достаёт в дом и тотчас возвращается, неся в руке «банк» — это металлическая коробка из-под печенья «Жорж Борман».
Варвара Дмитриевна открывает коробку, смотрит, сколько в ней денег.
— Гм… Не густо… — вздыхает она. — Ну всё-таки, я думаю, рубль мы можем дать, — а, Варвара? Надо бы побольше, да ещё долго до пенсии, — вдруг на мель сядем?
— Не будем жадничать, бабушка! Наскребём все два…
Вот у нас уже собрано три рубля. Отлично! Мы прощаемся с бабушкой Варварой Дмитриевной, в которую мы с Лидой успели влюбиться по уши. Мы ей, видно, тоже понравились: она с нами прощается ласково, обнимает и целует нас.
Теперь мы идём к Лидиной маме, Варя тоже идёт с нами.
В квартире Лидиных родителей всё очень по-барски. Красивая мебель, ковры, много изящных безделушек. Мы стоим в гостиной, в ожидании, пока выйдет к нам Лидина мама. На одной стене большая фотография в красивой рамке — молодая темноволосая женщина в чёрном платье.
— Это твоя мама? — спрашиваю я.
— Нет, — отвечает Лида. — Это моя тётя. Мамина двоюродная сестра. Поэтесса Мирра Лохвицкая, — слыхали про такую?
— Нет, мы с Варей не слыхали.
— Странно… — удивляется Лида. — Она недавно получила Пушкинскую премию Академии наук. Во всех газетах было напечатано.
Мы смотрим с уважением на портрет поэтессы Мирры Лохвицкой, получившей недавно Пушкинскую премию Академии наук.
— А знаешь, — внезапно говорит Варя, — у неё глаза немножко странные…
— Верно. Сумасшедшие глаза, — спокойно соглашается Лида.
На другой стене висит большой портрет в тяжёлой раме — красивая женщина в бальном платье.
— А это твоя мама? — спрашивает Варя.
Лида смеётся:
— Нет, это другая моя тётя. Жена моего дяди. И тоже писательница — Мария Крестовская. Её отец был очень известный писатель — Всеволод Крестовский, он написал роман «Петербургские трущобы». А тётя Маруся — ну, она хуже его пишет, но всё-таки известная, её печатают в толстых журналах. Очень многие читают и любят…
— У тебя есть её книги?
— Есть, конечно… Могу тебе дать. Хочешь?
Ну конечно, я хочу! Я просто в себя прийти не могу: подумать только, Лида, Лида Карцева, .наша ученица, моя подруга, а тётки её — знаменитые писательницы!
— Так я и знала! Так я и знала! — раздаётся позади нас капризно-весёлый голос. — Они тётками любуются! А на меня, бедную, никто и не смотрит!
Мы оборачиваемся — в дверях стоит женщина, Лидина мама, Мария Николаевна, и до того она красива, что мы смотрим на неё, только что не разинув рты, и от восхищения даже зарываем поздороваться.
Лида бросается со всех ног, поддерживает Марию Николаевну и усаживает её на затейливой формы кушетку, поправляет складки её красивого домашнего платья. Потом представляет матери нас, своих подруг.
— Значит, эта, большенькая, — Варя Забелина, а это, поменьше, — Шура Яновская? — повторяет Мария Николаевна, вглядываясь в наши оторопелые лица. — А почему они молчат?
А мы молчим оттого, что восхищаемся!
— Как-к-кая вы красивая! — неожиданно вырывается у Вари.
Мария Николаевна смеётся.
— Лидушка! — говорит она с упрёком. — К тебе гости пришли, почему ты их ничем не угощаешь? В буфете конфеты есть. Принеси!
Мы едим конфеты и излагаем дело, которое привело нас сюда.
Мария Николаевна задумывается.
— Кажется, Лида, — говорит она, — надо на это дать рубля три. Как ты думешь?
— Я тоже так думаю.
Лида приносит матери её сумочку. Мария Николаевна даёт нам трёхрублёвку.
Мы встаём, благодарим и уходим. Мария Николаевна сердится:
— Что же вы спешите? Я думала, вы что-нибудь смешное расскажете, а вы вон как… Ну ладно, до следующего раза!
Мы спешим: нам надо ещё к моей маме.
У нас неожиданно в сбор денег включается весь дом. Мама даёт три рубля. Поль безмолвно кладёт на стол полтинник. Юзефа, стоявшая у притолоки и внимательно прислушивавшаяся к разговору, достаёт из-за пазухи большой платок, на котором все четыре угла завязаны в узелки, развязывает один из узелков, достаёт из него три медных пятака и кладёт их на стол:
— От ще и от мене. Злотый (15 копеек)… Сироте на бублики!
Итого 3 рубля 65 копеек. Пришедший дедушка добавляет для ровного счёта ещё 35 копеек — всего получилось 4 рубля.
В эту минуту слышен оглушительный звонок из передней — папин звонок! И в комнату входит папа.
Папа прибавляет к деньгам, собранным для Кати Кандауровой, ещё одну «канарейку». Пришедший с ним Иван Константинович Рогов даёт столько же. У нас уже собрано целых 12 рублей! Сумма не маленькая.
— А теперь, девочки, — говорит папа, — ваше дело кончено. Отдать эти деньги Фейгелю должен кто-нибудь другой, иначе обидите хорошего человека. Я его знаю: я — врач того училища, где он работает. Оставайтесь здесь, веселитесь, а главное: никому обо всём этом не говорите! Помните: ни одной душе! Ни одного слова? Вы ещё головастики, вы не знаете, — из-за этого могут выйти неприятности. Я потом, мимо едучи, зайду к Фейгелю домой и всё ему передам.
— Я бабушке скажу, чтоб в секрете держала! — соображает Варя.
— А я — маме… — озабоченно говорит Лида Карцева. — Она может нечаянно проболтаться.
На том и расстаёмся.
Глава шестая. НЕПРИЯТНОСТИ
Странно, все считают, что папа ничего не замечает вокруг себя, ни во что не вникает. Он-де занят только своими мыслями, своими больными, своими книжками, а всё остальное до него не доходит..
А вот и неправда! Взять хотя бы этот случай. Мы собрали деньги для Кати Кандауровой, и папа первый сказал нам: «Будьте осторожны, не болтайте зря, — могут быть неприятности».
Папа, как говорится, «словно в воду глядел»! Мы, правда, были осторожны и зря не болтали, но неприятности — и какие! — сваливаются на наши головы уже на следующий день.
Поначалу всё идёт, как всегда. Только Меля Норейко опаздывает — вбегает в класс хотя и до начала первого урока, но уже после звонка. Дрыгалка оглядывает Мелю с ног до головы и ядовито цедит сквозь зубы:
— Ну конечно…
Меля проходит на своё место. Я успеваю заметить, что глаза у неё красные, заплаканные. Но тут в класс вплывает Колода, начинается урок французского языка, — надо сидеть смирно и не оглядываться по сторонам.
После урока я подхожу к Меле:
— Меля, почему ты…
— Что я? Что? — вдруг набрасывается она на меня с таким озлоблением, что я совсем теряюсь.
— Да нет же… Меля, я только хотела спросить: ты плакала? Что-нибудь случилось? Плохое?
— Ну, и плакала. Ну, и случилось. Ну, и плохое… — И вдруг губы её вздрагивают, и она говорит тихо и жалобно: — Разве с моей тётей можно жить по-человечески? Для неё что человек, что грязная тарелка — всё одно!
На секунду Меля прижимается лбом к моему плечу.
Лоб у неё горячий-горячий.
Мне очень жаль Мелю. Хочу сказать ей что-нибудь приятное, радостное.
— Знаешь, Меля, мы для Кати…
Меля злобно шипит мне в лицо:
— Молчи! Я не знаю, что вы там для Кати… Я с вами не ходила никуда, я дома оставалась! Ничего не знаю и знать не хочу!
Но тут служитель Степан начинает выводить звонком сложные трели — конец перемене. Мы с Мелей бежим в класс.
Дальше всё идёт, как всегда. Только Меля какая-то беспокойная. И — удивительное дело! — она почти ничего не ест. А ведь мы уже привыкли видеть, что она всё время что-нибудь жуёт… Но сегодня она, словно нехотя, шарит в своей корзиночке с едой, что-то грызёт без всякого аппетита — и оставляет корзинку. Больше того, она достаёт «альбертку» (так называется печенье «Альберт») и протягивает её Кате Кандауровой:
— Хочешь? Возьми.
Небывалая вещь! Меля ведь никогда никого и ничем не угощает!
Катя, не беря печенья, смотрит, как всегда, на Маню. За несколько последних дней между обеими девочками, Маней и Катей, установились такие отношения, как если бы они были даже не однолетки, одноклассницы, а старшая сестра и младшая. И понимание уже между ними такое, что им не нужно слов, достаточно одного взгляда. Вот и тут: Катя посмотрела на Маню, та ничего не сказала, в лице её ничто не шевельнулось, но, видно, Катя что-то чутко уловила в Маниных глазах — она не берёт «альбертки», предложенной ей Мелей, а только вежливо говорит:
— Спасибо. Мне не хочется.
Когда кончается третий урок и все вскакивают, чтобы бежать из класса в коридор, Дрыгалка предостерегающе поднимает вверх сухой пальчик:
— Одну минуту, медам! Прошу всех оставаться на своих местах.
Все переглядываются, недоумевают: что такое затевает Дрыгалка? Но та уже подошла к закрытой двери из класса в коридор и говорит кому-то очень любезно:
— Прошу вас, сударыня, войдите!
В класс входит дама, толстенькая и кругленькая, как пышка, и расфуфыренная пёстро, как попугай. На ней серое шёлковое платье, поверх которого наброшена красная кружевная мантилька, на голове шляпа, отделанная искусственными полевыми цветами — ромашками, васильками и маками. В руках, обтянутых шёлковыми митенками (перчатками с полупальцами), она держит пёстрый зонтик.
Меля, стоявшая около нашей парты, побледнела как мел и отчаянно кричит:
— Тётя!
Только тут мы — Лида, Варя и я — узнаём в смешно разодетой дамочке ту усталую женщину, которую накануне видели в квартире Норейко в растерзанном капоте, с компрессом на голове. Это Мелина тётя…
Сухой пальчик Дрыгалки трепыхается в воздухе весело и победно, как праздничный флажок:
— Одну минуту! Попрошу вас, сударыня, сказать, кто именно из девочек моего класса приходил вчера к вашей племяннице
Мелина тётя медленно обводит глазами всю толпу девочек. Она внимательно и бесцеремонно всматривается в растерянные, смущённые лица.
— Вот! — обрадованно тычет она пальцем в сторону Лиды Карцевой. — Эта была!
Таким же манером она указывает на Варю Забелину и на меня.
Все мы стоим, переглядываясь непонимающими глазами (Меля бы сказала: «Как глупые куклы!»). Что случилось? В чём мы провинились? И все смотрят на нас, у всех на лицах тот же вопрос.
Зато Дрыгалка весела, словно ей подарили пряник.
— Значит, Карцева, Забелина и Яновская? Пре-крас-но… Карцева, Забелина, Яновская, извольте после окончания уроков явиться в учительскую!
И, обращаясь к Мелиной тёте, Дрыгалка добавляет самым изысканно-вежливым тоном:
— Вас, сударыня, попрошу следовать за мной.
И уводит её из класса.
Все бросаются к нам с расспросами, но ведь мы и сами ничего не знаем!
— Ну да! — кричат нам. — Не знаете вы! А за что вас после уроков в учительскую зовут?
Но у нас такие искренне растерянные лица, что нам верят: да, мы, видно, вправду ничего не знаем.
Всё-таки класс взбудоражен страшно.
Все высыпают в коридор. Я тоже хочу идти вместе со всеми, но Меля удерживает меня за руку в пустеющем классе.
— Подожди… — шепчет она. — Одну минуточку! Когда мы остаёмся одни, Меля говорит мне, придвинув лицо к моему:
— Имей в виду — и Лиде с Варей скажи, — она всё врёт! Она ничего не знает — её не было, когда папулька мне канарейку дал: она в это время в другой комнате грязное бельё считала.
— А зачем ты мне всё это говоришь?
— А затем, что и вы никакой рублёвки не видали — понимаешь? Не видали вы! И — всё… А что там после было — у Лиды, у Вари, у тебя, — про это и я ничего не знаю, я же с вами не ходила. Скажи им, понимаешь?
Резким движением Меля идёт к своей парте, ложится, съёжившись, на скамейку лицом к спинке и больше как будто не хочет меня замечать.
Но я вижу, что её что-то давит.
— Меля… — подхожу я к её парте. — Меля, пойдём в коридор. Завтракать…
Меля поворачивает ко мне голову:
— Я тебе сказала: ступай скажи им! Не теряй времени… Ты её не знаешь — она такое может наговорить! — С тоской Меля добавляет: — И хоть бы со злости она это делала! Так вот — не злая она. Одна глупость и жадность… Ступай, Саша, скажи девочкам: вы никакой рублёвки не видали!
Большая перемена проходит скучно. Я передаю Лиде и Варе то, что велела сказать Меля.
Варя широко раскрывает свои большие глаза с поволокой:
— Нич-ч-чего не понимаю!
— А что пониимать-то? — спокойно говорит Лида. — Если спросят, видели ли мы, как Мелин папа дал ей рубль, надо сказать: нет, не видели. И конец. Очень просто.
Может быть, это очень просто, но всё-таки и очень сложно. И неприятно тоже. И всё время сосёт беспокойство: зачем нас зовут в учительскую? Что ещё там будет?
Так ходим мы по коридорам, невесёлые, всю перемену. Зато Дрыгалка просто неузнаваема! Она носится по институту, как пушинка с тополя. И личико у неё счастливое. Поворачивая из малого коридора в большой, мы видим, как она даёт служителю Степану какой-то листок бумаги и строго наказывает:
— Сию минуту ступайте!
— Да как же, барышня, я пойду? А кто без меня звонить будет после четвёртого урока и на пятый?.. Не обернусь я за один урок в три места сбегать.
— Пускай Франц вместо вас даст звонок! — говорит Дрыгалка и, увидя нас, быстро уходит.
Варя встревоженно качает головой:
— Это она нам что-то готовит…
— Стёпку куда-то посылает. В три места… Куда бы это? — гадаю я.
— Очень просто! — серьёзно объясняет Лида. — К доктору, к священнику и к гробовщику!
Как ни странно, погребальная шутка Лиды разряжает нашу тревогу и подавленность: мы смеёмся.
Когда после окончания уроков мы входим в учительскую, там уже находятся три человека. Три женщины. За большим учительским столом торжественно, как судья, сидит Дрыгалка. На диване — тётя Мели Норейко. В стороне от них, в кресле, — бабушка Вари Забелиной.
— Бабушка… — двинулась было к ней Варя.
Но Дрыгалка делает Варе повелительный жест: не подходить к бабушке! Потом она указывает нам место у стены:
— Стойте здесь!
Мы стоим стайкой, все трое. Лида, как всегда, очень спокойная, я держусь или, вернее, хочу держаться спокойно, но на сердце у меня, как Юзефа говорит, «чевось каламитно». Варя не сводит встревоженных глаз со своей бабушки.
— Бабушка… — не выдерживает она. — Зачем ты сюда пришла?
Старушка отвечает, разводя руками:
— Пригласили…
Дрыгалка стучит карандашом о пепельницу:
— Прошу тишины, медам!
Варвара Дмитриевна искоса скользит по Дрыгалке не слишком восхищённым взглядом. Сегодня Варина бабушка нравится мне ещё больше, чем вчера. В стареньком и старомодном чёрном пальто и чёрной шляпке «ток», ленты которой завязаны под подбородком, Варвара Дмитриевна держится скромно и с достоинством. Это особенно подчёркивается, когда видишь сидящую на диване расфуфыренную тётю Мели Норейко. Она обмахивается платочком и порой даже стонет:
— Ф-ф-ухх! Жарко…
Никто на это не откликается.
Проходит несколько минут, и в учительскую входит мой папа! Он делает общий поклон. Дрыгалка ему руки не протягивает, только величественным жестом указывает ему на стул около стола. Папа осматривает всех близорукими глазами. Когда ею взгляд падает на нас, трёх девочек, он начинает всматриваться, прищуриваясь и поправляя очки; я вижу, что он никого из девочек не узнает, хотя видел их у нас только вчера. Это обычная у него рассеянность: бывает, что, встретив на нашей лестнице Юзефу, папа её не узнаёт и церемонно раскланивается с ней, по её словам, «як с чужой пани». Меня он не видит, потому что меня заслоняет Лида Карцева. Я делаю шаг в сторону — и папа узнаёт меня.
— Здравствуй, дочка! — кивает он мне.
Молодец папа! Понимает, что здесь не надо называть меня по-домашнему «Пуговкой».
— Здравствуй, папа! — говорю я.
Дрыгалка строго поднимает брови:
— Прошу не переговариваться!
Папа секунду смотрит на Дрыгалку и говорит ей с обезоруживающей любезностью:
— Прошу извинить меня… Но мы дома приучаем её к вежливому обращению.
Я вижу, что и Лида, и Варя, даже Варвара Дмитриевна смотрят на папу добрыми глазами. Я тоже довольна: мой Карболочка здорово «срезал» Дрыгалку!
Тут в учительскую входит новый человек. Я его не знаю Высокий, с рыжеватой бородкой, чуть тронутой сединой. На некрасивом умном лице выделяются знакомые мне серо-голу бые глаза. Смотрю — Лида кивает этому человек, и он ей тоже. Ясно: это Лидин папа.
Увидев моего папу, незнакомец подходит к нему и дружески пожимает ему руку:
— Якову Ефимовичу!
И папа радуется этой встрече:
— Здравствуйте, Владимир Эпафродитович!
Ну и отчество у Лидиного папы! Сразу не выговоришь!
— Что ж… — говорит Дрыгалка после того, как он тоже садится на стул. — Теперь все в сборе, можно начинать.
— Я был бы очень признателен, если бы мне объяснили, зачем меня так срочно вызвали сюда? — говорит Владимир Эпафродитович.
— Об этом прошу и я, — присоединяется папа.
— И я… — подаёт голос Варвара Дмитриевна.
— Сию минуту! — соглашается Дрыгалка. — Я думаю, мадам Норейко не откажется рассказать здесь о том, что произошло в их доме… Прошу вас, мадам Норейко!
Мне почему-то кажется, что ручка двери шевелится…
Но мадам Норейко уже рассказывает:
— Ну вот, значит… Вчера или третьево дни, что ли?.. нет, вчера, вчера… пришли к нам вот эти самые три девочки. Я думала, приличные дети с приличных семейств! А они напали на моего брата и отняли у него рубль денег!
Что она такое плетёт, Мелина тётя?
— Прошу прощения… — вежливо вмешивается папа. — Вот вы изволили сказать: «девочки напали на вашего брата и отняли у него деньги…»
— Ограбили, значит, наши девочки вашего брата! — уточняет Лидин папа очень серьёзно, но глаза его улыбаются. — Да, ограбили… — продолжает Лидин папа. — Что же, эти девочки были при оружии?
— Н-н-ет… — задумчиво, словно вспоминая, говорит мадам Норейко. — Ружьев я у них не видала…
Тут мужчины — наши папы, — переглянувшись, смеются. Варвара Дмитриевна улыбается. Мы тоже еле сдерживаем улыбку. Одна Дрыгалка не теряет серьёзности, она только становится всё злее, как «кусучая» осенняя муха.
— Позвольте, позвольте! — взывает она. — Здесь не театр, смеяться нечему!
— Да, да… — посерьёзнев, соглашается Лидин папа. — Здесь не театр. Здесь, по-видимому, насколько я понимаю, судебное разбирательство? В таком случае, разрешите мне, как юристу, вмешаться и задать свидетельнице, госпоже… э-э-э… Норейко, ещё один вопрос.
— Пожалуйста, — неохотно соглашается Дрыгалка.
— Госпожа Норейко! Вы утверждаете, что наши девочки напали на вашего брата…
— Ну, не напали — это я так, с ошибкой сказала… Я по-русску не очень… — уступает Мелина тётя. — Они… как это сказать… навалилися на моего брата, стали у него денег просить…
— Вы были свидетельницей этого? — продолжает Владимир Эпафродитович. — Вы это сами видели, своими глазами?
Мадам Норейко нервно теребит взмокший от пота платочек.
Я всё смотрю на дверь… Что хотите, а она чуть-чуть приотворяется, потом снова затворяется… Что за чудеса?
— Разрешите мне, в таком случае, задать вопрос самим обвиняемым — этим девочкам, — говорит Карцев и, получив разрешение Дрыгалки (ох, как неохотно она даёт это разрешение!), обращается ко мне: — Вот вы, девочка, скажите: правду говорит эта дама? — Он показывает на Мел и ну тётку. — Вы в самом деле отняли у её брата рубль?
Я так волнуюсь, что сердце у меня стучит на всю комнату! Наверно, даже на улице слышно, как оно стучит — паммм!.. паммм!.. паммм!..
— Это неправда! Мы ничего у него не отнимали.
— Но если она видела это своими глазами? — продолжает Карцев.
— Это тоже неправда! — не выдерживает Лида. — Она пришла в комнату после того, как её брат уже ушёл.
— А другие девочки это подтверждают?
— Подтверждаем! — очень серьёзно отвечаем мы с Варей.
— Ну что ж? Всё ясно, — подытоживает Лидии папа, обращаясь к Мелиной тётке. — Вас в комнате не было, вы ничего сами не видели. Откуда же вам известно то, что вы здесь утверждаете? Про рубль, отнятый у вашего брата?
— А вот и известно! — с торжеством взвизгивает тётка.
— Откуда?
— От кассирши! — говорит она и смотрит на Карцева уничтожающим взглядом. — Да, от кассирши, вот именно! Пересчитали вечером кассу — рубля не хватает! Кассирша говорит: он взял. Он — брат моего покойного мужа. Мы с ним компаньоны, у нас этого не может быть, чтобы один без другого из кассы хапал. Где же этот рубль? Я не брала. Кассирша говорит: он хапнул. И всё.
Тут уж мне не кажется, что с дверью творится что-то неладное. Она в самом деле открывается, на секунду в ней мелькает Мелина голова в чёрном чепчике, и в учительскую входит.. Мелин папулька!
Он одет по-городскому, в пальто, на голове — шляпа-котелок.
— Тадеуш! — кричит ему тётка. — А кто остался в ресторане? Там же всё раскрадут, разворуют, господи ты мой боженька!
Но Тадеуш Норейко, красный, как помидор, ещё более потный, чем мадам Норейко, выхватывает из кармана рублёвку и швыряет её в лицо своей невестке:
— На! Подавись, жаба!
Он говорит совсем как Меля: «Жяба».
И, обращаясь к присутствующим в комнате людям:
— Компаньонка она моя! За рубль удавится, за злотый кого хотите продаст, мать родную утопит… Хорошо, дочка за мной прибежала: «Иди скорей, папулька, в институт!» Я тут под дверью стоял, я всё-о-о слышал! И всё она тут набрехала, всё! А девочки эти даже близко ко мне не подходили, а не то чтобы на меня нападать!
Перед таким ослепительным посрамлением врагов всем становится ясно, что представление, затеянное Дрыгалкой, провалилось самым жалким образом. Мелина тётка уже не находит возражений и, чтобы скрыть конфуз, вскакивает, словно она вдруг что-то вспомнила:
— Ох, сумасшедший человек! Бросил ресторан — воруйте, кто сколько хочет…
Поспешно раскланявшись с Дрыгалкой, тётка уходит. За ней уходит Мелин папулька.
— Что ж? — говорит папа. — Думаю, и нам можно уходить.
— Судебное разбирательство закончено, — ставит точку Лидин папа.
Дрыгалка порывисто поднимает руку в знак протеста:
— Нет, милостивые государи, не кончено. Я допускаю, что эта дама… может быть… ну, несколько преувеличила, сгустила краски. Но у меня есть собственные наблюдения: эти девочки, несомненно, на опасном пути… они что-то затевают… может быть, собирают между собой деньги на какие-то неизвестные дела!..
— А этого нельзя? — спрашивает папа очень серьёзно.
— Нельзя! — отрезает Дрыгалка и даже ударяет ладонью по столу. — Никакие совместные поступки для неизвестных начальству целей воспитанницам не разрешены. Это действие скопом, это беззаконно!
Тут вдруг Варвара Дмитриевна Забелина, о которой все как бы забыли, встаёт со своего кресла и подходит к столу Дрыгалки. Она очень бледна, и папа спешит подать ей стул.
— А скажите, госпожа классная воспитательница… — обращается она к Дрыгалке, очень волнуясь, и губы у неё дёргаются. — Вот эти девочки, разбойницы эти, грабительницы… они вчера у меня свежее варенье с хлебом ели… Это, значит, тоже незаконно, скопом, да? Стыдно-с! — вдруг говорит она густым басом. — Из-за такого вздора вы этих занятых людей от дела оторвали! За мной, старухой, сторожа прислали — хоть бы записку ему дали для меня… Я шла сюда — люди смотрели: старуху, полковницу Забелину, как воровку, сторож ведёт!.. Ноги у меня подкашивались — думала, не дойду я, не дойду…
— Бабушка!
Варя в тревоге бросается к Варваре Дмитриевне, быстро достаёт из её ридикюля пузырёк с каплями. Папа берёт у неё пузырёк, отсчитывает капли в стакан с водой, поит Варвару Дмитриевну. Она, бледная, совсем сникла, опустилась на стул и тяжело дышит.
— Бабушка… — плачет Варя. — Дорогая… Пойдём, я тебя домой отведу!
— Я сейчас бабушку вашу отвезу, — говорит папа. — Отвезу домой и посижу с ней, пока ей не станет лучше. Хорошо?
— Спасибо… — шепчет с усилием Варвара Дмитриевна.
Папа бережно помогает старушке встать и ведёт её к двери.
Лидин папа, поклонившись, тоже уходит.
Мы остаёмся в учительской вместе с Дрыгалкой. Она подходит к окну, стоит к нам спиной — она словно забыла о нас… Но нет, не забыла! Повернув к нам голову, она коротко бросает:
— Можете идти!
Под каменным взглядом её глаз мы гуськом уходим из учительской. Ох, отольётся ещё, отольётся нам то унижение, которое Дрыгалка вынесла, как она думает, из-за нас, а на самом деле из-за своей собственной злобности и глупости!
Мы выходим на улицу. Там дожидается нас Карцев. Моего папы и Варвары Дмитриевны нет.
— Они уже уехали, — отвечает Лидин папа на наш немой вопрос. — Яков Ефимович увёз эту милую старую даму.
Лидин папа прощается с нами и уходит.
— Девочки! — предлагает Лида. — Проводим Варю домой?
Конечно, мы принимаем это предложение с восторгом и идём по улице. Но не тут-то было! Со всех сторон бегут к нам девочки — из нашего класса и из других классов, — взволнованные, гласные; они, оказывается, дожидались нас во всех подворотнях, в подъездах домов: хотели узнать, чем кончится «суд» над нами. Они засыпают нас вопросами. Впереди всех бегут к нам Маня, Катя Кандаурова и Меля.
— Ну что? Как?
Катя всхлипывает и жалобно сморкается:
— Мы с Маней так боялись…
Во всех глазах — такая тревога, такое доброе отношение к нам! Дрыгалка прогадала и в этом: она хотела разъединить нас, четырёх девочек, а на самом деле самым настоящим образом сдружила нас и друг с другом и со многими из остальных учениц нашего института.
Меля крепко прижимается ко мне.
— Меля, это ты привела своего папу?
— А то кто же?.. Я сразу за ним побежала.
Наконец мы прощаемся с толпой девочек и уходим.
Меля остаётся и нерешительно смотрит нам вслед.
— Меля! А ты? — окликает Лида. — Что ты стоишь, «как глупая кукла»? Идём с нами — провожать Варю!
— А мне можно? — робко спрашивает Меля.
— А почему же нет?
Меля всё так же нерешительно делает несколько медленных шагов.
— Девчонки! — вдруг говорит она. — Вы мне верите? Вы не думаете, что я про вас тётке наболтала, как последняя доносчица — собачья извозчица?
— Да ну тебя! — машем мы все на неё руками. — Никто про тебя ничего плохого не думает, никто!
А Варя, скорчив очень смешную гримасу, говорит, передразнивая любимое выражение Мели:
— Меля! Никогда я такой дурноватой девочки не видала!
Мы все смеёмся. А Меля плачет в последний раз за этот день — от радости.
Глава седьмая. ТЕ ЖЕ — И СЕНЕЧКА!
Как-то, несколько месяцев тому назад, Юзефа рассердилась на меня за какое-то моё «дивачество» (чудачество, озорство) и сказала мне в сердцах:
— Занатто (слишком) распустилась! Звестно дело, один ребёнок, одынка! Никто не серчает, никто не ругает… Думаешь, всегда одынкой будешь? Вот скоро мамаша другого ребёночка родит, та ещё и сына! От тогда заплачешь…
Я очень обрадовалась! Стала без конца приставать к Юзефе с расспросами: когда же это будет? Когда мама родит нового ребёночка? Откуда Юзефа знает, что он будет сын, а не дочка? Наверно, Юзефе надоели мои приставания, и, чтобы отвязаться от меня, она сказала, что просто пошутила. Я немножко огорчилась: мне очень хотелось иметь брата или сестру Потом прошло ещё сколько-то времени, и я совсем позабыла об этом разговоре. Ну, не будет — значит, и не будет, о чём же ещё вспоминать!
Иногда папа говорил мне по разным поводам:
— Не приставай к маме!
Или:
— Не буди маму, дай ей поспать!
Или ещё:
— Не толкай маму, не наваливайся на неё! Не позволяй ей наклоняться. И не карабкайся к ней на колени, как на дерево!
Но всё это не казалось мне странным. Ну конечно, к маме не надо приставать зря (а я ведь частенько пристаю! да ещё по каким пустякам!). Не надо будить маму — это же свинство: человек спит, а ты его будишь! Не надо толкать маму и наваливаться на неё. И нехорошо, чтобы старый человек наклонялся, надо поднять с полу то, что ей нужно. (В глубине души я считаю, что мама очень старая, ей ведь уже целых тридцать лет!)
Не так давно мы коротали вечер втроём: мама, Поль и я. Поль что-то вязала крючком, а мы с мамой играли в «театр». Я надела на себя мамин капот, обвязала голову полотенцем, как чалмой, и орала на весь дом:
— Сюда, сыны ада! Сюда!
Затем, дождавшись, пока прибежали воображаемые сыны ада, я стала тыкать пальцем в сторону мамы и мрачно рычать:
— Эта женщина — враг! Она предаст всех нас! Принесите гранаты, кипящей смолы — мы её сожжём!
Я старалась изо всех сил, шипела, прыгала, подкрадывалась к маме (всё это я незадолго перед тем читала в одной книге), но мама сидела совершенно спокойно, словно она и не слышала моих воплей и криков. Отсутствующими глазами мама уставилась куда-то в сторону самовара, стоящего в углу на столике. Уж не знаю, чем ей этот самовар вдруг так понравился!
Наконец я не выдержала и сказала маме с обидой:
— Ну, почему ты так сидишь, как будто ты меня не видишь и не слышишь? Ты должна ужасно испугаться, упасть на колени. Ты должна просить жалобным голосом: «О великолепный! О роскошный предводитель разбойников! Умоляю вас, пожалейте моих маленьких детей!..» Ну вот, ты вдруг ещё и улыбаешься ни с того ни с сего! Твоих маленьких детей хотят бросить в огонь, а тебе хоть бы что!
Мама и Поль смеялись всё громче и веселее! Я совсем рассердилась и сказала чуть не со слезами:
— Если бы у меня была сестра… или хоть какой-нибудь завалящий брат… Я бы играла не с тобой, а с ними, и всё было бы отлично. Со взрослыми невозможно играть!
— А знаешь, — сказала вдруг мама, перестав смеяться, — у тебя, может быть, скоро будет брат или сестра.
— Правда? — обрадовалась я. — Самая, самая, самая правда?
— Самая, самая, самая! — подтвердила мама.
— Ох, тогда будет настоящая игра!
Тут вмешалась Поль:
— Только не забывай: это будет крохотный-крохотный ребёночек! Он ещё не будет ни ходить, ни говорить, ни понимать, что ему говорят.
Моя радость немного слиняла. Но тут же я вспомнила рассказы Поля и спросила:
— А как же ты говорила, у тебя был брат и вы всегда играли вместе во все игрь?
— Мы были близнецы, — сказала Поль. — Я была старше моего брата всего на одну минуту. А тебе придётся подождать, пока твой брат подрастёт.
Я сделала ещё одну попытку уладить это дело, попросила маму сделать так, чтобы мой будущий брат (или сестра) были моими близнецами. Мама сказала, что она этого не может.
В общем, я тогда поверила в приращение нашей семьи, но всё-таки мне почему-то казалось, что это будет ещё о-о-очень не скоро!
В ближайшее после этого воскресенье мама днём, после обеда, чувствует себя нездоровой и ложится в постель Папа приходит в комнату, где я только что кончила готовить уроки к понедельнику и укладываю в ранец всё, что нужно мне к завтрашнему дню. Это правило, которому меня научила Поль: всё должно быть уложено накануне, чтобы утром, не задерживаясь, схватить готовый ранец и бежать в институт. Ещё Поль требует, чтобы я, ложась спать, не разбрасывала свою одежду и обувь как попало, а связывала всё это аккуратно в тючок и клала на стуле около кровати: если ночью, например, пожар, — у тебя всё готово, пожалуйста, бери тючок с одеждой и беги!
Папа смотрит на то, как я укладываю в ранец задачник Евтушевского, грамматику Кирпичникова, французский учебник Марго. Глаза у папы отсутствующие, он чем-то озабочен.
— А у мамы… — говорит он, глядя поверх моей головы, — у мамы, по-видимому, ангина…
— Мама больна? — И я бросилась к двери, чтобы бежать к маме.
Папа перехватывает меня на бегу:
— Ох, какая беспокойная! Ангина — это заразительно, нельзя тебе туда. Я даже подумываю, не отправить ли тебя на денёк к бабушке и дедушке… А? Подумай, Пуговка, к бабушке к дедушке! Хочешь?
В другой раз я бы очень обрадовалась… У бабушки и дедушки все мне рады, бабушкины лакомства — замечательные, и все счастливы, если я ем их как можно больше Но сегодня мне почему-то беспокойно: мама больна, и даже зайти к ней нельзя…
— Папа, а мама выздоровеет? Ангина — это не очень опасно?
— Вздор какой! Ну, переночуешь сегодня там. А может быть, ещё сегодня вечером мы пришлём за тобой Юзефу.
Мы с Полем идём к бабушке и дедушке. Я несу свой ранец и замечательную новую книгу — «Серебряные коньки». Поль несёт в руке узелок с моей ночной рубашкой, зубной щёткой и другими необходимыми «причиндалами». Я прощаюсь с мамой через дверь. Юзефа двадцать раз целует меня, как будто я уезжаю навеки в Африку.
Ни бабушки, ни дедушки мы дома не застаём. В доме есть только их новая служанка, которой я раньше никогда не видала. Глаза у неё добрые, приветливые, немного испуганные. А когда она улыбается, то улыбка эта расплывается полукружьями от подскульев к крыльям рта — мягкая улыбка, ласковая.
Поль уходит — она торопится на урок, — и я остаюсь одна с незнакомой служанкой. По-русски она говорит затруднённо, не сразу подбирая слова, но понять её можно. Она только неизменно говорит про женщин: «она пришёл», а про мужчин: «он пришла». В общем, сговориться можно, тем более что я понимаю по-еврейски.
Заглядывая мне в лицо своими добрыми глазами, служанка спрашивает:
— Може, хочете кушать? Там один каклет… ув буфет… Га?
— Нет, я обедала… А как ваше имя? — спрашиваю я.
— Ой, не надо! — пугается старуха.
— Почему?
— Вы будете с мене смеяться… — И, неожиданно застыдившись, она даже прикрывает лицо передником.
— Я не буду смеяться… Скажите!
— Мой имя «Дубина».
Никогда я такого имени не слыхала! То ругательство, а не имя. А старуха, видя моё изумление, объясняет:
— От так… Скольки я живу, — много лет! — всё Дубина и Дубина! «Ой, что это за дубина — молоко убежал! Ой, дубина, мясо сгорел! Дубина, обед готов? Дубина, ты купил курицу или ты не купил курицу?» И, знаете, — она тихонько смеётся, — я тоже так теперь говорю. Прихожу домой с базар, стучу в дверь, — оттуда спрашивают: «Кто там?» А я говорю: «Это я, Дубина…»
— Так это же не имя! — пытаюсь я объяснить.
Она тихонько смеётся про себя.
— А я привык, — говорит она. — От я пошёл у полицию… насчёт паспорт… Околоточный кричит: «Бася Хавина! Бася Хавина! Игде Бася Хавина?» А я сижу, я забыл (она произносит «забул»): Бася Хавина — это же ж я! Я сидел, думал, околоточный меня позовёт: «Игде Дубина?» Я привык…
— Я вас буду Басей звать, — говорю я.
Она осторожно гладит меня по голове:
— Как себе хочете, барышня…
— Бася, мой папа не позволяет, чтоб меня «барышней» звали. И мама тоже не позволяет. Я не барышня, я — Сашенька…
— Шасинька… — повторяет она и вдруг прижимает к себе мою голову. — Шасинька…
В эту минуту возвращается домой бабушка. На наши головы — Басину и мою — изливается целый ливень вопросов, на которые бабушка вовсе не требует ответа. Упрёков, на которые она не ждёт оправданий или извинений. И, наконец, просьб и приказаний, которые бабушка тут же берётся исполнять сама.
— Китценька моя! — радуется она мне. — Ты здесь?
— Да, — начинаю я, — я пришла потому, что папа…
— Что папа? — пугается бабушка. — Он, сохрани бог, заболел?
— Нет, что ты, бабушка! Папа здоров, только он мне сказал, что мама…
— Боже мой! — перебивает меня бабушка. — Что с мамой? Что ты меня мучаешь? Что с мамой?
Тогда я выпаливаю быстро, залпом, чтоб не дать бабушке перебить меня:
— У мамы болит горло, называется «ангина», она скоро поправится!
Бабушка на секунду замолкает. В глазах у неё какая-то мысль, которою она со мной не делится. Но тут же она обращается к Басе по-еврейски:
— А что с самоваром? Он стоит себе в углу, как городовой, а людям пора чай пить!
Но самовар не стоит в углу, как городовой, — он работает, он вот-вот закипит!
Бабушка в своей хлопотливости делает сразу сто дел. Она развязывает ленты своей шляпки, влезает на табуретку, достаёт из буфета варенье и свежеиспечённый пирог «струдель», приносит из кладовки печенье, пряники. Блюдца, чашки, ложечки — всё вертится в бабушкиных руках, как у фокусника: быстро, ловко, точно.
— Такая гостья! Такая гостья! — не перестаёт ахать бабушка. — Сколько у меня внучек? У меня только одна внучка!
И вдруг бабушка застывает на месте, в глазах её ужас, как если бы она увидела, что её «одна внучка» лежит зарезанная!
— Ой! — хлопает себя бабушка по лбу. — А обедать?
— Бабушка, нет!..
— Ну конечно, «нет»! Она сегодня не обедала! Сейчас я дам тебе всё, всё… Минуточку!
Я кричу оглушительно, на весь дом, чтоб перекричать бабушку:
— Нет, я не буду обедать! Я обедала дома!
— Так что же ты мотчишь? — укоризненно говорит бабушка. — Я же не знаю, или ты обедала, или ты не обедала!
Я смотрю на бабушку, я даже немножко посмеиваюсь в душе над тем, что она не даёт никому договорить, перебивает на полуслове. И вспоминаю один случай, после которого все в семье стали поддразнивать бабушку шутливым вопросом:
«Так кушетку сломали? Пополам?»
Случай это вот какой. В нашем городе есть зубной врач, самый лучший из всех — доктор Пальчик. На одной лестнице с его квартирой, только этажом выше, помещается фотографическое ателье Хоновича.
Доктор Пальчик — очень мягкий, на редкость спокойный и немногословный человек, его, кажется, ничем не удивишь! Когда однажды в его квартире внезапно обрушился потолок (самого доктора и его домашних, к счастью, не было дома), то в городе, где очень любили и уважали доктора Пальчика, повторяли в шутку, будто бы доктор, войдя в свою полуразрушенную квартиру, засыпанную обвалившейся штукатуркой, спокойно прошёл к своему зубоврачебному креслу с бормашиной и совершенно невозмутимо сказал:
«Кто следующий? Попрошу в кабинет».
И вот однажды доктор Пальчик, отпустив очередного больного, вышел, как всегда, в свою приёмную, полную пациентов, ожидающих своей очереди к зубоврачебному креслу с бормашиной, и сказал своё обычное:
«Кто следующий? Попрошу в кабинет».
В эту минуту какая-то женщина, сидевшая в углу на кушетке, крикнула доктору:
«Посмотрите на меня — я сижу хорошо?..»
Доктор Пальчик окинул её своим взглядом, не знающим удивления, и спокойно ответил:
«Да. Хорошо».
И увёл очередного пациента в кабинет. Когда через сколько-то времени доктор отпустил этого пациента и вышел в приёмную, чтобы пригласить следующего по очереди, то женщина, сидевшая на кушетке, снова крикнула:
«Так, значит, хорошо я сижу, да?»
И доктор опять добросовестно оглядел её и невозмутимо сказал:
«Хорошо, да», — и ушёл в кабинет.
Так продолжалось часа два. Пациентов было много, доктор выпускал одних из кабинета, приглашал новых, — а женщина на кушетке (она пришла позднее других, и ей пришлось ждать долго) задавала доктору всё тот же вопрос, и он безмятежно давал ей всё тот же ответ.
Наконец очередь дошла до неё. Доктор Пальчик, выйдя из своего кабинета, сделал ей приглашающий жест.
«Как? — закричала женщина, встав с кушетки и возмущённо наступая на доктора Пальчика. — Я сижу здесь, как дура, целых два часа, а вы ещё не сняли с меня фотографию?»
Так объяснились её предыдущие загадочные вопросы: она ошиблась этажом и сидела два часа у зубного врача, думая, что снимается у фотографа!
Один из моих дядей, Николай, брат папы, придя к бабушке, хотел посмешить её этой историей.
«Только, мамаша, — дядя Николай предостерегающе поднял указательный палец, — слушай внимательно, не перебивай, не мешай мне говорить!»
«Кто мешает? — обиделась бабушка. — Кто перебивает? Я этого никогда не делаю…»
«Так вот… — начал рассказывать дядя Николай. — К доктору Пальчику пришла на приём какая-то женщина, села у него в гостиной на кушетку…»
«Боже мой! — всплеснула руками бабушка с волнением, с огорчением за доктора Пальчика, с негодованием по адресу этой незнакомой женщины. — И эта нахалка сломала кушетку доктора Пальчика? Пополам?»
Так все близкие и стали с тех пор поддразнивать бабушку сломанной кушеткой.
Пока я сижу за столом («такая гостья, такая гостья!») и уписываю бабушкино угощение, в сенях появляется мальчик лет четырнадцати-пятнадцати, длинный, как жердь, с каким-то «извиняющимся» выражением лица, как если бы он говорил: «Ах, простите, пожалуйста, это я», «Ах, извините, я пришёл», «Не сердитесь, я больше не буду»… С необыкновенной старательностью, как все люди, не имеющие калош, он вытирает в передней ноги о половичок.
— Пиня пришёл… — говорит бабушка. — Здравствуй, Пиня!
Пиня снимает с себя пальто, до того тесное, словно он снял его с восьмилетнего ребёнка, и бережно, осторожно вешает на вешалку.
— Ой, Пиня! Это же пальтишко тебе как раз до пупка! А где твоё новое пальто?
— Дождь, — говорит Пиня. — Жалею носить… Пиня — чужой мальчик, он приехал из местечка Кейданы в наш город учиться. Ни в какое учебное заведение Пиню, конечно, не приняли, да он об этом и не помышлял — чем бы он платил за ученье? Отец Пини, бедняк ремесленник, прислал своего мальчика к дедушке, которого, он когда-то знал. Дедушка нашёл знакомого гимназиста, который согласился даром обучать Пиню предметам гимназического курса. Кроме того, дедушка обеспечил Пиню обедами в семи знакомых семьях: по воскресеньям Пиня обедает у моих дедушки и бабушки, по понедельникам — у Парнесов, по вторникам — у Сольцев, по средам — у Роммов… И так всю неделю. Жить его пустила к себе (тоже, конечно, даром) восьмая семья: Пиня устроился у них в чуланчике. Деньги на тетради, книги, чернила, на свечку, мыло, баню и другие мелкие расходы даёт Пине моя мама. Иногда она дарит ему кое-что из папиного старого белья. Она же дала Пине старое папино пальто, то самое, которое Пиня «жалеет носить» в дождь. Как-то случилось, что у Пини вконец развалились те опорки, которые он гордо называл «башмаки». Это было стихийное бедствие… ну, как наводнение, что ли, которое преградило бы Пине путь к знанию, к жизни. К учителю ходить надо? Ходить обедать каждый день в которую-нибудь из кормящих его семей надо? К счастью, у одних знакомых мама выпросила для Пини старые «штиблеты» их сына…
Таких мальчиков, как Пиня, рвущихся к ученью и отторгнутых от него, слетающихся из тёмных городков и местечек, как бабочки на летнюю лампу, в нашем городе многие, многие сотни. Они живут голодно, холодно, бездомно, но учатся со свирепой яростью: одолеть! понять! запомнить! Они сдают экстернами экзамены — кто за четыре, кто за восемь классов — при Учебном округе, где их проваливают с деловитой жестокостью, пропуская лишь одного-двух из полусотни. Но на следующий день после провала они подтягивают потуже пояса — и снова ныряют в учёбу. Папа всегда говорит мне:
«Выйдет ли из тебя, Пуговка, человек, этого я ещё не знаю. Я только хочу этого! Но что из этих мальчиков выйдут настоящие люди, в этом у меня нет ни малейшего сомнения».
Сегодня — в воскресенье — Пиня пришёл обедать к бабушке. Она усаживает его за стол, наливает и накладывает ему полные тарелки, нарезает для него хлеб толстыми ломтями — ешь, мальчик, не стесняйся!
Отступя немного, бабушка смотрит на меня и Пиню, занятых едой.
— От это хорошо! — говорит она с удовлетворением. — Я люблю детей. Я люблю, чтоб за столом было много детей. У меня было семь детей! Семь мальчиков! И к ним ходили в гости ихние товарищи, другие мальчики, — ой, как было весело!
— Как же их накормить? — спрашивает Пиня почти с ужасом.
— Чай есть? — смеётся бабушка. — Хлеб есть? Картофля есть? От все и сыты!
Приходит дедушка. Он что-то говорит бабушке негромко и неразборчиво для меня. Бабушка хватается за голову и бросается к своей шляпке, висящей на вешалке. Дедушка берёт бабушку за руку и что-то говорит ей; она покорно отходит от вешалки и садится за стол, где мы сидим с Пиней.
Бабушка очень взволнована.
— Что-нибудь случилось? — пугаюсь я.
— Ничего не случилось, — спокойно говорит дедушка. — Сейчас мы все будем чай пить, потом почитаем газету и ляжем спать… Ну что, что? — говорит он бабушке, снова рванувшейся к своей шляпке. — Я тебе говорю: оставь в покое свой шляпендрон! Завтра утром мы с тобой пойдём и всё узнаем… А что это у Пини за книжка?
Дедушка раскрывает Пинин учебник и говорит с уважением:
— Ого! Это же алгебра! Вот какой у нас Пиня!
Я беспокойно перевожу глаза с бабушки на дедушку, с него на неё… Что происходит?
Меня укладывают спать в соседней комнате на диванчике. Я долго не засыпаю — меня мучает беспокойство: как там мама со своей ангиной?
Я лежу и всё время вижу, как за обеденным столом под лампой три человека читают — разно и по-разному. Пиня, которому бабушка сказала: «Что тебе жечь свою свечку? Сиди и учись под нашей лампой!» — раскрыв книгу, учится, повторяя что-то про себя, подняв глаза вверх, к потолку, словно клянётся в чём-то. В углу правого глаза у Пини нечто вроде бородавки, издали она кажется застывшей чёрной слезой… Ох, сколько чёрных и горьких слёз прольёт Пиня, пока осилит учёбу, сдаст экзамены экстерном при Учебном округе и «выйдет в люди»!
Дедушка читает газету. Он вообще только газеты к признаёт. К книгам он относится, как к чему-то, что, может быть, кому-нибудь и нужно, и интересно, но ему, дедушке, нет. Зато газеты он читает, можно прямо сказать, со страстью! Сам он выписывает «Биржевые ведомости», которые и прочитывает утром за чаем. Но он ещё ежедневно, заходя к нам, берёт и уносит те газеты, которые выписывает папа. Вечером у дедушки — газетный пир! Он снова перечитывает все газеты от доски до доски, он читает и то, что в них написано, и то, что, по его мнению, в них подразумевается, — он читает и строки, и то, что между строк. Он читает «с переживаниями»: то он одобрительно кивает, то укоризненно качает головой; иногда во время чтения у него вырывается по адресу какого-либо государственного деятеля:
— А, чтоб ты пропал, паршивец!
— Дедушка, кого ты ругаешь? — спрашиваю я.
— Да ну… Бисмарка, чтоб его холера взяла!
Бабушка читает свои книги очень сдержанно. А сегодня вечером, когда она, я чувствую, чем-то обеспокоена, губы её непрерывно движутся: она читает молитвенник.
Утром, когда я просыпаюсь, ни бабушки, ни дедушки дома уже нет. Куда они ушли, Бася не знает.
Классный день проходит, как всегда, скучно и серо. К тому же мне грустно… Мне кажется: все меня забыли и бросили. Никто не пришёл ни вчера вечером, ни сегодня утром.
Но после конца уроков я спускаюсь в швейцарскую и застаю там Поля.
— Поль! — радуюсь я. — Ты пришла за мной?
Поль улыбается, но я вижу, что она недавно плакала. Меня снова охватывает беспокойство. Кое-как напяливая на себя пальто, подхожу к Полю близко-близко. Обниматься в присутствии всех девочек неудобно, но я беру добрые, умные руки Поля в свои, прижимаю их к себе:
— Поль… что с мамой?
— Она поправилась! — весело говорит Поль. — Не надевай шляпу задом наперёд, дуралей!.. Дома — радость!.. Нет, не скажу: сюрприз!.. Застегни пальто на все пуговицы. Боже мой, какой бестолковый ребёнок! Мы сейчас пойдём с тобой в Ботанический сад.
— А почему не домой?
— Домой пока нельзя — там идёт уборка. Мы пойдём в Ботанический сад и будем там обедать в ресторане. Вот!
— Там, где работают Юлькины мама и папа?
— Да, там, где работают родители Жюли (так Поль всегда называет Юльку).
Ох, как славно! И Юльку я увижу (я её уже больше недели не видела), и обедать я буду в ресторане в первый раз в жизни! И ещё дома — сюрприз! Одним словом, всё как в сказке. Сплошное волшебство — незачем и расспрашивать, почему, отчего, откуда и как. Ведь в сказке когда написано: «В эту минуту появилась прекрасная фея», — не спрашиваешь, с неба ли она упала, на извозчике ли приехала, какие на ней были туфли.
В Ботаническом саду стало как-то прозрачнее — много листьев облетело, на каштанах жёлтая листва вперемежку с зелёной Спелые каштановые коробочки со стуком падают с деревьев и разбиваются о землю.
Мы садимся за столик на веранде ресторана. Степан Антонович, отец Юльки, подбегает к нам. С салфеткой, перекинутой через руку, улыбающийся и приветливый, он подаёт нам меню.
— Как Юля? — спрашиваю я.
— Очень хорошо! — И тёплая искорка зажигается в глазах Степана Антоновича. — Она на речке.
Мы с Полем изучаем ресторанное меню.
— Поль! — захлёбываюсь я. — Какие названия! Консомэ с пирожком! Эскалоп! Ризи-бизи! Тутти-фрутти! Ты когда-нибудь такое слыхала?
— Дурачок! — посмеивается Поль. — Надо смотреть не на название, а на цену. Чтоб не выйти нам с тобой из бюджета!
Мы долго выбираем, нам помогает советами Степан Антонович.
— Степан Антонович! — не выдерживаю я. — Что такое «ризи-бизи»?
— А это рис… Каша рисовая со сладкой подливкой… Прикажете?
Брр! Я терпеть не могу риса. Поль смотрит на меня с весёлой насмешкой… Нет, я не хочу «ризи-бизи»!
Наконец всё заказано. Два консомэ с пирожком, два эскалопа и тутти-фрутти…
Консомэ оказывается чистым бульоном, ничем не заправленным, но подают его почему-то не в глубоких тарелках, а в больших белых чашках. Это всё-таки интересно! Эскалоп — просто телячий шницель, а тутти-фрутти — обыкновенный компот. Но какие красивые, звучные названия!
Я, конечно, трещу без умолку. Полю приходится то и дело одёргивать меня, чтобы я творила тихо, прилично, не повышая голоса.
— Знаешь, Поль? Жила где-то девушка, её фамилия была «Консомэ», мадемуазель Консомэ! И у неё родилось двое детей-близнецов. Девочка Тутти и мальчик Фрутти… Да, Поль? А ещё через полгода — опять близнецы: Ризи и Бизи.
Расплатившись за обед, мы идём на берег — к Юльке.
Но Юльки там не оказывается. Мы ходим, ищем её по берегу, заглядываем в прибрежные кусты — нет Юльки! Наконец она появляется — спешит к нам, слегка ковыляя на нетвёрдых ещё ногах.
— Где ты была, Юля?
Юлька очень смущается:
— Нет, это я тут… так… в одно место…
Только увидев Юльку, я понимаю, как я по ней соскучилась! Смотрю в её серьёзные серые глаза, вижу родинку, похожую на мушку, вижу передние зубы, надетые друг на друга «набекрень», — и радуюсь!
И Юлька тоже радуется мне, всё заглядывает в мои глаза, всё повторяет: «Ох, Саша, Саша…»
— Что «ох, Саша»? Что я сделала плохого?
— Нет, нет, ты хорошее сделала, ты пришла! Это я говорю «ох, Саша, Саша!» — значит, ох, как я рада!
Поль ходит по берегу, восхищается осенней красой быстрой речки, рябой от опавших листьев. По временам она нагибается, чтобы сорвать осенний цветок.
— Знаешь, Саша, — говорит Юлька, — а ведь мы, наверно, скоро уедем.
— Куда?
— Вот не могу сказать… В этот… как его… нет, забыла, как этот город называется. Там татусенькин брат живёт. И он зовёт нас приехать до него. Пишет, там будет работа и для татуси и для мамци. Лучше, чем здесь… И там можно будет меня лечить. Какие-то ванны. Чтоб я совсем, совсем здоровая была!
Юлька говорит это, отвернувшись от меня, а я слушаю её слова и смотрю в землю. Когда мы с Юлькой снова встречаемся взглядом, у нас обеих слёзы на глазах.
— Уедете? — говорю я, и мне горько-горько.
— Ага… — всхлипывает Юлька. — Я не через то плачу, что нам будет плохо там, не-е, борони боже! С татусей везде хорошо будет! А только… только потому… — Голос Юльки снижается почти до шёпота.
— И я тоже потому… — шепчу я.
Мы обе понимаем: нам будет тяжело расстаться. Словно бы и не очень много времени прошло с того дня, как я, убегая от «вора», попала на чужой двор и впервые услышала чистый голосок Юльки, льющийся из погреба:
Но сколько потом было тревоги и мучительной жалости, когда Юлька умирала от крупозного воспаления лёгких! И как славно мы с ней играли, когда она выздоровела, как весело бывало нам вместе и в погребе, и здесь, на берегу речки… Здесь по театральным афишам я учила Юльку читать, а Поль научила её болтать по-французски.. И вот расстаёмся, — и словно всего этого не было.
— Саша, я тебе скажу один секрет… Видишь там, около ресторана, дом? Это тиятр. Когда вы пришли, я там была. Я туда часто хожу — я ведь уже хорошо могу ходить! — а там поют… Как поют, Саша! Утром они поют в своих платьях, — называется «репетиция». Сторож меня пускает, очень вежливый старичок! Я сховаюсь в уголке и слушаю… И, знаешь, я всё, всё помню!
И Юлька тихонько напевает своим серебряным голоском:
Знаешь ли чудный край, где всё блеск и краса,
Там, где розы цветут и лимон золотится?
Странное дело! Песня началась в Юлькином горле, — я видела, как Юлька начала петь, — но звуки полились широко, сильно, их вобрали деревья, словно их отразила поверхность реки… Мне уж кажется, что поёт не Юлька, а всё кругом! Подошедшая Поль тоже смотрит на Юльку с радостным удивлением.
Туда, туда, о любимый мой,
Хотела б я улететь с тобой! —
поёт Юлька и словно золотистые мыльные пузыри, нежно позванивая, вылетают из её горла. Голос Юльки поднимается высоко-высоко — в самое небо! Он перелетает через зубчатый частокол елей на другом берегу реки и слышен оттуда, пропадая, словно тая.
Поль и я смотрим с восхищением то на Юльку, то друг на друга.
— Кто научил тебя так петь, Жюли?
— Никто, — говорит Юлька, застенчиво оправляя на себе платьице. — Никто не учил. Это я у них в театре слышала. Называется «Миньона»… Теперь больше не услышу — они на зиму в городской театр переезжают…
— Ох! — спохватывается Поль, взглянув на часы. — Домой, домой, Саш!
По дороге к дому я вдруг вспоминаю:
— Поль, а какой сюрприз ты мне обещала?
Поль делает непроницаемое лицо.
— Помнишь, — говорит она таинственно, — в сказке король попал во время охоты в когти льва и стал просить льва: Отпусти меня!" А лев говорит: «Хорошо, отпущу, но только обещай отдать мне то, чего ты в своём доме не знаешь!» Помнишь?
— Конечно! И оказалось, что, пока король был на охоте, королева, его жена, родила хорошенькую-хорошенькую деточку, дочку…
Я схватила Поля за руки и радостно заглядываю ей в глаза:
— Поль! У нас дома кто-нибудь родился, да?
— Да! — отвечает Поль, и её добрые глаза-черносливины влажно блестят. — Сегодня утром, пока ты была в школе, у твоей мамы родился сынок — значит, твой брат.
— А как его зовут?
— Его назвали Семёном — в честь твоего покойного дедушки, отца твоей матери. Но все в доме уже зовут его «Сэнечка», «Сэньюша»…
Я мчусь домой такой рысью, что Поль еле поспевает за мной. Мне не терпится увидеть Сенечку-Сенюшу! Я засыпаю Поля глупейшими вопросами: «А ноги у него есть? А почему, когда рождается ребёнок, надо обедать в ресторане?»
— Потому что Жозефин (Юзефа) весь день возилась с малюткой и ей некогда было приготовить обед.
— А почему мы с тобой столько часов слонялись по городу, вместо того чтобы идти домой?
— Только тебя там не хватало! В доме был страшный беспорядок. Надо было всё прибрать…
— А почему, когда ты пришла за мной в институт, ты была заплаканная… Была, была! Поль, почему ты плакала? Скажи, почему?
Поль отвечает не сразу:
— Потому что мне было очень жаль твою маму, она так страдала… Очень тяжело рождает женщина ребёнка! И ещё я боялась: а вдруг твоя мама умрёт и маленький мальчик умрёт? Я плакала от страха. А потом, когда всё обошлось — и мама осталась жива, и мальчик, такой ангелок, тоже остался жив, — ну, тут, конечно, я заплакала от радости! И мы все обнимались: и Жозефин, и мсье ле доктер, и я, и старый доктор с его незастёгнутыми пуговицами… Только маму твою мы не обнимали, потому что она, бедняжка, ещё очень слаба, мы боялись ей повредить.
И вот мы с Полем добежали до дому. Уже на лестнице нам ударяет в нос тяжёлый запах лекарств, дезинфекционных средств — карболки, йодоформа. Это меня не очень пугает: так всегда, только слабее, пахнет и от моего папы, и от Ивана Константиновича Рогова, и от всех других хирургов, папиных товарищей.
Из передней я сразу рвусь в мамину комнату, но меня перехватывает Александра Викентьевна Соллогуб, акушерка-фельдшерица, всегда работающая с папой:
— Ш-ш-ш!.. Мама спит!
Тут же, взволнованные, притихшие, сидят дедушка и бабушка. Бабушка вытирает глаза.
И вот из соседней комнаты выплывает Юзефа — она торжественно несёт что-то похожее издали на белый торт. Но это не торт! Эго маленький, как куколка, совсем маленький человечек, спелёнатый и вложенный в красивый пикейный «конвертик». Из конвертика видно только красненькое личико, головка в чепчике с голубыми бантиками. Он мирно спит.
— Тиш-ш-ша! — предостерегающе шипит на меня Юзефа.
— Это он, да? — шепчу я.
— А кто же ещё? Звестно дело, ен. Наш Сенечка!
От человечка пахнет чем-то спокойным и милым — нежной кожицей, молоком, мирным сном.
— А поцеловать его можно?
— Нельзя! — говорит подоспевший папа. — Он ещё очень маленький, а в нас всех много всякой заразы, мы можем занести и передать ему. Вот не могу уговорить Юзефу, чтобы не дышала на него бациллами, чтоб завязывала нос и рот марлей. Не хочет, старая малпа (обезьяна)! — шутит папа.
— И не хочу! — яростно шепчет Юзефа. — Пускай я малпа, но я не собака, чтоб в наморднике ходить!
Мы с Полем прибежали домой как раз к самому интересному: сейчас Сенечку будут купать! Словно предчувствуя, что с ним собираются что-то делать, он просыпается, открывает глазки — они какого-то неопределённого цвета, белесоватого, с голубизной, но уже сразу видно, что разрез глаз у него как у мамы, очень красивый. Сенечка сморщивает своё крохотное личико, словно ему дали понюхать уксусу, и начинает плакать. Это, собственно, не столько плач, сколько писк. Он разевает беззубый ротишко и скулит:
— Ля-ля-ля-ля-ля…
Его распелёнывают. Честное слово, он ненамного больше крупной лягушки или цыплёнка! И самое смешное: пальчики его левой ручки сложены в крохотный кукиш! В тот момент, когда его опускают в корыто и начинают поливать тёплой водой из ковшика, он сразу перестаёт верещать. Ему, видно, приятно в тёплой ванне. Мне тоже дают ковшик, и я усердно поливаю Сенечку.
— Смотри, на очки (глазки) не лей! — предупреждает Юзефа.
Сенечка лежит в корыте с раскрытыми глазками, но они какие-то бессмысленные: он словно никого не видит, не следит взглядом ни за кем.
— Папа… — шепчу я. — А он не слепой, нет?
— Нет. Он отлично видит. Только он ещё не умеет видеть. Вот через недельку-другую всё будет в порядке…
Сенечку вынимают из корыта. Юзефа держит его на ладони, пузиком вниз и осторожно выпивает губами несколько капель воды с его спинки. При этом она бормочет что-то — наверно, «по-латыньски».
— Юзенька, что ты делаешь? — не выдерживаю я.
Юзефа смотрит на меня строго и сурово, как умеют смотреть только лики святых на иконах.
— От злого глазу! — говорит она. — Чтоб не сглазил кто ребёнка.
Потом она осторожно обсушивает мальчика, завернув его в мохнатую пелёнку. Я слегка касаюсь его маленькой ножки — она мягкая, как бархатная, а пальчики на ножке — кругленькие, как мелкие-мелкие горошинки. Сенечка начинает вертеть головёнкой направо и налево, словно ищет чего-то беззубым ротиком.
— Жрать захотел, бездельник! — добродушно говорит папа. — Несите его ужинать!
И Сенечку уносят к маме, которая, лёжа в постели, прикладывает его к груди. Сенечка сразу очень деловито начинает сосать, — видно и слышно, как он мерно глотает.
— Як с кружечки пьёт! — восхищается Юзефа.
Мама делает мне знак подойти. Я становлюсь на колени около её кровати. Мама гладит меня по голове и говорит очень нежно, очень любовно:
— Дочка моя… я всё время думаю: «Дети… наши дети…» Правда, хорошо?
Как ни странно, я понимаю, что хочет сказать мама. До, сих пор она всегда думала: «Дочка… Моя дочка шалит, учится, здорова, больна, надо купить нашей дочке мячик или скакалку…» Она не могла думать: «Дети», — у неё была только одна дочка. А теперь она думает: «Дети… наши дети…» И ей это приятно!
Мы тихонько выходим из комнаты.
— Папа… — вдруг вспоминаю я. — А откуда такой малюсенький клопик умеет сосать и глотать? Кто его научил?
— Никто, — говорит папа. — Я вижу это ежедневно уже больше пятнадцати лет. Это чудо. Чудо инстинкта. Мы не понимаем этого, — а ведь это умеют и щенята, и котята, и всякая живая тварь…
Сенечка, наевшись, мирно спит. Я сижу около его колясочки. Во сне он вдруг причмокнул губкой — может быть, ему снится, что он всё ещё «ужинает»? Я думаю: «Брат. Мой брат…» И мне это радостно.
— Ну, пойдём домой! — говорит дедушка бабушке. — Мы теперь с тобой совсем счастливые: и внучка у нас, и внучек…
— Хорошо! — подтверждает и бабушка. — Я люблю детей… Когда много детей — это счастье!
Так вошёл в мою жизнь Сенечка, милый брат мой. Больше шестидесяти лет продолжалась наша дружба. О многом я расскажу дальше. Сенечка был весельчак, остроумный балагур, душа всякого общества, куда бы ни попадал, и все очень любили его. Талантливый инженер, он принимал участие в постройке многих наших гидроэлектростанций, начиная с Волховстроя. Последняя гидроэлектростанция построена по его проекту недавно — в Румынии. Это было уже после его смерти.
Глава восьмая. МОЙ «ДУСЯ» КСЁНДЗ!
День начинается с необычного: я ссорюсь с Юзефой, а когда на шум приходит мама, — то и с мамой!
Не знаю почему, но мама и Юзефа вдруг придумали, чтобы я брала с собой ежедневно в институт бутылку молока и выпивала его за завтраком на большой перемене. Я понимаю, откуда это идёт: вчера к маме приезжала с поздравлением Серафима Павловна Шабанова и сказала ей, что Риточка и Зоенька ежедневно берут с собой в институт по бутылке молока. Мама огорчилась, почему — ах! — она не такая заботливая мама, как Серафима Павловна! И тут же она придумала, чтобы и я таскала в институт молоко в бутылке. Как Зоя и Рита пьют своё молоко, я знаю. Мы хотя учимся с Ритой в разных классах (она приготовишка), а с Зоей в разных отделениях I класса, но я их вижу постоянно. И я видела, как та и другая выливали молоко из бутылки в раковину уборной. Не пьют они его, не хотят!
А я не могу лить молоко в уборную! Во-первых, я не хочу врать дома, будто я выпила, когда я не пила. И во-вторых, я помню, как очень давно — мне было тогда лет пять — я шалила за столом и опрокинула на скатерть стакан молока. Папа ужасно на меня рассердился — просто ужасно! Стукнул кулаком по столу и крикнул: «Дрянная девчонка, дрянная! Если бы я мог давать каждому больному ребёнку по стакану молока ежедневно, они бы не болели, как теперь болеют, не умирали! А ты льёшь молоко на скатерть! Пошла вон из-за стола!» Рита и Зоя выливают ежедневно в уборную две бутылки молока — они при этом смеются! — а я не могу. Я помню, как папа кричал на меня…
— Но ведь ты можешь просто выпить это молоко! — говорит мама.
— Ну, а если я терпеть не могу молока, если я его ненавижу, если меня тошнит от пенок? — заплакала я. — Что я, грудная, что ли?
Ничто мне не помогло. Юзефа аккуратненько налила молоко в бутылку и поставила в уголке моего ранца. Мама говорит, чтоб я была осторожна и не разбила бутылку. Юзефа успокаивает маму: «Это очень крепкая бутылка! А что пробка слишком маленькая, так я бумаги кругом напихаю!» И всё. Я ухожу в институт, унося в ранце эту противную бутылку с противным молоком, а главное, мне придётся его выпить, потому что лгать — дома лгать, маме лгать! — я не хочу. Я так огорчена всем этим, что убегаю из дому ни свет ни заря, ещё и девяти часов нет.
В институте, поднимаясь по лестнице в коридор, я вижу идущих впереди меня девочек из моего класса: Мартышевскую и Микошку. Мартышевскую зовут, как меня, Александрой, но не Сашей, не Шурой, — таких имён в польском языке нет, — а «Олесей» или «Олюней». Чаще всею сё ласково зовут «Мартышечкой», хотя она нисколько не похожа на обезьяну, она очень славненькая. Мартышевская и Микоша идут впереди меня и негромко переговариваются между собой по-польски.
— Ниц с тэго не бендзе! (Ничего из этого не выйдет!) — говорит Микоша.
— Она може так зробиць, як она хце! (Она может так сделать, как она хочет!)
Я не вслушиваюсь в их разговор. Я всё ещё очень болезненно переживаю то, что на большой перемене я должна буду, как грудной ребёнок, сосать молоко. Поэтому мне неинтересно, что там какая-то «она», которой я не знаю, «може или не може…» Но позади меня идёт человек, которому это почему-то, видимо, очень интересно. Тихой, скользящей походочкой Дрыгалка перегоняет меня и берёт за плечи Мартышевскую и Микошу:
— На каком языке вы разговариваете, медам?
Девочки очень смущённо переглядываются, как если бы их поймали на каком-то очень дурном поступке.
— Я вас спрашиваю, на каком языке вы разговариваете?
— По-польски… — тихо признаётся Олеся Мартышевская.
— А вам известно, что это запрещено? — шипит Дрыгалка. — Вы живёте в России, вы учитесь в русском учебном заведении. Вы должны говорить только по-русски.
Очень горячая и вспыльчивая, Лаурентина Микоша, кажется, хочет что-то возразить. Но Олеся Мартышевская незаметно трогает её за локоть, и Лаурентина молчит.
Дрыгалка победоносно идёт дальше по коридору.
— На своём… на своём родном языке… — задыхаясь от обиды, шепчет Микоша. — Ведь мы польки! Мы хотим говорить по-польски.
Мартышевская гладит её по плечу:
— Ну, тихо, тихо…
Мы уходим все трое в одну из оконных ниш.
— «По-русски… только по-русски…» — бормочет вне себя Лаурентина Микоша. — Здесь прежде Польша была, а не Россия!
У меня, вероятно, вид глупый и озадаченный. Я ведь ничего этого не знаю! И Олеся Мартышевская очень тихо, почти шёпотом, всё время оглядываясь, не подкрадывается ли Дрыгалка, объясняет мне, в чём дело. Было Польское государство. Потом его насильственно разорвали на три куска и разделили эти куски между Россией, Германией и Австрией. Наш город достался России. Но польские патриоты не хотели мириться с тем, что уничтожено их государство, и восстали. В нашем крае польское восстание усмирял свирепый царский наместник Муравьёв — его прозвали «Муравьёв-вешатель». Он повесил много польских повстанцев, вдовам их не разрешалось носить траур по казнённым мужьям: чуть только появлялась на улице женщина в трауре, её задерживали, давали ей в руки метлу и заставляли подметать улицу.
Тогда же закрыли в нашем городе польский университет, польский театр, польские школы. И вот — ты сама сейчас видела, Саша! — нам, полькам, нельзя говорить на своём родном языке… Только по-русски!
Всё это Олеся и Лаурентина рассказывают мне страстным, возбуждённым шёпотом, и я слушаю, взволнованная их рассказом чуть не до слёз.
— Только помни: что мы тебе сейчас рассказали, — никому, ни одному человеку! — шепчет Олеся.
— Ну, господи! — даже обижаюсь я на их недоверие. — Неужели же я побегу звонить про такое? Ребёнок я маленький? Или глупая приготовишка?
Я вхожу в класс какая-то вроде оглушённая, у меня в ушах всё ещё стоит жаркий шёпот Олеси и Лаурентины.
В классе никого нет, пусто. Я усаживаюсь за своей партой, горестно подперев голову рукой. Так всё нехорошо! И молоко это окаянное… и девочкам-полькам почему-то не позволяют говорить на своём языке!
Дверь из коридора приоткрывается. В неё несмело входят две девочки — не из нашего отделения, а из первого. Обычно мы друг к другу в чужое отделение не ходим. Девочки из первого — гордячки, они смотрят на нас, второе отделение, сверху вниз. А мы — самолюбивые, насмешницы, мы не желаем унижаться перед «аристократками»… И вдруг почему-то две из первого отделения к нам пожаловали!
Не заметив меня, одна из них спрашивает у другой:
— Думаешь, он сюда придёт?
— Ты же видела, прямо сюда пошёл! — И вдруг, увидев меня: — Людка! А как же эта?
Людка машет рукой:
— Не беда! Она не наябедничает. Мне Нинка Попова говорила: её Шурой звать, она ничего девочка…
Мне смешно, что они переговариваются обо мне в моём присутствии. Словно меня нет или я сплю.
— Видишь? — продолжает Люда. — Она смеётся. Она ничего плохого не сделает.
Выглянув в коридор, Люда испуганно вскрикивает:
— Идёт, Анька! Идёт сюда!
И обе девочки застывают в ожидании около классной доски.
Я тоже с любопытством смотрю на дверь: кто же это там идёт?
В класс входит сторож-истопник Антон Он в кожухе (жёлтом нагольном тулупе). За спиной у него вязанка дров, которую он сваливает около печки с особым «истопническим» шиком и оглушительным грохотом. Кряхтя и даже старчески постанывая от усилия, Антон опускается на колени и начинает привычно и ловко топить печку. Ни на кою из нас он не смотрит, но я не могу отвести глаз от его головы — никогда я такой головы не видала. Не в том дело, что она лысая, как крокетный шар, — лысина ведь не редкость. Но при этой совершенно лысой голове у Антона борода — как у пушкинскою Черномора! Длинная седая борода, растрёпанная, как старая швабра. А лысина блестит, как начищенный мелом медный поднос. По её сверкающей желтизне рассыпаны крупные родимые пятна и, как реки на географической карте, разветвление вьются синевато-серые вены. Сейчас, от усилия при работе, эти вены взбухли и особенно чётко пульсируют. Очень интересная голова у истопника Антона!
— Ну! — командует шёпотом Люда, подталкивая Аню локтем.
Аня достаёт из кармана пакетик, перевязанный розовой тесёмкой, какими в кондитерских перевязывают коробки с конфетами.
— Пожалуйста… — бормочет Аня, вся красная от волнения, протягивая Антону пакетик. — Возьмите…
Антон сердито поворачивает к ней лицо, раскрасневшееся от печки, с гневно сведёнными лохматыми бровями. Он очень недоволен.
— Ну, куды? — рычит он. — Куды «возьмите»? Торопыга! Вот затоплю, на ноги встану — тогды и возьму…
Так оно и происходит. Антон кончает своё дело, с усилием встаёт с колен Аня протягивает ему свой пакетик с нарядной тесёмкой. Не говоря ни слова, даже не взглянув на девочек, Антон берёт пакетик рукой, чёрной от сажи, суёт ею за пазуху и уходит.
Люда и Аня смотрят ему вслед и посылают воздушные поцелуи его удаляющейся спине.
— Дуся! — говорит Аня с чувством.
— Да! Ужасный Дуся! — вторит Люда.
Я смотрю на них во все глаза О ком они говорят? Кто «дуся»?
Туг обе девочки — Люда и Аня — начинают шептаться. Поскольку они при этом то и дело взглядывают на меня, я понимаю, что речь у них идёт обо мне.
— Послушай… — подходит ко мне Люда. — Ты — Шура, да? Я знаю, мне о тебе Нинка Попова говорила
— У нас к тебе просьба! — перебивает её Аня. — Понимаешь, мы пансионерки, мы живём здесь, в институте, всегда. И у нас очень мало окурков!
— Ужасно мало! — поясняет Люда. — Откуда здесь быть окуркам? Учителей — таких, чтобы они были мужчины, курили папиросы, — ведь немного. В классах они не курят, в коридоре — тоже, только в учительской, — а в учительскую нам ходить запрещено! Вот ты живёшь дома — собирай для нас окурки, а?
— Какие окурки? — спрашиваю я, совершенно обалдев.
— Ну, обыкновенные. Окурки. Окурки папирос. Понимаешь?
Я ещё больше удивляюсь.
— Вы курите? — спрашиваю.
Обе девочки хохочут. Я, видно, сморозила глупость.
— Нет, мы с Людой не курим, — снисходительно улыбается Аня. — Мы для Антона окурки собираем.
— Потому что мы его обожаем! — торжественно заявляет Люда. — Он — дуся, дивный, правда?
Я молчу. Антон не кажется мне ни «дусей», ни «дивным».
Просто довольно нечистоплотного вида старик со смешной лысиной.
— И ещё мы хотели просить тебя… — вспоминает Аня. — Кто живёт дома, у того всегда много цветных тесёмок от конфетных коробок. А у нас здесь, в институте, откуда возьмёшь тесёмки? Мы сегодня перевязали окурки для Антона, — видела, какой красивенький пакетик получился? И, представь, последняя ленточка! Больше у нас ни одной нет.
— Приноси нам, Шура, окурки и конфетные тесёмочки!
— И, смотри, никому ни слова! То есть девочкам — ничего, можно. А синявкам ни-ни!
Я не успеваю ответить, потому что в класс вливается большая группа девочек. Среди них — Меля, Лида и другие мои подружки. Обе мои новые знакомки — Люда и Аня из первого отделения — говорят мне с многозначительным подчёркиванием:
— Так мы будем ждать. Да? Принесёшь? И убегают.
— Это что же ты им принести должна? — строго допытывается у меня Меля.
— Да так… Глупости… — мямлю я.
— Ох, знаю! — И Меля всплескивает руками. — Они ведь Антона, истопника, обожают! Наверно, пристали к тебе, чтобы ты из дома окурки носила?.. А, кстати, — вдруг соображает Меля. — Надо и вам кого-нибудь обожать! Кого вы, пичюжьки, обожать будете?
— Я — никого! — спокойно отзывается Лида. — Моя мама училась в Петербурге, в Смольном институте, она мне про это обожание рассказывала… Глупости всё!
Ну хорошо, Лида знает про это от своей мамы и знает, что это глупости. Но мы — Варя Забелина, Маня Фейгель, Катя Кандаурова и я — не знаем, что, это за обожание и почему это глупость. И мы смотрим на Мелю вопросительно: мы ждём, что она нам объяснит.
В эту минуту в класс вбегает Оля Владимирова. У неё такая коса, как ни у кого в I классе, — не только в нашем, втором отделении, но и в первом. Если бы у меня была такая коса, ох, я бы всё время только и делала, что поводила головой то вправо, то влево… а коса бы, как змея, шевелилась по спине то туда, то сюда! Оля Владимирова нисколько не гордится своей косой, разговаривает со всеми приветливо, лицо у неё милое — вообще хорошая девочка. Сейчас она вбежала в класс, поспешно выложила всё из сумки в ящик своей парты и почти бегом направляется обратно к двери в коридор.
— Владимирова! — окликает её Меля. — Ты — обожать, да?
— Да! — отвечает Оля, стоя уже в дверях класса.
— А кого? — продолжает допытываться Меля.
— Хныкину, пятиклассницу. Ох, медамочки, какая она дуся! — восторженно объясняет Оля. — Её Лялей звать — ну, и вправду такая лялечка, такая прелесть! А Катя Мышкина обожает её подругу, Талю Фрей, — мы с Мышкиной за ними ходим… — И Оля убегает в коридор.
— Пойдём, пичюжьки! — зовёт нас Меля. — Надо вам посмотреть, как это делается.
Мы выходим в коридор, идём до того места, где он поворачивает направо — около директорского стола, — и Меля, у которой, по обыкновению, рот набит едой, показывает нам, мыча нечленораздельно:
— О-о-и…
Мы понимаем — это означает: «Вот они!» Идут по коридору под руку две девочки: одна розовая, как земляничное мороженое, другая — матово-смуглая.
— Хныкина и Фрей! — объясняет нам Меля, прожевав кусок. — А за ними — наши дурынды…
В самом деле, за Хныкиной и Фрей идут, тоже под ручку, Оля Владимирова и Катя Мышкина. Они идут шаг в шаг, неотступно, за своими обожаемыми, не сводя восторженных глаз с их затылков.
— Это они так каждый день ходят? — удивляется Варя-Забелина.
— Каждый день и на всех переменах: на маленьких и на больших… Ничего не поделаешь, обожают! И вы выбирайте себе каждая кого-нибудь из старшеклассниц — и обожайте!
— Нет, — говорю я, — мне не хочется.
Оказывается, ни Варе не хочется, ни Мане, ни, конечно (за Маней вслед), Кате Кандауровой тоже не хочется!
— Ну почему? — удивляется Меля. — Почему? Вам это не нравится?
— Скука! — говорю я. — Если бы ещё лицом к лицу с ними быть, разговаривать — ну, тогда бы ещё куда ни шло…
— Да, «лицом к лицу»! — передразнивает Меля. — Что же, им ходить по коридору всю перемену задом, как раки пятятся? Или ты будешь задом наперёд ходить?
— А ты сама почему никого не обожаешь? — спрашивает у Мели Варя Забелина.
— Так я же ж обожяю! — говорит Меля. — Я кушять обожаю! Чтоб спокойненько, не спеша, присесть где-нибудь и кушять свой завтрак.
Мы Мелю понимаем: обожательницам не до еды; сразу, как прозвонят на перемену, они мчатся сломя голову к тем классам, где учатся их обожаемые. А потом ходят за ними. Ходить вовсе не так просто. Надо это делать внимательно: обожаемые остановились и обожательницы тоже останавливаются. Надо ходить скромно, не лезть на глаза, ничего не говорить, но смотреть зорко: если у обожаемой упала книга, или платочек, или ещё что-нибудь, надо молниеносно поднять и, застенчиво потупив глаза, подать. Какое уж тут «кушянье», когда всё внимание сосредоточено на обожаемых!
— Шаг в шаг, шаг в шаг! — объясняет Меля. — Зашли обожяемые зачем-нибудь в свой класс, — стойте под дверью их класса и ждите, когда они опять выйдут. Зашли они в уборную, — и вы в уборную! Шьто же, мне любимое пирожьное в уборной есть?
Мы хохочем.
— А потом, — говорит Меля сурово, — надо ведь ещё подарки делать! Цветочки, картинки, конфетки, — а ну их — к богу! Вы мою тётю знаете, видели?
— Знаем… — вспоминаем мы не без содрогания. — Видели!
— А можно с такой тёткой подарки делать? Ну, это мы сами понимаем: нельзя. Вообще, в описании Мели, обожание — вещь не весёлая, и нас это не прельщает.
— Вот учителей обожать легче! — продолжает Меля. — Это все делают… Ходить за учителем, который твой обожаемый, не надо. А если, например, сейчас будет урок твоего обожаемого учителя, — ты навязываешь ему ленточку на карандаш или на ручку, которые у него на столе лежат. И ещё ты должна везде про него говорить: «Ах, ах, какой дивный дуся мой Фёдор Никитич Круглов!»
— Ну уж — Круглов! — возмущаемся мы хором.
— Не хотите Круглова — берите других, — спокойно отвечает Меля.
— Хорошо! Я нашла! — кричит Варя Забелина. — Я Виктора Михайловича обожать буду! Учителя рисования. Чудный старик!
— Ну вот… — огорчаюсь я. — Только я подумала про Виктора Михайловича, а уж ты его взяла!
— Давай пополам его обожать? — миролюбиво предлагает Варя.
— Можешь взять учителя чистописания, — подсказывает Меля.
— Нет, как же я буду его обожать, когда он на каждом уроке говорит про меня: «Что за почерк! Ужасный почерк!» А я вдруг его обожаю! Это будет — вроде я к нему подлизываюсь.
— Можно обожать и не учителя, а учительницу. Дрыгалку хочешь? — дразнит меня Меля. — Колоду хочешь?
Я не хочу ни Дрыгалку, ни Колоду, ни даже учительницу танцевания Ольгу Дмитриевну.
— Ну, знаешь… — Меля разводит руками. — Ты просто капризуля, и всё. Всех мы перебрали — никто тебе не нравится! Ну, хочешь, можно кого-нибудь из царей обожать — они в актовом зале висят. Одни — Александра Первого, другие — Николая Первого обожают.
Мы молчим. Я напряжённо думаю. Ну кого бы, кого бы мне обожать? И вдруг с торжеством кричу:
— Нашла! Нашла! Я ксёндза обожать буду!
В первую минуту все смотрят на меня, как на полоумную.
— Ксёндза? Ксёндза Олехновича? За что его обожать? Что ты, ксёндза не видала?
Нет, видала. Даже близко видала — например, ксёндза Недзвецкого. Но ксёндз Недзвецкий красивый, высокий, изящный, а ксёндз Олехнович (он преподаёт закон божий девочкам-католичкам) — старенький, облезлый, в нечищеной сутане. И голова продолговатая, бугристая, как перезрелый огурец. А нос у него сизый и вообще лицо бабье, похоже на Юзефино… Нет, кончено, решено: я буду обожать ксёндза Олехновича! Поляков обижают — вот я буду ксёндза обожать, тем более что за обожаемыми преподавателями не надо ходить по коридорам, не надо ничего им говорить. Просто скажешь кому-нибудь иногда: «Ксёндз Олехнович — такой дуся!» — и всё. Правда, сказать это про ксёндза Олехновича очень трудно — всё равно что сказать про старую метлу, что она красавица. Ну, как-нибудь…
Увы! Моё «обожание» ксёндза Олехновича кончается в тот же день. Да ещё при таких трагических обстоятельствах, что я этого вовек не забуду…
Третий урок — тот, после которого начинается большая перемена, — урок закона божия… Эти уроки всегда совместные для обоих отделений нашего класса — и для первого и для второго. Все православные девочки из обоих отделений собираются в первом отделении, и там со всеми ими одновременно занимается православный священник отец Соболевский. А все католички — из обоих отделений — собираются у нас, во втором отделении, и со всеми ими вместе занимается ксёндз Олехнович. В нашем классе есть ещё несколько так называемых «инославных» девочек: одна немка-лютеранка, две татарки-магометанки и две еврейки — Маня Фепгель и я. Всех нас сажают в нашем втором отделении на последнюю скамейку, и мы присутствуем на уроке ксёндза Олехновича. Нам велят сидеть очень тихо; мы можем читать, писать, повторять уроки, но, боже сохрани, нельзя шалить!
Мы не знаем, конечно, что в этом навязанном ксёндзу присутствии девочек, посторонних его религии и его национальности, есть, несомненно, что-то оскорбительное для него.
Ведь вот на урок православного закона божия нас не сажают! Не хотят обижать священника отца Соболевского. А за что же обижать старенького ксёндза?
Ксёндзу, наверно, обидно в его уроке всё — от начала до конца. Во-первых, он должен преподавать не на родном языке, а по-русски. Говорит он по-русски плохо — может бить, он делает это даже нарочно. «А, вы заставляете меня учить польских детей на чужом языке? Так вот же вам: ДАвид схОвау камень и пОшёл битися з тым ГолиАтэм», — это значит: Давид спрятал камень и вышел на бой с Голиафом.
Наверно, обижает ксёндза и то, что на его уроке сидит пять «инославных» девочек. Неужели нельзя было оставить его с одними девочками-католичками, а нас посадить на этот час куда-нибудь в другом месте? И ксёндз Олехнович — «мой дуся ксёндз»! — явно оскорблён этим. Он старается не смотреть в нашу сторону, но его сизый нос становится каким-то негодующе-фиолетовым.
Нас, пятерых «инославных», это тоже очень смущает и стесняет. Мы стараемся сидеть тихо, как мыши, мы не шепчемся, не переговариваемся — мученье, а не урок! За короткий срок я, кажется, выучила лица моих «инославных» подруг наизусть, до последней чёрточки. Вот красотка татарка Сонечка Тальковская — самая хорошенькая девочка из всего нашего класса (это Лида Карцева говорит, а Лида понимает, кто хорошенький, а кто нет!); у Сонечки смугло-палевое личико, прелестный носик и такие лукавые, чуть косо разрезанные глазки, как угольки! Другая татарка (в институте надо говорить «магометанка»), Зина Кричинская, по виду ничем не напоминает о своём татарском происхождении. Она блондинка со светлыми волосами, с таким нежно-розовым лицом, как прозрачное брюшко новорождённого щеночка. О её восточном происхождении говорит только разрез её глаз, слегка, очень отдалённо, монгольский. Зину Кричинскую я люблю с первого дня — это удивительно милая, тихая девочка, очень добрая и хорошая.
И Соню Тальковскую, и Зину Кричинскую, и Луизу Кнабэ я уже знаю наизусть — рассматривать их мне уже неинтересно. О Мане Фейгель я и не говорю. Что же мне делать, чем заняться, чтоб не шуметь, чтоб не обиделся «мой дуся ксёндз»? У меня есть с собой книга — «Давид Копперфильд». Я берусь за чтение и понемногу забываю обо всём на свете.
Я начала читать эту книгу два дня тому назад, и она захватила меня с первых страниц. Счастливая жизнь — маленький Дэви, его милая мама и смешная, добрая няня Пеготти… Потом мама — ну, зачем, зачем она это сделала? — выходит замуж за мистера Мордстона… Все несчастны — и мама, и Пеготти, и маленький Дэви, которого мучают мистер Мордстон и его отвратительная сестра Клара, гадина этакая, я бы её посадила в собачью будку на цепь! Я бы этих проклятых Мордстонов, я бы их… Я резко поворачиваюсь на своей скамейке — мой ранец отлетает на несколько шагов, и с какими шумом, с каким грохотом, ужас! «Мой дуся ксёндз» смотрит в мою сторону недовольными глазами. Конечно, он думает, что это я нарочно, что я шалю на его уроке.. От угрызений совести, от огорчения я просто каменею на своей скамейке. Ранец лежит на полу далеко от меня: встать, чтобы поднять его, — значит опять произвести шум, опять навлечь на себя сердитый взгляд «дуси ксёндза», — нет, я на это не решаюсь. Пусть ранец лежит там, где упал, до конца урока…
Сижу неподвижно. Катастрофа с падением моего ранца, кажется, забывается. Я даже снова берусь за «Давида Копперфильда».
И вдруг в классе начинается невероятное оживление. Все вертятся на своих местах, переглядываются, подавляют улыбки, перешёптываются… И все смотрят в одно и то же место. Я тоже смотрю туда — и меня охватывает ужас! При падении моего злополучного ранца проклятая бутылка с молоком выскользнула из него и упала несколько дальше, так что её не сразу увидишь из-за угла парты. Я чуть-чуть привстаю и вижу, что пробка из бутылки выскочила (наверно, Юзефа «напихала» недостаточно бумаги вокруг маленькой пробки) и из горлышка бутылки тонкой струйкой льётся по полу молоко. Оно течёт по среднему проходу между партами — прямо под стул ксёндза. И ксёндз замечает это…
Что он мне говорит, ох, что он мне говорит! «Стыдно! Неприличные шалости! Неуважение!» Ну, все слова, какие можно придумать к этому случаю. Я слушаю всё это, стоя в своей парте. Ксёндз не кричит на меня, не ругает меня, он даже не повышает голоса; он стоит, седой и несчастный, реденькие волоски на его голове — как на корешке редьки. Ксёндз отступил от своего стула, под который медленно, неумолимо течёт тонкая струйка молока… От всего этого мне ещё тяжелее. Поднимаю глаза, — ох! Ксёндз смотрит на меня без всякой ненависти, даже как-то грустно, — наверно, он думает: «Вот как нам, полякам, плохо! Всякий ребёнок издевается над нами!»
— Простите, пожалуйста… Я нечаянно уронила ранец… а там была бутылка…
Ксёндз смотрит на меня испытующе. Он старый человек, он знает людей, и он верит мне. Лицо его смягчается.
— Hу-ну… — говорит он. — Всё бывает. Всё бывает на белом свете.
В класс каждою минуту может нагрянуть Дрыгалка. И тогда — ох, тогда мне несдобровать!..
Оборачиваюсь к Мане Фейгель… Маня умная, толковая, я всегда во всех бедах бегу к ней. Но Мани нет в классе! Куда она могла деться, она же прежде была на уроке, она сидела позади меня, — как же она смогла пропасть? Не сквозь землю же она провалилась! Ну, всё равно всё погибло, сейчас прибежит Дрыгалка, и начнётся такое!..
Но в класс быстро входит не Дрыгалка, а Маня! В стремительном развороте моих несчастий — падение ранца, раскупорившаяся бутылка, белый ручеёк, текущий как раз под стул ксёндза, гнев ксёндза — я и не заметила, как Маня бесшумно выскользнула из класса (потом все говорили, что и они не видели этого). И вот Маня возвращается. В руках у неё — тряпка (Маня бегала за ней к дежурной горничной — полосатке). Быстро, ловко, умело Маня вытирает пол; тряпка вбирает в себя мои «молочные реки», и уже ничего не видно. Пол только немного влажный — там, где текло молоко. Маня прячет тряпку за шкаф, садится на своё место позади меня.
Подоспевшая к концу урока Дрыгалка застаёт класс в безукоризненном виде: полный порядок, все сидят чинно и тихо, ксёндз говорит о том, что нужно выучить к следующему уроку. И — удивительная вещь: ксёндз на меня Дрыгалке не жалуется!
С этого часа я ксёндза больше не обожаю. И вообще никого не обожаю. Довольно с меня!
И молока мне больше на завтрак не дают.
Глава девятая. «ДЕТСКИЙ РАЙ»
В воскресенье мне предстоит большое удовольствие. Это придумал дядя Мирон — брат папы и третий по счёту сын бабушки и дедушки. Он только в этом году окончил университет (он — юрист) и поселился в нашем городе. Я очень люблю этого моею дядю. Все удивляются, — и в самом деле, это немного удивительно, так как у дяди Мирона самый несносный характер, какой только можно придумать! Он всегда брюзжит на всех и на всё, ворчит по всякому поводу и даже без всякого повода, ко всему придирается. За этот несносный характер бабушка прозвала дядю Мирона ещё в его детстве «старой девой»! А я вот очень люблю дядю Мирона! Не то чтобы на меня не брызгало ни капли Мироновой ворчливости, — нет, мне иногда здорово от него попадает! Если он берёт меня с собой куда-нибудь — на гулянье в городском саду, в кондитерскую или в магазин, где он покупает мне подарки, — дядя Мирон ни на минуту не перестаёт деть мне замечания:
«Закрой рот — муха влетит!»
«Как ты ходишь! Ну как она ходит!»
«Не горбись, как будто тебе сто лет!»
«Не говори так громко!»
«Не смейся!»
И так далее, и тому подобное.
Однако на меня всё это дяди Миронова словоизвержение не производит никакого впечатления. И по самой простой причине: я не обращаю на всё это ни малейшего внимания. Ворчит — ну и пусть себе ворчит! Придирается — ну и на здоровье! Я знаю, крепко знаю и всегда чувствую, что дядя Мирон меня нежнейшим образом любит, что ему со мной приятно, даже иногда весело. А что «не смейся так громко, все лошади на улице заржут в ответ!» — так ведь это только очень смешно, разве можно на это обижаться?
Вот Сенечку, моего маленького братца, дядя Мирон (он сам это говорит!) «ещё не любит». Мирон не был в нашем городе больше года (последний курс юридического факультета и государственные экзамены!), приехал не так давно. Меня дядя Мирон знал раньше, за это время я стала старше, — надо думать, умнее, занятнее, — а Сенечка ещё только-только родился. Когда дяде Мирону с торжеством показали Сенечку, Мирон посмотрел на него, пожал плечами и сказал: «Кусочек мяса!» Мама тогда очень обиделась и в сердцах даже сказала Мирону, что он как был «старой девой», так и остался. Но я понимаю: когда Сенечка начнёт говорить, ходить, он Мирону понравится. А сейчас Сенечка хотя и человечек, но всё-таки ещё, конечно, довольно бессмысленный человечек, если уж говорить совсем начистоту.
Так вот, сегодня, в ясный, погожий праздничный день, дядя Мирон поведёт меня в магазин «Детский рай». Это большой магазин, торгующий игрушками и открывший недавно отделение детских книг. Игрушки «Детского рая» меня, конечно, не очень интересуют, я ведь уже не маленькая. Но книги я люблю, а в «Детском раю», говорят, очень большой выбор замечательных книжек. Ну, словом, я — не против. Я знаю, что дядя Мирон будет всё время ворчать, как муха жужжит и бьётся в окно: «Не верти головой!»
«Здрасте, — она шлёпнула ногой по луже! Ботинки мне забрызгала!»
«Не задавай глупых вопросов!»
Но меня это не обижает.
До двенадцати часов дня, когда Мирон обещал зайти за нами, ещё очень много времени. Но, конечно, я уже с десяти часов утра выбегаю в переднюю при всяком звонке: а вдруг дядя Мирон придёт раньше, чем предполагал?
Приходит, однако, не Мирон, а другой человек. Очень интересный, и я встречаю его радостно:
— Господин Амдурский! Здравствуйте!
— Здравствуйте, Шашенька!
Амдурский — маленький-маленький старичок с личиком, похожим на печёную репку, и с удивительно живыми, подвижными птичьими глазами, как чёрные бисеринки. Это личико-репка обросло густой чёрной бородой — ну, совсем как у карлика или тролля из какой-нибудь сказки! Надеть бы на его маленькую головку сказочный острый колпачок — и готово! Но у Амдурского на голове не колпачок, а самая диковинная шляпа — она всегда вызывает во мне живейшее любопытство. Очень хочется заглянуть, не спрятаны ли за полями этой шляпы, например, ласточкины яйца или даже вылупившиеся уже птенчики, развевающие голодные рты. Но заглянуть в шляпу невозможно: Амдурский бережёт её, как фамильную драгоценность, — не выпускает из рук, когда стоит, и бережно укладывает у себя на коленях, когда сидит.
Амдурский — сборщик членских взносов в благотворительные общества. Сегодня эти слова, может быть, уже совсем непонятны. В Советской стране нет частной благотворительности. Государство воспитывает сирот в детских домах, призревает стариков, учит детей и юношество в школах и университетах, лечит больных… А как это было во время моего детства, пусть об этом расскажет сам Амдурский — так, как он рассказал это когда-то мне:
— Понимаете, Шашенька, есть которые богатые (Амдурский произносит «бугатые») и которые бедные… Так об тех, которые богатые, пусть у нас с вами голова не болит, — им и без нас хорошо! А вот бедные… Умер бедняк, остались сиротки — куда им деваться? По улицам ходить, босыми ногами по снегу, копейки выпрашивать? Надо бы приют для них, — так государства этого не хочет, у неё, у государствы, за сирот сердце не болит. Государства — она только о богатых думает: как бы этим бедненьким богатым получше жилось! Ещё: живёт бедный человек, работает, как последняя скотина, а когда он заболеет, никому до него и дела нет! Хочет — пусть выздоравливает, а не хочет, так нехай помирает… А прожил бедный человек до старости, всю силу из него работа выпила-высосала, куда ему деваться? Дети бедняков не учатся — государства для них школ не открыла и не откроет, ей на бедных детей наплевать..
Амдурский бережно снимает с колен свою удивительную шляпу и перекладывает её на стоящий рядом стул:
— Ну, что с ней делать, с этой государствой? Надо на неё тоже наплевать, ничего от неё не ждать, а самим сложиться, кто сколько может, и открыть свои больницы, приюты, богадельни, школы…
Я хлопаю в ладоши:
— Очень хорошо!
— Да, хорошо, но трудно как! — Амдурский горестно качает головой. — Каждый человек платит, сколько может, в благотворительные общества: один платит аж двенадцать рублей в год, другой платит по десять копеек в месяц. И с этих денег мы имеем два госпиталя, — ваш папаша, дай бог ему здоровья, работает в обоих и денег за это не берёт. Имеем богадельню, — ваш дедушка там попечитель, тоже задарма много работает! Имеем «дешёвую столовую», — за несколько копеек дают там бедняку тарелку супу с хлебом, кашу. Имеем приюты, имеем школы, только, ох, мало школ!.. Всё — на эти деньги, что люди платят в благотворительные общества! Но нужно же, чтоб кто-нибудь обходил жертвователей и собирал с них взносы, — нет? Ну, так вот: я — такой сборщик! Я, Амдурский! И сколько нас таких — это же просто не сосчитать: ведь у русских — свои благотворительные общества, у поляков — свои, у немцев — свои…
Я, Шашенька, — продолжает Амдурский, — не стремляюсь к богатству, пусть оно пропадёт! Но я стремляюсь делать хорошее дело. Я получаю за свою работу несколько рублей в месяц — и живу на это с женой, с детьми. Мой средний сын Рувим скоро уже будет наборщиком — он учится в типографии. Живём себе, и хлеба хватает… почти хватает… — поправляется он. — Если посмотреть на меня вот так, не подумавши, конечно, у меня просто райская жизня! Целый день я на воздухе — гуляю из дома в дом. Люди меня — не буду грешить! — уважают ужасно. Я прихожу в дома, и везде говорят: «А, это Амдурский!» Правда, в иных домах это говорят зелёным голосом: «А, это Амдурский. Подумайте, он ещё не околел, старая кляча!»
Амдурский умолкает. Я понимаю, что он уже исчерпал передо мной перечень всех радостей, какими дарит его «райская жизня»: целый день на воздухе, люди уважают. Хотя, правда, иные выражают это уважение «зелёным голосом»…
— А что у вас в жизни плохо, господин Амдурский?
— Что у меня в жизни плохо? — переспрашивает он. — Например, ноги… Прежде они не уставали, теперь устают. А ходить… ой, сколько Амдурскому надо ходить! Банкир Шамбедал, например, — ловите его с его взносом на благотворительность! — То его нет дома, то у него дома голова болит, то он, извините, ванну принимает… Он, правда, даёт на приют ба-а-альшие деньги — шесть рублей в год! — Амдурский даже присвистывает от уважения к этой сумме. — Но вот сколько раз я его просил: «Господин Шамбедал! Имейте жалость к человеку: уплатите сразу хоть за три месяца — один рубль пятьдесят копеек, — чтоб мне не бегать за вашим полтинником каждый месяц!..»
— А он не согласился?
— У-у-у! Он такой шум поднял, — я думал, он пупок сорвёт от крика! «Вы мне надоели! Вы не понимаете, что такое деньги!» Я ему говорю: «Господин Шамбедал! Не тот понимает, что такое деньги, у кого их много, а вот именно тот, у кого их вовсе нету… И, господин Шамбедал, я же не на себя прошу! Это же на приют! Это для сироток!» Так знаете, что он мне ответил, этот грубиян? Он мне ответил: «Подумаешь? Что от моего полтинника у ваших сирот вырастут новые папы и мамы?» Вот что он мне сказал, умник этот!.. А вы спрашиваете, что у меня плохо! И, знаете, у русских есть, например, купец Платонов — богатый ужасно! Так когда к нему приходит русский сборщик — на русскую благотворительность, — так этот сборщик сидит по часу в передней и ждёт, пока господин купец Платонов кончит молиться и бить поклоны перед иконами!
Разговор наш прерывает мама. Она приносит Амдурскому свой взнос на приют и ещё какой-то пакет, завёрнутый в газету, и торжественно вручает ему.
— А что это такое? — робко спрашивает Амдурский.
— Разверните! — говорит мама.
Амдурский развёртывает пакет так, словно он боится, что там живая змея. А там оказывается шляпа, старая папина шляпа.
— Это вам, Амдурский. Вместо вашего вороньего гнезда. Ходите франтом!
Амдурский приходит в невероятное волнение. Он то хватается за шляпу — «ай-яй-яй, что за шляпа!» — то жмёт мамину руку, то мою, то снова любуется шляпой.
— Да вы наденьте, примерьте! — смеётся мама.
Наконец Амдурский надевает шляпу… И тут же в буквальном смысле слова исчезает из наших глаз! У папы голова очень большая, — и печёная репка Амдурского уходит в неё по самые плечи. Настоящая шапка-невидимка, как в сказках.
— Чудная шляпа… — бормочет Амдурский. — Просто хоть банкиру Шамбедалу в ней ходить. Только, понимаете, семейная… Всей семьёй в неё влезать!.. Стойте, стойте, я, кажется, что-то придумал! У вас найдётся какая-нито тряпка, чтоб не жалко было? Найдётся?
Через несколько минут Амдурский обёртывает голову в несколько слоёв тряпкой, его крохотная голова становится гораздо больше, круглее.
— Как тыква! — радуется Амдурский. — Просто, я вам скажу, как тыква!
После этой операции папина шляпа становится уже почти впору. Поглядев на себя в зеркало, Амдурский расцветает, как круглый жёлтый подсолнечник. Он что-то бессвязно бормочет — он не находит слов благодарности.
— Гамбурский! (Так Юзефа зовёт Амдурского.) Ходи ко мне до кухни, — чаю дам!
Я не иду за Амдурским на кухню, чтоб не стеснять его во время еды. Да я знаю наизусть, как это произойдёт. Юзефа даст Амдурскому чаю и сахару и несколько ломтей хлеба, намазанных маслом. Амдурский выпьет чай, а сахар и бутерброды аккуратно завернёт в бумагу.
— Внукам моим, — объяснит он, словно извиняясь. — Сахар, масло, — они это видят не часто…
В-это время приходит дядя Мирон и сразу начинает ворчать:
— Ну конечно, никто не готов, никто не одет… Жди вас тут до вечера!
И вот мы — мама, Мирон и я — идём в «Детский рай». Вот где дети цепенеют от восторга! Куклы таращат глаза и улыбаются, игрушечные лошадки покачиваются на закруглённых полозках, скакалки висят связками, как бублики или сушки, — но меня всё это уже не волнует. Зато в книжном отделе просто разбегаются глаза! И эту взяла бы, и ту… нет, третья лучше, а тут продавщица подаёт толстую книгу, на переплёте которой напечатано: "Чарльз Диккенс. «Домби и сын»… Вот она, книга, о которой я давно мечтаю! Дядя Мирон покупает книгу, и мы уходим. Переплёт книги чуть режет под мышкой, но мне приятно чувствовать, что это сокровище здесь, со мной. Я иду по улице и мысленно, ликуя, говорю в такт: «Домби! Домби! Домби! „Детский рай“! „Детский рай“! „Детский рай“! Домби, Домби, Домби, Дом!»
Простившись с Мироном, мы с мамой идём дальше вдвоём. Мама сегодня должна зайти обследовать одну портновскую мастерскую. Мама работает в благотворительном обществе, которое отдаёт детей бедняков в ученье к ремесленникам: портным, сапожникам, столярам. Общество отдаёт ремесленнику мальчика лет двенадцати, общество платит мастеру по нескольку рублей в месяц: за обучение мальчика и его питание. Постепенно, когда мальчик уже начинает кое-чему научаться и становится ремесленнику помощником, ежемесячное пособие, которое платит мастеру благотворительное общество, уменьшается: ведь мальчик уже помогает ремесленнику зарабатывать. Когда через 3-4 года ученье кончается, мальчик может уже сам брать работу — на частного заказчика или на магазины: он уже, как говорится, становится «на собственные ноги». Мама, как и другие члены этого благотворительного общества, посещает время от времени несколько своих подопечных, чтобы посмотреть, учат ли их или только загружают по хозяйству, не бьёт ли их мастер, кормят ли мальчиков досыта, и т. д. Реже, но всё-таки бывают среди этих детей не только мальчики, но и девочки: их отдают в ученье к портнихам, золотошвейкам, цветочницам, изготовляющим искусственные цветы для дамских шляп и бальных платьев. Сейчас мы с мамой идём обследовать, как живёт и чему учится мальчик Даня, отданный в ученье к портному Ионелю. Ионель — не очень выдающийся мужской портной, к нам его зовут главным образом, чтоб он сделал починку или перелицовку, взял папин костюм в утюжку. Словом, Ионель — то, что называется «портач», то есть не настоящий мастер своего дела, а, как говорит папа, «ковырялка». У нас дома Ионель на ножах с Юзефой. Юзефа имеет свои правила, от которых отступает только в случае прямого приказания самого папы (с мамой Юзефа в таких случаях считается меньше и не слишком слушается её). С Ионелем Юзефа ссорится из-за того, что, с её точки зрения, он человек настолько незначительный, что должен бы ходить к нам не с парадного хода, а с чёрного. Ионель же боится ходить по чёрному ходу, как он говорит, «через того коричневого песа» (то есть из-за очень злой собаки наших соседей). Ионель объясняет Юзефе:
— Этот пёс, чтоб ему околеть, он какой-то сумасшедший! Он хватает меня за ноги, как будто я жареная курица! Укусит — чёрт с ним, пусть подавится моим мясом! — но ведь он может порвать мои штаны…
В общем, после вмешательства папы всё пришло в порядок, и Ионель ходит не «через злого песа», а по парадной лестнице.
Мы идём с мамой из улочки в улочку; улочки узенькие, как ниточки, — непонятно, как могут проехать по ним телега или извозчичьи дрожки. Домишки убогие, как размокшие в лужах коробочки из-под лекарств.
— Мама! Почему ты отдала этого Даню в ученье к Ионелю? Ионель — такой крикун, такой грубиян… Я его боюсь!
— Он крикун, — соглашается мама, — но он честный человек. И добрый. Он мальчика не обидит. Меня гораздо больше интересует вопрос, чему Ионель его обучит… Он ведь неважный портной.
— Так почему ты не отдала мальчика в ученье к хорошему портному?
— Хорошему портному неинтересны те несколько рублей, которые общество платит за мальчика ежемесячно. Он старается взять умелого помощника, а не такого, которого ещё всему учить надо.
Наконец в самой убогой улочке, в самом плохоньком домишке мы находим мастерскую Ионеля. Мы сразу попадаем в небольшую комнатушку, битком набитую людьми. Ионелю принадлежит, как потом выясняется, только половина этой комнаты — тут он и живёт и работает вместе с женой, детьми (один из них лежит в люльке) и своим «учеником» Даней. Другую половину комнаты занимает скорняк; мокрые беличьи шкурки, приколоченные гвоздиками к доске, воняют так нестерпимо, — что стараешься не дышать носом.
Маминого подопечного, Даню, ученика Ионеля, мы застаём за занятием, очень далёким от портновской учёбы: он качает люльку с младенцем.
— Слушайте, Ионель! — говорит мама с упрёком. — Как вы считаете, благотворительное общество отдало вам мальчика в няньки? Нет, общество думало, что оно отдаёт вам мальчика в ученики!
— Госпожа докторша! — спокойно отвечает Ионель. — Что общество думало или чего оно не думало, — это его дело. А Данька учится у меня так, как я сам когда-то учился у мастера; я тоже качал люльку, и бегал в лавочку за хлебом, и чего я только не делал! И — сами видите: ничего плохого ко мне не пристало, и я, слава богу, научился портновскому делу! Данька тоже научится. Всё.
— Вы, мадам, не сердитесь… — робко говорит жена Ионеля, очень худая женщина с измученным лицом. — Но Данька — такой хороший мальчик, ребёнок его так любит, что просто ужас! И он не заснёт, пока Данька его немного не покачает…
У Даньки действительно глаза добрые, мягкие. Но я замечаю, что он смотрит добрыми глазами не только на ребёнка в люльке, но и на хозяйку. Хозяйка, видимо, женщина хорошая.
— А чему он успел научиться у вас, Ионель? — спрашивает мама. — Что он уже умеет?
— Он умеет раздувать утюги, — загибает Ионель пальцы на руке, — умеет аккуратно пороть, чтоб не испортить, сохрани бог, материал, умеет зашить, когда я ему показываю: «отсюдова и досюдова»… А что, мало? Я считаю, что на первые месяцы это даже о-очень много!
— А что он ест? — не унимается мама.
У Ионеля раздуваются ноздри. Я боюсь, как бы он не начал кричать на маму.
— Госпожа докторша! Он ест то, что едим я, и моя жена, и наши дети. Вы же можете спросить меня ещё: «А он сыт?» Так я вам прямо скажу: нет, не каждый день. Есть у меня работа — он сыт, а нет — так нет. Но такого, чтобы мы что-нибудь ели, а Даньке не давали, — этого не бывает. Довольно вам?
Ребёнок в люльке заснул. Данька садится так же, как сидит Ионель, как сидят все портные на свете, — по-турецки, поджав ноги, — и начинает очень бережно и осторожно пороть какую-то кацавейку. Худенькое лицо его принимает такое испуганное, опасливое выражение, как если бы он пробирался по доске, переброшенной через реку. Шутка ли, он может, сохрани бог, сделать дырку в материале!
Чтобы придать разговору более спокойный тон, мама говорит шутливо:
— Даня, Даня! Какой же ты портной, когда всё на тебе порвано? Почему не починишь?
Но именно эти мамины слова всего более сердят Ионеля.
— Госпожа докторша! — говорит он мрачно. — Только из уважения к вам я не могу расстегнуть мою жилетку. А то вы бы увидели, какие дыры на моей собственной рубашке. Данька пришёл ко мне оборванный, — он уйдёт от меня оборванный. Думаю, что всю жизнь он проживёт оборванцем, таким, как я. Наш брат, голоштанник, только после смерти получает целый саван… в земле!
Я начинаю горячо шептать маме.
— Можно, я подарю этому Дане «Домби и сына»?
Мама передаёт мой вопрос Ионелю.
— Во-первых, — загибает Ионель пальцы на руке, — для книг у нас нет времени. Во-вторых, нет лишнего керосина. А в третьих, я бы хотел видеть, как он будет читать вашу книжечку, когда он вообще не умеет читать!
— Так я могу научить его… Пожалуйста! И читать и писать…
— Ой, божечка ты мой дорогой! — вздыхает Ионель. — Она его будет учить… А когда? — вдруг кричит он свирепо. — Ночью, да? Ночью вы, наверно, спите и Даньке тоже не грех поспать. Он за день достаточно набегается, и нагопкается, и наработается!
— Ну хорошо! — пытается мама загладить неловкость. — В общем, я вижу, у вас всё благополучно… Пойдём, Сашенька! Только тут такой запутанный ход на улицу… Можно, чтобы Даня проводил нас до ворот?
— Хорошо, — соглашается Ионель, и в глазах у него смешинка. — Пусть он идёт с вами, и тогда вы уж от него самого узнаете, что ход вовсе не такой запутанный… или что других ходов на свете вообще не бывает.
Мы прощаемся и уходим. Даже во дворе, загаженном гниющими отбросами, воздух кажется освежающим после жилища Ионеля.
Сделав несколько шагов, мама останавливается и спрашивает, положив руку на Данино плечо:
— Даня, скажи мне правду: тебе тут хорошо?
Даня слегка пожимает одним плечом и улыбается своей улыбкой, испуганной и доброй.
— Как это — «хорошо»? — говорит он. — А кому это бывает «хорошо»? Я такого никогда не видал… Живу — и всё. Бывает гораздо хуже…
— Но тебя не бьют, не обижают?
— Ой, что вы! — Даня словно даже обижен за Ионеля и его семью. — Они — хорошие люди, дай им бог здоровья. И всё-таки я же учусь! Мастер забыл вам сказать: я уже и петли могу метать тоже!
Мама суёт Дане что-то в руку:
— Вот. Купи себе семечек… или рожков… или конфеток… Что хочешь! И беги обратно: холодно, а ты без пальто… До свидания!
Даня явно обрадован.
— Спасибо… — говорит он со своей печальной улыбкой. — До свидания!
И бежит домой.
— Спасибо!.. — ещё раз слышим мы издали его голос.
Мы идём с мамой молча. Потом мама говорит:
— Ну, теперь, только на примерку к моей новой портнихе, мадам Розенсон, — и домой.
И мы прибавляем шагу.
У мадам Розенсон нам открывает дверь девочка лет двенадцати, в коричневом платье с белой пелеринкой, застёгивающейся под подбородком. Её светлые волосы аккуратно заплетены в косу. Девочка вводит нас в гостиную и просит нас подождать «хвилечку»: мадам Розенсон сейчас выйдет.
Гостиная — она же и примерочная — обставлена прилично. На круглом столе навалены горой модные журналы.
— А ты кто? — скрашивает мама у девочки.
— Я, прошу пани, ученица мадам Розенсон. Стефка.
Мама провожает девочку глазами.
— Ничего не скажешь… — вздыхает она. — Польское благотворительное общество работает лучше, чем мы. Ты заметила, как аккуратно девочка одета, как она хорошо держится? И отдают они детей настоящим мастерам. У мадам Розенсон можно научиться ремеслу: это тебе не Ионель…
Через минуту-другую появляется сама мадам Розенсон. У неё лицо властное и злое; приветливое его выражение похоже на слишком маленькую маску, из-под которой отовсюду вылезают грубость и злость. Мадам Розенсон, видно, сейчас завтракала или обедала: губы у неё в сале, и она облизывает их, как людоедиха.
— Стефка! Марыська! — кричит мадам Розенсон. — На примерку!
Та девочка, которая нас впустила, Стефка, и вторая, одетая точь-в-точь так же, Марыська, — вносят на манекене прикроенное и сметанное мамино платье. Когда они на миг открывают дверь из соседней комнаты, оттуда слышно жужжание швейных машинок и видны ещё одна-две такие девочки, как Стефка и Марыська.
Мадам Розенсон закалывает и примётывает на маме её будущее платье. Но я смотрю не на маму и не на платье. Я не отрываясь смотрю на портниху и её учениц.
Обе девочки стоят: одна — по правую, другая — по левую руку от мадам Розенсон. У Марыськи — заплаканные глаза. И Стефка и Марыська держат в руках булавки, подавая их портнихе, а та берёт булавки, не глядя на девочек, только протягивает за ними руку, то правую, то левую.
— Ножницы! — кричит внезапно мадам Розенсон.
И в ту же секунду одна из девочек подаёт ей ножницы.
— Мел! — гремит портниха через несколько минут.
И тотчас дрожащие пальцы подают ей мелок.
Всё это происходит степенно, чинно, но я вдруг начинаю волноваться. Мне всё кажется, что вот сейчас мадам Розенсон отпустит Стефке или Марыське пощёчину, уколет их булавкой или обругает как-нибудь так ужалено, что невозможно спокойно слушать. Наверно, это мне передаётся тревога, страх обеих девочек: они смотрят на мадам Розенсон, как кролики на удава…
К счастью, всё обходится благополучно. Примерка кончена. Девочки уходят, унося с собой мамино платье.
Одеваясь, мама спрашивает у мадам Розенсон:
— Эти девочки — ваши ученицы?
— Да, ученицы.
— Вы их взяли из благотворительного общества?
— А, боже избави! — отмахивается обеими руками мадам Розенсон. — На что мне это благотворительное общество? Дадут они мне, кого они хотят, платить будут ежемесячно гроши.
И ещё будут ходить ко мне «об-сле-до-ва-те-ли»! Совать нос в мои дела… Нужно мне это, как вы думаете, мадам Яновская? Не-ет! Я сама выбираю девочек в сиротских приютах или у родителей. Выбираю таких, какие МНЕ нужны…
Несколько секунд в комнате очень тихо. Мадам Розенсон приумолкла. Мама одевается и с опаской поглядывает на меня, потому что я соплю носом, как паровоз: плохой знак.
Потом мадам Розенсон продолжает свой монолог:
— Чего я хочу? Я хочу, чтобы девочки работали и пикнуть не смели! У меня им хорошо. Первый год я их не кормлю, — пусть жрут своё, только чтобы, борони боже, не запачкали платье или пелеринку: за это я наказываю! Платье и пелеринка — мои. Утром девочки приходят — одеться! Вечером перед уходом — всё снять и идти домой в собственном шматье! И если что не по мне, так никаких обследователей: хочу — прибью, а рука у меня — ого-го, тяжёлая! — И мадам Розенсон смеётся, как баба-яга, которая только что сожрала очень вкусную живую девочку с пальчик.
Этого смеха я уже не могу вынести. Пока Розенсониха говорила свои гадости, я ещё кое-как держалась. Но этот смех щёлкнул по мне, как бичом. Я оборачиваюсь к мадам Розенсон и кричу ей с ненавистью, с отвращением:
— Вы противная, злая женщина! Противная, противная!
Мне хотелось бы добавить ещё что-нибудь обидное, кусучее. Но, по своей несчастной способности говорить в минуты волнения не то, что мне хочется, я вдруг оглушительно ору на мадам Розенсон:
— Не хочу! Не хочу! Не хочу!
И выбегаю в переднюю. Потом на лестницу.
Я сижу на нижней ступеньке. Сейчас придёт мама и скажет мне с огорчением:
«Ты невыносимая! Я тебя больше никуда с собой не возьму»!
И та-та-та, и тра-та-та… Как будто я — скверная девчонка, а не мадам Розенсон — подлая, грубая баба!
Но всё поворачивается не совсем так. Мама приходит. Правда, поначалу она говорит то, чего я и ожидала:
— Ты невыносимая! Я тебя больше никуда с собой не возьму!
— Я сама… сама не желаю… Никогда в жизни не пойду к этой проклятой разбойнице!..
Но тут случается неожиданное — мама опускается рядом со мной на ступеньку лестницы, кладёт голову ко мне на плечо — и плачет. Плачет, как маленькая. Так, как если бы мадам Розенсон прибила её!
— Это ужасно, ужасно… — говорит мама сквозь слёзы. — Безобразно у нас поставлено это «обучение ремёслам»!
Когда мы уже подходим к нашему дому, я обращаю внимание на то, что у мамы в руках большой свёрток.
— Что это, мама?
— Да нет… так… покупка…
Меня вдруг озаряет догадка:
— Мама! Это твоё платье? От Розенсон?
— Да. Я взяла его обратно. Заплатила ей и ушла… — И, помолчав, мама добавляет: — Она требовала, чтобы ты перед ней извинилась…
Глава десятая. БОЛЕЗНЬ ЦАРЯ
Через несколько дней после этого, перед четвёртым уроком, в класс входит Дрыгалка. Она поднимает вверх свою сухонькую ручку, требуя тишины.
— Дети… — говорит она грустным голосом. — У нас большое горе, дети… Тяжкая болезнь поразила нашего обожаемого монарха, государя императора Александра Александровича… Весь народ молится о его благополучном исцелении… Сегодня после большой перемены уроков больше не будет: в нашей домовой церкви будет отслужено молебствие о здравии государя императора. Все воспитанницы католички и инославные могут идти домой. Православные — остаться на молебствие.
Дрыгалка выходит из класса. Как будто она рассказала о печальном — о болезни царя, — но никто не печалится! Это прежде всего происходит от особенностей самой Дрыгалки. Когда она говорит о чем-нибудь чувствительном, становится ещё более заметно, какое у неё бесцветное лицо, бумажный голос, пустые глаза.
В общем, все выслушали Дрыгалкино сообщение, никто не огорчился. Одна только Женя Звягина сказала:
— Бедненький мой царь… Бедненький дуся!
Но Женя Звягина, всем известно, обожает портрет Александра Третьего в актовом зале. Она даже записки ему пишет! В трудные минуты жизни, когда она не выучила какого-нибудь урока и боится, что её вызовут к доске, Женя пишет на маленьком листочке бумаги:
«Дуся царь, пожалуйста, пусть меня не спрашивают по арифметике, я вчера не успела приготовить».
Эту записочку Женя, подпрыгнув, старается забросить так высоко, чтобы она перелетела поверх громадного портрета и упала позади него. Если это удаётся и записка не падает обратно, не долетев до цели, — значит, всё хорошо: не спросят. Наверное, при осенней и весенней уборке, когда полосатки чистят за портретами, оттуда выгребают груды Жениных записочек, адресованных «дусе царю».
Итак, болен царь. Тот самый, о котором поётся в песне «Славься»:
Славься, славься, наш русский царь,
Господом данный нам царь-государь!..
Вот этот самый царь-государь Александр Третий болен. Тяжело болен!
Это тянется довольно долго. Сперва его перевозят в Крым, в Ливадию. Там, во дворце, он лежит, окружённый членами своей семьи и самыми знаменитыми врачами.
А по всей огромной России повторяют: «Государь умирает… Государь умирает… Государь умирает…» В газетах пишут, что болезнь государя повергла весь народ в глубочайшую печаль, что церкви переполнены людьми, которые, плача, молятся о здравии государя. Однако это не заметно ни на улицах, ни в церквах, — по крайней мере, никто не выходит из церкви на улицу заплаканный.
Я этого государя никогда не видала. Никуда не выезжала я из нашего города, а уж конечно, и государь никогда не приезжал к нам. Он живёт в Петербурге, в Зимнем дворце. И в загородном дворце — в Гатчине.
Я знаю государя по портретам. Царские портреты висят везде — и на почте, и в кондитерской, и в колбасной. Самый большой портрет — во весь рост — висит в актовом зале нашего института, прямо против входной двери. На всех портретах государь Александр Третий — светловолосый, с выпуклыми воловьими глазами, высокий, очень грузный Кажется, топни он ногой — и уйдёт его нога глубоко в землю! В магазинах продают аляповатые репродукции с картины "Чудесное спасение царской семьи при крушении поезда на станции «Борки». Всё «августейшее семейство», как пишут в газетах, изображено на фоне разбитых вагонов: сам государь Александр Третий, рядом с ним маленькая и курносая, как мопсик, государыня Мария Фёдоровна (бывшая датская принцесса Дагмара) и все их дети. Самая младшая, великая княжна Ольга Александровна, — совсем ещё девочка; лицо у неё испуганное, обе руки в страхе прижаты к груди.
Есть семьи, где царский портрет повешен на стену в одной из комнат. У Шабановых государь висит в гостиной, у новой моей подруги Оли Владимировой небольшой портрет царя поставлен на письменном столике. У нас царского портрета нет. В маминой комнате висит портрет её отца, моего дедушки Семёна Михайловича. В папином кабинете на видном месте стоит на столе вделанная в рамку фотография папиного любимого учителя, знаменитого анатома, профессора Грубера. Грубер — очень нахмуренный и сердитый, в очках и белом галстуке. На фотографии он написал крупным круглым почерком по-латыни: «Моему ученику Якову Яновскому».
События в Ливадийском дворце, в далёком Крыму, обсуждаются людьми и в особенности газетами. Наибольший интерес вызывает сын Александра Третьего, наследник — цесаревич Николай Александрович. Ведь если Александр Третий умрёт, на трон вступит наследник — цесаревич, он будет царствовать, и его будут называть «Николай Второй». Газеты пишут, что, по настоянию больного Александра Третьего, в Ливадию прибыла из-за границы невеста наследника-цесаревича, гессен-дармштадтская принцесса Алиса. Она отказалась от своей религии, лютеранства, приняла православие. Портреты «высоконареченных» жениха и невесты выставлены в витринах магазинов, напечатаны в журналах и газетах и даже на конфетных коробках. Принцесса Алиса Гессенская, ныне переименованная в Александру Фёдоровну, — красивая, крупная, как лошадь. На портретах она сидит на стуле, прямая и строгая, как синявка. Лицо у неё неулыбчивое, а странно выдающиеся скулы и холодные глаза придают этому лицу недобрый вид. Около неё на всех портретах стоит будущий русский царь Николай Второй (говорят, их нельзя снимать стоящими рядом — он ниже её ростом). Отец его, тот, что сейчас умирает, гораздо красивее своего курносого сына.
Юзефа, поглядев на портрет наречённых жениха и невесты, которые не сегодня-завтра станут царём и царицей, неожиданно заявляет:
— А и злая же немкиня! Очи, як у волка голодного!
Всех так или иначе интересует новое царствование, которое вот-вот начнётся: каково-то оно будет? Забившись в папином кабинете, я слушаю, о чём разговаривают люди, приходящие к папе. Врачи обсуждают болезнь государя Александра Третьего, стараются определить её течение на основании ежедневных бюллетеней, печатаемых в газетах. В бюллетенях сообщаются данные за сутки — пульс, температура. Подписаны бюллетени самыми знаменитыми придворными лейб-медиками. Папины товарищи — врачи — и сам папа считают, что дело плохо и Александр Третий не выживет.
— Подумать только! — говорит Иван Константинович. — Ему всего сорок девять лет…
— Умирали цари и моложе! — мрачно ухает доктор Фин, удивительно похожий на старую сову.
— Ну, уж это только те, что не своей смертью померли, — машет рукой хирург Небогин.
Мне ужасно интересно: как это помирают «не своей» смертью? А чьей же? Чужой? Вот так, как папа, по рассеянности, часто приходит домой в чужих калошах?
И ещё интересно мне: почему все говорят о возможной смерти царя так безучастно? Не жаль им его, что ли?
В очередном нашем задушевном разговоре с папой, на диване, под енотовой шубой, я спрашиваю:
— Папа, а царь этот — старый царь — хороший или плохой?
Папа отвечает не сразу:
— Видишь ли, Пуговка… собственно говоря…
— Папа, я это ненавижу!
— Что ты ненавидишь?
— А вот это твоё «собственно говоря»! Когда ты начинаешь тянуть «видишь ли… собственно говоря», — значит, ты не хочешь сказать мне правду.
— А и верно! Я и вправду не очень хочу отвечать на твой вопрос.
— Почему?
— Потому что ты ещё дурочка… Сболтаешь где-нибудь то, что я тебе скажу, — и готово: тебя исключат из института, меня посадят в тюрьму. Поняла?
— Ну, если ты мне не доверяешь… — И я, захлебнувшись обидой, начинаю спускать ноги с дивана, чтобы уходить.
— Да сиди ты! — удерживает меня папа. — Я тебе скажу, только смотри — никому!
— Ник-к-кому!
— Так вот… Как бы тебе это сказать…
— Ты — опять? — рычу я и передразниваю папу: — «Как бы тебе это сказать…», «Собственно говоря…»
— Да ведь, понимаешь, трудно мне ответить на такой вопрос. Я сам никогда царём не бывал… Дело это, наверно, трудное… И — противное!
— Твоё — лучше?
— А то нет? — удивляется папа. — Самый плохой врачишка всё-таки нужен людям. А самый лучший царь… чёрт его знает, кому он нужен!
— Ты мне не ответил! Я хочу знать: наш старый царь — хороший?
Папа задумывается. Потом говорит не громко, но решительно:
— Плохой. Не только сам никогда ничего хорошего не сделал, но даже из того, что сделал до него отец, — а отец его кое-что сделал толковое, хотя и немного, — Александр Третий вытоптал всё хорошее до последней крупинки, а плохое ещё умножил.
Я долго молчу. Мне представляется, как тяжёлый, огромный Александр Третий, вылезши из портрета в нашем актовом зале, топчет что-то «толковое», что сделал его отец. Вытаптывает ножищами в огромных лакированных сапогах…
— Папа… Павла Григорьевича и Анну Борисовну сослал в Сибирь он?
— Он.
— А товарищей Павла Григорьевича, которых повесили в Якутске, кто приказал казнить? Он?
— Он. И что страна нищая, и крестьяне без земли, и рабочие живут хуже, чем скотина… неграмотные, тёмные… и что поляков согнули в бараний рог, и литовцев давят, и евреям вздохнуть не дают — он ничего этого даже на каплю не облегчил!
Всё. Больше мы с папой об этом не разговариваем.
Болезнь царя затягивается. И каждый день у нас только три урока: после большой перемены вместо уроков служат молебствие в домовой церкви нашего института, а мы — «инославные» — уходим домой. Даже служитель Стёпа, тот, что даёт звонки к урокам и переменам, как-то, чистя дверные ручки, ворчал под нос довольно явственно:
— Богомолебствуем и богомолебствуем — и паки богомолебствуем…
Нехорошо, конечно, радоваться чужой болезни, но надо сказать правду: нам, «инославным», сейчас не жизнь, а масленица: с часу дня мы свободны! Стоит удивительная осень, вся в золоте, тепло почти как поздним летом, и мы ежедневно отправляемся на прогулки. Чаще всего ходим группкой: Меля Норейко, Маня Фейгель, Олеся Мартышевская, Зина Кричинская и я. Такая беда, что Лида Карцева, Варя Забелина и Катя Кандаурова православные! Из-за этого они не могут ходить с нами, должны выстаивать молебствия в церкви…
В один прекрасный день мы карабкаемся на Замковую гору Она возвышается над нашим городом. На ней — бесформенные остатки старинного замка и почти полностью сохранившаяся башня из красного камня.
Сейчас здесь всегда тихо и пустынно. Мы — вся куча девочек — очень устали, карабкаясь на гору. В руках у нас большие пёстрые букеты разноцветных опавших листьев — больше всего кленовых. Мы сидим на осенней земле около какого-то обломка былого каменного сооружения… части стены, что ли… с сохранившимся круглым отверстием. Что это за отверстие: дозорное окно, из которого следили за приближением неприятеля, или бойница, из которой стреляли? Нас охватывает чувство тайны. Мы здесь совсем одни, вокруг тоже не видно ни одного человека… Мы жмёмся около старой-старой стены, круглый глаз которой смотрит в прошлое.
Вдруг из-за обломков стены слышен мужской голос, глубокий, странно-певучий, полный страстного чувства:
Мы словно окаменели. От неожиданности? Оттого что в круглом глазу старой стены есть какая-то жизнь? Нет, больше всего нас захватила та сила чувства, то дыхание большой любви, о которой почти поёт голос за стеной, читающий письмо Евгения Онегина.
Конечно, Меля так же полна странного и непонятного восторга, как и мы. Но вместе с тем она не стоит, как мы, боясь пошевельнуться, боясь даже перевести дух. Меля высмотрела на старой стене зацепки, вроде уступчиков, и неслышно, как кошка, вскарабкавшись по ним, взглянула в круглый глаз стены. На лице её — сильнейшее изумление. Она делает нам призывные знаки, приглашая и нас карабкаться за ней. Но только мы двинулись — из-за стены опять раздаётся всё тот же голос. Теперь он читает — я узнаю с первых же слов — монолог Чацкого из «Горя от ума». Он читает всё так же певуче — ну совсем поёт! — но с гневом, с яростью оскорблённого чувства:
Мы стоим неподвижно, несмотря на энергичные знаки Мели, зовущей нас лезть к круглому глазу. Замечательное чародейство этого певучего, этого почти поющего голоса за стеной погрузило нас в какое-то непонятное оцепенение…
Не сговариваясь, мы все пятеро — даже Меля слезла со своего наблюдательного поста и смешалась с нами — выбегаем из-за стены с круглым глазом: мы хотим увидеть, увидеть глазами того, кто прочитал, почти пропел нам эти отрывки из Пушкина и Грибоедова.
Мы выбежали — смотрим во все глаза: никого! Ни Онегина, ни Чацкого… Нет, впрочем, какой-то человек очень робко и застенчиво жмётся к тому обломку стены, из-за которой мы только что слушали чудный голос. Этот человек стоит как раз под круглым глазом. Он — юноша лет шестнадцати-семнадцати, на нём старенькая, обтёрханная ученическая шинель, только пуговицы уже не форменные — значит, бывший ученик.
Мы идём к нему, всё ещё заворожённые тем, что слышали; нам не верится, что невидимый чтец — этот нескладный парень в обшарпанной бывшей ученической шинели. Но он смотрит на нас — у него прекрасные глаза, необычно удлинённые к вискам, с глубоким, умным взглядом, — и мы понимаем: да, это он сейчас читал!
Мы протягиваем ему свои пёстрые осенние букеты из листьев всех расцветок.
Юноша очень смущён.
— В-в-вы эт-то м-м-мне? Ч-ч-что вы? З-за что?
Очень странно слышать: тот же голос — и так сильно заикается!
— Нет, нет! Пожалуйста, возьмите! — просим мы его хором.
Юноша застенчиво пожимает плечами. Потом берёт наши цветы и улыбается нам хорошей, дружелюбной улыбкой:
— С-с-п-п-пасибо!
И, неловко поклонившись, он быстро уходит, прижимая к груди наши смешные букеты из листьев. Вот его шинель мелькнула в густой щётке кустов калины, вот он уже спускается с горы — исчез из виду.
Только тут мы словно просыпаемся от сна.
— Певцов… — тихо говорит Меля. — Это Певцов…
И так как имя это нам явно ничего не говорит, Меля поясняет:
— У нас в институте его сёстры учатся. Певцовы — Соня и Надя.
— А почему он так странно говорит? — спрашивает кто-то.
— Потому что он — заика. Начнёт что-нибудь читать — вот как здесь раньше читал, слыхали? — нисколько не заикается! А простой разговор — трудно ему… И он стесняется, прячется ото всех.
Теперь я знаю: юноша в задрипанной ученической шинели был Илларион Певцов. Он был тяжёлый и, как все считали, неизлечимый заика. А он мечтал стать актёром! И у него в самом деле был талант! Он уходил за город, в лес, взбирался на горы; там он декламировал, читал монологи, отрывки из пьес. Над ним насмехались, считали его полоумным. Но он превозмог непреодолимое, он сделал невозможное: через пятнадцать-двадцать лет после этой нашей встречи с ним на Замковой горе он стал одним из самых замечательных русских актёров. В обыденной жизни ему так и не удалось до конца избавиться от своего заикания. Но на сцене, когда он чувствовал себя не актёром Певцовым, а королём Лиром, Павлом Первым, Чацким, он совершенно перевоплощался: заикание исчезало без следа, он говорил плавно, глубоко, сильно. Бывали, однако, и у него срывы, бывали полосы, когда он не мог играть, потому что лишался силы управлять своей речью и побеждать её недостаток. И всё же он не отчаивался, у него не опускались руки! Когда я думаю о людях сильной воли, сильной страсти к искусству, я всегда вспоминаю его — чудесного актёра Иллариона Певцова. И мне приятно думать, что наши смешные попугайно-пёстрые букеты из осенних листьев были, может статься, первыми цветами, поднесёнными ему на трудном, но победном пути.
Когда мы в тот день спустились с Замковой горы, во всём городе уже были расклеены объявления в чёрной траурной рамке, такого-то числа, во столько-то часов государь император, самодержец всероссийский, Александр Третий «в бозе почил».
— Что это значит: «в Бозе почил»? — спрашиваю я дома у папы.
— Значит, умер.
— А почему он умер в Бозе? Он же был в Ливадии! Разве он оттуда переехал в Бозу!
— «В бозе», — объясняет папа, — это на церковнославянском языке значит: «в боге». Умер в боге. Ну, как говорят человеку: «Ступай, милый, с богом!» Обыкновенные люди умирают просто, а цари отправляются на тот свет «с богом» — «в бозе»… Вот и всё. Поняла?
Понять-то я поняла, но мне всё-таки странно, почему по-церковнославянски бога называют так фамильярно: «бозя»… Как «Кузя» или «Юзя».
Весь день и весь вечер к нам приходят люди. Не то чтобы они были опечалены смертью царя — нет, нисколько! Но все они взволнованны, и у всех один вопрос: что будет? Или вернее: будет что-нибудь или не будет? Никто не уточняет, о чём идёт речь, — это, видимо, всем понятно. Дедушка читает газеты, не перестаёт вздыхать и мрачно крутить головой.
Я сижу тихонько, как мышь, за валиком дивана в папином кабинете. Никто меня не зовёт: Поль на уроке, мама и Юзефа купают маленького Сенечку. Я смотрю на людей, приходящих к папе — иные приходят на десять — пятнадцать минут! — и так как все говорят про одно и то же, непонятное мне, то я развлекаюсь, придумывая: из чего сделан этот человек или как именно сделан тот? Вот пришёл наш сосед, зубной врач Тасселькраут, длинный, как жердь, и я думаю: «Он сделан так, как делают копчёного сига, — в спину ему воткнули палку». Сиг-Тасселькраут уже с порога говорит:
— Яков Ефимович! Вы же умный человек…
— По-моему, — отвечает папа, — вы, Семён Захарович, тоже умный человек.
— Нет, скажите: вы что-нибудь знаете?
— Откуда? — удивляется папа.
— Ну, откуда-нибудь…
— Ничего и ниоткуда.
— Но всё-таки как вы думаете?
— Как я могу думать, когда я ничего не знаю! — удивляется папа.
Директор музыкальной школы пианист Трощинский, с головой, похожей на щётку, насаженную на человеческие плечи, врывается в папин кабинет, как буря:
— Яков Ефимович!..
— Василий Васильевич, голубчик! Давайте сразу: я ничего не слыхал, ничего не знаю и потому ещё ничего пока не думаю.
— Но всё-таки вы считаете: можно надеяться на что нибудь?
— Понятия не имею!
Трощинского сменяет хирург Юндзилл. Он ни из чего не сделан. Вот именно, его ещё не сделали! Вроде как начали ребята вылеплять лицо и голову из снега или, может быть, даже скульптор высек резцом эту старческую голову в глыбе камня — и всё: больше ничего не успел сделать. Так доктор Юндзилл и двигается — гора горой. Но лицо ему скульптор сделал красивое, умное.
— КохАны Якубе (любимый Яков)… — обращается к папе доктор Юндзилл.
Разговор у них идёт по-польски, но я понимаю этот язык хорошо.
— Коханы Якубе… Видишь, я к тебе пришёл…
— Я даже знаю, зачем вы ко мне пришли! — словно поддразнивает его папа.
— Якубе! Ты же сам понимаешь… Кухарку сменяем, кучера сменяем — и то интересуемся: а что собой представляет новая кухарка или новый кучер? А тут ведь дело серьёзное! — Он понижает голос. — Новый царь! Жизнь меняется! Хочется, чтоб она стала лучше… Что-то у тебя на лице я не вижу этих ожиданий, этой радости, а?
— А откуда их взять, шановный (уважаемый) коллега? — говорит папа невесело. — Есть, знаете, такая русская пословица: «Яблочко от яблоньки недалеко падает!»
— Да… — соглашается Юндзилл. — Яблоня в самом деле была не очень…
Тут в кабинет входит новый человек — невысокого роста, с чем-то вроде абажура над глазами.
— А, — радуется ему папа, — вот кто расскажет нам интересные вещи!.. Вы знакомы с Александром Степановичем, шановный коллега Юндзилл?
Пока доктор Юназилл обменивается рукопожатием со вновь прибывшим, папа проюлжает:
— Александр Степанович Ветлугин — один из самых образованных людей в нашем городе. Историк!
— Преподаёте в гимназиях? — спрашивает доктор Юндзилл.
— Нет! — очень резко отстраняет вопрос Александр Степанович. — Для преподавания в гимназиях требуются не только знания — некоторое количество их у меня есть, но и другие добродетели, каковых у меня нет.
Я знаю Александра Степановича и знаю о его бедственной жизни. Взрослые говорят, что его невзлюбило начальство «за смелость и независимость суждений». Я понимаю это так, что Александр Степанович, наверно, не подлаживался к такому начальству, вроде нашей Колоды, и не вторил ей в угоду, как синявка: «Ах, прэлэстно, прэлэстно!» И его уволили из гимназии. Он даёт частные уроки, пно их у него мало, да и обращаются к нему всё больше малоимущие ученики. Папа и мама очень любят Александра Степановича, постоянно зовут его к нам в гости. Но он — гордый человек, приходит редко, отказывается от обеда или чаю: «Благодарствую. Сейчас вкусил дома».
— Александр Степанович! — говорит папа, усаживая его в кресло. — Что вы можете сказать нам по случаю последних событий?
— Что же? Могу помянуть ныне скончавшегося государя Александра Третьего. Только чем поминать-то? — И, прижмурив под абажуром свои больные глаза, Александр Степанович начинает говорить так гладко, словно он читает по книге. — Рождение Александра Третьего было возвещено в три часа дня жителям столицы триста одним выстрелом с бастионов Петропавловской крепости. Вечером того же дня столица была иллюминована… Неведомый поэт напечатал в журнале «Маяк» приветственную оду:
— Осиявают? — смеётся папа.
— Так точно: оснявают. Затем, — продолжает Александр Степанович, — при самом рождении своём Александр Третий был назначен шефом Астраханского карабинерного полка, а самому полку было пожаловано отличие — носить вензель своего державного шефа офицерам — золотой, нижним чинам — из красного сукна. Вот как будто и все, что я могу сказать об Александре Третьем По крайней мере, такого, за что мне не нагорело бы от начальства Да, вот ещё при его рождении отец его — позднее Александр Второй — передал в распоряжение санкт-петербургского военного генерал губернатора три тысячи рублей на «вспомоществование беднейшим жителям столицы». Всё.
— Но… — Доктор Юндзилл смотрит на Александра Степановича с величайшим недоумением. — Но ведь мы…мы хотели бы…
— Александр Степанович, — мягко говорит папа, — мы с доктором Юндзиллом хотели бы услышать от вас не о покойном Александре Третьем, а о новом царе — Николае Втором.
Александр Степанович открывает под своим абажурчиком красные, воспалённые глаза и в упор смотрит на папу:
— Яков Ефимович! Если о царе, чей жизненный путь сегодня уже закончится, я могу сказать вам лишь так немного, то что же можно сообщить о царе, который сегодня только вылупляется из яйца, как цыплёнок? Ничего… Имею честь кланяться.
И Александр Степанович быстро уходит. Он и всегда приходит и уходит неожиданно, сегодня он как то не по-обычному нервничает. А тут ещё мама зовёт всех чай пить.
— Простите… Тороплюсь по делу… — И нет уже Александра Степановича.
Папа и доктор Юндзилл долго молчат Потом папа вдруг говорит:
— Что ж, дорогой коллега, подождём ещё немного. Завтра, вероятно, будет обнародован манифест новою царя. А вдруг там будет что-нибудь неожиданное? Хорошее?
Доктор Юндзилл тяжело поднимается со стула, кладёт свои могучие руки на папины плечи и говорит с хитрой улыбкой:
— Ой, Якубе, Якубе! Таким «весёленьким» голоском, как ты это сейчас сказал, — таким я разговариваю только с самыми безнадёжными больными, которых я уже никак не надеюсь вы лечить!.. Ну что же, подождём царского манифеста…
Он уходит, папа провожает его в переднюю.
Возвратившись в кабинет, папа застаёт меня задумавшейся в уголке его дивана. Папа садится к письменному столу.
— Папа… — говорю я. — Я всё знаю…
— Всё? — спрашивает папа с наигранным удивлением. — Завидую тебе!
— Да, всё.
— Какая осведомлённость! — балагурит папа. — И какая скромность! «Знаю всё»! Не больше и не меньше! Может, скажешь и мне?
— Пожауйста. Все волнуются из-за того, что новый царь. Какой он будет — хороший, плохой? Так, папа?
— Так, — подтверждает папа очень серьёзно. — А ещё что?
— А ещё… вот тут я немножко не поняла… Все гадают: будет какая-то очень нужная вещь в манифесте или не будет?.. Чего это они ждут папа, а? Какая это у них желательная штучка?
— «Желательная штучка», — посмеивается папа. — Видишь ли… как бы это тебе сказать?
Я слезаю с дивана и с оскорблённым видом иду к двери.
— Ку у уда? — кричит папа. — Сию минуту подойти ко мне!
Я подхожу.
— Ты что это за фокусы показываешь?
— Никаких фокусов я не показываю! — говорю я угрюмо. — А только надо что-нибудь одно. Не хочешь сказать — ну, так и говори не скажу! И всё. А ты начинаешь размазывать: «Видишь ли… собственно говоря… Как бы тебе сказать…» Можно подумать, мне пять лет!
— Да ведь трудно мне объяснить тебе это, тупица ты!
— Ах, я ещё и тупица?
— Да постой ты, господи, неугомонная какая! Я обдумываю, как сказать это… Непонятное ведь оно для тебя!
— Если я не пойму, я скажу: объясни ещё раз!
— Ну, и кроме того… — Папа водит пальцем перед моим носом. — Секретное ведь это!
— А когда я кому-нибудь твои секреты разбалтывала? Когда? — наседаю я на папу. — Даже Полю — нет! Даже Юльке — и то никогда ничего секретного не рассказывала! А ты говоришь…
— Ну ладно, слушай… А что ты, собственно, хочешь от меня узнать?
— Я хочу узнать, — говорю я упрямо, — что такое люди хотели бы прочитать в этом царском манифесте или как его там…
Папа отвечает, старательно подбирая слова, чтобы мне было понятнее:
— Вот… Люди хотели бы, чтобы царь написал так. «Государство у меня большое. Я один. Мне трудно всё делать одному, всё понимать, всё знать, всё уметь, обо всём заботиться. И вот я, царь, хочу, чтобы лучшие люди в государстве помогали мне править». Вот что люди хотели бы прочитать в царском манифесте. Поняла?
— Яков! — говорит дедушка. — Зачем ты говоришь ребёнку такое?
— А что ж! — говорю я. — Что тут непонятного? И, по-моему, это всё правильно!
Папа смотрит на меня — не пойму как: и любовно, и насмешливо, и грустно. Он прижимает мою голову к себе:
— Ох, Пуговица ты моя, Пуговица… К белью такие пуговицы пришивать… К штанишкам твоим — вот!.. — Отстранив меня от себя, папа смотрит мне в глаза и говорит, но уже словно не мне, а самому себе: — Подумать только! Даже детям понятно, дети считают правильным!..
— А взрослые как считают?
— Это мы с тобой прочитаем в манифесте… Только я — имей в виду! — ни на что не надеюсь…
— Я тоже, — вздыхает дедушка. — Что он сумасшедший, что ли, царь этот, чтоб самого себя урезывать? Не-е-ет! Он в свою власть зубами вцепится. Знаю я их, очень хорошо знаю!
Кого это дедушка так хорошо знает — царей, что ли? И откуда у него это редкостное знание, я не спрашиваю. Я целиком поглощена разговором папы с дедушкой. Это, собственно говоря, не разговор — каждый из собеседников говорит словно для самого себя. Но я всё «наматываю на ус», потому что это имеет прямое отношение к тому, что будет в царском манифесте: призовёт царь себе помощников из народа, чтобы помогали они ему получше управлять, или не призовёт.
— Да… — продолжает папа думать вслух. — Не было такого случая в истории, чтобы цари или короли сделали это сами, по доброй воле…
Мне ужасно хочется спросить: а как это бывает, когда цари отдают свою власть «не по доброй воле»? Но тут вдруг папа вспоминает обо мне — он, видимо, совсем забыл о том, что я тут стою и жадно вслушиваюсь во все разговоры! Папа сердится и свирепо кричит на меня:
— Да уйдёшь ты отсюда когда-нибудь или нет? Пристаёшь тут, канючишь: «Папа, почему? Папа, отчего? Папа, скажи!» Ступай, пожалуйста, к своим игрушкам!
— К игру-у-ушкам? — тяну я так насмешливо, как только могу. — Сейчас пойду отниму у Сенечки погремушку и буду ею трещать! Или ещё попрошу, чтобы меня положили, как Сенечку, в корыто! «Купа-а-атеньки! Купа-а-теньки!» — передразниваю я Юзефины и мамины приговоры при Сенечкином купании.
Неизвестно, что ответил бы мне на это папа — он так умеет отщёлкать, ой! — но тут к нему входит новый посетитель и задаёт ему всё тот же вопрос, какой задавали все предыдущие:
— Яков Ефимович, ну как? Будет что-нибудь, как вы думаете?
— Никак я не думаю! — устало отмахивается папа. — Ничего не будет, не ждите!
И, повернувшись ко мне:
— Ступай погуляй около дома… Ты теперь совсем не бываешь на воздухе.
Конечно, я могла бы возразить, что сегодня я целых два часа гуляла с подругами на Замковой горе, а там воздуху сколько угодно: дыши — не хочу! Но мне не хочется пререкаться, да и надоели мне все эти люди, прибегающие к папе всё с тем же вопросом: «Будет что-нибудь? Или не будет?»
Я выхожу на улицу. Иду по тротуару и думаю:
"Удивительное дело, никто ничего не знает! Все тормошатся, суетятся, как муравьи в муравейнике, куда воткнули палку… Даже папа и тот сам говорит: «Ничего не знаю»…
— Здрасте! — слышу я голос позади себя.
Оборачиваюсь — Вацек! Рыжий Вацек! Тот самый, которого арестовали после 1 мая и выпустили в самый день свадьбы Юлькиной мамы и Степана Антоновича. Рыжий, весёлый Вацек, друг Юльки. Да что друг Юльки — приятель Павла Григорьевича, их обоих и арестовали тогда в один день.
— Вацек! — радуюсь я ему так, словно сквозь его рыжую голову мне видится круглое, как луна, улыбающееся лицо Месяца Месяцовича, Павла Григорьевича. — Давно я вас не видала. Вот хорошо, что встретила!
— И я тоже радый! — весело отзываемся Вацек. — Учителя своего помните?
— Павла Григорьевича? Ну как же!
— Может, пишет он вам когда?
— Пишет, конечно. Он в Харькове. В университете учится. Скоро будет доктором…
— Ну, дай ему боже! — говорит Вацек сердечно, от души. — Он не вам одной учитель: все мы тут через него, можно сказать, свет увидали… А с Юленькой вы давно не встречалися?
— Давно! — вздыхаю я. — Ходила я к ней на той неделе в Ботанический сад. А там уж никого нету, и ресторан заколочен… Может, и уехали они в другой город? Они ведь собирались уезжать…
— Нет, не уехали ещё. Хотите, покажу, где они живут? Тут близенько!..
Юлька радуется очень и мне и Вацеку.
— Ой, Саша, как хорошо! — И тут же спохватывается: — А лучше бы ты вчера пришла!
— Почему?
— У меня вчера конфета была. А сегодня — нету: съела я её.
Чисто выскобленный стол покрыт газетным листом. Вацек тычет пальцем в напечатанный в газете портрет Николая Второго.
— С обновкой, Юленька, поздравляю! С новым царём! — говорит он насмешливо.
— Разве он плохой? — спрашивает Юлька.
— А пёс его знает! — беспечно говорит Вацек. — Плохой, хороший — нам всё одно. Хуже нам от него не будет. Ну, куда ещё хуже, чем теперь живём?
— Татуся мой говорит: лучше не будет, а хуже всегда может быть! — рассудительно возражает Юлька.
— А вдруг будет лучше? — спрашиваю я.
— Ни! — решительно отрезает Вацек. — Это паны думают — новый царь их позовёт, вместе с царём управлять будут! Позовёт он их, как же!
И Вацек хохочет так весело, словно это невесть как смешно.
— А вы думаете, не позовёт?
Вацек поднимает плечи с преувеличенным удивлением:
— А хоть бы и позвал, так ведь кого позовёт? Панов позовёт, богатых, вот кого! Не мужика, а барина его! Не меня, а хозяина моего, чтоб он подох! Думаете, Саша, папашу ваше го позовут? Борони боже! Самых богатых панов позовут — не его! А панам рабочий человек — тьфу! Хоть собаки его ешь… Нет, нашему брату, рабочему, не от этого дела добра дожидать надо!
Мне очень хочется спросить у Вацека: а от какого дела можно ждать добра рабочему человеку? Но я стесняюсь. И ещё я боюсь, как бы Вацек не послал меня играть моими игрушками, как это сделал час тому назад папа…
С полчасика я сижу у Юльки. Их отъезд должен решиться в ближайшие дни. Конечно, Юлька не уедет, не простившись со мной.
Я иду домой и думаю: Вацек, ясно, ничего хорошего от нового царя не ждёт. И сама собой возникает у меня мысль: значит, и Павел Григорьевич тоже, наверно, ничего от царя не ждёт…
А от кого они ждут добра?
…И вот он лежит перед нами, утренний газетный лист. Портрет умершего государя Александра Третьего. Портрет нового государя Николая Второго. И — царский манифест:
БОЖИЕЙ МИЛОСТЬЮ
МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ, МОСКОВСКИЙ, КИЕВСКИЙ, ВЛАДИМИРСКИЙ, НОВГОРОДСКИЙ, ЦАРЬ КАЗАНСКИЙ, ЦАРЬ АСТРАХАНСКИЙ, ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ЦАРЬ СИБИРСКИЙ, ЦАРЬ ХЕРСОНИСА ТАВРИЧЕСКОГО, ЦАРЬ ГРУЗИНСКИЙ; ГОСУДАРЬ ПСКОВСКИЙ И ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ СМОЛЕНСКИЙ, ЛИТОВСКИЙ, ВОЛЫНСКИЙ, ПОДОЛЬСКИЙ И ФИНЛЯНДСКИЙ; КНЯЗЬ ЭСТЛЯНДСКИЙ. КУРЛЯНДСКИЙ, ЛИФЛЯНДСКИЙ И СЕМИГАЛЬСКИЙ; САМОГИТСКИЙ, БЕЛОСТОКСКИЙ, КАРЕЛЬСКИЙ, ТВЕРСКИЙ, ЮГОРСКИЙ, ПЕРМСКИЙ, ВЯТСКИЙ, БОЛГАРСКИЙ И ИНЫХ; ГОСУДАРЬ И ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ НОВАГОРОДА, НИЗОВСКИЕ ЗЕМЛИ, ЧЕРНИГОВСКИЙ, РЯЗАНСКИЙ, ПОЛОТСКИЙ, РОСТОВСКИЙ, ЯРОСЛАВСКИЙ, БЕЛОЗЁРСКИЙ, УДОРСКИЙ, ОБДОРСКИЙ, КОНДИЙСКИЙ, ВИТЕБСКИЙ, МСТИСЛАВСКИЙ И ВСЕЯ СЕВЕРНЫЯ СТРАНЫ ПОВЕЛИТЕЛЬ; ГОСУДАРЬ ИВЕРСКИЯ, КАРТАЛИНСКИЯ И КАБАРДИНСКИЯ ЗЕМЛИ И ОБЛАСТИ АРМЕНСКИЯ ЧЕРКАССКИХ И ГОРСКИХ КНЯЗЕЙ И ИНЫХ НАСЛЕДНЫЙ ГОСУДАРЬ И ОБЛАДАТЕЛЬ; ГОСУДАРЬ ТУРКЕСТАНСКИЙ; НАСЛЕДНИК НОРВЕЖСКИЙ, ГЕРЦОГ ШЛЕЗВИГ-ГОЛСТИНСКИЙ, СТОРМАРНСКИЙ, ДИТМАРСЕНСКИЙ И ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ — ОБЪЯВЛЯЕМ ВСЕМ ВЕРНЫМ НАШИМ ПОДДАННЫМ…
Я положительно не дышу — вот-вот… вот сейчас будет сказано…
… В БЕСПРЕДЕЛЬНОЙ СЫНОВНЕЙ СКОРБИ НАШЕЙ О НЕВОЗНАГРАДИМОЙ УТРАТЕ…
Дальше идёт так непонятно, что я читаю, почти по складам:
…ПРОНИКШИСЬ ЗАВЕТАМИ УСОПШЕГО РОДИТЕЛЯ НАШЕГО, ПРИЕМЛЕМ СВЯЩЕННЫЙ ОБЕТ ПРЕД ЛИЦОМ ВСЕВЫШНЕГО ВСЕГДА ИМЕТЬ ЕДИНОЮ ЦЕЛЬЮ МИРНОЕ ПРЕУСПЕЯНИЕ, МОГУЩЕСТВО И СИЛУ ДОРОГОЙ РОССИИ И УСТРОЕНИЕ СЧАСТЬЯ ВСЕХ НАШИХ ВЕР-НОПОДДАННЫХ…
Я даже вспотела, пока всё это прочитала. А поняла самую малость…
— Папа! Что это значит?
Папа проявляет все признаки отвратительного настроения духа: он пьёт чай с невообразимым шумом, всё время вызвякивает что-то ложечкой о подстаканник и упорно молчит.
— Ну, папа же!..
— Что тебе надо? — спрашивает он так, словно я — чужая девочка, которая хватает его на улице за рукав пальто.
— Я не понимаю, что тут написано!
— А что тут понимать? — взрывается папа, как ракета. — Всё ясно: он очень огорчён тем, что умер его дорогой папа… Он будет всё делать так, как делал его дорогой папа… Для дорогой России… Кланяйтесь дорогой Марье Ивановне!..
— Яков! — говорит мама с упрёком. — Ты слышишь, что ты говоришь ребёнку?
Я надеваю ранец — мне пора идти в институт. В эту минуту слышен плач проснувшегося Сенечки, и мама устремляется в соседнюю комнату. Мы с папой остаёмся одни.
— Папа… — говорю я тихонько. — Значит, ничего не вышло?
— Я же тебе вчера говорил, что не выйдет!
— Не позовут никого, чтобы помогать царю? И людям не станет лучше?
— Не позовут. Не станет лучше.
Я ухожу. Жалко, думаю, что так вышло. Но всё-таки, может быть, сегодня успели вписать в манифест ещё не все? Может быть, что-нибудь ещё объявят потом?
Нет, не объявили. Два месяца спустя царь принимал многочисленные делегации и депутации от всей страны. Некоторые из них осторо-о-ожно, отдале-о-о-онно намекали царю на то, что мне говорил папа. Но у царя была заранее заготовлена ответная речь, где всё это называлось «беспочвенными мечтаниями», с которыми надо покончить. Речь эта была написана на листе бумаги и засунута за обшлаг рукава его мундира. От непривычки выступать и пользоваться «шпаргалками» молодой царь нечаянно прочитал не «беспочвенные мечтания», а — «бессмысленные мечтания». Так он и брякнул вслух, громко. Скандал получился на весь мир! В самом деле, в течение всего своего долгого и несчастного царствования Николай всеми мерами боролся против «бессмысленных мечтаний» об ограничении самодержавия, о лучшей жизни для рабочих, о земле для крестьян, об освобождении угнетённых народов. Он боролся с «бессмысленными мечтаниями», — а они в конце концов оказались сильнее и победили его! Но это случилось только двадцать два года спустя — в 1917 году.
…Я прихожу в институт, и тут на меня наваливаются очередные неприятности. Во-первых, я — единственная не в трауре: без чёрной креповой нашивки на воротничке и манжетах.
Дрыгалка поджимает губки самым ядовитым образом:
— Что же, Яновская, ваша мама не знает, что ли, о кончине нашего обожаемого монарха? Или она не понимает, что это — горе, несчастье для всего государства? Она, может быть, даже не плачет вместе со всей Россией?
Ну, что ей ответить? Правду, как учил папа: «Да, моя мама знает, что умер государь, но она не плачет»? Не-е-ет уж! Я теперь учёная и такой правды не говорю.
Оказывается, по случаю смерти государя занятий не будет целых три дня.
У всех девочек такие счастливые лица, как будто государь не умер, а позвал их на бал к себе во дворец.
Сейчас Дрыгалка продиктует нам то, что задано на следующий день занятий.
И тут на меня обрушивается новая беда!
Мы сидим перед своими раскрытыми дневниками.
Целых три дня в дневнике свободные, белые, пустые. И я, как всегда, против этих неприсутственных дней пишу в своём дневнике три раза подряд: «Праздник»… «Праздник»… «Праздник»…
— Что-о такое? — раздаётся над моей головой не крик, а пронзительный визг.
Это Дрыгалка увидела, что я пишу, и выхватила у меня из-под носа мой злополучный дневник.
— Извольте полюбоваться! Все, все, все! Смотрите! Умер наш государь, а для Яновской — видите? — это праздник!
И та-та-та! И тра-та-та! И доложу госпоже начальнице! И сообщу господину директору! И сбавят по поведению! И прочая, и прочая, и прочая, как пишет новый царь в своём манифесте.
Дневник она мне всё-таки вернула.
Ну, слава богу! Три дня, целых три дня — без Дрыгалки. То-то радость!
Зато на исходе этих трёх дней меня ожидает грустное известие: пока мы с Полем ходили гулять, в моё отсутствие забегала мать Юльки, Анеля Ивановна. Они внезапно уезжают раньше, чем предполагали: она забежала проститься и оставила мне письмо от Юльки.
Юлька пишет ещё очень плохо (читает она уже хорошо, бегло).
Кто-нибудь другой, наверно, даже не разобрал бы этого её прощального письма, но я ведь — её учительница, и мне, в общем, всё понятно.
МНОГАВЖМАЯ ШАСЬКА УЖАЕМ УЖАСНО ХАПЛАП
СПАСИБА ТИБЕ Я ТИБЬЯ ЛУБЛУ НАПЫШИ АДВЕТ.
Юля
Это означает:
МНОГОУВАЖАЕМАЯ САШЕНЬКА! УЕЗЖАЕМ УЖАСНО ВПОПЫХАХ.
СПАСИБО ТЕБЕ. Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. НАПИШИ ОТВЕТ
Юля
…Прощай, Юленька, подружка моя милая!
Глава одиннадцатая. ВНУКИ ИВАНА КОНСТАНТИНОВИЧА
Юзефа заглядывает в столовую и говорит самым недоброжелательным голосом:
— Пришёл…
— Кто пришёл? — спрашивает мама.
— А ну тот… як яво?..
— Кто пришёл, Юзефа? — терпеливо переспрашивает мама.
— Ну, румунец тот…
Это очень неопределённо: румунцами Юзефа называет всех иностранцев.
— Вот наказание! — вздыхает мама. — Никогда у вас ничего не поймёшь! Я вас спрашиваю: кто пришёл?
— Вы спрашуете, а я кажу: прийшел! Солдат! Того доктора денщик!
Мама, взволнованная, встаёт из-за вечернего чайного стола.
— Шарафутдинов? — переспрашивает она. — Ну, пусть войдёт.
— Ещё дело! — ворчит Юзефа. — Солдата у комнаты пускать! Ен напачкаець, а Юзефа — подтирай?
— Как вам не стыдно, Юзефа! Иван Константинович уже два дня у нас не был — может быть, он болен?.. Шарафутдинов! — зовёт мама.
Как всегда, страшно топая, в столовую входит Шарафутдинов. Он чем-то очень расстроен, глаза его смотрят растерянно и обиженно.
— Хадила она… — говорит он печально. — Хадила и хадила. Хадила и хадила…
— Кто ходил, Шарафутдинов? — спрашивает мама мягко.
— Ана хадила. Ихням благородиям. Котора тольста… Так Шарафутдинов всегда говорит об Иване Константиновиче.
— А куда он ходил? — продолжает допытываться мама. Она очень обеспокоена.
— Туды хадила, сюды хадила, всем улицам хадила. И я хадила, зонтикам носила. А ана — зонтикам не надо, мине прогоняла, ногами так… — Тут Шарафутдинов показывает, как Иван Константинович топал на него ногами.
— А где же он теперь?
— Домой прихадила. Сидит, плАкаит… как рибенка си равно… — И глаза Шарафутдинова наполняются слезами. — Идём, барина! — говорит он маме. — Ихня благородия плАкаит… Идём!..
Тут в передней раздаётся звонок. Юзефа идёт отпирать — и мы слышим голос здоровающегося с ней Ивана Константиновича. Испуганный Шарафутдинов бросается опрометью удирать по чёрному ходу.
Это в самом деле пришёл Иван Константинович. Заглянув в папин кабинет, — папы нет дома, — старый доктор идёт в столовую. Мама радушно предлагает Ивану Константиновичу сесть с нами за чайный стол и уже наливает ему его любимую большую чашку, которую он шутя называет «аппекитная». Но он от чая отказывается.
— Я с вами, Елена Семёновна, голубонька моя, потолковать пришёл…
Тактичная Поль незаметно уходит, увозя с собой колясочку со спящим Сенечкой. Мама спрашивает меня:
— У тебя уроки не все приготовлены?
Но я уверяю, что приготовлены — все!
Как же я могу уйти, когда так интересно! Иван Константинович «ходила по всем улицам», а потом «плакала» у себя дома… Значит, что-нибудь случилось! Интересное… И я вдруг уйду!
Иван Константинович смотрит на маму своими добрыми медвежьими глазками и вдруг говорит:
— Не угоняйте Сашурку, голубенька моя Елена Семёновна… Она мне тоже нужна…
И я остаюсь сидеть — законно сидеть! — на своём стуле.
Наступает долгая пауза. Мама преувеличенно хлопотливо перемывает чайные чашки. Иван Константинович подпёр голову рукой и сидит, такой грустный, такой несчастный, что просто невозможно смотреть!
Наконец он нарушает молчание:
— Помните, Елена Семёновна, фотографию я вам показывал? Сидит дама, молодая, красивая, руки на колени уронила, — помните, да? И Сашурка эту фотографию как-то у меня увидела, сказала: «Милая какая!..» Помнишь, Сашурка?
Я усиленно киваю. Конечно, помню!
— Я всем говорил про эту даму: нет её на свете, померла. Она и в самом деле была для меня всё равно что покойница. Потому что была она чужая жена, а я её, скажу вам прямо, любил. Всю жизнь любил…
Иван Константинович умолкает надолго. Мы с мамой не сводим с него глаз. Я даже забываю о своей любимой привычке плести косички из скатертной бахромы, — я смотрю на Ивана Константиновича.
— Ну, так вот… — говорит он наконец со вздохом. — Я вам тогда соврал. Соврал, да. Ну, а сегодня… — Иван Константинович натужно глотает, словно хочет проглотить сильную боль. — Сегодня уж это правда: умерла она. Инна Ивановна Хованская… Генеральша Хованская… Инночка Благова — так я её в юности моей звал… Умерла. Вот прочитайте.
И он протягивает маме письмо.
Мама читает письмо. Читаю и я, просунув голову под маминым локтем.
Уважаемый Иван Константинович!
Нет, не так… Ваня, милый, дорогой мой Ваня… Больше сорока лет я Вас так не называла, не имела права. Сегодня могу. Муж мой умер, я свободная, я могу написать Вам и назвать Вас так, как целых сорок лет называла Вас только глубоко в сердце моём. Милый, дорогой, любимый мой Ваня! Не судьба нам с Вами увидеться и хоть поплакать вместе о нашей молодости, о нашей любви, о нашем загубленном счастье. Месяц тому назад, на похоронах моего мужа, я простудилась и вот умираю. И я пишу Вам, пока ещё не оставило лепя сознание, потому что хочу попросить Вас исполнить мою предсмертную просьбу…
В этом месте я взглядываю на Ивана Константиновича. Он сидит на противоположном конце стола, глаза его смотрят поверх наших голов, а губы — добрые, старческие губы, которыми он пугал меня в детстве, изображая разных кусающихся зверей, — эти губы сейчас шепчут слово за словом то, что мы с мамой тихо про себя читаем в письме Инны Ивановны. Он знает письмо наизусть, и я вижу, глазами вижу и слышу, как его губы шевелятся, шепча слова:
«…хочу попросить вас исполнить мою предсмертную просьбу…»
Мы с мамой читаем дальше:
…У меня был единственный сын — Леонид. Жена его родила ему двоих детей: сына Леню и дочку Тамару. Родами этой Тамарочки жена сына умерла. Сын мой был этнограф-путешественник, он поехал с экспедицией в Среднюю Азию — и не вернулся, погиб. Дети воспитывались у нас. Теперь Лене 13 лет, Тамарочке — 12. В моём завещании я назначаю их опекуном — Вас. Не отказывайтесь, Ваня, умоляю Вас. Пусть хоть внуки у нас будут общие! И я умру спокойно: никто не воспитает их такими честными, добрыми, благородными, как Вы, потому что Вы сами такой.
Милый Ваня, помните, Вы всегда шутили, что у меня руки «не хваткие», не сильные. И верно — не удержала я наше счастье, не удержала единственного сына, не удержала в себе жизнь, чтобы хоть один разочек повидаться с Вами. Одно удержала я, Ваня, драгоценный мой друг: мою любовь к Вам. Потому что и сегодня, в смертный мой час, люблю Вас, как любила всю жизнь.
Ваша Инна
О средствах не заботьтесь. Лёня и Тамара имеют порядочное состояние. Будьте им только опекуном, воспитателем, дедушкой — тогда они вырастут хорошими людьми…
Мы смотрим с мамой на неровные, кривые строки этого письма, на его прыгающие буквы, местами они разбегаются в разные стороны. Даже я — не говоря уж о маме! — понимаю, что плакать нельзя. Надо щадить Ивана Константиновича.
Так проходит много минут.
— Иван Константинович, — спрашивает мама, — она умерла?
Иван Константинович утвердительно наклоняет седую голову.
— Да… Вместе с этим письмом я получил извещение о смерти, копию с её последних распоряжений… и всё…
Я мысленно вижу перед собой карточку Инны Ивановны, как когда-то увидела её в альбоме у Ивана Константиновича. В старомодном широком платье и кругленькой шапочке с пряжкой, с печальными, детски удивлёнными глазами, — а маленькие руки лежат на коленях покойно и беспомощно… Верно она написала про свои руки: ничего такими руками не схватить, не вырвать у жизни, не удержать.
Я подхожу к Ивану Константиновичу, — он по-прежнему смотрит каким-то отсутствующим взглядом, словно в прошлое своё смотрит.
— Иван Константинович! — говорю я. — Девочке-то этой, Тамарочке, десять лет? Как мне…
— Постарше она тебя… Двенадцать ей… Но в первом классе, как ты… Болела, верно, или, может быть, баловали её… Ну как, будешь ты с ней дружить, с сироткой этой?
— Конечно! Зачем вы спрашиваете?
Иван Константинович собирается завтра выехать в тот город, где живут внуки Инны Ивановны, и привезти их сюда. Здесь мальчика отдадут в гимназию — он учится в кадетском корпусе, — в нашем городе кадетского корпуса нет. Девочку определят к нам в институт. Поль будет заниматься с ними по-французски. А завтра с утра мама и Поль пойдут на квартиру Ивана Константиновича. Они устроят комнаты для детей, Лени и Тамары, чтобы им было уютно, удобно жить. Квартира у Ивана Константиновича большая, но часть её, чуть ли не в целых три комнаты, занимают его звери — собаки, попугай, аквариумы с рыбами, террариумы с черепахами, саламандрами, лягушками.
— Надо будет этот ваш зверинец потеснить… — говорит мама. — Они у вас чуть не полдома заполнили!
Иван Константинович бережно укладывает письмо Инны Ивановны в конверт, а конверт — в боковой карман. Надо идти домой, а на улице — какая-то сумасшедшая чехарда мокрых хлопьев снега с самыми настоящими струйками дождя.
— Как вы пойдёте в такую погоду, Иван Константинович? — тревожится мама, когда мы провожаем его в переднюю. — Остались бы, переждали, пока пройдёт дождь со снегом.
Но Иван Константинович же открыл дверь на лестницу, и мы видим тёмную фигуру, сидящую на верхней ступеньке. Это Шарафутдинов. Он с грохотом вскакивает и протягивает Ивану Константиновичу зонтик.
— Зонтикам… — говорит он браво, и в его миндалевидных глазах, устремлённых на «ихнюю благородию, котора тольста», сияет застенчивое торжество: он всё-таки доставил зонтик и вручил его! И «ихня благородия» постесняется перед нами топать ногами на своего «Шарафута» и должен будет отправляться домой под зонтиком.
Иван Константинович делает лицо людоеда и, махнув безнадёжно рукой, уходит. Шарафутдинов топает за ним.
Мама рассказывает возвратившемуся домой папе обо всех новостях, свалившихся на голову Ивана Константиновича.
— Боюсь, хлопот у него будет много! Шутка ли, в берлогу старого холостяка с его жабами, вдруг въезжают двое незнакомых детей! Их надо воспитывать, учить, заботиться о них…
Очень хорошо! — говорит папа, сменяя измокшие под непогодой костюм и бельё. — Просто очень хорошо! Это ему было необходимо.
— Что ему было необходимо? — недоумевает мама.
— А вот именно это! Чтоб у него были хлопоты, заботы, живые, весёлые внуки, радости, даже огорчения! Иван Константинович жил до сих пор жизнью, которую сам себе придумал. Теперь к нему придёт настоящая жизнь. Если хочешь знать, в Иване Константиновиче больше доброты, чем в Государственном банке — денег. И только теперь он найдёт, с кем делиться этим богатством!
В этот вечер я долго не могу заснуть. Мне всё видятся какие-то воображаемые дети — Лёня и Тамарочка, с которыми я буду дружить. Лёня представляется мне высоким мальчиком в форме кадетского корпуса, заносчивым, драчуном — в общем, довольно противным. А Тамарочка мне почему-то заранее необыкновенно мила, она, наверно, похожа на свою бабушку, Инну Ивановну, — у неё растерянные и удивлённые добрые глаза и нежные, безвольные ручки. Она будет учиться в нашем классе, я её познакомлю со всей нашей компанией — с Лидой Карцевой, с Маней Фейгель, с Варей Забелиной, Мелей Норейко. Будет очень, очень весело! Очень, очень хорошо… Очень, очень…
Я совсем засыпаю. Мне снится что-то замечательное… Тамарочка и Лёня несутся, как снежинки, на коньках… Потом над нами оказывается свод густых старых ветвей и множество свисающих почти чёрных вишен… Вообще что-то очень удивительное, весёлое, чудесное!
На следующий день — в воскресенье — в квартире Ивана Константиновича начинается весёлая суматоха. Мама и Поль с повязанными от пыли головами священнодействуют. Им помогает Шарафутдинов, ошалевший от радости, весёлый, как жеребёнок. Только тут я понимаю, как скучно, вероятно, бедняге Шарафутдинову жить в обществе одних только зверей, — ведь Ивана Константиновича целые дни не бывает дома. Иван Константинович тоже пытается помогать в уборке и переустройстве квартиры, но его все гонят прочь, — правда, вежливо объясняя ему, что он мешает, пусть-де сидит потихоньку в своём кабинете, читает газету, а обо всём, что нужно, с ним будут советоваться. Я тоже всем мешаю, меня тоже гонят прочь, но уже без всякого уважения.
— Что, брат Сашурка? Не нужны мы никому?
Вчера мне казалось: Иван Константинович теперь уже всегда будет такой грустный, просто убитый. Но сегодня сквозь его печаль проглядывает деловитая забота: ведь он уже не бобыль, не колос, упавший с воза, — он нужен, нужен тем двоим сиротам, которые внезапно вошли в его одинокую жизнь.
Прежде всего звери, аквариумы и террариумы устраиваются в двух комнатах вместо прежних трёх. Довольно с них, по-моему! Юлька с матерью и Степаном Антоновичем жили в одной комнате — и небольшой! Зачем же зверям такие просторные хоромы? В перемещении зверей Иван Константинович принимает самое деятельное участие — здесь его не гонят: кто же ещё так понимает, что нужно животному, как он? Иван Константинович ласково приговаривает, перенося клетки и стеклянные ящики. Но мне всё-таки почему-то кажется, что жаба Милочка смотрит на него обиженными глазами.
Ну, вот одна «звериная» комната освободилась. В ней будет жить Лёня. Шарафутдинов, стоя на стремянке, белит в этой комнате потолок, потом оклеивает её новыми весёлыми обоями.
— Мододец, Шарафут! Как-к-ой маляр оказался, собака!
Шарафутдинов, сияя зубами и белками глаз, весело повторяет те два слова, которые он понял из похвалы Ивана Константиновича:
— Маладец! Сабакам, сабакам!
Пока Шарафутдинов белит потолок и клеит обои, Иван Константинович поит нас чаем с вареньем собственной варки, из ягод собственного сада. Мама в это время кормит Сенечку, которого мы принесли с собой и который всё время мирно спал на диване. Сенечке пошёл уже второй месяц — он очень серьёзно смотрит на всё красивыми тёмными глазами. Я очень горда тем, что меня он безусловно узнаёт и даже радуется мне: улыбается беззубым ротиком, а когда я приплясываю перед ним, даже громко смеётся! В общем, конечно, он славненький, и я его люблю. Жаль только, что он всё-таки такой глупенький… И пока-а-а это он хоть немножко поумнеет, я уже буду совсем старушка!
Затем очищается комната для Тамарочки. Иван Константинович отдаст ей свою спальню, а вся его «хурда-мурда», всё его «хоботье», как он называет, переносится в его большой кабинет — теперь он будет жить там.
Пока Шарафутдмнов белит и оклеивает обоями комнату Тамарочки, приближается время отъезда Ивана Константиновича. Он очень нервничает, укладывая свой дорожный баульчик, пихает в него почему-то пепельницу со своего стола и один башмак.
— Иван Константинович… — выговаривает ему мама ласково. — Зачем вам в дорогу эта пепельница, а?
— А — ни за чем! — разводит руками Иван Константинович. — Ну вот решительно ни за чем… Прямо сказать, окосел, старая туфля, и всё…
— И кстати о туфлях: зачем вы сунули в чемоданчик один башмак? Ног-то ведь у вас, слава богу, две!
— Две, голубенькая, две… — вздыхает Иван Константинович, словно ему жаль, что у него так много ног. — Совершенно бесспорно. Чёрт побери мои калоши с сапогами!
Мама уговаривается с Иваном Константиновичем, что за четыре-пять дней его отсутствия она купит только занавески и повесит их на все окна.
— Зверям, голубчик, не надо… — просительно говорит Иван Константинович. — У них, знаете, у зверей, вкусы, как у меня: спартанские. На что нам природа солнце дала, если от него тряпками завешиваться?
Мы уходим. И все пять дней, пока отсутствует Иван Константинович, я не переставая трещу всем, в особенности классным подружкам, какая едет к нам прелестная новая девочка. Тамарочка Хованская, как с нею будет весело, интересно дружить.
Иван Константинович отсутствует шесть дней. Вечером пятого из этих дней мы получаем телеграмму.
ПРИЕДЕМ ВСЕ ТРОЕ ЗАВТРА ПОЕЗДОМ СЕМЬ
ПРИШЛИТЕ ШАРАФУТДИНОВА НА ВОКЗАЛ С ПОДВОДОЙ
РОГОВ
«С подводой» — это надо понимать так, что они везут с собой много вещей. Права была мама, когда уговаривала Ивана Константиновича не покупать пока мебель. У детей, говорила мама, есть, наверное, своя мебель, к которой они привыкли, есть и вещи их бабушки, которые им дороги. «Привезите всё это сюда, расставим; если окажется — не хватает чего-нибудь, вот тогда и прикупим, что нужно».
Всё-таки Иван Константинович настоял перед отъездом, чтобы купили маленький туалетный столик с зеркальцем, — всё обито, как будочка, тюлем. Мама очень отговаривала покупать:
— Ведь она ещё девочка! Зачем ей туалетный столик?
Но Иван Константинович заартачился:
— Купим туалет!
И купили. В беленькой, свежеоклеенной комнате Тамарочки этот туалетик-будочка, весь обитый белым тюлем, выглядит мило и трогательно. А Иван Константинович просто сияет — вот какую чудную вещь он купил для Тамарочки!
Я было начала шептать маме — при Иване Константиновиче, — что, может, хорошо бы повесить в Тамарочкиной комнате портрет её бабушки, который есть у Ивана Константиновича. Но мама сказала, что, во-первых, шептаться нехорошо («Иван Константинович может обидеться! Если хочешь что сказать, говори вслух!»), а во-вторых, у Тамарочки, вероятно, есть бабушкин портрет, вот пусть он у неё и стоит. А тот портрет, который у Ивана Константиновича, ему, наверно, подарила сама Инна Ивановна, — пусть у него и остаётся. Иван Константинович ничего не сказал, но поцеловал маме руку, и ещё раз, и ещё раз! Видно было, что от души.
До чего мне в этот день скучно в институте! Я всё время думаю о приезде Лени и Тамары. Л впрочем, даже без этого, даже если б мои думы не были заняты другими делами, не институтскими, всё равно скука в классе, как всегда, невообразимая! Сейчас все девочки очень увлечены писанием друг другу стихов в альбом. Стихи чаще всего глупые, да и вообще, по-моему, это не стихи:
У всех девочек есть альбомчики — бархатные, кожаные, всякие. В углу каждой страницы наклеены картинки. Есть альбомчик и у меня — синенький, славненький, но полный такой стихотворной дребедени, вписанной руками моих одноклассниц, что не хочется и перелистывать его. Нас — Лиду Карцеву, Маню Фейгель, меня — подруги особенно осаждают просьбами написать им что-нибудь в альбом: мы знаем много стихов — правда, всё больше неальбомных. Мы часто и пишем стихотворения, не предназначенные авторами для альбомов, но красивые, хорошие стихи. И хозяйки альбомов обычно очень этим довольны.
Сегодня из-за этого произошло у Дрыгалки столкновение с Лидой Карцевой. Лида написала в альбом одной девочки стихи:
В минуту, когда Нина Попова, получив на перемене от Лиды свой альбом со стихами, упиваясь, читала эти строки, а мы все стояли вокруг, тесно обступив её и Лиду, — вдруг сверху протянулась хорошо знакомая нам сухонькая лапка, и Дрыгалка цапнула альбом из рук Нины Поповой. Дрыгалка прочитала стихотворение, очень кисло поджала губки, неодобрительно покачала головой. И пошла, унося альбом. У всех нас засосало под ложечкой от предчувствия беды.
Нина Попова помертвела от страха.
— Это ты мне что-нибудь неприличное написала? — с укором спросила она Лиду Карцеву.
— А разве ты не прочитала? — ответила Лида. — Ты прочитала и была в восторге!
— Так почему же Дрыгалка так рассердилась за эти стихи? — продолжает допытываться Нина Попова. — Почему она сделала губами вот так? И ещё головой потрясла, как будто «ах, ах, ах, как нехорошо!»
Лида не успевает ответить, потому что раздаётся звонок — конец перемене.
В классе перед уроком Дрыгалка вызывает:
— Карцева!
Лида встаёт в своей парте.
— Вы написали Поповой в альбом это стихотворение? — спрашивает Дрыгалка.
— Да, Евгения Ивановна, я.
— А кто автор этого стихотворения?
— Евгения Ивановна, это Пушкин.
— Пу-у-ушкин? — удивляется Дрыгалка.
— Пушкин, Евгения Ивановна. Стихотворение называется «Полководец».
— А о ком оно написано, вы знаете?
— Знаю, Евгения Ивановна. Это написано о полководце Барклае де Толли…
Лида отвечает всё время «полным ответом» и необыкновенно «благонравненьким голоском». Это ещё больше злит и раздражает Дрыгалку.
— Пушкин — конечно, очень известный поэт… Но я считаю, что детям вашего возраста надо выбирать стихотворения попроще. Например, когда я ещё была девочкой, я очень любила такое альбомное стихотворение:
На листочке алой розы
Я старалась начертить
Образ Лины в знак угрозы,
Чтобы Лину не забыть.
— Не правда ли, — обращается Дрыгалка к классу, — прелестное стихотворение? (Она, конечно, говорит, как Колода: «прэлэстное».)
Класс, который пользуется всякой возможностью пошуметь, с удовольствием галдит:
— Прэлэстное! Прэлэстное! Ужасно прэлэстное!
— А вам, Карцева, кажется, не нравится это стихотворение? — ядовито цедит Дрыгалка.
Лида секунду молчит. Затем, подняв на Дрыгалку свои умные серо-голубые глаза, она говорит очень искренне:
— Нет, Евгения Ивановна, не нравится.
— Можно узнать почему?
— Евгения Ивановна, на листочке розы нельзя начертить образ: пока начертишь, листок завянет. Да и чем чертить — карандашом? Чернилами? Красками?
Криво усмехаясь, Дрыгалка оборачивается ко мне:
— И Яновской, конечно, тоже не нравится?
Я тоже секунду молчу. Но что же я могу сказать после Лиды, кроме правды?
— Нет, Евгения Ивановна, не нравится.
— Почему?
— Зачем чертить образ подруги «в знак угрозы»? Ведь я, значит, люблю свою подругу, я хочу «Лину не забыть». Так почему «угроза»?
В эту минуту — без сомнения, критическую для Дрыгалки, потому что ей нечего нам возразить, — в класс входит Фёдор Никитич. Наш спор о поэзии прерывается. Больше Дрыгалка его благоразумно не возобновляет.
…Ещё вечером дома у нас, на семейном совете, было решено: нам с мамой на вокзал не идти. Люди сойдут на перрон из душного зимнего вагона, — тут надо думать о вещах, надо получать багаж, Шарафутдинов должен погрузить его на подводу и везти на квартиру доктора Рогова… Тут, среди всех этих хлопот, мы будем некстати.
Решаем: встретим Ивана Константиновича с его новой семьёй у них дома. Это будет лучше.
Чтобы мне не ударить лицом в грязь перед новыми знакомыми, мама велит мне надеть новое платье. Оно, правда, бумазейное, но в симпатичненьких цветочках и с белым воротничком. Мне, конечно, кажется, что я в нём красавица!
Когда приезжие входят в переднюю, мы с мамой выходим им навстречу. Иван Константинович, очень, видимо, утомлённый и хлопотами и дорогой, увидев маму и меня, весь так и засветился улыбкой.
— Вот это — Тамарочка… — представляет он. — Вот Лёня… А это, дети, — показывает он на нас с мамой, — посмотрите на них внимательно! — это мои самые лучшие друзья. Да-да, и она, — обнимает он меня, — она, Сашурка, тоже мой старый, верный друг. Это её мама, Елена Семёновна, удивительнейшая женщина! А есть ещё и папа — товарищ мой, доктор, он, наверно, потом придёт. Знакомьтесь!
Я не столько слушаю слова Ивана Константиновича, сколько смотрю на Тамарочку и Леню. Лёня, в общем, такой, каким я его себе представляла: высоконький мальчишка в кадетской форме, кудрявый, даже вихрастый, только глаза у него не дерзкие, а добрые, ласковые. Он весело и просто здоровается со мной.
— Дедушка нам про тебя всю дорогу рассказывал!.. Даже немного поднадоел! — Он весело смеётся. — Теперь держись: окажешься не такая — беда тебе!
И он убегает из комнаты.
Но когда я подхожу к Тамарочке и от души протягиваю ей руку, она отстраняет свои руки:
— Сейчас… Сниму перчатки!
Иван Константинович с мамой уже ушли в комнаты, а я стою дура дурой перед Тамарочкой, которая молча снимает лайковые перчатки. Она делает это неторопливо, осторожно — пальчик за пальчиком, пальчик за пальчиком! Я вижу её лицо — очень хорошенькое, с круто выгнутыми, чуть оттопыренными губами. В этом лице — равнодушие, безразличие ко всем и ко всему и какая-то заносчивая гордость. Сняв последний перчаточный палец, Тамарочка снимает с головы шляпку, очень замысловатую и задорную.
Я с уважением и завистью вижу, что шляпка приколота к волосам, как у взрослых дам, длинными булавками с красивыми головками, — не то что у меня: шляпка на резинке! И резинка всегда почему-то очень скоро ослабевает, шляпка заваливается за спину и болтается там.
Наконец Тамарочка поправляет кудряшки на лбу — и улыбается мне. От этого она сразу становится милее и ближе. Она протягивает мне руку:
— Ну, теперь можно знакомиться…
Мы жмём друг другу руки и идём в комнаты вслед за моей мамой и Иваном Константиновичем. Мы застаём их в комнате, предназначенной для Тамарочки. Мебель, которую привезли с собой, ещё не прибыла, и пока ночлег устраивается на старых диванах Ивана Константиновича. Тамарочка оглядывается благосклонно: комната ей, по-видимому, нравится.
— Здесь я поставлю свою кровать, — прикидывает она. — Тут встанет шифоньер. Там — столик.
Вдруг её взор падает на приготовленный для неё туалетный столик, обитый тюлем.
— Что это? — спрашивает она.
— Это тебе Иван Константинович купил, — объясняет ей мама. — Туалетный столик.
— Мне? — с возмущением выпаливает Тамарочка. — Это мещанство? Это зеркало в собачьей будке?.. Иван Константинович! — резко обращается она к старику. — Я же вам говорила, чтобы вы приказали отправить сюда бабушкин трельяж. Неужели вы забыли это сделать? Ведь все вещи, какие мы там оставили, мы уже не получим никогда — их возьмут себе тётки, бабушкины сёстры… А зачем старухам нужен трельяж красного дерева?
Иван Константинович только собирается ответить Тамарочке, как вдруг в комнату врывается Лёня:
— Тамарка! Скорее, скорее! Смотри, что за прелесть!
И он увлекает Тамарочку в «звериные комнаты». Но не успевают мама и Иван Константинович даже взглядом обменяться, как раздаётся пронзительный визг, и из звериной комнаты выбегает Тамарочка. Она кричит, задыхаясь от гнева:
— С жабами! Рядом с жабами!.. Ни одной секунды, ни одной секунды…
Она схватывает в передней свою замысловатую шляпку, кое-как нахлобучивает её на голову и начинает быстро, яростно напяливать лайковые перчатки.
— Милая… птиченька моя… — говорит Иван Константинович с такой нежностью, с такой любовью, что на эту ласку поддался бы, кажется, и камень.
Камень — да, может быть! Но — не Тамара! Она вырывается из рук Ивана Константиновича, лицо у неё злое, неприятное:
— Оставьте меня, Иван Константинович! Я не хочу жить в одной квартире с жабами! Не хочу и не хочу! Я к этому не привыкла… Они вылезут ночью и заберутся ко мне в постель…
С бесконечным терпением, ласковыми словами, воззваниями («Ты же — умница!») Ивану Константиновичу удаётся доказать Тамаре, что из террариумов нельзя «вылезть ночью», что звериные комнаты запираются на ключ («Вот видишь, кладу ключ в карман!»), да и Тамарину комнату отделяет от них ещё целых три комнаты.
Наконец Ивану Константиновичу удаётся успокоить разбушевавшуюся Тамару. Она уже тихо плачет, сидя у него на коленях, но громов и молний больше нет — так, последние капли пронёсшегося дождя. А Иван Константинович обнимает свою «внученьку» и тихо-тихо журчит ей ласковые слова, как будто он всю жизнь был дедушкой или нянькой. Наконец Тамара спрашивает:
— А выбросить эту гадость нельзя? Совсем вон выбросить, чтоб их не было в квартире?
И тут Иван Константинович перестаёт журчать. Он отвечает твёрдо, как отрезает:
— Нельзя.
Тамара издаёт последнее жалостное всхлипывание — и замолкает. Она поняла, что у Ивана Константиновича есть и «нельзя», да ещё такое, которое не сдвинешь с места. Она сразу меняет тему разговора; спрыгивает с колен Ивана Константиновича и капризно тянет:
— А я хочу ку-у-у-шать! Можно это здесь?
На это ей отвечает из столовой Лёня. С набитым ртом он кричит:
— Скорее! Я тут всё съел!
Конечно, это шутка. Съесть всё, что наготовил Шарафутдинов, не мог бы и целый полк солдат. Проголодавшиеся Лёня и Тамара воздают должное всем блюдам. Сияющий Шарафутдинов носится между кухней и столовой, вертится вокруг стола, потчуя дорогих гостей. Не забывает и меня, — я хотя и не приезжий гость, но зато я ведь своя! — и он хорошо знает, что я люблю. Подставляет блюдо и подмигивает:
— Пирожкам!
Или предлагает мне рябчика:
— Пытичкам!
Тамаре Шарафутдинов, я чувствую, не очень нравится. Посреди разговора она вдруг заявляет:
— Иван Константинович! Вы мне обещали, что у меня будет горничная… Я ведь привыкла… У дедушки было всегда несколько денщиков, но нам с бабушкой горничная прислуживала.
За Ивана Константиновича отвечает мама:
— Горичная уже нанята. Она придёт завтра с утра.
Я с удовольствием замечаю, что маме Тамара так же не нравится, как мне… Что такое? Разве она мне не нравится? Ведь я её так ждала, так радовалась её приезду! Столько наговорила о ней всем подругам! И такая она хорошенькая, такая нарядная, с такой шляпкой и лайковыми перчаточными пальчиками… Разве она мне не нравится?
Не нравится. Совсем не нравится. Вот ни на столечко!
А Лёня? Нет, Лёня совсем другой. Словно и не брат ей! Он — простой, весёлый, видимо, добрый мальчик. С Шарафутдиновым уже подружился; тот смотрит на Леню со всей добротой своего простого, чистого сердца. Ивана Константиновича Лёня ласково и сердечно зовёт дедушкой (а Тамара всё хлещет его «имяотчеством!»). Нет, похоже, что Лёня — мальчик ничего, славный.
За столом Тамарочка жалуется, что у неё резь в глазах. «Вот когда открываю или закрываю, — больно».
— Завтра попрошу доктора Шапиро зайти посмотреть, — говорит Иван Константинович.
Тамара на минуту перестаёт есть. Вилка останавливается в её руке, как вопросительный знак.
— Ша-пи-ро? — переспрашивает она. — Жид?
Иван Константинович перекрывает изящную ручку Тамары своей стариковской рукой, с такими вздутыми венами, как на изнанке капустного листа.
— Тамарочка… — говорит он очень серьёзно. — Давай — уговор на берегу: этого мерзкого слова в моём доме не говорят.
— Почему? — не сдаётся Тамара. — Разве вы — жид? Ведь вы — русский?
— А как же! Конечно, русский! Я — русский интеллигент. А русская интеллигенция этого подлого слова не признаёт.
Иван Константинович произносит это так же твёрдо, как прежде, когда он говорил, что выбросить животных вон «нельзя». Нет, положительно наш Иван Константинович — золото!
Но Тамара не хочет сдаваться.
— А вот наш дедушка… — начинает она.
— Что «наш дедушка»? — неожиданно врывается в разговор Лёня. — Разве мы все должны, как «наш дедушка»? А бабушка этого слова никогда не говорила! И мне не позволяла…
Мы идём домой. Нас провожают Иван Константинович и Лёня. Мама с Иваном Константиновичем поотстали, мы с Леней идём впереди.
— Слушай… — говорит мне Лёня. — Что я тебе хочу сказать… Я ведь знаю, о чём ты сейчас думаешь. Тебе Тамарка не понравилась?
— Н-не очень…
— И ты к нам больше ходить не хочешь?
— Н-не очень…
— Ну, так ты эго брось! Тамарка — она не такая уж плохая. Её дедушка избаловал. А дедушка у нас знаешь какой был? Он денщикам — очень просто! — за что попало, по морде! И Тамарке вбил в голову, что мы — князья Хованские, только грамоты эти на княжество где-то, мол, затерялись. Вот она и воображает! А теперь, без дедушки, она живенько поумнеет!
— А ты? — спрашиваю я. — Ты был — бабушкин?
— Бабушкин… — тихо признаётся Лёня. — Она со мной дружила. Как с большим всё равно! Когда уже она совсем умирать стала, она мне всё повторяла: «Помни, Лёня, теперь Иван Константинович — твой дедушка, и ты его слушайся, и дедушкой его зови! И ещё второе — музыку не бросай!»
— Музыку?
— Да. Вот завтра придут вещи наши и бабушкин рояль.
Я тебе поиграю… Дедушка не хотел, чтобы я был музыкантом. Он меня в кадетский корпус отдал… Бабушка мне говорила: «Возьмёшь ноту — ля бемоль, лиловую, сиреневую — и слушай: это мой голос, это я с тобой разговариваю…»
Мы молчим до самого нашего дома. Стоим, ждём, пока подойдут отставшие мама и Иван Константинович.
Если бы Лёня был девочкой, я бы ему сказала: «Давай дружить, а?» Вот так, как сказала мне Лида Карцева!
Но как-то не говорятся у меня эти слова… Никогда я с мальчишками не дружила.
Уже попрощавшись и уходя с Иваном Константиновичем, Лёня кричит мне:
— Так ты смотри приходи к нам!
Я кричу ему вслед:
— И ты к нам приходи!
Только тут я вспоминаю: с Тамарой мы с самого начала и до нашего ухода были и остались на «вы».
Глава двенадцатая. «ДЕЙСТВИЯ СКОПОМ»
Тамара появляется у нас в институте не сразу. Иван Константинович должен ещё хлопотать перед попечителем Учебного округа о том, чтоб Тамару приняли в институт, а Леню — в гимназию.
Все мои подружки сперва набрасываются на меня с вопросами: «Ну как? Приехала твоя Тамарочка? Какая она? Когда придёт к нам учиться?» Но я отвечаю сдержанно, сухо, и их восторженное представление о «замечательной Тамарочке» — я же им и наболтала ещё до её приезда! — помаленьку блёкнет. К тому же нам некогда этим заниматься: у нас появилась очень важная новая забота. Скоро конец трети учебного года (у нас в институте учебный год делится не на четверти, а на трети). Треть подходит к концу, и многие девочки уже ходят заплаканные. Ведь очень много уроков пропало сперва, когда-ежедневно служили молебствия о здравии государя Александра Третьего, потом из-за панихид, а на три дня по случаю государевой смерти вовсе освободили от занятий. Поэтому учителя подгоняют нас теперь изо всех сил, чтобы мы во что бы то ни стало прошли всё, что полагается пройти за первую треть. Но у нас есть девочки, которые и с самого начала года учились плохо: то ли им трудно, то ли им скучно, то ли они плохо понимают, что говорят учителя, но они сперва получали тройки, тройки с минусом, тройки с двумя минусами, а теперь, после всех пропущенных уроков, не справляются с тем, что задано, и съехали вовсе на двойки!
Среди этих девочек есть такие, что, если объяснишь им толково, они понимают и учатся лучше. Вот у нескольких из нас — у Лиды Карцевой, у Мани Фейгель, у Вари Забелиной, у меня — возникла мысль, которая нам очень нравится: приходить в институт ежедневно на сорок пять минут раньше и заниматься с двоечницами. Но это надо обсудить где-нибудь подробно, толково, а главное — без помехи, без опаски, без оглядки на подслушивающую Дрыгалку. Она ведь вездесущая! Куда от неё спрячешься? Где его найдёшь, такое место, у нас в институте?
Есть оно, это райское место! Есть он, этот остров свободы! Это — извините за прозу: ватерклозет.
Даже удивительно, как подумаешь: в нашем институте, где всё время синявки, классные дамы, шныряют между ученицами, подсматривают, подслушивают, лезут в ящики, читают письма и записки, вынюхивают — ну совершенно как полицейские собаки! — ватерклозет устроен, как неприступная крепость, окружённая рвом! В самом конце большого коридора есть маленькая дверь, сливающаяся по цвету со стеной. Откроешь эту дверь, войдёшь, — и сразу прохладно, полутемно, и, что совсем удивительно, страшно тихо: как во всех старинных зданиях, стены здесь массивные, такие толстые, что они непроницаемы для звуков. Жужжание, шум, крик, громкий разговор в коридоре во время большой перемены — ведь нас в институте пятьсот человек! — сразу словно ножом отрезало за тяжёлой дверью. Там начинается полутёмный внутренний коридор, ведущий к уборным. Он очень длинный. Постепенно он светлеет, в нём появляются окна, замазанные белой краской, и наконец коридор вливается в большую комнату с несколькими окнами: как бывает предбанник, так это — предуборник. Здесь девочки сидят на глубоких подоконниках, болтают, даже поют, даже завтракают. Отсюда уже две двери ведут в самые уборные. Вот предуборная комната — это единственное место во всём институте, где можно чувствовать себя совершенно свободно: делать что хочешь, говорить что вздумается, петь, кричать, хоть кувыркаться!
Когда-то кто-то — наверно, из старших классов — назвал это учреждение «Пикквикским клубом». Потом его стали называть «Пингвинским клубом», — ведь младшие не читали «Пикквика», да и старшие читали его далеко не все. Сейчас он уже называется просто «Пингвин». "Приходи на большой перемене в «Пингвин» — и. т. д.
Вот в этом «Пингвине» мы сидим на подоконнике — четыре девочки, четыре заговорщицы: Лида, Маня, Варя и я. Нам надо составить список учениц-двоечниц, установить, по какому предмету у них двойки, и закрепить их для занятий за каждой из нас. Лида будет заниматься с теми, кто отстаёт по французскому языку, Маня и Варя — по арифметике, я — по русскому языку. Каждая должна предупредить всех девочек своей группы, когда и где будут происходить занятия, — вообще позаботиться обо всём. В моей группе пять девочек: Малинина, Галковская, Ивашкевич и ещё две девочки со странными фамилиями, из-за которых я в первый день занятий разобиделась на них чуть не до слёз. Это было ещё до первой переклички, и мы тогда не знали, как кого зовут. Около меня стояли, держась под руки, две очень милые девочки. Они мне понравились, и я спросила одну из них:
«Как твоя фамилия?»
На это она ответила мне очень спокойно:
«Моя фамилия — Чиж».
Я сразу поняла, что надо мной подшучивают, и только собралась обидеться, как вторая девочка, подружка этой Чиж, весело и дружелюбно сама сказала мне, не дожидаясь вопроса:
«А моя фамилия — Сорока».
Тут уж я разозлилась окончательно, и, когда девочки, в свою очередь, захотели узнать мою фамилию, я сердито каркнула:
«Вор-р-рона!»
Через несколько минут после того, как Дрыгалка провела первую перекличку, всё выяснилось: и то, что у обеих девочек в самом деле такие птичьи фамилии, и то, что они — хорошие, милые девочки, и то, чго я — обидчивая дура. Мы с Чиж и Сорокой тут же помирились и все семь лет, что проучились вместе, до окончания института, жили очень мирно и дружно.
И вот теперь я буду заниматься с Чиж и Сорокой, Галковской и Ивашкевич. Итого у меня в группе четыре девочки-польки и только одна русская — Малинина. Это, конечно, понятно: польские девочки выросли в польской среде, говорят дома по-польски, это их родной язык, а русский язык для них всё равно что иностранный. Они знают его плохо, учиться им трудно, они бредут через пень колоду, от тройки с двумя минусами к двойке. А Люба Малинина — хорошая девочка, толстая, как колобок, и ужасно ленивая: у неё двойки не только по русскому, но и по арифметике.
— Понимаешь, — говорит она мне, — я как открою грамматику Кирпичникова или услышу: дательный падеж, звательный падеж, — ну, не могу! Глаза просто сами слипаются!
Всё это она говорит уже на следующее утро, когда мы все пришли ровно без четверти девять утра и сели занимался в углу нашего класса, ещё пустого. Лида Карцева, Варя Забелина и Маня Фейгель устроились со своими «ученицами» где-то в другом месте.
Тьфу, тьфу, тьфу, — не сглазить бы! — но первый наш «урок» проходит очень хорошо. Я рассказываю им всё так, как мне рассказывали мои дорогие учителя Павел Григорьевич и Анна Борисовна. Девочки слушают очень внимательно. Потом объясняю правила грамматики. Они пишут диктовку на сомнительные гласные; мы останавливаемся на каждом слове, стараемся найти другое слово того же корня, где бы эти сомнительные буквы были под ударением: «Ковать — кованный», «словечко — слово» и т. д.
Когда прозвучал звонок к началу занятий, в класс пришли Лида, Варя и Маня со своими ученицами — все очень довольные. С этого дня мы стали регулярно, каждый день заниматься с двоечницами. С этого же дня мы сами перестали скучать на уроках. Мы слушали, как отвечает которая-нибудь из наших учениц; мы волновались, радовались, когда они отвечали хорошо; огорчались, когда они почему-либо увязали и путались. Ничто не изменилось в преподавателях наших, их уроки были по-прежнему нудные, скучные. Но мы перестали быть равнодушными зрителями неинтересных для нас уроков: мы стали участниками.
Спустя два дня в нашем институте появляется Тамара. Перед началом уроков Дрыгалка вводит Тамару в наш класс. Лицо у Тамары замкнутое и высокомерное.
— Медам! Вот наша новая ученица — Хованская… И тут Тамара, наморщив носик, поправляет Дрыгалку вежливо, но сухо:
— Княжна Хованская.
— Ах, простите! — засуетилась Дрыгалка. — Я не знала… Итак, медам, — княжна Хованская! Прошу любить да жаловать.
Она показывает Тамаре, за какой партой ей сидеть. Тамара ныряет перед Дрыгалкой в самом глубоком из придворных реверансов и идёт на своё место. Дрыгалка не может сдержать своего восхищения.
— Вот — учитесь! — обращается она к нам. — Какая выправка! Сразу видно, что жила и училась в большом городе.
Тамара садится. Спокойно, не торопясь достаёт из сумки книги и тетради, раскладывает их в парте. Всё это она делает с тем же высокомерием, ни на кого не глядя. Я смотрю на девочек: на их лицах — любопытство, но того, чего Тамара добивается — восхищения, — я не вижу ни у кого.
С моего места мне хорошо видно Тамару. И ей меня с её места видно. Но она не торопится узнать меня, кивнуть мне. Ну и я тоже не тороплюсь здороваться с ней.
На перемене мы с Тамарой сталкиваемся носом к носу при выходе из класса. Почти одновременно небрежно киваем друг другу. Она пренебрежительно оглядывает девочек нашего класса:
— Какая у вас всё-таки провинциальная публика!
Следующий урок — закон божий. Теперь нас, «инославных», уже почему-то перестали оставлять в классе на уроке ксёндза. Мы проводим этот час в гимнастическом зале.
Почему этот зал называется гимнастическим, неизвестно. Никаких приспособлений для гимнастики — лестниц, колец, трапеций — там нет. Но мы спокойно сидим на мягких диванах, которые стоят по стенам, болтаем, учим уроки. В общем, это для нас самый милый и приятный урок из всех!
После закона божия я встречаю в коридоре Тамару. Она неузнаваема! Урок закона божия она провела в первом отделении нашего класса. И вот теперь идёт под руки втроём: по одну руку у неё Зоя Шабанова с восхищением смотрит ей в рот, по другую руку — высокая девочка, Ляля Гагарина. Эта Ляля учится в нашем институте уже четвёртый год: два года просидела в приготовительном классе, сейчас сидит уже второй год — в первом. Зоя Шабанова приветливо здоровается со мной (мы сохранили хорошие отношения, хотя в гости друг к другу больше не ходим, а с Риткой мы даже не раскланиваемся!), и Тамару это, по-видимому, очень удивляет.
В эту минуту начинает заливаться звонок. Тамара быстро прощается с Зоей Шабановой и с Лялей Гагариной.
— Смотри, на следующей перемене приходи!
— Непременно! — весело отвечает им Тамара.
Мы идём с нею по коридору рядом в свой класс.
— Вы знакомы с этими девочками? — спрашивает Тамара словно бы даже с недоверием. Как если бы она спросила: «Ты, ничтожная козявка, знакома с этими удивительными райскими созданиями?»
И тут начинается напасть! Я вдруг чувствую, что не могу говорить с Тамарой спокойно. Мне хочется на всё возражать, всему перечить, против всего спорить, что бы только она ни сказала. Ну что такого в этом вопросе — «Вы знакомы с этими девочками?» — который она мне задала? Надо бы просто сказать: «Да, знакома» — и всё. А я огрызаюсь, как собака!
— Подумаешь, какие необыкновенные девочки!
Тамара смотрит на меня очень строго:
— Зоя Шабанова — дочь крупного заводчика!
— Подумаешь! — продолжаю я, словно кто подхлёстывает меня хворостиной. — Знаю я этого заводчика — противный, волосатый…
— А Ляля — княжна Гагарина! — продолжает Тамара с восхищением.
— Ничего она не княжна! Просто Гагарина…
Тамара возражает очень резко:
— Если «Гагарина», значит, княжна. Понимаете?
— Понимать нечего! — лечу я, подхваченная волной сердитого задора. — «Княжна»! В каждом классе по два года сидит; остолопина такая! У них в классе две Ляли: Гагарина и Дмитревская, их так и называют: Ляля Дмитревская и Ляля-лошадь… Это ваша княжна — лошадь!
Тут мы с Тамарой входим в класс и расходимся каждая на своё место.
Во все перемены Тамара бежит к своим друзьям из первого отделения и ходит с ними под ручку по коридорам. Когда мне с моими подругами случается скреститься в коридоре с Тамарой и её компанией, я вижу, как Тамара кривляется, а Зоя Шабанова и Ляля-лошадь смотрят ей в рот и восхищаются её «великосветским тоном»:
— Мой дедушка был князь Хованский…
— Ах, это мне подарила баронесса Вревская… И так далее. И тому подобное.
— Шура! — мрачно говорит мне Лида. — Это твоя Тамара — сама Вревская! Самая настоящая Вревская! Всё она врёт!
Третий урок «танцевание». Тут Тамара — ничего не скажешь! — в своей сфере: изящно движется, грациозно выполняет всякие балетные фигуры и очень хорошо танцует все танцы. Учительница Ольга Дмитриевна не скрывает своего восторга. Даже Дрыгалка смотрит на Тамару с каким-то подобием улыбки, от которой должны бы подохнуть все мухи, если бы не зима.
После «танцевания» Тамара, упоённая успехом, говорит мне:
— Конечно, здесь у вас — деревня… Вот у нас была учительница танцев. Она походку нам разрабатывала, грацию рук… Замечательная!
В общем, урок «танцевания» и знакомство с «князьями и графьями» из первого отделения нашего класса несколько примиряют Тамару с институтом, тем более что, как она говорит, она будет просить Ивана Константиновича хлопотать о переводе её, Тамары, из нашего второго отделения в первое.
Всю эту болтовню я слушаю с тем же чувством раздражения, какое вызывает во мне каждое слово Тамары. Но разговаривать мне с ней некогда: сейчас будет урок арифметики, на котором будут спрашивать нескольких неуспевающих девочек — наших «студенток». Арифметикой занимаются с неуспевающими Маня Фейгель и Варя Забелина, но волнуемся и мы с Лидой: ведь это наша общая затея. И некоторые из учениц у нас общие, например, с Любой Малининой занимаемся и я — по русскому языку, и Маня Фейгель — по арифметике.
Тут случаются одновременно и радость и беда! Радость оттого, что три девочки, ещё недавно не вылезавшие из двоек, отвечают Фёдору Никитичу вполне прилично и решают задачи правильно. Фёдор Никитич этому радуется. Он ведь не злой человек, он только скучный и преподаёт скучно. Ну, он же в этом не виноват! Но Фёдор Никитич — справедливый. Если он сбавлял мне ещё не так давно отметки за то, что у меня четвёрки похожи на «пожарников», так ведь это и в самом деле так было: почерк у меня отвратительный! Но как только я стала писать лучше, Фёдор Никитич сразу отметил это, поставил мне четвёрку, а вскоре и пятёрку и при этом с удовлетворением сказал: «Молодец! Вот поработала, постаралась — и добилась! Терпение и труд всё перетрут». И сегодня он тоже радуется тому, что три неуспевающие девочки так явно выправляются. Фёдор Никитич улыбается этим девочкам, улыбается, повернувшись к Дрыгалке: вот, мол, как! Дрыгалка тоже изображает нечто, напоминающее улыбку. И девочки, получившие сегодня по тройке, улыбаются. С радостной улыбкой переглядываемся мы четверо — Маня, Лида, Варя и я, — которые придумали эту штуку. Одним словом, урок идёт на сплошных улыбках. И вдруг… Вдруг всё летит кувырком! Одна из выправившихся неуспевающих — Люба Малинина — не может сдержать своей благодарности:
— Это нас Фейгель так хорошо научила! Она с нами каждый день занимается, она очень понятно всё объясняет!..
Если бы она сказала, что Фейгель учит их кувыркаться или ходить на руках, это вряд ли вызвало бы больший эффект.
— Что, что вы сказали? Фейгель с вами занимается? — срывается со своего места Дрыгалка, и в глазах сё зажигается счастливый огонёк, как всегда, когда вдруг пахнет возможностыо «поймать! изобличить! наказать!»
— Да, — подтверждает Люба Малинина с довольной и благодарной улыбкой. — Она приходит утром… без четверти девять и занимается… с нами…
Эти слова Люба Малинина произносит уже без тех ликующих ноток, с какими она сказала свою первую фразу. Голос её стал тише, говорит она уже медленнее, — и совсем затихает.
В классе такое напряжение, что мы и не заметили, как прозвенел звонок, кончился урок и ушёл учитель Фёдор Никитич. Мы сидим неподвижные — мы понимаем: сейчас разыграется что-то очень страшное.
— Фейгель! — вызывает Дрыгалка, и в её голосе, обычно таком бесцветном, слышны металлические нотки. — Фейгель!
Маня встаёт в своей парте. Она очень бледная, но спокойная. Зато сильно волнуется за Маню Катя Кандаурова.
— Она же ничего, ничего плохого… — вдруг говорит Катя и закрывает лицо руками.
— Фейгель! Это правда? — спрашивает Дрыгалка.
— Правда, — отвечает Маня негромко, но всё так же спокойно.
Дрыгалка едко прищуривается:
— Вы даёте своим подругам уроки? Что же, вы и деньги с них за это берёте или как?
— Нет! — кричит Люба Малииина. — Никаких денег она с нас не берёт!
Тут начинают кричать то же самое и другие девочки, с которыми занимается Маня.
Дрыгалка жестом заставляет всех замолчать и снова обращается к продолжающей стоять в своей парте Мане:
— Так как же, Фейгель? Вы не ответили на мой вопрос…
Тут, не сговариваясь, одновременно встаём Лида, Варя и я.
— Вам ещё что нужно? — обрушивается на нас Дрыгалка. — Вы желаете защищать Фейгель?
— Евгения Ивановна! — говорит Лида. — Я тоже…
— И я тоже… — заявляю я.
— И я… — басит Варя.
Дрыгалка смотрит на нас, — веки её осовелых глаз хлопают, как ставни на осеннем ветру.
— Что такое «вы тоже»? — бормочет она. — Чго такое вы трое «тоже»?
Мы объясняем ей всё: учебная треть кончается, у нас много двоечниц, мы хотели им помочь и потопу нанимаемся с ними. Они стали учиться лучше: вот сейчас на уроке арифметики она, Дрыгалка, сама слыхала, как отвечала Малинина, как её похвалил Фёдор Никитич…
Дрыга слушает с лицом страдающим и несчастным.
— Но кто вам разрешил вести эти занятия?
Мы трое переглядываемся.
— А мы не знали, что нужно спрашивать разрешения… — говорит Лида с удивлением.
Дрыгалка долго молчит.
— Вот что… — произносит она наконец. — Я этого случая так оставить не могу. На следующем уроке я доложу об этом начальчице. И тут уж… — Дрыгалка беспомощно и покорно разводит руками, — тут уж всё будет, как она скажет.
Мы все, в общем, не особенно волнуемся. Дело кажется нам таким естественным и простым. Девочки учатся плохо, им хочется учиться лучше, у родителей их нет денег на то, чтобы нанять учителей, — ну, мы хотели помочь… Господи, к чему тут можно придраться?
Оказывается, можно!
После уроков Дрыгалка приказывает всем идти домой, а нам, четырём «учительницам», — на квартиру начальницу. Нам становится немножко не по себе. Даже чуть-чуть страшно. Все мы — бледные, жмёмся вдруг к другу, у меня страшно болит живот (всегда в таких случаях!); Лида успевает шепнуть мне, что у неё тоже… Спокойнее всех держится Маня Фейгель. Она стоит между Лидой и мной и тихонько, незаметно ни для кого, поглаживает пальцы наших рук.
В квартире Колоды всё — маленькое, миниатюрненькое: низенькие пуфики, масса безделушек, какая-то совсем игрушечная кушеточка, две крохотные круглые как шарики, беленькие собачки-болоночки. Даже непонятно, как Колода умудряется не раздавить весь этот крохотулечный уютик! Что она видит в маленьком круглом зеркале на стене? Наверно, один толы о свой нос? Или одно ухо?
Мы продолжаем стоять неподвижно. Из соседней комнаты всё время выбегают беленькие болоночки с тёмненькими носиками; они тявкают на нас, но не кусаются. Наоборот, они выражают нам всяческую симпатию — становятся перед нами на задние лапки и пританцовывают около нас Если бы у меня не болел живот и мне не было так страшно (мне всё-таки страшно! Да и Лиде и Мане тоже страшно), я бы с удовольствием смотрела на этих смешных собачат.
Из соседней комнаты доносится шушуканье Колоды с Дрыгалкой, но слов разобрать нельзя. Только порой они называют которую-нибудь из наших фамилий.
Наконец шушуканье смолкает. В дверях появляется могучая фигура Колоды. Где-то за ней угадывается тощенькая Дрыгалка.
Мы делаем глубокий реверанс.
Колода молча и хмуро кивает нам головой. Затем она садится в креслице и долго смотрит на нас испытующим взглядом. Это очень неуютно.
Наконец она творит насмешливо, неодобрительно качая головой:
— Э бьен, господа преподаватели объясняют непонятно и потому вы переобъясняете их слова своим подругам? Ученицы не понимают господ преподавателей, а вас — понимают, да? Это просто… просто очаровательно!
И Колода смеётся нарочито и натужно, как плохая актриса на балу.
— И вы — маленькие девочки, первоклассницы! — вы решили открыть тайную школу в нашем институте? Так?
Может быть, оттого, что живот разбаливается у меня с каждой минутой всё пуще, на меня нападает отчаяние, и я отвечаю Колоде на её вопрос:
— Александра Яковлевна, мы не хотели открыть тайную школу… мы хотели помочь двоечницам…
— Молчать! — кричит Колода таким страшным голосом, что обе белые болоночки, только что дружелюбно обнюхивавшие мои ботинки, начинают в два голоса тявкать на меня. — Молчать! — продолжает Колода. — Вы должны выслушать, что вам скажут, а ваши слова никому не интересны, да… Так вот… где же это мы? Вы меня сбили… Ах, да! Вы действовали самовольно, без разрешения, да… так сказать, незаконные действия… Вы незаконно собирались… Как заговорщики, да! Господин директор, которому я доложила обо всём, называет ваши поступки заговорщицкими, да! За незаконные действия с к о п о м, — подчёркивает Колода, — да-да, скопом, потому что вы подговорили и этих несчастных двоечниц тоже, — значит, вас было много, не меньше десяти человек, боже мой! — за это вас следует исключить!
Когда Колода волнуется, она начинает в разговоре брызгать слюной. Слово «исключить» она произносит с брызгами во все стороны. Это смешно, но я не смеюсь: рука Мани Фейгель около моей руки резко вздрагивает. Я понимаю: Маня с ужасом думает о возможности своего исключения из института. Мне тоже становится очень не по себе.
— Господин директор настаивал на вашем исключении, — говорит Колода. — Но я уговорила, я положительно умолила его простить вас. Я верю, что вы — не окончательно испорченные девочки, да… бог вам поможет, и вы ещё исправитесь… Но помните: никаких незаконных поступков! Никаких действий скопом! Вы меня поняли?
Мы молчим, наклонив головы и глядя себе под ноги. Мы не отвечаем, потому что мы уже крепко знаем: когда начальство задаёт вопросы, оно вовсе не ждёт от нас ответа, надо молчать и терпеливо ждать, пока кончится вся эта комедия.
— Ступайте! — говорит Колода. — И помните! Помни-те!
Мы делаем реверанс и уходим почему-то на цыпочках. Может быть, этим мы хотим показать, что мы пом-ним! пом-ним!
Мы в самом деле пом-ним! Помним и о том, что надо во что бы то ни стало довести наших бедных двоечниц до честных троек. Мы больше не занимаемся в стенах института, мы собираемся по очереди у каждой из нас. В день, когда нам выдают «сведения» (теперь это называется «табель»; у нас называлось «Сведения об успехах и поведении ученицы такой-то»), мы, четверо заговорщиц (Лида называет нас «скопщиками»), сияем, как именинницы: все наши «студентки» получили тройки, честно заработанные трудом, своим и нашим. Только бедная Броня Чиж получила одну двойку — по французскому языку, и то главным образом за кляксы в тетради.
Глава тринадцатая. НЕУДАВШИЙСЯ ЖУРФИКС
— Ты бываешь у Ивана Константиновича? — задаёт как-то папа за обедом вопрос.
Мама отвечает не сразу.
— Бываю, конечно…
— Но — реже, чем раньше?
— О да! Гораздо реже…
Помолчали. Потом папа снова спрашивает:
— А Пуговка бывает там?
Я — не мама. Я не умею отвечать так сдержанно, тактично. Мне это не даётся. Я, видно, бестактичная…
И сейчас на папин вопрос: «А Пуговка бывает там?» — я отвечаю, как отрезываю:
— Нет. Пуговка там не бывает.
— Та-а-ак… — задумчиво тянет папа. — Ну, давай начистоту: тебе Тамара не нравится?
— А кому она нравится? Кому она может нравиться… такая? У нас в классе её все терпеть не могут. Маме она тоже не нравится, только мама молчит…
— Да, она мне не очень нравится… — признаётся мама.
— Но ведь это внуки Ивана Константиновича! — говорит папа с упрёком. — Ведь он их любит!
— А что «внуки»? — снова наседаю я на папу. — Леню мы с мамой очень любим. И он нас любит. Каждый день хоть на полчасика да забежит! Совсем как свой; маму зовёт «тётей Леной», тебя — «дядей Яковом»…
— Очень славный мальник! — подхватывает и мама. — Добрый, ласковый, весёлый… Я бы хотела, чтоб наш Сенечка такой стал, когда вырастет!
— И Поль его любит, и Юзефа, и Кики… Весь дом! Ужасно жалко, что он — не девочка, он бы у нас в институте учился. А Тамарка эта… Иван Константинович её так любит — и птиченька она, и птушечка, и уж не знаю, как ещё, — а она с ним разговаривает вроде как с лакеем!.. Княжна Хованская! — произношу я в нос. — Княжна Болванская!
— Что за глупости! — строго обрывает меня папа.
— Это не я так её называю, — это Меля Норейко так говорит… "
— Девочка, конечно, не очень симпатичная, — говорит папа задумчиво. — Но ведь — ребёнок ещё! Взрослый, если плохой, — так он уж навсегда плохой, до самой смерти… И то не всякий, бывают исключения. А дети тем и хороши, что у них всё ещё может меняться.
Мама говорит очень сдержанно:
— Будем надеяться, что девочка ещё выправится.
Все с минуту молчат.
— А пока, заявляет вдруг папа очень решительно, — сегодня вечерком пойдём-ка мы все трое к Ивану Константиновичу. Ведь горько же старику, — понимаете вы это? Вроде как отреклись мы от него!
И вот мы сидим вечером за столом у Ивана Константиновича. Рад он нам — ужас до чего!
Тамара, по обыкновению, держит себя как герцогиня, случайно попавшая на вечеринку дворников и извозчиков… Лёня из-за самовара строит мне страшные рожи. Шарафутдинов от гостеприимства так топает сапогами, что Тамара морщится и иногда страдальчески прижимает пальцы к вискам — совсем как Дрыгалка!
— Вот кстати пришли вы! — радуется Иван Константинович. — Мы тут одну затею обсуждаем. Очень интересную! Тамарочка придумала… Расскажи, птуша!
— Им неинтересно, Иван Константинович… — роняет Тамара равнодушно.
— А ты всё-таки расскажи! Пожалуйста…
И Тамара начинает рассказывать про свою «затею». Она говорит с таким выражением лица, словно мы все — конечно, не люди, а мусор и не можем понять ничего возвышенного, но раз Иван Константинович требует, она рассказывает:
— Я задумала… Скучно ведь мы живём! Ну, вот я хочу устраивать по субботам журфиксы. Раз в две недели!
— Журфиксы! — радуется Иван Константинович. — Замечательно, а? Ну, а кого ты пригласишь?
— Подруг моих… — снисходительно объясняет Тамара. — Нюту Грудцову, внучку городского головы… Княжну Лялю Гагарину, Зою и Риту Шабановых…
— И Сашеньку, конечно, да? — спрашивает Иван Константинович.
Но тут — это просто какое-то несчастье! — во мне, как всегда, от одного вида Тамары, от её голоса, просыпается самый упрямый дух противоречия.
— Нет! — заявляю я. — Сашенька не придёт…
Ленька из-за самовара делает мне восторженные знаки. Валяй, мол, валяй, браво!
Тамара, надо отдать ей справедливость, как всегда, во сто раз сдержаннее, чем я!
— Ну, как ей будет угодно! — говорит она. — Захочет — придёт, нет — ну, нет… Да ей, конечно, и неинтересно, ведь все эти девочки — из первого отделения, а она — из второго.
— Вы, Тамара, — тоже из второго! — не могу я удержаться, чтобы не уколоть её в больное место.
— Да, пока… — говорит она спокойно. — Иван Константинович уже возбудил ходатайство о моём переводе в первое отделение… Не сегодня-завтра меня переведут. И тогда я буду с ними, с подругами моими.
В душе моей — целая буря невежливых напутствий: «Скатертью дорожка!», «К чёрту!..» Я еле удерживаюсь от того, чтобы не выпалить это вслух.
Между тем Тамара так же спокойно и непринуждённо продолжает:
— Иван Константинович, кстати о журфиксах: надо всё-таки обновить здесь сервировку. Что за чашки, что за тарелки, боже мой! Как в трактире…
— Обновим, птичеиька, обновим! — добродушно соглашается Иван Константинович. — Возьми завтра с собой Шарафута и ступай с ним по лавкам, делай покупки.
— Дедушка! — вдруг встаёт Лёня во весь рост из-за самовара. — Я желаю тоже! У Тамарки будут через одну субботу журфиксы — ну, а у меня пусть будут в свободные субботы жирфуксы. Гениально, правда?
— Гениально! — расплывается Иван Константинович. — Просто гениально! А кого ты пригласишь?
— Ну, первую, конечно, вот эту! — показывает Лёня на меня. — Шашуру… Придёшь, Шашура?
— Конечно, приду!.. Если мама позволит…
Мама с улыбкой кивает головой.
— Потом приглашу одного моего одноклассника — он очень хорошо играет на скрипке, а я буду аккомпанировать ему на рояле. И сестру его позову — она ни на чём не играет, она стихи пишет, очень славная. На Тамаркиных журфиксах будет ржать Ляля-лошадь, а на моих жирфуксах будет замечательная музыка! Дедушка, придёте слушать?.. Тётя Лена, дядя Яков, придёте?
Ну бывает же на свете такое! Всё бессердечие, всё чванство, надутая спесь — сестре. А вся милота человеческая — её родному брату!
— Да, забыл! — спохватывается Лёня. — Мне, дедушка, новой посуды не надо: чай у меня будет разливать Шашура, а она, чёрт косолапый, всё перебьёт, и тогда…
Фраза остаётся недоконченной: я бросаюсь к Лене, чтобы надрать ему уши; он убегает, мы с хохотом носимся по квартире.
— Чура-чура! — кричит Лёня. — Я придумал роскошную вещь: в концерте жаба Милочка споёт романс, а попугай Сингапур спляшет камаринского. Плохой жирфукс, что ли?
— Не жирфукс, — поправляет Тамара, — а журфикс.
— Вот-вот: у тебя — журфикс, а у меня — жирфукс…
Как всегда, Иван Константинович и Лёня провожают нас домой. Взрослые идут позади, мыс Леней — впереди.
— Вся беда, — говорит вдруг Лёня, — что Тамарка — наоборотка.
— Это что ещё значит? — удивляюсь я.
— Ну, наперекорка — вот она кто! Бабушка наша, Инна Ивановна… — Голос Лени вдруг обрывается, потом он продолжает очень ласково, очень нежно: — Я думаю, такой бабушки ни у кого на свете нет и не было! До того она была добрая, так любила нас… А Тамарка с ней такая была хамка! Никогда не подойдёт, не приласкается, слова доброго не скажет… А дедушка наш… он, конечно, нас тоже любил, но сколько раз, бывало, он Тамарку шлёпал, даже по щекам бивал! И что ты думаешь? Она в дедушке души не чаяла, она ему в глаза глядела, она его и дедусенькой, и дедунчиком… Понимаешь?
— Понимаю. Она — неблагодарная, вот она кто.
— Во, во, во! — кивает Лёня. — Это верно: неблагодарная!
— И Ивана Константиновича она не ценит! — говорю я сердито. — Ка-а-ак она с ним противно разговаривает! Сервировку ей новую подавай! Для журфикса!
Мы и не догадываемся, до чего печально обернётся дело с этим Тамариным журфиксом!
В назначенную субботу всё должно состояться. Я не интересуюсь этим балом — я ведь не пойду! От Лени, который забегает к нам каждый вечер, я узнаю все новости и подробности; Тамара купила посуду — с ума сойти! Чашки — обалдеть! Готовится угощение — ба-а-атюшки!
В субботу, перед третьим уроком, когда кончается маленькая перемена, я случайно натыкаюсь в коридоре на группу девочек. Тамара, прощаясь со своими «знатными» подружками и махая им рукой, кричит:
— Так помните: сегодня в шесть часов я вас жду!
— Придём, придём!
— Обязательно!
— Непременно придём! — кричат они ей, уходя в своё первое отделение.
А ровно через час, когда кончился третий урок и начинается большая перемена, Дрыгалка задерживает нас в классе. Удивительно, до чего она обожает портить нам большую перемену! Все стремятся выбежать из класса в коридор, завтракать, шуметь, а Дрыгалка непременно сократит перемену: хоть на пять минуток, хоть на минуточку, да сократит!
— Хованская! — вызывает Дрыгалка.
Тамара встаёт.
— Ваш дедушка подавал заявление о переводе вас в первое отделение?
— Нет, мой дедушка — князь Хованский — умер. А заявление подавал мой опекун, доктор Рогов.
Дрыгалка делает удивительно противное, насмешливое лицо и говорит с насмешкой:
— Ваш дедушка был князь? Вы в этом уверены?
— Он мне так говорил…
— Ах, он вам «говорил»? — уже открыто издевается Дрыгалка. — А вам известно, что такие вещи доказываются не словами, а документами?
Тамара молчит. Она очень бледна, и по губам её пробегает что-то вроде мелкой судороги.
— Дедушка говорил мне… — выжимает она из себя наконец с усилием, — что наша грамота на княжество утеряна… но что мы всё-таки князья.
— Ну, так вот, — с торжествующей интонацией продолжает Дрыгалка, — свободных мест в первом отделении нет. Дирекция готова была — для такого случая! — перевести кого-нибудь из первого отделения к нам во второе, а вас перевести от нас в первое. Но никаких документов о том, что вы — княжна, не имеется. Вы не княжна, а самозванка! И вас в первое отделение не переведут!.. — Затем, обращаясь к нам, Дрыгалка говорит, словно точку ставит: — Можете идти в коридор, медам!
И сама уходит из класса. Девочки со своими завтраками бегут в коридор. Часть девочек осталась в классе, в том числе и я. Я стою и боюсь поднять глаза. Боюсь посмотреть на девочек и увидеть: а вдруг они злорадствуют по поводу Тамары?.. И боюсь взглянуть на Тамару: а вдруг она плачет?
Но нет, девочки тоже не смотрят на Тамару, словно ничего не произошло. Мы выходим из класса группкой. Обернувшись в дверях, я вижу, как Тамара, очень бледная, поспешно, роняя вещи на пол, укладывает всё своё классное хозяйство в сумку…
Выйдя в коридор, Меля запускает зубы в кусок пирога с капустой и говорит почти нечленораздельно:
— А ну его к богу, княжество это! Одна морока!
Остальные молчат. Но лица у них серьёзные: сцена Дрыгалки с Тамарой произвела на всех тяжёлое впечатление.
Мимо нас вихрем проносится Тамара, — в руке у неё сумка с книгами и тетрадями. Она мчится к лестнице и стрелой убегает вниз.
— Куда она? — тревожно говорит Маня Фейгель.
— Домой, наверно…
— Девочки! — говорит Лида с упрёком. — Не будем заниматься чужими делами. Это называется: сплетничать.
Все молчаливо соглашаются с Лидой. Спустя минуту беседа бежит, как весёлый ручеёк, от одного предмета к другому. О Тамаре все забыли. Или делают вид, что забыли. Я — тоже. Конечно, мне её немножко жалко: наверно, она огорчилась тем, что её не хотят переводить в первое отделение. И Дрыгалка так насмешливо говорила ей: «Вы не княжна, а самозванка!» Кому же приятно слышать такое?
Но — удивительное дело! — слух об этом происшествии уже облетел весь институт. В коридоре все говорят только об этом. Ко мне подлетает Зоя Шабанова.
— Это правда? — спрашивает она с любопытством.
— Что «правда»?
— Да вот — про Хованскую?
Вокруг нас уже собралась толпа. Девочки набежали отовсюду, как куры на просо.
— А что такое — про Хованскую? — спрашиваю я с самым искренним недоумением.
В глазах Зои, да и некоторых других девочек, — жадное любопытство. Вот с таким выражением лица ходят по квартирам, чтоб посмотреть на незнакомых им покойников, или толпятся у церквей и костёлов, чтоб увидеть незнакомых им новобрачных.
Это очень противно…
Очевидно, Лида Карцева чувствует то же, что и я, потому что она очень холодно смотрит на Зою и других девочек, обступивших нас.
— Да что такое мы должны знать про Хованскую? — говорит Лида спокойно. — Ничего мы не знаем! Дайте нам пройти…
Нас пропускают. Мы идём по коридору со своими завтраками и говорим о другом. О чём угодно, только не о Тамаре Хованской.
Вечером прибегает к нам Лёня, очень взволнованный:
— Шашура! Идём к нам…
— Это зачем ещё мне идти?
— Меня дедушка послал. «Скажи, говорит, Сашеньке (он тебя Сашенькой зовёт… подумай, всех обезьян Сашеньками звать!), чтоб сейчас пришла к нам!»
Я понимаю это так, что у Тамары собрались все её знатные гости и Ивану Константиновичу непременно хочется, чтобы пришла и я. А я так не хочу этой встречи с «графьями и князьями», что даже пропускаю мимо ушей Ленькину дразнилку про «обезьян».
— Зачем я к вам пойду? — ершусь я. — У вас и без меня гостей много…
— То-то и дело, что нет! — серьёзно отвечает Лёня. — Ни одного гостя и три телеги неприятностей… Пойдём, Шашура!
У Роговых ещё в передней слышно, как заливается хохотом Тамара.
— Ты меня обманул? — сурово говорю я и поворачиваюсь, чтоб уйти. — У вас веселье, хаханьки, а ты сказал: никого нету!
Лёня удерживает меня за рукав шубки.
— Это у Тамары… истерика… — бормочет он сконфуженно. — Плачет она… понимаешь? Плачет!
Мы с Леней входим в комнату, откуда доносятся странные звуки, похожие больше на хохот, даже на икоту, чем на плач. Я никогда в жизни такого не слыхала и в совершенном ужасе схватываю Ленину руку.
В довершение переполоха попугай Сингапур в своей клетке начинает заливаться точь-в-точь, как Тамара! Оказывается (потом нам это объясняет Иван Константинович), одна из прежних хозяек Сингапура часто закатывала истерики, и Сингапур перенял это от неё. Все эти годы он жил у Ивана Константиновича и не слыхал никаких истерик; ну, а когда Тамара начала эту знакомую ему песню, Сингапур страшно обрадовался и начал выводить истерические вопли. Так они наворачивают оба — Тамара и Сингапур!
Но для Тамары состязание с попугаем оказывается полезным: плач её ослабевает. Она даже кричит:
— Ленька! Да поставь ты эту проклятую птицу на рояль!
Поставленный на гладко отполированную крышку рояля попугай Сингапур перестаёт хохотать, икать и плакать. Он только, как всегда, жалобно умоляет:
— Простите… пустите… не буду!
Всё это так смешно, что даже Тамара улыбается сквозь слёзы. Она сидит на диване, прижавшись к Ивану Константиновичу, крепко обнимая его за шею, и горестно бормочет:
— Дедушка… Миленький, дорогой дедушка… Как нехорошо всё вышло, дедушка!
Мы с Леней невольно переглядываемся: впервые со времени их приезда Тамара называет Ивана Константиновича «дедушкой», впервые обнимает его и льнёт к нему, как внучка, ищущая защиты! И, как ни расстроен Иван Константинович огорчениями Тамары, всё-таки он счастлив этой переменой в её обращении с ним.
— Птушечка… — целует он её плачущие глаза. — Да не убивайся ты так! Ну, сегодня всё вышло не очень хорошо, а завтра будет великолепно! В этом — жизнь, дорогая моя, внученька милая… И тебе ещё жить и жить… долго-долго!.. Всякое ещё у тебя будет, родная моя!
Но Тамарины чудеса продолжаются.
— Сашенька… — говорит она мне умоляюще. — Садись рядом со мной…
До этого дня у меня не было ни имени, ни «ты» — только одно «вы»! Но я не хочу об этом вспоминать. Мне очень жалко Тамару.
Я сажусь на диван рядом с Тамарой, беру её за руку.
— Сашенька… Ты как-то говорила, что Ляля Гагарина — не княжна. Ты это наверное знаешь?
— Нет, — отвечаю я честно. — Наверное я этого не знаю. Я только думаю, что, если бы она была княжна, все синявки бы её так называли. Ну, и сама она — она ведь глупая! — всем бы тыкала в нос, что она княжна…
Тут я краснею до ушей. Потому что ведь это — удар и по Тамаре: значит, она глупая, ведь она всё звонила, что она — княжна и княжна… К счастью, Тамара пропускает мою бестактность мимо ушей, она занята другой мыслью.
— Но тогда… — говорит Тамара растерянно, — почему же она сегодня ко мне не пришла? Нет-нет, ты не думай, я ведь знаю, что Гагарина — дура, и, ох, как с ней скучно, если бы ты знала! Но мне, понимаешь, обидно… Никто не пришёл! Что же, им со мной неинтересно? Они только оттого со мной дружили, что думали: я — княжна?
Лёня ласково — совсем не похоже на его обычное обращение! — гладит Тамару по голове.
— А тебе не всё равно, что там какая-то балда о тебе думает и почему она к тебе не пришла?
Но Тамара его не слушает: из передней слышен звонок.
В глазах Тамары — надежда. Она ещё и сама боится поверить в радость. Она говорит полувопросительно:
— Они?
Нет, это пришли не её гости! В комнату входит, очень весёлая, моя мама, а за ней — высокий красивый человек с пышным коком пепельных волос, падающим на лоб.
При виде его Иван Константинович, смешно нагнувшись и упёршись руками в расставленные колени, — так в чехарду играют, — кричит, словно не веря собственным глазам:
— Нет!
— Да! — кричит, смеясь, пришедший человек с коком.
И оба они — Иван Константинович и человек с коком — бросаются друг другу в объятия. Незнакомец наклоняется, потому что он значительно выше Ивана Константиновича. Оба они восторженно обнимаются, целуются и хлопают друг друга по спине. Потом, словно исполняя какой-то давно привычный обряд, они отступают на один-два шага друг от друга, а Иван Константинович рычит громовым голосом:
— Чёрт побери мои калоши с сапогами!
— Тысяча чертей и одна ведьма в пушку! — отвечает ему незнакомец.
Впрочем, почему я называю его незнакомцем? Я ведь только в первую минуту не сразу признала его — я его года два не видала. Но тут же радостно вспомнила: «Миша! Это мой дядя Миша!»
Он тоже бросается ко мне, берёт меня на руки, как маленькую. Он обнимает, целует меня, напевая приятным баритоном смешную и глупенькую песенку, которую я помню с самого раннего детства:
Я с восторгом обнимаю кудрявую голову дяди Миши, — я снова, словно в первый раз в жизни, узнаю его голос, придающий теплоту и сердечность всему, что бы он ни пел. Как часто, в самом раннем моём детстве, когда я бывала нездорова, не могла уснуть, дядя Миша целые ночи носил меня на руках и пел мне, а я слушала, положив голову на его плечо. Самое моё любимое было «Сказка о рыбаке и рыбке» — пушкинские слова, к которым он сам сочинил музыку. Когда он пел, как старик в первый раз закинул невод, — «пришёл невод с травою морскою», как «в другой раз закинул он невод, — пришёл с одною тиной» и хотя я отлично знала, что сейчас старик в третий раз закинет невод и поймает бесценную золотую рыбку, — всё равно я слушала с замиранием сердца, я боялась: а вдруг сегодня старик не поймает рыбку? Ведь тогда старик и старуха будут и дальше прозябать «в землянке», как прозябали до этого «тридцать лет и три года…»
Теперь я знаю, что в том и есть секрет подлинного таланта: зритель, слушатель, читатель — даже если он смотрит пьесу или читает книгу в тысячный раз! — должен волноваться, словно слышит и видит это в первый раз в жизни! Он должен трепетать от страстной надежды: «А вдруг сегодня конец будет новый, счастливый?» И только те писатели и актёры талантливы, которые умеют заставлять читателя и зрителя замирать в этом «а вдруг».
Дядя Миша был талантлив. Он был исключительно музыкален — пел, играл на рояле, сочинял безделушки-пьески для рояля; издатели покупали и печатали их. Помню его польку «Леночка», посвящённую моей маме, выставленную в витринах музыкальных магазинов. Дядя Миша окончил юридический факультет и был на редкость красноречив. Дедушка Семён Михайлович говаривал: «Если я хочу отчитать Мишу за какое-нибудь несомненное его безобразие, я должен войти к нему в комнату, выговорить всё, что у меня на душе, — и тут же уйти, не дав ему сказать ни одного слова, иначе через пять минут я буду верить, что никакого безобразия Миша не совершал, а если и совершил, то это было совсем не так, совсем не то и вообще это не было безобразием. А через десять минут я ещё буду просить у Миши прощения за то, что посмел заподозрить его в чём-то дурном!»
Были у дяди Миши и несомненные литературные способности. Он писал стихи, слова для романсов, но, главное, — письма. Боже мой, какие письма умел сочинять дядя Миша! Над этими письмами люди хохотали, плакали, люди исполняли любую дяди Мишину просьбу, хотя бы самую трудноисполнимую! Однажды на каком-то пышном балу у его петербургских знакомых, за ужином, где шампанское лилось, словно из открытого крана водопровода, дядя Миша на пари с каким-то приятелем написал письмо своей мачехе, второй жене дедушки Семёна Михайловича (которого в то время уже не было в живых). Мачеха эта, очень чванная, ни на миг не забывавшая, что она — генеральша, её превосходительство, жила в Каменец-Подольске и своего пасынка Мишу ненавидела (думаю, что заслуженно, потому что и он терпеть её не мог и причинял ей — в детстве и юности — тысячи неприятностей). Тут же, на балу, в присутствии всех гостей, дядя Миша написал ей письмо: он, дескать, дошёл до последней ступени человеческого падения — он пишет это письмо в знаменитой петербургской ночлежке «Васина деревня», он голодает, он стоит с нищими на паперти; здесь, в ночлежке, он пишет ей, лёжа на грязных нарах, среди пьяниц, бродяг, воров. Когда Миша читал вслух те места, где он описывал грязь, вонь, чужие пороки и свои страдания, то барышни, только что с ним вальсировавшие, плакали! На рассвете, возвращаясь домой с бала, дядя Миша опустил письмо в ящик… Письмо пришло в Каменец-Подольск и было доставлено с вечерней почтой; приём денежных переводов по почте и по телеграфу был уже закрыт до утра. Мачеха-генеральша всю ночь рыдала над этим письмом и ещё затемно побежала на телеграф, чтобы срочно отправить дяде Мише 200 рублей! Одновременно она отправила ему телеграмму: «Умоляю вернуться на путь добродетели».
Дядя Миша долго носил эту телеграмму в бумажнике: «Вдруг в самом деле послушаюсь? Тогда эта телеграмма будет входным билетом на путь добродетели!»
Дядя Миша добр, иногда до безрассудства. Деньги — и большие — раздаёт направо-налево по первой просьбе, иногда незнакомым людям. Помню также случай, как соседская кухарка упала вечером с чердачной лестницы. Дядя Миша принёс старуху на руках, положил её на свою кровать и всю ночь просидел около неё, прикладывая ей компрессы. Утром он нанял карету, — чтоб спокойно везла, чтоб не трясло! — и отвёз старуху в больницу. Старуха, прощаясь с Мишей, плакала: «Когда я молодая была, мажилось (грезилось) мне: повезёт меня королевич в карете…»
Вот какой мой дядя Миша, брат моей мамы, и вот он неожиданно, без предупреждения, как снег на голову, нагрянул в этот вечер. Впрочем, иначе дядя Миша появляться не умеет!
В пять минут дядя Миша уже знаком со всеми, а главное — все в него влюблены. Такой уж это человек! Он дирижирует: «Гран рон!» — составляет круг из всех обитателей квартиры и гостей: Ивана Константиновича, мамы, Тамары, Лени, меня, Шарафутдинова и горничной Натальи. Он заставляет нас плясать невообразимые танцы. Он играет нам на рояле какие-то мелодии собственного сочинения. Потом поёт романс Чайковского (я его тоже помню чуть не с рождения), и поёт его так задушевно, так проникновенно, что все мы застываем там, где нас застигли первые ноты:
Мы все, тесно обнявшись, сидим на диване: я — с мамой, Тамара и Лёня обхватили за шею Ивана Константиновича, прильнув головами к его плечам. Шарафутдинов, стоя в дверях, грустно и растерянно приоткрыл рот, Наталья вытирает глаза уголком фартука.
Много слыхала я песен за долгую жизнь. И пели их хорошо — иногда лучшие певцы в мире. Но нет песни, которая бы так мучительно и сладостно волновала меня, как эта «Колыбельная». Может быть, оттого, что это была одна из первых песен, какие я слыхала в жизни. Или оттого, что дядя Миша пел её так, как он делал всё, — самозабвенно-талантливо… Даже и сейчас я не могу слушать её без глубокой печали.
Но вот дядя Миша уже допел «Колыбельную» и, обведя глазами всех нас, притихших, всплакнувших, взволнованных, говорит — как всегда, без всякого перехода:
— А кормить гостей здесь не в обычае, что ли?
Тамара (кстати сказать, совершенно позабывшая свои горести), Наталья, Шарафутдинов начинают хлопотать по хозяйству, накрывать на стол. Мы с Леней пристраиваемся около взрослых. Лёня смотрит на дядю Мишу с восторгом, как на какое-то волшебное видение. С той обострённостью чувств, какую даёт искусство, я сейчас, после прослушанной «Колыбельной», смотрю на Леню и взволнованно читаю в его душе. Мальчик, видимо, давно тоскует об отце. Его отец умер так рано, что Лёня его даже не помнит. Дедушка Хованский — был, судя по всему, злой, раздражительный, спесивый брюзга. Бабушка Инна Ивановна была хорошая, милая, ласковая и грустная, но ведь бабушка — это не отец. Иван Константинович тоже ведь только дедушка… Два года Лёня провёл в кадетском корпусе, затёртый в военной муштре, как во льдах… И вот он смотрит на дядю Мишу, на этого чужого человека, неожиданно ворвавшегося на несколько часов в его, Ленину, жизнь. Вот бы такого отца! Это Лёня думает не словами, не мыслями, а чувством, всем сердцем! А я понимаю это потому, что дядя Миша разбередил мне душу своим пением. Сонная у человека душа, — через час-два я уже опять не буду понимать ничего, что происходит в окружающих меня людях, в их мыслях и чувствах.
В то же время я почему-то думаю о двух людях: о моём папе, в которого я верю больше, чем во всех, и об этом вот дяде Мише, чудесном дяде Мише, которого обожают все, и я первая. Я совершенно явственно вспоминаю, что эти двое никогда не казались мне дружными между собой. Не то чтоб они ругались, дрались или хотя бы ссорились, — ничего подобного, они всегда были ровно приветливы друг с другом. Но я только сейчас — вот именно сейчас, после песни, когда на душе так радостно и так хочется плакать светлыми, доверчивыми слезами! — только сейчас я понимаю, что папа и дядя Миша совершенно разные люди: то, что нравится дяде Мише, кажется нехорошим папе; а то, что любит папа, того не любит дядя Миша. Между ними всегда идёт какой-то внутренний спор, ни на минуту не затихающий. Помню, когда умер дедушка Семён Михайлович, дядя Миша вдруг, на удивление всем, купил на свою долю дедушкиного наследства — имение! Папа тогда спросил дядю Мишу, — мы сидели за обедом, — спросил спокойно, ровным голосом:
— Зачем тебе понадобилось это имение, Миша? Ты же окончил университет, ты — юрист. Работай!
— Ох, скука! — зевнул дядя Миша, открывая свои великолепные зубы.
— У тебя есть и другие способности — к музыке, например. Поступай учиться в консерваторию.
— Ещё того не легче!.. Да брось, Яков, придумывать всякую чепуху! Я хочу жить весело!
— Это — помещиком-то? — сощурился папа.
— Вот именно! Заведу образцовое хозяйство, буду задавать пиры на всю губернию! Разве не весело?
Дядя Миша тогда явно поддразнивал папу, хотя и добродушно. Папа молчал и больше в разговоры об имении не вмешивался. Имение было куплено. Дядю Мишу надули при этом, как грудного младенца. На имении оказалось втрое больше долгов, чем ему сказали при покупке. Дядя Миша сразу оказался в жестоких тисках, как говорится — «в долгах, как в репьях». Дважды, чтоб спасти его от полного разорения, мама и папа посылали ему денег, — на это ушла почти вся мамина часть дедушкиного наследства. Дядя Миша бился как рыба об лёд.
Папа никогда ничего не говорил. Только один раз, когда — мама, прочитав очередное дяди Мишино письмо, заплакала: «Бедный Миша…», — папа сказал:
— Не бедный, нет: несчастный. Потому что баловень, барчук. Всё в жизни получил даром, работать не умеет… Какая это жизнь!
Как-то раз, в разгар дяди Мишиных злоключений с имением, дядя Миша неожиданно женился и приехал к нам с женой. Её звали Тиной, она была совсем юная и наивная до глупости. У неё были роскошные туалеты и бельё из сплошных кружев. Увидев однажды, как мама штопает чулки, тётя Тина спросила с удивлением: «Вы носите штопаные чулки?» Все умилялись, глядя, с каким упоением тётя Тина играет со мной в куклы, как горько она плачет, когда ей случается проиграть мне партию в поддавки! Только папа как-то сказал о Тине с жалостью:
— Это же бедняжка блаженненькая… Цыплячьи мозги…
Брак оказался несчастным. Отец Тины, румынский еврей, тёмный делец, втянул дядю Мишу в какие-то биржевые дела, облапошил и окончательно разорил его, а сам скрылся неизвестно куда. Единственный брат Тины, Жан, красавец, прожигатель жизни, оставшись без гроша, поступил парикмахером в самую шикарную петербургскую дамскую парикмахерскую «Делькруа»…
Миша не приезжал к нам года два. И вот — сегодня…
А сегодня дядя Миша не совсем такой, как всегда! Сквозь привычное веселье, сквозь искреннюю радость видеть всех близких в дяде Мише чувствуется усталость, глаза его смотрят порой горько. Он бурно обнимает маму, подбрасывает меня в воздух, прижимается щекой к руке Ивана Константиновича… Но он не совсем весёлый, хотя все кругом смеются и смотрят на него с восхищением.
Но вот уже накрыт стол — роскошно! На нём — всё, что Тамара готовила для своих «знатных» гостей: красивая новая посуда и хрусталь, цветы в большой вазе посреди стола и цветы у каждого прибора, вино, множество заманчивых яств.
— Прошу за стол! — весело приглашает Тамара. Она уже забыла свои недавние разочарования и с удовольствием исполняет обязанности хозяйки дома.
В эту минуту появляется новый гость — папа. Он приезжал на часок домой — перекусить и отдохнуть; у него сегодня очень трудная больная, от которой он не отходит с самого утра и к которой сейчас вернётся опять. Дома ему сказали, что приехал Миша и что мы все у доктора Рогова, — он и приехал сюда.
Папа и дядя Миша здороваются, обнимаются. Но, как всегда, ясно чувствуется, что между ними стоит что-то, какой-то барьер, что ли…
— Приехал, баловень? — спрашивает папа без всякой злобы, шутливо.
— Приехал, да, — отвечает дядя Миша. — А ты, как всегда, в ярме?
— Да, как всегда. Через полчаса уйду — у меня тяжёлая больная.
— И не надоело тебе? — посмеивается дядя Миша.
— Никогда не надоест, — серьёзно отвечает папа.
Все сидят за столом. Иван Константинович разливает в бокалы вино. Затем он встаёт и торжественно говорит самым низким голосом, каким может:
— Н-н-ну-с, друзья мои!.. Сегодня у меня — дорогой гость: сын Семёна Михайловича, моего друга и товарища… по Военно-медицинской академии и по турецкой войне… Михаил Семёнович — вот он! Попросту скажем — Миша, Мишенька… На коленях у меня сиживал. Сиживал, как же… Ну, в общем, чёрт побери мои калоши с сапогами, — твоё здоровье, Мишенька! — протягивает он к нему бокал.
— Ах, Иван Константинович, Иван Константинович! — укоряет его мама. — Мишеньку вы на одно колено сажали — это вы помните! А кто на другом колене сидел, про это вы забыли?
— Не забыл, дорогая, — как же я это забуду? На другом колене у меня сидела девочка Леночка — ныне её Еленой Семёновной зовут! — жена моего младшего друга, Якова Яновского! Ваше здоровье, дорогая! И твоё, Яков Ефимович!
— А помните, Иван Константинович, — говорит вдруг дядя Миша, — как я прибежал к вам, когда мою сестру Леночку обидели в гимназии? Какая-то девчонка бросила ей на голову грязную тряпку, которою стирают мел с классной доски. Ну, Леночка у нас всегда была «чистоплотка»: прибежала домой, плачет горько. А я — сам гимназист, что я могу? Ну, я, конечно, — к Ивану Константиновичу. Помните, дядя Ваня?
— Конечно, помню! Врывается, понимаете, ко мне Миша, сам не свой, весь трясётся, глаза мечут молнии! Сестру его обидели в гимназии! Так чтоб я сию минуту отправился в гимназию и чуть ли не на дуэль начальницу вызвал!
— А вы — не вызвали? — спрашиваю я.
— Ну что ты, опомнись! Как же я женщину на дуэль вызову!
— И что же было дальше? — спрашиваем мы в три голоса: Лёня, Тамара и я.
— А дальше, — продолжает, смеясь, дядя Миша, — я полетел стрелой прямо в женскую гимназию. «Где госпожа начальница?» Привели меня к ней — служитель гимназический оказался бывший денщик моего отца. Я говорю: «У вас одна девчонка оскорбила мою сестру! Вы должны эту девчонку наказать!» Ну, начальница меня расспросила. "Виновную я, говорит, накажу, но неприлично сыну такого отца говорить слово «девчонка»!..
Все смеются. И вдруг папа мой говорит совершенно серьёзно:
— Очень характерный для тебя случай, Миша! Намерение у тебя было самое благородное: заступиться за сестру. Но сперва ты хотел осуществить его при помощи Ивана Константиновича, а потом выехал всё-таки на авторитете своего отца: служитель, бывший денщик, проводил своего бывшего барчука к начальнице — другого бы не проводил! — а начальница не выставила тебя вон тоже, вероятно, только потому, что ты был сын своего отца, которого она знала и уважала… Ну да, впрочем, бросим это! Скажи нам лучше, что у тебя? Как твои дела?
— Нет-нет! — пугается вдруг мама горестного выражения, мелькнувшего в глазах дяди Миши. — Сегодня о делах не будем! О делах — завтра…
Дядя Миша обнимает маму, целует её руку.
— Дорогая моя Леночка… — говорит он с печалью. — Не будет этого завтрашнего разговора. Не будет. Я сейчас еду на вокзал. Скоро поезд…
— Но почему ты сразу не сказал мне, что ты сегодня же уезжаешь?
— Деточка… Ведь я испортил бы этот вечер и себе и всем нам! Подумай, такой чудесный вечер… Будет ли у меня ещё когда-нибудь такой вечер?..
— А как же твои вещи? Ведь они остались у нас…
— Леночка! Мы так давно не видались, ты мне так обрадовалась — даже не заметила, что я без вещей! И в первый раз в жизни я не привёз подарков ни тебе, ни Сашеньке…
Дядя Миша обнимает и меня. Потом обращается к папе:
— А про мои дела, Яков, я сейчас скажу… хотя похвастать и нечем. Ну, коротко: имения нет, его продали с молотка — за долги… Семьи тоже нет: жена моя, Тина ушла от меня и дочку нашу — тоже Сашеньку — увезла с собой… Работать я не умею — ты всегда говорил мне это, и теперь я иногда начинаю думать, что, пожалуй, ты был прав…
— Миша! — говорит папа, кладя ему руки на плечи. — Если тебе нужны деньги… Ты ведь знаешь… Я всегда…
— И я! И я! — говорит Иван Константинович, который словно даже осунулся и похудел за эти полчаса.
— Спасибо, милые, не надо, — твёрдо отвечает дядя Миша. — Я еду в один городок… ну, пока без названия… на русско-азиатской границе. Там я получу ма-а-аленькое место: податного инспектора. Если приживусь, если вработаюсь, напишу вам. Это будет не скоро… И — не легко, сами понимаете… Ну как, Яков? Ты доволен? Ты понимаешь, что баловень берётся за работу?
— Очень хорошо! — говорит папа, обнимая дядю Мишу. — Очень хорошо, Миша… Потому что баловням приходит, вероятно, конец. Ты хочешь работать? Отлично!
— Ну, дорогие мои! — обращается к нам дядя Миша. — Давайте прощаться.
— Нет! — требует Иван Константинович. — Сперва присядем перед дорогой.
Мы садимся. Шарафутдинов неловко мнётся — нельзя ему сидеть при Иване Константиновиче! — и только после твёрдого приказания он садится за дверью соседней комнаты.
— Вот и посидели перед дорогой! — встаёт дядя Миша. — Вы что это? На вокзал со мной? Провожать меня? Ни-ни-ни!
Ещё минута-другая — дядя Миша, обняв и расцеловав нас всех, уходит вместе с папой. В дверях он оборачивается к нам:
— Прощайте, родные мои! А может быть, до свидания?
И убегает.
Иван Константинович опускается на диван. Мама плачет рядом с ним.
— Баловень… — бормочет Иван Константинович. — Именно, что баловень… Загубило его это баловство…
— Почему, дедушка? Почему? — задумчиво спрашивает Тамара. — Какое баловство?
— А такое! — упрямо говорит Иван Константинович. — Баловство — это всё, что задарма, понимаешь? Вот — Миша: отец его, Семён Михайлович, замечательный хирург был, бесстрашный человек, под огнём неприятеля раненых перевязывал, на себе, случалось, из боя выносил их, Я, бывало, иду с ним, даже перекреститься боюсь… А он — как по бульвару гуляет! Ранили его, контузили, тифом болел — тогда это гнилой горячкой называли, — отлежится и снова в строй! За это, за труд этот адский, за самоотверженность врача, за опасности и лишения, ему и ордена дали, и потомственное дворянство, и всё… А Миша — он с малых лет привык, что он — потомственный дворянин, и папа у него орденами обвешен, как ёлка игрушками, и все двери перед ним открыты, и что ни пожелай — всё сделается! До тридцати с лишним лет дожил — трудиться не научился, не любит, не умеет… А теперь уже поздно… Так вся жизнь и пошла под раскат… Нет-с, братцы мои, не баловство человеку нужно и не отцовы заслуги, свои собственные дела, своим потом, своей кровью политые!
— Верно, Иван Константинович, — говорит мама сквозь слёзы. — Всё верно, что вы говорите…
Иван Константинович привлекает к себе Леню и Тамару. Уже и раньше как-то мама при мне говорила папе, что Иван Константинович любит обоих своих «нечаянных внуков», но Леню — чуточку больше. Потому что Лёня — «бабушкин». Он на неё похож и лицом, и характером, он её любил, и она его любила. Оттого Иван Константинович особенно ласков с Тамарой: он боится, что она это поймёт, почувствует…
— Лёня! — говорит Иван Константинович, гладя голову Тамары, но смотрит он прямо в красивые «бабушкины» глаза Лени. — Очень тебя прошу понять: граф ты там, или маркиз, или князь, — это не твоя заслуга, и потому это дешёвое дело. Вон, говорят, за границей титулы за деньги купить можно! Но если ты настоящий человек и делаешь настоящее дело, и делаешь его хорошо, — так вот это уже твоя заслуга, это трудно, и тебя за это всякий уважать будет. Понимаешь, Лёня?
— Понимаю… — тихо говорит Лёня. — Я, дедушка, сам тоже так думаю.
…Первое письмо от дяди Миши получили мы через восемь лет после этого вечера. Он писал из города Орска, Оренбургской губернии. Служил он в каком-то учреждении, жил тихо, скромно, незаметно.
«А может быть, до свидания?» — спросил он, уходя в тот последний вечер от Ивана Константиновича.
Нет, это было «прощайте». Свидеться с ним больше никогда не привелось. Никому из нас.
Глава четырнадцатая. ТАМАРЕ ТРУДНО
В тот же вечер, после внезапного приезда и такого же отъезда дяди Миши, папа возвращается домой так поздно, что я уже почти совсем заснула. Это, наверно, звучит странно, когда человек говорит, что он «почти совсем заснул». Большинство людей либо «заснули» — и, значит, совсем заснули, либо «не заснули» — и, значит, не спят. Но у меня с раннего детства создалась привычка ждать, когда вернётся домой папа. Иногда, если это затягивается, — папа-то может ведь не вернуться и до утра! — я засыпаю. Но чаще всего я лежу и дремлю, — я почти совсем сплю, и всё-таки не совсем: какой-то ма-а-а-ленький кусочек моего сознания не спит! Стоит мне в это время услышать голос — или чаще шёпот — папы, и я сбрасываю с себя сон, словно одеяло. Я уже не сплю и с нетерпением жду, пока папа тихонько, осторожно подойдёт к моей кровати, чтоб поцеловать меня, спящую. Бывает, что я уже совсем сплю, но просыпаюсь именно в этот момент — «от докторского запаха».
В этот вечер я жду его с нетерпением: мне надо задать ему один неотложный вопрос. Папа очень устал — он сидит рядом с моей кроватью, и глаза у него полузакрыты. Но я чувствую, что он доволен — всё обошлось у него хорошо.
— Папа, ты операцию сделал?
— Угм… — утвердительно хмыкает папа.
— Ты разрезал человека? — спрашиваю я с замиранием сердца.
Папина профессия — операции, ампутации — для меня ещё очень далёкая, я ведь никогда не видела, как папа работает. А по картинкам всё это представляется мне очень страшным.
— И разрезал, и снова сшил… Своим собственным швом сшил — я недавно его придумал, этот шов, очень удачный!
— А больному это было больно?
— А ты как думала? Конечно, ему было больно. Ну, да не в этом дело… Будет жить — вот что главное! Будет жить и через неделю забудет, как стонал, как кричал, как мучился…
— Ну, а Тамара? — спрашиваю я. — Ей ведь сегодня как было больно! И в первое отделение её не переведут, и Дрыгалка её «самозванкой» обозвала, и подруги её обидели, не пришли к ней… Как ты думаешь, будет она это помнить?
— Возможно…
— Ты думаешь, она теперь станет хорошая?
— Ох, Пуговица ты моя, глупая ты Пуговица! — качает головой папа. — Да, она сегодня ушиблась, больно ушиблась. Но чтоб от этого она сразу — раз! два! три! готово! — сразу переродилась, стала совсем новая, на себя не похожая, — это, миленький ты мой, бывает только в детских книжках «Розовой библиотеки»! А в жизни — нет. Жизнь, Пуговка, она — штука разноцветная… Не только розовая!
Всё это — и Тамарины несчастья, и неудавшийся журфикс, и приезд дяди Миши, и поздний разговор этот с папой — происходит в субботу. В воскресенье никаких известий из дома Ивана Константиновича к нам не поступает. В понедельник утром я, как всегда, подхожу к дверям института. Это для меня уже — да-а-авно! — не врата в Храм Науки, как мне казалось в первые дни, а лишь дверь в Царство Скуки. В ту минуту, как я берусь за медное дверное кольцо, я вижу маленькую стройную фигурку. Она стоит на противоположном тротуаре; завидев меня, она торопливо перебегает улицу и берёт меня под руку. Это Тамара…
— Я тебя ждала… — говорит она мне, улыбаясь через силу, и улыбка у неё очень жалкая. — Я хотела с тобой вместе…
Ей, видно, тяжело, просто мучительно прийти сегодня, в понедельник, туда, где она в субботу перенесла столько унижений… Мне становится так жаль её, что я мгновенно забываю, как она раздражала меня своей заносчивостью. Мне хочется поддержать её, чтоб она забыла всё прошлое, чтоб она стала такая простая и ясная, как все другие девочки, мои подруги.
— Тамарочка… — говорю я как только могу ласково. — Вот как хорошо, что мы здесь с тобой встретились! Ну, идём!
Мы одновременно раздеваемся и вместе идём наверх. Гуляем до начала уроков под руку по коридорам. К нам «пристают», как лодки, мои подруги: Варя Забелина, Маня Фейгель с Катей Кандауровой. Подходят ещё Меля — как всегда, с набитым ртом — и Лида Карцева. Мы прохаживаемся все вместе. Лида нравилась Тамаре и раньше — Лида держится со спокойным достоинством, как взрослая, Лида целый год жила во Франции, а папа Лидин — известный в городе юрист. Кто мы, остальные, по понятиям таких девочек, как Тамара? Меля — дочь «трактирщика», Маня — дочь «учителишки», я — дочь «врачишки»… Мелюзга! — А Лида — «человек её круга». Тамара это чувствует. Она улыбается Лиде особенно приветливо, она всеми силами старается понравиться именно Лиде. Но Лида держится сдержанно.
Гуляя по коридорам, мы сталкиваемся с группой: Зоя Шабанова, Нюта Грудцова (внучка городского головы, ах, ах, ах!) и Ляля-лошадь. Тамара густо краснеет. Она крепче прижимает мой локоть — и не кланяется им. Они тоже ей не кланяются. Кончена их дружба — распалась на куски, как разбитый арбуз!
После звонка, когда мы уже идём в свой класс, Лида Карцева, чуть поотстав вместе со мной от других, говорит, как всегда, с лёгкой насмешкой:
— Шурочка занимается благотворительностью? Очень чувствительно!
— А ты помнишь, что было в субботу? — отвечаю я с упрёком. — Неужели тебе её не жаль?
— Не очень. Она сама во всём виновата.
— Что же, ей от этого легче, что ли, что она сама виновата?
Весь школьный день Тамара держится около меня и моих подруг. Мы, в общем, приняли её в свою компанию. Правда, ей с нами, вероятно, скучновато — с нами нельзя говорить о том, что Тамара любит больше всего: «Баронесса Вревская мне говорила», «Князь и княгиня бывали у дедушки запросто» и т. п. Нам это неинтересно, и Тамара это понимает. Но всё-таки она не одна, и, когда в коридорах мимо нас проходят её бывшие друзья, она даже не смотрит в их сторону.
В тот же вечер прибегает Лёня и рассказывает мне обо всём, что вчера, в воскресенье, происходило у них в доме. Тамара плакала, она чуть ли не на коленях умоляла Ивана Константиновича, чтоб он перевёл её в женскую гимназию на Миллионной улице. Потом просила позволить ей несколько дней не ходить в институт, пока все хоть немного позабудется. Но Иван Константинович был неумолим! Это у него, оказывается, всегда так: во всех маленьких житейских делах — он добряк просто до невозможности. Но когда дело идёт о серьёзном, Иван Константинович — кремень, скала!
— Птушечка! — уговаривает он Тамару. — Нельзя тебе переходить в другую гимназию. Какой же ты воин, если бежишь с поля боя?
— Я — не воин… — плакала Тамара. — Я — девочка, барышня…
— Да, если ты бежишь, ты — не воин, ты — просто трус! Я первый тебя уважать не буду. А если отсиживаться дома и не ходить в институт, так это, галчоночек мой, то же самое! Они тебя обидели, а не ты — их, что же тебе от них прятаться?
После долгих слёз, уговоров, споров, поцелуев решили так: Тамара будет смелая и всё-таки пойдёт в понедельник в институт.
Папа, как всегда, оказался прав. С Тамарой, конечно, не произошло полного и окончательного «перерождения», как с героями книжек «Розовой библиотеки». Но всё-таки от полученного толчка что-то в ней шатнулось, дрогнуло, сдвинулось с места. С Иваном Константиновичем она уже больше никогда не разговаривает так, если бы он был её лакей или кучер. Она называет его дедушкой, дедусенькой и даже милюпусеньким дедунчиком. И это искреннее, доброе отношение её к Ивану Константиновичу, она не подлаживается, не подлизывается к нему — нет, она поняла, она почувствовала, какой это золотой человек и как искренне любовно относится он к ней и к Лене. Со мной она тоже держится без прежней заносчивости — как с подругой, говорит мне «Сашенька» и «ты». Но всё-таки иногда — по-моему, даже слишком часто! — в ней опять просыпается её глупая гордость неизвестно чем, её барские замашки. И тогда она опять становится противная-противная! Я стараюсь найти если не оправдание такому её поведению, то хоть объяснение. Я повторяю сама себе, что она не виновата, что она выросла под влиянием своего дедушки-генерала, который сознательно воспитывал в ней надутую спесь, глупую заносчивость и т. д., и т п. Но мне не всегда удаётся совладать с самой собой и внушить себе снисходительность к Тамаре. И нередко между нами возникают разногласия, а иногда — даже ссоры. В особенности противно мне бывает слушать, как она разговаривает с горничной Натальей и с Шарафутдиновым. Ну, словно они не люди, а неодушевлённые предметы!
И вот через некоторое время Тамара снова объявляет, что у неё будет журфикс. Мало ей того, первого журфикса! Впрочем, зовёт она ведь уже других гостей: Лиду Карцеву, Варю Забелину, Мелю Норейко, Маню Фейгель, Катю Кандаурову и меня. По дороге к Тамаре я встречаю Катю Кандаурову. Она тоже идёт к Тамаре — идёт одна, без Мани, которая сегодня нездорова.
— Я тоже не хотела идти, — говорит Катя, — но Маня говорит: «Нехорошо. Тамара подумает, что мы нарочно, что мы не хотим к ней идти. Ступай, Катя! Повеселишься, потом мне расскажешь…» Я и пошла.
Мне бросается в глаза, какая Катя сегодня праздничная, улыбчивая.
— Катенька, ты что сегодня такая весёлая, как новенький гривенник?
Катя отвечает, словно сама смущена своей радостью:
— От тёти моей… от тёти Ксени, папиной сестры, письмо пришло! Не берёт она меня к себе! Не берёт!
Катя выпаливает это просто с восторгом и даже на ходу трётся от радости головой о моё плечо.
— А ты её не любишь, что ли, эту тётю Ксению? — удивляюсь я.
— Я её не «не люблю», а — не знаю… — уточняет Катя. — Конечно, она — папина сестра. Папа мой всегда говорил: «Ксеня — хорошая, Ксеня — добрая». Но ведь я-то её никогда и в глаза не видала! Подумай: здесь я уже привыкла, я всех знаю, — и вдруг опять куда-то ехать! Опять новые люди! Опять привыкать! Сейчас очень всё хорошо: тётя Ксения — мой опекун, она из папиных денег (тех, что после папы остались) присылает Илье Абрамовичу, Маниному папе, тридцать рублей в месяц на моё содержание. Илья Абрамович говорит: этого куда как много, больше, чем надо! Он на меня в сберегательной кассе книжку завёл — жёлтенькую такую, как канарейка! Сколько каждый месяц от тридцати рублей остаётся, — он на книжку кладёт.
— Тебе у них хорошо?
— Так хорошо, так хорошо!.. Вот секрет: даже с папой так хорошо не было, как с ними! У папы я, бывало, всё одна и одна. Папа с утра на службу уйдёт, вернётся в пять часов — обедаем мы. После обеда папа ложится — отдыхает. Проснётся, чаю попьём — спокойной ночи: мне спать пора. А папа, слышу, всё по комнатам ходит, всё ходит и ходит… Скучно мы жили!
— А у Фейгелей?
— Ох! — говорит Катя с восторгом. — Они все весе-о-олые! Каждый вечер нам Илья Абрамович читает — вот, например, как Иван Иваныч с Иваном Никифоровичем разругались! А перед сном все вместе песни поём…
И, помолчав, Катя добавляет:
— Нет, хорошо, что тётя Ксеня меня к себе не берёт! «У меня, пишет, четверо мальчиков, сорванцов. Кате будет с ними трудно…» Ещё бы не трудно — они, наверно, драчуны, я бы у них в синяках ходила… «Если можете, Илья Абрамович, прошу вас, подержите Катеньку пока у себя…» Вот как хорошо вышло!
Так, болтая, мы приходим к Тамаре. Конечно, мы с Катей пришли первые: никого из гостей ещё нет. Тамара встречает нас очень радушно, ведёт в свою комнату и кричит, чтобы нам принесли туда фруктов: в ожидании остальных гостей будем есть яблоки. Их приносит в вазе Шарафутдинов, как всегда приветливый, улыбающийся, и ставит на столик. Яблок в вазе слишком много, и два верхних яблока падают на пол. Шарафутдинов поднимает их с пола, обтирает обшлагом своей рубашки и кладёт обратно в вазу.
Что тут начинается, батюшки! Тамара приходит в бешенство. Она грубо выхватывает из вазы те яблоки, которые трогал руками, и вытирал обшлагом Шарафутдинов, и швыряет ему в лицо.
— Болван! Хам! — кричит она на него.
У меня начинает стучать в висках. Всё плывёт перед моими глазами, как в грозу на лодке. Я бросаюсь к Шарафутдинову; он стоит, вобрав голову в плечи, закрывая локтем лицо от яблок, которыми продолжает швырять в него Тамара.
— Шарафут! — обнимаю я его, громко плача. — Шарафут!
Катя Кандаурова тоже плачет и тоже обнимает Шарафутдинова.
Тамара опоминается. Она видит по нашему возмущению, что переборщила.
— Подбери яблоки, чёрт косой! — приказывает она Шарафутдинову.
И, криво улыбаясь, обращается ко мне и Кате:
— Вы что же, обиделись за него, что ли? Он таких тонких чувств не понимает. Мой дедушка своих денщиков даже по морде бил…
И тут Катя, кроткая, тихая Катя, выходит из себя!
— Твой дедушка был свинья! — кричит она так громко, что голос у неё сразу хрипнет.
Схватив за руку Катю, я бегу к двери. Хлоп! — и нет нас. Мы бежим, но по ошибке не на улицу, а в ту дверь, которая ведёт в сад Ивана Константиновича. На дорожках, у корней яблонь — груды снега. Мы с Катей садимся на лавочку, мы уже не плачем, мы просто сидим и мрачно смотрим перед собой.
— Вот и повеселились… — вздыхает Катя. — Будет что порассказать Мане!
Дверь из дома отворяется, и к нам бежит Шарафутдинов. На секунду у меня мелькает мысль: это Тамара послала его за нами. Не пойду я к ней! Ни за что!
Нет, конечно, это не она его послала. Его погнало то, что Тамара называет «тонкими чувствами», которых у него, по её мнению, нет и быть не может. А вот и есть они у него! Ему больно не то, что его ругали, бросали яблоками в его лицо, в голову. Он знает, что он — солдат, денщик, что ему пожаловаться некому и обижаться не полагается. Но ему больно, что мы с Катей огорчаемся из-за него, он чувствует, что мы его любим, что мы за него заступились. Присев на корточки перед лавочкой, на которой мы сидим, Шарафутдинов всё тем же обшлагом утирает наши слёзы и быстро-быстро бормочет на своём фантастическом русском языке; от волнения он даже вставляет не совсем приличные слова, чего обычно никогда не делает.
— Ой, ой, ой! Дерьмам делам — Казань горит… Баришням… Шашинькам… Катинькам… Шарафутдин лес ходи, вам ёжикам лови… Не нада плакай… Не нада…
От этих ласковых слов мы с Катей снова начинаем плакать. Мы крепко прижимаемся к Шарафутдинову, так что нам явственно слышно, как стучит под солдатской рубахой его доброе, ласковое сердце.
В дверях дома появляется Иван Константинович.
— Девочки-и! Сюда-а-а! — зовёт он нас. Мы идём к дому, и я говорю Кате так, словно обещание даю:
— Сто Тамарок за одного Шарафутдинова не возьму!
— А я — двести… — всхлипывает Катя.
В доме мы застаём всех девочек: они только что пришли. Приехал из госпиталя Иван Константинович, пришёл Лёня из музыкального училища.
Тамара лежит на кушетке в своей комнате и заливается в истерике. Хохочет, плачет, икает, опять хохочет, кричит… Конечно, из соседней комнаты вторит ей в своей клетке попугай Сингапур. В два голоса это получается музыка, невыносимая для слуха.
И вдруг в дверях кто-то с силой стучит палкой об пол и оглушительно кричит, перекрывая трели Тамары и Сингапура:
— Перестань! Сию минуту прекрати это безобразие!
Это папа. Он подходит к несколько опешившей Тамаре и снова стучит палкой в пол, и снова кричит:
— Замолчи! Сию минуту замолчи! Слышишь?
Тут начинаются чудеса! Тамара в самом деле замолкает — правда, не сразу, не в ту же минуту. Сперва её плач становится тише, исчезают икота и хохот. Тамара уже только плачет, но тихо — без взвизгиваний и криков.
— Лёня! — приказывает папа. — Заставь попугая замолчать.
И папа уходит за Леней в комнату, где живёт в своей клетке Сингапур. Иван Константинович идёт за ними. Я тихонько отделяюсь от группы девочек, стоящих вокруг кушетки, на которой плачет Тамара, и тоже проскальзываю за взрослыми. Я поспеваю как раз к тому моменту, когда Иван Константинович говорит папе с укором:
— Уж ты, Яков Ефимович… пожалуй, перехватил!..
— Нет! — твёрдо говорит папа. — Не я «перехватил», а вы, к сожалению, до сих пор «недохватывали»!
— Но девочка в самом деле немного истерична. Это болезнь… — словно оправдывает её Иван Константинович. — У неё бывают истерики…
— Иван Константинович, мы же с вами — врачи. Мы знаем, что в девяносто случаях истерии — из ста! — болезни на копейку, а остальное — дурное воспитание, баловство и дурной характер. А уж истерика — почему мы с вами у бедных людей не слышим истерик? Это дамская болезнь, панская хвороба, дорогой мой! И бывает она почти исключительно там, где с жиру бесятся. Разве нет, Иван Константинович?
— Так-то так… — вздыхает Иван Константинович. — А всё как-то…
— Вы только будьте тверды, Иван Константинович, и настойчивы — вы это умеете, — и через полгода Тамара забудет дорогу к истерике. Она здоровая, умная девочка — зачем ей икать и квакать?
— Ну, пойдём туда! — напоминает Иван Константинович. — Надо же узнать, что у них тут произошло…
— А мне пора! — прощается папа. — Я ведь только мимоходом на десять минут забежал: словно чуял!
Я так же незаметно возвращаюсь в комнату Тамары, куда вслед за мной возвращаются Иван Константинович и Лёня. Папа исчезает, сделав Ивану Константиновичу знак, что мол, держитесь крепко!
Мы, девочки, по приглашению Ивана Константиновича рассаживаемся за нарядно сервированным столом.
— Так вот, — спрашивает Иван Константинович, — отчего такие слёзы? Кто кого обидел?
Сперва все молчат. И вдруг всё та же Катенька Кандаурова встаёт и говорит уверенно, прямо — ну, вообще так, как люди говорят правду.
— Тамара обидела Шарафута. Он яблоки уронил, а она в него яблоками кидала… И «хамом» его ругала, и «болваном»… И ещё «чёртом косым»… Вот!
— Правда это? — обращается Иван Константинович к Тамаре.
Это, конечно, праздный вопрос. Никому даже в голову не приходит, что Катя, такая ясная, прямодушная, как маленький ребёнок, может взвести на Тамару напраслину. Да Тамара и не отрицает.
На вопрос Ивана Константиновича: правда ли это? — она отвечает:
— Правда.
Иван Константинович весь багровеет. Никогда я его таким не видала!
— Я всю жизнь в армии служу… А ты, девчонка, фитюлька, шляпка, — ты смеешь русскому солдату такие слова говорить? Сию минуту извинись перед Шарафутом!
— Как бы не так! — запальчиво говорит Тамара. — Я буду перед солдатом извиняться, ещё что выдумали!
— Да! — твёрдо отвечает Иван Константинович. — Ты извинишься перед Шарафутом! А не извинишься, — так я уйду к себе в кабинет, запру дверь на ключ и не буду с тобой разговаривать, не буду тебя замечать, в сторону твою смотреть не буду!
Всё это Иван Константинович произносит тем голосом, каким он говорит, когда он — кремень, скала!
— А эта… эта… — Тамара выпячивает подбородок в Катину сторону (такая она благовоспитанная, такая благовоспитанная, что даже в сильнейшем волнении ни за что не ткнёт в Катю «неприлично» указательным пальцем!) — Эта меня не оскорбила, нет? Вы её спросите! Ей передо мною извиняться не в чём?
— Да… — подтверждает Катя. — Я её оскорбила, Иван Константинович. То есть я не хотела… нет, я хотела!.. Ну, в общем, я сказала ей очень обидное слово…
— Что ты ей сказала?
— Я сказала: если её дедушка бил своих денщиков по морде, — значит, её дедушка был свинья… Это обидное слово, я понимаю…
— Ты просишь прощения у Тамары? — спрашивает Иван Константинович.
— Только за «свинью»! Только за «свинью»! — отвечает Катя. — Это вправду грубое слово… Обидное… За «свинью» я извиняюсь.
— Вот, Тамара, слышишь? Катенька перед тобой извиняется. А теперь ты попроси прощения у Шарафута!
Тамара смотрит вокруг себя с совершенно растерянным лицом. Но ни в чьих глазах она не встречает ни поддержки, ни хоть жалости к ней. Девочки сидят за столом… Катя Кандаурова, всё ещё дрожа от всех происшествий, жмётся ко мне, и я крепко обнимаю её. Варя Забелина тоже смотрит на Тамару с осуждением. Лида Карцева держит себя, как всегда, «взрослее», чем все мы: ей неприятно, что она пришла в гости, а нарвалась на семейный скандал. И только одна Меля в совершенном упоении от всех вкусных вещей, расставленных на столе; она пробует то от одного лакомства, то от другого, одобрительно качает головой и снова принимается за еду… Нет, никто из сидящих за столом не сочувствует Тамаре! Даже Лёня смотрит в сторону. Даже Иван Константинович… только огорчён, конечно, но он тоже считает, что Тамара виновата.
— Шарафут! — негромко зовёт Иван Константинович. — Поди сюда…
Шарафут входит в столовую и робко останавливается около порога.
— Шарафут! — продолжает Иван Константинович. — Тамара Леонидовна хочет тебе что-то сказать… Ну, Тамара!
Тамара встаёт. Она выходит из-за стола. Она раскрывает рот, как рыба, выброшенная на песок.
— Я не хотела… — говорит она каким-то не своим голосом тихо и сипло. — Я прошу прощения.
И, внезапно, рванувшись, она бросается вон из столовой — в свою комнату.
Иван Константинович тоже уходит — к себе в кабинет.
В столовой остаёмся только мы, да Лёня, да Шарафут. Этот совершенно остолбенел от удивления и смотрит на всех перепуганными миндалевидными глазами.
— Ничего, Шарафут… — подходит к нему Лёня. — Ничего, браг, всё в аккурате. — И вместе с Шарафутом Лёня уходит на кухню.
— Вот что, девочки… — говорит Лида Карцева. — Вы как хотите, а я ухожу. С меня довольно!
— И я ухожу! — поддерживает её Варя.
Мы всей гурьбой идём в переднюю. Меля успевает засунуть в карман несколько конфет.
— Брось! — говорю я ей. — Нехорошо…
— Нет, почему же? — возражает она. — Они — миленькие, я такие люблю.
Мы идём по улице. Идём гуськом, потому что тротуар тут узкий. Я иду в самом хвосте. Идущая впереди меня Катя Кандаурова говорит, сердито мотая головой:
— И кто только выдумал эти журфиксы! Ничего в них нет хорошего… Терпеть не могу!
Кто-то бежит за нами вдогонку. Это Лёня. Без пальто, без шапки.
— Лёня! — кричу я ему. — Сию минуту ступай оденься по-человечески! Простудишься без пальто!
— Шашура! — говорит он, запыхавшись. — Дедушка просит, чтобы ты вернулась. Ненадолго… Я потом тебя домой отведу.
Я кричу девочкам: «До свидания!» — и мы с Леней бежим к их дому, бежим, как ветер: я боюсь, чтоб Лёня не простудился.
Мы сидим в кабинете Ивана Константиновича. Лёня — за роялем (я знаю: это бабушкин рояль). Мы с Иваном Константиновичем — на большом диване. Иван Константинович облокотился на валик дивана и приготовился слушать, склонив голову па руку. В комнате полутемно — лампу потушили, только на письменном столе горит одна свеча.
— Слушайте! — говорит Лёня. — Вот сейчас будет бабушкина нота: ля бемоль Бабушка мне много раз говорила: «Возьмёшь ноту — ля бемоль, лиловую, сиреневую — и — слушай: это мой голос, это я с тобой разговариваю».
Лёня касается клавиша. И в полумраке комнаты поёт один звук — нежный и чистый, радостный и грустный. Ля бемоль… Мы слушаем, как он звенит, постепенно затухая…
Лёня играет ля-бемольный «Импромптю» Шуберта. Я забываю, что за окном февральский снег, скользят санки, запряжённые лошадьми, у которых из ноздрей валит пар. Мне чудится весенний сад, кусты сирени, лиловые гроздья её, как хлопья, как весёлые цветные облачка, упавшие с неба. И сквозь всё — «бабушкина нота», любимая нота милой печальной женщины, у которой не было счастья.
Я так заслушалась, что и не заметила, как чуть-чуть приотворилась дверь кабинета и кто-то бесшумно скользнул в дверную щель. Это Тамара. Она тихонько садится рядом со мной на диване, обнимает меня за шею. Мы сидим. Молчим.
Я соскальзываю с дивана на пол, освобождая этим место между Тамарой и Иваном Константиновичем, и подталкиваю Тамару к нему. Через минуту они сидят обнявшись: рука Тамары, белея в полумраке комнаты, гладит лицо и голову Ивана Константиновича…
— Знаешь, что я тебе скажу, Шашура? — говорит мне полчаса спустя Лёня, провожая меня домой.
— Нет, не знаю. Скажешь — тогда узнаю.
— И скажу, подумаешь… Вот что я тебе скажу: ну до чего досадно, что ты — девчонка!
— А чем это плохо, что я — девчонка?
— Ничего не понимает! — сердится Лёня. — То есть просто, скажу я вам, орехи такой головой колоть!.. Тем это плохо, что ты — не парень! Я бы с тобой во как дружил!
— А почему ты не можешь дружить со мной теперь?
— С девчонкой?.. — протягивает Лёня как бы с некоторым недоумением. — Никогда я с девчонками не дружил…
Я вдруг обижаюсь. Подумаешь, нужно мне с ним дружить! Мало у меня замечательных подруг!
— А я тоже с мальчишками никогда не дружила, — говорю я равнодушно. — И не собираюсь дружить.
Так в тот вечер мы не скрепили нашей дружбы — Лёня и я…
Зато с того самого дня все мы, девочки, новыми глазами увидели Катеньку Кандаурову. До тех пор мы были с ней как старшие с младшей. Было это прежде всего оттого, что так относилась к Кате Маня Фейгель. А к тому же все мы были по разным причинам старше Кати, хотя и одного с ней возраста. Живя с отцом, как она сама говорила, «скучной жизнью», то есть одиноко, без друзей, Катя немного отстала в своём развитии и была моложе своих лет. Все мы, остальные, были старше своих лет. Лида Карцева — оттого, что болезнь матери сделала её, девочку, хозяйкой дома, а в поездках за границу — даже «главой семьи». Маня — оттого, что тяжёлая, скудная жизнь рано сделала её товарищем отца, матери и брата. Я — оттого, что росла среди взрослых, а они (в особенности папа) говорили со мной откровенно, как с равной. Попав в семью Фейгелей и в среду девочек-подруг, Катя тоже стала быстро развиваться и взрослеть. Всё это ясно обнаружилось в её поведении на журфиксе у Тамары.
Глава пятнадцатая. ГОРЕ
Я возвращаюсь домой из института весёлая. Скинув с себя ранец и держа его одной рукой за лямку, я влетаю в нашу комнату, где живём мы — Поль и я…
И что-то мне сразу не нравится у нас! Как будто всё как следует — попугайчик Кики тихонько чирикает в своей клетке, Поль что-то читает… Но она сидит на своей кровати! Этого никогда не бывает! Поль всегда очень твёрдо настаивает на том, что кровать у человека должна служить только для сна или болезни: спать на ней днём, валяться на кровати днём с книгой, мять постель — всё это Поль называет одним из немногих известных ей и исковерканных ею русских слов: «базалАбер», то есть безалаберщина.
А сегодня вдруг Поль — днём! — сидит на своей кровати.
И в комнате пахнет таким знакомым мне противным запахом её любимого лекарства — эвкалиптовых лепёшечек.
Я подхожу к ней близко:
— Поль… Что с тобой, Поль?
Она поднимает на меня глаза — милые мне компотночерносливовые глаза! — и ничего не говорит. Но в этих глазах такая боль, что я бросаюсь обнимать её:
— Поль, что случилось?
— Умерли… — говорит Поль с усилием. — Поль… и Жаклина… А Луизетта осталась… совсем одна… Оказывается, умер брат её, Поль Пикар.
— Он очень дружно жил со своей женой Жаклиной, — говорит Поль, — они очень любили друг друга…
Поль останавливается, ей тяжело говорить, потому что она не позволяет себе заплакать. И я тоже не плачу перед горем Поля. Помолчав, она продолжает:
— И вот… Поль умер утром, а Жаклина — вечером того же дня. Их похоронили в одной могиле… А девочка их — такая, как ты, ей одиннадцать или двенадцать лет — осталась совсем одна… Моя племянница, Луизетта.
Горе Поля, горе, которое она переносит так мужественно, — ни одной слезы! — придавило и нас с мамой. Мы сидим около неё, гладим её руки; мы понимаем, что не смеем плакать. Что можно сказать Полю, чем можно облегчить её горе? Ничем.
— Полина! — говорит мама. — Милая, дорогая Полина… Если вы хотите, чтобы ваша Луизетта приехала сюда, вы хорошо знаете: наш дом — ваш дом. Мы будем растить её, как своих детей…
— Я ещё ничего не могу сообразить… — жалобно говорит Поль. — У меня голова кружится от мыслей… Что-то надо придумать… что-то надо сделать… И не ждать — сейчас подумать, сегодня, завтра сделать… А мне ничего не приходит в голову. Вот… — говорит она вдруг с надеждой, — вот придёт мсье ле доктер, он придумает!
Так мы сидим все трое. Сидим и ждём, когда придёт папа. Юзефа, которая на кухне истекает слезами от сочувствия к горю Поля, иногда появляется в дверях и со всей доступной её лаской говорит Полю:
— Може, биштецик скушаете?
Мы сидим, тесно обнявшись с Полем, и мне вдруг приходят в голову простейшие мысли, которых прежде никогда не было… Откуда берутся все немки, француженки, англичанки — бонны, гувернантки, учительницы языков? Ведь их множество; во всякой мало-мальски культурной семье в России они есть, их — целая армия. И в других странах тоже… Почему они покидают свою родину, уезжают на чужбину — иногда на всю жизнь? И мне становится понятно: у себя на родине они не могут работать, не могут заработать на жизнь. Почему они не выходят замуж за своих соотечественников? Я как-то спросила:
«Поль, почему ты не вышла замуж?»
И она ответила мне очень спокойно, без всякой горечи или досады:
«Потому что у меня не было денег, не было приданого… У нас во Франции на таких девушках никто не женится».
У всех этих тысяч немок, француженок, англичанок есть только одно: их язык. В других странах это иностранный язык, и их нанимают за деньги, чтоб они учили этому языку детей и взрослых. Они живут в этих чужих странах, в чужих семьях, растят чужих детей, и каждая откладывает из своего месячного заработка сколько может — «на старость» Откладывает и Поль. Мы иногда вместе с ней заходим в сберегательную кассу, и Поль никогда не берёт оттуда ни одной копейки, а только вкладывает те рубли, которые ей удалось скопить за месяц. Как-то Поль при этом сказала мне с удовлетворением:
«Вот ещё несколько лет — и я уже могу доживать старость у себя на родине».
«А я?» — спросила я с огорчением.
«Дурочка! Ты выйдешь замуж и забудешь своего старого Поля…»
«Я не выйду замуж! — сказала я очень решительно. — У меня тоже нет приданого, а ты же сама говорила: без приданого нельзя…»
«Нет, у вас в России эта дверь не так плотно захлопнута… Выходят замуж иногда и бесприданницы. Я видела такие примеры!»
И вот теперь смерть брата опрокидывает все жизненные планы Поля! Она должна либо ехать во Францию к Луизегте, или выписать Луизетту сюда. Кто-то из приходивших к нам в этот день говорит, что во многих семьях охотно возьмут девочку француженку: играя с нею, дети с лёгкостью научатся по-французски. Кстати — недалеко ходить! — Серафима Павловна Шабанова просто мечтает о такой девочке-гувернантке…
— Я ничего не соображаю… Не работает моя голова… — повторяет от времени до времени Поль. — Я сделаю так, как скажет мсье ле доктер.
Наконец «мсье ле доктер», то есть папа, возвращается домой. Он зовёт всех — и я иду со всеми — в кабинет на семейное совещание. Как поступить? Выписать Луизетту сюда, отдать её в услужение каким-нибудь людям, которые хотят, чтобы их дети научились говорить по-французски, или же Полю возвращаться во Францию?
Вопреки всему, что говорят о папиной непрактичности, он рассуждает очень здраво и толково. «Когда дело идёт о других, Яков очень практичный! — говорит иногда мама. — Даже удивительно!»
Есть ли у Луизетты, остались ли у неё после родителей какие-нибудь средства? Да, те знакомые, которые написали Полю о смерти её брата и его жены, пишут, что у брата остались кое-какие сбережения — не бог весть что, но на то, чтобы девочке учиться и подрасти, кое-что осталось. У самой Поль есть сбережения, которые позволят ей прожить — о, очень скромно, очень! — лет десять.
Есть ли у Луизетты во Франции какие-нибудь родные люди?
Нет. Никого.
— В таком случае, — говорит папа, — совершенно отпадает необходимость отдавать девочку в услужение каким-нибудь Шабановым! Кем она будет в такой семье? Французской куклой для избалованных, капризных и недобрых детей!
— Но зачем непременно отдавать ребёнка в услужение? — горячо возражает мама. — Она может просто жить у нас, будет расти вместе с Сашенькой, и всё!
— Очень хорошо! Допустим! — спорит папа. — Конечно, у нас ей будет хорошо, она будет, как своя, родная девочка. Ну, а как быть со школой? Ребёнок должен учиться, а она вырастет без образования, неучем вырастет!.. Сколько вам было лет, когда вы приехали в Россию? — спрашивает папа у Поля.
— Двадцать шесть.
— Значит, вы до двадцати шести лет жили на родине, среди на родине, среди людей, которые говорили только по-французски, да ещё вы учились во французской школе. Поэтому вы были и остались француженкой. А тут приедет ребёнок одиннадцати-двенадцати лет, он будет жить в чужой стране, среди людей, говорящих на чужом языке. Можете мне поверить: она забудет родной язык. Может быть, не вовсе, не начисто, но в значительной степени. Будет говорить на какой-то смеси французского и русского… Что же вы дадите ей взамен родины и родного языка?
Поль слушает папу очень внимательно. Видно, что в уме её идёт сложная работа и что папины доводы кажутся ей убедительными.
— Значит?.. — говорит она вопросительно.
— Значит, надо вам ехать во Францию, — отвечает папа. — Дорогой мой Поль (папа впервые называет её так), дорогой мой Поль, нам очень горько расставаться с вами… Я никогда не забуду, как вы водили меня ночью первого мая по тёмным окраинам, как помогали мне перевязывать людей, которых избили и ранили казаки…
— Нет, мсье ле доктор, это я буду вечно помнить и благодарить судьбу за то, что она позволила мне быть полезной людям в ту страшную ночь! И как я с вами вернулась утром домой, а мой маленький Саш… не спит… и плачет… а Кики клюёт её в щёку… И мадам уложила меня в постель… и раздела меня, как ребёнка… а Жозефин принесла мне кофе в постель…
Тут из-за запертой двери папиного кабинета, где мы сидим, раздаётся не просто рыдание, а горестный вопль. Это Юзефа, стоя под дверью и подслушивая, услышала, как Поль произнесла имя «Жозефин», — а она знает, что Поль так зовёт её, Юзефу. Растроганная, она ахнула вслух и заплакала… Вслед за тем деловитое сморкание и удаляющееся шлёпанье Юзефиных ног.
Этот маленький инцидент немножко разряжает атмосферу, и в кабинете все слабо улыбаются, даже Поль. Но папа снова серьёзно продолжает разговор:
— Ещё одну вещь я хочу сказать вам, дорогой Поль… Деньги, какие скоплены у вас на старость, и те деньги, которые ваш брат оставил своей девочке, — тратьте их главным образом на её образование! Дайте ей возможность самостоятельно работать, дайте ей хотя бы ремесло: тогда и она не будет бояться жизни, и ваша старость будет обеспечена — при ней. Помните: не баловство, не туфельки, не бантики, не какие-нибудь там пумпульчики или помпончики — а ученье!
— А лет через семь-восемь, — добавляет мама, — когда Луизетта уже будет самостоятельно работать, приезжайте, Поль, к нам. Наш Сенечка как раз подрастёт к этому времени…
Две недели, которые проходят между этим разговором и отъездом Поля, — очень короткое время — я помню как сквозь сон… Я хожу каждый день в институт. Сижу на уроках. Отвечаю, когда спрашивают. Подруги мои очень мне сочувствуют — все они знают и любят Поля, а Лиде Карцевой и Тамаре Поль даёт уроки французского языка. Но я какая-то застывшая, как замороженная рыба! Иногда я говорю себе мысленно: «Ещё семь дней… ещё шесть… ещё пять…» А Поль тоже ходит и всё делает, как автомат, глаза у неё неподвижные, как остановившиеся часы. Она кончает занятия со своими учениками, она выправляет себе заграничный паспорт, она, вспомнив, бежит в «Химическую чистку» за своей блузочкой, она делает какие-то покупки, но всё это как-то механически.
Мама не теряет времени: она обошла родителей всех учеников Поля, бывших и настоящих, сообщает всем об отъезде Поля, вместе с ними обсуждает, кто и что подарит Полю на память (чтоб не было совпадений!). И все готовят Полю подарки.
А уж Юзефа — та заготовляет Полю в дорогу провизию, как если бы Поль ехала не во Францию, а на остров Мадагаскар!
Подарки делают не только Полю, но и Кики. Иван Константинович приносит для Кики особую дорожную клетку — её не надо обшивать кругом (а ведь птицам особенно опасны дорожные, вагонные сквозняки!), воздух и свет проникают в клетку сверху. Юзефа сшила огромный мешок и наполнила его до самого верха канареечным семенем. «Нехай птушек кушаеть и Юзефа вспоминаеть!»
Последнюю ночь не спим ни Поль, ни я. Она сидит около меня на моей кровати и тихонько говорит:
— Саш, мой маленький Саш… Тебе будет в жизни нелегко… И вспыльчива ты безобразно! И несдержанная, и неожиданная… Тебе надо искать хороших людей, настоящих людей, Саш! Вот ударь по столу — стукнет, по кастрюле — загудит, а дотронься хоть легонько до хрустальной рюмки — зазвенит, зазвенит, как ручеёк! Вот таких людей ищи в жизни, Саш, маленький мой! И берегись тех, чья душа отзывается на чужое прикосновение только стуком дерева или гудением чугуна…
Поезд уходит под вечер чудесного весеннего дня. На вокзале — большая группа провожающих: тут и ученики Поля, и родители их. Не только наша семья (кроме папы, который простился с Полем дома утром, уезжая к больному) — мама, я, Юзефа, дедушка, который преподносит Полю большой пакет бабушкиных лакомств. Иван Константинович с Тамарой и Леней — за ними Шарафут с большой коробкой, где лежит подарок Ивана Константиновича. Лида Карцева с отцом. Меля, Варя Забелина, Маня с Катей Кандауровой. И ещё, и ещё люди, взрослые и дети — с подарками, с цветами. Любопытные спрашивают: «Это что? Новобрачных провожают?»
Поль всё время держит меня за руку. Рука её немного дрожит, но тепло, милое дружеское тепло её руки я чувствую. Всё так же, не отпуская меня от себя, Поль обходит всех провожающих, со всеми прощается, обнимает и целует всех женщин. Юзефа стоит в стороне. Поль подходит к ней, обнимает её и говорит на ломаном, но понятном Юзефе языке:
— Жозефин! Карош Жозефин! Здоровья!
Потом Поль прощается за руку со всеми мужчинами. Последние из них — Лёня и Шарафут — выскакивают из вагона, куда они внесли чемодан и «мою семейству»: клетку с Кики и финиковую пальму. Поль целует Леню и крепко, сердечно жмёт руку Шарафуту.
Потом она обращается ко мне:
— С тобой — последней…
Мы обнимаемся. Поль всходит по ступенькам в вагон и останавливается в тамбуре.
Блям! Блям! Блям! — звонит вокзальный колокол. И тот, кто звонит, выкрикивает на весь вокзал:
— Поезд номер семнадцать, на Вержболово — Эйдкунен — второй звонок!
— Стой, стой, стой! — слышен отчаянный крик, и сквозь толпу пробивается к вагону… папа!
У него в руках… Очень трудно определить, что это такое! Вообще говоря, это, конечно, веничек из чего-то, что, вероятно, было несколько дней тому назад цветами. Папа галантно подносит Полю этот «букет».
Поль смотрит на всех нас, провожающих, и говорит растроганно:
— Вы меня так провожаете, как будто я великий человек…
Поль! Ты забыла то, что сама как-то сказала мне: «Великий человек — это тот, кто делает великие дела. Но тот маленький человек, который трудится весело, на радость людям, — он тоже великий человек!»
Перед третьим звонком Шарафут, который стоит рядом со мной у ступенек вагона, поднимает меня под мышки высоко — так, чтоб я могла дотянуться до Поля. Мы в последний раз целуемся, прижимаясь друг к другу мокрыми щеками, залитыми слезами. И поезд уходит. Проплывают мимо вагоны с выпяченными, как нижняя челюсть, высокими ступеньками.
Поезд ушёл. Уже и дымка не видно, самого маленького, а мы всё стоим и смотрим вслед…
Когда мы возвращаемся домой, мама спрашивает:
— Яков! Где ты достал это помело для Поля?
— Это не помело! — говорит папа с великолепной самоуверенностью. — Это на улице баба продавала. Она сказала, что это — очень хорошие цветы. Сирень…
— Да уж, сирень… — качает головой мама.
— Конечно, сирень! Она сказала, что это «бзы», а «бзы» по-польски значит «сирень»; это я наверное знаю.
— Ох, Яков, Яков! — вздыхает дедушка. — Это была сирень. Неделю тому назад. Вот верно говорит пословица: «Когда бестолковый человек идёт за покупками, весь базар радуется!»
— А ну вас! — говорит папа беззлобно. — Я поеду в госпиталь. Там все мне радуются. Без всякого «бзы»!
Я прохожу в нашу комнату. Сажусь на кровать Поля. Вспоминаю вдруг, что в сутолоке, в тоске расставания с Полем я забыла проститься с одноглазым попугайчиком Кики…
Дверь тихонько отворяется. Это Лёня пришёл. Он садится рядом со мной на кровать. Я прислоняюсь головой к его плечу. Лёня меня не утешает, не говорит глупых слов: «Ну, перестань, не надо плакать…» (Как это «не надо», когда плачется?) Он только иногда ласково гладит меня по голове.
Не знаю, сколько времени мы так сидим. В комнате уже почти темно. У меня ясно возникает мысль: «Как хорошо иметь брата…»
— Шашура… — тихо говорит Лёня. — Давай дружить, а?
— Давай! Давай дружить, Лёня!
— Чтоб — как братья! Да?
— Да. И — как сёстры.
Сейчас я допишу эту главу, переверну страницу, — и там о Поле больше не будет ничего. Надо сказать сейчас. Она приехала в свой родной город. Племянница её оказалась очень славной девочкой. Поль, чистая душа, полюбила её без памяти. Но Поль помнила папин совет: девочка окончила женский лицей и одновременно обучилась кройке и шитью. В будущем у неё был верный кусок хлеба, а при ней и Поль могла не бояться старости.
Мы переписывались с Полем долго — лет восемь. Она писала, что скучает без нас, что большой кусок её сердца остался в России. Когда я написала ей, что выхожу замуж, она ответила мне хорошим, радостным письмом. Но это было последнее письмо, написанное её рукой… Вскоре получилось печатное извещение с чёрной траурной каёмкой — о том, что такого-то числа мадемуазель Полина Пикар скончалась. Племянница Поля, Луизетта, написала нам: "Тётя Полина всегда говорила мне: «Луизетта, я прожила около тридцати лет в России. Только цыгане и гувернантки знают такую кочевую жизнь — из города в город, из одного дома в другой, из одной чужой семьи в другую. Но среди этих семей были такие, где я чувствовала себя как дома, как у родных людей…»
Мне хочется верить, что Поль думала при этом и о нас…
Умерла Поль от тяжёлого воспаления лёгких. Она долго и упорно противилась приглашению к ней врача: всё лечилась своими чудодейственными эвкалиптовыми лепёшечками. Когда Луизетта всё-таки позвала врача, сердце Поля уже почти не работало. Это было очень старое, очень изношенное, но до последних ударов пульса горячее и доброе сердце…
Я всю жизнь помнила тебя, Поль!
Глава шестнадцатая. НЕЗАБУДКИ
После отъезда Поля все стараются чем только можно порадовать меня, повеселить. Так случается, что я попадаю в театр на спектакль, которого мне уже никогда не суждено забыть!
Бывает, много лет ты проходишь мимо чего-то, что тебе даже нравится, но не так, чтоб приводить в восторг! Мимо того, что кажется тебе интересным, но не до такой степени, чтобы захлёбываться и хотеть видеть это ещё и ещё. И вдруг в какой-то день ты видишь то же самое — и останавливаешься, словно в тебя ударила молния! И уже не можешь забыть, и уже стараешься, мечтаешь снова и снова увидеть это!
Так было у меня с театром. В первой части этой книги я уже рассказывала о том, как мы с мамой смотрели «Бедность не порок» (а я думала, что это называется «Бедный Снепорок»!), как блистательно я сама играла Рыцаря Печального Образа («Пецарь Рычального Образа»!). После того меня ещё несколько раз брали в театр, но мне каждый раз более всего нравились благородные поступки отдельных героев. В спектакле «В лесах Индии», где были бесконечные погони и схватки с разбойниками, выстрелы, взрыв крепости и огромный, шедший через всю сцену слон из картона, мне понравилась одна артистка: она не произносила ни слова, только каждый раз, когда злодей, грозя ей кинжалом, требовал, чтобы она открыла место, где спрятались от него благородные герои, эта артистка отрицательно мотала головой. «Не скажешь?» — в последний раз заорал на неё злодей. Она опять сделала головой знак: «Нет!» — и злодей заколол её кинжалом. В афишке последней строкой в перечне действующих лиц было напечатано: «Малабарка — госпожа Стенина». Когда дома папа спросил меня: «Ну, кто тебе понравился больше всех?» — я, не задумываясь, сказала: «Малабарка — госпожа Стенина! Она умерла, но не выдала друзей». Я тогда не знала, что есть Малабарский полуостров, я думала, что «Малабарка» — это имя. И актрису на бессловесные роли, госпожу Стенину, я помню и сегодня, спустя шестьдесят пять лет: ведь она играла героическую и благородную Малабарку!
Но всё-таки такого, чтобы я после театра ошалела от восторга, бредила тем, что видела, — такого со мной никогда не бывало! Одно было: я очень любила играть в театр. Пьесу я сочиняла сама, тут же, по вдохновению, во время действия. Играла я почти всегда одна: партнёрами, моими были куклы, диванная подушка, злодеем всегда был буфет. «Ты ещё здесь, негодяй? — вопила я на него. — Сию минуту убирайся, или я размозжу тебе голову!»
Вот уже несколько дней, как все — и мама, и Юзефа — стараются не оставлять меня наедине с папой, а папа подмигивает мне и делает до невозможности загадочное лицо. Это значит, что мне готовят какой-то сюрприз. Так всегда бывает перед ёлкой и в особенности перед днём моего рождения: вся семья, и дедушка, и бабушка, и дядя Николай, и дядя Мирон приходят с какими-то свёртками и пакетами, которые складываются в мамином гардеробе и запираются на ключ. Папу ко мне не подпускают, его оттирают от меня, чтобы он не выболтал, какие мне готовят подарки. Иногда, улучив минуту, папа, быстро-быстро шепчет мне:
«Мирон принёс что-то такое длинное, а Николай — круглое!»
«А что это такое?» — любопытствую я.
«Понятия не имею! — признаётся папа. — Я только видел, что одно — длинное, а другое — круглое…»
«Гоните Якова! — сердится Мирон. — Он ей всё выбалтывает!»
Так и теперь. Папа без конца подмигивает мне; мама отгоняет его. Папа издали делает мне какие-то непонятные жесты — разводит руками, принимает горделивые позы, грозит кулаком; вообще можно подумать, что он сошёл с ума. Понимаю я из всего этого только одно: меня ждёт сюрприз, какое-то большое удовольствие.
Так оно и оказывается: Иван Константинович пригласил маму и меня в их ложу — мы пойдём с ними в театр. Мама и Иван Константинович будут сидеть на двух задних стульях ложи, а Тамара, Лёня и я — все трое — на сдвинутых двух передних стульях. Будут представлять пьесу «Ёлка». Мама немного ворчит, что она не знает этой пьесы… что, может быть, это не очень подходящее для детей… что лучше бы другое… Ну, вообще, как ворчат все мамы как раз тогда, когда предстоит что-нибудь интересное!
Даже сейчас, когда я вспоминаю эту «Ёлку», у меня по спине бегут счастливые иголочки, как пузырьки от нарзана. Вся эта пьеса длилась… ну, не больше двадцати — двадцати пяти минут! После неё шла другая пьеса. Но эту «Ёлку» я храню, как самое дорогое воспоминание…
Сперва какой-то немолодой муж и очень молоденькая, востроносенькая жена, недавно поженившиеся, украшали в сочельник ёлку. Она миленько болтала-чирикала, он миленько улыбался ей, всё было безоблачно. Вдруг горничная сказала этому немолодому человеку, что к нему пришли по делу. Жена сделала миленькую-миленькую гримаску: «Ну, какие, дескать, несносные люди! Постарайся, мол, поскорее спровадить этого человека!» — и грациозно выпорхнула, вон из комнаты. Горничная ввела в комнату пришедшего по делу «несносного человека», и он оказался девочкой лет четырнадцати, в меховой шапочке, в короткой жакетке, из-под которой было видно коричневое форменное платье гимназистки. Девочка — её зовут Олей — дочь того немолодого человека. Он, оказывается, был раньше женат, у него были дети, но он оставил жену и детей и женился на другой женщине (на той миленькой, востроносенькой!). Совесть, однако, мучила его, прежнюю свою семью он всё-таки любил, не забывал; сегодня, в сочельник, он послал им денег на рождественскую ёлку. Но девочка Оля не захотела принять деньги от отца, который их так оскорбил, бросил их, ушёл от них. И она принесла деньги отцу обратно: «Нам ничего не надо… у нас всё есть…»
Вот тут я впервые в жизни не то что поняла, а всем существом своим почувствовала: в театре всегда есть не только то, что зритель воспринимает глазами и слухом, то есть слова, которые произносят актёры, — поступки, которые совершает тот или другой герой пьесы. Нет, есть ещё всегда то, что не говорится и не делается, то есть то, что герой (и изображающий его актёр) думает, чувствует, то, чего он хочет или чего он, наоборот, хотел бы избежать. Это выражается не словами и не поступками, а звуком голоса, движением глаз, непроизвольными движениями. Эту внутреннюю жизнь героя зритель воспринимает сердцем. Часто этим скрытым чувством героя его слова и действия даже противоречат. Так, девочка Оля в пьесе «Ёлка» говорила отцу, сурово, отчуждённо, чтоб он взял обратно свой подарок, что им — ей, матери, младшим детям — не нужны эти деньги: у них всё есть, и она, Оля, зарабатывает, давая уроки. Оля протягивала отцу деньги, которые он им прислал: не надо, мол, отказываемся мы от этого, не хотим от тебя ничего! Но её голос, её руки, протянутые к отцу, говорили о другом. Они горько, без слов упрекали: «Папа, за что ты бросил нас? Папа, мы любим тебя, мы несчастны без тебя…» Отец бросился к девочке, обнял её, плача прижал её к себе. Оля быстрыми-быстрыми движениями, как лёгким касанием птичьих крыльев, дотрагивалась пальцами до лица своего отца, до его головы, лба, плеч; слёзы, настоящие, не актёрские, а живые слёзы неудержимо катились из её глаз, дрожала вспухшая от слёз, искривлённая горем верхняя губа. В этой короткой сценке отец и дочь не говорили друг другу почти ничего важного, значительного, но их слёзы, их взгляды, выражение их лиц, нежность их речей говорили зрителю: да, они любят друг друга и всегда будут любить, он любит и свою прежнюю семью тоже — жену и детей, — и связь его с ними нерасторжима, хотя и ушёл он от них, полюбив другую.
Когда пьеска кончается, зрительный зал без конца вызывает девочку Олю; она всё снова выходит и выходит кланяться.
Тут я словно от сна просыпаюсь.
— Как она играет… девочка эта!.. — вырывается у меня с восхищением.
— А она вовсе не девочка! — говорит Лёня. — Она — актриса… Вот, гляди!
И он протягивает мне афишку, где напечатано, что роль Оли исполняет артистка госпожа В. Ф. Комиссаржевская.
После «Ёлки» играют какую-то весёлую комедию. Ленька так хохочет, что на нашу ложу с удовольствием смотрят все соседи. Мы тоже смеёмся, и я смеюсь — очень смешное играют! — но я на всю жизнь захвачена тем, что я видела в «Ёлке»…
Такова была моя первая настоящая встреча с замечательной актрисой — любимейшей в моей жизни! — Верой Фёдоровной Комиссаржевской. Но вместе с нею в мою жизнь навсегда вошёл и театр, вошёл — как судьба моя. Это поначалу было бесформенно и неопределённо. Кем я буду в театре, я долго не знала. Актрисой? Писателем, автором пьесы? Режиссёром? Конечно, мне хотелось этого, но, если бы мне пришлось быть в театре хотя бы капельдинером или швейцаром, портнихой или истопником, всё равно это казалось мне счастьем!
После «Ёлки» я сперва мечтаю быть актрисой. Я становлюсь перед зеркалом, протягиваю руки, как Оля в «Ёлке», и проникновенным (так мне кажется!) голосом, «полным тихого страдания», говорю:
— Папа… папа…
Но моё собственное лицо, ох, как не похоже на лицо Комиссаржевской! Вместо страдания на нём — кривая гримаса, ужасно неприятная. В довершение всего в комнату приходит мой собственный папа, заспанный — оказывается, разбуженный мною! — и сердито говорит:
— Ну, что ты хрипишь на весь дом, как удавленник: «Папа, папа»… Что тебе от меня нужно? Я только засыпать стал, а ты вопишь…
Это мой возглас, «полный тихой боли», прозвучал, оказывается, на весь дом, как вопль или хрипение удавленника!
Конечно, после этого вечера — «Ёлки» — мы играем домашние спектакли. Каждое воскресенье у кого-либо из нас. Вот играем мы пьесу «Две королевы» нашего общего сочинения. Есть там такая сцена: в спальню кроткой и несчастной французской королевы (её играет Катенька Кандаурова) прокрадывается ночью негодяйка английская королева (её играю я). Я пробралась сюда, чтобы злодейски убить кроткую и несчастную французскую королеву. В руке моей дрожит и сверкает фруктовый нож… Я подхожу к «королевскому ложу», составленному из трёх стульев, — на них спит королева, Катя, — и рычу бульдожьим голосом трагический, яростный монолог, списанный мною без всякого зазрения совести из «Макбета» Шекспира, где его произносит леди Макбет:
Пока я говорю эти великолепные слова, в «зрительном зале», где сидят все мои подруги, Лёня, Иван Константинович, мама, Шарафут и Наталья, всё время слышатся какие-то подозрительные звуки. У меня мелькает мысль: «Они плачут!.. Я их проняла своим монологом!» — и, ободрённая успехом, я ещё больше поддало «рыка». Но тут я замечаю, что и сама французская королева — Катя — делает какие-то странные движения… Матушки мои! Это она старается удержаться от смеха! От таких её стараний и судорожных движений стулья, составляющие королевское ложе, разъезжаются во все стороны, и Катя с грохотом падает на пол. Зрительный зал чуть не рыдает от смеха, хохочет и сама Катя, лёжа на полу. Только я одна беспомощно верчу в руках фруктовый нож и не знаю, смеяться мне или плакать. В конце концов побеждает смех, — я сажусь на пол около Кати и хохочу во всё горло…
— Ну, с чего… с чего… — еле могу я выговорить сквозь смех, — с чего ты так развеселилась?
— Сашенька, милая… — хохочет Катя. — Не обижайся, золотко… Но ты так страшно гримасничала… — И Катя заливается с новой силой.
— Шашура… — подбегает к нам Лёня. — Какая у тебя была смешная рожа! Ну просто жаба мух ловит!..
Каково это слышать трагической актрисе, а?
Зато через две педели мы играем «Юбилей» Чехова. Я играю Мерчуткину. Неумолкаемый смех зрителей вознаграждает меня за прежние неудачи.
Домашние спектакли скоро сменяются новым увлечением: мы издаём журнал. «Издаём» — это, конечно, звучит слишком пышно. Мы ещё не «издаём», мы только хотим издавать. Мы объявили всем в классе, чтобы кто может писал стихи, рассказы, повести — кто что хочет, кто что любит.
Главным редактором мы единогласно выбираем Лиду Карцеву. Она хотя ещё сама ничего не написала ни хорошего, ни даже плохого, но у неё две тётки писательницы! Одна из них даже награждена Пушкинской премией Академии наук, — шуточки! Лида знает всякие загадочные слова (почти как тётя Женя!): это «безвкусно», а то «со вкусом», это «поэтично», а то — ещё как-то иначе. В общем, Лида — самый подходящий редактор. В помощь Лиде — Маня, Варя и я.
— Если у нас наберётся пять-шесть порядочных вещиц, вот и первый номер журнала! — с увлечением говорит нам Лида.
— А как мы его назовём? — спрашивает Маня.
— Я предлагаю заглавие: «Пламенные сердца»! — говорит Варя. При её басовитом, «шмелином» голосе это звучит очень торжественно.
— Ох!.. — морщится Лида. — Невкусно!
— А ты его есть собираешься, что ли? — сердится Варя. — Ну хорошо, давай иначе: «Незабудки».
Лида безнадёжно машет рукой.
— Ладно, — вмешиваюсь я, — заглавие давайте придумаем потом, когда будет уже что-нибудь написано. А то придумываем имя, а ребёнок-то ещё не родился!
Всё-таки Варя изготовляет сначала прелестную обложку для журнала: по всей обложке сыплются незабудки, а на изящном, косо нарисованном, прямоугольнике — заглавие журнала:
НЕЗАБУДУДКИ.
— О-очень хорошо! — насмешливо восхищается Лида. — «Незабудудки»! Замечательное изобретение Варварвары Забебелиной!..
Варя смущена, но находит выход из затруднения: две лишние буквы в середине слова «Незабудки» она превращает в маленькие незабудочки. Конечно, непонятно, почему заглавие в середине своей поперхнулось незабудочками, но ничего, сойдёт!
Гораздо хуже то, что нам принесли, для журнала! Стихи, в которых «ни складу, ни ладу». Например:
Редактор Лида беспомощно разводит руками:
— Ну можно ли поместить в журнале такую белиберду?
— Нельзя! — отвечаем хором Варя, Маня и я.
Одной из первых неожиданно приносит рассказ «Неравная пара» Тамара.
Мы читаем… Бедный, но гениальный музыкант даёт уроки сиятельной княжне. У неё — глаза! У неё — ресницы! У неё — носик и ротик! У неё — шейка! У неё — золотые кудри, нежные, как шёлк. У неё прелестные ручки и крохотные ножки! Описание красоты молодой княжны занимает почти целую страницу. У бедняка музыканта нет ни ручек, ни ножек, ни шейки, ни ротика. У него только глаза — «глубокие, как ночь», смелые и решительные. Он необыкновенно умный, образованный и талантливый. Молодые люди влюбляются друг в друга. Однажды юная княжна играет на арфе; музыкант слушает сперва спокойно, но потом, придя в экстаз, склоняется к ногам юной княжны и целует её туфельку. Молодые люди мечтают пожениться. Об этом узнают старый князь и старая княгиня и решают отдать свою дочь в монастырь: пусть живёт до самой смерти монахиней, но только не женой бедного музыканта! Подслушав это родительское решение, молодая княжна бежит к озеру, её белая вуаль развевается по ветру; она бросается в озеро и тонет. Бедняга музыкант бросается за ней — и тоже тонет. Конец.
Тамара приносит это произведение мне.
— Почитай… — говорит она. — Не знаю, хорошо ли вышло… Но имей в виду: дедушка, Иван Константинович, читал — и плакал! Слезами плакал!
Бедный Иван Константинович! Он вспомнил свою молодость и свою горькую любовь…
Помолчав, Тамара добавляет:
— Если вы все найдёте, что конец слишком печальный, так я могу написать другой: бедный музыкант спас княжну, когда она уже совсем, совсем утопала — ну, прямо, можно сказать, уже пузыри по воде шли. Музыкант выловил её из озера. После этого сердца её родителей смягчились, и они разрешили молодым людям пожениться. Они поженились — и жили очень, очень счастливо… Конец.
Этот рассказ — «Неравная пара» — обходит весь класс, и все плачут над ним! Мы, редакторы, в отчаянии: все плачут — значит, это хорошо? А мы все четверо, собравшись на первое редакционное собрание у меня, хохочем — тоже до слёз. По крайней мере, у Мани, по обыкновению, рот смеётся, а глаза плачут крупными слезами.
Мы — в полной растерянности.
— Что делать? — говорит наконец Лида. — Это же совершенный ужас! Безвкусица!
— Но все плачут!.. — замечает Варя.
— Ещё грустнее: значит, ни у кого нет вкуса!.. Ну, что у нас там ещё есть?
Маня выкладывает на стол листок бумаги.
— Вот Меля Норейко принесла. «Страдалица Андалузия». Роман.
Маня читает вслух роман, написанный Мелей на одной страничке, вырванной из тетрадки:
— "Жила-была одна девушка. Ужасная красавица! И звали её Андалузия. А пока маленькая, — то Андзя. И к ней посватался принц, — тоже красавец. Его звали Грандотель.
Они поженились. Но он оказался очень противный. Во-первых, пьяница. Во-вторых, злой-презлой. Дрался каждый день, а как, бывало, напьётся, так хоть беги вон из дома! И, в-третьих, ужасно расточительный. Другой что заработает, то в дом несёт, а этот принц Грандотель все из дома таскал.
И бедная Андалузия была несчастная страдалица.
В один прекрасный день принц Грандотель забрал из кассы всю выручку (они в Ковно торговали папиросами) и пошёл в кабак и ужасно там напился. Пьяный, полез в драку; его забрали в полицию и посадили в тюрьму.
После этого несчастная страдалица Андалузия уже больше никогда, никогда не выходила замуж…" Все, — говорит Маня, дочитав «Страдалицу Андалузию».
Тут из соседней комнаты раздаётся голос папы. Он, оказывается, лежал на диване и слушал всё, что мы читали.
— Девочки! — говорит папа. — Я тут нечаянно услышал эти два произведения. По-моему, это бред. И знаете, что самое плохое? Это печальный бред! Был когда-то, очень давно, Гиппократ — великий древний философ, «отец медицины». Так этот Гиппократ писал: «Бывает у больного бред весёлый. Это — неплохой признак: такой больной ещё может выздороветь. А бывает бред печальный, мрачный — это плохо: такой больной почти наверное умрёт». Эти рассказы, что вы здесь читали, — мрачный бред…
— …и, значит, журналу нашему предстоит помереть! — заключает Лида Карцева.
Никто из нас не возражает.
Глава семнадцатая. ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
Почему-то весна всегда подкрадывается совершенно незаметно. Кажется, ещё так недавно была зима, деревья стояли в инее, лошади — тощие извозчичьи клячи и барские рысаки в сетчатых попонах, как мячики в сетках, — бежали в облаках морозной пыли, уличные торговки сидели, подставив под свои юбки самодельные печурки в виде таганков с горячими угольями, А сейчас даже трудно представить себе, что всё это в самом деле было, да ещё так недавно! Всё зеленеет, тепло, мы ходим без пальто, в одних платьях. На углах улиц продают букеты цветов; уже отошли подснежники и фиалки, скоро зацветут черёмуха, сирень, а там и злополучные «незабудудки» Вари Забелиной.
Впереди — пасхальные весенние каникулы, после которых начнётся переходные экзамены.
И вот, придя из института, где нас «распустили» на пасху, я ещё в передней слышу весёлые голоса, смех, обрывки музыкальных фраз, проигрываемые на рояле или пропетые красивым женским голосом.
— Валентина! — кричу я в счастливом упоении. — Валентина приехала!
И мчусь сломя голову на голоса, смех и музыку.
Сидящая за роялем высокая, очень красивая молодая женщина бросается обнимать, целовать меня, восторженно трясёт меня за плечи и тоже радостно кричит:
— Сашка! Урод! Чудовище растрёпанное! Пугало огородное! Ох, как я хотела тебя видеть!
Это Валентина Свиридова, пианистка и певица, дочь инженера Свиридова, нашего соседа по квартире (они живут с нами на одной лестничной площадке). Валентина — друг мамы и папы. И — мой, она сама всегда так говорит! Она, единственный человек во всём окружающем меня мире, называет меня «Сашкой» (а иногда, когда рассердится на меня, то «Александрой»), она постоянно осыпает меня самыми обидными кличками, но я знаю: Валентина меня любит. А уж как я люблю её!
— Я по тебе соскучилась. Не веришь? Спроси у Аиды, я ей это говорила много раз… Аида! — зовёт Валентина и достаёт из своей сумки фарфоровую обезьянку с головкой, укреплённой на шарнире и могущей кивать. Валентина поёт: — «Скажи, скажи, Аида, скучала ль я без Сашки?»
Фарфоровая обезьянка Аида несколько раз утвердительно кивает.
— Видишь? — торжествует Валентина. — Аида тоже говорит, что я скучала без тебя. А она никогда не врёт! Она знает: если будет врать, я выброшу её вон из дома, на мороз, — пусть лежит на снегу! Пусть её подберёт шарманщик и ходит с нею по дворам! Пусть шарманщик угощает её чёрным пивом в извозчичьих трактирах! Вот!.. А ты скучала без меня, Сашка? Ты меня любишь?
— Очень! — шепчу я от всей души.
— Александра! Ты скучно признаёшься мне в любви! Я презираю кисленьких, благовоспитанных деток: «Мерси, милая тётя, я вас, пожалуйста, очень люблю…» И Аида тоже… Правда, Аида, ты таких презираешь?
Конечно, Аида энергично кивает: презираю, презираю!
— Что такое «очень»? Это глупое взрослое слово! — продолжает Валентина. — Порядочный ребёнок должен говорить не «очень», а «ужасно». Ужасно люблю, ужасно ненавижу — вот как должен говорить уважаемый мной ребёнок!
— Валентина, не порть мне дочку! — смеётся мама.
— Да, Валентиночка, просто страшно подумать, сколько глупостей вы можете выстрелить в одну минуту! — притворно-осуждающе говорит папа.
— Это вам кажется, Яков Ефимович! Честное слово, я всегда говорю удивительно умные вещи, но никто этого не замечает — наверно, оттого, что я — ещё молодая артистка. Когда я прославлюсь на весь мир, потеряю голос, расплывусь поперёк себя, как квашня, — вот тогда вы начнёте превозносить каждый мой чих!.. Сашка, а где же твой Поль?
При этом имени глаза мои наливаются слезами. Мне горько вспоминать свою потерю, в сердце у меня оживает острая боль.
Но Валентина не только ослепительный человек, — это слово «ослепительный» ни к кому так не подходит, как к ней! — она ещё и удивительно мягкая и чуткая. Она сразу понимает, что задела больное место, и спешит загладить это своей чудесной грубоватой лаской.
— Мордальон ты мой! — прижимает она меня к себе. — Да у тебя коса! Какая коса! «Ты, коса моя, коса! Всему городу краса!» — поёт Валентина, кружа меня по комнате.
С этого часа начинается весёлая, шумная суматоха, связанная всегда с приездом на каникулы Валентины и её брата Володи, студента-медика. Но лишь впервые в этом году я ощущаю это так ясно и так счастливо. Может быть, оттого, что недавно перед тем я пережила настоящее горе, разлуку с Полем, я стала как-то восприимчивее и к радости?..
Двери обеих квартир — нашей и свиридовской — уже не запираются целый день, народ беспрерывно переходит оттуда сюда и отсюда туда. В обеих квартирах стол накрыт весь день: одни поели, ушли, другие садятся есть и пить. Решительно не одобряет всего этого Юзефа!
— Чи то не дивачество! (Озорство.) Квартеры открыты, — заберутся воры, всё поуносят, тогда будете знать! И стол цельный день накрытый, и самовары каждую минуту ставь!
Целыми днями у Свиридовых и у нас толпится молодёжь, приехавшая на весенние каникулы, юноши и девушки, студенты и курсистки — «студ-меды», «студ-юры», «уч-консы» (ученики консерватории). Приехали на весенние каникулы и мои дяди, младшие братья моего отца: Тима — из Дерпта и Абраша — из Варшавы (в нашем городе высших учебных заведений нет, да и вообще на всю-то огромную царскую Россию имелось в то время всего восемь университетов!).
Конечно, и Тима с Абрашей большую часть дня проводят у нас и у Свиридовых. Молодёжь веселится, смеётся тут и там, играют на обоих роялях, на гитаре и скрипке, кто спорит, кто поёт, а кто и танцует: танцующие пары проносятся через лестничную площадку от нас к Свиридовым и обратно… А в душе у меня, — и, как мне кажется, у всех — всё время словно закипает вода, ждёшь чего-то нового, неизвестного, но непременно радостного!
В центре всего веселья и оживления — конечно, Валентина Свиридова! Красавица, умница, образованная, весёлая. Сколько книг она прочитала, сколько она знает, сколько ездила по Европе, сколько видела интересного! Окончила консерваторию в Вене по классу рояля, училась петь в Париже и в Италии, теперь кончает Петербургскую консерваторию по классу профессора пения Ирецкой. Валентина видела карнавал и битву цветов на Корсо в Риме, плясала 14 июля на площади Бастилии в Париже. Мало того, она видела в Испании бой быков!
— Выезжает пикадор на то-о-ощей клячонке — и пришпоривает её прямо на быка! Чтоб тот ей рогами брюхо пропорол! Ну, тут я не выдержала: выхватила из-под себя подушечку — такие дают там зрителям, чтобы сидеть было помягче, — и ка-а-ак запущу этой подушечкой прямо на арену, в пикадора! Да ещё кричу ему, по-русски кричу: «Перестань, мерзавец! Не мучай коняку!»
Валентина превосходно владеет несколькими языками, но так же, как в случае во время боя быков, она обязательно выражает самые сокровенные мысли только по-русски. Придя как-то к нам и застав Сенечкину старуху няньку, украинку Лукию, с наслаждением завтракающей, — а ест Лукия с удивительным вдохновением, просто вроде она еду в чемодан укладывает! — Валентина с восторгом выпалила, не сводя глаз с Лукии:
— Цум эрстен маль ин майнем лебен… Ля премьер фуа де ма ви… (Это означает по-немецки и по-французски: «В первый раз в моей жизни».) — И от души добавила по-русски: — Экая, прости господи, прорва обжорливая!
Безобидные для няньки Лукии слова «В первый раз в жизни» Валентина почему-то сказала по-немецки и по-французски, а обидные «прорва обжорливая» так и выложила по-русски!
Всё в Валентине — особенное, ни в чём она не похожа на других людей. Даже вещи у неё какие-то романтические! Воздухом далёких стран веет от чемоданов с пёстрыми наклейками чужеземных отелей: «Ривьера-Палас-Ницца», «Отель Тангей-зер-Гейдсльберг». Диковинные у Валентины дорожные несессеры, туалетные принадлежности. Ни у кого нет таких шляп и платьев, очень строгих, скромных и красивых.
С утра ежедневно Валентина в течение нескольких часов работает за роялем: играет и поёт.
— Я — как Яков Ефимович! — говорит она. — Работаю всегда, даже по воскресеньям и праздникам. Имей в виду, Сашка: если ты чему-нибудь научилась, постоянно работай, упражняйся. А не то засохнешь. Как рыжая ёлка!
Иногда к Валентине приходит с утра её товарищ по консерватории, тенор Алексей Граев. Он и Валентина поют оперные дуэты. В эти часы все домашние и гости могут, если хотят, слушать пение Валентины и Алексея из-за двери. Но в самой комнате, где они занимаются, разрешается присутствовать только двум «главным друзьям» Валентины: фарфоровой обезьянке Аиде и мне. Обезьянка стоит на рояле и порой от сильных аккордов одобрительно кивает головкой. А я… ну, что сказать обо мне? Я страстно переживаю те чувства, о которых поют Валентина и Алексей, я впиваю дыхание театра — и счастлива. Позови меня кто в это время хотя бы на самое заманчивое дело — ну, скажем, в кондитерскою есть мороженое, что ли, — нет, от мороженого я, конечно, не откажусь, но я не сразу оторвусь от музыки, я, вероятно, буду есть мороженое рассеянно, невнимательно, без обычного всепоглощающего чувства удовольствия.
Больше всего я люблю слушать дуэт из последнего действия оперы Верди «Травиата». Героиню зовут Виолеттой, она умирает от чахотки и несчастной любви. К ней вернулся покинувший её возлюбленный, Альфред; он её бросил, но теперь раскаивается, теперь он понял, что любит её. Он вернулся к ней навсегда, и бедная Виолетта умирает, счастливая, в его объятиях.
Я так захвачена трогательным пением Валентины и Алексея, что даже не замечаю, какие неуклюжие, беспомощные слова вложил в уста Виолетты и Альфреда переводчик оперного либретто.
Виолетта упоённо спрашивает:
«Любишь ли ты меня, о А-альфредо?»
На это Альфред с жаром отвечает:
«А то неужто ж нет? А то неужто ж нет? А то неужто ж нет?»
Другой любимый мой дуэт — из «Пиковой дамы» Чайковского, когда Герман и Лиза поют:
Очень странным кажется мне то, что Валентина и Алексей в жизни нисколько не разделяют чувств своих героев. Любят, страдают, сходят с ума, умирают только изображаемые ими герои опер; сами же они этих чувств друг к другу не испытывают. Мало того, в разгар самых трогательных любовных сцен они порой начинают отчаянно ссориться.
— Фальшивишь! — с яростью кричит на Валентину Алексей.
— Как бы не так! — возражает Валентина. — Себя слушай. Алёшка, — у самого медведь на ухо наступил!
Вместе с Валентиной приехала на каникулы будущая драматическая актриса, Леля Мухина. Она учится в Петербургской драматической школе, они с Валентиной дружат. Сейчас Леле предстоит выступить в театре, который играет в нашем городе, — она будет исполнять роль Луизы Миллер в пьесе Шиллера «Коварство и любовь». Такой пробный спектакль называется «дебют». Это будет скоро — сразу после пасхи. Леля ужасно волнуется, да и все мы, окружающие, очень волнуемся за неё и желаем ей успеха.
Для того чтобы Лелю не отвлекали звуки утренних занятий Валентины, мама предлагает ей заниматься у нас: папа в эти часы в госпитале, его кабинет свободен.
Тут тоже никто не входит в комнату, — Леля работает одна. Но мне она разрешает присутствовать. Она даже говорит, что ей приятно «чувствовать зрителя», ей это полезно, чтобы не оробеть на спектакле. Конечно, Леля права: что-что, а зритель я престо самозабвенный — сижу тихо, как мышь, — а уж переживаю! Можно смело сказать, всем существом!
Леля-Луиза опускается на колени перед круглой пузатой печкой в папином кабинете.
— О Фердинанд!.. — говорит она глубоким, взволнованным голосом. — Меч навис над твоей и над моей головой: нас разлучат…
Я уже не вижу смешной круглой печки. Она вытягивается, становится высокой, статной — становится молодым офицером в гвардейском мундире, Фердинандом фон Вальтер!
(Печку эту ещё много лет у нас в семье продолжали звать Фердинандом. «Юзефа! — говорила, бывало, мама. — Что-то холодно, не затопить ли Фердинанда?»)
Иногда Леле Мухиной «подыгрывает» в работе студент Вася Шверубович, товарищ по гимназии Володи Свиридова. Этот Вася Шверубович… Но нет!
О нём надо сказать особо.
В Васю Шверубовича влюблены все гимназистки и институтки старших классов и вообще все барышни нашего города! Когда Вася появляется в местах общего гулянья — от Соборной площади перед православным собором и до Кафедральной площади перед костёлом святого Казимира, — в самый хмурый день кажется, будто взошло солнце. Но Вася — не нахальный провинциальный покоритель сердец. Нет, он даже и не догадывается о том, как он красив и какое впечатление он производит на всех встречных. Вася Шверубович идёт по улице, с простым и скромным достоинством неся свою кудрявую светлую голову, и во всём его существе видно то высокое, покоряющее благородство, какое придаёт человеку талант. Какой талант несёт в себе Вася Шверубович? Сейчас он ещё только скромный студент, он ещё только мечтает стать актёром. Но уже недалёк тот час, когда Вася бросит всё, чтобы целиком — как он выражается, «безвозвратно, безвозвратно!» — отдаться театру. Он скоро прославится в Московском Художественном театре и целые пятьдесят лет будет греметь на весь мир! Качалов, великий, бессмертный артист Качалов, — вот кем станет вскоре скромный студент Вася Шверубович, как ослепительная бабочка появляется из простой гусеницы.
Однако пока никто — ни даже сам Вася Шверубович — не знает и не предвидит этого. И Вася приходит «подыгрывать» начинающей актрисе Леле Мухиной в её работе над ролью Луизы Миллер. Он репетирует с ней все остальные роли.
Вот он — её отец, бедный музыкант Миллер. Как он любит свою дочь, несчастную Луизу, с какой болью и страданием смотрит он на нёс! Исчезла стройная фигура студента Васи Шверубовича — он весь сжался в бессильной старческой позе. И с какой грустью говорит он ей:
— «Луиза! Дорогое, милое дитя моё… Возьми мою старую, дряхлую голову… Возьми всё, всё! Лишь твоего Фердинанда — бог мне свидетель! — я не могу тебе дать…»
Вот Вася Шверубович говорит с Луизой осторожными словами подлого Вурма, скользящими и свистящими, как змеи. Он опутывает её сетями чёрной интриги и клеветы. Луиза, простая, бедная девушка из народа, полюбила Фердинанда, сына могущественною президента, — и низкий Вурм делает всё, чтобы погубить влюблённых. Лицо Васи совершенно неузнаваемо: в его глазах злобные огоньки, его руки, пальцы неудержимо сжимаются, как когти хищного ястреба, кружащего над цыплёнком…
Но всего лучше читает Вася роль Фердинанда!
— «О Фердинанд! — молит его Луиза. — Меч навис над твоей и над моей головой: нас разлучат!»
— «Не говори мне ничего о боязни, любимая моя! — успокаивает её Фердинанд, и голос Васи поёт, как виолончель. — Доверься мне! Я встану между тобой и горем, я приму за тебя каждою рану, я сберегу для тебя каждую каплю из кубка радости, — я принесу их тебе в кубке любви!»
Я смотрю и слушаю не дыша. Сердце моё просто разрывается от сочувствия к несчастной Луизе, — ведь она сейчас умрёт, отравленная своим Фердинандом! Его я, конечно, жалею гораздо меньше: зачем он поверил клевете Вурма и сам, своими руками, разбил их счастье?
Нужно ли добавлять, что вечером, когда никого нет дома, — по вечерам все собираются у Свиридовых, и мама там, и папа, если он свободен, а меня, конечно, в 9 часов гонят домой спать, — я тихонько прокрадываюсь в папин кабинет, где днём репетировали Леля и Вася Шверубович. Я становлюсь на колени перед пузатой печкой.
— О Фердинанд! — молю я. — Меч навис над твоей и над моей головой: нас разлучат!
— Ну, чего там ещё «фирнан, фирнан»! — бубнит Юзефа. — Ложись у постелю! Большая дивчина, а болбочет, сама не знает что!
Очень интересно бывает также в комнате брата Валентины, Володи Свиридова. Там всегда много весёлого молодого народа. Володя очень музыкален — он и на гитаре играет, и поёт приятным баритоном. Тут почти всегда присутствует и Леля Мухина. Когда она не Луиза Миллер, Леля очень весёлая, живая: она и петь, и плясать — всё, что угодно!
Глядя прямо в глаза Лёли Мухиной, Володя поёт под гитару собственный вариант старинного романса «Очи чёрные»:
В песню вступает Леля, и оба голоса, Лёли и Володи, поют вместе, словно идут рука об руку по тропинке в поле:
Все знают (и даже я знаю!), что у Лёли и Володи — «роман». Они любят друг друга, они поженятся, когда кончат курс. Вероятно, от этого в их пении звенит такая чистая радость, что все слушают, задумчивые, растроганные, словно издали следят глазами, как Леля и Володя медленно идут по весенней тропинке среди полей.
Но ненадолго стихает молодёжь. Вот уже снова все голоса сливаются в не очень стройный хор и поют по-латыни песню студентов всего мира:
А иногда, притворив плотнее дверь и сев в тесный кружок, молодёжь поёт приглушёнными голосами те песни, которые я люблю больше всех:
Я знаю, что этого петь нельзя, это запрещённая революционная песня. За одну «Дубинушку» полиция может, нагрянув, арестовать всех этих замечательных юношей и девушек… Мне рассказывали Павел Григорьевич и Анна Борисовна: с такими песнями революционеры выходят на демонстрации против правительства, шагают от этапа к этапу в далёкие, глухие места ссылки.
Дверь открывается — на пороге стоит отец Свиридовых, Сергей Иванович.
— Владимир! — говорит он с упрёком. — Я ведь просил тебя…
Леля бросается к нему:
— Больше не будем! Сергей Иванович, не сердитесь… Мы немножко попели, — уж очень душа горит… А больше не будем, золотой, не будем!
Разве можно сердиться, глядя в Лелины «очи синие»? Лёгкая, чуть заметная улыбка пробегает по губам Сергея Ивановича. Обычно губы эти крепко сжаты и лицо сурово, почти угрюмо. Сергей Иванович смотрит на Лелю и смягчается:
— Я только напоминаю: осторожность! Зачем зря рисковать? Пойте тише, под сурдинку…
В тот же вечер я случайно слышу в кабинете Сергея Ивановича обрывок его разговора с папой. Я не подслушиваю, нет! — меня прислали звать Сергея Ивановича и папу чай пить. Но они так поглощены разговором, что не заметили моего прихода. Ну, а я, конечно, так заинтересовалась их разговором, что застыла на месте как вкопанная.
— Тревожусь я о нём, Яков Ефимович! Очень серьёзно он в революцию ушёл… Какие-то рабочие к нему ходят, какие-то незнакомые люди… Боюсь, сломит Володька шею!
— Не сломит! — возражает папа. — Для настоящих людей, — а я Володю знаю, он на моих глазах вырос, и он именно настоящий человек! — для них это закалка на всю жизнь!
— Вы и меня знаете, Яков Ефимович… — продолжает Сергей Иванович с необычной для него откровенностью. — Я — человек, на всю жизнь раненный. Когда Маша умерла, жена моя, я ещё молодой был. Мог жениться. Нет, не захотел, чтобы у детей мачеха была! Живу бирюком, нигде не бываю, даже к вам не каждый месяц заглядываю. Дети для меня — все!.. Вам, Яков Ефимович, легко говорить: Сашурка-то у вас ещё ребёнок. А вот подрастёт она да потянется к революции, — что вы тогда будете делать?
— А, наверно, то и буду делать, что вы теперь делаете, что все другие отцы: горевать, тревожиться, ночей не спать… может быть, даже кровавыми слезами плакать… И всё-таки, думаю, будет мне радостно: хорошая, значит, выросла… Ты здесь зачем? — вдруг грозно обрушивается папа, только теперь заметив меня. — Вот, Сергей Иванович, невозможный ребёнок! Брысь отсюда!
Я ухожу, очень обиженная. Удивительные люди — взрослые! Никакого понимания! Даже памяти — и той ни на копейку! То папа сам говорит мне: «Ты уже не маленькая!» То я, оказывается, ребёнок, да ещё и «невозможный»! А что, собственно, случилось, из-за чего столько шуму? Я пришла за ним, хотела сказать: «Чай пить!» Слышу, у них такой разговор… Ну как было утерпеть, чтобы не послушать хоть немножко? Оказывается, я им помешала!
В этих мыслях я прохожу мимо комнаты Володи. Дверь приоткрыта, — ну разве можно не шмыгнуть туда? Как и говорил только что Сергей Иванович, в комнате, кроме самого Володи, все — незнакомые люди.
Увидев меня, они, как по команде, замолкают. Смотрят на меня. Чувствую, что ввалилась непрошеная, некстати, и страшно смущаюсь. И тут я мешаю!
— Эт-т-то кто ещё такая? — с наигранной свирепостью рычит на меня Володя.
Мне сразу становится легче. Володю я люблю почти так же, как Валентину. Он — добрый, хороший. А главное, что я ценю в Володе — то, что ценят у взрослых все дети: ему со мной интересно! Он всегда расспрашивает, что я читаю, какие у меня подруги, что делается у нас в институте…
— Предъявите паспорт! — сурово-официально предлагает Володя. — Что такое? У вас нет паспорта? Вы несовершеннолетняя? Кто же вас знает? Кто может за вас поручиться?
— Я! — раздаётся весёлый голос из тёмного угла за шкафом. — Я за неё ручаюсь!
Это говорит Вацек! Весёлый, никогда не унывающий рыжий Вацек! Мне становится легко: он напоминает мне Павла Григорьевича, Анну Борисовну, Юльку…
— Ты ручаешься за неё, Стась? — спрашивает Володя, и непонятно, почему он называет Вацека «Стасем». — Разве ты её знаешь?
— Мы с ней старые друзья! — заявляет Вацек. — Пусти сё, Борис!
Ещё того не легче! Мало того, что Вацек вдруг оказался «Стасем», так ещё и Володя почему-то «Борис»!
— В таком случае, я за неё тоже ручаюсь. Два поручителя — эго солидно. Садись, Сашурка! — И Володя пододвигается на диване, чтобы дать мне сесть рядом с ним.
Я, конечно, пристраиваюсь около Володи — становлюсь маленькой, незаметной. Все забывают обо мне и продолжают прерванный разговор.
— Последний вопрос, — говорит Володя, — о студенческом бале.
Оказывается, на следующей неделе после пасхи в городе будет устроен благотворительный бал в пользу нуждающихся студентов. Полиция согласна дать разрешение на устройство такого благотворительного бала под ответственность трёх человек, известных и уважаемых в городе. По просьбе студентов три уважаемых человека согласились взять на себя ответственность «за порядок и законность» на студенческом балу. Эти трое уважаемых: инженер Сергей Иванович Свиридов, доктор Иван Константинович Рогов и доктор Яков Ефимович Яновский.
Меня этот бал не очень интересует, хотя папа там и уважаемый: на балы меня не берут. Впрочем, Володины гости тоже мало интересуются самим балом. Им интересно, как говорит один из них, «чего можно от этого ждать?». Невольно я вдруг вспоминаю: когда в прошлом году умер царь и все волновались, позовёт новый царь себе на помощь людей из народа или не позовёт, Вацек тогда сказал мне: «Рабочий человек ждёт добра не от этого!» А вот сейчас рабочие люди — их тут, вместе с Вацеком, трое — спрашивают, чего можно ждать от благотворительного студенческого бала.
Володя отвечает на этот вопрос:
— Трудно, конечно, предугадать, какой будет выручен сбор. Но, вероятно, получится приличная сумма. И это может оказаться очень кстати…
Для чего, для кого «кстати»?
Дальше говорят о совершенно не интересных для меня делах. Я перестаю вслушиваться и от нечего делать разглядываю Володю, словно в первый раз его вижу. Что есть в нём такого, что отличает его от окружающих? Володя — как молодое дерево, которое изо всех сил тянется вверх, к солнцу, к буйным ветрам, к светлым дождям. Задумчивые глаза Володи смотрят поверх окружающих не только оттого, что он очень высок ростом: нет, он словно всегда вглядывается во что-то очень хорошее, радостное, чего не видят другие люди.
Приходит Леля, зовёт всех чай пить.
Гости отказываются — они собираются уходить.
— Стась! — напоминает Вацеку Володя. — Знаешь порядок? Не все сразу и с разного хода.
Когда уходит последний гость, я, конечно, начинаю задавать вопросы:
— Володя, почему ты зовёшь Вацека Стасем, а он тебя — Борисом?
Володя беспомощно переглядывается с Лелей.
— Ну, как тебе объяснить? — разводит он руками. — Не поймёшь ты…
— От тебя, Володя, — говорю я с обидой, — от тебя… такое!.. Ну, скажи ещё, что я — невозможный ребёнок! И что я задаю дурацкие вопросы! И чтобы я вообще убиралась вон!
— Рассвирепела муха, как тигр! — смеётся Володя. — Ну, вот вообрази: полиция вдруг станет искать меня или Вацека…
— Как после первого мая? — догадываюсь я.
— Вот именно! Полиция ищет Вацлава и Владимира, а их нет! Есть Борис и Станислав!
— Это чтобы сбить их с толку, да? — соображаю я.
Но Володя не отвечает мне… И вообще я вдруг замечаю, что никто не помнит о моём присутствии, как если бы меня совсем не было в комнате. Леля подошла к Володе, села на ручку его кресла. Володя поднял к ней голову и приложил её руку к своей щеке.
Я понимаю: я мешаю Володе и Леле.
Но тут я не обижаюсь. Тихонько, на цыпочках, я выскальзываю вон из комнаты.
А они, наверно, даже не заметили этого!
* * *
Между тем в квартире бабушки и дедушки — тоже предпраздничное волнение и суета. Бабушка и Бася-Дубина с ног сбились в ожидании гостей: к вечерней пасхальной трапезе должны съехаться и сойтись все семь сыновей! Кроме уже приехавших Тимы и Абраши, ждут ещё дядю Ганю, врача-окулиста из Петербурга, и дядю Лазаря, студента-медика из Харькова. Да ещё здешние сыновья — папа, Николай, Мирон. Итого — семеро!
Бабушка священнодействует на кухне — они с Басей трудятся над громадной пасхальной индейкой, готовят пасхальные сладости: тонко наструганную редьку в меду, медовые «тестички», маковники. И, как всегда, бабушка без умолку тараторит:
— Такие дети, как у меня, Басенька, так это искать и искать — и всё равно не найдёшь! Так уж лучше и не ищи! Конечно, вырастить семерых сыновей — это не лёгкое дело… И не спорь, пожалуйста, Бася, это же каждый ребёнок понимает. Наш домовладелец — богатый уж-ж-жасно! — так он всегда говорил нам, мне и старику: «Ну куда вам столько детей? Вы же бедные люди, куда вы денетесь с таким оркестром? На свадьбах будете с ними играть, что ли? Чтоб они потом обходили всех гостей с тарелкой и собирали пятаки? Или, может, они будут ходить в праздник по домам, ряженые, представлять представления?»
Бабушка тихонько смеётся этим своим воспоминаниям. Её руки ловко и умело колдуют над пасхальной рыбой.
— А вот и не оркестр! И не пятаки! И не ряженые! Конечно, намучились мы немало — в особенности каждый раз, как кого-нибудь из них сажали, не дай бог, в тюрьму. Не нравится мне эта мода, Бася, чтоб детей в тюрьму сажать! Вот не нравится — и не нравится! Но что поделаешь? Как у других, так и у нас!.. Бася, пустая голова, что ты делаешь с индюком? Что ты делаешь с индюком, я тебя спрашиваю? Это же не индюк — картина! — С ним надо вежливо, а не хап-лап!
Я сижу на низенькой табуреточке, наслаждаюсь бабушкиными сладостями и слушаю её рассказы.
— А всё-таки, — продолжает бабушка, — я вам скажу, дорогие мои: детей надо иметь много! Тогда они вырастут хорошие. Когда они знают, что куртку Якова должны ещё носить после него Николай, а потом Мирон, а пальто и гамаши Гани должны ещё служить Лазарю и мальчишкам, Тимке и Абрашке, — так они растут скромные, без фанаберии, без баловства. Мои дети — не гордые: они учились, и работали, и уроки давали, чтоб нам со стариком было легче тащить воз. И чуть только который-нибудь из них становится на ноги и начинает зарабатывать, — сейчас он помогает младшим! А теперь, когда четверо из них уже вышли в люди, так, дай бог им здоровья, они и нам, старикам, посылают на жизнь! Вот какие это дети!
Бабушкины рассказы неистощимы. Вперемежку с испуганными вскриками, когда какое-нибудь из блюд не удаётся, краткой командой, отдаваемой Басе по поводу корицы или изюма, шафрана или ванили, течёт, как ручей, радостная песня матери, до краёв наполненной своим материнским счастьем.
— У нашего домовладельца — один сын! Один! — говорит бабушка с презрением. — Так что вы думаете? Другая барышня так не гримасничает, как этот молодой человек! Холодной водой он не моется! От свежей земляники у него делается крапивница, — слыхали вы такое? А богачка, счастливая мамаша этого балбеса, спрашивает меня: «У вас есть брильянты чи не?» — «А как же! — отвечаю я ей. — Вот на пасху вы увидите все мои брильянты — семь штук, один в один!»
Бабушка смеётся, довольная своей остротой.
Накануне пасхи внезапно получается открытка от Лазаря из Харькова: он не приедет. Он здоров, — пусть мамаша не беспокоится, — но приехать он не может: надо заниматься.
Бабушка мужественно подавляет вздох.
— Ну-ну… Не надо грешить. Что ж? Будет на этот раз не семь брильянтов, а только шесть… Тоже не плохо! Конечно, досадно, но что поделаешь?
Бабушка украдкой смахивает слезу и рассказывает Басе, какой замечательный этот Лазарь, который не может приехать.
— Я тебе говорю, Бася, — Лазарь самый красивый из всех! И какой золотой мальчик! Праздник, другие гуляют, а он — нет, он учится!
Но Тима и Абраша почему-то понимающе перемигиваются.
— Он будет заниматься! — недоверчиво говорит Тима. — Не смешите меня, пожалуйста. Какой работяга…
— Тут что-нибудь да не так… — качает головой Абраша. — Такой затейник, такой выдумщик, как Лазарь, — он непременно выкинет какой-нибудь сюрприз!
Вообще Тима и Абраша всегда единомышленны и дружны. Только иногда они почему-то отчаянно ссорятся. Тогда, в гневе, они говорят друг о друге не иначе, как в третьем лице, и обращаются со своими обвинениями к кому-нибудь постороннему.
— Видите этого человека? — кричит Абраша, тыча разгневанно пальцем в сторону Тимы. — Я умру, но ему руки не подам! Никогда в жизни!
— Будь я проклят, если я когда-нибудь заговорю с этим человеком! — вторит ему Тима.
А через полчаса эти «человеки» обычно уже не помнят, как страшно они поругались.
В самый пасхальный вечер — в сумерки, ещё «до первой звезды» (началом праздника считается появление на небе первой звезды) — мы все уже собрались у бабушки и дедушки и ждём, когда нас позовут к столу. И тут в передней раздаётся сильный, продолжительный звонок.
— Лазарь! Это Лазарь приехал! — кричит Абраша.
— Я же говорил, что Лазарь готовит сюрприз! — радуется Тима.
В самом деле это приехал Лазарь!
Все бросаются к нему, все рады, а бабушка, обняв его за шею и осыпая поцелуями, не может удержаться от материнской критики:
— Ох, Лазарь, Лазарь! Ну почему ты всегда делаешь всё не так, как люди?
— А почему я должен всё делать так, как люди? Пусть люди делают всё так, как я! В общем, пожалуйста, прекратите торжественные речи: у меня хватило денег только на билет от Харькова сюда. Срочно ищу капиталиста, который заплатит двугривенный моему извозчику!
И вот мы все уже разместились за столом. Во главе стола бабушка и дедушка. Между ними — я, как единственная внучка (Сенечка пока не в счёт). Папа с мамой, Николай, Мирон, Ганя, Лазарь. На крайнем конце стола — младшие, Тима и Абраша. С ними же сидит Пиня. Поездка на праздник в Кейданы к родителям стоила бы слишком дорого, — этого. Пиня не может себе позволить. Поэтому, хотя сегодня и не его день (он обедает у бабушки и дедушки по воскресеньям), бабушка позвала Пиню на пасхальной ужин. Тима и Абраша слегка — в меру своих скромных возможностей — «прифрантили» Пиню: Абраша отдал ему свой галстук «в крапочку», а Тима дал ему (не насовсем, только на сегодняшний вечер!) свою рабочую куртку с заплатками на локтях. Пиня выглядит именинником и наслаждается ощущением, что он в праздничный вечер «в семье».
— Хорошо вам… — меланхолически вздыхает Абраша, обращаясь к братьям. — Всякое блюдо начинают со старших! А мы с Тимкой — последние: что останется от старших, то нам… Например, пупок от индейки или курицы… Тимка, ты когда-нибудь эго ел? Я — никогда! Это всегда достаётся кому-нибудь из старших!
— Да-а… Очень плохо быть младшим! — поддерживает его Тима. — Шестым или седьмым…
— А ведь мальчишки-то правы! — вступается за них папа. — Сегодня первая порция каждого блюда даётся младшим!
Бабушка не любит новшеств. Пусть всё идёт так, как заведено спокон веку отцами и дедами. Тимка с Абрашкой — ещё сопляки. Ничего им не сделается от того, что они подождут своей очереди. «В жизни надо уметь ждать», — добавляет бабушка философски.
— Сопляки? — возмущённо кричат младшие. — Мы — сопляки?
Но все братья присоединяются к предложению папы: пусть сегодня последние будут первыми.
— И пупок пусть мамаша разделит между Тимкой и Абрашкой! — предлагает Лазарь.
Бабушке приходится уступить.
Какое весёлое представление разыгрывают старшие! Николай, Мирон, Ганя, Лазарь, — папу к этому не подпускают: он всё кувырнет и опрокинет! — подносят первые порции праздничной трапезы младшим. С низким поклоном, с почтительными приговорами:
— Абрам Ефимович, пожалуйста!
— Тимофей Ефимович, просим, осчастливьте!
Младшие — они, в самом деле, ещё желторотые птенцы, только недавно кончили гимназию — конфузятся, но страшно довольны. Дело, конечно, не в количестве: у бабушки наготовлено всего столько, что на всех хватило бы с избытком. Дело — в почёте: никогда они такого почёта и во сне не видали!
Я смотрю на маму, вижу, как она, нагнувшись к сидящему рядом с нею Николаю, шепчет ему что-то, показывая глазами на Пиню. На секунду удивившись, Николай понимающе кивает, — и Пиня оказывается включённым в число младших, которым сегодня первое место и первая порция.
Праздничный ужин длится долго. К концу я даже слегка задрёмываю, привалившись к дедушкиному плечу. Мне ведь дали в рюмочке немножко вина, разбавленного водой. «Я — пьяная! — думаю я с гордостью. — Ужасно пьяная!» Сквозь дрёму я слышу взрывы дружного смеха, весёлые рассказы: каждый из «брильянтов» рассказывает о себе. Братья добродушно посмеиваются друг над другом. Особенно достаётся младшим, Тимке и Абрашке, за обжорливость.
— Караул! — кричит Мирон, который сегодня ради праздника настроен почти добродушно. — Держите детей! Пусть они наконец отвалятся от еды — ведь лопнут! Ей-богу, лопнут!
— Лопнут? — обиженно переспрашивает Абраша. — Хорошо тому, кто уже кончил университет и работает! Он сразу забывает студенческую голодовку. У нас в Варшаве…
— А у нас в Дерпте лучше, да? Сытее? — кричит Тима.
— А у нас в Харькове, хлопцы, тоже не так, как у мамаши в пасхальный вечер! — вступает в это состязание Лазарь.
Но все затихают, слушая, как Ганя рассказывает о своей петербургской работе. Гане очень посчастливилось: его взял к себе в ассистенты известный окулист, профессор Донберг. Под руководством Донберга Ганя ведёт исследования и наблюдения над новым методом лечения страшной глазной болезни — глаукомы. Профессор Донберг доверяет Гане самостоятельно оперировать. Недавно профессор похвалил его: «У вас отличная рука. Из вас будет толк». Так и сказал профессор Донберг!
С какими сияющими лицами слушают Ганю дедушка и бабушка, сколько тепла и внимания на лицах всех братьев! Шутка ли, профессор Донберг, сам профессор Донберг, сказал нашему Гане, что из него будет толк!
— Брильянт! — шепчет бабушка растроганно. — Все — брильянты… — И, словно испугавшись, что мама может обидеться, бабушка обнимает и целует её. — И жену тебе, Яков, бог дал брильянтовую и дочку…
С тех пор прошло много десятков лет. Из тех, кто сидел за этим праздничным ужином, не осталось в живых никого, кроме одной меня. Нет бабушки, дедушки, Николая, Мирона, Лазаря. Умер Ганя, который в самом деле стал известным профессором. В Отечественную войну фашисты убили моих папу и маму. Тима и Абраша погибли от голода и холода во время ленинградской блокады… Но я помню этот пасхальный вечер, словно он происходил вчера! И свечи в двух высоких старых шандалах-подсвечниках, и отсветы их на скатерти, старенькой скатерти, старательно подштопанной бабушкиными руками, но празднично-белоснежной и прикрахмаленной. Счастливые лица бабушки и дедушки. Спокойные, мужественные лица семи братьев — дружных, понимающих друг друга с полуслова, сильных своей братской близостью. Они, эти братья, прошли суровую школу лишений, борьбы и потому смотрели вперёд без страха, уверенные в себе.
Когда при мне говорят: «семья», «хорошая, дружная семья», — я вспоминаю этих родных мне людей за праздничным столом, за которым нашлось место и для бездомного Пини, тоже завоёвывающего себе трудом и лишениями место в жестокой жизни. И я понимаю: хорошая, дружная семья-это огромная сила!
(Кстати, на следующий день Пини за столом уже нет: старшие дяди мои дали ему денег на поездку домой, в Кейданы, к его родителям.)
Когда в тот вечер я уже лежу в своей постели, ко мне присаживается мама.
— Мамочка, ты — грустная? — спрашиваю я. — Почему ты грустная?
Мама отвечает не сразу. И говорит, словно сама с собой, в раздумье:
— Мишу вспоминаю. Брата моего. Твоего дядю… Ведь ему легче было пробиваться в жизни, чем этим семи братьям! Всё имел, всё получил даром, легко, без всякого труда… — И — ничего в жизни не добился! Ничего из него не вышло…
На третий день праздника, накануне отъезда Гани, которого профессор Донберг отпустил из клиники только на четыре дня, мы едем всей семьёй к фотографу (тому самому Хоновичу, который живёт над квартирой доктора Пальчика). Наше шествие по улице имеет внушительный вид. Впереди дедушка ведёт под руку бабушку в новом «шляпендроне», как называет дедушка её шляпку (шляпендрон подарили сыновья). За ними папа ведёт маму. А дальше идут парами холостые: Николай с Мироном, Ганя с Лазарем, Тима с Абрашей. Для меня пары нет, — Сенечка-то ведь ещё крохотуля! — и меня ведут Тимка с Абрашкой.
На лестнице у фотографа, проходя мимо квартиры доктора Пальчика, Николай спрашивает:
— Как, мамаша? Зайдём к доктору Пальчику, сломаем у него кушетку?
Лестница гулко повторяет это — все хохочут на шутку Николая. Даже бабушка не обижается — смеётся.
Наша семейная фотография — бабушка и дедушка со своими «брильянтами» — получилась, говорят, очень похожей. Только я, увидев своё изображение, немножко удивилась: мне-то ведь казалось, что я гора-а-аздо лучше!
* * *
Тем временем приближается день выступления Лёли Мухиной в «Коварстве и любви». Волнуется сама Леля, волнуется Володя, волнуемся все мы. У меня ещё и дополнительное волнение: возьмут меня в театр или не возьмут? Но мои опасения оказываются напрасными — меня берут, хотя мама и говорит: «Право, не знаю… Кажется, не следовало бы…», и так далее, и тому подобное.
Когда на сцене появляется Леля — в чепчике Луизы Миллер, с молитвенником в руке, — я крепче сжимаю руку мамы.
Во все глаза смотрю я на эту стройную белокурую девушку. Кто это? Леля? Да, конечно, это Леля, но вместе с тем словно и не она. Какое достоинство во всех её движениях, как ясно светятся её синие глаза, как чудесно-музыкально звучит её нежный голос! Это Луиза Миллер, та, которая полюбила знатного юношу, Фердинанда. Она — умница, она понимает, что полюбила его не на радость, а на горе, что ждут её не розы, а острые шипы. От этого такая тоска и страх в её голосе, когда она говорит знакомую мне фразу:
— О Фердинанд! Меч навис над твоей и моей головой: нас разлучат…
Леля играет так правдиво, так просто и искренне, что весь зрительный зал охвачен горячим сочувствием к Луизе Миллер! После каждого акта гремят аплодисменты и вызовы:
— Мухина-а-а! Мухина-а-а!
А после конца представления публика устраивает Леле настоящую овацию. Молодёжь — студенты, курсистки, воспитанники гимназий, — столпившись около сцены, хлопает, не жалея ладоней, кричит, не щадя своих лёгких и чужих ушей. Леля без конца выходит кланяться. Она устала, это заметно, но она светло улыбается и смотрит на нашу ложу.
— Сашка! — говорит Валентина. — Пойдём к Леле за кулисы Хочешь?
Хочу ли я!
За кулисами полутемно, мы ежеминутно натыкаемся на всякие неожиданные вещи — тут и нарисованные кусты, и фанерная дверь, и кусок стены с бутафорским окном. В темноте Валентина попадает ногой в металлическую доску, при помощи которой за кулисами «делают гром», когда, по пьесе, происходит гроза. Рабочие сцены тащат куда-то колонны, которые только что так величественно возвышались в зале у гордой леди Мильфорд. Сейчас, вблизи, видно, что колонны сделаны из холста, раскрашенного под мрамор, они болтаются беспомощно и жалко, как оболочки игрушечного резинового шарика, из которого вытек воздух…
Вот мы входим в тесную актёрскую уборную, где Леля уже сняла с себя костюм Луизы Миллер. Накинув халатик, Леля осторожно смывает кольд-кремом грим с лица.
— Молодец, Лелька! — шумно обнимает её Валентина. — Я знала, что будет хорошо, но что так хорошо — даже не ожидала! Сегодня я окончательно поверила в тебя, рожа ты моя дорогая!
Только собралась Леля ответить на горячие слова Валентины, как в уборную входит Володя. Он стоит перед Лелей и смотрит на неё сияющими глазами. Он и Леля ничего не говорят, только глядят друг на друга.
Мы с Валентиной тихонько уходим.
В коридоре Валентина останавливается.
— Дурачки… — говорит она, утирая глаза. — Ребятишки… Но до чего милы, негодяи окаянные!
А назавтра — студенческий бал…
И — беда! Такая беда, как град, побивающий весенний цвет на яблонях и вишнях!
Все уехали на бал.
Ещё днём приезжал парикмахер, пан Теодор, причесал и завил маму, Валентину и Лелю. Все они оделись в лёгкие бальные платья, прикололи свежие весенние цветы и уехали в Офицерское собрание, в зале которого состоится бал. На кресле приготовлен для папы фрак, на столе лежат парадная фрачная рубашка с крахмальной грудью, галстук и перчатки. Когда папа вернётся от больных, — если он вообще вернётся раньше утра, у него ведь никогда ничего не известно! — он наденет всё это великолепие. Я наперёд знаю, как это произойдёт. Папа будет одеваться, теряя запонки, не попадая в петли, ругая фрак «идиотом», а крахмальную рубашку — «мерзавкой»…
Я уныло и скучно брожу по квартире, где Юзефа прибирает разбросанные в предбальной суете вещи. Конечно, Юзефа при этом ворчит вовсю — на то она и Юзефа!
— Побежали! Поскакали, гоп-гоп! А куда, а зачем? Спроси их! Нашли себе судовольствию! Какая же это судовольствия, я вас спрашую!
— А что такое удовольствие, Юзенька?
— Настоящая судовольствия, — оживляется Юзефа, — это в баню пойти! Попариться, нашмаровать (намазать) волосы репейным маслом! Апосля того — чай пить… С брусничным соком! Вот это настоящая судовольствия!
— Юзенька, я погуляю немного около дома. Можно?
— А чего ж? Иди. Только не больш, как на полчаса… А я, — Юзефа сладко зевает и крестит рот, — полежу…
Я брожу по нашей улице недалеко от дома. Какое-то странное томление, как перед грозой, разлито в воздухе. Словно всё перестало дышать… На небе догорает закат, пурпурный и грозный, — это завтра будет ветер, непогода.
Стою и смотрю, как вечерний сумрак постепенно стирает с неба краски пожара.
И вдруг меня осторожно, негромко окликает знакомый голос:
— Пс-с-ст! Пс-с-ст! Сашенька!
Я растерянно озираюсь. Кто меня зовёт?
— Зайди за угол. Скорее!
За углом меня ждёт… Вацек. Он очень встревожен, беспокойно оглядывается по сторонам:
— Беги, Сашенька, до Свиридовых… Скажи Борису… Я не сразу соображаю, что «Борис» — это Володя.
— Скажи Борису: беда! Лысого взяли и Михаила тоже.
— А Володя на бал поехал! С Лелей…
— Ни, не поехал он, потом подъедет. А сейчас сидит, товарищей дожидает… Скажи: не придут, забрали их, в полицию увели… Беги, Сашенька, прЕндзей (скорее)!
И Вацек исчезает за углом, как бы и не было его.
Торопливо вбегаю в наш подъезд. Поднимаюсь по лестнице, забирая ногами по две ступеньки сразу.
— Володя! — врываюсь я к Свиридовым. — Вацек велел сказать: Михаила и Лысого забрали. И чтоб ты никого не ждал: не придут.
Наморщив лоб, Володя что-то напряжённо соображает.
Он быстро суёт мне в руки свёрток, перевязанный крепкой бечёвкой:
— Отдай это Юзефе спрятать… Унесёшь? Осилишь?
— Подумаешь! — говорю я, хотя свёрток и тяжёлый: наверно, в нём книги или бумаги.
— Снесёшь — возвращайся, Сашурка! Поможешь мне почиститься…
И он показывает на стоящий в углу чемодан. Я не сразу соображаю, к чему чемодан, если человеку надо почиститься. По-моему, для этого всего лучше щётка! Но тут же понимаю: наверно, в чемодане лежат вещи, которые надо унести…
Со всех ног уношу свёрток к нам в квартиру. Бужу Юзефу:
— Юзенька, вставай! Скорее! Сейчас придёт полиция…
При слове «полиция» Юзефа мигом вскакивает.
— Якая полиция? — бормочет она, глядя ошалелыми глазами. — Куда яна придёт?
— К Свиридовым… Там Володя — один… Надо ему помочь!
Мы с Юзефой бежим к Свиридовым. Всё дальнейшее происходит с необычайной быстротой. Юзефа уносит чемодан в нашу квартиру:
— Под свою кровать запхаю!
Мы уносим какие-то бумаги, книги — всё, что даёт нам Володя. Работаем быстро, бесшумно — просто скользим из свиридовской квартиры в нашу и обратно.
Осмотрев опустевшие ящики письменного стола, пустой угол комнаты, где стояли чемоданы и стопки книг, Володя удовлетворённо вздыхает.
— Хорошо поработали! — говорит он. — Теперь — всё. Спасибо, Юзефочка, и тебе, Сашурка, спасибо!
— Нема за что благодарить, паничику! — отзывается Юзефа. И, помолчав, задаёт вопрос, который её, видимо, мучает: — Теперь уже не заберут они вас, нет?
— Ну, это неизвестно… А вы обе уходите! — приказывает нам Володя. — Уходите, пока они не пришли. Я тоже попытаюсь удрать по чёрному ходу.
Но уйти не удаётся никому из нас. В передней слышен очень сильный и продолжительный звонок, и одновременно раздаётся резкий стук с чёрного хода.
— Чёрт! Не успели уйти… — досадует Володя. — Юзефочка, отоприте, пожалуйста, дверь в передней, — я ведь нашу служанку погулять отпустил…
— Я откро-о-ою! — с угрозой говорит Юзефа. — Я им открою! Чтоб им крышкой гроба накрыться — и поскорее!
Пока Юзефа впускает полицию, Володя усаживает меня за столик против себя, раскладывает между нами шашечную доску:
— В поддавки, Сашурка! И — не робей, спокойно!
Обыск длится долго. Я сижу на диване рядом с Володей. Уже очень поздно — около полуночи, но мне совсем не хочется спать. Всякий сон перешибло волнение, тревога, чувство обиды за Володю и вражда к этим грубым людям, которые ворвались в чужой дом, ведут себя нагло, роются в вещах, столах и шкафах, как собаки на свалке…
Даже обезьянка Аида словно разделяет моё возмущение. Она стоит, как всегда, на рояле и от топота сапог, грохота передвигаемой мебели укоризненно кивает фарфоровой головкой. Володя молча показывает мне на Аиду, и, несмотря на всю серьёзность происходящего, мы оба улыбаемся.
Володя внешне очень спокоен. Иногда он даже шутит со мной и с Юзефой. Но он так нетерпеливо смотрит на дверь, он так прислушивается к стуку редких пролёток на улице, что я понимаю: он ждёт возвращения Лёли, отца, Валентины. Ему хочется — мы с Юзефой это чувствуем, — чтобы они, возвратившись с бала, застали его ещё хоть на несколько минут, чтобы им успеть проститься, перед тем как его уведут в тюрьму.
— В Петербурге, — негромко говорит Володя, — есть телефоны…
Да. А у нас телефонов ещё нет…
Побежать бы в Офицерское собрание, разыскать там всех, сказать им, чтоб мчались сюда, скорее, скорее!.. Но ни меня, ни Юзефу полиция не выпускает из квартиры до окончания обыска.
Но вот полиция кончила своё дело. Володе дают прочитать и подписать протокол обыска.
Володя читает вслух:
— «…Ничего предосудительного при обыске не найдено…»
— А тебе судительное надо? — не выдерживает Юзефа.
Она бросает это жандармскому офицеру с враждебным укором.
Но я вдруг понимаю: Володя прочитал эти слова из протокола вслух нарочно. Чтобы я запомнила их и передала Свиридовым и Леле.
— Попрошу вас, господин Свиридов, следовать за нами! — с изысканной вежливостью обращается к Володе жандармский офицер.
Володю уводят. Мы с Юзефой бежим за ним вниз по лестнице на улицу.
Перед нашим подъездом стоят две извозчичьи пролётки. Перед тем как сесть, Володя прощается с нами. Он тепло обнимает Юзефу.
— Паничку! — шепчет она. — Я тут подушку для вас положила, — те лайдаки казали, что можно. И ещё я вам положила поку… покушать…
— Не горюйте, Юзефа! Не навек расстаёмся! Володя поднимает меня сильными руками и крепко прижимает к себе.
— Сашурка, сестричка моя! — И быстро мне на ухо: — Скажи всем… папе, Валентине… Леле скажи от меня… Сама знаешь что!
Двое городовых, поддерживая Володю под руки (как лакеи — барина!), подсаживают его в пролётку.
— До свиданья! — кричит он нам в последний раз.
Пролётки трогаются. Стук копыт по булыжной мостовой удаляется, затихает…
Когда снова возвращаемся в разгромленною квартиру Свиридовых, мы с Юзефой на миг смотрим друг другу в глаза.
— А каб им околеть! — выкрикивает Юзефа, как страстное желание, как молитву своему богу.
Но в передней слышны стремительные лёгкие шаги — в комнату вбегает Леля.
— Володя! Где Володя? — кричит она в ужасе, боясь поверить беде.
— Лелечка, его увезли…
— Совсем? — вырывается у неё криком. — А я бежала сюда! Мне вдруг так страшно стало, почему он всё не идёт и не идёт…
— Почему ты раньше не пришла, Леля?
— Не велел он мне. Ведь тут у него собрание было. Важное… «Жди, говорит, меня на балу, я сам за тобой приду…» — И, опустившись на стул, Леля бессвязно шепчет: — Вот он, меч… над головой… И разлучили…
Со следующего утра начинаются поиски Володи, хлопоты о свидании, о передачах, об освобождении.
Папа, конечно, едет к жандармскому полковнику фон Литтену, но этот влиятельный человек, оказывается, получил к пасхе повышение: перевод в Петербург. Все хлопоты Сергея Ивановича и папы не дают никаких результатов.
Лишь через неделю Сергей Иванович узнает, что Володя содержится в Варшаве, в тюрьме, которая называется «Цитадель».
Так неожиданно горестно кончились эти незабываемые весенние каникулы.
Ещё одну вещь хочу я сказать. Из беглого разговора папы с представителем студентов я узнала, что почти все студенты, даже очень нуждающиеся, получив помощь из сбора от благотворительного бала, отдали каждый свою долю на революционную работу.
Вот почему революционерам был нужен благотворительный бал! Вот чего они от него «ждали»!
Глава восемнадцатая. ЧЁРНОЕ ДЕЛО И СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК
Когда после пасхи снова начинаются уроки в институте, я чувствую себя такой посерьёзневшей, такой повзрослевшей, что ли, словно пасхальные каникулы продолжались не две недели, а два года, даже больше. Очень уж много пережито за этот короткий срок! Всё время перед моими глазами стоит Володя Свиридов — и вокруг него чёрная туча жандармов и полиции. Я знаю: Павел Григорьевич, Володя Свиридов, Вацек и их товарищи-революционеры победят чёрную тучу… Но когда? Вот новый для меня вопрос. Кто ответит мне на него так же легко и понятно, как папа ещё недавно объяснял мне, что такое скарлатина или почему зимой нет мух… А за этим новым вопросом встают другие, и на всё хочется получить ответ.
Последние недели учебного года ползут так медленно, что вот, кажется, взяла бы хворостину и стала подгонять их, как гусей и уток. Но всё-таки они ползут и приближают нас к экзаменам, а за ними — к летним каникулам. И как подумаешь, что скоро конец скуке, конец Дрыгалке с её губками, поджатыми в ниточку, с её пёстрыми ручками, похожими на кукушечьи яйца, становится так весело, что хочется, позабыв про все серьёзные вопросы, сделать что-нибудь оглушительно-глупое: подпрыгнуть, завизжать, завертеться волчком, как собака, которая ловит собственный хвост…
Но для таких шалостей сейчас совсем нет времени!
У нас теперь опять много дела: надо подтягивать двоечниц, наниматься с ними. Теперь мы уже умные, учёные: мы знаем, что это называется «действие скопом» и что это запрещено. Мы не болтаем об этом зря, мы занимаемся не в институте, а по квартирам. Нас, «преподавательниц», стало больше: не только Лида, Маня Фейгель, Варя и я, но и Тамара — она хорошо говорит по-французски, очень терпеливо и понятно объясняет всё, что надо.
Дрыгалка всё-таки что-то чует! Она пробовала выспрашивать, например, у Кати Кандауровой: не занимается ли Маня с отстающими ученицами? Но Катя — этот, на удивление, прямой и правдивый «ягнёночек», как зовёт её Лида Карцева, — сделала глупенькое лицо и сказала:
— А зачем Мане с отстающими заниматься? Она ведь не отстающая!
Дрыгалка вздохнула над Катиной глупостью и отпустила её:
— Ну, ступайте… Господь с вами!..
Подумать только: за такой недолгий срок правдивую, честную Катю научили так здорово врать!
Но после этого случая Лида с сомнением говорит:
— Ох, смотрите!
— А что смотреть? Куда смотреть? За чем смотреть? — сыплются на Лиду вопросы.
— Смотрите, как бы Дрыгалка чего-нибудь…
— Да что она может сделать, твоя Дрыга?
— А вдруг пойдёт обходить квартиры?.. Ага, присмирели! — торжествует Лида. — Придёт к тебе, Шура, — а у тебя сидят четыре наших ученицы! Как вы объясните Дрыгалке, почему они у тебя «незаконное собрание» устроили?
Мы на минуту теряемся. Молчим. Потом Олюня Мартышевская говорит очень спокойно:
— Я скажу: я учебник потеряла — пришла к Саше учебник попросить…
— А я скажу, — так же спокойно продолжает Броня Чиж, — я на той неделе у Саши книжку брала почитать — вот принесла.
— А я скажу: я Броню Чиж провожаю! — радостно заявляет Сорока.
— Ну, а ты, Люба, что скажешь? — спрашивает Лида у Любы Малининой.
— Что же мне сказать? — говорит Люба в полном замешательстве. — Ох, знаю, знаю! Я скажу: к нам домой собака ворвалась, страшно бешеная! Воды не пьёт, и хвост у неё не вверх смотрит, а под живот опущен… Ужасно бешеная!
— Ну, и что? — продолжает Лида свой допрос.
— Ну, я, конечно, испугалась и побежала — сюда, к Саше…
— На другой конец города прибежала? — насмешничает Лида.
Вот какая правдивая, оказывается, Люба Малинина! Так и не научилась врать! Ничего, наш обожаемый институт — «наш дуся институт»! — он ещё и Любу обработает, дайте срок. Научится врать Дрыгалке, как мы все научились.
Так мы гадаем о возможном налёте Дрыгалки на чью-нибудь квартиру. А Дрыгалка и в самом деле налетает: к Тамаре! Но тут Дрыга терпит жестокое поражение и, надо признать, только благодаря спокойной находчивости Тамары. Дрыгалка впархивает в квартиру Ивана Константиновича совершенно неожиданно. Проскользнув мимо оторопевшего Шарафутдинова, она внезапно появляется в столовой, где сидят Тамара и ещё пять девочек из нашего класса. Тамара потом рассказывала, что Дрыгалка ворвалась, «как демон, коварна и зла»! К счастью, девочки только что пришли и ещё не начали заниматься, даже книг не успели разложить на столе. Девочки повскакали со стульев, стали «макать свечкой», здороваясь с Дрыгалкой. Но Дрыгалка только рассеянно кивнула им головой, не переставая шарить вокруг «пронзительным оком».
И тут вдруг начинает говорить Тамара — самым ласковым и приветливым голосом:
— Здравствуйте, Евгения Ивановна! Это наши девочки ко мне пришли. Зверей посмотреть… Может, и вы взглянете?
— Зверей? — бледнеет Дрыгалка. — Как-к-ких зверей?
— А это дедушка мой, доктор Рогов, разводит зверей… Две комнаты зверями заняты. Очень интересно! Жабы, лягушки, змеи…
До черепах, саламандр и рыб перечень зверей не дошёл: Дрыгалка рванулась в переднюю и как пуля выбежала из квартиры.
Девочки хохотали так долго и так громко, что Сингапур принял было это за истерику и с упоением начал в своей клетке хохотать, икать и квакать.
Этот случай сразу облетает весь наш класс и делает Тамару героиней дня. А главное, с этого дня весь класс начинает хорошо относиться к Тамаре. Конечно, она ещё нет-нет да и «сфордыбачит» какую-нибудь «баронессу Вревскую» — правда, она делает это всё реже и реже. И теперь ей это прощают: теперь она — своя, совсем своя, а что немножко «с придурью», так ведь с кем не бывает?
— Страшная вещь! — возмущается мой папа. — До чего исковеркали детей! За что они полюбили человека? За то, что он — хороший, умный, честный? Нет, только за то, что талантливо соврал!
— Яков Ефимович… — обижается Тамара. — Я не соврала. То есть почти не соврала. Ну, малюсенько-малюсенько соврала: я сказала про змей, — а у дедушки змей нету… А остальное всё — правда!
— Да, Яков, ты неправ, — вступается мама. — Тамарочка выручила подруг. И не ложью, а находчивостью!
После этого случая мы принимаем меры предосторожности. Можно надеяться, конечно, что Дрыгалка больше не сунется в квартиру Ивана Константиновича Рогова. Поэтому мы переносим туда занятия моей группы и группы Мани Фейгель. Квартира большая: Тамара сидит со своей группой у себя в комнате, Маня ведёт занятия в столовой, я — в кабинете. Для полной надёжности в передней, прямо против входной двери, устанавливается террариум с жабами как устрашение для Дрыгалки, если бы она всё-таки опять нагрянула. Лида Карцева занимается со своей группой у себя дома, но на эти часы мать Лиды, Мария Николаевна Карцева, ложится с книгой на кушетке в гостиной. Рядом с нею — ваза с фруктами, коробка конфет. Если Дрыгалка придёт, Мария Николаевна усадит её в кресло, станет угощать, «заговаривать ей зубы» и одновременно ласковым голосом звать к себе Лиду:
— Лидуша! Лидуша! Посмотри, кто к нам пришёл! Какая гостья!
Это будет сигнал, чтобы девочки улепётывали по чёрному ходу.
Мария Николаевна очень увлечена игрой: её просто огорчает, что всё это — впустую и Дрыгалка не приходит!
— Лежу, лежу часами, — жалуется она своим детски капризным голосом, — а эта ваша колдунья не приходит!..
Но тут вдруг начинаются неожиданные события! И не в институте — и не в семьях учениц, — а в далёком мире, за тысячи вёрст от нашего города. Словно забили там в огромный колокол, и звон его загудел на всю Россию! Вся огромная страна содрогнулась и с гневом, потрясённая, прислушивается к его медному голосу.
На одной из больших перемен, когда мы завтракаем, сидя на излюбленной нами скамье около приготовительного класса, я вдруг замечаю в газете, в которую завёрнут завтрак Мели Норейко, печатные строки:
«…когда крестьянская девочка, Марфа Головизнина, бежала по лесу, она увидела лежащий поперёк лесной тропы прикрытый азямом труп неизвестного мужчины. Труп был без головы, от которой уцелел только грязный клок волос… У трупа не оказалось ни сердца, ни лёгких — они были кем-то вынуты. На трупе были следы уколов. Обвинение утверждает, что убитый человек был мучительно обескровлен ещё живым…»
Дальше прочитать я не могу: Меля держит бутерброд пальцами и закрывает продолжение своим мизинцем. Страшно заинтересованная этой мрачной историей с трупом без головы (я как раз перед тем прочитала «Всадника без головы» Майн Рида), я схватываю Мелю за руку:
— Убери пальцы с газеты!
— Что, что? — пугается Меля. — Какие пальцы? С какой газеты?
Я сама отвожу её пальцы, чтобы прочитать продолжение. Но, как говорится, «увы!» — газета тут и обрывается: никакого продолжения нет.
Я бесцеремонно заглядываю в другой Мелин пакет с едой, тоже завёрнутый в газету.
— Что ты делаешь, близковатая (сумасшедшая)? — сердится Меля. — Что ты меня пугаешь во время еды? Это вредно, я могу заболеть…
Но я не слушаю. Я нашла второй кусок газеты. Рассматриваю его. Нахожу следующие слова — они как будто продолжают прежде прочитанное о находке на лесной тропе:
«…Я был на этой тропе. Трудно себе представить место более угрюмое и мрачное. Кое-где проступают лужи, чёрные, как дёготь, местами ржавые, как кровь…»
Дальше опять оборвано.
— Больше газеты у тебя нет? — спрашиваю я у Мели.
— Взбесилась! Честное слово, она взбесилась! — всплескивает руками Меля. — На что тебе газета?
Но Лида, Варя, Маня, Катя, которым я дала прочитать найденные мною у Мели два клочка бумаги, так же взволнованы, как я.
— Надо в мусорном ящике посмотреть! — вдруг вспоминает Варя.
И мы все начинаем с остервенением рыться в мусорном ящике, как собаки в помойной яме. Но тут раздаётся звонок — конец большой перемены. И как раз перед звонком я успеваю выхватить из множества грязных бумажек, в сальных пятнах, кусок газетного текста, напечатанный таким же шрифтом, как куски, найденные прежде. Это опять только обрывок! И многих слов в нём не хватает — оторваны или запачканы.
«…Я посетил село Мултан. Я был на мрачной тропе, где нашли обезглавленный труп нищего Матюнина… Я ещё весь охвачен впечатлениями ужасной, таинственной, неразъяснимой драмы… И мне хочется крикнуть: нет, этого не было! Судом два раза осуждены невинные… в нашем отечестве не совершают уже человеческие жертвоприношения!..»
Мы стоим, словно окаменели. Мы повалили мусорный ящик, из него выпало много бумаги, объедков.
Но мы не идём в класс — мы не можем!
Первыми опоминаются Лида и Маня. Они торопливо запихивают в мусорный ящик всё его содержимое; мы помогаем, ставим ящик в угол и бежим в класс.
Хорошо, что последний урок — рукоделие. Думать о чём-нибудь, слушать объяснения учителей, отвечать им на вопросы мы бы, конечно, не могли. Меня минутами вдруг бьёт дрожь… Когда я смотрю на подруг, особенно на Лиду и Маню, я вижу, что они чувствуют то же, что и я.
После уроков мы молча одеваемся и так же молча выходим на улицу.
— Вот что, — говорит Лида, — это всё надо узнать точно.
— Конечно! — отзывается Варя. — Иначе даже и не заснёшь ночью!
Лида продолжает, словно говорит сама с собой:
— Что мы узнали из этих засаленных газетных клочков? Что в каком-то селе Мултан — где это? В Австралии? — нашли в лесу труп без головы, без сердца и лёгких… что кого-то обвинили в том, будто этого человека мучили… обескровили его… Будто это было какое-то человеческое жертвоприношение… За это два раза осудили невинных… А кто виноват на самом деле, кто это сделал, никто не знает!
Я смотрю на Лиду просто с восхищением. Как быстро она схватила смысл того, что прочитала в газетных обрывках, как толково она свела всё это в одно! Нет, удивительно она умная, Лида!
— Надо сделать так, — предлагает Лида, — я спрошу у моего папы. Ты, Маня, — у твоего, Шура — у Якова Ефимовича… Ещё и газеты посмотрим… Неужели же мы не узнаем всей правды?
— Я ещё спрошу у моего дяди Мирона, — предлагаю я. — Он, наверно, знает…
Варя говорит с огорчением:
— А моя бабушка газет почти не читает… Да я и не хочу её пугать — она ведь у меня старенькая…
— Конечно, не рассказывай бабушке!
Мы подходим к перекрёстку, где нам всем расходиться в разные стороны.
Я иду домой и думаю:
«А кто же писал эту статью, вон ту, которой клочки нам попались? „Я был там… я ещё весь охвачен тяжёлыми впечатлениями… И мне хочется крикнуть: не было этого! Суд осудил невинных!..“ Кто этот человек? Узнать бы это!..»
Дома я застаю и папу, и дядю Мирона, и дедушку. Мирон и дедушка сегодня у нас обедают.
Я вхожу в комнату и сразу, не здороваясь, спрашиваю:
— Папа! Что такое «село Мултан» и что там случилось?
Никто не удивляется моему вопросу. У меня почему-то даже мелькает уверенность, что именно об этом они сейчас разговаривали перед моим приходом. Но все молчат, переглядываясь.
— Что такое «Мултан»? Что там случилось? — повторяю я. — Ну, папа же!..
Папа смотрит на дядю Мирона.
— Мирон лучше может рассказать тебе… Он — юрист.
Мирон, как всегда, начинает ворчать:
— Ну конечно! Это несносный ребёнок! Всё ей надо знать, до всего ей дело есть… И при чём тут то, что я — юрист? Что ты хочешь? — говорит он сердито. — Чтоб я прочитал ей лекцию по философии права, да?
— Мне не надо никакой фаласофии! — возражаю я с железной уверенностью, что это слово произносится именно так, как его выговариваю я. — Я хочу знать, что такое «Мултан», кого там убили, кого судят, за что судят? А больше мне ничего не надо! Никакой фаласофии!
В конце концов Мирон объясняет мне.
— Село Мултан — в глухом краю Вятской губернии. Там, вперемешку с русским населением, живёт народ вотяки[1]. Народ немногочисленный (их всего 400 тысяч), малокультурный, но мирный и трудолюбивый. С русским населением вотяки живут дружно. И русские и вотяки живут тут крестьянской жизнью: обрабатывают землю, разводят скот, пчёл, ловят рыбу, курят смолу, промышляют охотой.
Три с половиной года тому назад около села Мултан нашли в лесу труп нищего вотяка, Конона Матюнина — вот так, как было напечатано в обрывках газеты: без головы, без сердца и лёгких, с уколами на теле. Врач, осматривавший труп, признал, что никакого прижизненного мучительства тут не было: уколы сделаны после смерти, тогда же вынуты сердце и лёгкие, голова тоже отрублена у мёртвого, а не у живого человека. И не обескровлен он.
И всё-таки местные полицейские и судебные власти решили, что тут совершено человеческое жертвоприношение вотяцкому божеству (хотя вотяки — христиане, православные)! Было арестовано несколько вотяков. Следствие велось два с половиной года! Велось, как Мирон говорит, непростительно небрежно. Суд был безобразный: обвиняемым не позволили даже вызвать своих свидетелей, которые их знают, которые могли бы показать на суде, что они не виноваты. Наконец, на суде обвиняемые показали, что на допросах их пытали и истязали, добиваясь от них, чтоб они признались в убийстве. Так же пытали и истязали свидетелей, вынуждая у них лживые показания. На суд был вызван «учёный энтограф», якобы знаток быта вотяков; он нёс несусветную чепуху и утверждал па основании народных сказок, — сказки-то ведь слагались много веков назад, да ещё он привёл-то сказки не вотяков, а черемисов! — будто бы у вотяков есть, существует обычай человеческих жертвоприношений. В конце концов обвиняемых признали виновными и приговорили к каторжным работам. Тем самым обвинили в людоедстве не только семь осуждённых вотяков, но и весь вотяцкий народ: раз эти семь человек принесли своему божеству человеческую жертву, значит, у вотяцкого народа вообще есть, существует такой страшный людоедский обычай.
Всё это нам рассказывает дядя Мирон, и надо отдать ему справедливость: хорошо рассказывает, очень понятно. Но мне этого мало.
— Значит, так это и будет? — спрашиваю я. — Их, несчастных, обвинили — и никто за них не вступится?
— Видишь, Мирон, — говорит папа, привлекая меня к себе. — От такого прокурора, как этот несносный ребёнок, ты так скоро не отделаешься!.. Успокойся, прокурор, — обращается папа ко мне, — нашлись люди, заступились за этих вотяков, добились того, чтобы дело было разобрано во второй раз…
— И их оправдали? — радуюсь я.
Взрослые снова переглядываются, словно советуясь, говорить мне всё или не говорить. Потом папа отводит глаза в сторону и бросает коротко, словно неохотно:
— Нет. Не оправдали. Опять осудили.
— И — конец? — спрашиваю я сдавленным голосом.
— Нет! — отвечает дядя Мирон. — Сейчас добились нового пересмотра дела. В третий раз! Он начнётся на будущей неделе.
— Ох! — вырывается у меня с таким облегчением, словно с меня скатилось придавившее меня к земле бревно. — Ох, как хорошо!..
Мама из столовой зовёт нас обедать. Папа и Мирон идут туда, а дедушка задерживается со мной в кабинете.
— А ты дурочка! — говорит он мне с упрёком. — Бросаешься, как сумасшедшая кошка: «Где? Кто? Что? Кого?» Ты бы дедушку своего спросила — дедушка читает каждый день не меньше трёх газет, — он всё-о-о знает, он бы тебе давно всё рассказал!
Вечером, когда я уже лежу в кровати, папа подсаживается ко мне, чтобы поцеловать меня на ночь.
— Папа! — вспоминаю я. — А кто же это заступился за вотяков? Кто добился пересмотра дела?
Папа секунду молчит. Потом отвечает:
— Писатель Короленко. Владимир Галактионович. Человек вроде нашего Павла Григорьевича.
— Революционер? — спрашиваю я шёпотом.
— Как видно, да. Сидел в тюрьме, был сослан куда-то, куда ворон костей не заносил. И писатель замечательный! Написал удивительную повесть — «Слепой музыкант»…
— «Слепой музыкант»? — радуюсь я. — Я это читала! Это чудно!
— Вот этот самый Владимир Галактионович Короленко услыхал про мултанцев ещё после того, как их судили в первый раз. Многие знали об этом, многие возмущались, — страшное ведь дело! Но никто во всей России не откликнулся на него так, как Короленко. Он жил тогда в Нижнем Новгороде — бросил всё, все дела и работы, и занялся только этими вотяками. Объехал и обошёл всю эту глухую часть Вятской губернии, опросил жителей, познакомился со всеми хорошими людьми, — они тоже возмущались мултанским делом, жалели несчастных вотяков… Во второй раз дело слушалось в городе Елабуге, и Короленко поехал туда. Он и его друзья — двое журналистов из Нижнего Новгорода — прямо подвиг совершили. Стенографисток на этом суде не было: местные власти не хотели, чтоб всё безобразие этого суда попало в печать, а ведь стенографический отчёт — это такой документ, в котором не пропадёт ни одно слово! Власти хотели, чтоб всё было записано бегло, расплывчато, чтоб можно было потом всё переиначить и в конце концов замести следы своего подлого поведения в деле мултанцев…
Папа, забывшись, рассказывает мне о мултанском деле и о Короленко громко, во весь голос. За стеной раздаётся сонный плач Сенечки: папа разбудил его.
Мама входит к нам и с укором, даже сердито, говорит папе:
— Яков, перестань кричать, как студент! Что ты её будоражишь ночью, когда ей давно спать пора! Она и так ходит сегодня весь день сама не своя, а ты ещё подливаешь масла в огонь. И Сенечку разбудил… Сию минуту скажи девочке «спокойной ночи», — и пусть спит.
Папа виновато говорит мне, разводя руками:
— Ну, братец ты мой… Значит, спокойной ночи — и всё!
Первый раз в жизни я так сержусь на маму!
— Хорошо, — говорю я (как мне кажется, «с достоинством», а на самом деле сердитым, кислым голосом). — Хорошо… Только я не усну ни на полминуточки, если папа не доскажет мне, что сделали на суде Короленко и его друзья, журналисты!
Мама безнадёжно машет рукой и выходит из комнаты. А папа, присев около меня, досказывает тихо то, о чём я прошу.
— Короленко и журналисты записали от слова до слова весь судебный процесс — весь, понимаешь? Они писали с утра до ночи три дня, на пальцах у них сделались кровоподтёки и мозоли от карандаша, но они записали всё! И спрятать это теперь уже невозможно. Вот что сделали писатель Короленко и его друзья журналисты! Ясно тебе теперь? Так спи!
— Папочка, миленький! — умоляю я. — Одно словечко, одно! А кто всю эту подлость сделал? Кто убил нищего и взвёл напраслину на вотяков, кто два раза осудил их?
Папа молчит, словно размышляет.
— Папа, честное, благородное слово, никому не скажу! Только одно слово: это сделало правительство?
Папа тихонько трогает мою косу, заплетённую на ночь.
— Ого! — говорит он. — Коса-то, коса, — и вправду коса! До половины лопаток доходит… — И, целуя меня, папа говорит шёпотом мне в самое ухо: — Да, правительство. Царское правительство… Спокойной ночи!
И уже в дверях, обернувшись ко мне:
— А Мирон-то ведь прав! Ты удивительно несносный ребёнок…
Назавтра Лида Карцева говорит мне как бы вскользь:
— У нас сегодня третий урок — закон божий. Ты свободна, — я тебе дам прочитать одну вещь… Тебе и Мане Фейгель. В гимнастическом зале прочитаете… Я взяла это у моего папы…
Два первых урока я сижу как во сне. С одной стороны, я прислушиваюсь к тому, как отвечают наши отстающие, с которыми мы занимаемся. С другой стороны, — скорее бы прошли эти два урока и Лида дала нам с Маней то, что обещала! Перед уроком закона божия мы бежим в «Пингвин», где Лида даёт нам брошюру. Я быстро прячу её под нагрудник школьного фартука.
— Только — смотрите! — говорит нам Лида многозначительно. — Помните!
Во всё время урока закона божия мы с Маней в гимнастическом зале торопливо читаем брошюру, которую нам дала Лида. Все остальные «инославные» — в особенности милая Зина Кричинская — не спускают глаз с двери, чтобы подать нам сигнал тревоги, если в зал войдёт кто-нибудь из синявок.
Брошюра озаглавлена так:
«Дело мултанских вотяков, обвиняемых в принесении человеческой жертвы языческим богам. (Составлено А. Н. Барановым, В. Г. Короленко и В. И. Суходоевым под редакцией и с примечаниями В. Г. Короленко)».
Мы с Маней читаем с жадностью, быстро, буквально давясь, чтобы успеть прочитать брошюру. Многое из того, что в ней напечатано, мы уже знали раньше. Очень многое мы узнаём впервые. Мы читаем, потрясённые, и, когда почему-либо наши пальцы встречаются, каждая из нас на секунду удивляется тому, какие ледяные пальцы у другой.
Больше всего потрясает нас описание того, как в городе Елабуге, при втором рассмотрении дела мултанцев, суд во второй раз вынес им обвинительный приговор.
"…Несколько секунд, — пишет В. Г. Короленко, — в зале царствовала гробовая тишина, точно сейчас сообщили собравшимся, что кто-то внезапно умер… Семь обвинённых вотяков стояли за решёткой, как будто ещё не понимая вполне того, что сейчас с ними случилось…
Я сидел рядом с подсудимыми. Мне было тяжело смотреть на них, и вместе с тем я не мог смотреть в другую сторону. Прямо на меня глядел Василий Кузнецов, молодой ещё человек, с чёрными выразительными глазами, с тонкими и довольно интеллигентными чертами лица… В его лице я прочитал выражение как будто вопроса и смертной тоски. Мне кажется, такое выражение должно быть у человека, попавшего под поезд, ещё живого, но чувствующего себя уже мёртвым. Вероятно, он заметил в моих глазах выражение сочувствия, и его побледневшие губы зашевелились… Он закрыл лицо руками.
— Дети, дети! — вскрикнул он, и глухое рыдание прорвалось внезапно из-за этих бледных рук, закрывших ещё более бледное лицо…
…В углу, за решёткой, за которой помещались подсудимые, стоял 80-летний старик Акмар, со слезящимися глазами, с трясущейся жидкой бородой, седой, сгорбленный и дряхлый. Его старческая рука опиралась на барьер, голова тряслась и губы шамкали что-то. Он обращался к публике с какой-то речью.
— Православной! — говорил он. — Бога ради, ради Криста… Коди кабак, коди кабак, сделай милость.
— Тронулся старик, — сказал кто-то с сожалением.
— Коди кабак, слушай! Может, кто калякать будет. Кто её убивал, может, скажут. Криста ради… кабак коди, слушай…
— Уведите их в коридор, — распорядился кто-то из судейских.
Обвиняемых вывели из зала…"
Мы прочитали. Мы с Маней смотрим друг на друга невидящими глазами. Словно мы побывали в зале елабужского суда, сами видели деда Акмара, сами слышали его наивную и трогательную мольбу, чтобы православные люди шли в кабак и прислушивались там к тому, что «калякает» (говорит) народ…
«Кто её убивал?» То есть кто убил его, нищего Конона Матюнина, в чём обвиняют их, семерых вотяков…
Но мы с Маней не плачем. То, что мы прочитали, нанесло нам такой удар, после которого можно только, крепко стиснув зубы, сжимать кулаки, ненавидеть, но не плакать!
— Вчера приехал мой брат. Студент… — шепчет мне Маня. — Он привёз список с письма, которое Короленко написал кому-то из своих друзей после второго суда над вотяками. Это в Петербурге читают все и передают друг другу из рук в руки. Возьми — и читай быстро. Скоро звонок…
И я читаю переписанное Маниной рукой письмо В. Г. Короленко:
«…Здесь приносилось настоящее жертвоприношение невинных людей — шайкой полицейских разбойников под предводительством прокурора и с благословения Сарапульского окружного суда. Следствие совершенно фальсифицировано, над подсудимыми и свидетелями совершались пытки. И всё-таки вотяки осуждены вторично, и, вероятно, последует и третье осуждение, если не удастся добиться расследования действий полиции и разоблачить подложность следственного материала. Я поклялся на свой счёт чем-то вроде аннибаловой клятвы и теперь ничем не могу заниматься и ни о чём больше думать. Теперь для меня есть семь человек, невинно убиваемых на глазах у всей России, и я до сих пор слышу их стоны после приговора…»
— Маня… — говорю я шёпотом, губы мои не слушаются, они дрожат. — А брат не говорил тебе, почему правительство делает это? Зачем?
Маня отвечает так тихо, что я слышу её только сердцем, взволнованным и потрясённым сердцем:
— Брат говорит: правительство понимает, что все недовольны им. Оно боится, как бы недовольные не сдружились, не сговорились между собой, — тогда бы они стали сильные и сбросили это правительство! И оно науськивает всех друг против друга, одни народы против других. Вот русский народ — добрый народ, великодушный, и его натравливают на малые народы — в России очень много малых народов, — ему рассказывают о них всякие подлые басни и байки, чтобы он их ненавидел. «Вот, — говорят ему, — видишь, рядом с тобой живут вотяки? Ты с ними дружишь, ты их не трогаешь, а они — твои враги! Они убивают людей и приносят их в жертву своим богам…»
— Маня, самое последнее, говори скорее, сейчас перемена: а кто же на самом деле убил этого нищего?
— Ну, это не хитрое дело. Нашли где-то труп нищего, может быть, он спьяну умер на дороге, в лесу, или замёрз. Отрубили у него, у мёртвого, голову, вынули сердце и лёгкие, искололи труп ножом… Врачи сказали ведь, что всё это сделано не на живом, а на мёртвом!
Раздаётся звонок к перемене. Я иду из гимнастического зала как оглушённая. В голове моей мысли мечутся, как белки… Как страшно, ох, как страшно думать обо всём этом!
И вдруг, словно солнце, в уме встаёт мысль о Короленко. Писатель, автор «Слепого музыканта», бросил всё, ринулся защищать маленький вотяцкий народ, обвинённый в людоедстве. Добился второго, а теперь уже и третьего суда! И ведь Короленко — не один. Папа сказал — «с ним все лучшие люди России»… Мне становится веселее!
На перемене Лида Карцева рассказывает мне как раз об одном из этих лучших людей России: об обер-прокуроре сената, сенаторе Кони, по заключению которого и происходит теперь третий разбор злополучного мултанского дела. Лида знает это от своего папы. Сенатор Кони, которому сенат поручил ознакомиться с этим делом и дать заключение, так и заявил: «В этом деле совершена жестокая ошибка. Обвиняются не какие-то отдельные люди, совершившие или не совершившие преступление, а обвиняется вместе с ними весь вотяцкий народ!»
Много времени спустя — через 25-30 лет — я познакомилась и встречалась с А. Ф. Кони. Было это уже после Великой Октябрьской революции, и А. Ф. Кони был уже бывший сенатор: революция упразднила сенат. Но Кони не злобствовал, как многие другие, не эмигрировал за границу: глубокий 70-летний старик, он принял революцию, он работал с Советской властью; писал воспоминания, читал лекции матросам Балтийского гвардейского экипажа и делал это с увлечением. Как-то в те годы я сказала ему: «Анатолий Фёдорович, когда я была маленькой девочкой, я восхищалась вашим поведением в деле мултанских вотяков!» А. Ф. Кони улыбнулся тонко и мудро и, помолчав, сказал: «Да. Это хорошее воспоминание моей жизни… Но восхищаться следует не мной, а Владимиром Галактионовичем Короленко».
Глава девятнадцатая. ПОСЛЕДНИЕ ИСПЫТАНИЯ
Двенадцатого мая начинаются у нас переходные письменные экзамены во второй класс. Первый экзамен — арифметика. Накануне начался третий суд над мултанцами.
Дрыгалка буйствует, словно вконец взбесившаяся собачонка. Нас рассаживают так, чтобы никто не мог ни списать, ни подсказать, ни помочь подруге. Скамьи установлены в актовом зале, и на них сидят девочки из обоих отделений — первого и второго, — вперемешку между собой. Справа от меня сидит «не-княжна» Гагарина, она же Ляля-лошадь, слева — Зоя Шабанова. Ляля-лошадь, обычно жизнерадостно ржущая деваха, сегодня мрачна, как зимние сумерки. Она смотрит на меня взглядом утопающей и мрачно говорит:
— Ни в зуб ногой!..
Это, очевидно, точное определение её знаний.
Зоя Шабанова шепчет мне:
— Сашенька, поможешь?
— Конечно, помогу!
— И мне? — спрашивает с надеждой Ляля-лошадь.
— Помогу! — обещаю я уверенно.
Но это оказывается, ой, как трудно! Экзамен по арифметике, и Фёдор Никитич Круглое даёт экзаменационные задачи и примеры так, что каждый вертикальный ряд девочек решает не то, что соседний. То же самое, что решаю я, решает та девочка, которая сидит впереди меня, и та, которая сидит позади. А соседки мои по горизонтальному ряду — справа и слева — решают другую задачу и другие примеры. Как им помочь?
Каждой из нас дано два листка бумаги — пронумерованных! — для черновика и беловика. Я делаю вид, что мне трудно, что у меня что-то не ладится: насупливаю брови, сосредоточенно смотрю в сторону. Смешно сказать, но мне действительно немного мешает непривычность того, что я вижу из окна. В классе, окна которого выходят на улицу, я привыкла видеть поверх той части стёкол, которые закрашены белой масляной краской, кусок огромной вывески на доме визави:
…СКАЯ ДУМА И УПРАВА
Это часть вывески: «Городская дума и управа». А над домом думы и управы я всегда вижу пожарную каланчу и высоко-высоко на её вершине шагающего дозором по балкончику дежурного по пожарной охране города. С балкончика пожарной каланчи, говорят, виден весь город: чуть где загорится, дежурный поднимает тревогу, и из думского двора с громом и звоном выезжает пожарная команда. Выезд пожарных нам в институте не виден: ведь наши окна до середины закрашены. Но в самых звуках пожарного поезда, в звонках, коротких криках команды, в грохоте и металлическом скрежете есть что-то одновременно и беспокойное, и бодрящее, и тревожное, и успокаивающее:
«Пожар, пожар! Горим! Помогите!»
«Едем, едем, едем! Держитесь, — выручим!»
Здесь, в актовом зале, окна не закрашены, но в них не видно, за ними не угадывается никакой жизни: они выходят не на улицу, а на институтский двор с садом. Сейчас, когда во всех классах идут экзамены, во дворе и в саду не видно ни одного человека. Только по тополям иногда проносится поглаживающий ветер, под которым шевелятся их серебристые листья.
Я уже решила задачу в черновике, но нарочно не тороплюсь переписывать её набело: ведь чуть только Дрыга увидит, что я кончила, надо будет подать листок с решением — и уходить. А у моих соседок дело, видимо, идёт плохо. Перед ними лежат чистенькие оба листка: и черновой, и беловой. Надо их выручать.
Зоя Шабанова смотрит на меня умоляюще, Ляля-лошадь явно собирается заплакать. Улучив минуту, когда и Дрыгалка, и классная дама первого отделения (по прозвищу «Мопся») находятся на другом конце, я быстро схватываю чистенький, без единой цифирьки, с одним только заданием черновой листок Зои Шабановой и подсовываю ей свой беловой листок, тоже ещё чистый. Зоя делает вид, что углубляется в работу, а я быстро решаю её задачу и примеры — и снова меняюсь с ней листками. Вся эта операция проходит, как по ниточке! Никто ничего не заметил! Зоя спокойно переписывает то, что я ей решила. Но только я хочу проделать тот же фокус с Лялей-лошадью, как их Мопся становится как раз у нашего горизонтального ряда и не спускает с нас глаз. Просто как неподвижный телеграфный столб! Тут же подходит и наша обожаемая Дрыгалка и нежным голосом (обе синявки разыгрывают друг перед другом комедию сердечной дружбы со своими воспитанницами) говорит мне:
— Что же это вы так долго, Яновская? Неужели не решили?
— Евгения Ивановна, я решила, но хочу ещё раз проверить…
— Правильно, Яновская! Правильно! — от души одобряет меня Дрыгалка и говорит негромко Мопсе: — Очень хорошая девочка…
Эго — про меня' Про меня, которую она весь год травила! Я смотрю в свой листок и мысленно говорю:
«А, чтоб ты пропала!»
Совсем как мой дедушка, когда он читает в газете, что английская королева Виктория сделала что-нибудь, что ему, дедушке, кажется неправильным.
Наконец обе синявки проходят дальше. Я повторяю с Лялей-лошадыо то же, что с Зоей Шабановой. Ляля-лошадь перестаёт рыдать и прилежно списывает набело то, что я ей подсунула.
Тогда я переписываю своё и подаю на столик экзаменаторов, за которым сидят Колода и Круглое.
Фёдор Никитич быстро просматривает мой листок, смотрит на итог задачи и примеров и одобрительно говорит:
— Молодец, Яновская! Всё правильно. И почерк какой стал славный…
И я ухожу из зала довольная: я решила задачи для Зои Шабановой и Ляли-лошади!
Почти бегу по коридору (а этого ведь нельзя: надо «плавно-тихо-осторожно»!), скатываюсь с лестницы и, на ходу одеваясь, бегу к двери на улицу.
— Куда так спешно, Шура? — шутливо-кокетливо кричит мне розоволицая Леля Хныкина — та, которую «обожает» Оля Владимирова. — Вас кавалер ждёт на улице, да?
— Да, кавалер! — И я вылетаю на улицу.
Вот он, мой дорогой кавалер! Пришёл! Стоит на углу и ждёт меня. Это дедушка. Он вчера обещал мне, что встретит меня на улице, сообщит мне газетные известия о мултанском деле.
— Дедушка, миленький… Ну?
Но дедушка очень хмурый.
— Не «ну», а «тпру»! — ворчит он. — Пока всё очень плохо.
И он объясняет мне. Процесс начался вчера. Состав суда — плохой («на помойку!» — по дедушкиному выражению): и судьи, и прокурор — все те же, которые уже два раза в прошлом осудили мултанцев. Чего же можно от них ожидать? Они, конечно, в лепёшку разобьются, чтобы доказать, что они были правы, что вотяки виновны, что незачем было огород городить, и в третий раз ворошить это дело.
Но самое грустное, по словам дедушки, то, что очень плохой состав присяжных. Ведь вопрос о виновности или невиновности подсудимых решается на основании мнения присяжных: если присяжные сказали «да, виновны!» — судьи уже не могут оправдать подсудимых. Поэтому очень важно, чтоб присяжные были как можно более культурны, как можно более умны и толковы, — в особенности в таком процессе, как мултанский, где надо хорошо разбираться во всей клеветнической стряпне полиции, во всей грязи лжесвидетельства и всякого вранья… А тут присяжных нарочно подобрали самых тёмных, неграмотных: такие легко поверят всяким бабьим сказкам о том, будто бы вотяки каждые сорок лет приносят человеческую жертву своим языческим богам.
— Опять же… — говорит дедушка, — опять же плохо: не позволили защите вызвать на суд ни одного свидетеля. А свидетелей обвинения — сплошь лжесвидетелей! — на этом процессе выставили ещё на одиннадцать человек больше, чем в прежних двух процессах! Конечно, — добавляет дедушка, — пока человек хоть немножко ещё дышит, надо верить, что он будет жить. Будем думать, что и мултанцев оправдают… Но что-то похоже, что их закатают на каторгу!
Мы стоим с дедушкой на углу улицы и молчим.
— Ну что ж… — вздыхает наконец дедушка. — Повеселились мы с тобой — и довольно. Пойдём домой.
Но мне нужно дождаться, пока выйдут все мои подруги, — узнать, кто как сдал, не провалились ли наши «ученицы». Я прошу дедушку сказать дома, что я экзамен выдержала, и возвращаюсь в институт. Дедушка уходит домой.
Наши выдержали — все до единой! Есть срезавшиеся из числа учениц первого отделения. Всего удивительнее — срезалась Ляля-лошадь! Она не решила задачи — вернее, её мозгов не хватило даже на то, чтобы хоть списать то, что решила для неё я. Зоя Шабанова — та выдержала экзамен и очень довольна. А Ляля-лошадь ревёт коровой и — самое великолепное! — обвиняет в своей неудаче меня.
— Она… у-у-у! Она… гы-ы-ы! нарочно… Она мне неверно решила, чтоб я срезалась…
То, что я выручала её, рискуя — в лучшем случае! — отметкой по поведению, а может быть, даже исключением из института (ведь со мной бы церемониться не стали: исключили бы — и всё), — идиотка Ляля этого не понимает, не хочет понимать. А ведь я уверена, что, если бы мне пришлось плохо и она, Ляля-лошадь, могла спасти меня, она бы для этого пальцем о палец не ударила! К счастью, другие девочки из её же — первого — отделения стараются вправить ей мозги!
— Ведь она тебе помогла! — говорят они Ляле.
— Да-а-а… Как же! Помогла она мне! — продолжает всхлипывать Ляля-лошадь. — Нарочно… нарочно мне неверно написала… чтоб я срезала-а-ась… У-у-у, какая!
— Что ты на неё смотришь! — сердится на меня Лида Карцева. — Она — лошадь, ну и ржёт! Не стоит из-за этого огорчаться, Шурочка!
В эту минуту Ляля лезет в карман за носовым платком и вместе с ним вытаскивает какой-то листок бумаги. Варя выхватывает у неё из рук этот листок.
— Вот оно! Вот решение, которое тебе написала Шура! — торжествует Варя. — Ну вот, смотрите, все смотрите, верно Шура ей решила ил нет?
Все разглядывают листок и удостоверяются в том, что Ляля-лошадь обвинила меня облыжно: на листке моей рукой написано совершенно правильное решение задачи и примеров. Кто-то предусмотрительно рвёт листок в клочья и бросает их в мусорный ящик, чтоб не попался в руки синявок.
С этого дня у всей нашей компании девочек жизнь течёт, словно две набегающие друг на друга струи: всю неделю мы через день сдаём письменные экзамены (по арифметике, по русскому и французскому языкам) и ежедневно читаем газетные известия о ходе суда над мултанскими вотяками. Экзамены, хоть мы и волнуемся, протекают нормально и успешно. Зато течение суда — неровное, тревожное. То кажется, что все повёртывается для подсудимых хорошо, то внезапно наступает резкое ухудшение. За подсудимых самоотверженно борются В. Г. Короленко и один из знаменитых адвокатов России, петербургский присяжный поверенный Н. П. Карабчевский. (Короленко уговорил, увлёк Карабчевского заняться делом вотяков, — и все знают, что Карабчевский не берёт никакого вознаграждения за эту защиту.) Короленко, Карабчевский, группа местных адвокатов дерутся за жизнь вотяков, за честь всего их народа — там, в зале суда. Но все честные люди во всей России в течение восьми дней живут этим делом, волнуются, тревожатся, надеются, спорят, строят догадки и предположения. Всё это создаёт такое напряжение, словно миллионы проводов соединяют семерых вотяков на скамье подсудимых в городе Мамадыше со всей остальной Россией. И каждая самая маленькая подробность судебного дела гудит по этим проводам, как по туго-туго натянутым струнам…
Наконец экзамены наши кончены. Завтра нам выдадут годовые «Сведения об успехах и поведении». Завтра же будет объявлен приговор по мултанскому делу.
Вечером папа возвращается домой с необыкновенно таинственным лицом:
— Я тебе сейчас покажу такое! До потолка подпрыгнешь… — И он достаёт из кармана бережно завёрнутую в бумагу фотографию. — Смотри — Короленко!
На фотографии кудрявая голова и густо заросшее бородой лицо. Из этих обильных волос смотрят глаза, необыкновенно добрые, чистые, умные. А в этих глазах — та правда, которую не затопчешь, не утопишь, не сгноишь в тюрьме. Правда, которая не согнётся, не заржавеет, не сломается.
— Это мне — насовсем? — спрашиваю я.
— Нет, только посмотреть… Это у меня такие больные есть, — Короленко подарил им свою фотографию. Они ею очень дорожат… Знаешь, — вспоминает папа, — что они мне ещё рассказали? Когда Короленко уезжал из Петербурга на суд над мултанцами, заболела одна из его дочерей. Он знал, что девочка больна смертельно, что он, может быть, никогда больше не увидит её, — и всё-таки поехал!
Помолчав, папа добавляет:
— А девочка на днях в самом деле умерла…
На следующий день у нас выдают «Сведения об успехах и поведении». Переведены в следующий класс почти все, кроме трёх или четырёх отпетых лентяек. Лида Карцева, Маня Фейгель и я переведены в следующий класс с первой наградой — с похвальным листом и книгой. Тамара Хованская переводится со второй наградой — с похвальным листом.
«Сведения» раздаёт нам Дрыгалка. Мы сидим в классе, как на уроке. Дрыгалка называет наши фамилии по алфавиту. Каждая выкликнутая ею девочка выходит из-за парты, приближается к столику, за которым сидит Дрыгалка, и получает из её рук листок «Сведений». Мы все такие весёлые, счастливые, каждая из нас готова броситься на шею даже Дрыгалке и расцеловать её! Однако самой Дрыгалке это чудесное, настроение не передаётся: она, как всегда, сухая и чужая. Каждой девочке она даёт листок «Сведений» и говорит своим бумажным голосом:
— Поздравляю вас…
Девочка «макает свечкой», потом берёт свой листок и возвращается на место.
«Сведения» розданы. В последний раз в этом году читается молитва после ученья:
…"Благодарим тебе, создателю, яко сподобил еси нас благодати твоея во еже внимати ученью. Благослови наших начальников, родителей, и учителей, и всех, ведущих нас к познанию блага"…
— А теперь, — напоминает Дрыгалка, — ступайте вниз. Пара за парой. Не шаркать, не топать, не возить ногами… Одеться и уйти!
И уходит.
— Нельзя сказать, — говорю я Лиде, — чтобы Дрыге было очень грустно расставаться с нами!
Лида серьёзно отвечает:
— А нам? Нам разве грустно расставаться с ней? Мы только оттого и счастливы, что больше её не увидим!
На углу улицы меня ждёт дедушка. Он издали машет мне газетой и кричит:
— Оправдали! Оправдали!
Вот она, правда! Верно говорят люди, что её нельзя ни утопить, ни запереть в каменную тюрьму, ни зарыть в землю: правда снесёт все запруды, она пророет себе путь под землёй, она проест железо и камень, она встанет из гроба! Мне невольно вспоминаются «Ивиковы журавли». Мултанские вотяки оправданы и свободны! С дедушкой и группой моих подруг мы приходим в соседний Екатерининский сквер, занимаем две скамейки. Дедушка просто расцвёл от радости! Ещё недавно Юзефа сокрушалась:
«Наш старый пан аж с лица спал через тех румунцев…» (Румунцы, всякий понимает, — это вотяки.)
И действительно, в последние дни, когда исход процесса казался неблагоприятным, дедушка положительно не находил себе места от тревоги и беспокойства. Сейчас вотяки оправданы, я перешла с первой наградой, дедушка смотрит на мир гордо и весело, как цветущий пион.
— Девочки… — говорит Маня, обычно такая робкая и молчаливая. — Как хорошо, девочки! Ну чего, чего нам ещё надо, когда всё так хорошо?
Где-то близко слышен знакомый приятный голос, выпевающий:
— Сах-х-харно морожено!
— Вот оно! — говорит дедушка. — Вот чего вам надо… Я сейчас угощу вас всех мороженым!
Через минуту-другую Андрей-мороженщик со своей кадкой на голове подходит к нашим скамьям. Спокойно, неторопливо он снимает с головы кадку, ставит её на землю, разминает рукой замлевшую шею.
— Никак, старый господин Яновский? — вглядывается он в дедушку. — И Сашурка-бедокурка!..
Так же узнает он почти всех присутствующих.
— А что, господин Яновский, — спрашивает Андрей, — тех басурман-то, слышно, оправдали, слава богу?
— Они не басурманы! — отвечает дедушка. — Они — люди. Их хотели зазря закатать на каторгу, — не вышло!
— Не попустил господь! — крестится Андрей.
Мы переглядываемся с Лидой, Маней, Варей. Мы знаем: не бог спас мултанских вотяков, а писатель Короленко и все те, кто боролся вместе с ним за этих несчастных людей. Хорошо, что есть на свете такие люди, как Короленко!
Мы с наслаждением едим мороженое. Андрей скатал нам шарики наполовину из сливочного, наполовину из крем-брюле, или, как его называет Андрей: «крем-бруля».
— Вкусно! — причмокивает Меля. — С ума сойти!
В аллее сквера показывается человек. Юношеская фигура его кажется мне знакомой… Но почему он шагает, сгорбившись, как старик, словно согнувшись под непосильной тяжестью?
— Дедушка! Посмотри! Ведь это же…
— Ну да! Это наш Пиня… Пиня! — зовёт дедушка.
Пиня подходит, всё такой же удручённый, волоча усталые ноги. Видно, он давно ходит по улицам… Он очень исхудал, лицо его почернело. Похожая на чёрную слезу бородавка в углу Пининого глаза ещё усиливает мрачность его лица.
— Что с тобой, Пиня? Ты же чёрный, как головешка… Случилось что-нибудь?
— Несчастье… — глухо отвечает Пиня. — Не могу сдавать экзамены при округе…
— Почему? В чём дело?
— Уже было назначено: в среду. Так вот — здрасте! — ввели новый экзамен: французский язык… Ну, я вас спрашиваю: разве нельзя было объявить это полгода тому назад? Нет, накануне экзаменов! Ведь это же насмешка! Сорок три человека трудились — и на тебе! Научитесь по-французски, тогда будем вас экзаменовать… Теперь уж не раньше, как осенью!
Дедушка сосредоточенно думает.
— Сашенька! Ты можешь заниматься с Пиней по-французски?
— Конечно, могу! — отвечаю я, обрадовавшись. — Только… а как же… ведь мы на днях переезжаем на дачу…
— Что значит «на дачу»? — спрашивает Пиня. — Я буду ходить к вам на дачу!
— Но ведь это три версты от города!
— Что значит «три версты»? А пусть бы хоть тридцать три! Я буду ходить каждый день, хоть два раза на дню… Только занимайтесь со мной, я за вас буду бога молить!
Лицо Пини, его глаза словно говорят:
«Я пройду через всё. Я ничего не испугаюсь и ни перед чем не отступлю! Я хочу учиться — понимаете? — хочу учиться! И я добьюсь своего, чего бы это мне ни стоило!»
Мы все невольно замолчали перед этой страстной волей к знанию. Мы смутно понимаем, что в этом есть какая-то сила, внушающая уважение.
— Слушайте, Пиня… — робко, как всегда, говорит Маня, — Вы говорите, там много таких, как вы… Я могу заниматься с которым-нибудь из них… Даже с двумя, — я ведь никуда не уезжаю, буду всё лето в городе.
— И я могу взять второго ученика! — спохватываюсь я.
— Я тоже возьму двоих! — говорит Лида. — Можно поговорить и с другими девочками, чтоб и они…
На лице Пини — такое сияние, что просто нестерпимо глядеть: как на самое яркое полуденное солнце!
— Спасибо вам… Я сейчас побегу. Скажу всем остальным… Ох, они обрадуются!
И Пиня стремглав убегает, от радости он даже забыл попрощаться.
— Девочки! — говорит Лида очень серьёзно. — Надо сегодня же заняться этим делом. Поговорить со всеми. Чтоб все эти мальчики могли учиться по-французски и сдать осенью экзамен. Обязательно!
— А вот доешьте своё мороженое — и ступайте себе! — одобряет дедушка.
Как раз в эту минуту в одном из соседних дворов шарманка начинает играть модный вальс «Невозвратное время». Мы прислушиваемся — и, словно по команде, пускаемся парами плясать в аллее сквера!
— Девочки! — пытается дедушка остановить нас. — Здесь же сквер, неудобно!
— Пускай пляшут! — добродушно говорит Андрей. — Кому ж и плясать, как не им! Русскую пословицу знаете? «Концы сыты — и серёдка весела. Серёдка сыта — и концы играют».
Мы пляшем! Сейчас мы побежим искать «учительниц» для товарищей Пини… Мы пляшем, хотя вокруг нас всё теснее и ближе смыкается холодная, злая жизнь, хотя нам ещё целых шесть лет надо учиться в нерадостном, мрачном институте…
Ничего! Мы одолеем эту учёбу! Мы осилим зло и несправедливость! Мы ещё увидим новую жизнь!..
Москва, 1957-1958 годы
Конец второй книги
Примечания
1
ныне в Советской стране они называются удмуртами
|