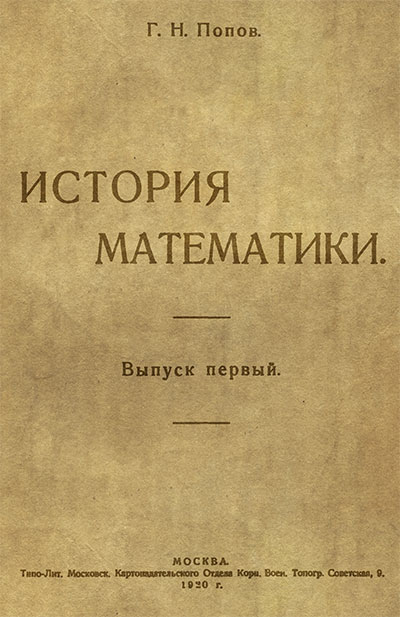Предисловие.
Предлагаемый курс лекций пр истории математики является сокращенной переработкой большого специального труда, на который автор затратил много сил и времени и по независящим от него обстоятельствам лишен возм жно-сти его обнародовать, по крайней мере, в ближайшем будущем. Отсутствие курсов, посвященных этому вопросу, в нашей историко-математический литерат1 ре с одной ст раны, потребность, в таковом для слушателей — будущих преподавателей математики с другой — побудили меня к осуществлению в виде этого курса той программы, согласно которой я должен читать лекции.
Задача курса осветить в сбщих чертах ту неустанную и кропотливую работу человеческой мысли, которая на протяжении нескольких десятков веков, отделяющих вавилонских и египетских математиков от Лагранжа, Вейер-штрасса и Пуанкаре, создала величественное здание современной математической науки.
Руководясь тем, что история науки является историей возникновения и развития научных идей в их преемственной связи, я пытаюсь проследить эту связь, начиная с донаучного периода, знакомству с которым приписываю исключительное значение, и в дальнейшем изложении стараюсь разбирать исторические факты, как в их взаимоотношениях, так и в связи с общим ходом культурноисторического процесса.
Считая свой труд далеким от совершенства, я преследовал единственную цель — быть объктивным в изложении фактов и потому не поддавался соблазну проводить исторические аналогии и делать искусственные сближения в целях непременного получения определенных выводов, тем где это по существу трактуемых вопросов могло оказаться натяжкой.
Но с другой стороны, там, где я по состоянию исто рических данных в отношении разбираемых фактов мог без риска пользоваться вышеуказанными рессурсами — я старался их исчерпать до конца.
Исключительные, условия спешности составления этого курса могли повлечь за собой неизбежные промахи и за них я заранее извиняюсь перед читателями, но в оправдание мне может служить в этом случае то обстоятельство, что в русской литературе по истории математики, и без того весьма бедиой, мой курс является «первым шагом» в направлении разработки фактического материала новыми приемами, сущность которых легко выяснится при чтении.
При составлении курса мне пришлось пользоваться целым рядом источников, преимущественно иностранных, и, конечно, в первую очередь, трудами Ганкеля, М. Кантора, П, Таннери, Р. Болла, 3. Гюнтера, Цейтена, Тропфке и других, если ограничиться сочинениями общего характера. В самом курсе при историографическом обзоре, а дальше и в тексте я указываю те специальные исследования, (рассеянные, главным образом, по научным журналам) к которым я обращался за справками, не считая первоисточников.
Введение.
«Lignorance et incuriositd sont un mol et doux chevet pour rdposer une t?te bien faite».
Montaigne.
«Все люди от рождения приносят с собой способности к математике. У одних они рагвиваются, а у большинства совершенно не развиваются, атрофируются и это зависит только от недостатков обучения и упражнения. Цель этих способностей заключается в постепенном открытии законов, которым подчиняется мир».
Ламэ.
Математика — самая простая и в то же время самая сложная из всех известных человечеству наук. Это звучит несколько парадоксально, но это так: она проста в своих основных положениях и необычайно сложна в следствиях, логически вытекающих из этих положений.
Еще Кант высказался определенно в том смысле, что всякую науку можно считать таковой, поскольку в ней есть математика. Отсюда можно вывести во первых, что метафизик, дающий такую трезвую и правильную оценку этой науке, не ставит во главу угла увлечения чисто философскими умозриенями, а во вторых, авторитет такого крупного мыслителя, с суждениями которого считаются до сих пор, дает возможность категорически утверждать, что если в эпоху Канта состояние математических знаний вынудило его признать за ними доминирующее значение, то последующее развитие их показало, что вне математики нет истинной науки. Не в обиду будь сказано представителям многих областей знания, они поневоле читают наукой суррогат таковой, имеющийся в их распоряжении, и чем дальше, чем оторваннее область знания (по характеру своих задач и объктов исследования) от математики, тем менее она может претендовать на звание науки. Накопляется опыт, совершенствуются методы, создаются ценные обобщения, с утилитарной точки зрения могут быть достигнуты поразительные результаты — и все же этого недостаточно. История развития научных идей показывает нам на ряде ярких примеров, что только тогда, когда в эту область протягиваются нити, устанавливающие связь с математикой, когда факты и явления начинают поддаваться математическим методам исследования — возникает возможность строго научного обоснования исходных положений. Оставляя в стороне механику, астрономию, физику, как дисциплины, развитие которых тесно связано с расширгнием и углублением «математики в самой себе», поставим вопрос в самой категорической форме: «Может ли химик, если только он не замкнулся в узкий круг удовлетворения чисто — практическим потребностям, обойтись без м атематики? Могла ли развиться экспериментальная психология без пользования данными этой науки? Могла ли статистика возвыситься до степени научной дисциплины без заимствований для обработки сырого материала из анализа и теории вероятностей? Знание математики нужно и врачу, и биологу и географу. Нам скажут, что сложность вопросов в некоторых случаях исключает возможность пользования данными анализа, сошлются на то, что у самой математики нет подходящих для этого средств. Подобные ссылки нередко приводятся в оправдание того всем обще известного факта, что с математикой у нас слишком мало знакомы, однако оправдание это довольно слабое. Не владея богатейшими рессур-сами этой науки, нельзя безапелляционно утверждать, что эти рессурсы неприменимы к исследованию тех, или иных вопросов. И отсюда единственный, сам собой напрашивающийся, вывод, что широкое знакомство с завоеваниями математики необходимо всякому исследователю в любой области. Нам могут возразить, что научное обоснование некоторых положений — вопрос времени и что сама математика далека в настоящее время от совершенства в деле выработки универсальных методов, что и она, как всякая другая научная дисциплина, находится в стадии непрерывной эволюции. Все это совершенно справедливо, но от этого высказанное нами выше утверждение ничего не теряет в своей силе: чтобы «наука качества» стала наукой, она должна подчиниться «науке количества». Оставаясь при твердом убеждении, что до настоящего времени в ряде известных нам наук только математика вполне заслуживает названия таковой, мы естественно приходим к необходимости выяснить понятие «наука» и показать, что этому понятию математика удовлетворяет исчерпывающим образом. Поэтому то она и является тем идеалом, которому всякая другая наука стремится, или должна стремиться подражать, и тем ближе к званию науки подходит комплекс идей, чем у него больше связи с математикой. Таковы механика, астрономия, в несколько меньшей степени физика. Еще древне греческие геометры, обозначая сумму математических знаний словом «матезис» (буквально — предметы изучаемые), этим самым ясно указывали на точку зрения, которой они держались в своей классификации знаний. От практической арифметики, от «счетного искусства», называвшегося «логистикой», греческий ученый с презрением отвертывался. В его глазах истинной наукой была, главным образом, геометрия с ее выдержанной строго-логической системой. Для того времени действительно «Начала» Эвклида были образцом научной мысли именно потому, что это были не просто знания, а знания, приведенные в систему, знания упорядоченные.
Научное мышление отличается от не научного способностью предвидения. Процесс познавания сводится, вообще говоря, к выявлению наличности соотношения. Процесс научного познавания есть разяснение характера этого соотношения. Всякий раз, когда совершается переход от предвидений качественных к предвидениям количественным, по знание поднимается одной ступенью выше.
Наш знаменитый соотечественник, геометр Лобачевский сказал: «Кажется, нельзя сомневаться ни в истине
того, что все в мире может быть представлено числами, ни в справедливости того, что всякая в нем перемена и отношение выражаются аналитической функцией».
Чистая математика, являясь системой формальных законов, допускает приложение их к исследованию объктов, независимо от их природы. В математические символы можно вкладывать какое угодно содержание, общность выводов содействует постоянному расширению границ их применимости, короче говоря, вся математика есть олицетворенный принцип количественного предвидения — вот почему все так называемые индуктивные науки ищут опоры в математике, где всякому факту соответствует закон.
Чем более степень приближения к этой идеальной форме познания, тем более прав у той, или иной дисциплины на звание науки и, при настоящем состоянии наших знаний, мы во многих случаях далеки от этого идеала, но импульсом всякой научной работы должно быть стремление к его достижению.
В области наук исторических, в частности, в истории науки мы оказываемся в этом отношении в самых неблагоприятных условиях и вследствие разнообразия сырого и необработанного материала и вследствие сложности возникающих при его обработке вопросов. Трудность исследования усугубляется пробелами в знании .подчас целых эпох, слабым развитием вспомогательных дисциплин, отсутствием надлежащих методов критического анализа научно-исторических памятников — все это в совокупности заставляет быть крайне осторожным в выводах и обобщениях, препятствует установлению законов исторического хода развития науки и следовательно лишает нас элемента предвидения.
Может быть этим объясняется отчасти бедность научноисторической литературы. Неблагодарность задачи останавливает многих, что же касается того, что в этой области уже сделано, то дальнейшее знакомство с историографией даст нам немного утешительного. Мы далеки от мысли считать при современном состоянии этого вопроса историю математики наукой в вышеуказанном смысле. Но как и во всякой другой области исторического исследования, попытка к систематизации материала с целью получить ряд выводов, уясняющих хотя бы до некоторой степени связь между прошлым и настоящим науки, есть шаг вперед, такие шаги уже делаются и чем их будет больше, тем мы окажемся ближе к возможности трактовать «историю математики», как науку.
Предмет «истории математики» состоит в анализе возникновения и эволюции математических идей, указания хода их постепенного развития в том, или ином направлении и, наконец, в выяснении законов, коими это развитие обусловлено.
Если смотреть на математику, как на «особую форму мышления», то знакомство с историей ее развития заслуживает внимания уже по одному тому, что в ней отражается в любом ее фазисе «культурность» народа в самом широком смысле этого слова.
И если до последнего времени наиболее видные представители истории культуры игнорировали (чаще всего неумышленно, а вследствие недостаточного знакомства) данные истории развития точных наук, то вдвойне непростительно трактовать это последнюю обособленно от общих завоеваний человеческого духа, т. е. не считаясь с результатами, добытыми в области так называемой духовной культуры, путем изучения в первую очередь древнейших памятников, сохранившихся и дошедших до наших дней.
Спенсер говорит (The genesis of Science): « Если история наук начинает их рассмотрение только с того момента, когда оне приняли уже определенную форму, и опускает из виду первоначальные шаги, зарождение науки, то — эта история не будет полна. Если философия наук, трактующая об их развитии и соотношении, не займется исследованием вопросов о том, как каждая наука выделилась из общего хаоса первоначальных идей и развилась самостоятельно, то эта философия будет иметь важные недостатки, а может
быть и просто противоречия истине. Не только прямое исследование занимающего нас предмета, но даже аналогия указывает нам, что ключ к позднейшим осложнениям должно искать в начальных и простейших периодах знания-Если мы оставим без внимания эмбриологию науки, не будем ли мы введены в заблуждение относительно принципов ее эволюции и современной организации?
Я должен добавить, что оыт некоорых историков науки показал, что в этом случае мсбкно пгидти к односторонним и нередко ошибочным заключениям, рисуя себе историческое прошлое науки в совершенно искаженном виде.
Непонятные знаки и рисунки на стенах пещер и скал, полуистлевшие папирусы и надписи на стенах храмов, клинописные глиняные таблички древнего Вавилона, образцы узлового счета, геометрическая орнаментика, календарные записи и образное письмо древних мексиканцев — вот материал, который должен привлекать взоры пытливого исследователя. Без помощи археологии, этнографии и сравнительного языковедения, без опоры на целый ряд вспомогать льных дисциплин историк культуры не рискнет сделать ни одного вывода, обязывал к тому же образу действий и историка математики.
Необходимость изучения истории науки и польза этого изучения.
I
Вильгельм Оствальд в своей «Истории электрохимии» считает историю науки средством исследования. «Она дает метод для открытия истины, или для развития науки, но не является сама предметом научной работы. Или, если она и является таковым, то не как история, по крайней мере».
Таким образом история науки является служебной, вспомогательной дисциплиной и в самостоятельном значении ей отказывается. С этой точкой зрения согласиться трудно, т. к. в основе ее лежит односторонний взгляд на значение
науки, взгляд утилитарный, по поводу чего Оствальд в дальнейшем высказывается более определенно, находя, что «корни познания были и остались в твердой почве человеческих потребностей и человеческой деятельности».
Это справедливо по отношению к первым робким шагам на пути познания, в период господства индукции, как единственно доступного метода в накоплении знаний, т. е. задолго до формирования знаний научных. Но развитие науки в последующие периоды показывает нам, что сводить ее значение исключительно к «пользе» нет никаких оснований, т. к., по мере углубления в анализ той, или иной научной концепции, возникает «интер с» к знанию, независимо от его практической применимости, создается идеальное стремление к расширению области познания, завершающееся установге ием ..философии науки» и отвечающее эстетическим потребностям исследователя.
Если бы в сфере математических идей те, кто посвящает свои силы их разработке, ограничили бы себя утилитарными, или альтруистическими побуждениями, математика никогда не достигла бы той степени совершенства, глубины и крас ты мысли, которая обеспечивает ей первое место в ряду наук. Практика ставила и ставит задачи и многие из них математика блестяще разрешает только потому, что в ее распоряжении имеется богатейший арсенал средств для научного анализа фактов и явлений, средств, возникающих из рассмотрения взаимоотношений частей науки безотносительно к соображениям конкретного характера.
Сошлюсь на авторитетное суждение Пуанкаре ((Science et methcde): «Можно ли требовать», говорит он, «чтобы мы, чистые математики, довольствовались только ожиданием заказов со стороны, вместо того, чт бы работать над наукой ради собственного удовольствия. Говорят, что, если у математики есть одна только цель — идти на помощь к изучающим природу, то от этих последних она и должна ждать приказаний. Законна ли такая точка зрения? Конечно, нет; если бы мы не разрабатывали точных наук ради их самих,
мы не создали бы математического орудия, и в тот час, когда пришел бы лозунг от физика, мы были бы безоружны».
На основании этого мы вправе заключить, что полнота науки обусловлена ассимиляцией реального начала с идеальным.
Если приложить эту точку зрения к истории матема тики, как научной дисциплины, то мы не можем удовольствоваться узким взглядом на нее, только как на «средство» исследования. Как увидим ниже, она действительно может принести пользу и философии предмета, и самому предмету, изучение ее окажется полезным и учащемуся, и педагогу, с ее завоеваниями должен считаться историк общей культуры и знакомство с ней может пригодиться всякому образованному человеку.
Но все это осуществится только в том случае, если историк математики возвысится до понимания истинных целей и задач своего предмета, если из массы сырого материала он произведет надлежащий «отбор» фактов, который при соответствующей систематизации даст возможность придти к определенным выводам, когда будет отмечена закономерность в чередовании этих фактов.
Но для этого прежде всего необходимо, чтобы у истории математики была «самодовлеющая цель», к исчерпывающему разяснению которой можно подойти подведением под комплекс обектов исследования незыблемого фундамента на общих основаниях, применимых к любой научной дисциплине, короче говоря, когда в распоряжении истории математики будет аггрегат исходных положений, руководствуясь которыми можно выявить генетическую связь между фактами, можно обяснить, почему развитие идей следовало тому, или иному направлению, а в благоприятных случаях указать и возможный дальнейший путь этого развития.
Это осуществимо только при условии выделения истории математики в особую научную дисциплину.
В цитированном выше сочинении Оствальд задается вопросом, чем обясняется тот факт, что в то самое время,
когда чуть ли не все преподавание философии в университетах свелось к изложению ее истории, история той, или другой дисциплины естествознания излагалась с университетской кафедры лишь в крайне редких случаях.
Он склонен обяснить это печальное явление тем, что «отдельный исследователь может с успехом работать только в небольшой области этой науки, связь же этой работы с общей работой человечества, связь, несомненно существующая, не всегда им сознается, а некоторым никогда, пожалуй, и в голову не приходит. Если, поэтому, в какой нибудь области знания не обнаруживается склонности к изучению ее истории, то причину этого следует в общем искать в том, что в этой области нет еще нужды в той помощи, которую это изучение может оказать. До открытия спектрального анализа Бунзеном и Кирхгофом ни одна призма не попадала в химическую лабораторию, потому что она была бы там бесполезна. Точно таким же образом и истории науки нет места в мыслях научного исследователя, пока он не может ею воспользоваться, как орудием для своей работы «.
С приведенным мнением можно согласиться, но только отчасти. Именно, с расширением науки является необходимым знакомство с историческим обзором всего сделанного не только в смысле возможности извлечь из него сведения о методах, о характере исследования и приемах решения различных вопросов, чтобы, пользуясь методом аналогии, подойти к разрешению очередных проблем. Это только одна сторона медали и притом не самая существенная.
Гораздо важнее то обстоятельство, что знание всего, что на протяжении ряда веков достигнуто в данной области, экономит творческую мысль, предостерегая от бесплодных исследований, т. к. ясно указывает на состояние средств для дальнейшей работы, во вторых дает картину тех проблем, которые при данных условиях, вообще говоря, могут быть разрешены и, наконец, исключает возможность траты сил и времени на решение таких вопросов, которые оказываются уже давно известными и освещенными с достаточной пол нотой.
В первом случае для иллюстрации я воспользуюсь знаменитой теоремой Ферма (P. Fermat, 1601 — 1665). На полях сочинения Диофанта Александрийского против того места текста, где говорится о разложении полного квадрата на сумму двух квадратов, Ферма пишет: «Совершенно невозможно разложить полный куб на сумму двух кубов, четвертую степень на сумму двух четвертых степеней, вообще какую либо степень на сумму двух степеней с тем же показателем. Я нашел поистине удивительное доказательство этого предложения, но здесь слишком мало места, чтобы его поместить». (Oeuvres de Fermat — t. III. Paris, 1896, p. 241).
К великому несчастью для науки доказательство Ферма до нас не дошло. По виду проблема очень проста: доказать, что уравнение
неразрешимо в целых числах, если п 2.
Над отысканием доказательства работали такие крупные математики, как Эйлер, обнаруживший справедливость этого положения для частного случая п = 3 и п = 4 (впрочем для суммы кубов доказательство этого предложения уже было известно Арабам) для п = 5 доказательство дал Дирихлэ, для п — 7 Ламэ, наконец, немецкий математик Куммер существенно подвинул вопрос вперед, поставив его в связь с теоремой алгебраических чисел, согласно которой задача сводится к разложению на множителей в области чисел е1).
В частности, Куммеру удалось доказать предложение для всех показателей, меньших 100, и по мнению проф. Феликса Клейна полного доказательства теоремы Ферма можно ожидать только путем систематического развития работ Куммера.
) Область целых чисел е есть совокупность чисел вида:
Трудность решения проблемы в общем виде вызвала со стороны умершего в 1907 г. математика Вольфскеля оригинальное завещание, согласно которому Гёттингенское Ученое Общество получило 100.000 марок для выдачи премии тому, кто представит полное решение задачи.
Стоило газетам напечатать об этом завещании, и люди всевозможных профессий, до гимназистов включительно, буквально засыпали Гёттингенское Общество доказательствами. Как заметил Клейн, «общее во всех этих работах лишь то, что авторы их не имеют ни малейшего представления о серьезном математическом значении проблемы: они не делают даже ни малейшей попытки осведомиться в литературе вопроса (т. е. ознакомиться с историей его) и всегда стараются справиться с задачей какой либо необычайной идеей, и, конечно, неизменно, попадают в просак. Соблазн получить крупную премию, несомненно, велик, но простой здравый смысл предостерег бы многих от безплодной траты времени и тщетных усилий мысли, если бы прежде чем браться за решение этой проблемы, quasi — математики ознакомились с историей ее происхождения и развития.
Для второй иллюстрации примеров множество. Всякий молодой ученый, готовясь к получению ученой степени, выбирает тему для диссертации, чаще всего относящуюся к какой либо ветви математических наук, и, желая внести что либо свое, предварительно должен хорошо ознакомиться с литературой предмета, изучить вопрос с исторической точки зрения, чтобы предпринять дальнейшие шаги во всеоружии знания всего сделанного в этой области предшественниками. В этой подготовительной работе может помочь только знакомство с историей математики и библиографией вопросов, соприкасающихся с затронутой темой. Недостаточно полная осведомленность может повлечь за собой неприятные последствия и, наоборот, обстоятельное изучение материала в историческом отношении обогащает магистранта массой ценных сведений, расширяющих кругозор, доставляет знакомство с методами, наиболее соответ-
ствующими структуре выбранной темы и способствует нередко тому, что диссертация, действительно, оказывается ценным вкладом в науку, пропадающим новые пути, а не «казенным номером», который надо отбыть, лишь бы добиться искомой степени.
Как на яркий пример работ первого типа, укажу на диссертации нашего русского математика В. Г. Имшенец-кого: «Об интегрировании уравнений с частными производными первого порядка» (на степень магистра), Казань, 1865 г. и «Исследование способов интегрирования уравнений с частными производными второго порядка функции двух независимых переменных» (на степень доктора) Казань, 1868 г. Оба труда переведены проф. НойеГем на французский язык и доставили автору европейскую известность, при чем влияние их отразилось на работах Graindorga и Mansiona. Знаменитый норвежский математик Софус Ли относил yno-i мянутые труды Имшенецкого к наилучшим по теории дифференциальных уравнений с частными производными.
Проф. Некрасов, давая оценку докторской дессертации, говорит, что «основой ее послужило тщательное и всестороннее изучение трудов предшественников».
Путем детального изучения сделанного раньше Имшенецкий проникал в сущность теорий глубже, чем его предшественники, так напр., он владел сущностью метода Якоби лучше, чем сам Якоби.
Введение ко второму мемуару содержит, между прочим, следующие слова самого Имшенецкого: «исследователь,
находя вопрос до известной степени решенным, но остано-: вившимся в некоторой точке на пути его развития, обязан прежде всего изучить этот путь, в особенности, если он проложен математиками, имена которых Даламбер, Эйлер, Лаплас, Лагранж, Лежандр, Монж, Ампер. Действительно, тщательное изучение сделанного раньше может иногда no-i казать, что дальнейшие успехи зависели не от изобретения новых приемов, но от более полного и общего приложения прежних способов».
Для иллюстрации третьего пункта приведу два типичных примера. До начала девятнадцатого столетия западноевропейская наука была совершенно незнакома с математическими знаниями индусов, и когда в 1817 г. появился принадлежащий Кольбруку английский перевод с санскритского языка, сочинений индусских математиков Брамегупты и Баскары, (Algebra, with Arithmetic and Mensuration, yrom the Sanscrit of Brahmegupta and Ehascara; translated by H. T. Colebrocke, London (из них первый жил в VI, а второй в XII веке нашей эры), то оказалось, что они владели способом получать из одного решения все остальные целые решения неопределенного уравнения второй степени с двумя неизвестными. В алгебре Брамегупты ( тд. VII, стр. 364 и п° 68 перевода Кольбрука) находятся формулы для решения уравнения
выведенные за двенадцать столетий до того, как к тем же результатам пришел знаменитый Эйлер, не подозревавший, конечно, что приоритет принадлежит древнему индусскому математику. Будь в его время историческая наука более разработана — это сберегло бы силы Эйлера несомненно для какого нибудь другого славного открытия.
«В истории наук» говорит Шаль (Apergu historiques sur lorigine et le developpement des methodes en gometrie1), p. M. Chasles, Bruxelles 1837) нередко встречается, что идеи, принципы, даже теории по несколько раз и чрез долгие промежутки времени являются и снова исчезают, пока не найдут себе достаточно подготовленной почвы, чтобы укорениться в ней и обеспечить себе продолжительное существование. Звездчатые многоугольники представляют пример подобных перерывов. Сначала они рассматривались в школе Пифагора, затем после десяти векового забвения является в геометрии Боэция звездчатый пятиугольник; забытая снова в продолжение шести столетий, теория их получает новую жизнь, благодаря Кампану; через сто лет после этого возникает теория «выдающихся» многоугольников, еще че-Ьез два столетия можно было подумать, что блестящая роль и прочная будущность обеспечены для этой теории, благодаря имени и неувядаемым трудам Кеплера, но, несмотря на это, она впала опять в полное забвение, продолжавшееся два столетия, после чего достигла уже, наконец, незыблемого существования, обеспеченного ей аналитическими исследованиями, слившими ее с теорией обыкновенных многоугольников.
Здесь Шаль имеет в виду сочинение (Memoire sur les polygones et les polyedres)» принадлежащее перу фрацузского математика Пуансо. (Poinsot, 1777 — 1859). В своем «Rapport sur les progres de la geometrie» (Paris, 1870) Шаль no поводу этого мемуара говорит: «Les polygones etoiles ont ete connus fort anciennement. Mais cest Poinsot qui sans connaitre ces premiers resultats, dont les ouvrages de geometrie, publies depuis navaient fait aucune mention, a donne une theorie gen?rale». (p. 15).
He только сам Пуансо, но и другие современные ему геометры считали открытие четырех новых правильных многогранников всецело принадлежащим Пуансо, который по сообщению Бертрана (. Bertrand) мало заботился об изучении книг и потому не был знаком с историей столь занимавшего его вопроса. Поэтому, после указаний Шаля и чтения творений Кеплера Пуансо испытал очень неприятное разочарование. Этого бы, конечно, не случилось, если бы Пуансо, прежде чем углубиться в собственные идеи, дал себе труд ознакомиться с историей интересовавшего его вопроса, чтобы знать, что уже сделано и с чего начинать.
Известный францусский ученый Ренан, которому историческая наука обязана превосходным исследованием по арабской философии «Аверроес и аверроизм» в другом своем труде «LAvenir de la science» говорит: «Разве читают теперь произведения Ньютона, Лавуазье, Эйлера? А однако, чьи имена больше заслуживают бессмертия? Их книги были событиями, они сыграли свою роль в развитии науки;- после этого их миссия окончена. Только одни имена авторов остаются в летописях человеческого духа».
Так ли это? Я думаю, что Ренан ошибается. И в свое время творения .Ньютона, или Эйлера читались немногими ни тот, ни другой не претендовали на широкий круг читателей, т. к. для понимания тех вопросов, о которых трактовали великие математики, надо быть хорошо подготовленным. Изменилось ли что нибудь в этом отношении? Конечно, многое, ими созданное, перешло в современную науку в переработанном виде, в более строгой концепции. В доказательства внесены упрощения, теоремы и формулы, носящие их имя, в каком нибудь трактате изложены в окри-сталлизованной и более изящной форме. Но разве это исключает возможность чтения того и другого в подлиннике? Попрежнему, у. таких авторов круг читателей весьма ограниченный, но он есть й должен быть. Специалист математик обращается к чтению больших трактатов, представляющих сводку всего добытого наукой, только по обязанности, или за справками.
Лагранж, например, считал такое чтение бесполезным, за исключением тех случаев, когда встречаются методы, отличающиеся оригинальностью, или новизной. С методами, которых в любом трактате слишком много, он советует знакомиться в сочинениях, посвященных приложениям. В виду того, что чтение трактата не дает представления о генетической связи излагаемых теорий с прошлым науки, специалист предпочтет знакомиться с интересующими его вопросами по монографиям, мемуарам, наконец, по первоисточникам. Такое чтение ценно во многих отношениях и прежде всего с исторической точки зрения. Читатель присутствует, так сказать, в лаборатории, где зарождались великие идеи, знакомится с теми формами, в которые впервые эти идеи отливались, и, попутно, при таком чтении он может почерпнуть много нового, свежего, могущего зачастую служить импульсом оригинальных исследований.
В трактат попадает обычно более, или менее обширное извлечение из трудов тех, кто двигает науку, но при этом на выборе материала для подобных извлечений всегда лежит печать субективности.
Производящий такую выборку, поневоле, становится на позицию критика по отношению к великому произведению и берет из него лишь то, что, с его точки зрения, наиболее заслуживает внимания. Но во первых, при такой работе многое ценное может просто ускользнуть из его поля зрения и останется под спудом на долгое время, а может быть и навсегда, во вторых, глубокие мысли, в которых скрываются сплошь и рядом зародыши новых идей, могут быть облечены в такую форму, что только исключительная проницательность исследователя вскроет эту оболочку и извлечет из нее «драгоценную жемчужину», наконец, тот, кто критически разбирается в материале, не всегда может оказаться на высоте своей задачи в силу неравенства интеллектуальных рессурсов. Он пройдет мимо идеи, не потому что не заметит ее, а потому, что он не в состоянии ее понять. Особенно часты примеры этого отношения к произведениям тех мыслителей и, в частности, математиков, идеи которых оставляют далеко за собой современную им эпоху, когда прежде, чем эти идеи войдут в сознание, сменится целое научное поколение. История науки насчитывает тому не мало примеров: «Introduction a la Philosophie des Matbematiques» гениального польского математика-философа Гоёне Вронского (Ноёпе Wronski, 1778 — 1853) было встречено враждебно, многие сочинения его (по собственному свидетельству автора) были истреблены во Франции. Непонятый и неоцененный современниками, Вронский умер, наука предала его имя забвению и только с семидесятых годов истекшего столетия в среде французских математиков началось движение в целях распространения учений забытого мыслителя. В этом отношении особенно выделился астроном Ивон Вилларсо, который опубликовал в 1878 г. в «Comptes rendus», т. LXXXV1 ряд статей о теории синусов высших порядков, где приходит путем изучения общего показательного выражения атх к обнаружению новой группы функций и указывает, что эта последняя была уже открыта 50 лет назад Вронским.
Точно также немецкий математик Гаусс, заслуги которого чрезмерно преувеличены, по поводу мемуара знаменитого норвежского математика Абеля (N. Н. Abel, 1802 — 1829) о невозможности решения уравнений 5-й степени в радикалах в общем виде, выразился довольно определенно: «Es ist a ein grauel sowas znsammen zu schreiben» (Это настоящая мерзость — писать такие вещи).
Наконец, идеи великого русского геометра Лобачевского (1793 — 1856) не были совершенно поняты современниками и вызваны к жизни усилиями французского математика проф. НоиеГя, который в 1866 г. издал французский перевод немецкого сочинения Лобачевского «Geometrische Inter-suchungen zur Theorie der Parallellinien «.
В настоящее время около этих идей создалась огромная литература, значение трудов Лобачевского общепризнано, английскш математик Клиффорд называет его «Коперником Геометрии».
Однако, при жизни великий ученый должен был с горечью убедиться, что за его работами не желают признавать научного значения даже те, на чье сочувствие и понимание, казалось бы, он мог рассчитывать. Высоко — даровитый русский математик М. В. Остроградский отзывался о трудах казанского профессора иронически, а другой ученый математик, академик Буняковский, не только не обмолвился ни одним словом об исследованиях Лобачевского в своем сочинении «Параллельные линии» (1853 г.), но напечатал анонимную статью в № 41 журнала «Сын Отечества» за 1834 год под заглавием: «О начертательной геометрии сочинения г-на Лобачевскогов которой подвергает исследование «О началах геометрии» резкой критике самого дурного тона, включительно до выпадов личного характера и притом в оскорбительной форме. Знаменательно, что ответ Лобачевского на эту статью напечатан не был.
Если бы специалисты ограничивались изучением общих трактатов, если бы не было стремления к овладению первоисточниками и интереса к историческому элементу, это вредно отзывалось бы на ходе развития науки.
Авторы исследований по частным вопросам и, главным образом, авторы диссертаций часто наталкиваются на богатейшие темы при изучении работ математиков старших поколений: чтение в оригинале трудов Коши, Якоби, Кро-некера, Эрмита, Вейерштрасса вызвало обработку мыслей, нередко высказанных ими, что называется, мимоходом, и в этом отношении дл молодого ученого лучшей школой и средством для самостоятельных изысканий является углубление в то, что в любой данный момент представляет достояние истории. Чем больше в свое время опередил эпоху тот или другой великий ученый, тем больше оснований надеяться, что при детальном изучении его трудов из них удастся извлечь массу ценных и оригинальных идей, на которых печать времени нисколько не отражается. Это и есть, по выражению Оствальда, та большая независимость от времени, которую столь охотно называют бессмертием гения, чему история математики дает тысячи примеров. Этим самым .намечается весьма важная и непосредственная польза, которую может принести история: только таким путем мы в состоянии почерпнуть индивидуальное знакомство с былыми корифеями науки. Отсюда само собой в наиболее рельефной форме вырисовывается план работы в какой либо части истории математики. Только она дает возможность ориентироваться в массе материала и позволяет прежде всего сделать обзор существующей ценной литературы, экономя силы исследователя указаниями на то, что собственно в избранной области заслуживает внимания и изучения, а из личной истории великих деятелей науки позволяет произвести отбор всего, что могло бы содействовать ассимиляции их наследия в данное время.
Есть и еще одна сторона в вопросе о «полезности» истории науки, которую не приходится затушевывать, как это часто наблюдается, а, наоборот, надо стараться выявить ее с возможной выпуклостью.
Историк должен быть прежде всего обективным исполнителем предписаний своей науки: личность ученого, с деятельностью которого он знакомит, отходит на второй план. Биографии нет места в истории науки, но с тем большей тщательностью и добросовестностью сам историк должен с ней ознакомиться, чтобы поставить в определенное взаимоотношение факту личной жизни и условия, в которых протекала научная работа данного лица с тем наследием, коим определяется место его в науке, другими словами, характеристика значения его трудов должна быть свободна от влияния своеобразного комплекса ходячих мнений, часто весьма неправильных, подчинение которым искажает облик ученого и представляет его заслуги в форме совершенно несоответствующей действительности.
Популярность и известность ученого часто непропорциональны его истинным заслугам. Наоборот, многие деятели науки сплошь и рядом оставались в тени и в то время, как успехи одних раздувались до невероятных размеров, не отвечающих внутренним достоинствам их деятельности на поприще науки, заслуги других умышленно замалчивались, или приписывались чужому влиянию, чем Умалялось самостоятельное значения открытия, наконец, бывало и так, что это открытие приписывалось другому, не имеющему на то никаких прав. Человеческие слабости свойственны и великим людям и на этой почве ученый мир бывал нередко свидетелем споров, интриг и даже драм. Высокомерие некоторых тузов науки, зависть одного к явному превосходству творческих сил другого — все это явления общеизвестные и, к сожалению, глубоко коренящиеся в человеческой натуре.
Особенно часто возникали недоразумения по вопросу о приоритете, стоит вспомнить знаменитую полемику между творцами Дифференциального исчисления Ньютоном и Лейбницем и их сторонниками. Эта полемика не послужила к чести обеих сторон и только лишний раз показала, что в деле защиты своих заслуг великие люди прибегают подчас к таким же некрасивым приемам, как и обыкновенные смертные.
У историка для установления истины в подобных случаях один путь: добросовестное изучение документальных данных и полное игнорирование анекдотических и вздорных повествований, в туманном клубке которых легко запутаться.
Что же касается правильной оценки научных заслуг, то все сводится к ознакомлению с тем, что сделано ученым в той. или другой области, и в случае сомнения в принадлежности ему какого нибудь открытия, в случае претензий на это открытие со стороны другого, надо путем сопоставления работ обоих ученых выяснить, на чьей стороне право. Это не только желательно, но вменяется в -обязанность историку, если он не довольствуется повторением с чужих слов заведомо несправедливой оценки и не мирится с теми пристрастными отзывами, которые допускаются нередко во имя дурно понятого национального самолюбия в угоду шовинистическим тенденциям и при этом в ущерб истине сопровождаются подтасовкой исторических данных с явным преувеличением заслуг компатриотов за счет замалчивания и полного игнорирования успехов иноземной науки.
Взаимоотношения философии науки и ее истории.
Если история математики в своих выводах неизбежно опирается на историю культуры, то в такой же мере философия науки стоит в зависимости от успехов ее истории.
Под «философией науки» принято подразумевать область вопросов, касающихся анализа основных понятий этой науки
в связи с гносеологией. Столь ясная наука, как математика, не нуждается, впрочем, в метафизическом истолковании ее начал.
Чтобы способствовать рассеянию того мистического тумана, которым окутывается термин «философия математики», т. к. с ним неизбежно связывается представление о привнесении метафизического элемента в выше указанный анализ, составляющий одну из фундаментальных проблем этой философии, я должен предупредить, что за этим термином отнюдь не скрывается приложение методов философии к исследованию математических понятий.
Геометр с его методом в философии может строить только карточные домики, а философ со своим методом в области математики может только пустословить.
У. Гамильтон, шотландский философ (не смешивать с У. Гамильтоном, знаменитым английским математиком, творцом теории кватернионов) профессор логики и метафизики в Эдинбургск. м университете, утверждает, что интенсивное изучение математики делает наш ум даже неспособным к изучению философии. По поводу этого А. Принсгейм в своей речи, произнесенной в открытом заседании Баварской Академии Наук в Мюнхене (в 1904 г.) весьма основательно заметил, что в этот упгек должна быть внесена та поправка, что математики действительно обнаруживают мало склонности к туманным и безплодным метафизическим умозрениям. Большей частью они считают более полезным делом творить математические ценности, чем содействовать накоплению той горы бессмыслиц, которую создали в течение веков многочисленные метафизики, но я в этом вижу только заслугу, а неким образом не проявление каких нибудь умственных дефектов. С другой стороны, достаточно назвать имена Декарта и Лейбница, чтобы доказать, что видные математики могут быть и видными философами.
Надо добавить, что обратная теорема не имеет места: ни один видный философ не был видным математиком.
Поэтому, когда заходит речь о философии математики, о которой, кстати сказать, создалось довольно неясное представление не только среди широкой публики, но даже и среди специалистов, то надо раз навсегда условиться о какой собственно философии здесь говорят. Мы берем сложившееся математическое понятие, подвергаем его логическому расчленению и тем самым определяем его конструкцию, т. е. находим то исходное положение, которое лежит в основе разбираемого понятия и позволяет нам применять его, как скоро по характеру исходного положения устанавливаются границы его применения. Это — путь математика.
Если оставить без внимания конструкцию понятия и, воспринимая его, как нечто данное, с целью констатировать наличность известного отношения — придти к установлению связи между элементами понятия — то это будет задача философа. Наконец, если конструкщя понятия определяется по характеру исходного положения в смысле его генезиса т. е. связи с какими либо другими понятиями — это прием, выполняемый математиком в области философии своей науки.
Поясню свою мысль. Пусть нам дана какая нибудь математическая функция. Философ ограничится тем, что будет мыслить ее как определенное соотношение, воспринимая в уравнении
Y = f (х)
характеристику f, как сочетание операций, связывающих две величины. Математик сейчас же построит кривую, т. е. установит геометрическое соответствие, найдет производную; развернет функцию в ряд, словом, будет стараться изучить свойства функции, что же касается математика-философа, то он заинтересуется природой функции, чтобы по ее происхождению определить ее связь с другими функциями.
Таким образом, методы и самой математики и ее философии одни и те же, но цели у них разные. И с точки зрения характера преследуемой цели вторая подчиняет себе
первую, т. к. в области философии математики обединяется то, что в сфере математики существует и рассматривается раздельно. Например, математик будет с успехом применять формулы там, где это по ходу вопроса окажется нужным и полезным, совершенно не думая о том, что составляет заботу философии математики: найти связь между интегралом от степени и интеграл — логарифмом, поскольку она подсказывается характером подинтегральных функций.
Мы коснулись только главнейшей задачи философии математики, которая в наше время едва намечается. У нас были математики-философы, были попытки философского построения системы математических знаний, есть ряд сочинений по отдельным вопросам (философия геометрии, философия учения о числе), но философии математики, как науки, у нас нет и, при современном положении самой математики и ее истории, быть не может. Это в полном смысле этого слова «наука будущего», которая по характеру своего идеального построения будет настолько же превышать общностью своих законов общность чисто — математических законов, насколько эти последние выше (в смысле общности) законов наук, подчиненных математике.
В первой стадии своего развития философия математики ставит себе ряд вопросов, на которые она может ответить только при содействии истории науки. Наиболее существенным является вопрос о положении математики в Ряду других наук и их взаимоотношении. Ниже приводимый Разбор этого вопроса покажет, насколько в решении его важно участие исторического элемента.
История показывает нам, что человечество в своей постепенно развивающейся способности к выполнению Умственных актов пережило многовековой период, в течение которого накапливался опыт и формировались знания, но понятие «науки», как комлекса упорядоченных знаний, могло возникнуть только тогда, когда длительное упражнение в процессах мышления обусловило возможность появления отдельных личностей с настолько развитым интеллектом, что в сознание их проникла потребность к систематизации знаний, к распределению отобранных знаний по группам, при чем каждая такая группа, охватывающая ряд обектов с тожественными, или сходными признаками, делалась предметом особого рассмотрения и в такой форме трактовалась, как определенная часть «полного знания как «наука».
Параллельно с этим выявлялось понятие о «методе» исследования, как средстве расширения знаний.
Несомненно, что древне-египетские и халдейские жрецы, располагавшие весьма солидным для своего времени запасом знаний, владели своеобразными, хотя и примитивными методами в деле накопления этих знаний, но пока до гас не дошло ни одного памятника их научной литературы, в котором бы затрагивались вопросы, связанные с историей происхождения и развития их науки в ее целом, равно ка; и вопросы, посвященные обозрению приемов ее разработки.
Первые попытки в этом направлении мы встречаем у греков.
Платон (429 — 347 до Р. Хр.) утверждал, что геометрия представляет нечто промежуточное между идеями и чувственными вещами. По поводу этого Milhaud (« Les.philosophes geometres de la Grece» Paris, 1909) доказывает, что Платон смотрит на геометрию и родственные ей дисциплины, как на искусства (ts/vsi), а не как на чистую науку (uai)r(aa-x); таким образом, изучение геометрических фигур приводи Д.х к тому, чтобы видеть в этих фигурах отвлеченные формьг чистой науки, к которым можно притти путем процесс; идеализации (oiavota — мысль математика).
В своем учении об идеях, метафизическом по существу, Платон дает идеал науки в форме подчинения действии тельности теории, приводящей к логической классификации в виде геометрических форм. Согласно этой классификации каждый чувственный обект принадлежит к определенному виду и этому виду соответствует однозначно тип, или мо-дель, т. е. простое и совершенное понятие, в котором случайные и переменные признаки конкретного обекта отражаются посредством строго определенных отношений. Например, формам кубических кристаллов соответствует определенная математическая форма — куб, идея которого вызывается созерцанием этих кристаллов.
Нисшие виды выводятся из высших, причем соответственные идеи выводятся посредством применения к логически возможным случаям метода альтернативы. Это — тип дедуктивной классификации, применимой в математике: из общего понятия вытекают ему подчиненные.
Не трудно усмотреть в таком статическом понимании науки в ее целом пробел вслэдствии того, что игнорируется значение опыта; с другой стороны, такой концепцией отвергается эволюционный принцип.
Заслугой другого греческого мыслителя Аристотеля (384 — 322 до Р. Хр.) было несомненно основание логики, как науки. Впрочем, построив теорию силлогистического доказательства, сам Аристотель усвоил по отношению к ней неправильный взгляд, как на источник и основу наших знаний. С его легкой руки это заблуждение, усердно распространяемое его последователями, особенно культивировалось в эпоху средних веков и задержало развитие науки, благодаря прочно усвоенной привычке к фиктивным обяснениям, ничего в сущности не обясняющим и сводившимся к бесплодной диалектике, зло осмеянной Мольером в одной из его комедий: «Почему опий усыпляет»? — «Потому, что он имеет способность усыплять».
Все науки Аристотель сводит в три группы под именем Теоретической, практической и поэтической философии, относя математику, как чисто формальную науку, к первой из них.
Сам Аристотель не был математиком, и в своих физических умозрениях даже для своего времени оказался из рук вон плохим физиком. Признавая значение опыта и наблюдения, в своей физике он не извлек из фактов никаких общих законов.
Введя «индукцию», как орудие исследования, сам он не особенно удачно пользовался этим орудием.
Одним из выдающихся людей эпохи средневековья оказался Рожер Бэкон (1214 — 1292), автор трех капитальных трудов «Opus maus», «Opus minus» и «Opus tertium». Менее других зараженный предрассудками и суевериями своего времени, он возвысился до понимания истинных целей и задач науки, отмечая три способа познания: авторитет, рассуждение и опыт.
Авторитет, говорит он, не имеет значения, пока не доказаны его основания, он не учит: он требует доверия.
В рассуждении мы отличаем силлогизм от доказательства посредством проверки выводов путем опыта. Наука, вооруженная опытом и вычислениями, не должна довольство-1 ваться фактами, хотя они и могут приносить ей пользу она ищет истины, ей необходимо установить законы и прин-1 ципы. (Canones, universales regulae).
P. Бэкон указал на значение математики, как орудиям «научного метода». В «Opus maus» он определенно говори г:( «физики должны понять, что их наука бессильна, если они не применяют к ней математики, без которой наблюдение увядает и неспособно к достоверности.
Целый отдел в «Opus Maus», посвящен вопросу «о пользе математики», где перечисляются те отрасли знания, (хронология, география, календарь, оптика) в которых математика является существенным подспорьем. Доказывая, что каждая наука ищет опоры в математике, Р. Бэкон совершенно правильно оценивает роль этой последней. Эта наука, говорит он, будучи самой легкой, представляет лучшее введение к более трудным наукам. Она пред; шествует другим наукам в природе, потому что она изучает
количество, которое воспринимается интуитивно. Здесь мы можем совершенно избежать сомнения и заблуждения и получить несомненность и истину, поэтому другие науки пользуются примерами, заимствованными из математики, как самыми очевидными.
Далее он говорит, что «математическое знание как будто врождено нам; в математике вещи, известные нам, тожественны с вещами, известными природе. Находились знаменитые люди, как Роберт, епископ Линкольнский и брат Адам Марчман и многие другие, которые при помощи математики могли обяснять причины вещей, как можно видеть это в сочинениях о радуге и о кометах, о происхождении теплоты, о климатах и о небесных телах».
Все эти суждения свидетельствуют о том, что Р. Бэкон, близко знакомый с древне-греческой и арабской наукой, одинаково сведущий в математике, астрономии, физике, химии, географии, физиологии и теологии, был человеком энциклопедически образованным, и следовательно имел полную возможность проводить параллели между различными областями знания, что привело его к убеждению в превосходстве математики, которую он называл «ключем и дверью» ко всем наукам.
Живший тремя столетиями позже, Фрэнсис Бэкон, (156L — 1626) автор «De dignitate et augmentis scientiarum» и неоконченного сочинения «Novum organon», был во власти предрассудков в значительно ббльшей степени своего знаменитого предшественника и однофамильца. В отношении знаний он стоял ниже уровня многих ученых своего времени и мог только построить методику теории знания и Дал классификацию наук, основанную на психологическом принцице деления, т. е. на трех видах душевных способностей: рассудка, служащего основой философии, имеющей объктами исследования Бога, природу и человека, памяти, как основы истории, и фантазии, на которой строится поэзия.
В «Norum Ovganum» сильно чувствуется влияние трудов Р. Бэкона. Но существенной ошибкой со стороны ф.
Бэкоиа было явное игнорирование математики, которой он не знал и не понимал. Сознавая различие между пассивным наблюдением, т. е. простым созерцанием, не вызывающим научного сцепления, фактов, и наблюдением активным — источником познания, он в то же время отвергал возможность пользования в этих случаях вычислениями, приводящими к исчерпывающему решению многих вопросов; отсутствие этого элемента, признаваемого лишним и ненужным, достаточно само по себе для того, чтобы сделать недействительными его метод и его советы, даже если бы они были справедливы во всех другик отношениях. Тем не менее однй из несомненных заслуг Ф. Бэкона следует признать его указание на важность исторической обработки литературы.
Ф. Бэкон принадлежит к числу тех мыслителей, роль которых в истории умственного развития Европы явно преувеличена. Его принято считать отцом эмпиристической философии и метода научной индукции. Но в действительности он только дал толчек в известном направлении, подготовленный предшествующей деятельностью ученых более высокого порядка. Отказать ему в эрудиции нельзя, но он не был из числа отмененные божественной печатью гения и тех, кому суждено пролагать новые пути в науке. Достаточно сказать, что он отверг систему Коперника, считая ее странной выдумкой, и тем самым отрезал все пути к научному обоснованию астрономии по рецепту, им же самим составленному. Презирая Арабов и) пренебрежительно относясь к Греческим философам, Бэкон называет индукцию Аристотеля inductio per enumerationem simplicem, упрекая ее в недостатке методического характера однако, давая советы и указания как вести исследование по индуктивному методу, сам он не умеет им пользоваться, и, как правильно заметил Льюис, Бэкон, величественно следуя за различными течениями заблуждения до их источников, поддается тем же самым течениям, лишь только он покидает положение критика и берется сам за исследование порядка природы.
В итоге положительной чертой деятельности Бэкрна следует признать его стремление выявить огромную культурную ценность естественных наук и его безпощадную войну со схоластикой
Весьма странно, что знаменитый французский математик Даламбер (DAlembert, 1717 — 1783) в большой энциклопедии «Encyclopedic ou Dictionnaire raisonnfe des sciences, des arts et des metiers» (28 vm. Paris, 1751 — 1772), где он являлся сотрудником Дидро, сохранил в классификации наук неверный в корне психологический принцип Бэкона.
Первой серьезной попыткой классифицировать наши знания является труд французского математика и философа Конта (Auguste Comte, 1798 — 1857), «Cours de Philosophie Positive»), взгляды которого на математику изложены в первом томе этого обширного сочинения под названием «Философия математики». В своем месте мы коснемся разбора этих взглядов, но для наших целей в вопросе выяснения роли математики в ряду других наук достаточно ограничиться рассмотрением синоптической таблицы, где все науки развертываются в линейный ряд в порядке их сложности: математика, астрономия, физика, химия, физиология и социальная физика.
В основу указанного построения кладется идея иерархии наук, т. е. подчиненности сложных по своему содержанию наук более простым. Так напр, астрономию нельзя изучать, не зная математики, изучение химии требует знакомства с физикой и т.д. Как.всякая классификация, она несвободна от недостатков нетолько в ее дальнейшей детализации, но й по существу: во первых, неясно, почему астрономия должна предшествоват физике, во вторых такие науки, как физика и химия, вообще говоря, трудно разграничить, в третьих, эволюция научного знания способствует тесному сплетению интересов и проблем смежных областей, в четвертых здесь вполне возможно ретроградное движение, т. е. от высших наук к нисшим, с выделением особых научных дисциплин, примером чего может служить создание астрофизики, наконец, самая схема преемственности по существу неправильна. Идеальная классификация, если допустить мысль о возможности построения таковой, не должна носить характера застывшей, окристаллизованной формы. Ее рамки должны , раздвигаться с движением науки вперед, не нарушая строй- ности схемы. Это требование, как нам кажется, исключает возможность построения исчерпывающей классификации, т. к. им привносится динамический элемент в то, что по самой природе своей стационарно. Неизбежное следствие — «как бы ни была совершенна классифицирующая схема — она заранее обрекается на устарелость, главным образом, в частностях.
Поэтому проф. Вундт в своем «Введении в философию» разбивает все научные дисциплины на три группы, сообразно трем самостоятельным отраслям знания: математики, естествознания и науки о духовном мире. Эти отрасли несводимы друг к другу, каждая пользуется присущими ей мето-1 дами исследования и имеет свою точку зрения на предмет.
Кроман (в соч. «Unsere Naturerkenntniss») утверждает, л что все науки могут быть подведены под два типа: формальные (математика, механика, логика) и реальные (естественные науки). Первые сами создают обекты исследования и выводы их достоверны, вторые берут объекты готовыми. Характер этих наук эмпирический и выводы их только вероятны.
Составление научной классификации во многом зависит от точки зрения, положенной в ее основу, что неизбежно кладет на нее печать субъктивности и след, распределение наук, удовлетворяющее одному условию, может оказаться неудовлетворительным в другом отношении. Примером этого служат классификации Спенсера, Ампера, Курно. Одни слишком сложны, другие искусственны, третьи страдают внутренним противоречием. Например, кристаллография, входящая в состав минералогии, должна быть отнесена к естественным наукам, а между тем в своей геометрической части она является по существу образцом научной дедукции и по своему содержанию подходит под тип наук математических; она конкретна, поскольку объекты ее исследования реальны и абстрактна, как учение о формах, покоющееся на незыблемых законах.
В конце концов, raison detre всякой классификации в том, что она облегчает ориентировку в материале и с этой точки зрения построение систематизирующих схем важно в методологическом отношении, как средство упорядоченного изложения научной дисциплины, как учебного предмета.
Из числа тех классификаций, за которыми в виду их относительной удовлетворительности, можно признать значение научно-исторических фактов — все сходятся в одном пункте — именно они, независимо от исходной точки зрения, отводят математике первое место или как комплексу достоверных положений, или как лучшему методу исследования.
Что касается специальной классификации математических дисциплин, то и здесь, строго говоря, нельзя дать схемы, охватывающей науку в ее современном развитии, и, подчиняя какую нибудь ветвь этой схеме в смысле прикрепления к определенному месту, мы в угоду внешней стройности, поступаемся внутренней связью. Интересы и цели различных ответлений тесно переплетены и чем дальше идет развитие науки с одной стороны в ширь, а с другой в глубь, выявляются такие взаимоотношения между далекими на первый взгляд отделами, что способны нарушить порядок самой обрасцовой классификации. Вследствие этого с ней можно только мириться как со средством для более удобного обозрения всего материала, располагая его в условном порядке, сохраняющим свою силу до поры, до времени.
Возвращаясь к схеме Конта, мы видим у него следующую конструкцию: исчисление, геометрия и рациональная механика. Первый отдел представляет абстрактную математику, второй и третий конкретную.
В состав перваго отдела входит алгебра (по терминологии Конта «исчисление прямых функций») и трансцендентный анализ («исчисление косвенных функций») т. е. Дифференциальное и Интегральное Исчисления. Вариационное исчисление и Исчисление конечных разностей выделены особо. Что касается теории чисел и теории Вероятностей, то в схеме Конта они пропущены: первая, повидимому, вследствие недостаточной осведомленности в этой области, а вторая из соображений личного характера.)
В своей «философии математики» (1-й том курса), разбор которого будет изложен дальше, (при оценке научной деятельности) Конт понимает ее задачи своеобразно, уделяя мало внимания генезису основных идей и критике аксиом и определений, вследствие чего исходные положения учения о числе и вопрос о происхождении геометрических аксиом у него не затронуты. Точно также не разработана методологическая часть. И то и другое требует историческаго освещения, без чего невозможно ни проследить эволюцию методов, ни создать картину постепенного расширения идеи числа, или воззрений на природу пространства. Объясняется это, конечно, тем, что в то время на эти вопросы математики вообще мало обращали внимания, а те работы частнаго характера, которые имелись в научной литературе, повидимому, не были известны Конту, а главное он мало интересовался историей математики и поэтому не мог использовать того, что уже и тогда помогло бы ему, если не притти к отределенным заключениям, то, во всяком случае, поставить на очередь решение этих кардинальных вопросов.
Как бы то ни было, во многих случаях он выказал правильное понимание задач математики, как науки: Вот г что он говорит по этому поводу в третьей лекции перваго тома (философские соображения о совокупности математических наук).
) Известно, что Конт неприязненно относился к знаменитому французскому математику Лапласу, автору классического трактата, посвященного теории Вероятностей.
Bo II томе своего курса сам Конт оправдывает пропуск этой отрасли математических наук малым числом ее приложений (в то время). Очевидно, это пронсте- I кало из недостаточно глубокого понимания сущности этой теории, получившей в дальнейшем огромное значение в целом ряде отраслей знания.
«С помощью изучения математики и только с его помощью можно правильно и глубоко понять, что такое «наука» вообще. Только в ней следует искать точнаго познания метода, который человеческий ум постоянно применяет в своих положительных исследованиях, ибо нигде вопросы не разрешаются так полно и дедукция не проводится так далеко и с такой строгостью».
Характерно, что «положительная философия» Конта в ее целом, охватывающая весь цикл научных дисциплин от математики до социологии, была разобрана критически, по частям рядом специалистов1) и социолог, неудовлетворенный этой частью философии, считаясь с огромным успехом учения Конта в целом, полагал все достоинство ее в математической части, а геометры были того же мнения о социальной физике.
Попыткой более высокаго порядка классифицировать все отрасли математических наук является во многих отношениях замечательная система философии математики Гоёне Вронскаго, о котором я уже упоминал выше. В своем месте я попытаюсь дать ее подробный разбор, а пока что ограничусь изложеним его «архитектонической таблицы математики», построенной на основе глубокого философского понимания этой науки. Предмет математики составляет изучение законов формы физического мира, т. е. законов времени и пространства. Философская дедукция (par conceptions) дает начало «философии математики». Субъктивные законы в своем целом представляют знание, при чем содержание знания определяется архитектоникой математики, продуктом которой является разбираемая таблица. Форма знания дает начало методологии математики. С другой стороны, объктивные законы или «наука» в высшем значении этого понятия есть метафизика математики.
Математическая дедукция (par intuition) — это математика в самой себе, рассматриваемая in abstracto (чистая
1) Известный французский математик Жозеф Бертран поместил в Revue de fcux Mondes подробную критическую статью о философии математики, а Ренан прямо Эая8ил: «Конт ничего не понимал в науках о человечестве, потому что он не филолог».
математика) и in concreto — прикладная математика. Все содержание чистой математики зиждется на двух основных понятиях: идея времени (следование мгновений) отображается в числах. Наука о числах называется Алгорифмией, охватывая все, что в настоящее время составляет предмет арифметики, алгебры, анализа и теории функций. Идея пространства (соединение точек) приводит нас к понятию протяжения, изучаемого в Геометрии.
Что касается Алгорифмии, то она распадается на Алгебру, устанавливающую «законы» чисел и арифметику, имеющую дело с «фактами чисел».
В алгебре надо различать «теорию» — то, что есть. (Это» так сказать, объкт разумения) и то, что нужно делать. Последняя задача, как объкт воли, есть предмет «техники Алгебры.
В соответствии с этим в области геометрии законы протяжения составляют предмет Общей Геометрии, факты протяжения — предмет частной.
В области общей геометрии опять таки то, что есть, (объкт разумения) является теорией, а то, что нужно делать (объкт воли) — технией.
По определению Вронскаго «философия математики имеет целью приложение чистых законов познания, тран-сцендентальных и логических к общему предмету наук, с которыми она имеет дело. Согласно с этой идеей, она должна вывести субъктивным путем «первые законы» мате матики, или ее «философские принципы». Сама математика отправляется от этих принципов и выводит из них чисто обктивным путем, не восходя к интеллектуальным законам, предложения, составляющие в совокупности ее предмет».
Первая часть философии — архитектоника выводит за коны знания, вторая — методология состоит в рассмотрений различных математических методов, как «средств» познаний наконец — третья часть — метафизика объктивна и при содействии архитектоники создает все определения предмета математики (в самой себе) и выводит ее основные законы.
С системой Вронскаго, представляющей образец могучей дедукции, мало кто знаком и до настоящего времени и приходится пожалеть, что специалисты не обращали на нее внимания в той мере, в какой она того заслуживает своей общностью, глубиной истинно философской концепции и широтой кругозора в построении самой системы.
Одним из наиболее существенных достоинств системы является ее гибкость. Это не застывшая форма, вполне допускающая ее дальнейшее развитие с применением эволю-ционнаго принципа, без нарушения единства руководящей идеи. Разветвления Алгорифмии в конечном итоге связываются между собой и вновь создающиеся члены научного ряда находят свое место в системе по мере возникновения, т. к. каждую новую ветвь можно рассматривать, как берущую свое начало от присущего ей алгорифма.
В своем современном состоянии для удобства обозрения всего достояния математики самая широкая классифицирую-щея схема, имея в виду тесную взаимную связь отдельных ее частей, распадается на четыре главнейших ветви: анализ, геометрию, механику и теорию вероятностей. Что касается анализа, то здесь, в свою очередь, намечаются разветвленя: 1) всеобщая арифметика, включая теорию чисел всех типов до идеальных чисел и теории множеств — это, так сказать, числовой анализ; 2) алгебраический анализ (теория уравнений и теория групп 3) трансцендентный анализ (Дифференциальное, Интегральное, разностное и Вариационное исчисления с приложениями, напр. Дифференциальной Геометрией, наконец, теория функций всех типов.
Геометрия распадается на синтетическую, геометрию положения, Аналитическую (метод координат), Начертательную (метод проекций) и Неэвклидовы геометрии, возникающие из рассмотрения пространственных концепций. Различающихся от обычной трехмерной.
Известный французский математик Эмиль Пикар в своих лекциих, читанных в 1899 г. в Clark-University под заглавием «о развитии за последние сто лет некоторых основных теорий математического анализа» говорит в за-( ключении третьей лекции: «Взаимное проникновение раз- личных теорий представляет в настоящее время крупный факт и все более и более делается источником важныхг открытий. В этом отношении заметна большая разница между предшествующей эпохой и нашей. Нам трудно теперь понять некоторые случаи презрительного отношения геометров к аналитикам, и наоборот; мы чувствуем, что эра замкнутых и узко-приверженных одной точке зрения школ прошла навсегда».
Эти слова как нельзя более подтверждают все вышеизложенное по вопросу о неприменимости узких рамок какой бы то ни было классификации к необятному океану математических знаний, т. к. все схемы создаются (вернее должны создаваться) ради целей удобства обозрения, или известного порядка и потому, как носящие индивидуальный} отпечаток их автора, не вяжутся с объктивным характером науки.
Вместе с тем выясняется, что игнорируя данные истории математики, нельзя справиться хоть сколько нибудь удовлетворительно даже и с этой последней задачей, так как, только проследив генетическую связь отдельных ветвей, можно их связать органически.
Единственной схемой может быть та, в основу которой кладется эволюционный принцип, требующий знания истории, но именно в силу этого она и явится наиболее естествен- ной, как наименее поддающаяся элементу субъктивности в ее построении.
Таким образом, с достаточной отчетливостью выясняется, насколько необходимо участие истории математики», в решении философски-математических вопросов не только, общего, но и частного характера.
Роль истории математики в освещении путей к устранению трудностей, возникающих при решении проблем.
Проф. Васильев сообщает в одной из своих статей, что Чебышев высказал свой взгляд на цели и задачи современной математики в следующей форме: «математика пережила два периода. В первый период (задача об удвоении куба) задачи ставили боги. В эпоху Паскаля, Фермата и других знаменитых геометров их давали полубоги. Теперь задачи ставит масса и ее нужды». Проф. Граве в своей «Энциклопедии математики» по поводу этого высказывает мнение, что всегда существовал только третий период.
Слова Чебышева, конечно, не более как мысль, высказанная ради красивой формы, что же касается утверждения Граве, то в его истинности мы позволили себе усумниться. Если практика, как показывает история, и ставила задачи, то развитие математики на этой почве под преобладающим влиянием утилитаризма совершалось только в первой стадии накопления научного материала, когда об идеальных целях и стремлениях науки, как таковой, не могло быть и речи. Чем тоньше становилось интеллектуальное развитие, чем больше человек овладевал способностью к дедукции, освобождаясь от пут грубого эмпиризма, тем ярче вырисовывались цели познания и тем интенсивнее работал человеческий ум в направлении возможного совершенствования начал науки безотносительно к их практической применимости.
Вне этого импульса наука никогда не достигла бы ледяных вершин абстракции, откуда открываются необозримые горизонты и наука, как могучий властелин, окидывает все проникающим взором свои владения.
Если бы позволить потребностям момента сковывать полет творческой фантазии, мы вместо стройного здания науки располагали бы обрывками бессистемного знания.
История науки показывает нам, что в разные эпохи практика выдвигала на очередь чаще всего такие задачи, с которыми наука не могла справиться наличными средствами.
В некоторых случаях сложность проблемы действительно побуждала к работе в определенном направлении, которая иногда увенчивалась успехом, но как общее правило наблюдается как раз обратное: нередко проходили века, прежде чем наука оказывалась в состоянии приблизиться к такой постановке вопроса, при которой можно было надеяться на его решение. Но неустанно работавшая мысль человеческая создавала новые средства и приемы исследования, не заботясь о практической стороне: идеальная потребность выявления творческих сил, коренящаяся в природе и свойствах нашего разума, вела развитие науки особыми путями, не предначертанными запросами действительной жизни и приходила к построению новых форм, к созданию новых идей, плодотворных и м» гообещающих в своей дальнейшей эволюции и тут обнаруживалось, что проблема, не поддававшаяся многовековым усилиям, оказывается вдруг разрешимой, благодаря счастливой дедукции, возникшей и развивавшейся притом в таком направлении, от которого, казалось, меньше всего можно ожидать помощи.
Характерно, чго многие замечательные открытия в области математики совершены попутно при стремлении к решению другого, заране поставленного вопроса.
Иногда математик приходит к таким соотношениям, которые кажутся замкнутыми в своей абстрактной форме, изолированными от реального мира. Но эго до поры, до времени: практика, в свою очередь, может спустя много лет выдвинуть вопрос, решение которого возможно только с помощью вышеупомянутого соотношения.
Когда в 1831 г. Фарадей установил законы индукции между токами и магнитами, его спросили: «Какое значение имеет это открытие? — Какое значение имеет ребенок? ответил великий физик. Он растет, чтобы стать человеком. Ребенок Фарадея стал человеком и является теперь основой всех современных практических применений электричества. Идеи его, в свое время плохо понятые, обработаны математически сорок лет спустя Максуэллем. Так создалась электромагнитная теория света.
Подобных примеров не мало и в области математики, разве древне-греческие геометры, изучавшие свойства конических сечений, подозревали, что это открытие много веков спустя будет иметь решающее значение для астрономии.
Ксенофонт, ученик Сократа, свидетельствует, что этот мудрец придавал значение геометрии, поскольку этого требует практическая жизнь, считая все остальное в этой области безплодными умозрениями, Конечно, Сократ не понимал математики, но его мнение было авторитетно и оно могло бы гибельно отозваться на успехе науки. К счастию, этого не случилось и тедцусдпому, что великие геометры в своем проникновенном ггве мало думали о практической- полезности их открытий.
Ганкель в своей статье «Ein Beitrag zur Beurtheilung der Naturwissenschaft des griechischen Alterthums» говорит: «Мы в особенности должны отметить недостаток, состоящий в том, что древние ученые всюду брались за ближайшие, ставимые ежедневным наблюдением, задачи и упорно за них держались, хотя математика всегда могла бы их научить, что ближайшие задачи нередко бывают гораздо более сложными и запутанными, чем более отдаленные; что к задачам должно итти не иначе, как через само развитие науки. Мы не настаиваем на утверждении, что в этом принципе с давних времен уже осуществляемом математиками, хотя и бессознательно, лежит существенное основание неудержимого прогресса математики. Так как этот принцип, насколько мы знаем, еще нигде не был высказан, то для утверждения его можно привести ряд примеров».
Сам Ганкель ссылается при этом на закон простых чисел, трисекцию угла и удвоение куба.
Рассмотрим хотя бы вторую из этих задач, над которой бесплодно бились видные геометры Греции. Как известно элементарная геометрия допускает пользование только двумя инструментами: циркулем и линейкой. Таким путем можно решить задачу для частного случая, именно, пифагорейцы уже умели делить на три равные части прямой угол при помощи равностороннего треугольника. Однако, в общем виде, т. е. для произвольно взятаго угла такое геометрическое решение не могло быть найдено. Сознавая, что задача недоступна средствам элементарной геометрии, греческие ученые потратили не мало сил и остроумия, чтобы подойти к решению вопроса с другой стороны.
Современник Сократа, Гиппий открыл особую кривую, свойствами которой пользовался Динострат при решении этой задачи и поэтому кривая эта известна в науке под именем «квадратриксы Динострата». По свидетельству Прокла, другой геометр Никомед изобрел для этой же цели кривую — конхоиду.
Знаменитый Архимед показал, что кроме конхоиды можно пользоваться и коническими сечениями. Папп Александрийский также дает решения при помощи конхоиды, или гиперболы.
Однако все эти ухищрения с геометрической точки зрения были «суррогатами» решения и геометры чувствовали неудовлетворенность, так как у них не было, да и не могло быть уверенности, что задача относится к числу «неразрешимых» (в известном смысле).
Много позднее знаменитый французский математик Виета заметил, что к этой проблеме сводится решение всякой задачи, зависящей от уравнения третьей степени, а Ньютон в своей «Arithmetica universais» применил конхоиду к построению всякого кубичного уравнения.
Переведем теперь вопрос на современный символический язык. По данному углу 3-я требуется построить угол я. Так как по известному из тригонометрии соотношению ...
Для всех углов типа решение будет иметь место, для всех других углов кубичное ур — не будет неприводимым и след, в общем виде решение задачи невозможно.
В своей превосходной книге «Вопросы элементарной и высшей математики» проф. Клейн по этому поводу говорит: «Современной математике удалось при помощи доказательств невозможности исчерпать целый ряд знаменитых проблем, над которыми с древних времен тщетно трудились многие выдающиеся математики. Достаточно указать на задачи: о построении правильного семиугольника, о трисекции угла и квадратуре круга. При всем том имеется много людей, которые и по сей день занимаются этими задачами, не только не имея никакого представления о высшей математике, но и не зная даже постановки вопроса о доказательстве невозможности.
Сообразно своим познаниям, ограничивающимся обыкновенно элементарной геометрией, они пытаются преодолеть затруднения вспомогательными прямыми и окружностями, и в конце концов, награмождают их в таком количестве, что никто не в состоянии разобраться в получающейся путанице и непосредственно показать автору его ошибку. Вы напрасно будете ссылаться на существующее доказательство невозможности, так как на этих людей в лучшем случае можно повлиять только прямым указанием допущенной ими ошибки.
Приведенный нами пример ярко подчеркивает роль истории математики в освещении тех трудностей, с которыми сопряжено решение той, или иной проблемы. Когда знакомство с ее историческим прошлым дает возможность
оценить сложность задачи и то обстоятельство, что овладеть ей не удается, несмотря на усилия десятков тысяч людей, при чем среди них могут найтись и такие, о бесплодной трате времени которых можно пожалеть, то люди серьезной математической инициативы переносят вопрос в иную плоскость и стремятся доказать, что при данных условиях задача эта неразрешима.
Типичным примером, поучительным с исторической точки зрения является вопрос о решении уравнений в радикалах.
Еще знаменитый Диофант Александрийский в своих «Ариеметиках» решает квадратные уравнения, индусский математик Баскара, о котором мы уже упоминали, в пятой главе своей арифметики (Lil&vati — прекрасная) дает не только решение квадратных уравнений, принимая во внимание двойственность корня (по крайней мере для положительных значений), но приводит частные случаи уравнений третьей и четвертой степени, пользуясь, правда, искуствен-ными приемами. Арабы легко справлялись с квадратными уравнениями, чтоже касается кубичных, то знаменитый математик Омар Алькгайями в своем трактате по алгебре (Woepcke, LAlgebre dOmar Alkhayyami, publiee, traduite et accompagnee dextraits de manuscrits indits. Paris. 1851) уже занимается построеним корней уравнений третьей степени. Алгебраически эти уравнения, а также и 4-й степени разрешены позднее главным образом благодаря усилиям итальянских математиков Ферро, Тарталья, Кардано и Феррари. Так как в уравнениях всех указанных степеней решение сводится к выражению неизвестного в виде радикальной функции от коэффициентов, то печальный обычай заключать от частнаго к общему привел к тому, что при попытках решения уравнений 5-й степени, идя по проторенной дороге, ученые тратили бесполезно свои силы, уверенные в том, что корни этих уравнений «должны» выражаться в радикалах. В то время как центр тяжест ивсей трудности решения вопроса коренился в природе самой
«степени» уравнения, они полагали, что все дело в относительной сложности радикального выражения корней.
Лагранж в своем замечательном мемуаре «Reflexions sur la resolution algebrique des equations» указывает на «перелом» в теории уравнений: в то время как решение кубичнаго уравнения сводится к квадратному, а четвертой степени к кубичному, пятая степень приводит не к низшей, четвертой, как того, казалось бы, можно ожидать по аналогии, а наоборот, к высшей — шестой. В конце концов Лагранж готов был думать, что решение уравнения пятой степени невозможно.
С тех пор как Абель доказал невозможность решения в радикалах в общем виде уравнений 5-й степени1), всякий человек понимающий в математике настолько, чтобы разобраться в доказательстве Абеля, (теорема эта излагается в подробных курсах Высшей Алгебры) не станет тратить безполезно труд и время, чтобы сделать невозможное возможным. Если он заинтересуется историей развития этого вопроса, то он увидит, что здесь две существенно различных фазы: первая — до открытия Абеля характеризуется усилиями решить вопрос со стороны людей науки. Вторая — по закреплении в науке новаго завоевания, несет с собой новую точку зрения на проблему, сберегая одновременно силы ученых для более благодарной работы. С этого момента задачей в ее прежней постановке могут заниматься или невежды, не дающие себе труда ознакомиться с ее историей, или упрямцы, лишенные способности понять смысл кардинальнаго момента, соответствующаго научному открытию и отделяющаго первую фазу от второй. История математики и здесь показывает нам, что вопрос о решении Уравнений переносится опять таки в новую плоскость. На очередь ставится проблема об алгебраическом решении. численных уравнений высших степеней. Сам Абель открыл Между прочим целый класс таких уравнений, носящих по предложению Кронекера, его имя. Возникает совершенно новый по самой природе своей вопрос, от каких соотношений между корнями уравнения зависит его «алгебраич-ность», т. е. разрешимость в радикалах, т. к. оказалось, что и среди уравнений высших степеней имеется безчислен-ное множество, допускающих алгебраическое решение.
Честь разрешения этой проблемы принадлежит гениальному французскому математику Галуа, к великому несчастью для науки безвременно погибшему и не успевшему дать окончательную обработку своему мемуару, напечатанному в 1846 г. в журнале Лиувилля, где многие теоремы приведены без доказательства. Позднее французский математик Серре дал доказательство этих теорем и полное изложение теории Галуа во втором томе своего курса Высшей Алгебры.
Этот пример указывает, что в каждом отдельном случае знакомство с историей проблемы и положением ее в i настоящий момент определяет дальнейшее направление творческой мысли, намечая те пути, следуя которым преемники великих идей содействуют их дальнейшему развитию.
Не надо забывать, что мысль человеческая на пути искания истины редко когда шла сразу по линии наимень-1 шего сопротивления: путь этот был извилистый, с perpec- сивным движением и частыми остановками. В этих многократных уклонениях и колебаниях всякая идея проходила через горнило критической работы разума прежде чем от- литься в форму приемлемого научного положения.
На темном историческом фоне нелепостей, заблуждений и патологических изворотов мышления яркими огненными знаками выступают то тут, то там проникновенные мысли математического гения, освещая путь вперед и служа вехами в неудержимом полете творческой фантазии последующих поколений.
Различие взглядов Бернулли и Лейбница на природу логарифмов отрицательных чисел, расходящиеся ряды, мистические увлечения свойствами чисел, геометрическая интерпретация мнимых количеств, теории параллельных линий, пресловутая квадратура круга, метафизические споры об истинной природе предела и сущности дифференциалов — все это исторические факты, с которыми точной науке приходится считаться и приведенные примеры являются типичной иллюстрацией к характеру искания истины в области математики. Нам кажется, что если было бы возможно в этих целях построить громадную историческую диаграмму, то это оказалось бы не только курьезно, но и весьма поучительно.
Английский математик Морган (1806 — 1871), глубокий знаток истории своего предмета, написал превосходную книгу «А budget of paradoxes». Автор задался оригинальной целью нарисовать картину всех сумасбродств в области математики, физики и астраномии, которые когда либо печатались. Морган даже классифицировал все заблуждения человеческой мысли по характеру «ide fixe»: тут и антикоперниканцы и антиньютонианцы, алхимики, астрологи, мистики, наконец те, кто увлекался квадратурой круга и трисекцией угла — и надо заметить, что среди этих маниа-ков и нелепых мечтателей находились люди с большими знаниями и даже дарованиями.
Историк математики пройдет мимо каждого из них, как отдельной личности, но с явлением подобного рода в его целом он должен считаться, как с весьма знаменательным фактом, свидетельствующим о том, что история математики чуть ли не наполовину есть история заблуждений человечества в этой области.
Среди задач, занимавших лучшие ученые силы в более поздние периоды, когда наука достигла сравнительно высокой степени развития, надо отметить те, которые, будучи Разрешимыми по существу, могут оказаться неразрешимыми при тех средствах, какими наука распологает в данный момент. Приходится довольствоваться или частными случаями, или определенными приближениями к решению.
Такова напр, знаменитая задача, известная в механике под именем «задачи трех тел»: Для известного момента даны положения и скорости трех взаимно притягивающихся по закону Ньютона тел (т. е. прямо пропорционально массам и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними). Требуется определить их положения и скорости для любого данного момента. Написать дифференциальные уравнения движения не трудно, но интегрирование их удалось Ньютону лишь для случая двух тел, что же касается трех, тел, то в общем виде решение ее превышает средства анализа. Для целей практической астрономии теоретикам ничего не оставалось больше, как выработать методы для приближенного решения задачи, пользуясь тем, что для солнечной системы допустима упрощенная постановка проблемы, если считать влияние одного из трех тел на относительные движения двух других весьма малым. Так создались две существенно различающиеся по прилагаемым к ним методам теории — лунная, соответствующая системе из солнца, земли и пуны и планетная (для солнца и двух планет), Работали в этой области и соперничали такие титаны математической мысли как Эйлер, Клеро и Даламбер, которым удалось независимо друг от друга и почти одновременно получить решения задачи о трех телах в форме пригодной для лунной теории. Аналитический метод, примененный ими, давал надежду на дальнейшее усовершенствование и в общем позволял обяснить все особенности движения луны, кроме векового ускорения.
Знаменитый Лаплас в третьем томе своей «Небесной механики дал трактат по лунной теории, при чем его метод отличался новизной, и оригинальностью, и как он сам говорит, он имел цепью показать в одном законе всемирного тяготения источник всех неравенств движения луны, затем воспользоваться этим законом, как средством открытия, усовершенствовать теорию этого движения и вывести из нее некоторые важные элементы лунной системы. Лапласу удалось обяснить и вековое ускорение в движении луны.
Что касается попыток точного решения задачи трех тел в общем виде, то невозможность справиться с ней вынудила геометров обратиться к изучению более простых задач и Эйлеру удалось дать решение для случая, когда из трех тел два неподвижны. В новейшее время много сделано в этом направлении исследованиями Пуанкаре и теперь оставляют неподвижной только одну точку, но даже и в таком виде задача поддается решению в первом приближении и при условии преодоления невероятных трудностей.
По самому характеру своему проблема оказывается столь высокого порядка, что в настоящее время первоклассные математики могут подойти к решению этого вопроса только путем глубокаго изучения его истории.
Жюль Таннери в своей статье «Чистая математика» (Метод в науках) говорит: «Всякое открытие приходит в свой час; оно делается возможным лишь благодаря всем предыдущим открытиям. Именно то, что знают в каждый наличный момент, подсказывает нам дальнейшие вопросы и указывает средства ответить на них».
Эта мысль встречается уже у Галуа): «В математике», говорит он, как и вообще во всех науках, каждая эпоха имеет, так сказать, свои вопросы дня: есть проблемы животрепещущие, привлекающие к себе — как бы помимо их воли — умы наиболее выдающихся исследователей. Часто развитие идей принимает такой характер, как будто какое то откровение осенило нескольких изследователей и внушило им одни и те же теории. Если поискать причины этого, мы без труда найдем ее в произведениях наших предшественников, где эти идеи находятся помимо ведома их авторов».
) Manuscrits et papier inedit de talois (Bulletin det sciences mathSmatiques, 2 серия, t xxx, p. 260).
Достаточно вспомнить факт почти одновременного создания дифференциального и интегрального исчислений Лейбницем и Ньютоном, открытие и развитие теории эллиптических функций Абелем и Якоби, наконец, исследования в области не эвклидовой геометрии Болиай и Лобачевскаго.
Разными путями и своеобразными методами, но приблизительно в одно и то же время, часто об этом и не подозревая, подходили великие ученые к разрешению назревших вопросов.
Знаменитый французский аналист Эрмит («Corres — pondance dHermite et de Stieltes» т. 1 с. 8) был глубоко убежден, что абстрактным спекуляциям анализа соответствуют реальности, существующие вне нас и которые рано или поздно станут нам известны. «Я думаю даже», пишет он, «что усилия чистых математиков направляемы без их ведома к такой цели: история науки, кажется мне, доказывает, что аналитическое открытие совершается как раз тогда, когда оно делает возможным каждый новый шаг вперед на пути изучения явлений внешнего мира, доступных анализу». Разумеется мы не в состоянии установить наперед в наших изысканиях искомую цель; мы ищем, но мы не знаем заранее, что мы найдем, и иногда мы попадаем таким образом на самые неожиданные пути. В том и состоит польза изучения частных функций, что она показывает нам цель, к которой нужно стремиться при разысканиях более общего характера.
Если бы в некоторых частных случаях история происхождения и развития плодотворных математических идей фактически изменила бы вследствие чисто — случайных причин свой исторический облик в смысле хронологической последовательности, то здесь причина и следствие только поменялись бы местами; различие было бы чисто внешнее, а не по существу, так как в конечном результате наука располагала бы той же суммой истин открытых в порядке обратной последовательности. Если бы мы предположили, что интегральное исчисление исторически предшествовало открытию логарифмов, то математики, получив так называемый интеграл — логарифм, написали бы
и стали бы искать эту неизвестной природы функцию (х), для которой им была бы известна только ее производная. Нет сомнения, что изучив свойства этой функции они пришли бы к построению логарифмического алгорифма в иной концепции и с иной символикой, чем та, которая сложилась исторически. Может быть, самый термин «логарифм» не существовал бы, но понятие, вкладываемое в этот термин ничем бы не отличалось от завоевавшего себе право гражданства в науке при ходе исторического процесса в его естественных условиях.
Культуры, как определенного комплекса ценностей, сформировавшегося за известный период времени, можно достичь в разные эпохи и при различных условиях пространства и времени. Будут иные средства исследования, своеобразные приемы и методы, но конечный результат может получиться один и тот же: различие будет чисто внешнее: в форме, в оболочке идей. Что же касается содержания, то разница скажется в частностях, не меняющих итога деятельности человеческого духа по существу.
Из пальцевого счета возникли квинарная, децимальная и вигезимальная системы счисления: степень культурности народа отразилась на облике, на внешнем проявлении системы, но идея, давшая им жизнь, одна и та же и при большем сходстве условий культурного роста обнаруживается удивительная аналогия и в степени развития исходной идеи.
История математики как воспитательный фактор и ее роль в отношении педагогики.
Немецкий математик Ф. Майер написал книгу «Е1е-mente der Arithmetik und Algebra» и с первой же страницы толкует о «мощности множества». Базируясь на этом понятии, он развивает систематический курс, безупречный в смысле строгости, но замкнутый в свой отвлеченности и потому мало доступный усвоению в школьном возрасте. С точки зрения методики преподавания начал математики книга эта при всей ее внутренней ценности как руководство не пригодна, если принять во внимание «средние способности», и по этому поводу проф. Ф. Клейн, ссылаясь на основной биогенетический закон, согласно которому в развитии индивида повторяются в меньшем масштабе все стадии развития вида, говорит, что этому закону должно следовать вообще всякое преподавание, а в частности и математики.
Преподавание должно следовать тому же самому пути, по которому все человечество, начиная со своего наивного первобытного состояния, дошло до вершин современного знания. Научно обучать — значить приучить человека научно мыслить, а не оглушать его с самого начала холодной, научно наряженной систематикой. «Существенное препятствие» по мнению Клейна, «к распространению такого естественного и поистине научного метода обучения, представляет, несомненно, недостаток в знакомстве с историей математики»:
С своей стороны добавлю, что иногда это проистекает от умышленного игнорирования данных истории и, конечно, свидетельствует о непонимании истинных целей преподавания. Медленность роста культурно-исторических завоеваний нигде не выступает с такой яркостью, как в сфере возникновения и развития математических идей и педагогам прежде всего надо прислушиваться к голосу истории, извлекая из нее ценные указания для обучения по генетическому методу.
В своем докладе «Об указаниях, получаемых преподаванием математики от ее истории», читанном на 2-м Всероссийском Създе преподавателей математики в Москве (в 1913 г.) проф. Бобынин определенно высказался в том смысле, что «содержание пропедевтического курса элементарной геометрии должны составить измерения линий, поверхностей и объемов в том виде и при употреблении тех же приемов и средств, которыми пользовалась при тех же измерениях геометрия донаучного периода развития наук математических».
Такое построение пропедевтического курса вводит исторический элемент в самый строй преподавания и имеет важное значение не только для геометрии, но и для всей элементарной математики вообще.
Что касается геометрии, то вопросу о том, как следует преподавать эту науку, посвящена целая литература. Не правильное понимание целей, которые ставил себе Эвклид, когда писал свои «Начала», повело к тому, что не один десяток поколений учащегося юношества приобрел отвращение к математике именно потому, что у нас веками освящено преподавание геометрии по Эвклиду. Невольно вспоминаются слова Рожера Бекона: «Только розгами можно вогнать ученикам четыре первых теоремы Эвклидовых «Элементов», а пятая уже называется elefuga — бегство несчастного».
В Англии особенно упорно держались метода Эвклида и только в недавнее время свежая струя охладила пыл педагогов и заставила более вдумчиво отнестись к вопросу о том, в какой форме наиболее приемлемы геометрические истины на первой ступени знакомства с ними.
Во Франции с легкой руки Лежандра, культивировавшего поклонение переработанной схеме Эвклида, геометрия преподносилась учащимся, как Афина, вышедшая во всеоружии из головы Зевса и его учебник, получивший распространение и известность далеко за пределами Франции, оказал влияние на преподавание геометрии в нежелательном направлении и у нас в России (достаточно вспомнить компиляцию Давидова), а у себя на родине в свое время вытеснил из употребления превосходный курс знаменитого математика Клеро, в котором автор сразу брал что называется «быка за рога». Впрочем, французы никогда не проявляли особой восторженности по отношению к методу Эвклида и здесь скорее играл роль авторитет Лежандра; что же ка-
сается Германии, то стоит прочесть работу Мюллера «Besitzt die heutige Schulgeometrie noch die Vorzuge des Euklidischen Originals», чтобы видеть, насколько мало склонны были немецкие педагоги к изложению геометрии по Эвклиду.
В Италии в начале второй половины истекшего столетия была явная тенденция закрепить за школьным преподаванием манеру Эвклида (см. Э. Бетти и Ф. Бриоски «Gli Elementi dEuclide» 1867) но, как выразился проф. Марио Бекки, «форма и стиль» Элементов», поскольку речь идет о значительной части их редакции, мало соответствовали вкусам нашего более нового времени» и в результате появились работы Паолис и Веронезе, где критика основона-чал и идея «фузионизма» играют доминирующую роль.
Подводя итог вышеуказанному, можно констатировать тот факт, что в разных странах разными путями многие видные математики в конце концов пришли к определенному заключению, что по Эвклиду преподавать геометрию нельзя, что конечно, не исключает уважения к его труду, как памятнику исключительной исторической ценности: это трактат, а не учебное руководство и, вероятно, сам Эвклид не одобрил бы тех педагогов, которые, следуя его методу, отбивали у своих питомцев вкус к геометрии. Понадобилось две тысячи лет, чтобы понять всю несообразность требований, предявляемых к юному уму и если под влиянием реформ учебных планов в духе новейших методических идей не вызваны к жизни образцы, могущие заменить Эвклида, то уже самый сдвиг в сторону коренных преобразований в области преподавания геометрии свидетельствует о том, что «уроки истории» не пропадают даром.
Ф. Энриквес в своей статье «Замечания о преподавании научной геометрии» говорит, что «Евклидово трактование, которое ставит рядом значительно отдаленные во времени результаты и сочетает их в одну дедуктивную систему, прикрывает догматической формулировкой путь, приведший к их открытию».
Это постоянное движение вперед ощупью, как бы с завязанными глазами, менее всего способствует усвоению геометрического материала в той мере, в какой это необходимо прежде всего для уразумения связи между его частями, а между тем с педагогической точки зрения это необходимо, и практически достичь этого можно, строя курс на принципе «генетизма», сущность которого лучше всего обрисована следующими словами Брэнфорда1): «Наиболее целесообразный путь развития познаний и умений в каждом отдельном человеке совпадает в общих чертах с путем, пройденным исторически человечеством при развитии им данного частного рода познаний и умений».
Полтора века тому назад Клеро понял важное значене этого принципа и в предисловии к своим «Elemens de geometrie» (1765) он обясняет причины, побудившие его стать на генетическую точку зрения: «я думаю, говорит он, что геометрия, как ьсе другие науки, должна была образоваться постепенно, что вероятно, первые шаги были пройдены ей в силу необходимости и что эти первые шаги не могут превосходить силы начинающих, так как они были сделаны начинающими. Исходя из этой мысли, я поставил себе задачей дойти до того, что могло обусловить возникновение геометрии». В изложении курса Клеро применяет естественный метод, относительно которого можно предположить, что он тожествен с приемами первых изобретателей; при пользовании этим методом надо стараться однако избегнуть всех ошибочных попыток, которые они по необходимости должны были делать. Таким образом, курс начинается не с аксиом и определений, а с разрешения ряда практических вопросов, служащих поводом к постепенному открытию основных предложений, при чем ступени материала предуказываются историей геометрии. За подобную постановку курса ратует в цитированном выше докладе Бобынин также и по отношению к арифметике. Еще большее значение, как нам кажется, приобрел бы курс алгебры, развитый в том же направлении.
Научить искуству открывать истины, ввести в лабораторию мысли — вот главнейшая цель обучения. Повторение с чужих слов окристаллизовавшихся в окончательной строго научной форме тех или иных положений никогда не вызовет самодеятельности. Если преподаватель предлагает запомнить, что «число есть количественное и качественное отношение двух частей некоторого множества», то это определение, заученное механически, не проникнет в сознание, но если ему предпослать очерк постепенного раз-,, вития числовых восприятий, то определение будет осмы- слено и понято настолько, что работа запоминания окажется излишней.
Еще менее благополучно обстоит дело с геометрическими и механическими понятиями. Насколько плохо по- следние усваиваются даже в старшем возрасте, видно из того, что весьма немногие из кончивших курс так назы- i ваемой средней школы в состоянии осмыслить определение «силы». Для значительного большинства мир науки и мир действительности, по словам Пуанкаре, отделены друг от друга непроницаемой перегородкой. «Каково для них истинное определение силы? Совсем не то, которое они повторяют, но то, которое, будучи скрыто в одном из закоулков их разума, управляет оттуда всем разумом. Вот это определение: «силы — это стрелки, из которых строят параллелограммы». Стрелки эти у них — воображаемые существа, которые ничего не должны делать ни с чем из того, что существует в природе».
В шутливо иронической форме знаменитый ученый выносит суровое осуждение школьной рутине, тем схоластическим традициям, которые свили себе прочное гнездо в учебной литературе. И в этой области надо призвать на помощь прежде всего историю науки. Вследствие самого характера механических принципов, медленно поддававшихся исчерпывающему анализу их содержания, они с трудом
усваиваются учащимися в окончательно выработанной форме, поэтому ознакомление с процессом их постепенного развития должно в значительной степени облегчить как чисто логическое понимание той или иной механической концепции, так и понимание цели введения ее в науку.
Не менее существенной может оказаться помощь истории науки в деле преподавания математики в Высшей школе. Всем известно, насколько трудно усваиваются понятия о производной и дифференциале большинством студентов младшего курса. Каждый в отдельности может поразить быстрым и отчетливым дифференцированием функций, но за редкими исключениями это достигается чисто механическим навыком: самая суть выполняемой операции окутывается при этом густым метафизическим туманом. И происходит это чаще всего вследствие того, что в курсах анализа идея производной сваливается с неба в своем готовом законченном виде. Избегнуть этого не трудно, придерживаясь генетического метода и предпосылая изложению систематического курса дифференциального и интегрального исчислений исторический очерк развития идей, лежащих в основе анализа безконечно малых
Полезность такого введения была отмечена таким знатоком дела, как проф. Зигмунд Гюнтер, а у нас в России в практику университетского преподавания введена в Казанском университете проф. Васильевым, ежегодно читавшим сжатый, но превосходно составленный курс, начинавшийся с разбора метода исчерпывания и работ Архимеда; затем автор переходил к трудам Кеплера, Кавальери и Fo-берваля. Следующая глава была посвящена вопросам о проведении касательных к кривым и задаче нахождения Наибольших и наименьших значений (Ферма, Барроу); трудам Лейбница и Ньютона уделялись также особые главы, а в Заключении давался общий обзор дальнейших успехов анализа в смысле попыток критического обоснования его начал в виду расхождения во взглядах виднейших математиков На природу безконечно — малых.
Нам кажется, что такое знакомство с историей предмета, помимо захватывающего интереса, должно логически подготовить к восприятию и осмысленному пользованию новыми понятиями,, при котором знаки дифференциала и интеграл перестают быть «кабалистическими» в глазах непосвященных.
Таким образом, генетический метод оказывается одинаково ценным на разных ступенях интеллектуального развития и по отношению к Геометрии проф. Бобынин утверждает, что только в нем одном лежит залог возможности успехов преподавания.
Стоя на точк зрения эмпирического происхождения основ математики, необходимо в пропедевтических курса уделять особое внимание лабораторному методу, но ставить его в зависимость от исторических условй; при этом можно будет заметить, что учащиеся постепенно привыкают в своих самостоятельных работах применять (конечно в наивно — примитивной форме) все рессурсы и приемы математического мышления, выработанные на протяжении ряда веков.
Что касается преподавателей, то в вопросе о необходимости широкаго знакомства с историей предмета двух мнений быть не может, что и было отмечено в 1908 геду на IV Международном Конгрессе математиков в Риме. В своей статье «Les definitons generates en mathematigues» Пуанкаре еще раньше (1904 г.) сказал: «Воспитатель должен заставить ребенка пройти через те же этапы, что и его предки; быстрее, но не разрушая этапа. Вот почему история науки должна быть нашим главным проводником».
Проф. Симон в своей книге «Дидактика и методика математики в средней школе» (2-е изд. рус. перев. 1917 г. стр. 41) подчеркивает необходимость знакомства для преподавателя с историей основных понятий науки. «История математики, особенно элементарной, если излагать ее с культурно-исторической точки зрения, имеет для образования учителя по меньшей мере такое же значение, как элиптические и абелевы функции и ее давно уже пора включить в программу учительских испытаний».
К сожалению, до сих пор и в Западной Европе, и тем более у нас, несмотря на то, что на създах математиков, неоднократно высказывались взгляды на историю математики, как область знания, которая должна занять одно из почетных мест в ряду культурно-исторических дисциплин, в высшей школе она оттесняется на задний план, если даже и читается как специальный предмет, а не в связи с изложением общих курсов (чаще всего по личной инициативе лекторов), в средней же школе ей совершенно отказано в месте. Ненормальность такого отношения об-ясняется прежде всего непониманием ее задач и целей, отчасти же повинны в этом и сами математики, проявляющие мало интереса к истории своей науки, хотя литература предмета представлена за последние полвека довольно обстоятельно и в ряде курсов общего характера и в исследованиях, посвященных специальным вопросам и особенно в периодических изданиях
Историку в курсе средней школы при богатстве фактического материала приходится уделять вопросам истории культуры слишком мало времени и вполне понятно, что в случае возможности он остановит внимание на деятельности виднейших представителей философии, литературы и искусства.
Преподаватель математики, казалось бы, без особого труда мог восполнить этот пробел и попутно при прохождении курса ознакомить с главнейшими моментами истории развития науки, пользуясь для этой цели хотя бы биографическим элементом.
Жизнь таких корифеев науки, как Кеплер, Галилей, Ньютон, Эйлер, Лобачевский не менее способна возбудить Интерес, чем деятельность Цезаря, Карла Великого, или Наполеона.
Еще в 1899 г. на създе преподавателей физико-химических науки средн. уч. заведений Московского Учебного Округа в одном из докладов (Е. В. Надежина) о введении исторического элемента в курс физики, между прочим.
указывалось на то, что исключительно успехи естествознания в связи с математикой давали колорит той или другой эпохе, а отнюдь не войны, история которых так старательно и с такими подробностями проходится в курсах истории.
В виду этого высказывалось пожелание дать возможность учащимся знакомиться с историей человечества не только со стороны политики и войн, а со стороны развития мысли в области науки вообще, а точных наук в особенности. Если и попало имя Архимеда в учебник истории, так во всяком случае не за его заслуги по математике и механике, а исключительно за то, что он в свое время помог родному городу успешно обороняться против натиска врагов.
Известный педагог Шохор-Троцкий, опираясь на свой долголетний опыт, говорит, что ученики обычно ничего не знают по истории математики, но всегда проявляют интерес к вопросам исторического характера. «В книге Р. Бальцера «Элементы математики», говорит он, есть подстрочные примечания: если бы учителя пользовались хотя бы только ими, то и это принесло бы им пользу». Я
Если не представляется возможным ввести в курс UU средней школы преподавание истории элементарной мате-О матики, как отдельного предмета, то нельзя не согласиться с выше приведенным пожеланием, т. к. если оценивать знания по их удельному весу, то, во всяком случае, иметь представление о жизни и ученой деятельности Ньютона куда полезнее, чем запоминание безконечной вереницы Карлов, Генрихов и Людовиков.
Проф. Бобынин в своем докладе «цели, формы и средства введения исторических элементов в курс математики средней школы». 2) развил несколько в высшей степени интересных тезисов и некоторые из них заслуживают особенного внимания.
Исторические элементы, по его мнению, могут быть введены в преподавание математики в средней школе или1, в систематической, или в эпизодической форме. Первая при существующих условиях оказывается мало приемлемой во первых, вследствие недостатка времени, во вторых, вследствие недостаточной степени умственного развития, т. к. природа истории математики, как предмета философского характера, требует значительного напряжения сил и подготовки для усвоения. Остается вторая форма, да и то под условием изложения заимствуемых из истории математики статей в форме, доступной учащимся. В последнем случае может оказать существенную помощь составление историкоматематической христоматии с целесообразным подбором материала.
Что касается целей преподавания, то во первых, этим путем можно бороться с отрицательным отношением к математике, которое так часто встречается в семье и в обществе и даже распространено в педагогической литературе.
Вторая цель заключается в указании действительной пользы и значения математики.
На третьем месте следует поставить углубление понимания и расширения сведений при содействии истории в тех статьях математического курса, которые при нынешней постановке преподавания не только трудно даются учащимся при первоначальном изучении, но и затем для большинства их остаются на все время пребывания в школе усвоенными недостаточно и поверхностно.
Наконец, кроме указанных целей общего характера, можно преследовать и специальную цель по отношению к тем учащимся, которые проявляют особую склонность к Математике. Для них введение исторического элемента особенно необходимо, с одной стороны для развития сознательного и более глубокого интереса к науке, с другой Для побуждения к самостоятельной творческой работе.
В конце концов, второй путь есть путь компромисса, подсказываемый ненормальным положением математики как Учебного предмета в ряду действующих программ и с ним Можно мириться только как с временной мерой. Мы на-
стаиваем на том, что в старшем классе средней школьг необходимо ввести систематический курс истории математики в связи с историей культуры, ограничив его рассмотрением до научного периода и дальнейшим развитием у культурных народов древности. В такой форме, помимо всех указанных выше целей, курс может иметь ценное воспитательное значение, раскрывая картину возникновения постепенного развития числовых и пространственных восприятий, при чем пропедевтически-философское освещение содержания курса должна содействовать укреплению серьезного и сознательного отношения к математике, как науке и как главному культурно-историческому фактору. С одной стороны, должна быть выявлена связь с элементами материальной культуры, с потребностями в области землеизме-измерения, счета времени, строительного искуства и примитивных механических приспособлений, с другой, необходимо показать, что уже на первых ступенях овладения идеями числа и протяжения человек не довольствуется их чисто практическим применением и связывает свойства чисел и фигур с религиозными верованиями. Элементы духовной культуры базируются на созерцании природы и главным образом неба. Зародыши мистической философии тесно переплетаются с космогоническими представлениями, содействуя возникновению астрологических знаний. И в донаучном периоде человек обладал известной суммой сведений наивных и несовершенных, сообразно с низкой степенью интеллектуального развития, но и у него была своя числовая мистика, хронология, астрономия, геометрия, механика, архитектура. Задача истории математики показать, что в этих псевдонауках таились эмбрирны истинного знания, которые в своем медленном росте принимали подчас нелепые и уродливые формы, прошли через целый ряд аномалий и благодаря жизненности, постепенно освобождаясь от рудиментов, следы которых сохранились до настоящего времени, вылились на протяжений ряда тысячелетий в совершенные формы так называемого точного знания.
Подобный элементарный курс истории математики ждет своего составителя, но ощущаемая в нем потребность является залогом, если не полного решения задачи, то появления попыток первого приближения к нарисованной нами схеме. Это единственный надежный путь к искоренению ошибочных и в корне недопустимых взглядов на математику, благодаря распространению которых в обществе значение этой науки недооценивается; неясно представляя цели и задачи математики, так называемые «образованные» люди считают себя вправе толковать вкривь и вкось о ее достоинствах и недостатках даже в печати и надо поражаться сплошной массе нелепостей и заблуждений, которые высказываются не только простыми смертными, но и философами, имеющими претензию считать себя в ряду законодателей в области мысли. Медику не придет в голову критиковать юриспруденцию, музыкант не станет свысока трактовать химию, художник не проявит скептического отношения к языкознанию и только о математике всякий толкует охотно и много, но притом без всякого понимания. В обществе по отношению к области точного знания устанавливается ряд трафаретных мнений: или полная индифферентность, возникающая чаще всего из ни на чем не основанного убеждения, что математика скучная и сухая материя, или суеверное уважение, покоющееся на боязни окунуться в дебри символики, или признание за ней значения с узко утилитарной токи зрения, или, наконец, явно скептичеокое и неприязненное отношение, усвоив которое человек, не давая себе труда ознакомиться с сущностью науки, занимает позицию непримиримого критика в роде покойного графа l. Н. Толстого. Все перечисленные взгляды построены на обсолютном невежестве в этой области и математики оказываются своего рода «кастой», изолированной от остальных культурных слоев общества кажущейся недоступностью их специальности. Чтобы мало мальски трезво судить о математике, нет необходимости быть непременно глубоким специалистом, достаточно ознакомиться с ее историческим прошлым в связи с общекультурными завоеваниями человеческого духа.
В этих целях историку математики предстоит весьма трупная, но благодарная задача: написать книгу не для специалистов, а досту ную пониманию любого интеллигентного человека, безразлично будь то юрист, доктор, музыкант или филолог.
К сожалению, среди математиков не много находится желающих посвятить свой труд и время такой задаче, как уклоняющейся от прямых интересов по специальности. В 1889 году в торжественном заседании Венецианского Института наук, беллетристики и искуств было заявлено о выдаче премии за составление элементарного курса по истории математики и историко-математической хрестоматии1). Премия осталась не присужденной, потому что не было представлено ни одного сочинения.
Что касается специально - исторических исследований и курсов общего характера, которые могли бы удовлетворить запросам математиков, наконец, лекционных курсов для слушателей высшей школы, то этого вопроса мы коснемся в историографическом очерке, здесь же отметим, что в развитии науки некоторые эпохи можно охарактеризовать отсутствием полного интереса к ее истории, когда ученые тратят свои творческие силы исключительно на создание новых ценностей: чем более проникнута эпоха духом творчества. тем беднее с-а разработкой исторического материала, что вполне п нятно. т. к. новые средства и методы приковывают внимание лучших научных сил, направляющих свою работу по линии наименьшего сопротивления: исчерпать приобретенные рессурсы для возможно широкого приложения к разработке подчиненных дисциплин. Период критического отношения и философского обоснования добытых результатов всегда является задачей более, или менее отдаленного будущего и здесь с очевидностью выступает значение истории науки, как вспомогательного средства.
Т) «Si domanda ub compendio di storia delle matematiche. corredato da una cre-stomazia matematica. contenewe estratti delle opere matematiche tfeUantichitl, del medio evo del rinascimento e dei tempi modemi. Di questi estratti bastera, с he, oitre aliaufore, al titolo deelopera ed allestensione, sia indicata la edizione.
Что это так, достаточно вспомнить творческую лихорадку, охватившую ученых Вели-обритании и континента после создания методов бесконечно малых. И творцы эих методов -.ьютон и Л йбниц и их ученики и приемники Тэйлор, Маклорен, ратья Бернулли. Эйлер мало заботились о строгой критической ровер-е исходных положений: плодотворность методов была на лицо и они спешили использо-взть их всеобъемлющую сил , спосгбствуя необычайному росту науки в ширь Это был вполне естественный и пга-вильный путь: намечались вехи для дальнейших исследований, ставились новые вопросы, картина набрасывалась широкими размахами кисти гениальных мастеров, нужны были прежде всего общие контуры, сбшие распределения тонов, детализация оставлялась на долю следующих поколений. Только такая работу могла выявить слабые места и пробелы, начинать с анализа первоначал было не тслько трудно, но и невозможно: без накопления достаточного материала не было повода к критической работе мысли: в конце концов геометры топтались бы на месте без пользы для науки и ее приложений.
Охлаждение творческого пыла знаменует собой новый , этап в развитии методов в глубь, выдвигая ряд трудов совершенно иного порядка, цель которых дать научное обоснование методов, оправдать их приложимость и универсальность на почве строго критического анализа исходных принципов.
Именно в силу этой потребности появляются труды Беркли, Люилье. Карно, Лагранжа и наконец Коши.
Ясно, что самый характер таких трудов требует основательного знакомства с историей разбираемых вопросов и попутно создаются новые концепции, раскрывается истинная природа безконечно-мапых, путем аналогий достигаются обобщения и сближения в областях, казавшихся до того чуждыми друг другу, открываются функции новой природы, словом, дух критицизма указывает науке новые горизонты и способствует ее многостороннему разветвлению.
Параллельно с развитием содержания науки математическая мысль уже не довольствуется простым приложением методов, в сознание проникает необходимость подведения незыблемого фундамента под величественное здание анализа, колеблющееся на почве шатких оснований.
Знаменитый Абель, которому наука обязана созданием теории эллиптических функций, к великому несчастью для науки слишком рано угасший, не имел времени для работы в указанном направлении, хотя часто возвращался к мысли о критической переработке Анализа, к чему у него несомненно были все данные. Он искренно удивлялся тому обстоятельству, что столько людей могут предаваться его изучению. Предложений, которые были бы доказаны несомненно строгим образом, по его словам, оказывается поразительно мало. Печальный обычай заключать от частного к общему встречается в нем повсюду, и что особенно замечательно, так это то, что при таком способе ведения дела редко приходили к тому, что называется парадоксами. По мнению Абеля, причина этого кроется в том, что функции чаще всего могут быть выражены степенями. Но как только являются функции другого рода, случай, встречающийся, правда, не часто — дела, обыкновенно, перестают итти хорошо и ложные заключения порождают многочисленный ряд связанных между собою неточных предложений. В конце концов, геометру приходйтся сознаться, что неимение строгого доказательства равносильно его отсутствию.
То, что не суждено было выполнить Абелю, начал французский математик Коши и довершил к концу истекшего столетия, знаменитый Вейерштрасс. Но глубокие исследования этого реформатора Анализа вызваны детальным изучением исторического прошлого этой отрасли математики.
Сочинения Вейерштрасса нельзя рассматривать, как специально — математические: их критико-философский облик заставляет видеть в них огромную культурную ценность, имеющую общее значение, а в области чистой математики они навсегда останутся образцом поучающим и воспитывающим.
Известный лингвист Шлейхер сказал: «Если мы о чем нибудь не знаем, как оно образовалось, то и не понимаем его. Эти слова как нельзя более применимы к истории происхождения и развития анализа до его современного состояния.
И если вообще наука в ее теперешнем положении ставит себе задачей установить законы воспитания духовных сил человечества, то это в равной степени распространяется на математику в ее целом. Но необходимым условием для этого является знание истории.
Коснувшись в начале главы методической стороны преподавания, мы исходили из предположения, что учебные планы могут быть соответственно переработаны, но разбор вопроса оказался освещенным односторонне, т. к. мы оставили в стороне соображения педагогического характера. Если трудно мириться с современным состоянием преподавания в отношении методов, то вряд ли можно согласиться с самым содержанием школьного курса, по крайней мере в той форме, какая культивируется у нас в России. Здесь не место вдаваться в полемику по вопросам педагогики, но нельзя не подчеркнуть того поистине изумительного факта, что наши учебные планы до сих пор строились в разрез с требованиями теории преподавания элементов математики. Допустим, что средняя школа не имеет целью дать «знания предмета, имея в виду лишь общее развитие, для чего математика вводится как определенная логическая дисциплина. Но и в этом случае, подбор материала оказывается не особенно удачным, а практическая сторона за редкими исключениями поставлена прямо таки неудовлетворительно. Учащийся может бойко доказать теорему, не имея представления, как и где она применяется. Простую арифметическую задачу на свойства систем счисления, или свойства делимости чисел решит в лучшем случае один из десяти оканчивающих курс, а задачи на построение являются настоящим камнем преткновения Теория оказывается оторванной от технической стороны
предмета, а все вместе от жизни и задач, могущих представиться в действительности. Не будем винить исключите ьно программы, т. к., не выходя из их рамок, преподаватель всегда может оживить трафаретное изложение курса оригинальными приемами джазагелю ва. изящным выводом формул и соответствующим подбором призеров и-задач, способных заинтересовать и даже побудить к творческий работе
Ознакомление с знаменитыми историческими задачами имеет огромное воспитательное значение и притом это весьма благодарный материал, т. к. допускает возможность облечь его в увлекательную форму.
Но для всего этого надо быть знакомым с историей преподавания, с програмными работами, следить за журнальной литературой и докладами преподавательских съездов, словом, не отставать от научных интересов текущего момента и быть в курсе вопросов, касающихся методики и дидактики предмета. Но еще больше выиггает преподавание у того училеля, который будет все время держать связь с историей предмета.
Здесь мы подходим к вопросу о той роли, какую играет история математики в теоретической и практической подготовке преподавателя
В 1893 г. проф. 3. Гюнтер в журнале «Gymnasium» поместил вескма знаменательную статью, трактующую о необходимости обратить большее внимание на исторический-эъмент в преподавании, предпг сылкой чего является более широкое историческое образование преподавателей. «Ученики», говорит проф. Симон, всегда очень благодарны за исторические сообщения, чутье правильно подсказывает им, что знакомство с ходом раскрытия истины лучше всего вводит в ее понимание. Для учителя это знакомство особенно важно, потому что только история поучает нас, какие трудности приходится преод левать при разработке отдельных проблем». Еще важнее для школы подчеркнуть указание на связь всей культурной работы: из принципа Архимеда
выросла гидростатика, без конических сечений мы не имели бы законов Кеплера, логарифмы облегчили задачи небесной механики, теория вероятностей создала статистику и социальные законы, теорема Моавра дапа возможность разделить шар на три части, без тесрии к мплеьсов мы не имели бы уверенности, что всякое уравнение имеет коре-ь, словом, в многовековой коллективной деятельности отражается единство человеческого духа.
Для препс дсвания арифметики надо быть во всесружии знания развития пальцевого и инструментального счета, истерии происхождения и дальнейшей эве люции шфровых систем, в алгебре нужна широкая осведомленность в историческом ходе учения, об уравнениях, в геометрии требуется проследить весь путь от Эвклида до Гильберта и, конечно, независимо от эт го ознакомиться с историей Проективной и Неэвклидсвой Геометрии. Последнее ссобенно рекомендуется для расширения филосовс ого гругозора.
В этом отношении помимо чтения о~щих курсов истории математики особую ценность дгя преподавателей представляют известные лекции проф. Клейна и курс, читанный в 1908 19 2 г. проф. Васильевым в Педагогической Академии в Петрограде, («обзор важнейших вопросов философии математики»).
Известный немецкий историк математики, проф. Трей-тлейн на 62-м създе немецких истествоиспытателей и врачей указал в своей речи на важное значение исторического элемента, проф. Линдемзн в 1904 г. в своей ректорской речи также приводил серьезные доводы в птльзу введения в школах преподавания истории элементарной математики, но, как мы увидим дальше, высшая школа в этом отношении мало шла навстречу наростающей потребности, и тем, кто брал на себя труд чтения лекций по истории математики с университетской кафедры, приходилось преодолеть не мало препятствий чисто формального характера, т. к. большинством высших учебных заведений такие курсы в программах не предусмотрены и, во всяком случае, они считались второстепенными.
Даже Геттингенский университет, который, по словам Симона, прусское правительство, благоговейно сохраняя традиции Гауса и Вебера, сделало средоточием чистой и прикладной математики, не имел до недавнего времени особой кафедры истории математики и такой ученый, как Мориц Контор не имел голоса в совете факультета.
Наши университеты, как ученые учреждения, всегда стояли в стороне от запросов средней школы и задачи педагогики были им чужды. Их цель дать математическое образование, но не подготовить преподавателя.
И если в дальнейшем будут раздаваться настойчивые голоса, ратующие за введение исторического элемента в курсы средней школы, то университетам придется считаться с этим новшеством.
Прив. доцент. В. О. Каган в докладе «о подготовлении преподавателей математики»1) говорит: «На университет не следует возлагать чуждых ему задачь», но те дисциплины, которые не только необходимы преподавателю, но при своем строго научном характере полезны для общего математического образования и естественно укладываются в рамки университетского преподавания, должны быть включены в число предметов, обязательных к чтению. Этим путем специальные педагогические курсы для подготовки преподавателей будут не разрывно связаны, как с высшей, так и со средней школой».
Таким образом, помимо необходимости чтения обязательных курсов истории математики в полном объме, можно было -бы ввести специальные курсы по истории элементарной математики для лиц, ищущух преподавательского звания в объеме известных печатных курсов Кэджори и Тропфке. В этом отношении почин был сделан на Одесских педагогических Курсах, где прив. доцент Тимченко читал курс истории элементарной математики, охватывавший по существу и развитие важнейших идей высшей математики. Точно также с 1907 г. читался очерк истории математики и в женском Педагогическом Институте.
) труды i-го Създа препод. математики (I. 1 с. 549.).
В 1907 г. при Высшем учительском институте в Париже была организована «Лаборатория преподавания математики» под руководством Таннери и Бореля. Здесь будущие преподаватели занимаются приготовлением различных моделей и пособий по математике, приучаются к свободному обращению с математическими и геодезическими приборами и инструментами, арифмометрами и т. д. Богатая библиотека располагает подбором книг и журналов, касающихся педагогики, методики и истории предмета.
В 1908 г. 4-й международный математический конгресс в Риме по поводу предложения проф. Смита в (Нью Иорке) об избрании международной комиссии, которая бы занялась изучением постановки математического образования в различных государствах, вынес резолюцию следующего содержания: «Признавая важное значение сравнительного изучения методов и учебных планов преподования математики, Конгресс поручает проф,, Kleiny Creenhilly u Fehry организо-I вать международную комиссию с целью заняться изучением вопросов и представить общий доклад на следующем конгрессе». Выработанный устав комиссии и общий план работ помещены в ноябрьской книжке журнала LEnseignement mathematique» за 1908 г. Началась оживленная работа, продолжающаяся и до сего времени в различных национальных комиссиях1) и на създах. В вопросе нас интересующем о способах изложения школьной математики пришли к заключению, что «методика — повторение эволюции», что служит достаточным подтверждением высказанных нами выше соображений.
В частности, интересен один из пунктов отчета представителя Англии, Джансона: «Очень желательно, чтобы учитель был знаком с историей предмета, но, повидимому, нет опытных данных для оценки значения попыток вносить некоторые детали, или общий очерк истории в курс пре-п:;д вания. Очевидно, что историческое изложение должно повысить ценность предмета для общего образования».
Ближайшей задачей, по нашему мнению, должно быть стремление к приобретению данных.
Проф. Восильев говорит1): «От постановки математического преподавания зависит, если позволено так выразиться, общее математическое образование страны, т. е. уровень математических знаний и понимания значения математики у интеллигенции страны; от нее же зависит уровень преподавания в тех школах, в которых продолжается математическое образование».
Вывэд напрашиваетя, сам собой: преподаватель должен вступать в школу с таким научным багажем. который позволил бы ему держаться на соответствующей высоте, раз он призван к участию в решении столь важной задачи, а мы видели, что в этом багаже история математики по праву должна занять одно из важных мест.
Материалы для истории математики и связь ее с историей культуры.
На первых ступенях развития математических идей, казалось бы, обильный материал может дать история материальной и духовной Культуры в ее с временном состоянии, но, к сожалению, в лице даже своих лучших представителей, по вполне понятным специалисту причинам, она отводит слишком мало внимания деятельности человеческого духа в этой области. Поэтому, историку математики приходится непосредственно обращаться к изучению первоисточников, если он ставит себе задачу анализировать развитие основных идсй в их преемственной связи. Изучение историографического материала может привести в этом отношении к очеть неутешительным выводам: значительное большинство трудов в области истории математики, появившихся даже в последние пятьдесят лет, не говоря о более ранних, со вершенно игнорировали до научный период развития математических знаний, отчасти по отсутствию подходящего разработанного материала, отчасти по непониманию того, что в общем историческом обозрении успехов математики начинать с изложения истории ее развития у Греков, что чаще всего встречается, равносильно приемам того исследователя, который начинал бы историю с Великого переселения народов. В некоторых сочинениях рассмотрению древне-греческой науки предпосылается ин гда несколько страниц, посвященных Халдее и Египту, но, читая эти страницы, невольно думаешь, что лучше бы их не было совсем. Этим колыбелям математических наук необходимо отвести, наоборот, самое вши ое место, воспользовавшись в широком масштабе всем имеющимся материалом, тк. только при таких условиях нам станет понятна древне греческая наука во всех ее разветвлениях, соприкасающихся с миром математических идей и образдв.
Весь материал, подлежащий рассмотрению историка вообще, а историка науки в частности, черпается из т.ж называемых «источников», причем, конечно, в зависимости от целей и задач, которые ставит себе автор, из массы сведений, сюда относящихся, он должен сделать надлежащий отбор, останавливая свое внимание на всех типичных и характерных элементах, внутренняя связь которых дает возможность притти к определенным выводам и обобщениям: в противном случае, руководящая идея, растворяясь в массе второстепенных деталей, вуалируется и единство плана от этого неизбежно страдает. Тем не менее, самая операция «отбора» обязывает к знакомству с материалом в возможней полноте, без чего она была бы немыслима. Задача историка определяется объмом и содержанием «источниковедения», к обозрению которого мы теперь и перейдем.
Прежде всего для ознакомления с до научным периодом состояния математических знаний больше всего дали археологические раскопки в виде «материальных остатков»,
(Ueberreste) ценных по своей независимости от субъктивны влияний. Эги немые памятники, восходя к палеолитическому периоду, требуют больших знаний, остроумия и находчивости, но вместе с тем и величайшей осторожнссти, поскольку в оценку их проникает субъктивый элемент. Строго говоря, выводы о происхождении и значении «остатков относятся к области «интерпретации». К числу этих остатков следует отнести раскрашенные гальки, найденные в тфедгорье Пиренеев в пещере Мае дАзиль, бирки, знаки на стенах пещер и скалах, живописное письмо североамериканских народов, узловое письмо (перуанский квипус) и т. д.
Что касается древнейших исторических периодов, то и здесь, благодаря раскопкам, мы получаем возможность по материальным остаткам, носящим следы более совершенных приемов изобразительного письма, допускающего дешифровку, и по системам знаков, не оставляющих в известных случаях сомнения относительно своего Происхождения и значения, ознакомиться с культурой этих эпох и реконструировать ее с такими подробностями, как это сделано по отношению к древнему Вавилону и Египту, а от части и к культурам племен, населявших центральную и южную Америку.
Сюда относятся календарные и астрономические записи, напр, халдейские глиняные таблички лунных затмений, таблицы знаков зодиака, геммы, печати, терракотовый диск из Феста со спиралеобразно расположенными письменами, монеты, меры веса (образцы халдейского веса эпохи Гудеа) и длины (статуя патеси Гудеа с чертежом плана постройки и изображением локтя), счетные дгски (абаки) и т. д.
С другим видом «остатков , весьма ценных для историка, мы встречаемся в «языке». Благодаря развитию исторической грамматики и сравнительной филологии, проливается свет на происхождение числительных, названий мер длины, небесных светил. В частности, эволюция пальцевого счета целиком выявляется из анализа таких остатков Не меньшее значение имеют «памятники», как группа обък-
тов, в основе которой лежало стремление закрепить какие либо сведения для памяти заинтересованных лиц. Сюда относятся надписи на стенах храмов, дворцов, общественных сооружений (напр, надписи храма Эдфу в верхнем Египте, содержащие данные относительно измерения земельных участков), статуи, изображения, надписи на гробницах (надпись на потолке гробницы одного из фараонов XIII в. до р. Хр. с астрономической системой измерения времени), пограничные знаки и т, д.
Сюда же относятся «документы» (Urkunden), т. е. бумаги, носящие характер исторических свидетельств, подлинность которых удостоверена. Таковы различные акты и договоры, дарственные грамоты, статистические записи, сведения о налогах и податях — словом тот материал, из которого можно легче всего ознакомиться с метрологией соответствующей эпохи.
К числу памятников следует отнести и манускрипты, т. е. памятники письменности, среди которых древнейшим является математический папирус Ринда (1700 г. до Р. Хр). хранящийся в Британском Музее, рукописи на пергаменте, велине (телячья кожа) оленьей коже и бумаге. В дрезденской библиотеке имеется мексиканский календарь, увековеченный на человеческой коже. Строго говоря и вся глиняная клинописная литература халдеев относится также к манускриптам.
К числу источников, требующих особой осторожности, в виду их субъктивнсго характера, относятся так называемые «традиции» (предания); причем надо различать устную традицию и письменную.
К первым причисляются саги, легенды анекдоты, изречения и пословицы. Этот материал может принести пользу в анализе космотонических элементов, в которых миеы и религиозные верования тесно переплетаются с числовой мистикой и примитивной астрономией. Все низкие формы культуры, напр, у дикарей, относящиеся к области устной традиции, дают обильный материал для сближения и аналогий при исследовании донаучной эпохи. Изречения вроде пресловутой фразы «Нет царского пути к геометрии»инопц являются хотя и третьестепенными, но типичными штрихами для освещения господствовавших в ту, или иную эпоху взглядов и мнений по вопросам науки. Наконец, пословицы, и загадки правда весьма немногочисленные, носят на себе отпечаток знакомства с образными числовыми восприятиями и с этой точки зрения интересны, как сырой материал при анализе систем счисления. (Напр, древняя мексиканская загадка): «что такое те десять камней, которые есть у каждого?» «Как называют десять деревьев с десятью плоскими камешками наверху? «(загадка африканского племени басутов).
К письменной традиции относится все то, что записано не по преданиям, а под свежим впечатлением, или в позднейшее время, но по источникам, более или менее заслуживающим доверия, таковы восгоминания современников о жизни и о деятельности ученых, некрологи, би граф и, «похвальные речи» вид литературы, получивший особое распространение у французов, автобиографии математиков, наконец, существует еще так называемая «традиция в изображениях», от которой внимательный и вдумчивый исследователь может при желании позаимствовать массу ценного материала: здесь мы имеем в виду древние географические и астрономические карты, планы, чертежи, рисунки, старинные математические и механические приборы и инструменты.
Что касается журналов, посвященных вопросам ис о-рии, трудов библиографического содержания, отчетов и общих обзоров успехов науки за тот, или иной промежуток времени, очерков научной деятельности математиков, переписки ученых -все это вспомогательный материал, тесно примыкающий к историографии науки, о кот рой речь будет впереди.
Остается указать на последний неисчерпаемый источник исторического материала- это само содержание науки, поскольку оно отобразилось в дошедших до нас образцовых творениях дреьних авторов и самостоятельных исследованиях классиков математических наук нового времени, сравнительное изучение которых дает возможность восстановить полную картину зарождения и развития той, или иной математической идеи.
При изучении источников с целью извлечь из них материал для определения той закономерности, которая сопутствует развитию н.уки, надо помни ь, что, если до сих пор большинство крупных представителей истории культуры игнорировало данные истории математики, или не связывало их с своими общими задача- и в т й мере, в какой это по справедливости следовало бы сдел ть, то историки математики за немногими ислючениями, в свою очереь, малт опирались на данные истории культуры и замыкались в узкую сферу слеци; льных задач, мало интересуясь тем в иянием которое оказывало развитие математики на различные отрасли человеческого знания, и, таким образом, задача разрешалась односторонне, не выявляя истинного значения этой науки, как наиболее могущественного культурного фактора.
Что касается так называемой «социальной» культуры, то по вполне понятным причинам она не может интересовать нас в каком бы то ни было отношении, т. к. трактовать о значении математики с точки зрения экономического материализма значило бы проявить неоростиъльную узость, па в конце концов, эта форма культуры самая несовершенная, что может быть, обясняется специфическими особенностями человеческой приропы: если в сфере духовных интересов человок в нек торых отношениях достиг известной зрелости, то в области социальных отношений он еще дитя. Материальная культура находился в прямом подчинении у культуры духовной и обособлять ее допустимо разве только с точки зрения удобства исследователя.
Естественная связь математики с культурой в тесном смысле этого слова, как части и целсго, подсказывается помимо органического слияния и тожественностью генезиса.
Первобытная культура возникла на почве практичесчих потребностей, как и математика Материальный элемент, преобладавший там и здесь в начальных стадиях газвития, с течением времени перешел в подчиненное положение, и если в некоторых случаях успехи духовной культуры идут рука об руку с успехами материальной, то это во многом зависит от тех прикладных знаний, которые возникли, только благодаря высокому состоянию математики, исторически сложившейся на эмпирической почве, но в дальнейшем сумевшей совершенно освободиться от пут эмпиризма, представляя в своем целом яркий пример научной дисциплины, главное оружие которой — могучая, всепокоряющая дедукция.
Духовная культура, рассматриваемая во времени и пространстве, для любого народа в каждый данный момент определяется комплексом знаний в области наук, искуства и техники, 1) поскольку целесообразное пользование этими элементами знания отображается в умственном, а отчасти и материальном благосостоянии народа. Математика, от успехов которой зависит во многом развитие других научных дисциплин, техники и некоторых отраслей искусства, оказывается таким образом тесно связанной с культурой в ее целом.
И если история культуры есть история человеческой мысли и того труда, который по ее указаниям проявляет человечество в борьбе за существование, то история математики есть, по справедливости, история развития наивысших сторОн человеческого духа.
Обработка материала, (критика, интерпретация, конструкция и изложение).
Материал истории науки по самой природе своей неисчерпаем, и если в какой нибудь специальной монографии автор, в целях всестороннего освещения разбираемого вопроса, углубляется в кропотливый исторический анализ фактов даже третьестепенного характера, то историку, который ставит себе более широкую задачу, нет возможности вдаваться в такую детализацию, да в этом и не ощущаемся.
Религию мы рассматриваем как элемент социальной культуры, что оправдывается всей историей человечества.
особой надобности, т. к. по каждому вопросу, в случае необходимости, интересующийся обратится за выяснением мельчайших подробностей к отдельным исследованиям, к первоисточникам и к журнальной литературе. Наша задача ориентировать в истории вопроса, поскольку он, имея определенное значение, является звеном в цепи других вопросов, органически с ним связанных во времени и пространстве. Ясно, что историку не представляется возможным реконструировать все историческое прошлое науки с исчерпывающей полнотой только потому, что это, как всякое прошлое, может служить объктом исследования. Следуя принципу научной экономии, мы, поневоле, производим отбор материала по его внутренней ценности.
Поскольку этот материал содержится в источниках и здесь необходимо произвести критический отбор, состоящий в распознавании их действительности. Внешняя критика, касается данного источника со стороны степени заслуживаемого им доверия, внутренняя способствует извлечению из него фактов научной ценности. Путем сравнительной критики материалов, добытых из различных источников, необходимо выявить связь между ними в освещении этих фактов, наконец, наиболее существенный момент исторического исследования — сопоставление отдельных добытых фактов в целях определения их преемственной связи, как элементов определенной исторической функции.
Заметим, что процесс необходимой в этом случае работы хорошо отображается в следующей математической схеме: допустим, что мы задались целью исследовать происхождение и развитие какой нибудь математической идеи. В ее конечном виде, как она может представиться в каждый данный момент, ее должно рассматривать, как естественное следствие всего исторического пути ее постепенного развития, т. е. как то, чему мы можем присвоить наименование «исторической функции: у-f (х). Путем критики (первый момент исследования) устанавливается истинность, т. е. природа х, след, задача критики — определение подлинности и генезиса элемента. Второй этап — интерпретация — выяснение природы зависимости, т. е. характера символа f, наконец, конструкция — третий заключительный момент-определение «положения» элемента.
Надо помнить, что развиваемая нами схема — идеальная, к которой в действительности можно подойти только с известным приближением, в виду сложности функциональной характеристики. По существу то, что мы называем «исторической» функцией, не есть функция аналитическая, по крайней мере, в пределах ее исследования она допускает разрывы непрерывности, и с точки зрения ее геометричеческого истолкования в виде кривой, мы, в случае исчерпывающего, т. е. идеального и на практике, пока что, недостижимого разрешения, получили бы эту кривую в виде совокупности отдельных кусков и в каждом — с целым рядом особенных точек, соответствующих тонким аналитическим причудам этой кривой. Интерпретация и есть путь установления природы функциональной зависимости, т. е. закона изменения рассматриваемой величины, причем значение этой последней, отвечающее известному моменту, есть как бы df (х). по отношению к моменту предшествующему.
Наконец, задача конструкции указать место элемента на кривой, чем самым устанавливается связь его с предшествующими и последующими моментами развития, суммирование которых приводит к конечному результату.
Разберем несколько подробнее задачи отдельных моментов исследования.
Критика должна коснуться источников со стороны возможных подделок, искажений, ошибок щ установлении их происхождения.
Что касается подделок, то история математики знает несколько фактов, которые рано, или поздно, но обнаруживались, и в иных случаях, к счастью для науки, своевременное распознавание подделки устраняло возможность ошибочной реконструкции. Таков напр, неприятный эпизод с известным французским геометром Шалем, которому какой
то аферист за весьма высокую цену продал несколько документов, доказывавших, что первенство изобретения Дифференциального исчисления принадлежит Паскалю. Эти документы, состоявше, большей частью, из писем якобы самого Паскаля, оказались подложными. Эта мистификация была так искусно замаскирована, что Шаль, не подозревавший вначале о том, что в его руках фальшивые документы, увлеченный значением открытия, позволявшего закрепить за творчеством французского гения приоритет в столь важном историческом факте, своими докладами сделал его предметом внимания французской Академии в 1869 году.
Однако подлог был раскрыт и к чести Шаля, которому, впрочем, ничего другого не оставалось делать, он вынужден был признать, что стал жертвой ловкого обманщика.
Как пример искажения текста утраченного первоисточника, причем в таком измененном виде текст становится предметом изучения историков науки, можно привести сочинение Герберта об абаке. Проф. Бубнов, которому наука обязана рядом ценных исследований по вопросу арифметической самостоятельности европейской культуры, на основании тщательного изучения многочисленных рукописей доказал, что Герберт в юношеском возрасте имел возможность изучить подлинный текст х (по номенклатуре Бубнова — anonymus Bubnovianus). По просьбе какого то Константина двадцать лет спустя Герберт пытается восстановить по памяти текст учебника, причем составился вариант А. Неизвестные авторы, неудовлетворенные передачей Герберта, дополнили его с помощью оригинала, причем образовался новый вариант В=А-ь часть X. Этот первоисточник х утрачен, а «плевелы в виде текста В», по словам Бубнова, «процветают до нашего времени, и, что удивительно, к вящей славе Герберта. В своем исследовании «Подлинное сочинение Герберта об абаке», проф. Бубнов и пытается восстановить текст X — результат коллективной работы нескольких поколений абацистов, по которому Герберт учился в дни своей юности.
Ошибок в распознавании источников так много, что для иллюстрации этого весьма распространенного явления достаточно сослаться на знаменитую теорему Пифагора. В настоящее время известно, что не позднее V века, а может быть и в IV веке до Р. Хр. индусы в своих «правилах измерения» и руководствах к постройке алтаря (Culvasutras) для определения прямого угла пользовались треугольником со сторонами 15, 36 и 39. ) Впервые этот вопрос выяснил Тибо (1875 г.), затем Шрбдер (Pythagoras und die nder) 1884 г., наконец Бюрк в «Zeitschrift der Deutschen Morgen-land gesellschaft, 55, 56 Leipzig (1901 — 1902) дал перевод и комментарии к «Сульвасуграм» и теперь можно ка основании указанных работ считать установленным принадлежность этой теоремы, индусам и зависимость от них пифагорейцев 2).
От самого Пифагора не осталось никаких сочинений геометрического содержания и, по свидетельству Прокла, писатели ранних эпох приписывали открытие теоремы Пифагору (Первое упоминание встречается в «Архитектуре» Витрувия). Таким образом, если допустить, что Пифагор владел доказательством этого предложения, то о форме его можно строить только догадки, т. к. из комментарий Прокла видно, что ученики Пифагора пользовались приемами (какими именно, он не указывает) отличными от данных Эв-клидом в его «Началах». По поводу этого Прокл говорит: «Я почитаю и тех, которые первые признали истину этсго предложения; но еще выше ценю автора начал не тольчо за то, что он дал стройное доказательство его, но и за то, что более общую теорему 3) шестой книги основал на непреложных научных данных».
По вопросу об этой теореме создалась целая литература и автор новейшей работы («Теорема Пифагора») В. Литцманн говорит: «В настоящее время все единогласно признают, что эта теорема не была открыта Пифагором, но одни полагают, что он первый дал вполне верное (но не дошедшее до нас) доказательство, другие же оспаривают и эту заслугу».
Как бы то ни было, только исследования недавнего времени в области математических знаний древних Индусов дали точные указания, в каком смысле надо истолковывать бывшее до сих пор туманным происхождение указанного предложения.
В определении подлинности источников приходится ориентироваться в четырех существенных направлениях.
Первое касается соответствия внешней формы в отношении характера письма, языка, стиля и построения той форме, которая присуща однородным, по типу, месту и времени, но несомненно подлинным источникам. Второе охватывает содержание, поскольку с этими последними оно сходится в целом, или частностях.
Особенно важно убедиться в наличии таких фактов в разбираемом источнике, которые не могли быть известны в эпоху его предполагаемого происхождения. В третьих, надлежит выяснить соответствие формы и содержания характеру общего эволюционного цикла, к каковому, повидимому, мог бы быть отнесен источник, наконец, надо выявить как в форме, так и в содержании источника, следы искуствен-ности, или элементы искажения, напр, можно встретиться с заимствованиями, или с подражаниями, источникам уже обследованным, которые по времени и пространству в отношении предполагаемого происхождения данного источника не могли быть известны, а может быть и вовсе не существовали.
Часто приходится встречаться с явлением так называемой «интерполяции», т. е. с позднейшими вставками в первоначальный текст источника, что особенно характерно Для манускриптов всевозможных типов, размножавшихся путем переписки.
Напр, все сочинения Архимеда за исключением, «Псаммита» содержат в большем, или меньшем числе позднейшие вставки. Так, «Леммы», содержащие 15 предложений геометрического характера, переведенные с арабского языка на латинский, дошли до нас в таком виде, который не оставляет сомнений относительно того, что только часть этих лемм можно.приписать Архимеду (Cantor b «Vorlesungen tiber Gesch der Mathem». Bd. I, c. 298 — 300, исследовал этот вопрос).
Одной из частных задач критики является точное установление происхождения источника во времени и пространстве, что особенно важно при оценке «остатков», являющихся иногда самым важным, если не единственным элементом для характеристики эволюционного момента. В прежнее время, особенно в эпоху Средневековья манускрипты не датировались, еще реже утмечалось место писания источника. Конечно, в этих случаях единственным, с методической точки зрения, пригодным средством является сравнение, если принять во внмание, что местность и эпоха накладывают на источник вполне определенный отпечаток. При невозможности установить дату более, или менее точно, приходится ограничиваться указанием нижнего (terminus post quern) и верхнего (terminus ante quern) пределов1). Иногда существенную помощь могут оказать ссылки на известные уже источники. В трактатах астрономического содержания этой цели служат упоминания о лунных и солнечных-затмениях. Более трудной задачей является установление имени автора в случае анонимного произведения, т. к. при этом легко впасть в ошибку и требуется тщательное и осторожное исследование источника со стороны манеры изложения и стиля, чтобы путем сравнительного метода притти к заклю чению о принадлежности разбираемого труда автору других, уже достаточно изученных источников. Если это оригинальная рукопись, то распознавание почерка упрощает задачу
) Особенно трудно установить иногда точные даты или эпоху, когда жил агт. Р Достаточно вспомнить Пифагора, Серена из Антиссы, Диофанта Александрийского и т. д.
В 1696 г. Иван Бернулли сделал вызов математикам опубликованием проблемы о кривой наискорейшего ската (брахистохрона), которую он предлагал разрешить в шестимесячный срок. В скоре после этого в Philosophical tran-sacfions Лондонского Королевского Общества появилось анонимное решение этой проблемы, в котором И. Бернулли сразу угадал автора, tanquarn ex ungue leonem. (автором оказался Ньютон).
В некоторых случаях анонимные труды оказываются ценными потому, что содержат полностью, или частями утраченные труды известных авторов.
Напр. Никомах, причислявший себя к Пифагорейцам, и неизвестно когда живший, написал недошедший до нас трактат по числовой мистике «Теологумены Арифметики», известный по извлечениям в одной анонимной книге IV в. под тем же названием и написанной по тому же плану. При отсутствии дат весьма трудно, а иногда почти невозможно установить точное происхождение анонимного источника, тогда как при наличности указания имени автора вопрос сводится лишь к установлению факта принадлежности разбираемого труда именно этому автору.
Огромное значение приобретает вопрос о независимости и оригинальности источников: общеупотребительные формулы и выражения в большинстве случаев весьма далеки от оригинальных. Часто встречающиеся выражения: теорема X, формула У, уравнение Z и т. д. иногда, кроме имени, не имеют ничего общего с своим первообразом, т. к. на протяжении известного ряда лет, а иногда и веков, первоначальная формулировка претерпевает такую эволюцию, что меняется и символика, и приемы доказательства.
В частности, цитировать какого нибудь автора по пе-переводу не рекомендуется, т. к. перевод не всегда может оказаться точным и надежным, тем менее следует пользоваться цитатами из вторых, или из третьих рук.
Как правило, которому должен следовать всякий историк, надо считать такой прием изучения творений крупных представителей науки: или читать в подлиннике, что лучше всего, или же (в Еиду того, что знание многих языков, а особенно древних — явление исключительное) пользоваться образцовыми переводами на один из европейских языков, переводами чаще всего комментированными знатоками дела. Но, во всяком случае, с творениями классиков, как Галилей, Ньютон, Лейбниц, Эйлер, Лагранж, Монж, Абель надо ознакомиться в подлиннике, а не по извлечениям из трактатов, хотя бы самых подробных и составленных компетентными лицами.
Только таким путем можно постичь истинный дух творения и характерные черты творчества светил науки.
Что же касается переводов, то указанного выше правила надо в особенности придерживаться, т. к. само собой понятно, что всякий перевод есть своего рода «научный суррогат». Как бы ни был талантлив переводчик, если он рабски копирует оригинал — дух выцветает, мысли бледнеют, в противном же случае доминирует индивидуальность переводчика, Затушевывая образец. Правда, в области математики это не так уж страшно по отношению к творениям новейшего времени с его богато — развитой символикой, но по отношению к древним авторам это задача чрезвычайной трудности. Само собой разумеется, что переводом с перевода пользоваться ни в каком случае не следует. Странно было бы изучать напр. Аристотеля по Аверроесу, т. к. издания его произведений, как говорит Ренан, представляют собой латинский перевод с еврейского пеоевода комментария к арабскому переводу сирийского перевода, сделанного с греческого текста. Если сверх того принять во внимание глубокое различие духа семитических и греческого языков и замечательную глубину текста, который приходилось об-яснять, то можно ли было ожидать, чтобы при этих повторных переливаниях не улетучилась оригинальность мысли.
Если первоисточник утрачен, но имеются комментарии, или компиляции, задача реконструкции обычно представляет большие затруднения. Так как родство производных источников, если их несколько, должно быть основано на пользовании общим оргиналом, то мы можем отчасти восстановить его по согласным частям копий и до известной степени обрисовать его происхождение и общий характер.
Замечательным примером подобной реконструкции является сочинение Шаля «Les trois livres dePorismes dEu-clide, r6tablis pour la premiere fois dapres la Notice et les Lemmes de Pappus, et conformement au sentiment de R. Simson sur la forme des enonces de ces propositions» (I860).
Сочинение Эвклида «Поризмы» утрачено и касалось особого рода геометрических предложений. Краткия указания на особенности «поризм» и посвященного им труда Эвклида сохранились в 7-й книге сочинения «Collectiones mathematicae « геометра — комментатора Паппа Александрийского. Кроме двух определений и соображений общего характера, Папп приводит без доказательства в виде примеров 29 поризм из общего числа 171, составляющих содержание 3-х книг Эвклидова сочинения. В пояснение к ним Папп дает 38 лемм, изложенных так кратко и неясно, что известный английский астроном Галлей откровенно признался в их полном непонимании. Однако свидетельство Паппа о том, что поризмы являются ценным пособием в решении труднейших задач и авторитет Эвклида содействовали интересу, проявленному рядом ученых (Альберт Жирар, Фермат, Галлей) к овладению этим предметом, хотя попытки их и не увенчались успехом. Только проф. Р. Симеону в Глазго (1687 — 1768) удалось пролить некоторый свет на сущность общей формы этих загадочных предложений. Шаль уделил много внимания поризмам еще в «Aperqu historique «, а затем задался рядом вопросов, которые в вышеупомянутом его сочинении блестяще разрешены, благодаря чрезвычайно остроумному синтезу. Главной руководящей нитью явилось разыскание тех мельчайших признаков, которыми различались, или в которых сходствовали предложения, носившие у древних разные наименования. Данные для этого автор черпает как у древних писателей, так у их комментаторов и переводчиков. Огромная эрудиция позволила Шалю выяснить как сущность понятия поризмы, так и цель введения этого по нятия в науку. По мнению Шаля, по своему содержанию и значению к поризмам Эвклида всего ближе подходят методы проективной Геометрии, т. к. и там и здесь исходят из понятий о сложном отношении и томографическом соответствии. Разница в том, что ясные принципы новейшей научной дисциплины в поризмах высказаны в неявной форме, именно в построениях, свойственных геометрии элементарной. Реконструкция выполнена в стиле древних геометров и конечно, будь найден оригинал, возможно, что работа Шаля оказалась бы не совсем точным переводом его, но расхождение, во всяком случае, было бы не по существу, а в частностях.
При исследовании письменных источников задача критики сводится к возможно точному восстановлению текста и подготовке его к печати. Для этой цели пользуются первоначальной рукописью (arche typos), или первопечатным экземпляром (editio princeps). Если нет оригинала, то приходится довольствоваться копией. Так напр, французский математик Е. de onquieres издал посмертное сочинение Декарта «De solidorum elementis».1) Так как оригинал рукописи утрачен, I то главным материалом для реконструкции текста явилась копия, собственноручно выполненная Лейбницем в бытность его в Париже (1672 — 1676). По этой копии сочинение было впервые напечатано в 1860 г. Фуше де Карейль в «Не- изданных трудах Декарта», чем собственно и воспользовался Жонкьер, изучив текст и снабдив его историческими и критико-библиографическими примечаниями.
Если имеется несколько рукописей, прямо или косвенно связанных с одним образцом (здесь могут оказаться копии,
) «Ecrit posthume de Descartes intituld de solidorum elementis Texte latin, revu et accompagne de quelques notes explicatives.
варианты, манускрипты с позднейшими вставками, или сокращениями) то они составляют так называемый «Класс рукописей, обозначаемый для краткости одной буквой, отдельные же экземпляры данного класса нумеруются. Если существует несколько классов, или ряд рукописей белее, или менее равноценных, то при восстановлении текста надо иметь в виду их согласование. Обычно в предисловии к изданию источников даются сведения об общих результатах изысканий,стоящих в тесной связи с текстом и помещаемых под ним в соответственных местах в «критическом аппарате».
О той кропотливой и сложной работе, которая сопутствует анализу источников в вышеуказанных случаях, можно составить представление, ознакомившись хотя бы с сочинением проф. Бубнова «Подлинное сочинение Герберта об абаке, или система элементарной арифметики классической, древности» Киев, 1911.
В истории науки можно насчитать не мало фактов, когда в творениях какого нибудь автора его именем объеди-няется материал, полностью ему не принадлежащий и самое происхождение прибавлений оказывается спорным, или неясным. Часто случается и так, что переводный труд, появляясь без указания на источник происхождения, приписывается, как оргинальны.й, переводчику.
В пример первого явления укажем следующий факт: известно, что из XV книг «Элементов» Эвклида ему принадлежат первые тринадцать, а XIV и XV долгое время приписывались Гипсиклу, в действительности написавшему только одну из них, именно первую. Что же касается второй, то только в 1873 г. немецкий истерик математики Фрид-лейн1) дал неопровержимые доказательства того, что «XV книга» никоим образом Гипсиклу принадлежать не может, т. к. носит ясный отпечаток более позднего происхождения, именно, по Фридлейну, время ее написания надо поместить в IV, а то и в V веке по Р. Хр.
) «De Hypside mathematico» (журнал Бонкомпаньи, VI с. 493 — 529)
С явлением второго типа пришлось встретиться даже в нашей отечественной литературе. В 1779, 80 и 81 годах в «Академических Известиях» (С. Петербургской Академии Наук) под заглавием «История о Математике» печатался перевод с французского знаменитой «Histoire des Mathema-tiques» Монтукла, причем переводчик Петр Богданович ни в одном из отрывков, на которые разбивался перевод (доведенный, кстати сказать, только до 5-й книги 3-ей части) при печатании в отдельных номерах издания, не потрудился упомянуть об истинном источнике своего труда, результатом чего явилось ошибочное и курьезное утверждение Неустроева (правда извинительное, как не специалисту) в «Историческом розыскании о русских повременных изданиях и сборниках за 1703 — 1802 г.г. (с. 261), касающееся труда Богдановича, как «изложенного весьма обстоятельно». Неустроев, конечно, мог не подозревать о существовании Монтукла, но странно, что он не усумнился в возможности появления подобного оригинального произведения русского ученого в конце XVIII века
Безпристастие и об,ективность — качества, неотделимые от критики, дают возможность исследователю, считаясь с анализом научных фактов и разбором трудов деятелей науки, установить степень их ценности, роль и место в истории и содействовать искоренению заблуждений и ошибочных мнений, широко распространяемых под влиянием доверия к основательности суждений тех писателей, которых «авторитетность» ставится вне сомнения авторами, пользующимися материалом из вторых рук.
Особенно часты ошибки в отношении приоритета; между тем, в деле оценки научных заслуг, благодаря этому совершается явная несправедливость, т. к. приписывая одному то, что в действительности принадлежит другому, помимо ложного исторического освещения научных фактов, мы создаем положение с этической точки зрения совершенно недопустимое, но, к сожалению, в истории науки мы сталкиваемся на каждом шагу с возвеличиванием одного за счет умаления заслуг другого. Причин этого нежелательного явления много и одну из них в известном смысле можно, если не оправдать, то понять: мы подразумеваем недостаточное знакомство с историей, и, как следствие этого, неумышленную ошибку. Иного порядка причины, где мы встречаемся с элементом преднамеренного искажения истины во имя личных симпатий и неприязни. В более широком масштабе это проводится иногда по отношению к целой народности во имя шовинистических тенденций и узкого, дурно-понятого патриотизма, что нам придется не раз отметить в историо-графическом очерке.
Заключительной задачей критики является распределение материала по теме во времени и в пространстве, как совокупности эволюционных моментов, причем, независимо от хронологической связи, полезно применять синхрониста- ческий метод, располагая изложение истории предмета по народностям, или по развитию отдельных дисциплин, как это делает напр. Тропфке по отношению к элементарной математике. Мы лично этого последняго способа изложения не одобряем для знакомства с общей историей науки в ее целом в виду того, что при подобном дроблении материала утрачивается единство связи тех отдельных научно-культурных ценностей, которые только во всей совокупности дают многостороннее освещение постепенного развития математической мысли у того, или иного народа. С другой стороны, такой способ вызывает неизбежные повторения в виду того, что интересы отдельных частей тесно переплетаются.
Тем, кто приступает к специальным исследованиям и нуждается б пользовании первсисточниками, приходится работать в библиотеках, архивах и музеях.
В виду отсутствия у многих из этих учреждений печатных каталогов и инвентарем для ориентировки в работе можно рзкомендовать следующие издания: A Graesel «Handouch der Bioliothekslehre (1902) — T. v. Loher .Archivlehre (1890), — о музеях 6-й т. «Das Handouch der Klassischen Altertumswissenschaft, (1895), — Techener — «Repertoire universel de Bioliographie, Catalogue genferal methodique et raisonne de livres anciens rares et curieux» Paris, (1869). — Catalpgue dune precieuse collection de livres anciens rr.anuscrit et imprimis, de Documents originaux etc. Sur les % Francs-Maqons, la Magie, lAlchimie efe. Paris. 1860. (описание 1037 книг, большей частью крайне редких) — Гурлянд, Иона — «Краткое описание математических, астрономических и астрологических рукописей из коллекции Фирковичей,
хранящейся в Императорской Публичной Библиотеке», СПБ. (1866) — Дорн, Б. Ж «Catalogue des Manuscrits et Xylographes orientaux de la Biblioteque Imp. de St. Petersbourg, СПБ. (1852) — роскошно изданный, по богатству содержания и тщательной разработке составил эпоху в литературе предмета. Критическое описание снабжено указаниями о характере письма, изложением содержания, литературно-историческими примечаниями и извлечениями из текста. Кроме того содержит описание коллекции индийских письмен, принадлежащих Рейнгольду Росту, проф. Академии в Кентербери. — «Bibliotheca bioliothecarum ma-nuscriptorum» Монфоиона (Париж, 1739) представляет результат сороколетнкх изысканий автора о важнейших манускриптах, рассеянных по всем европейским библиотекам.
Что касается древних рукописных списков, дошедших -до нашего времени, то значительная часть их относится к духовной литературе; только начиная с эпохи Карла Великого число сохранившихся манускриптов светского и научного содержания умножается, а с X века деятельность по размножению рукописей сосредоточивается в монастырях, т. к. долгое время монахи были единственными каллиграфами и, благодаря их изумительному старанию и кропотливости, до нас дошли списки сочинений древних классиков, а монастырские ризницы и рукописные отделы важнейших евро- пейских библиотек переполнены до сих пор мало изученными рукописями. В XIII — XV веках параллельно с монастырскими, «scriptoriumaMH» образуются светские братства переписчиков, соперничающие в работе с клириками. В XV веке европейских ученых охватывает неудержимое стремление к розысканию и приобретению древнейших рукописей в целях сохранения их для потомства. К сожалению, множество драгоценнейших памятников подверглось в средние Века своеобразному уничтожению: написанное на пергаменте выцарапывалось и i стиралось, а на отчищенном таким образом дорогом материале I писались заново какие нибудь средневековые жития. К числу Я таких палимпсестов относится недавно открытое проф. И. i f Гейбергом сочинение Архимеда, (рус. перевод в издании Матезис «Послание Архимеда к Эратосфену о некоторых» теоремах механику» Одесса, 1909 г.) которое оказалось скрытым под эвхологием ХШ столетия. Самое сочинение написано полууставом X века, и так как текст был только смыт, а не стерт, то его удалось разобрать с помощью лупы.
рукопись (№ 355, 4°) исходит из монастыря св. Саввы близ Иерусалима и описана в первый раз Пападопуло Керамевсом, приводящим выдержку из нижнего текста. По этой выдержке г.роф- Гейберг и обнаружил принадлежность этого текста Архимеду.
Множество манускриптов, о существовании которых еще были известия в новое время, теперь исчезли бесследно, (случалось и так, что писатели выдавали разысканные ими древние рукописи за собственные труды и наоборот). Напр. М. Данон упоминает в 1824 г. об анонимном «Traite dArith metique», написанном в эпоху Филиппа III Смелого (1270 — 1285) и находившимся в библиотеке Св. Женевьевы, однако, по свидетельству Шаля, несмотря на неоднократные розыски хранителей библиотеки, не удалось напасть на след этого манускрипта.
В 1538 г. в Базеле впервые появился в печати подлинный греческий текст Альмагеста Птоломея с комментариями Теона, воспроизведенный по греческой рукописи, принесенной Региомонтаном в дар Нюренбергской библиотеке. Региомонтану она досталась по завещанию от кардинала Виссариона, видевшего в ней по справедливости огромную ценность, но в настоящее время и эта рукопись также утрачена.
История говорит нам, что не раз сокровищницы знания в виде библиотек гибли под факелами изуверов и фанатиков, или завоевателей, которые в опянении успехом не церемонились с культурными ценностями. Мы знаем, напр., что Гаджиб Альмансур приказал выбрать из библиотеки калифа Гакема И, насчитывавшей до 400.000 томов, все произведения по философии, Астрономии и другим наукам, куль-тированным древними, и сжег их на площадях Кордовы1)
В праве ли мы возмущаться подобными фактами, когда то же самое, только в иной форме, имело место много
) Впрочем, после того, как остатки библиотеки рассеялись по всей стране, историк Саид толедский видел много томов ее в Толедо и говорят, что по своему содержанию они все должны были погибнуть от огня, если бы в розыски Апьмаксурз иало вложено столько же понимания дела, сколько страстности.
позже среди народов, считавших себя культурными, когда и теперь, по непростительной небрежности, гибнут ценные памятники былого творчества.
В своей «Histoire des sciences mathematiques en Italie» Либри уже указывал, что лица, не занимающиеся специально историческими изысканиями, не могут и представит себе, сколько пропадает драгоценных рукописей. Из боязни прослыть варварами в глазах потомков говорит он, «нам пора бы уже принять меры против подобного истребления».
По поводу того, что в конце XVIII века утрачено рукописное сочинение Леонардо Фибоннакки «о квадратных числах», Шаль вспоминает слова Либри и выражает желание, чтобы они нашли себе повсеместный отголосок. Не только частные лица, но особенно правительства, желающие содействовать успеху наук, должны озаботиться печатанием рукописей, имеющих научный и исторический интерес. В качестве другой меры в предупреждение исчезновения литературных редкостей Шаль проектировал учреждение специальной научно исторической библиотеки, где бы в продолжении веков собирались произведения знания и таланта без риска погибнуть бесследно, не принеся своей доли пользы.
Остаткам древних культур более посчастливилось, чем манубкриптам, т. к. найденные сравнительно в недавнее время, они стали достоянием музеев и предметом всестороннего и внимательного изучения. Что касается мало исследованной, но представляющей огромный интерес, американской культуры, то тех памятников и манускриптов, которые случайно стали достоянием науки, слишком недостаточно для ее реконструкции, а между тем Стефенс в своем сочинении «Central America» (t. II) говорит: «в монастырях хранится много манускриптов и летописей, составленных монахами, кациками и индейцами, быстро выучившимися говорить и писать по испански. Их никогда до сих пор не изучали надлежащим образом и я не могу удержаться от мысли, что в библиотеке какого нибудь
монастыря в настоящее время гниют драгоценные рукописи.
С одной стороны, среди тех, кому доступны эти книгохранилища, мало охотников копаться в архивной пыли и добираться до смысла неведомых знаков, с другой, во многих странах к любознательным чужеземцам относятся недоверчиво и для них, как напр, в Испании, вход в Национальные библиотеки закрыт. Такого ученого, как знаменитый французский химик Вертело, автора солидных исследований по истории алхимии — не пустили в библиотеку Эскуриала, где хранится масса ценных арабских манускриптов и Н. Морозов в своей киге «В поисках философского камня» называет такое отношение испанцев «варварским». Что же остается сказать по адресу Либри, выдающийся математический талант которого не помешал ему, вопреки цитированным выше и принадлежащим ему же словам, проявить на деле с весьма некрасивой стороны свое отношение к манускриптам, о которых он так отечески, повидимому, заботился. Как несомненно доказано Делилем, Либри, облеченный высоким доверием французского правительства, был назначен на ревизию библиотек и архивов Франции, и, пользуясь своими полномочиями, без труда похитил массу драгоценных книг и рукописей, от продажи которых составил значительное состояние.
Прискорбный факт, роняющий в наших глазах талантливого ученого, конечно, явление исключительное, но ведь всякий аферист, ради материальных выгод, может под видом ученого проникнуть в архив и похитить ценный документ, и когда я думаю об этом, испанцы перестают мне казаться варварами.
Переходя к разбору задач интерпретации, мы должны прежде всего остановиться на толковании значения остатков. Приписать им смысл, которого в действительности они не могли иметь, значит стать на ложный путь и выводить следствия, плохо вяжущиеся с позднейшими фактами: надо быть очень осторожным, не искушаясь построением остроумных гипотез, которые на первый взгляд могут подкупить наличием элемента правдоподобия.
В пещере Мае дАзиль Пьетт нашел массу галек, раскрашенных красной краской различных оттенков, с нанесенными на них параллельными полосами, кружками, узорами и непонятными значками. Принадлежность их к новейшему палеолитическому периоду по свидетельству Буля и Кар-тальяка, археологов весьма компетентных, установлена с очевидной несомненностью. Сохранению их способствовало смешение краски (вероятно, окиси железа) с жировыми, или смолистыми веществами, кроме foro, гальки найдены в совершенно сухом слое пыли, защитившем их от действия света, влаги и воздуха.
Разбивая на группы по характеру рисунков, Пьетт в одних гальках усматривает своего рода «цифры», в других — письмена. В этой последней группе _ встречаются знаки, напоминающие очертаниями киприотские, Эгейские и финикийские буквы. В конце концов, по предположению Пьетта, пещера Мае дАзиль представляет собой первобытную школу, где учили и учились чтению, письму, счету и символам религиозного культа. Если даже согласиться с Пьеттом в отношении «числовых» галек, что они служили в домашнем обиходе первобытного человека для счета предметов первой необходимости, то в параллельных полосах и кружках надо видеть зародыш идеи соответствия этих символов объктам счета, которыми пользовались в позднейшие времена, чтобы не обременять слабо развитой способности запоминания, в виде штрихов и зарубок на кости, роге и дереве — в прообразах бирки, но видеть в случайно совпадающих по конфигурации значках развитую алфавитную систему — это значит впадать в явный анахронизм. История эволюции письма в своих последовательных стадиях противоречит такому представлению. Как можно думать, что обитатели азильской эпохи за несколько тысячелетий до возникновения древнейшего азиатского иероглифического письма обладали алфавитной системой при отсутствии предшествующих эволюционных стадий, кроме того, маловероятно, чтобы такое удивительное изобретение бесследно исчезло в данной местности.
Что касается «письменных» остатков, то, конечно, весь вопрос сводится к дешифровке, требующей огромной траты творческих сил и остроумия, когда речь идет о чтении египетских иероглифов и клинописи, но здесь исследователи случайно натолкнулись на «ключь»,напр. в видетрех-язычной надписи на Розеттском камне, тогда как в узловом письме, или в иероглифической системе древней Америки, благодаря отсутствию таких ключей, дешифровка подвигается крайне медленно: широкий простор для фантазии нисколько не упрощает процесса овладения истиной. Числовую систему племени Майя удалось более или менее выяснить, но письменность до сих пор остается загадкой, так что, несмотря на все усилия американистов, не удалось напр, разобрать в высшей степени любопытный памятник майясской письменности, хранящийся в Королевской Публичной библиотеке в Дрездене.
Но и в тех случаях, когда письменность стала нам доступной, задача оказывается решенной только наполовину, т. к. надо изучить специальные оттенки выражения мысли, значение оборотов, технические названия, образующиеся в связи с воззрениями и обычаями времени и места, надо стать на точку зрения понимания источника в современную ему эпоху, считаясь с кругом знаний, уровнем образования и общественными интересами. Там, где подобная наводящая историческая обстановка отсутствует, напр, при исследовании культуры доисторических эпох, приходится обращаться к методу аналогии, освещая вопрос теми данными, которые в соответствующих случаях известны нам из знакомства с некультурными племенами настоящего времени. Таким путем реконструируется эволюция пальцевого счета в связи с его остатками, дошедшими до нас в изобразительном письме и языке, но по существу, в порядке последовательного хода исторического анализ, указанный процесс является уже «конструктивным» моментом.
Факты развития идей, как объекты исторического исследования, необходимо рассматривать со стороны общих условий и причин, во вторых, в качестве звеньев определенной последовательности, структура которой претерпевает нарушение целостности при выключении того, или другого члена ряда. Неполнота связи, наличие пробелов есть та нежелательная «деформация» исторической функции, которая препятствует нормальному ходу анализа. При отсутствии промежуточного звена историк может прибегнуть к» интерполяции», в сипу логической необходимости реконструируя отсутствующее звено в его наивероятнейшей форме; такое приближенное решение проблемы имеет чисто условную ценность, благодаря привнесению элемента субъктивности, и допустимо там, где факты получают разяснение, свободное от натяжки — это дело такта и исторического чутья. Гораздо труднее обратная задача — экстраполяция, пример чего мы видим в изложении хода донаучного периода развития математических знаний. Нет сомнения, что задача эта с течением времени будет разрешаться с тем большей степенью приближения, чем больше окажется в нашем распоряжении вспомогательного материала. Что же касается экстраполяции у верхнего предела, то при современном состоянии исторической науки для такого предвидения мы не располагаем достаточными средствами. Каждая историческая функция есть по существу функция со многими переменными и в лучшем случае при дальнейшем развитии науки мы будем в состоянии изучить характер той, или иной частной производной, но охватить их совокупность, т. е. сделать доступным научному восприятию «полный дифференциал» — вряд ли когда удастся — стесненные ограниченными средствами разума, мы не в силах справиться с постановкой проблемы в ее идеальной форме и практически достижимая задача науки — это переход от грубого приближения к более тонкому.
Несомненно, что историку математики легче оставаться на объктивной точке зрения, чем историку вообще. Область точного знания имморальна и аполитична, в нее не могут быть вкраплены религиозные и социальные элементы, путь исследования ограничен специальными условиями, но и при подобной симплификации задача остается сложной и трудной именно в области конструирования, т. к. внимание историка постоянно должно быть направлено в сторону сведения субъктивизма к возможному минимуму.
В простейшей задаче — комбинирования отдельных фактов — историк, не отступая от материала, данного ему иеучением источников, должен связать в одно все члены эволюционного ряда и процесс выявления этой внутренней причинной связи носит в большинстве случаев гипотетический характер: тем совершеннее конструкция, чем она ближе к достоверности.
В конструкции физических факторов, особенно в изложении древнейших периодов истории науки, необходимо считаться с их влиянием на процесс образования основных идей: органические свойства народов и рас, окружающая природа, климат, конфигурация страны кладут свой отпечаток на форму идей и способствуют разнообразием почерпнутого извне их объему и содержанию.
Психические элементы человеческой природы также играют немаловажную роль в самом построении идей и для выяснения воспитательного значения науки в любой исторический момент, а также для освещения процесса роста и степени усвоения идей - главнейшей основой является анализ психических факторов.
Наконец, в рассмотрении исторических периодов мы должны считаться с комплексом культурных факторов, отвечающих данному моменту, т. к. вне влияния и связи с другими областями знания, техникой, искусством, состоянием общего образования, а в древнейшие периоды даже вне зависимости от космогонических представлений и религиозно-мистического культа, нельзя рассматривать сумму на-
учных знаний, как нечто самодовлеющее и самкнутое. Надо раскрыть связь по всем направлениям и дать оценку степеням этой связи, поскольку это вообще возможно сделать, не греша против догмы научного объктивизма.
Нам остается сказать несколько слов относительно самого изложения, как формы точной передачи содержания. Художественность речи и красота внешнего построения конечно, желательны, но не составляют неотъмлемой необходимости научного изложения. Во всяком случае, форма не должна заслонять содержания; в отношении же этого последнего надо соблюдать логическую планомерность, а в объме ограничить себя целесообразным отбором материала.
Историографический очерк.
Возникновение числовых и пространственных восприятий скрыто навсегда от взоров пытливого исследователя в глубине минувших тысячелетий. Как развивались идеи счета, порядка и протяжения, свидетельствуют дошедшие до нас «остатки» и памятники древних культур, и все говорит за то, что математические знания развивались и усваивались человечеством крайне медленно.
Прежде чем эти знания сложились в определенный комплекс и могли трактоваться в качестве науки, конечно, не могло быть и речи о рассмотрении накопленного материала в порядке исторической последовательности; самая идея необходимости такого рассмотрения могла появиться в период достаточно высокого интеллектуального развития. Но задолго до появления сознательного отношения к мысли о необходимости исторического обозрения того, что сделано предшествующими поколениями в области точного знания, человечество пыталось связать возникновение этого знания с рядом мифов. То немногое, что было доступно человеку из мудрой науки о числе и землеизмерении, что сохранялось из рода в род и составляло тайну искусства
немногих избранных и посвященных, приписывалось участию божества: силы собственного разума казались для этого слишком несовершенными.
Обратимей к древнейшему из народов — вавилонянам. Известный жрец Берос написал недошедшее до нас сочинение «История Вавилонии и Халдеи», отрывки из которого сохранены еврейским историком Иосифом Флавием в его «Иудейских Древностях». Благодаря этим отрывкам, мы узнаем о существовании любопытного мифа (пока не найденного в клинописи) о разумном рыбоподобном существе Эа — Хан (греч. Оанн) и его преемниках Аннедотах, выходивших днем из моря и учивших людей «письму и наукам и различным искусствам, и построению городов, и законодательству, и земледелию, и храмозданию, и землемерию. С тех пор, говорит он, ничего не изобрели, что выходило бы за пределы этого. Эа-Хан написал и книгу о начале вселенной и вручил ее людям.
Клинописное сказание о седьмом допотопном патриархе повествует, что бог солнца Шамаш и бог ветра и бури Адад поведали ему тайны Ану, Энлиля и Эа
2) и вручили скрижали таинства неба и земли, которые сн потом передал своему сыну.
Подобно Вавилонянам и Египтяне считали всю свою культуру откровением богов. Луна, служившая мерилом времени, рассматривалась как божество счета. Имя.его было Тот — покровитель и охранитель культуры, изобретатель письма, культа, всякого знания и государственности
3). «Слово божие» было у египтян термином для иероглифического письма и для понятия «словесность». Божество заведывало в равной мере и тростью скорописца, и шнуром землемера и инструментом врача и резцом ваятеля.
Иосиф Флавий, сообщая, что Ной умер 950 лет, (I, гл. 3) обясняет при этом, что Бог даровал такое долголетие за благочестие и для того, чтобы люди, пользовавшиеся особым расположением Господа, могли вполне проверить и применить свои изобретения в области астрономии и геометрии.
С именем Авраама у евреев и арабов связано множество преданий2). Правильная смена солнца луной и звездами так поразила Авраама, готового почитать солнце божеством, что он заключил, что светила не могут быть самостоятельны, а упоавляются посторонней силой. И Берос, не называя по имени, упоминает об Аврааме так: «в десятом поколении после потопа жил среди Халдеев справедливый и великий человек, опытный в астрономии.
В главе 8-й у Иосифа Флавия читаем: Авраам (поселившийся в Египте) преподал арифметику и сообщил сведения по астрономии, в которых Египтяне до прибытия Авраама были несведущи. Слава Авраама, как выдающегося астронома, была так велика, что цари восточные и западные приезжали к нему за советом). Таким образом, по мнению Флавия эти науки перешли от Халдеев в Египет, а оттуда уже и к Грекам.
В мифических сказаниях народов Центральной Америки мы встречаемся с любопытной фигурой обожествленного героя Quetzal — Соайя (птица — змея). Как владыка облаков, он изображался символически в виде птицы, как владыка молний в виде змеи. Приплыв из восточного океана на челноке в мексиканскую землю, Кветцаль-Коатпь научил местных жителей резать и полировать камни, дал им письмо, чтобы они запомнили его учение, и изобрел календарь.
Повидимому, на этом предании сказалось влияние аналогичного мифа гайяйсов о боге Солнца-Кулулкане. На 36-м листе Дрезденской Майясской рукописи закреплено его изображение в челноке, движущемся с востока. Он также изобретает письмо, учит майясов искусству воздвигать постройки и создает календарную систему.
У Китайцев мы встречаемся с преданием, согласно которому, легендарный правитель страны Sui-gin-schi- изобрел узловое письмо, закрепленное впоследствии в системе числовых знаков на известной таблице Ло-шу, найденной будто бы за 2200 лет до Р. Хр. в Хонане, где изображены первые девять чисел в форме стилизованных узлов. Составление ее приписывается просветителю рода Императору Фо-хи; ему же принадлежит, по уверению Китайцев, изобретение письменных знаков и древнейший памятник китайской письменности И-кинг. Китайцы называют таблицу Лошу мистической черепахой и по другому сказанию Фохи видел дракона, вышедшего из Желтой реки и на спине его была изображена десятичная система счисления. Но есть еще вариант, в которой фигурирует мудрец Иу, ознакомившийся с этой системой по изображению на спине черепахи, также вышедшей из реки.
Древние Греки с своей богато развитой мифологией также приписывали изобретение науки счисления богу Гер-месу, а Дедала и его племянника Талоса считали изобретателями отвеса, пилы и геометрических инструментов, (об этом упоминает Плиний) необходимых в архитектуре. У Диодора читаем: «Каллимах рассказывает о Пифагоре, что он частью изобрел, частью первый привез из Египта в Грецию геометрические задачи, а именно в том месте, где он говорит: Это открыл фригиец Эйфорб (Пифагор), который показал людям разносторонние треугольники и круги и который учил людей воздерживаться от животной пищи».
Личность Пифагора вообще не раз упоминается в легендарной обстановке: писатели Средних Веков не были сильны в истории науки и басни их повторяются даже в русской рукописной математической литературе. Так напр, в рукописи Румянцевского музея № 682 (из собрания В. М. Ундольского), относящейся к концу XVII века, встречаем любопытное заглавие: «Книга глаголемая Арифмос, еже есть счет, иже древле еллинский мудрец Пифагор, сын Аггинаноров, изобрел сию мудрость и на свет предаде наипаче хотящим сей арифметической мудрости учителя». В «Извещании» (т. е. в предисловии) от имени арифметики говорится: «Меня исперва иже от Еллин, премудрый Пифагор изобрете и арифметику мя нарече, сиречь естество численное, яко источник водам нарече мя истечение. Но и великий во пророцех Моисей Книгу Числ мною написа».
В предисловии к рукописной Арифметике, принадлежавшей Карамзину и неизвестно где находящейся, появляется в роли изобретателя арифметики совершенно мифическое лицо «Сир, сын Асиноров, муж мудр бысть: сий же написа численную сию философию финическими (т. е. финикийскими) письмены...
Византийский историк Цедрен (XI в. по Р. Хр.) пишет, что первая книга по философии чисел составлена на финикийском языке Фбниксом, Сыном Агенора, бывшего, з свою очередь, сыном Нептуна. ()
У индусов с их необычайно развитой фантазией в области числовых представлений создание арифметики приписывается божествам, и по преданию, Будда довел образование числительных до 1054, т.-е. до числа, которое мы должны бы назвать нонильоном. Древнейшее астрономическое сочинение «Surya — SiddhUnta» (наука о солнце) написано, по мнению индусских ученых, легендарным Asura-Мауа, (демон Мая), о жизни которого ничего неизвестно.
Все приведенные мифы и предания являются весьма характерной иллюстрацией к попыткам человечества проникнуть в генезис науки и служат лучшим доказательством того, что в действительности зачатки знания в области математики и астрономии восходят к седым временам доисторических эпох. Как каждый из нас не в состоянии представить себе с ясностью моменты усвоения числовых и пространственных представлений в детстве, так и человечество, в его целом, лишено этой возможности: то, что создавалось на протяжении тысячелетий, представляет, в конце концов, продукт коллективного творчества, рост которого совершался крайне медленно, и, незакрепленный в памяти сменявшихся поколений в своих отдельных этапах, по мере накопления материала казался человеку с слабо развитым интеллектом чем то чудесным, сверх естественным, превышающим настолько его слабые силы и способности постижения истины, что естественно возникло желание подискать для- происхождения этой подавляющей мудрости удовлетворительное обяснение и в результате во всех мифах и легендах творцами науки являются боги, мифические герои и цари. Когда мало культурный человек пользуется аппаратом арифметических операций, он не в состоянии представить себе тех колоссальных усилий, которые затрачены человечеством на создание этого аппарата, и вполне понятно, что будь это делом личного тверчества, когда, минуя все промежуточные этапы от грубых приемов пальцевого счета и в дальнейшем, минуя многовековое развитие счета инструментального, человек единолично дошел до создания хотя бы нашей десятичной системы в ее готовой форме — это был бы гений исключительной силы, и «правы были индусы», говорит Бубнов, когда в более соз-, нательное время, постигая аналитически работу бессознательного синтеза, совершенного во тьме веков ощупью, и считая ее работой единоличного существа, они приписали свою арифметику «Браме».
Потребность в историческом обозрении материала могла явиться во времени и пространстве при подходящих к тому Условиях развития общей культуры не только при достаточном накоплении этого материала, как это имело место у Халдеев и Египтян, но при сознательном представлении об известном комплексе знаний, как науке. До такого сознания не могли подняться ни халдейские, ни египетские жрецы, бывшие только собирателями научных фактов и не везвысившиеся до систематической их обработки, Их наука была чисто эмпирическая, цели и задачи указывались практикой, умозрительное творчество не шло дальше построения громоздких космогонических схем и тяжеловесного религиозно-астрономического культа. Наука носила характер чисто-служебной дисциплины. В самостоятельном значении ей отказывалось, короче говоря, духу халдейской и египетской мудрости были чужды идеальные стремления, о философской точке зрения по отношению к науке, следовательно, не могло быть и речи.
Естественно, что только у того народа, умственный склад которого был, по крайней мере, одной степенью выше, у народа склонного к умозрению, могло выработаться понятие «чистой науки» (матезис) безотносительно к практической приложимости накопляемых знаний.
Вследствие этого первые попытки к историческому освешению хода научных завоеваний могли возникнуть только у Эллцнов.
Страна, оказавшаяся способной выдвинуть первых по времени историков и философов, и в области точного знания дала миру настоящих геометров, а в среде этих последних и тех, кто понимал необходимость исторического обозрения наростающего материала, чтобы своими трудами облегчить будущим поколениям знакомство с тем, что сделано их предшественниками.
Первым писателем древности, обратившим внимание на историческую разработку материала, был ученик Аристотеля Эвдем Родосский (вторая половина IV в. до Р. Хр.) написавший «Историю Геометрии» и «Историю Астрономии», до нас не дошедшие и известные по немногим отрывкам и цитатам Эвтокия Аскалонского (в комментариях к соч. Архимеда «(xuxtov цг-ртк)», Прокла Диадоха (в комментариях на первую книгу «Начал» Звклида), Диогена Лаэрция и Климента, Александрийского. Между прочим, у Прокла приведен список греческих геометров от Фалеса до Эвклида, повидимому, составленный по Эвдему. (См. греческий текст, изданный Фридлрйном «Procli Diadochi in primum Euclidis e lementorum librum commentarii. Ex vec. G. Friedlein (VIII +-507) Leipzig, 1873).Если период деятельности Эвдема отнести к 340 — 310 г. до Р. Хр,, то работа его должна была обнять обозрение развития науки на протяжении трех веков, и в частности, по отношению к геометрии, Эвдем подверг разбору ?от материал, который в обработке Эвклида и несколько позднее у Аполлония представился в столь совершенной форме в смысле содержания и изложения, что труды их, по справедливости считающиеся классическими, заставили, как говорит П. Таннери, забыть все предшествующие трактаты на ту же тему, несмотря на всю их ценность.
Указанный трех вековой период, предшествовавший эпохе расцвета греческой науки, может быть назван подготовительным и потому знакомство с ним наиболее важно, однако история его является для нас наиболее скудно освещенной, т. к. сочинения Эвдема, дошедшие до нас в ряде отрывочных извлечений, представляют единственный надежный источник, которому можно следовать в реконструкции этого периода.
Вопрос осложняется еще тем, что из первых рук историческими трудами Эвдема воспользовались в конце следующего Александрийского периода Гемин в своей «теории математики», а в конце греко-римской эпохи (третий период) Порфирий (III в. по Р. Хр.) и Папп Александрийский в «Комментариях» к Эвклиду. Из этих утраченных трудов заимствованы Проклом цитаты из сочинений Эвдема, следовательно, уже из вторых рук. Что же касается одного значительного отрывка, сохраненного Симплицием (in Phy-sicorum), то, по мнению П. Таннери, он взят из компиляции III столетия, в IV же веке труд Эвдема оказывается окончательно потерянным.
Как бы то ни было, указания Эвдема являются ценным средством ориентации, и в виду того, что это первые по времени исторические изыскания в области науки, мы считаем необходимым уделить им особое внимание.
По мнению П. Таннери, Эвдем не знал в точности, как велики были познания Фалеса, которого считают обычно первым культуртрегером и родоночальником точного знания древней Греции. В ряд ли приходится удивлятся неполноте сведений, если перенестись в условия культурной жизни того времени и принять во внимание трехвековой проме-жуток, на протяжении которого значительная часть сведений доходила от поколения к поколению по преданиям, письменность еще не успела развиться до широких размеров, да в частности нет никаких указаний, чтобы после Фалеса осталось сочинение чисто-геометрического характера, что же касается стихотворного произведения в 200 строк «О солнцестоянии и равноденствии», то и его можно считать принадлежащим Фалесу только с большей, или меньшей степенью вероятности. Судя по отрывку, приводимому Теоном Смирнским, именно на основании этой астрономической поэмы Эвдем приписал Фалесу открытие готового обращения солнца. Но кроме того, честь предсказания солнечного затмения во время битвы между Мидянами и Лидийцами также, по мнению Эвдема, принадлежит Милетскому мудрецу. Новейшая критика в лице Таннери подвергает сомнению факт самостоятельного предсказания затмения со стороны Фалеса, вероятно воспользовавшегося во время своего путешествия по Египту указаниями местных астрологов. Но раз сам Фалес это скрыл, то как мог знать об этом Эвдем.
Геометрический научный багаж Фалеса рисуется нам недостаточно ясно, т. к. имевшиеся в руках Эвдема материалы, повидимому, были довольно скудны. Перечисляя предложения, открытие которых приписывается Фалесу, Эвдем нигде не упоминает о способах их доказательства...
По свидетельству Прокла, Эвдем считает следующие теоремы принадлежащие Фалесу: «Если две прямые пересекаются, то противуположные углы равны», «в равнобедренном треугольнике углы при основании равны», «диаметр разделяет круг пополам» и «треугольниквполне определяется по двум углам и стороне между ними». Этой последней теоремой Фалес пользовался для определения расстояния корабля от берега милетской гавани. Но, вероятно, уже во времена Фалеса сумма геометрических знаний этим не исчерпывалась, и след, многое другое, что было известно Фалесу, заимствовано им у египетских землемеров, т. к. на самый факт заимствования у Эвдема имеется определенное указание.
Древние ученые не разбирались в этических тонкостях и могли выдавать за свое открытие то, чему научились у Египтян. Поэтому, если Эвдем приписывает Энопиду Хиосскому открытие двух простых геометрических предложений, то это свидетельствует лишь о вполне понятном для рассматриваемой эпохи отсутствии исторической критики. Эвдем приписывает напр. Анаксимандру определение величины и расстояния планет, хотя сомнительно, что он в действительности сделал это. И здесь мы встречаемся с аналогичным фактом: Эвдем вообще приписывает то, или иное открытие тому из своих соотечественников, в сочинении которого он находит впервые изложение этого открытия. Мудрено ожидать глубины критического анализа от первых исторических попыток, т. к, на примере многих трудов позднейшего времени, не исключая и минувшего столетия, мы сталкиваемся часто с явлениями того же порядка. Более близкие по времени факты, обозрение которых являлось более доступным, изложены у Эвдема обстоятельнее. «Очевидно», говорит П. Таннери, «Эвдем хорошо был знаком по преданиям пифагорейцев с трудами великой математической школы, но относительно Фалеса, преемники которого не занимались математикой и Энопида, школа которого стояла особняком, у него были весьма скудные
сведения. Напрасно старается он поддерживать иллюзию выводя из имеющих у него данных точные следствия восстановляя даже архаические выражения — ему удаетс? начертать лишь весьма неполную картину происхождения наук, картину которой, следовательно, пользоваться нельзя Справедливый, но суровый приговор историка, подходящего к материалу с точки зрения современных научных требований. Нельзя забывать, что в те первые моменты зарождения греческой литературы легко и часто случалось, что открытие, известное тесному кружку ученых, могло быть вновь открыто, или впервый раз изложено письменно другими, неимевшими непосредственной связи с этим кружком.
Во всяком случае, Эвдем старался дать все, что было в его силах по отношению к доступным ему источникам.
Разбирая труды пифагорейцев, он не ограничивается простым перечислением предложений, но приводит доказательства и вставляет свои замечания.
«Перипатетик Эвдем» говорит Прокл, приписывает пифагорейцам открытие теоремы, «сумма внутренних углов каждого треугольника равна двум прямым углам» и затем указывает самый ход доказательства.
Особенный интерес представляет упомянутый выше отрывок из «Истории Геометрии», сохраненный Симплицием в его комментарии к сочинению Аристотеля «Physica aus-cultatio». Часть его приведена в греческом тексте в старинном издании (1526 г.) комментарий и полностью его удалось восстановить профессору Бретшнейдеру в его очерке ) «Die G?ometrie und die Geometer vor Suclides» (Ein historischer Versuch (IV+184) 1870). Отрывок этот, изложенный весьма обстоятельно, знакомит нас с работами Антифона и Гиппократа по вопросу о квадратуре круга. О позднейшем периоде, обнимающем почти пол века (348 — 300 до Р. Хр) мы опять таки, имеем сведения, благодаря отрывкам,
г) Русский перевод «Геометрия и геометры до Эвклида» помешен в «МатеН® тическом Листке» Т. I. 1879 — 1880 г. издававшемся Гольденбергом, но, к сожеленИЮ, из отрывка, принадлежащего Эвдему, приведена весьма иезиаяительная часть.
сохраненным Эвтокием, т. к. за исключением двух книг двтолика из Питаны («о равномерно вращающейся сфере» и «о восхождении и захождении светил», в которых встречаются геометрические предложения) от этого периода до нас не дошло ни одного сочинения. У Эвтокия же приведено построение двух средних пропорциональных для решения задачи об удвоении куба, принадлежащее Архиту Тарентскому и воспроизведенное Эвдемом.
В списке геометров, составленном Проклом по Эвдему, мы встречаемся с целым рядом имен авторов несохранив-щихся трудов. Таковы Теетет Афинский, Леодам из Фазоса, Неоклид и ученик его Лев, Февдий из Магнезии, Амикл из Гераклеи, Кизикен Афинский, Филипп Мендский и один из последних геометров младшего поколения учеников Платоновской школы, автор многих предложений, вошедших в «Начала» Эвклида, Гермотим из Колофона.
История Эвдема, сохранившаяся до позднейших геометров Александрийской школы, служила справочным пособием, из которого черпали, как из весьма надежного источника, т. к. по всей вероятности, он имел возможность ознакомиться из первых рук с творениями большей части живших до него геометров. Не довольствуясь сухим перечнем трудов, он, излагая их содержание, останавливался на главнейших положениях, разбирал ход доказательств и старался проследить их постепенное развитие. Надо согласиться, что для первого опыта его «История геометрии» была выдающимся научным фактом: Последовавшая затем строгая обработка элементов науки Эвклидом и вопросов высшей геометрии Архимедом и Аполлонием оттеснила труды предшествовавших им ученых на задний план, вследствие чего их стали переписывать все реже и реже и в результате для позднеийших поколений они не сохранились.
«Эвдемова Геометрия», говорит Бретшнейдер, ядо не которой степени вознаграждала за эту утрату, и мы видим, что ее цитируют всякий раз, когда обращаются к до эвклидовой эпохе.
Мы имеем полное основание думать, что подобные ссылки и у таких авторов, которые, как Гемин, не указывают источников, все таки относятся к сочинению Эвдема. Что последний был достаточно хорошим знатоком дела для подробной и основательной оценки своих предшественников, видно из наиболее обширных, дошедших до нес отрывков его сочинения. «По свидетельству Прокла, он не был чужд и самостоятельным исследованиям, написав трактат ,о плоских углах», в котором он впервые подвел углы под категорию количеств, т. е. указал на способы их измерения.
Диоген Лаэрций составил каталог сочинений современника Эвдема, ученика Аристотеля Теофраста Лесбосскаго, плодовитого писателя, известного по свим историческим трудам «О мнениях физиков в 16 книгах (другой вариант «О физиках» в 18 книгах), «О природе» (3 книги), «Возражение физикам» (1 книга) и т. д. Из этого каталога мы узнаем, что он написал также «Историю Геометрии (4 книги), «Историю Астрономии (6 книг) и «Историю Арифметики» (1 книга), но ни одно из этих сочинений не дошло до нас даже в цитатах. Из обширного сочинения «О физиках сохранился отрывок об «Ощущениях» и несколько цитат у Симплиция.
В конце II века до Р. Хр. жил геометр Гемин (из Родоса), которого часто цитирует Прокл. Утраченное Сочинение его « Enarrationes geometricae» содержало, повидимому, филисофский разбор геометрических предложений и, в частности, ему принадлежит деление математических наук на теоретические (Геометрия и Арифметика) и практические (астрономия, механика, оптика, геодезия, музыка и счет).
У Прокла читаем: «Многие полагают, в том числе и Гемин, что математические науки следует разбить на два отдела согласно тому, что предмет одних наук составляют понятия, доступные нашему уму, а других — исследование и изучение свойств действительно существующих предметов
Счет, как видим, выделен, как практическая часть арифметики, известная у греков еще цо Платона под названием «логистики» («ТЧ).
Таким образом, мы встречаемся впервые с зародышем научной классификации в виде деления наук на абстрактные и конкретные.
Дошедшее до нас сочинение Гемина астрономического содержания. «Еведение к феноменам» содержит много указаний исторического характера. Трактат Прокла «О шаре» есть не более, как компиляция труда Гемина.
От II в. по Р. Хр. до нас дошли некоторые сочинения Феона Смирнскаго. Из них одно под названием, «Что в математике полезно для чтения Платона»,1) трактующее об арифметике и музыкальных интервалах, геометрии, средних величинах, мистических свойствах декады и астрономии, важно в историческом отношении в виду того, что Феон упоминает и цитирует недошедшее до нас сочинение Архита «О декаде» и указывает, что связаннымис ней вопросами занимался его учитель и друг Платона Филолай.
Между прочим, Феон отмечает, что Филолай и Архит пользуются терминами «единица» и «единство», не делая различия между единицей, как конкретным числом, и отвлеченной платоновской идеей единства.
Далее, по ссылкам Феона мы узнаем о недошедшем до нас сочинении Эратосфена о пропорциях и Гиппаса об акустике.
Точно также (руководствуясь, повидимому, трактатом «о гармонии») Феон говорит, что Архит и Эвдокс признавали соответствие самых высоких тонов самым частым колебаниям и существование определенных числовых соотношений между скоростью колебаний для каждого музыкального сочетания тонов.
Гораздо важнее в историческом отношении другое сочинение Феона так называемый «Малый астроном «-сборник трактатов Феодосия, Эвклида, Автолика, Аристарха Самос-скаго, Гипсикла и Менелая, сохранившихся за исключением последнего. По этому сборнику можно судить о состоянии астрономии в Александрийской школе в I в. по Р. Хр.
) «Арифметика и учение об интервалах издано е примечаниями и латинским переводом Бульо в 1624 г. (Париж).
В нем приводятся извлечения и цитаты из произведений древних геометров и астрономов и с этой точки зрения труд Феона является весьма ценным.
Что касается астрономической части первого из упомянутых сочинений Феона, то он издан в 1849 г. с обстоятельным комментариями Н. Martin, впервые обнаружившего, что философ Chalcidius (IV — VI в. ?.) включил книгу Феона в свои комментарии на «Тимей» Платона, не упомянув имени автора. Оставляя на совести философа подобный прием пользования чужим трудом, можно, во всяком случае, вывести из этого факта, что это сочинение Феона пользовалось в древности достаточной известностью.
Заслуживает упоминания нео-платонист Ямвлнх (IV в. по Р. Хр.) из сочинений которого до нас дошли «О Пифагорейской жизни1) «Поучение по философии», «О математической науке вообще»2) и «трактат по арифметике»,4) представляющий комментарий к «Введению в арифметику» Никомаха. Все 4 книги представляют только часть обширного «Рассуждения о пифагорейской секте», состоящего из 10 книг, но от трех последних (О музыке, геометрии и сферике) не сохранилось никакого следа и вообще неизвестно, удалось ли автору окончить свой труд. V-я книга «о физике» и VII-я «о теологии» цитируются Сирианом в его комментариях к «Метафизике» Аристотеля (Венеция, 1536). Третья книга содержит многочисленные отрывки из сочинений Филолая и Архита и вообще представляет компиляцию трудов предшественников Никомаха.
Большее историческое значение имеет четвертая книга, т. к. «Введение» Никомаха, представлявшее учебное руководство, в эпоху упадка научных знаний, приобрело значение классического труда по арифметике, заключая в себе все, что было сделано в эллинский и развито в Александрийский период. Успех, которым она пользовалась, обясняется не столько научностью изложения, сколько экскурсиями в область философии. Место доказательств занимают обобщения, проведенные путем индукции.
Свидетельства Ямвлиха, вообще говоря, не отличаются точностью, но для истории математики весьма важно, что он единственный автор, упоминающий имя математика Фи-марида (в одном месте родиной его Ямвлих считает Тарент. в другом Парос), которому он приписывает определение «единицы», как «предельной доли» (epawoo®z m»akr,c) и считает его изобретателем «эпантемы».
Такое же определение единицы (без имени автора) встречается у Феона Смирнского и по смыслу, вкладываемому в термин «доля», (целое число, т. к. дроби относятся к непрерывным величинам «опр) сводится к пифагорейскому: «единица — посредница между целыми числами и дробями».
Так как термин wmottc, повидимому, заимствован у Платона, то, по мнению Таннери, Фимарида можно отнести к IV веку1).
«Эпантемой» Ямвлих называет предложение, имеющее значение для истории алгебры и принадлежащее Фимариду: оно заключается в следующем, если пользоваться современной символикой: дана сумма Sx для п неизвестных Xi, х2, . . . хп и п — 1 частных сумм вида ххЗъ где к=; 2, 3, . . . .п. Определить неизвестные,
Схема решения такова: сложив все п — 1 сумм. (...)
остальные же неизвестные по найденному значению х4 легко определяются из частных сумм.
Ямвлих, пользуясь этим предложением, дает решение систем неопределенных уравнений в наименьших целых значениях:
Термин «Эпантемы» относится не только к указанному приему, т. к. из слов Ямвлиха можно заключить, что под этим именем существовало как бы дополнение к «Введению» Никомаха, содержавшее, вероятно, сведения, не входившие, как обязательные, в программу по арифметике для студентов философии.
Одним из наиболее ценных сочинений для знакомства с математическими знаниями древних греков являются Eovaprpi 5ia0T}..araxai» «Математические Коллекции» Паппа Александрийского1) жившего вероятно в конце III века по Р. Хр., сценку трудов которого дал еще Декарт.
«Я убежден, говорит он, «что первоначальные зародыши истины, вложенные природой в разум человеческий, имели такую силу и такое влияние в простодушном древнем мире, что люди, озоряемые светом разума, составили себе ясное понятие о философии и математике, хотя и не могли довести этих наук до совершенства. Такие черты, свойственные истинным математикам, мне кажется, встречаются в Паппе и Диофанте. ...»
Такой знаток, как Шаль, считает сочинение Паппа самым драгоценным памятником математики древних, т. к. в нем собраны разрозненные открытия знаменитых геометров, при чем, в целях облегчить чтение и понимание этих трудов, Папп дает массу ценного вспомогательного материала. К великому несчастью для науки из восьми книг до нас дошли только последние шесть и отрывок второй, судя по которому надо думать, что в первых двух книгах содержался обзор арифметико-алгебраической литературы, т. к. в сохранившейся части излагается способ умножения из утраченного соченения Аполлония по арифметике. Богатство содержания сохранившихся книг говорит само за себя.
В III-ей книге рассматриваются способы построения двух средне-пропорциональных, данные Эратосфеном, Никомедом и Героном, а в конце изложено построение пяти правильных тел, вписанных в шар заимствованное из «Сфе-рики» Феодосия. В IV-й книге Папп разбирает спираль двоякой кривизны на поверхности шара, опираясь на предложения, найденные Архимедом, и дает первый пример квадратуры кривой поверхности: если точка, двигаясь равно мерно по дуге большого круга, проходит квадрант в то время, как этот последний совершит полный оборот около оси, то часть сферической поверхности, заключенная между спиралевидной кривой двоякой кривизны и основанием полусферы равновелика площади квадрата, построенного на диаметре.
Папп ссылается на два сочинения, (Димитрия Алек-сандрийскаго и Филона Тианскаго) посвященных изучению свойств таких пространственных кривых, получаемых путем сложного движения точки по кривой поверхности. Именно, второе сочинение касалось свойств кривых, происходящих от пересечения двух поверхностей, названных «плектоидальными». Базируясь на одном замечании самого Паппа, что поверхность винта с четырехугопьной нарезкой есть плектоида, Шаль полагает, что этим термином могли обозначать или «линейчатые» поверхности, или «коноиды», а, может быть, им характеризовали только геликоидальные поверхности.
Все вышеупомянутое и историческом отношении представляет огромный интерес, т. к. геометрические вопросы указанного порядка свидетельствуют о высокой степени развития математического мышления древних Греков.
Дальше Папп рассматривает способы деления произвольного угла на три равные части и дает два способа построения квадратриксы Динострата с помощью винтовых линий на поверхностях цилиндра и конуса.
V-я книга распадается на 2 части. Первая представляет Извлечение из книги ЗеНОДОра «Пер1 iaopirpwv аэдрато»« о плоских фигурах равного периметра, во второй подробно описываются так называемые « полуправильные « многогранники Архимеда.
В VI-й книге, посвященной астрономий, мы встречаемся с комментариями к сочинениям Феодосия «Сферика», «О днях и ночах», Автолика «О вращающейся сфере», Аристарха Самосского «О размерах и взаимных расстояниях солнца и луны», Эвклида «Оптика» и «Феномены».
VII-я книга посвящена вопросам высшей Геометрии и начинается с разяснения аналитического и синтетического методов, применяемых Паппом в дальнейшем изложении одновременно при разборе некоторых задач, благодаря чему выявляется их существенное различие.
Затем разбираются, по собственному выражению древних, сочинения о «locus resolutus». Эти сочинения должен был знать всякий, стремившийся овладеть искусством решать геометрические проблемы. К числу их Папп относит Эвклида
«Data», ,Pozismata» и «de locis ad superficiem», Аристея
«de locis solidis», Эратосфена «de medio ratione «и Аполлония
Bde sectione rationis», «de sectione spatii,» «de tactionibusb,
«de inclinatione», «de locis planis» и «Conica»1) (в VIII книгах).
До нас дошли только «Данные» Эвклида и первые семь книг «Конических сечений» Аполлония. Указания Паппа были единственным материалом, на основании которого остальные утраченные труды были восстановлены в XVI и XVII столетии, а выше мы уже упоминали, что Шаль, основываясь на примерах (приведенных без доказательства) поризм и леммах Паппа, реконструировал сочинение Эвклида, «О поризмах».
В конце введения к VII-ой книге мы встречаемся впервые с идеей предложения, известного в механике под именем «теоремы Гюльдена», именно Папп говорит, что «площади (или объемы) получающиеся от вращения линии (или поверхности) относятся как произведения производящих (линий или площадей) на окружности, описанные их центрами тяжести».
Наконец, VIII-я книга содержит описание некоторых машин и инструментов для механического вычерчивания кривых.
Комментарии Паппа к четырем первым книгам «Альмагеста» Птоломея до нас не дошли. Сохранился лишь незначительный отрывок.
В своем месте при обзоре исторического развития математики в Греции мы с большими подробностями остановимся на рассмотрении тех частей «Математических Коллекций» Паппа, которые имеют тесную связь с так называемой «Высшей Геометрией» и дадим ему оценку, как математику, здесь же нас может, главным образом, интересовать историографическое значение этого труда.
) Сюда надо включить и сочинение Аполлония .De sectione determinate « о котором Папп упоминает дальше.
Самое название показывает, что автор задавался целью дать сводку наиболее ценных научных завоеваний в области математики, разясняя попутно наиболее трудные, или темные вопросы и дополняя собственными исследованиями теории, или отдельные проблемы, особенно интересовавшие древних. Передавая в подробностях содержание большинства ныне утраченных сочинений, он является вполне компетентным критиком и комментатором, и лучшим доказательством его научной добросовестности в этом отношении может служить сравнение дошедших до нас «Конических сечений» Аполлония, как подлинного источника, с тем, что изложено в «Коллекциях».
Сам автор не задавался определенными историческими задачами и, следовательно, с современной точки зрения это не более, как сырой материал критико-библиографического характера, представляющий для историка тем не менее высокую ценность, т. к. будь утрачено это произведение, в нашем знании развития математики в Греции был бы ничем невознаградимый пробел. С этой стороны труд Паппа в тех частях, которые связаны с историческим элементом, заслуживает всемерного внимания и признательности исследователей и этим определяется его значение, как источника.
Вот что говорит о нем Rouse Ball в своей «А Short Account of the History of Mathematics»: «Тщательное сравнительное изучение дошедших до нас текстов древних авторов и того, что говорит Папп, убеждает нас в его необычайной) добросовестности, что позволяет нам отнестись с полным L доверием к его свидетельствам о недошедших до нас трудах. Он не придерживатся хронологического порядка, но группирует разбираемые трактаты по предметам и весьма вероятно, что принятое им расположение мало чем отличается от порядка, в котором классики изучались в Александрий». Заслуживает внимания, хотя и в значительно меньшей степени, ученик Исидора Милетского Эвтокий Аскалонский, живший во времена Юстиниана. От него мы имеем Комментарии к первым четырем книгам «Конических сечений Аполлония и к сочинениям Архимеда: «О шаре и цилиндре, «Квадратура параболы», «Об измерении круга» и «О равновесии плавающих тел.1)
Особенно ценны комментарии к соч. Архимеда «О шаре и цилиндре, т. к. в них собраны сведения о решениях древними геометрами известной задачи «об удвоении куба», принадлежащих Платону, Герону, Филону, Аполлонию, Диоклесу, Паппу, Спору, Менехму, Архиту, Никомеду и Эратосфену.
В частности мы узнаем отсюда, что Платон пользовался в своем решении особым инструментом, описание которого приведено Эвтокием. Диоклес применил свойство изобретенной им кривой «циссоиды. Со способом Архита (пересечение конуса с кривой двоякой кривизны) он знакомит по Эвдему; Менехм, как оказывается, решил задачу двумя приемами с помощью конических сечений (сочетание гиперболы с параболой и 2-х парабол). Здесь же Эвтокий упоминает об инструменте для черчения параболы непрерывным движением, изобретенном Исидором Милетским. Наконец, приведено письмо Эратосфена к Птоломею с изложением истории задачи об удвоении куба.
Благодаря отрывкам из «Истории Геометрии Эвдема, сохраненным Эвтокием, мы имеем возможность составить хотя приблизительное понятие об успехах геометрии в Греции второй половины IV века до Р. Хр.
Не менее важны сообщаемые им сведения о практических успехах арифметики в виду того, что эта область Дошедшим до нас материалом освещена крайне скудно. Он с похвалой отзывается о «логистике» Магнуса, о личности и деятельности которого сведений не сохранилось
) Комментарии к соч. Архимеда изданы в греческом тексте «Eutocii Ascaloni-in Archimedis libros de sphaera et cylindro, atque alios quosdam, Commentaria. ««пс primum et Graece et Latine in lucem edita, Базель, 1544 г. В виде приложения ®ни имеются и в базельском издании (1544) сочинений Архимеда «Archimedis Syracuse philosophi ас geometrae excellentissimi opera etc.
Систематичности, отмечающей работу Паппа, у Эвтоки? мы не встречаем, но фактических данных собрано не мало к приходится пожалеть, что нет специальных изданий сочинений Эвтокия в переводе на один из европейских языков
Нам остается упомянуть последнего значительного философа древняго мира, причастного в своих трудах к истории математики, Прокла Диадоха1) (т. е. «преемника в управлении Афинской школой) (410 — 485), учившегося в Александрии, по философии у перипатетика Олимпиодора v по математике у Герона. Из сочинений его дошли до нас BEfalpo Парафраз? ес xuv ПтоХераю тгтрсффХо» f составленное по Гемину и другие, пока остающиеся в рукописях. Философские произведения более сохранились, из них «Перxime»: излагает учение Аристотеля о движении в Эвклидовой форме, Из собственных исследований заслуживает внимания органический способ образования эллипса непрерывным движением точки, принадлежащей прямолинейному отрезку данной длины, концы которого скользят по сторонам прямого угла (в комментарии к 4-му определению первой книги Эвклида).
Вообще комментарии Прокла к первой книге «Начал кроме целого ряда указаний исторического характера, содержат целую главу по истории Геометрии, составленную по Эвдему, и, в связи с утратой подлинника, эта компиляция приобретает ценное значение, но при тяжеловесной манере изложения Прокл утомляет многословием.
Комментарии эти сделались предметом внимания еще в XVI веке (греческий текст напечатан в базельском издании Эвклида (1533 г.), латинский перевод Бароция вышел в Падуе в 1560 г., английский принадлежит Тэйлору).
В научном отношении по тщательности обработки следует признать наилучшим издание текста на греческом языке Фридлейном: «Procli Diadochi in primum Euclidis ele-mentorum librum commentarii. Ex recognitione Godofredi Friedlein», 507 p. Lipsiae, 1873.
) О жизни и деятельности Прокла см. Е. Zeller «Die Philosophic der Griehen Ш-я ч. 2-й отдел. Лейпциг. 1881.
Ознакомимся вкратце с историческим материалом, интересовавшим Прокла.
Разбирая задачу, «об удвоении куба», он говорит, что I превние геометры свели ее к вопросу о нахождении двух средних пропорциональных, так именно поступил Гиппократ Хиосский. Для той же цели служила изобретенная Никомедом , кривая конхоида, описание которой, кроме Прокла, сохранено и Гемином. (Между прочим утраченное сочинение этого последнего « Enarrationes geometricae» Прокл очень часто цитирует). Первой попыткой разрешить «трисекцию угла, по свидетельству Прокла, была трансцендентная кривая, изобретенная Гиппием, помощью которой произвольный угол мог быть разделен не только на три равные части, но и на какое угодно число частей, имеющих данные между собой отношения «Это доказывают и те» говорит Прокл, «которые предлагают разделить данный прямолинейный угол на три части: Никомед сделал это посредством конхоиды, другие решали задачи помощью квадратриксы Гиппия, некоторые прибегали к спиралям Архимеда для деления угла в данном отношении.
Ссылаясь на слова Гиппия, Прокл упоминает некоего Америста, как весьма осведомленного геометра, о сочинениях которого мы ничего не знаем, но о нем есть указание и у Герона Старшего. Анаксагор, известный философ, по-евидетельству Прокла, также дал многое в области геометрии, что весьма вероятно, если сопоставить это с указанием Плутарха, что Анаксагор писал о квадратуре круга.
Про Пифагора Прокл говорит, что «он первый рассматривал основы науки с более возвышенной точки зрения и исследовал теоремы « интеллектуальнее (очевидно, он хочет сказать, что Пифагору принадлежит попытка теоретического построения начал геометрии вне зависимости от задач, связанных с землеизмерением).
По поводу знаменитой теоремы о зависимости между сторонами прямоугольного треугольника читаем: «Если мы станем слушать тех, кто повествует о старине, то узнаем,
что это предложение приписывалось Пифогору», след, сац Прокл ничего, не знал об истинном его происхождении и по видимому, намекает на Эвдема. Обобщенная теорема относящаяся к подобным фигурам, по словам Прокла, уже принадлежит Эвклиду.
Предложение «плоскость около одной точки может быть заполнена шестью равносторонними треугольниками, или четырьмя квадратами, или тремя правильными шестиугольниками, так что плоскость можно разделить на такие фигуры «Прокл считает возникшим у Пифагорейцев».
Платону Прокл уделяет много внимания: «Упоминается также о методах исследования», говорит он, «из которых лучший аналитический, сводящий искомое на установленное положение. Платон сообщил его Леодаму, который, пользуясь им, сделал много открытий. Второй метод состоит в разложении данного на отдельные части: помощью его устраняется все не относящееся к построению задачи, чем устанавливается исходная точка к решению; и этот метод хвалит Платон. Третий метод состоит в сведении к невозможному; помощью его доказывается не то, что предложено, но показывается невозможность противного и, таким образом, находится истинное». В этих кратких и недостаточно ясных определениях мы видим три метода, из которых только первый может считаться действительным открытием Платона; что касается второго (синтетического) и третьяго (апагогического), то, вне сомнения, они были известны еще до Платона.
Из определений геометрических понятий Прокл сохранил нам только одно, именно, определение прямой. «Платон», говорит он, «определяет прямую, как такую линию, концы которой скрывают лежащую между ними часть ее».
По поводу выражения сторон прямоугольного треугольника в рациональных числах Прокл говорит о методе Платона (не упоминая ничего о доказательстве) следующее: «Платон исходит от четных чисел. Принимают таковое за один из катетов; если разделить это число пополам, возвести в квадрат эту половину и к этому квадрату придать единицу, то получим гипотенузу; если же от этого квадрата отнять единицу, то получится другой катет».
Перечисляя учеников Платона, Прокл говорит о них очень кратко и, повидимому, никто из них не создал в области геометрии ничего выдающегося.
Переходя к Эвклиду, мы узнаем из «комментарий Прокла, что еще Герон занимался критическим разбором .начал» и сведения, приводимые по этому вопросу, заимствованы Проклом, вероятно, из недошедших до нас комментарий Герона к труду великого геометра, т. к. в Лейденской библиотеке имеется арабская рукопись первых шести книг .Начал со схолиями Герона.
Далее Прокл приводит отрывки из утраченного сочинения Птоломея «а minoribus quam duo recti ptoductas coin-cidere, где Птоломей делает попытку строгого обоснования исходных положений и в частности подробно разбирает XI-ю аксиому Эвклида.
О самом Эвклиде Прокл говорит; «Он оставил после себя самые остроумные методы, при помощи которых приступающий к изучению геометрии получает навык в нахождении ложных заключений и дает возможность их избежать. Методы свои он изложил в сочинении «wsuSdpta», (о ложных представлениях) перечисляя их в определенной последовательности, при чем упражняет наше мышление различными предложениями, противоставляя ложному действительное и доказывая неверное при помощи опыта.»
По всей вероятности, это сочинение, к сожалению утраченное, носило характер наставления приступающим к изучению геометрии.
Общее значение ученой деятельности Прокла отметил Шаль, указав, что «он своими сочинениями и поучениями имел существенное влияние на поддержание значения математики еще на некоторое время, имея в виду, что деятельность Прокла протекала в период угасания творческих сил Греции в этой области.
Но для наших целей важно было выяснить значение его трудов, как исторического источника. Он был последним из видных комментаторов и его труд является заключительным звеном и без того скудной греческой историографии в области математики. Не дойди до нас сочинения Паппа и Прокла, наша картина знания истории развития этой науки в Греции и без того не особенно яркая, стала бы не только еще бледнее, но оказалось бы и с весьма существенными изянами, без всякой надежды на реставрацию. Прокл не историк, а только комментатор, но, если принять во внимание, что сочинения единственного историка Эвдема до нас не дошли, а сохранились в отрывках у тех же комментаторов, то нам станет ясно, что труды этих последних являются одним из главных средств в реконструкции хода исторического развития математической мысли у греков. Если прибавить к этому дошедшие до нас творения Эвклида, Архимеда, Аполлония и Диофанта — вот и все, чем располагает современный историк.
В древности рукописные сочинения античных ученых не расходились, конечно, в таком количестве, как классики литературы и истории, ценились они очень дорого и были достоянием больших библиотек; в качестве подручных источников получали широкое распространение компиляции и полиграфические сборники, но и из них до нас дошла незначительная часть. Тем не менее, еслибы кроме Эвдема в древности были ученые, посвятившие себя историческим исследованиям, чего с большей вероятностью можно было бы ожидать от после — Эвклидовской эпохи, и если бы самые оригиналы утратились, то память о них, хотя бы в виде нескольких цитат, а равно и имена авторов сохранились бы у кого либо из комментаторов.
Так как в действительности этого нет, то мы вправе заключить, что на протяжении двенадцати веков существования греческой науки Эвдем был исключительным явлением.
Если исследователи в попытках пролить свет на преемственную связь научных фактов обращаются к дошедшим до нас трудам комментаторов, то только потому, что в таких темных вопросах не приходится пренебрегать источниками, даже не имеющими прямого отношения к задаче, сами же комментаторы преследовали скромные цели и, конечно, были далеки от мысли дать стройный и систематический исторический обзор; таким образом, если исключить их труды из рассмотрения, историографическая кривая оказывается представленной «единственной» точкой, положение которой определяется опять таки с известным приближением по сведениям, дошедшим до нас из вторых, или третьих рук.
В лице Греков мы видим исключительный пример культурного народа, с историей которого мы знакомы настолько, чтобы в общем представить себе картину возникновения научных знаний, их расцвета, углубления и упадка, но в области математической историографии картина эта не дает нам ничего руководящего. Первый период в развитии греческой науки — период усвоения в лице Эвдема имеет своего историка, обладавшего, как было выяснено выше, достаточным для своего времени пониманием задач исторического исследования, но у него не было ни предшественников, ни последователей.
Второй период, обычно называемый Александрийским — перисд расцвета математического творчества, давший науке Эвклида, Архимеда, Аполлония, Эратосфена, Гиппарха.
Труды геометров предшествующей эпохи были под руками, наука из юности переходила в стадию розмужалссти, создавался прочный фундамент, поле исследования расширялось. Для математиков, увлеченных творческой работой, историческое прошлое науки было представлено с достаточной полнотой сочинениями Эвдема, доступными в то время для справок в оригинале. В течение трех веков создавалось то, что в будущем могло ждать своего исследователя. Именно, следующий, третий по счету «Греко-римский» период (хотя это название скорее подчеркивает политическое влияние) является эпохой зрелости и углубления в изучение накопленного материала, период давший Птоломея, Диофанта и Паппа, казалось бы, скорее всего мог выдвинуть историка, который осветил бы знание А ек-сандрийского периода, как это сделал Эвдем по отношению к периоду усвоения. По крайней мере, в этом была историческая необходимость и отчасти она сказалась в характере научной деятельности Паппа.
Что же касается последнего периода, то угасание творческих сил, проявившее себя уже во второй пол вине предшествующей эпохи, обнаружилось здесь в полном отсутствий ярких математических даровзний. Самостоятельность и оригинальность мысли была утрачена и Таннери вполне справедливо называет этот период упадка .эпохой комментаторов.
Возрастающее политическое влияние Рима, распространение христианства и ассимилящя греческой культуры и римской — бот, три фактора, способствовавшие подавлению свободного творчества в области точного знания. На фоне рабского следования античным традициям выступает полная неспособность к дальнейшему совершенствованию науки. В лучшем случае комментарии, в худшем жалчие компиляции, притом с явным уклоном в сторону туманных умозрений, зачастую с мистической окраской — вот что дала нам эта эпоха.
При таких условиях трудно было ожидать появления писателя, который бы возвысился до создания ценного исторического труда.
Таким образом, на примере Греков, в виду указанного фактического материала, мы приходим к заключению, что 1 история науки может во времени и пространстве культивироваться только при определенном условии, именно, когда в коллективное соз-ание представителей науки проникает ясное понимание целей и задач подобного рода исследований. Греш этим пониманием не обладали и, если ссыпаться на Эвдема, то необходимо помнить, что единичные факты могут иметь место, как проявление индивидуальности, но они, как исключение, только подтверждают справедливость высказанного нами положения.
Тщетно стали бы мы искать материал для историографии точного знания у Византийских ученых. Несмотря на восьми вековое существование, Византия ничего не дала з области точного знания и единственная заслуга ее в этом отношении исчерпывается тем, что она сохранила нам науку древних Греков, не прибавив к этому драгоценному наследию ни одного яркого имени. В области компилятивно — комментаторской деятельности заслуживают упоминания: греческий монах Максим Плануд (1-я половина XIV века) автор комментария к двум первым книгам «арифметики» Диофанта1) и трактата об арифметике индусов « WfCfopla хат ivoouc, ц LEfO.svT, ИЗДаННОГО В 1865 Г.
G. GerhardtOM в Halle. Сочинение это замечательно тем, что в нем автор вводит в двух вариантах (парижский кодекс) начертание первых девяти чисел, т. е. индусские цифры.
Затем другой греческий монах Варлаам (1290 — 1348), комментатор Эвклида, написавший не лишенное значения сочинение «Хфот1хт(с» в виду самого характера темы. О практическом счетном искусстве Греков оригинальных трактатов не имеется и сведения, дошедшие до нас, весьма ограничены, а в упомянутом сочинении автор указывает приемы, которыми пользовались греки при действиях с Дробями. (Оно издано Дасиподием с греческим и латинским текстом под заглавием «Logisticae libri VI в Страсбурге в 15/2 г., второй раз со схолиями Chamber в 1600 г. в Париже).
Наконец, третий греческий монах Исаак Аргипус (ум. в 1372 г.), автор многочисленных сочинений, большей частью, астрономического содержания, рассеянных в виде рукописей по большим европейским библиотекам, как ком. ментатор известен «Схолиями» к первым шести книгам «Начал» Эвклида.
Что касается Римлян, то в ряду культурных народов, они проявили поразительную индифферентность и невеже-ственность в области математики и менее всего были склонны интересоваться ее историей.
В своей «Exposition du systeme du monde» Лаплас дал прекрасную характеристику их отношения к науке: «Уважение, которым пользовались в Риме ораторские и воинские таланты, увлекало все умы. Так как науки не представляли там никаких выгод, то ими пренебрегали среди завоеваний, предпринятых честолюбивым народом и среди внутренних рездоров, породивших междоусобные войны, в которых погибла наконец беспокойная свобода республики, сменявшаяся нередко бурным деспотизмом ее императоров. Распадение Империи, неизбежное следствие ее чрезвычайной обширности, привело ее к гибели, а светоч наук, погашенный нашествием варваров, был зажжен вновь только арабами».
Если в поэзии и философии они были простыми подражателями, то в математике они не поднялись даже и до желания подражать. «Общее впечатление таково», говорит Ганкель, «что римские землемеры кажутся как бы на тысячу лет старше греческих геометров; можно было бы думать, что тех и других разделяет потоп».
Начиная с конца VIII и до середины XIII века, след, в течение приблизительно 500 лет, мусульманская культура доминировала над культурой христианского мира и арабы явились культуртрегерами, связавшими молодые за- падно-европейские народы с наукой индусов и античной мудростью. Принято считать таким образом, что пробел между исчезновением древней цивилизации, примерно, в VI веке и нарождением европейского гения в конце XII ч и определенней в XIII веке заполняется возникновением, быстрым ростом и не менее быстрым переходом к окончательному упадку так называемой «арабской» науки.
Во избежание недоразумений нам надо однако условиться понимать этот термин в его истинном смысле. На протяжении пяти веков мы встречаем философов, математиков, астрономов, химиков и врачей, считавшихся арабами, до чистокровных арабов по происхождению, каким напр, был Аль-Кинди, среди них оказывается поразительно мало: все это персы, испанцы, евреи, уроженцы Бухары, Самарканда, Кордовы, Севильи — все они не только не имели ни капли арабской крови, но и по самому духу, их проникающему, были чужды элементам арабизма.
Едва ли что было более чуждо исламу», говорит Ренан, как философия, или наука. Явившись результатом религиозной борьбы, длившейся веками и заставлявшей сознание арабов блуждать между разными формами семимитического монотеизма, ислам отделен пропастью от всего, именуемого рационализмом, или наукой.
Арабские всадники, присоединившиеся к исламу, как удобному предлогу чинить завоевания и грабежи, были в свое %ремя первыми в мире воителями, но уж, конечно, из всех людей наименее склонны были философствовать».
История говорит нам, что в угоду фанатически настроенной толпе, поднятой имамами, философские и астрономические трактаты бросали на костры, а людей, рисовавших заниматься этими науками, называли презритель-мым именем zendikoB, т. е. нечестивцев, которые всегда могли ждать побоев, поджога жилища и даже смерти. Исламизм с рвением, достойным лучшгго применения, преследовал науку и кончил тем, что задушил ее раз и навсегда. Астрономия оказывалась терпимой лишь постольку, поскольку давала возможность ориентироваться в странах света, чтобы правоверные знали, куда им воссылать свои моли гвы.
Что же «арабского» при таких условиях могла заключать в себе наука?
По своему внутреннему содержанию ничего, с внешней же стороны она заковала себя в арабский язык. С ним произошло тоже самое, что позднее мы видим на примецг латинского языка, явившегося на Западе выразителем мыслей, совершенно чуждых древнему Лациуму.
Аверроес, Авиценна, Аль-Батени в такой же мере арабы, в какой оба Бэкона и Спиноза — латиняне.
Было бы огромным заблуждением арабскую науку и философию ставить на счет собственно арабам, как относить на счет древнего Рима всю латинскую христианскую литературу, всех схоластиков, всю эпоху Возрождения, науку XVI и отчасти XVII века лишь только потому, что все это изложено на латинском языке.
В отношении содержания приписывать исламу философию и науку, которых в начале он был не в состоянии подавить, равносильно тому, что мы стали бы ставить на счет теологам все завоевания современной науки.
Относить к чести ислама таких деятелей, как Ави-цена, или Аверроес — все равно, что католицизму приписывать нарождение Галилея.
Все только что нами изложенное опирается на авто- ритет такого знатока дела, как Ренан ) и, насколько нам известно, ни один из историков математики не подходил, в своем изложении истории развития точных знаний у Арабов к предмету именно с этой точки зрения, а между тем. как увидим дальше, вся реконструкция «арабского периода» в истории науки, как определенного промежуточного звена, перестраивается на новых основаниях. Если фактический материал остается по существу тем же, то историческая роль его несколько меняется. Как «научный фактор» в сфере математики то, что сделали «арабы» — это определенная константа, но как «культурный фактор», он претерпевает изменение, другими словами, историческая ф,ккция приобретает новую форму, позволяющую пролить и новый свет на явления частного хагактера, от чего преемственная связь утрачивает не только свой прежний специфический колорит, но допускает и б. лее правдоподобное истолкование некоторых фактов.
В изложении истории математики у «Арабов» мы разовьем подробно нашу точку зрения при анализе фактического материала, а пока н-?м было необходимо выявить общее положение «арабской» науки, чтобы понять, чего можно ожидать от нее в области историографии.
Недостаток творческой силы духа, присущий арабам, является главной причиной того, что они не в состоянии были направить свою богатую фантазию в надлежащее русло, как это мы видим у Индусов, хотя, с другой стороны, наличие этого элемента обусловило доминирующую роль индусск й науки, усвоение и ассимиляция которой прошли с большим успехом, чем все заимствованное от эллинской культуры: отдавая должное завоеваниям греческого гения в области геометрии, как арабы, так и писавшие под «арабской» маркой, ограничивались комментированием ка разные лады трудов Эвклида, Архимеда и Аполлония, но срели многочисленных представителей этого направления нельзя назвать ни одного имени, равнявшегося по значению указанным греческим образцам. Арабская наука нисколько не подвинула вперед доставшееся ей драгоценное геометрическое наследие и передала его в застывшей форме молодым европейским народам.
Единственное искуство, в котором сами арабы оказались сильными поэзия, весьма своеобразна и в сущности представляет неподражаемый образец замаскированной диалектики; преклонение перед ритмом и рифмой, т. е. перед внешней формой, заслонило содержание и в этом отношении арабская поэзия не дает нам ничего поучительного и привлекательного. Тем менее было почвы для развития научных знаний, в которых национальный элемент мог выявить себя, хотя бы в слабой степени по сравнению с эллинской наукой. Бедуин — поэт по форме, а не в душе — всегда был привязан к жизни сухими и трезвыми соображениями практического характера. .Наука для науки» пустой звук для араба, да и вся исторически сложившаяся обстановка не могла содействовать углублению в научные интересы: завоевательная политика, усмирение вспыхивающих восстаний, парт йно-религкозная борьба нашли успокоение в исламизме, объди-няющем начале, медленно, но верно подчинившем себе араба, натура которого на редкость пассивно поддалась анти-научным тенденциям «мусульманокэй» догмы. Таким образом, ни до ислама, ни по водворении его о «национальной науке не могло быть и речи: все сводилось к усвоению «чужого», к ассимиляции греко-египетской и индусской культур, и то в подавляющем большинстве, при посредс ве ученых — не арабоз по происхождению.
Историк культуры Генрих Шурц в своем сочинении «Западная Азия в эпоху Ислама» говорит:
«Между науками, пользовавшимися благосклонностью и попечением халифов следует назвать прежде всего те, которые в особенности, соответствовали арабскому духу и вледствие этого и существовали дольше всего, именно науки диалектические, требующие больше остроумия, чем творческой силы, как например филология и грамматика, логика и реторика, религиозная догматика и юриспруденция.
Изучение астрономии никогда не могло окончательно сбросить с себя оковы «.уеверия, обыкновенно принижающие это изучение к земле и даже у более цивилизованных народов препятствующи§ беспристрастному исследованию Но если астрономия и тормозилась очень сильно, благодаря неизбежной астрологической примеси, всегда находившей себе покровительство у высокопоставленных лиц, все же ее
тесная связь с математикой составляла прочную опору здоров зго развития , но не в руках самих арабов, добавим мы с своей стороны.
Мусульманская культура времени халифов была в тот период, когда Европа только начала с трудом оправляться от опустошений, вызванных переселением народов, хранительницей преданий лучших дней. Ей мы обязаны тем, чго дальнейший ход человчес ой цивилизации не был в полне прерван и тогда, когда у народов южной Европы беспомощно опустились руки, а северные варвары с трудом и неумело, хотя и с свежими сшами, начали восстановлять порядок среди развалин старого, которое они сами разрушили в пылу дерзкой самонадеянности.
Выполняя роль посредницы в передаче эллинской и дальневосточной культур Европе, арабская наука в лице ее лучших представителей и не претендовала на создание чего либо «самобытного» и крупного.
В первый период «усвоения» науки, отмеченный без-численными переводами и комментариями в силу только что указанного стореи науки» интересоваться не мопм. В период углубления в приобретенные знания и попыток к самостоятельным исследованиям, естественно, весь интерес был сосредоточен около во тросов, дававших материал для творческой работы и только в дальнейшем можно было бы ожидать трудов, посвященных обозрению того, что б лло сделано.
Но если в об асти общей истории, несмотря на необычайную плодовитость, арабскв писатели, не выходя из рамок, навязанных им деспотизмом правителей и стеснявших свободу мысли, не пошли дальше обемистых летописей и хроник, совершенно чуждых критической обработке материала1), то тем более в области истории науки они не
1) Исключение составляет выдающийся исторический труд тунисца по происхождению, Ибн-Хальдуна (H2 — 146) «Наставления, подлежащее и сказуемое на счет дней арабов, персиян и берберов» где он обнаруживает умелое обращение с горнческим материалом и пользуется критическими приемами.
могли возвыситься до понимания важности связного изложения фактов в их исторической последовательности и специализовались на чистослужебных дисциплинах в виде обширных библиографических обзоров и биографических словарей.
После ряда потрясений, нанесенных культуре сначала тюрками, а позднее монголами, в науке, после классического периода замечается явное преобладание эклектизма над самостоятельной работой, выразившееся в стремлении со-хранить плоды исчезающей учености в виде сочинений справочного характера и Энциклопедий.
Абу-Бакр, уроженец Севильи (1108 — 1179) собрал дс полутора тысяч проверенных заглавий научных трудов по всем отраслям знания, Кайси (112э г.) составил биографический словарь поэтов и ученых XI века.
Автор превосходного географического словаря, грек Якут (1179 — 1229) также написал словарь ученых, от эйюбидского визиря ибн-аль-Кыфтыя (1172 — 1248) остался словарь ученых и философов, наконец уроженец Месопотамии Азуль-Аббас ибн-Халликян (К 11 — 1282) написал заслуживающий полного доверия словарь, содержащий з алфавитном порядке 846 биографий выдающихся писателей и ученых под заглавием «Кончины очей для сведения современников». (Он издан Ed. WfistenfeldOM «bn — Challicam, Vitae illustrium virorum, (1835 — 1840). Уроженец Дамаска Захабий (1274 — 1348) в св -ей всеобщей истории также дал ряд биографий ученых, труд Халл кяна был продолжен уже в XIV веке дамаскинцем ибн-Шакир Аль-Кюто-бием (ум. 1363 г.).
Из более поздних работ подобного типа нельзя не упомянуть ценную библиографию турка Хаджи-Хальфа Мустафа (иногда называемого Кятиб-Челеби) (ум. в 1658 г.).
«Открытие сомнений в назвгниях книг и, различных отраслях знания, представляющую добросовестный сжатый обзор мусульманской литературы с краткими биографиями авторов 14500 книг на арабском, персидском, турецком и татарском языках. Труд этот издан в XII томах в арабском тексте с латинским переводом, комментариями и ценным указателем Гусаком Флюгелем, Hadi Ch-lfae, Lexicon bib-liographicum et encyclopedicum (1835,, — 1858 г.).
Приведенный список наиболее известных трудов далеко не исчерпывает указанной отрасли литературы, так как имеется много ценных и весьма старинных неизданных биографических словарей, хранящихся в рукописях.
Мы уже упоминали о замечательном историческом труде тунисского испанца Ибн Хальдуна, которого известный арабовед проф, Крымский (.арабская литература в очерках и образцах) называет» украшением всей арабской историографии и считает его «арабским Монтескье». По словам Крымского, он пытался дать прагматическую историю всего мусульманского мира и отдельных народностей и снабдил труд бессмертным введением о философии истории, где указал на влияние экономических факторов, разобрал вопрос о возникновении общественной жизни, отметил влияние климатических условий на развитие культуры и дал ряд ценных соображений о приемах и задачах исторической критики.
На личность и деятельность этого выдающагося арабского энциклопедиста в курсах истории математики совершенно не обращают внимания, или уделяют ему несколько ничего не говорящих строк, а, между тем, появление «Прологомен»Ибн-Хальдуна есть важный научный факт, с которым нельзя не считаться. (...)
Алгебру Ибн-Хальдун называет «искусством определять неизвестное по данным, если только указана со тветствующая завигимость между ними». Первым, кто написал алгебраический трактат, он считает Магомета — Ибн-Музу, но с работами Аль-гайями он, вероятно не был знаком.
В геометрии он с особенным вниманием останав и-вается на «Элементах Эклида, придав я им исключительное значение и упоминая при этом и-ъна их арабских переводчиков Гонеин Ибн Исгака,Табит-Ибн-Курра и Юсуфа-Ибн-Гацжаша
«Польза Геометрии, говорит он, «заключается в том, что она развивает ум, приуч я его к правильному мышлению. Все доказательства геометрии отличаются ясностью изложения и последовательностью выводов, через что устраняется возможность ошибок в разсуждениях; вследствие этого ум людей, занимающихся геометрией, мало подвержен заблуждениям. Изучение этой науки тоже для ума, что мыло для одежд: она смывает нечистоту и устраняет пятна».
Далее он упоминает сочинения ©еодосия и Менелая из греков и арабский трактат, поодукт кслективного творчества трех сыновей Музы-Ибк-Шакира, (Мухаммед, Ахмет и Альгасан) известный по средневеков му латинскому переводу «Liber trium fratrium de geometria»1)
В астрономии он отмечает, как наиболее выдающееся творение древних «Альмагест» Птоломея, указывая и арабских его коментаторов Авиценну, Аверроеса и Ибн-Сема.
Говоря о важном значении астрономических таблиц, как необходимых для определения положения светил, Ибн-Хальдун отдает дань своему Еремени, считая это определение особенно важным в целях астрологических предсказаний. Из составителей таблиц он упоминает Альбатани. Ибн-Исгака (?) и Ибн-Альбанну, давшего сокращенную переработку таблиц предыдущего астронома, в котором Вбрке видит уроженца Толедо, известного Арзагеля (XI век).
Роль Ибн-Хальдуна в математической историографии арабов до известной степени напоминает роль Паппа у Греков, хотя своим математическим дарованием он, конечно, во многом уступает последнему. Его « Пролегомены в конце концов, в своем целом имеют значение, как мы уже упоминали, в виду попыток установить законы исторического процесса. До сих пор не выяснено, каким источникам сн обязан своими воззрениями, так как они не имеют ничего общего с взглядами греческих историков. В основу исто-
1) Издан в 1835 г. в Галле с введением и комментариями М. Курце: ,Liber trium iratrium de geometria. Verba filiorum Moysi, fiiii Sekir, id est Maumeti, Hameti et Hassn. Hach d. Cod. Basil.
Одна рукопись этого трактата хранится в Базельской, другая в Парижской библиотеке.
рического миропонимания Ибн-Хапьдун кладет изменение экономических условий и переход от кочевого быта к оседлому.
Заслуживает особого внимания его взляд на «арабскую11 культуру, так как он является лучшим подтверждением высказанных нами выше положений.
Отмечая ее упадок и предсказывая близкую гибель, Ибн-Хальдун признает культурные заслуги мусульман в целом, но не заслуги арабов, в которых он видел только кочевников, разрушителей культуры. По его мнению, сами арабы не достигли никаких успехов ни в государственной ж 1зни, ни в искусствах, за исключением поэзии.
Из приведенного обзора деятельности арабских ученых мы видим, что историографическая кривая в области математики не представлена ни одной течкой. Еще менее можно было ожидать от них трудов, посвяшекных истории чужеземной науки. Переводы научных сочинений делались вначале не только при посредстве сирейцев, но и с так называемого пехлевийского языка, т. е, персидского языка сасанидской эпохи. Знакомясь из вторых рук с трудами греческих ученых, арабы не были знакомы с греческими историками, а потому не имели ясного представления и об истории греческой науки.
О жизни философов и ученых имелись крайне смутные сведения; даже специалисты полагали, что Сократ был казнен по повелению греческого царя. Некоторых греческих ученых ошибочно считали персами, так как их труды были известны только по пехлевийским переводам. Самые имена ученых искажались, подвергаясь арабизации, так. Аристотель назывался Аристу-Эль-Кебир. Звклид — Оклидес, Архимед фигурировал под именем Архименида, ипи Arsanides, Герон превращен в Iranа, Менелай в Milleiusa и т. д.
Масса арабских рукодисей научного содержания, рассеянная по Европейским библиотекам, до сих пор остается н. разобранной, но в том, что нам известно, нет никаких признаков попытки к связному изложению научно-исторических фактов.
Если у Греков был Эвдем, то у арабов некого противопоставить даже этому единственному имени, что, до известной степени, обясняется чисто территориальными условиями: в миниатюрной Греции собирание и обединение материалов для обработки было гораздо доступнее, чем ка огромной разбросанной территории, находившейся под владычеством арабов.
Притом, у Греков за периодом усвоения последовала эпоха расцвета, когда творческие силы развивались на основах самоопределения, и научная работа завершилась выработкой строго определенного направления, чего нельзя сказать про арабов, в науке которых шел непрерывный процесс ассимиляции арифметико-алгебраического направления Индусов, с одной стороны, и геометрических теорий греческих ученых с другой, научный материал оказывался, таким образом, слишком обширным и богатым и, конечно систематизация его и построение исторической перспективы для арабских ученых представлялось задачей непосильной.
Катастрофа, разразившаяся над великолепным зданием античного мира, грозила погребением под его обломками всех культурных завоеваний. Хаотическая эпоха переселения народов не предвещала в этом отношении ничего доброго. гПятивековая политическая неурядица завершилась сформированием германско-римской империи и институтом папства, двумя полюсами, около которых вращались Средние Века. Дикая грубость нравов, попирание культурных ценностей, обскурантизм и суеверие сплелись в тесный .клубок, из пут которого, казалось, нет освобождения для человеческой мысли.
На развалинах древнего мира торжествовавшее победу христианство не замедлило передать руководство умами в руки духовенства, обявившегобезпощадную войну своеобразным античным традициям и языческой науке. «Все земное, настоящее», говорит Жан-Поль, «было принесено в жертву небесному будущему».
Благороднейшие сооружения и произведения искуства были разрушены невежественными монахами, ценные биб отеки погибли в пламени. Стоит вспомнить хотя бы книгохранилище в Серапеуме в Александрии, уничтоженное в 389 году по фанатическому капризу архиепископа Феофила.
Тем не менее, когда страсти улеглись и взрыв негодования получил есстественное удовлетворение, началось строительство новой культуры и жизнь показала, что на фундаменте отрицания предшествующей культурной работы всякая постройка окажется непрочной и несостоятельной. Но в поисках материала, обратившись к доставшемуся, верней уцелевшему, наследию, нельзя сказать, чтобы произвели особенно удачный выбр.
Над пытливостью человеческого ума поставили крест, естественные науки трактовались, как еретические, слепое подчинение авторитету Аристотоля, с одной стороны, и цветистая, но безсодержательная теологическая болтовня с другой, породили чудовищный синтез — схоластическую философию, формально примирявшую христианский мир с языческим. В этот долгий и томительный период полного застоя культуры всякая смелая человеческая мысль, заранее обреченная на гонение, сталкивалась с неумолимой формой готового приговора: пытка и костер были ответом на порыв к освобождению от этой умственной кабалы. И когда сквозь многовековую тьму мрачного средневековья пробились первые лучи надвигающейся эпохи Возрождения, когда Европейские народы стали постепенно сбрасывать тажелоз иго умственной летаргии, явилась возможность не только научно мыслить, но и проповедывать знание и любовь к нему.
В тиши монастырских келий, за толстыми тюремными стенами все время неустанно билась живая человеческая мысль и результаты этой упорной работы не замедлили сказаться в поразительно быстром росте усвоения знаний, завещанных Европе древним миром.
Гибель Византии, тяжелым бременем лежавшей на этих- знаниях, с одной стороны, и богатое наследие угасающей арабской культуры, с другой, способствовали тому, что слабые ростки молодой европейской науки окрепли и распустились в пышные цветы.
Подготовительный период на протяжении XIII — XV веков носил еще туманную, расплывчатую форму, но открытие Америки и изобретение книгопечатания в связи с создавшейся общей политической ситуацией дали возможность выявить европейской культуре свою истинную физиономию. Свободный доступ к науке был открыт — оставалось смело и уверенно подвигаться вперед в направлении, указанном теми вехами, которые были поставлены Рожером Бэконом, Леонардо Пизанским, Региомонтаном и Коперником.
В сознательном отношении к целям и задачам исследования необятного океана научных знаний был залог уважения к памяти тех, кто участвовал в выработке средств и приемов для покорения этой стихии и во второй половине XVI столетия мы встречаемся с первыми попытками этого рода.
Форма их вначале весьма примитивна и далека, от того, чтобы удовлетворить требованиям современной историографии, но начало было сделано и пионером в этой области явился знаменитый ученый Pierre de la Ramee известный более под фамилией в латинизированной форме Петра Рамуса (Petrus Ramus). (1515 — 1572). В своем месте мы будем говорить о нем, разбирая его деятельность, как математика, более подробно, здесь же мы коснемся только его исторического труда.
Чтобы обрисовать в общих чертах этого неутомимого борца за права разума, достаточно сказать, что он явился предшественником Декарта. Преданный интересам науки и считавший «метод» ее отличительной чертой, он не побоялся открыто выступить с резкой критикой Аристотелевой философии, добивался признания свободы совести, а в частности горячо ратовал за то, чтобы поднять во Франции преподавание математики на должную высоту.
В 1567 году вышло в свет его сочинение «Р. Rami, prooemium mathematicum in tres libros distributum. I. explicat historiam praestantium mathematicorum, a quibus artes mathe-maticae inventae atque excultae sunt etc Paris. (П. Рамуса, Вступление в математику, разделенное на три книги I излагает историю знаменитых математиков, которыми были изобретены и обработаны математические науки и проч.
Вместе с Плинием автор придерживается довольно наивного деления истории науки на четыре периода: Халдейский (от Адама до Авраама), Египетский (Авраам является в роли математического культуртрегера, насаждающего халдейскую мудрость в Египте), Греческий (от ©алеса Милетского до ©еона Александрийского, здесь же краткий обзор римских математиков) и последний период от ©еона до XVI века только упоминается с предоставлением желающим заняться его разработкой. Принимая во внимание скудость источников в первых двух периодах, автору говорить много о них не приходится, но и греческая наука вкупе с римской изложена всего на 36 страницах. Датировка отсутствует, хотя Рамус придерживается исторической последовательности, о многих геометрах не упоминается, что, конечно, обясняется недостатком имевшихся в его распоряжении источников, но те, которыми он пользуется, указывают на умелый выбор в смысле надежности почерпнутых сведений.
Для того времени работу Рамуса следует признать довольно удовлетворительной, но она не получила должного распространения среди математиков, может быть потому, что Рамус подверг резкой критике. «Начала» Эвклида, к которым со времени появления их переводов с арабского языка на латинский, питали такое почтение, что считалось кошунством что либо изменять в них. Между тем, Рамус обнаружил смелую независимость своего ;ума и отнесся неодобрительно к стремлению Эвклида выводить все предложения из минимального числа аксиом, То, что очевидно само по себе, говорит Рамус, не нуждается в доказательстве. Таким образом, он предвосхитил взгляд Клеро, осу- -дившего метод Эвклида и написавшего превосходный учебник геометрии, который бы сделал честь и современному автору. Но в те времена цепко держались за авторитеты и математическое сочинение Рамуса, указанное нами в выноске, заслужив неодобрение, игнорировалось и в своей исторической части.
Следущее по времени (1615 г.) сочинение Иосифа Бланкануса 2) едва заслуживает упоминания. Автор собрал и комментировал те места из творений Аристотеля, где он касается математики, и присовокупил рассуждение о природе математических наук и хронологический список математиков, более полный, чем у Рамуса, но значительно уступающий ему в точности сообщаемых сведений. Напр. Бланканус утверждает, что греческий геометр Персей жил позднее Гемина и приписывает ему открытие спирических линий, а между тем говорит, что Гемин писал об этих же линиях.
В 1650 году в Амстердаме было издано сочинение Гергарда Иоанна Фосса (Vossius) «De universae Matheseos Natura et constitutione Liber cui subungitur chronologia mat-hematicorum (книга о природе и строении всех математических наук с присоединением хронологии математиков). Посмертное издание (1660 г.) вошло в состав другого сочинения «De quatuor arfibus Popularibus de philologia, et scientiis mathematicis. Cui operi subungitur chronologia mathe-
1) Впрочем бельгийский математик Андрей Такет воспользовался трупом Рамуса в своей компилятивной вступительной статье «историческое повествование о происхождении и успехах математики к учебнику «Elementa geometriae planae ас solidae. qiubus accedunt selecta ex Archimede theoremata Антверпен. 1654.
2) De natura mathematicarum scienfiarum tractatio, atque clarorum mathematicorum chronologia. Bononiae. 1615. in 4.
maticorum (О четырех употребительных искусствах, о филологии и математических науках, с присоединением хронологии математиков).
Фосс, голландец по происхождению, по специальности был не математик, а филолог и труды его в области классической филологии пользовались вполне заслуженным вниманием ). Попутно собранные материалы в области математических наук натолкнули его на мысль издать их особой книгой, где эти материалы расположены по предметам (арифметика, геометрия, логистика, музыка и т. д.) и в каждом отделе сообщаются сведения о наиболее видных его представителях.
Некомпетентность автора в трактуемых вопросах усугубляется тем, что он, как филолог, пользовался источниками, входившими по преимуществу в круг его специальности, след, сам знакомился с этими вопросами из третьих рук. Если его книга и пользовалась успехом, то это надо всецело отнести к авторитетности его имени, как ученого, обогатившего своими исследованиями филологию.
В Англии первый исторический опыт оказался весьма неудачным, несмотря на то, что автор его Джон Валлис был недюжинный математик. В 1685 году в Лондоне вышел в свет его «трактат об алгебре как исторический, так и практический с несколькими добавочными рассуждениями» ( Wallis treatise of algebra both historical and practical with some additionae treatises), позднее вошедший в состав второго тома собрания сочинений Валлиса под заглавием «De Algebra tractatus historicus et practicus» (Opera mathe-matica, Oxoniae, 1693 — 8 г.), значительно увеличенный в обеме.
Английский историк математики R. Ball ограничивается только указанием на то, что Валлисе предпослал своей алгебре историческое введение, совершенно не касаясь его содержания, а ф. Кэджори в «истории элементарной мате-
1) Собрание сочинений издано в Амстердаме 1695 — 1701.
матики «определенно говорит, что «на историческую часть нельзя полагаться и поэтому она не имеет никакого значения.
Между тем, его авторитет, как искусного математика, был настолько велик, что многие прислушивались и к его историческим суждениям. Он первый пустил в обращение ходячее мнение о том, что Герберт познакомил Европу с индусской системой счисления, которой он сам научился у Сарацинов в Испании. При этом подлинного трактата Герберта Валисс не знал, а основывался на указаниях Вильяма Мальмсбери, историка XII века, слова которого позднее повторяются Винцентом де Бове.
Валлис ошибочно приписывает Сакро-Боско стихотворный арифметический трактат, в действительности принадлежащий Alexandreу de Villedieu (издан Галливеем в Лондоне в сборнике «Rara Mathematica» 1839 г.), о котором упоминает еще Фосс.
Но гораздо важнее те сознательные ошибки, которые допускает Валлис в угоду национальному тщеславию. Его нападки на Декарта еще можно как нибудь обяснить, но когда он приписывает Гарриоту чуть ли не все успехи алгебры эпохи Возрождения, то это производит крайне неприятное впечатление умышленнной подтасовки научных фактов.
Точно также, он не стесняется приписать себе то, что за сто лет до него выполнено итальянским математиком Бомбелли относительно извлечения корня третьей степени из бинома а±/ь с приложением к решению кубичного уравнения в так нааываемом «неприводимом случае».
Бобынин говорит, что автор относится с полнейшим равнодушием и даже пренебрежением к тем фактам, которые по самой природе своей не могли дать места обнаружению патриотизма, игнорируя даже классические произведения.
Но оказывается, Валлис не был достаточно осведомлен даже в истории отечественной научной литературы, т. к.
он напр, ни словом не упоминает про Джона Спенделя, опубликовавшего первые таблицы натуральных логарифмов (New Logarithmes, London, 1619 г.), несмотря на то, что они издавались неоднократно.)
С явлением совершенно иного порядка мы встречаемся в труде Эдуарда Бернгарда, изданном в 1704 г. в Лондоне под заглавием «Е. Bernard veterum mathematicorum graecorum, Latinorum et. Arabum synopsis seu scripta quqe periri potuerunt dirigenda voluminibus XIV (обозрение старых греческих, латинских и арабских математиков, или расположенные в XIV томах сочинения, которые только могли быть открыты). (Перепечатано в издании фабриция «Biblio-theca graeca» т. II. с. 564 587, Гамбург, 1716 г.)
Самое сочинене, весьма незначительное по объму, было в сущности не более как программой, согласно которой автор задался грандиозным предприятием издать в четырнадцати томах собрание сочинений лучших математиков древности в подлинном тексте с критической обработкой, с переводом на ученый язык того времени — латинский, с комментариями, как древних авторов, тдк,. и позднейших эпох и существующими переводами на другие языки. Кроме плана издания автор дает ряд ценных историко-биографических указаний, обнаруживая широкое знакомство с историей предмета, особенно в области рукописной литературы.
Преждевременная смерть помешала осуществлению этого плана, но громадные и ценные материалы, заготовленные Бернгардом, поступили после его кончины в BibI Bodleiana.
«Нельзя не удивляться», говорит Шаль, «что такое прекрасное и полезное предприятие не выполнено было именно в той стране, где науки находили себе так часто благородную и могущественную поддержку».
Между прочим, Бернгарду принадлежит честь открытия сочинения Аполлония «De sectione determinata» в переводе на арабский язык. Хотя рукопись оказалась малоудовлетворительной, он попытался перевести ее на латинский язык, но задача оказалась настолько неблагодарной, что переводчик справился только с десятой частью всей рукописи. Знаменитый Г аллей довершил в интересах науки дело, начатое Бернгардом.
В Италии заслуживает особого внимания замечательная личность энциклопедически образованного аббата Бернардино Бальди, ученика Коммандина, под руководством которого он основательно изучил творения древних греческих геометров. Впоследствии Бальди написал биографию своего учителя. Он знал шестнадцать языков, переводил с греческого и арабского, написал комментарии к сочинениям Аристотеля, и Витрувия и весьма интересные для истории математики «De Heronе Allessandrino degli Automati overo Machine se moventi/ Venet, 1589» «Heronis Ctesibii Belopocca hoc est Telifactiva, Venet, 1616», и «Cronica de matematici overo epitome dellstoria delle vite loro» (хроника математиков, или сокращение истории их жизни), Urbino, 1707, содержащая краткие сведения о жизни 366 ученых.
Но особенно ценно обширное сочинение Бальди «Vite . dei mathematics «, которому он посвятил 14 лет труда. Странно, что Бобынин в своей статье «Происхождение развитие и современное состояние истории математики», изданной в 1886 г., по поводу «хроники» пишет, что «по свидетельству некоторых писателей она представляла основу замышляемого автором более обширного труда, но смерть помешала автору привести свое намерение в исполнение».
Между тем, даже в русской литературе в сочинении «Исторический очерк развития геометрии» проф. Ващенко-Захарченко, вышедшем в 1883 г., указывается с Сожалением, что «vite dei mathematici» осталось неизданным.
Сохранилось два экземпляра рукописи этого произведения, приобретенные известным знатоком истории математики, князем Бонкомпаньи. Одна из этих рукописей оказалась написанной самим автором.
Итальянский математик Энрико Нардуччи взял на себя труд изучения рукописей и в XIX томе 1 Bulletino di Bib-liografia e di Storia delle Scienze matematiche e Fisiche» появился впервые,, ряд биографий итальянских математиков «Vite inedite di matematici italiani, scritte da Bernardino Baldi pubblicate da Enrico Narducci. l) В XX томе помещена обширная биография Пифагора (Vita di Pitagora scritta da Bernardino Baldi, tratta dallautografo ed annotata da E. Narducci p. 197 — 308).
Труд Бальди представляет исключительную ценность в виду массы исторического материала и с этой точки зрения может рассматриваться как источник в виду того, что автор обладал огромной эрудицией и был основательно знаком с научной литературой древних геометров.
В 1741 году вышел объемистый труд I. Ц. Гейльброн-нера с многообещающим заглавием, совершенно не оправдывающим содержания. «История математики во всем ее объме от сотворения мира до XVI века по Р. Хр., содержащая жизнеописания, учения, сочинения и рукописи знаменитейших математиков. С присоединением разбора математических элементов, компендиев и трудов, а также и и истории Арифметики до наших времен (historia mafhe-seos universae a Mundo condito ad seculum p. С. п. XVI pra-ecipuorum mathematicorum vitas, dogmata, scripta et manuscri-pta complexa. Acceqit recensio elementorum, compendiorum et
) Биографии нескольких арабских математиков были помещены еще в 1872 г. в «Bulletino» т. V. pp. 427 — 534.
0perum mathematicorum, atque hitsoria Arithmetices ad nostra tempora»).
Если отвлечься от фактического материала,собранного в значительно большем объеме, чем у его предшественников, то книга менее всего заслуживает наименования истории», т. к. представляет в хронологическом порядке список математиков (кончая Валлисом) с краткими биографиями и библиографическими данными. По отсутствию связи и обработки материала она напоминает сочинения Дешалля и Бланкануса, которыми, кстати сказать, автор часто пользуется, повторяя их ошибки.
Геометр Персей оказывается у него (как у Фоссия и Дешаля) изобретателем «спиралей», хотя хронологически он правильно помещен между Аристеем и Менехмом. За то вместе с Дешалем он считает Эвдема Родосского жившим в. IV по Р. Хр., хотя и знает, что Эвдем был учеником Аристотеля.
Сочинение «Nomenclatura vocabulorum geometricorum» Герона Старшого (о чем есть указание у Б. Бальди) он приписывает Герону Младшему.
Довольствуясь сведениями из вторых рук, он мало обращался к изучению первоисточников. Напр, он не уделяет никакого внимания видному алгебраисту acques de Billy, труды которого высоко ценили Фермат и Баше де Мезириак.
Тем не менее, Монтюкла часто пользуется в своей «Истории математики» трудом Гейльброннера, хотя с известной осмотрительностью, что свидетельствует о правильной точке зрения, усвоенной Монтюкла, на характер этого сочинения. Заимствуя фактические данные, в целом он называет работу Гейльброннера «хаосом».
Поэтому старательная компиляция математика и философа Иоганна Николая Фробезиуса Frobes (1701 — 1756), вышедшая в Гельмштедте в 1750 году, заслуживает ббль-шого внимания, как точным указанием на источники, так проверенными ссылками и цитатами. (. N. Frobesii historica
et dogmatica ad Mathesin introductio, qua succinta matheseos historia cum ceteris eusdem praecognitis, nec non systematis mafhematici delineatio continentur (историческое и догматическое введение в математику, в котором содержится краткая история математики вместе с другими предварительными по ней сведениями, а также и очерк математической системы). Кроме рассуждения о пользе истории математики, сочинение это включает указатели литературы 1) биографий математиков 2) библиографических трудов и 3) историографии. Эго нововведение весьма важное, хотя и не отличается полнотой. Что же касается собственно исторической части, то вся связность изложения сводится к делению материала на периоды: восточный (Халдея, Финикия, Египет, Китай, Индия), греческий (от ©алеса до возникновения Александрийской школы), александрийско - римский до V3I века по P. X., арабский (сухой перечень имен) и западный (только упоминается). Первые два периода подверглись рассмотрению в позднейшей переработке (. N. Frobesii rudimenta biographiae mathematicorum) «Опыты биографий математиков, 1751 — 1755. х) Гепьштедт, по существу не внесшей ничего нового.
Подведем итоги разобранному двухвековому периоду (со 2-й половины XVI-ro по 1-ю половину XVIII века), который можно назвать «подготовительным,,, хотя и пустившим корни настолько глубоко, что отголоски его не исчезли и до настоящего времени.
Прежде всего, он характеризуется преобладающей наивно-описательной формой изложения, отсутствием критического отношения к объктам исследования, игнорированием внутренней связи, широким пользованием данными вспомогательных дисциплин (биографии и библиографии), благодаря чему неизбежно теряется стройность и единство плана, даже если они намечены автором. Слабое знакомство с первоисточниками, доверие к сведениям случайного характера содействуют повторению ошибочных мнений и извращению исторических фактов.
Состояние специальной разработки исторических вопросов в то время даже не намечавшееся и получившее развитие в позднейший период, лишало авторов знания ценных исторических данных о культуре и науке древнейших народов, и создававшиеся таким образом пробелы, конечно в вину им ставить не приходится, но даже в трактовании доступной им греческой науки, самая задача истории предмета понимается узко, связь с обще-культурным историческим процессом еще не предугадывается, специальные взаимоотношения научных завоеваний не получают надлежащей обработки, в виду чего большинство работ является,- в лучшем случае, образцом безхитростного повествования о жизни и деятельности геометров в хронологической последовательности, вне всякой преемственной связи и анализа исторических фактов, в худшем же случае, нагромождается ряд ошибок, а иногда имеют место преднамеренные подта-оовки фактов, как это мы видели на примере Валлиса.
Идеи Бернгарда и эрудиция Бальди — это светлые точки на темном фоне подготовительного периода. Мы не коснулись в нашем обзоре многих совершенно безцветных работ, лишенных всякого научного значения, но и то немногое, что нами указано, достаточно обрисовывает характер и направление историографической деятельности разобранного периода.
Если дать геометрическую интерпретацию исторической функции в пределах этого периода, то соответствующая ветвь кривой будет охарактеризована рядом точек, осциллирующих около некоторого среднего значения ординаты, вообще говоря, весьма незначительной по своей относитель ной величине, в виду не высокого удельного веса всех вышеупомянутых трудов. Нам нет необходимости задаваться масштабом, чтобы по внутренней исторической ценности их, сравнивать один с другим. Достаточно в схематическом изображении этой ветви кривой принять, что в шкале коодинат, которыми можно было бы, вообще говоря, оценивать достоинства того, или иного труда, можно ограничиться немногими средними типичными значениями, из которых для рассматриваемого периода пришлось бы выбрать минимальное.
И без того низко стелящаяся над осью абсцисс, эта ветвь сместилась бы еще ниже, если принять во внимание ряд работ, значение которых для исторической науки, исчерпываясь фактом их появления, не представляет шага вперед, и, следовательно, может оцениваться нулевой ординатой. Об этих работах, отображаемых точками, лежащими на оси абсцисс, мы даже не упоминаем. Что же касается сочинений типа исторического введения к алгебре Валлиса, то в нашей схематической шкале она изобразится точкой с отрицательной ординатой, характеризующей явный регресс в деле роста исторической функции. Такие точки при достаточном накоплении их еще более придвигают ветвь кривой к оси абсцисс, наглядно указывая на слабую степень развития историографии в данный период.
Указанное ненормальное явление, которое в целом не может быт иначе названо, как «двух вековым топтанием на месте, зависело, главным образом, от. неумения подойти к исторической обработке материала с точки зрения его значения для успехов науки в будущем. Чувствовалась необходимость сдвига именно в этом направлении, «и мысль, что простое фиксирование фактов без извлечения из них соответствующих выводов не составляет еще истории науки, впервые нашла реальное отображение в «Histoire des Ма-thematiques, dans laquelle on reud compte de leur progres depuis leur origine usqua nos ours ete I. F. Montucla. (Paris, 1758 r. tomes I et II). Это сочинение, не лишенное некоторых, присущих эпохе, недостатков, явилось, тем не менее, значительным шагом вперед, отметившим начало нового периода историографии. Если в пределах того, что было доступно Монтюкла в области источников, он оказывался не всегда на высоте поставленной себе задачи, то это обясняется грандиозностью замысла и стремлением обнять весь имевшийся в распоряжении материал. Может быть, при более узких рамках он справился бы успешней с этой задачей, но для нас прежде всего важен факт сознательного отношения, проявленного автором к целям исторического исследования. Он дал образец, никем не превзойденный до появления известного труда Кантора
О деталях спорить неприходится — в таком обширном труде дефекты и промахи неизбежны, но, в целом, сочинение Монтюкла не только для своего, но и для последующего времени следует признать заслуживающим полного внимания. Достаточно сказать, что ряд поколений историков математики до новейших включительно, пользовался им, как неисчерпаемым источником всевозможных справок. Еще в 1875 году Зутер в своей «Истории математических наук» пишет; «Сочинение Монтюкла удовлетворяет всем требованиям какие только могли быть предъявлены истерику математики в то время. Книга эта драгоценна потому, что она была первой попыткой в этом роде, и до настоящего времени мы не имеем не только лучшего, но даже подобного сочинения».
Воспитанник иезуитской коллегии в Лионе, Жан Этьенн Монтюкла ( 1725 — 1799 ), бывший впоследстви членом Института, прекрасно владел греческим, латинским, немецким, английским и итальянским языками и был хорошо осведомлен как в древней, так и современной ему ученой литературе. Еще в 1754 г. появилось его первое историческое исследование «Histoire des recherches sur la quicra-ture du cercle» Paris (2-е издание в 1831 г.), которое до появления в 1892 г. работы проф. Ф. Рудио, являлось единственной полной монографией, посвященной обозрению литературы, связанной с вопросом о квадратуре круга.
В 1/58 году вышли в свет и первые два тома Истории Математики, охватывающие состояние этой науки с развития ее в Греции до начала XVIII века, причем автор касается не только истории арифметики, геометрии, алгебры и высшего анализа, но и целаго ряда прикладных дисциплин: механики астрономии, оптики, акустики, мореходного искусства, географии, гномоники и хронологии.
В год смерти Монтюкла успел выпустит дополненное 2-е издание первых двух томов и почти окончил составление 3-го тома, посвященного успехам науки в XVIII веке. За смертью автора труд его был продолжен его другом Hallандом, закончившим третий том и составившим четвертый. Оба тома были изданы им в 1802 году.
«Среди всех наук», говорит Монтюкла в предисловии, «математика обличается тем, что ее шаги в поисках истины наиболее уверенны и прочны. Правда, иногда развитие ее совершалось медленно; более того, на протяжении целых веков оно казалось застывшим и как бы остановившимся в своем ходе, без малейших признаков прогресса. Но она менее других наук склонна почитать заблуждение истиной и потому не обращалась вспять, т.-к. в развитии человеческого разума всякое заблуждение есть непременно шаг назад».
Автор не ограничивается изложением фактических данных, но везде пытается уловить преемственную связь, насколько это возможно при наличии имевшихся в его распоряжении материалов, чтобы оправдать вышеприведенное положение. В некоторых случаях он дает философское обоснование возникновению и развитию математических идей, и не его вина, конечно, что многие вопросы освещены слишком слабо и не полно.
Трудно понять упрек по адресу Монтюкла со стороны Бобынина, что он оставил без внимания донаучный период, что отсутствует обзор успехов точного знания у Египтян и Халдеев, что мало — удовлетворительно изложение состояния математических знаний у Индусов и Арабов. Этот упрек мог иметь место по отношению к историку нашего времени, который стал бы довольствоваться материалами, бывшими в распоряжении Монтюкла, совершенно игнорируя труды египтологов, асссириологов, арабоведов и индологов, появившиеся на протяжении первой и особенно второй половины девятнадцатого столетия. Монтюкла напр, отлично понимал, как велики пробелы в знании исторического развития науки, благодаря недостаточному знакомству с богатейшей арабской литературой».
В первом томе (с. 383) он определенно говорит: «Весьма достойно сожаления, что среди знающих арабский язык никто не проявляет интереса к математике, а среди лиц, владеющих этой наукой, никто не дает себе тцуда ознакомиться с арабской литературой».
Именно в заслугу Монтюкла можно поставить то, что он первый указал на необходимость изучения многочисленных арабских рукописей, рассеянных по европейским библиотекам, и особенно тех, которые хранятся в Эскуриале. Вопреки господствовавшему в его время убеждению, что арабы ограничивались решением квадратных уравнений, он первый высказал предположение, что им нечужды попытки решения уравнений 3-й степени и сослался при этом на рукопись, хранящуюся в Лейденской библиотеке, под заглавием «Algebra cubica seu de problematum solidorum resolutione».
В 1850 году г. знаменитый Вбпке исследовал и издал алгебраический трактат Альк-гайями, вполне подтвердивший мнение Монтюкла. (Sur un manuscrit arabe dun trait6 dal-gebre par Alkhayami, cont. la construction g6ometrique des equations cubiques, Berlin).
Точно также Монтюкла первый обратил внимание на утверждение персов, что они располагают не дошедшими до нас греческими сочинениями, доказательством чему служат цитаты из многих неизвестных нам трактатов, встречающиеся у Арабских авторов.
В настоящее время мы знаем, что со многими произведениями древне греческой науки арабы познакомились Действительно по пехлевийским переводам, а не в подлиннике.
Что касается отсутствия статьи, посвященной донаучному периоду, то, считая это недостатком, Бобынин не ставит его в вину автору в виду того, что наука тог® времени в этом направлении была совершенно неразрабс-тана. Но в таком случае, подобный недостаток является совершенно не зависящим от воли автора и должен рассматриваться, как следствие условий научной разработки вопросов современной автору эпохи.
Проблема донаучного периода была выдвинута много позже и, конечно, сочинение Монтюкла ответа на нее дать не в состоянии, в тех же своих частях, где автор опирался на известный ему фактический материал, он дал много ценного и полезного.
Правда, у него сказывается нередко незнакомство с первоисточниками, есть непроверенные ссылки и цитаты, встречаются и явно — ошибочные утверждения, но в надлежащей исторической перспективе они могут и должны быть оправданы, т.-к. только под углом зрения историка XX века они кажутся чрезмерными.
Если кропотливо выискивать мелкие недочеты, то в таком обширном труде их найдется не мало. Напр. Монтюкла ошибочно утверждает, что развертка циклоиды представляет равную данной, но обратно расположенную циклоиду. Неправильно относя время жизни геометра Персея к первым двум векам нашей эры, он считает себя первым автором, установившим факт изобретения Персеем спирических линий, из чего видно, что он не читал Бальди.
Никомаху он ошибочно приписал сочинение «Praxis Arithmetica, а Сакро-Боско стихотворный арифметический трактат, в действительности принадлежащий Вилледие. (Монтюкла повторяет ошибку, сделанную Валлисом).
Все это промахи — третьестепенные, которых не мало в любом историческом труде.
Между прочим, Бобынин в доказательство того, что Монтюкла ссылается на несуществующие места древних авторов, указывает на основанное будто бы на свидетельстве Диогена Лаерция утверждение Монтюкла, что Пифагором были положены основания учения об изоперкметрических фигурах. Здесь очевидное недоразумение. Монтюкла дает только ошибочное толкование словам Диогена, которые ему были несомненно известны. Но у Шаля в «Истории Геометрии» (гл. 1 с. 3) мы читаем: «Эта теорема (изо всех фигур одинакового периметра круг, а изо всех тел одинаковой поверхности шар суть наибольшие) содержит в себе первый зачаток учения об изопериметрах». Шаль, конечно, тоже ошибается, т.-к. из слов Диогена «Между телесными фигурами самая совершенная шар, а между плоскими круг», (Жизнь Пифагора) такое заключение можно сделать с большой натяжкой, но, во всяком случае, Монтюкла оказывается в хорошей компании ).
Но мы вполне согласны с Бобыниным, когда он указывает действительно на крупный недостаток на почве национального тщеславия — явное пристрастие в оценке трудов своих соотечественников, хотя и в значительно меньшей степени, чем это делает Валлис. Но если обратиться к трудам позднейших историков, особенно немецких, то мы увидим, чтр это явление почти что хроническое: заслуги компатриотов раздуваются до невероятных размеров, а труды иноземных ученых игнорируются.
Перевод первой части сочинения Монтюкла на немецкий язык сдалан Бергхаусом с дополнениями и примечаниями, устраняющими ошибки. О русском неполном переводе Петра Богдановича (без упоминания имени автора) мы уже говорили выше.
С совершенно исключительным явлением мы встречаемся в исторической части классического труда одного из величайших математиков Лагранжа, оказавшегося недюжинным историком науки. Мы говорим о вышедшей в 1788 г. его «Аналитической механике». (В 4-м издании она занимает XI и XII томы под редакцией А. Серре и Г. Дарбу). В виду того, что, насколько нам известно, эта сторона указанного труда Лагранжа обычно оставлялась без внимания, а для наших целей она представляет существенный интерес, мы позволим себе остановиться на ней с некоторыми подробностями. Имея в лице Эйлера достойного предшественника, Лагранж, в сущности, является творцом Аналитической механики в смысле построения этой научной дисциплины на немногих общих принципах, сводящих решение разнообразных механических вопросов к чисто — аналитическим операциям интегрирования дифференциальных уравнений.
«Любящие анализ» говорит Лагранж в предисловии, «с удовольствием увидят, что механика стала его новой ветвью и будут признательны за такое расширение его владений».
При обработке материала сам автор детально знакомился с историей развития механических принципов и ясно сознавал необходимость предпослать систематическому изложению предмета ряд исторических введений, которые бы знакомили читателя с тем, что и как было достигнуто в этой области совместными усилиями корифеев науки.
В статике этим историческим введениям посвящены первая и шестая части, в динамике первая и десятая.
В изложении чувствуется в каждой срочке мастер и знаток предмета как со стороны идей, так и в отношении глубины историко - критического анализа развития этих идей. В немногих, но блестящих штрихах автор рисует картину эволюции той или иной концепции основных механических понятий, слагавшейся в разные эпохи и у разных авторов по закону исторической последовательности и Лагранж показал, что формы выражения концепции претерпевали изменения, но самое зерно, коль скоро оно оказывалось по существу логически необходимым в его чисто механическом значении, оставалось неизменным объектом, которому старались постепенно придать наиболее изящную й окристаллизованную форму, что шло пораллельно с углублением в механический смысл понятия, научная жизненность которого выявлялась в общем крайне медленно, но которое тем прочнее пускало корни, чем более оправдывало свое механическое .raison d6tre».
Первый отдел первой части касается развития основных принципов статики: рычага, сложения сил и возможных перемещений. Лагранж подчеркивает роль Архимеда в деле установления первого принципа в следующих словах: Archim6de, le seulparmi les anciens, qui nous ait laissfe une thtorie de Lequilibre est l.auteur du principe du levier., Стэ-вин в своей «Статике» и Галилей в «Диалогах о движении упростили доказательство Архимеда, но позднейшие авторы, стремясь к упрощению, ничего не прибавили со стороны точности. Между прочим, Лагранж с похвалой отзывается о мемуаре Гюйгенса, посвященном развитию этого принципа.
Отметив, что принцип «моментов впервые встречается у Гвидо Убальдо (Mecanicorum liber), Лагранж касается работ Стэвина и Галилея о наклонной плоскости и устанавливает важный для истории науки факт, что общий случай действия силы в этой простой машине впервые рассмотрен Робервалем в «Тгайё de M6canique».
«Я считал долгом упомянутьговорит он, «о доказательстве Роберваля не только потому, что это первое строгое обоснование теоремы Стэвина, но еще и потому, что оно осталось в забвении в трактате Мерсення (Narmo-nie universelle, 1636), редко встречающемся, где никому не придет в голову его искать.» Позднейшие трактаты по статике ничего не прибавили к этой области механики после Роберваля.
Это бережное и внимательное отношение к ученым заслугам очень не мешало бы помнить историкам математики.
Переходя к анализу второго принципа. Лагранж указывает, что древние знали сложение скоростей и пользовались им в изучении свойств кривых, а Роберваль вывел отсюда свой метод проведения касательных к кривым. Галилей первый понял важное механическое значение этого принципа, но до появления «начал Ньютона и «Proet de la Nouvelle M6canique» Вариньона никому в голову не приходило свести сложение движений к сложению сил, производящих эти движения.
Давши анализ теоремы Вариньона и выяснивши ее значение, Лагранж говорит, что принцип сложения сил служит основой почти всех трактатов по статике, появившихся с тех пор.
Отметив остроумное доказательство параллелограмма сил, данное Даниилом Бернулли и упрощенное Дапамбером, он переходит к рассмотрению принципа возможных перемещений, разбирая участие Галилея, Валлиса, Декарта и Торичелли в историческом ходе развития этого принципа, истинное значение которого в смысле его общности впервые отмечено Иваном Бернулли. Мопертюи, Эйлер, Куртиврон в предложенных ими принципах пользовались только различными способами выражения и Лагранж показал, что по существу все они сводятся к принципу возможных перемещений.
Мастерской анализ идей, лежащих в основе гидростатики дан в 6-м отделе.
«Мы обязаны Архимеду», говорит Лагранж, «фундаментом учения о разновесии жидкостей. Но его трактат «De insidentibus humido» не дошел до нас в подлиннике. Был только мало удовлетворительный латинский перевод Тарталья, когда Коммандин приступил к его реконструкции и освещению путем комментарий. Заботам этого ученого мы обязаны его появлением в 1565 г. под заглавием «De iis quae vehuntur in aqua.
Давая анализ этого трактата, Лагранж считает его одним из самых ценных памятников античной науки.
Делая затем общий обзор работ в этом направлении, выполненных Стэвином, Галилеем, Декартом, Паскалем, Гюйгенсом, Ньютоном, Бугером, Клеро и Маклореном, автор подчеркивает тот факт, что общие законы гидростатики формулированы Эйлером. (1755).
Приступая к историческому обзору успехов Динамики, Лагранж говорит, что Галилей первый сделал важный шаг в своем « Discorci е dimonstrazioni matematiche intorno a due nuove scienze» (1638). (l fallait un genie extraordinaire pour demeler les lois de la nature dans les phenom6nes, que Tongvaif touours eus sous les yeux, mais, dont 1explication avait oSanmoins touours ёсЬаррё aux recherches des philosophes»).
Что касается Гюйгенса, то он дополнил и усовершенствовал открытие Галилея и подготовил путь к установлению закона тяготения, которым наука обязана Ньютону.
Открытие анализа безконечно-малых доставило геометрам возможность привести к уравнениям все законы движения. Оказывая должное внимание трудам Гюйгенса (Horologium oscillatorium, 1673) и Ньютона, еще ббльшее значение автор признает за механикой Эйлера (1736). (On doit regarder comme Ie premier grand ouvrage, ou lAnalyse ait 6t6 appliquee & la science du mouvement»).
Далее Лагранж указывает на принцип количества движения, впервые упоминаемый Декартом, но ошибочно примененный им в вопросе об ударе тел. Со всей ясностью этим принципом овладел Валлис. Уделив особое внимание работе Гюйгенса о маятнике, автор указывает, что она послужила позднее поводом к обстоятельным исследованиям Ивана Бернулли о центре качания, которыми подготовлена, в свою очередь, почва для трудов Даламбера.
В «Тгайё de Dynamique» этого последнего применен принцип (носящий в науке имя «начала Даламбера»), сводящий все законы движения тел к их равновесию. Й в динамике мы получаем возможность таким образом свести все к одной общей формуле, как это имело место и для статики.
В сжатом, но необычайно тонком очерке Лагранж разбирает в исторической последовательности механический смысл постепенно выдвигавшихся принципов: сохранения живых сил (Гюйгенс), сохранения движения центра тяжести (Ньютон и Даламбер), сохранения моментов вращения (Эйлер, Д. Бернулли и Д Арси), принцип площадей и, наконец, принцип наименьшего действия (Мопертюи и в более общей и строгой форме Эйлер).
В Х-м отделе второй части Лангранж с таким же искусством развертывает перед нами картину возникновения
и развития Гидродинамики, тогда еще совершенно новой отрасли механики. Указав на первую в этом направлении попытку Ньютона, он всецело относит к остроумию математического творчества Даламбера установление основных законов гидродинамики в их неоспоримом аналатическом выражении.
Архимед и Галилей (так как промежуток, разделяющий этих великих гениев изчез из истории механики) занимались вопросами, связанными только с равновесием жидкостей. Торичелли дал, как опытное начало, свою известную формулу для скорости истечения жидкости. Ньютон пытался дать теоретическое доказательство в «Principia, но Лагранж считает относящиеся сюда рассуждения наиболее слабым местом этого великого труда и отдает предпочтение объясне-нию, предложенному Вариньоном.
. Про «Гидродинамику» Д. Бернулли он говорит: «ouvrage, qui brille dailleurs par une Analyse aussi elegante dans sa marche, que simple dans ses resultats.
В двух словах он метко критикует работы Маклорена и Ивана Бернулли, за то о «Тraite des fluides Даламбера, где он пользуется открытым им « началом Лагранж отзывается с большой похвалой (il renferme des solutions aussi directes qu elegantes des principales questions, quon peut proposer sur les fluides, qui se meuvent dans les vases).
Но особенно ценит он труд Даламбера «Essai dune nouvelle thdorie sur la resistance des fluides.
Все же первыми общими формулами движения жиД-а кости, основанными на законах ее равновесия, мы обязаны Эйлеру («Par cette decouverte toute la M6canique des fluides fut reduite a un seul poinf dAnalyse).
К сожалению, трудности чисто аналитического характера в интегрировании соответствующих уравнений ограничивают круг приложения его теории. И опять таки Лагранж , отмечает, что Даламбер пользовался более простым методой, правда, частного характера в связи с законами равновесия жидкостей, что как бы обособляет Гидродинамику от
динамики твердых тел. Сам Лагранж в XI и XII отделах своей механики дает затем мастерское изложение гидродинамики, как ветви, зависящей от общего динамического принципа.
Отдавая должную дань памяти великого геометра, мы нарочно остановились на подробной передаче содержания, «исторических введений», в которых в крайне сжатой, но изящной форме представлена вся история механики до момента опубликования собственных трудов их автора.
До появления классического обширного труда Е. Дюринга «Критическая история принципов механики» эти введения не имели ничего равного в исторической литературе и недаром Эрнст Мах, автор другого, тоже ценного исторического исследования «Механика, историко - критический очерк ее развития» (есть русский перевод, 1909) говорит в предисловии, что интерес к разбираемым им вопросам «был мощно усилен чудесными введениями Лагранжа к главам его аналитической механики.
И нам кажется странным, что многие историки математики, несомненно хорошо знакомые с этим трудом, не использовали приемов Лагранжа при историческом анализе развития математических идей.
На историографический кривой труд Лагранжа определяется точкой с резко выраженным максимумом, на много повышающим для данного периода ее ветвь, отвечающую реднему значению ординаты в пределах этого периода.
Восемь лет спустя после выхода в свет «аналитической механики Лагранжа было опубликовано сочинение другого знаменитого французского геометра Лапласа «Expositon du Systfcme du Monde» Paris, 1796 )
Оно предшествовало появлению его классического очинения «Trait6 de M6canique celeste», и, расчитанное на широкий круг читателей, содержало результаты астронсмических исследований, изложенные с неподражаемым мастерством.
К этому труду приложен «Очерк истории астрономии» (книга V)1) который, в данном случае, нас только и интересует.
По поводу всего сочинения Араго в своей биографии Лапласа говорит: Это та же «небесная механика», только освобожденная от формул, без которых не может обойтись ни один астроном, желающий, по выражению Платона, познать числа, управляющие вселенной. Астрономические комментарии Лапласа восходят до начала человеческих обществ. В них разобраны все труды, предпринятые в разные эпохи для разгадки тайн неба. Труды эти разобраны справедливо, ясно, глубокомысленно и здесь гений безпристра-стно оценивает себе подобных. Лаплас везде остается верен своей высокой идее.
К этой характеристике трудно что либо прибавить.
Лапласу была прекрасно известна астрономическая литература древнего мира и средних веков, не говоря уже о новейшей. Несомненно, при составлении своего очерка он пользовался целым рядом исторических трудов (Монтюкла, Бальи) (астрономия индусов), Гобиль (китайская астрономия) и т. д.
Уменье пользоваться материалом позволило ему на протяжении Есего какой нибудь сотни страниц обозреть успехи науки от глубокой древности до открытий его современников, дав целый ряд блестящих характеристик ученой деятельности классиков астрономии вместе с анализом их главнейших трудов, насколько это было возможно в сочинении, не рассчитанном на специалистов.
«Исторические введения» Лагранжа предполагают наличие известной подготовки у читателя, Лаплас, напротив, дал образец общедоступного, но вместе с тем и строго научного изложения истории.
) Она была издана и отдельно: «Pricis de Ihlstolre de Г Astronomic (2-е издание вышло в 1863 г.), новейшее издание в «Oeuvres completes de Laplace. Т. VI. 1884 r.».
Если специалисту — исследователю полезно знакомство с. манерой изложения Лагранжа, то составителю популярной книги по истории науки следует проштудировать Лапласа со стороны формы: на таких образцах надо учиться чувству меры и такта и правильному пониманию целей и задач истории науки.
Ее состояние в конце XVH1 века делало неясным, или совсем неизвестным то, что знаем мы в настоящее время, благодаря ряду кропотливых специальных исследований XIX века об астрономических знаниях Египтян, Индусов и особенно Вавилона. Поэтому, рисуя картину древней астрономии, Лаплас очень осторожен в заключениях. «Среди груды басен, наполняющих первые века греческой истории», говорит он, «трудно разобрать, как далеко шли их астрономические знания» Во второй главе, стоя уже на почве фактических данных, он касается деятельности александрийской школы. (Аристарх, Эратосфен, Гиппарх и Птоломей). Касаясь далее арабской науки, Лаплас по поводу множества рукописей, хранящихся в библиотеках, повторяет мысль Монтюкла, что изучение их должно обратить на себя внимание владеющих восточными языками, «потому что, прибавляет Лаплас, «великие изменения в системе мира интересно знать не менее государственных переворотов». Четвертая глава посвящена Копернику, Галилею, Тихо Враге и Кеплеру. Отдавая должное гению двух первых и перечислив заслуги Браге — «великого наблюдателя, не особенно счастливого в изыскании причин», Лаплас уделяет гораздо больше внимания Кеплеру, называя его одним из редких людей, которых по временам природа дарует науке для проявления теорий, подготовленных трудами нескольких веков.
Без греческих умозрений относительно кривых, образующихся при рассечении конуса плоскостью, прекрасные законы Кеплера, по выражению Лапласа, оставались бы, может быть, неизвестными до нашего времени. Указывая, между прочим, на сочинение Кеплера «Stereometria doliorum», как на имевшее влияние на преобразование геометрии, он ставит его в связь с позднейшими идеями Фермата, считая его истинным изобретателем Дифференциального Исчисления.
По поводу открытия логарифмов Лаплас говорит, что .сокращая вычисления нескольких месяцев до нескольких дней, они, так сказать, удваивают жизнь астрономов. В искусствах человек для увеличения своего могущества пользуется материалами и силами, доставляемыми природой. В деле логарифмов все является результатом его собственного ума.
Коснувшись заслуг Гюйгенса, Кассини, Гевелия, Галлея и Брадлея, следующую (пятую) главу Лаплас посвящает закону тяготения, упоминая Декарта, Фермата, Валлиса. Рена, Гюйгенса, Галилея, Кеплера и Гука — словом, всех, кто принял участие в подготовке почвы для этого великого открытия.
«Небесная механика ожидала только для своего рождения, чтобы гениальный ум, сближая и обобщая предшествующие открытия, сумел извлечь из них закон тяготения. Это совершил Ньютон в своем творении .Математические Начала естественной философии».
По вполне понятным причинам Лаплас уделяет исключительное внимание этому произведению, считая, чтв важность и всеобщность достигнутых результатов обеспечивает за «Началами» превосходство над другими творениями ума человеческого. Книга эта останется навсегда,, по словам Лапласа, памятником глубины гения, открывшего нам величайший из законов вселенной.
Между прочим, он выражает сожаление, что Ньютон питал исключительную приверженность к синтезу и тут же с изумительной яркостью описывает все преимущества анализа, приводя тому наглядные примеры. Посвященные этому предмету страницы можно считать классическими.
Шестая глава касается возможных будущих успехов астрономии. Редкий пример прозорливого взгляда историка науки вперед, пример той экстраполяции у верхнего предела, которая, требуя величайшей осторожности, доступна, вообще говоря, знаниям и уму исключительной силы и составляет в истории математики в ее целом пока мало осуществимую задачу.
Все завоевания астрономии Лаплас делит на три яериода: первый до Коперника (наблюдения и гипотезы), второй — работы Коперника и Кеплера и третий — открытие закона тяготения, как следствие предшествующего периода.
В конечном итоге астрономия свелас к механике. Обозрение дальнейших успехов науки приводит Лапласа к указанию задач ближайшего будущего в звездной астрономии и в астрономии солнечной системы. Очерк заканчивается примечиниями исторического характера, касающимся, главным образом, астрономии древних (Греков, Халдеев, Китайцев и Арабов), в последнем же излагается так называемая «гипотеза Лапласа» о происхождении солнечной системы, по которой, так называемая широкая публика, пожалуй, только и знакома с деятельностью Лапласа, как ученого. Но при этом обычно упускают из вида слова самого Лапласа в заключительной главе его исторического очерка относительно первопричины планетной системы.
«Я изложу» говорит он «гипотезу, которая по моему мнению, с большой вероятностью выводится из предшествующих явлений. Но я представляю ее с осторожностью, подобающей всему, что не представляет результата наблюдения, или вычисления».
Эти слова автора гипотезы лучше всего знакомят нас е его собственной точки зрения на ее значение и для историка астрономии эти слова прежде всего — повод к ее беспристрастной оценке.
Подводя итог сказанному, мы кстати желали бы подчеркнуть ту особенную деликатность и беспристрастие, которое выражает Лаплас в разборе деятельности великих ученых.
Чтобы ни говорили биографы Лапласа о том, что он в своей частной жизни и устных отзывах не отличался справедливостью в суждениях об ученых заслугах своих коллег, проявляя иногда нечто в роде зависти к чужим успехам — всеже оставленный им исторический обзор успехов науки, в которую им самим сделан ряд крупных вкладов, свидетельствует, наоборот, о том, что глубокое знание предмета, могло бы в иных случаях дать ему полное основание к критике, хотя бы и справедливой, но резкой, как это, обычно и наблюдается.
Между тем, Лаплас в этом отношении поражает мягкостью своих отзывов. Но это прежде всего обясняется тем, что при разборе деятельности каждого ученого, Лаплас, как подобает серьезному историку науки, считается со всеми обстоятельствами и условиями возникновения и развития научных идей.
Конечно, это обусловлено до некоторой степени самой целью его труда: чтобы показать не специалистам величие астрономии, достаточно было ограничиться .Очерком», а не историей в серьезном смысле этого слова.
Лаплас достиг в этом отношении образцовых результатов — и в этом главное историческое значение его очерка, как первого по времени опыта популярно-исторического сочинения в области точных наук.
В самом конце XVIII столетия, след, еще задолго до перелома в направлении исторических исследований в области математики в сторону правильного понимания их целей и задач, мы встречаем в Италии первую и при том для своего времени прекрасно выполненную во многих отношениях попытку изложения истории возникновения и развития отдельной математической дисциплины. Мы говорим о труде итальянца Д. Пьетро Коссали: Origine, tras-porto In Italia,- primi progressi in essa dell Algebra. Storia crltica di nuove disquisizioni anaiitiche e metafisiche arricchita di D. Pietro Cossali, 2 vol. in 4, Parma (1797 — 99), (.Происхождение Алгебры, переход в Италию, первые в ней успехи. Критическая история новых аналитических и метафизических исследований, пополненная Д. П. Коссали).
Несомненным достоинством этого сочинения является большая начитанность и осведомленность автора в первоисточниках и не только отечественной литературы, которую он изучил, не ограничиваясь печатными произведениями, по ряду манускриптов, но и литературы древних греков (Диофант) и Арабов. Отсюда мы узнаем между прочим, что в XIV веке В. Lunic перевел на итальянский язык арабский алгебраический трактат под заглавием « La regola dell algebra».
Еполне естественно, что автор уделяет исключительное внимание крупнейшим итальянским математикам XIII — XVI столетия: Леонардо Пизанскому, Луке Пачиоли, Кардану, Тарталья и- особенно Бомбелли. Дело в том, что последний дал замечательную теорию мнимых величин, стоящую по своему формальному характеру ближе к современной, чем многие позднейшие теории. В6 втором томе своего сочинения (Capo V, Calcolo delle radici immaginarie press Cardano e Bommbelli) Коссали дает обстоятельный анализ этой теории и вполне справедливую оценку, что свидетельствует о тонкости понимания и математическом чутье автора, выделившего крупную научную заслугу Бомбелли, как первого ученого, положившего начало теории мнимых количеств. Эта заслуга недооценивалась позднейшими историками до М. Кантора включительно. Некоторое пристрастие Коссали в оценке трудов своих соотечественников вполне понятно и до некоторой степени извинительно (факт традиционный, хотя и мало — желательный), но весьма странно, что он игнорирует труды Виета, много способствовавшего переходу к символической алгебре от синкопированной. Опираясь на только что приведенную оценку труда Бомбелли, мы затрудняемся признать вместе с Бобыниным, что Коссали плохо понимал значение символики в деле развития алгебры. Скорей приходится, хотя и с грустью, признать, что здесь немалую роль играло опять таки ложно понятое национальное тщеславие, в угоду которому исторические факты рассматриваются под углом зрения, искажающим действительность, что идет, конечно, в ущерб научным достойнстващ исторического исследования.
В 1802 г. вышло в свет двухтомное сочинение «Essai sur Ihistore дёпёга1е des mathematiques» («Опыт общей истории математики-) Ш. Боссю (Charles Bossut), члена Парижской Академии Наук и профессора математики в Мезиере, а позднее в Ecole Politechnique. Дополненное второе издание появилос в 1810 г. под заглавием Histoire gfcnerale des Mathematiques, depuis leur origine usqua Гаппёе 1880» Paris («Общая история математики со времени ее происхождения и до 1808 г.). Книга эта явилась в сущности развитием статьи «предварительное рассуждение об истории математики, помещенной в качестве вступления к математическому отделу Большой Энциклопедии, изданной Дидро и Даламбером. Приходится удивляться, что это сочинение удостоилось перевода на английский, немецкий и итальянский языки и долгое время цитировалос в работах позднейшего времени, пока не получило должной оценки со стороны специалистов. Это не более, как обширная компиляция, написанная живо и популярно, чем отчасти, и обс-ясняется ее успех.
Хотя Зутер и говорит, что «это сочинение, правда, поверхностное, все же представляет в связном изложении историческое развитие математики», но он, как будто, не замечает, что связность изложения еще не есть «история предмета». Пробавляясь сведениями из вторых рук, Боссю делает не мало ошибок и бедность фактического материала оттеняется пространными и подчас весьма наивными рас- суждениями. По поводу приема для нахождения простых чисел с помощью так называемого «решета Эратосфена Боссю говорит «cest un moyen facile et commode».
Автор прекрасного труда «Die Algebra der Criechen Нессельман ядовито заметил, что «если бы Боссю попробовал просеять при помощи этого удобного и легкого приема все числа от единицы до миллиона для нахождения всех простых чисел, то он вряд ли назвал бы этот способ легким и удобным «.
Ббльшого внимания заслуживает другое сочинение Боссю «Discours sur la vie ef les ouvrages de Pascale», приложенное к предпринятому им изданию сочинений знаменитого французского математика (в 15 томах, 1779 г,).
Истории астрономии в рассматриваемый период посчастливилось более. На промежутке в четверть века наука обогатилась двумя серьезными трудами. Мы уже упоминали, что Лаплас в своем очерке ссылается на сочинения Бальи, погибшего на гильотине. Говоря об астрономических знаниях Индусов, которые были особым предметом увлечения этого даровитого ученого, Лаплас посвятил ему несколько трогательных строк. Обширный, пятитомный трактат Bailly «Histoire de lastronomie ancienne, moderne et indienne вышел в промежутке 1781 — 1787 и в настоящее время представляет библиографическую редкость. Монтюкла в своей «истории математики» немало пользовался эгим прекрасным для своего времени трудом и в предисловии говорит, что «это произведение действительно с полным основанием может быть названо «историей науки».
Еще более обратил на себя внимание капитальный трактат крупного французского астронома Деламбра. (ean Baptiste oseph Delambre, 1749 -1822), профессора в College de France и с 1803 г. до смерти состоявшего секретарем Академии. Труд этот выходил постепенно; Histoire de last-ronomie ancienne» 1817, 2 vol; «Histoire de lastronomie du moyen &ge. 1819; «Histoire de lastronomie moderne» 1821 r. i 2 vol, наконец, «Histoire de lastronomie au dix-huiti6me sie-de 1827 r.
Это была первая полная история астрономии, сохранившая во многом значение и до настоящего времени. Прекрасный астроном оказался и замечательным историком своего предмета. Трактат представляет результат собственных изысканий автора, лично ознакомившегося с первоисточниками и всей обширной астрономической литературой от глубокой древности до своего времени. О всяком научном исследовании дается обстоятельный отчет, всякое открытие прослежено в его постепенном развитии со всеми вытекающими из него следствиями с изумительной ясностью. Начитанность и эрудиция Деламбра изумительны. Между прочим он строго отделяет астрономию от математики. Напр, он мало касается деятельности школы астрономов-ма-тематиков, бывших его севременниками и непосредственными предшественниками не вследствие недостаточной оценки ее значения, а потому, что он причисляет ее труды скорей к области математики, чем астрономии. Тем не менее вопросы астрономии настолько тесно переплетаются с успехами математики, что Деламбру поневоле приходится в разных местах своего труда затрагивать в область математики, обнаруживая и здесь глубокое знакомство с ее историей. Во-второй части его «истории древней астрономии мы встречаем замечательную статью «об арифметике Греков» — предмет вообще редко трактуемый с надлежащей полнотой.
Когда говорят о математических знаниях древних Греков, центр тяжести переносится в геометрию, которую они культивировали по преимуществу и создается впечатление, что арифметика, как наука, мало пользовалас их вниманием. Этому мнению способствовало отчасти и то обстоятельство, что по странной случайности ббльшая-часть чисто арифметических трактатов, принадлежавших перу видных греческих ученых, до нас не дошла совсем, или в ничтожных отрывках, с которыми нас знакомят коммен- таторы, от многих трудов сохранились одни названия. Эта область истории математики древних до сих пор с трудом г поддается исследованию и тем ценнее является труд Делам-бра, представляющий свод сведений об искустве счета и приема производства арифметических действий у Греков. Автор приводит ряд интересных примеров, сохранившихся в комментариях Эвтокия Аскалонского к трактату Архимеда «об измерении круга» и Теона к «Синтаксису» Птолемея. )
I Работа Деламбра, как составленная по первоисточникам, представляет несомненный вклад в науку. Первоначально она появилась в сокращенном виде в приложении к собранию сочинений Архимеда, изданных Пейраром в 1807 г. в Париже.
(Есть немецкий перевод Гофмана: «Ueber die arithme-tik der Griechen. Aus dem Franzosischen des Herrn Delambre iibersetzt, mit einigen Verbesserungen und einer Tabelle ver-sehen, von I. Hoffmann. Mainz, 1817 г.).
Впрочем, улучшение переводчика сводится к тому, что он внес в качестве введения к работе Деламбра статью «об истории арифметики» из «Mathemat. Worterbuch, von G. S. Kliigel.
Указанное сочинение Деламбра является первым по времени серьезным историческим исследованием того типа, который отмечает в деятельности историков математики поворот к детальному углублению в изучение первоисточников.
В этом сдвиге от работ общего характера в сторону частностей и кропотливых специальных исследований, замыкающих нередко круг своих интересов узкими и подчас крайне скромными целями, сказывается, если не понимание, то угадывание назревшей потребности пополнить пробелы, нарушающие цельность исторического процесса в отношении развития математической мысли на Востоке. Исследования эти легче всего было предпринять во первых по отношению к Арабам, связь с которыми в области перехода их научных знаний в Западную Европу была близка и естественна, во вторых по отношению к тем народам Дальняго Востока, культура которых более доступна изучению. Мы имели в виду прежде всего Индусов, как учителей арабов и в несколько меньшей степени Китайцев.
Трудность изучения восточных языков являлась немаловажным препятствием; филологи проходили мимо памятников математической культуры, так как одного знания языка далеко недостаточно: надо быть, если не математиком, то, во всяком случае, настолько сведущим в ней, чтобы суметь транспонировать способы выражения математических понятий, расшифровать своеобразную терминологию и раскрыть смысл условных обозначений.
Только пои удачном сочетании склонности к историческим исследованиям и одновременном знакомстве с математикой и филологией можно надеяться на успех.
В эпохи более близкие к политическому господству Арабов знание их языка учеными Зап. Европы не было редкостью, но они сосредоточили свое внимание, главным образом, на арабских переводах греческих классиков, в частности геометров и астрономов (Эвклид, Архимед, Аппо-лоний, Птолемей), сочинения которых они, в свою очередь, переводили на латинский язык. Оригинальные труды арабских ученых переводились сравнительно мало. Греки признавались единственными учителями и в философии (достаточно вспомнить Аристотеля), и в медицине, и в математике.
Греками, как думали в то время, начиналась и политическая история и история культуры.
Мы уже видели какими робкими и медленными шагами подвигалась вперед историография: темные места истории развития математической мысли долгое время оставались неосвещенными: о них или умалчивали, или довольствовались необоснованными догадками, а иногда и просто баснями, или легендами.
Задачи исторической критики игнорировались не столько вследствие неуменья взяться за дело, сколько вследствие смутного представления о них. Только у Монтюкла впервые мы встречаем ясно выраженное понимание такого неноР мального положения вещей.
В предисловии к своей «Истории математики» он при-водит, между прочим, интересное место из переписки из-вестного математика Монмора с Бернулли: «Было бы весьма желательно, чтобы кто нибудь взял на себя труд показать нам каким образом и в каком порядке следовали математические открытия и кому мы ими обязаны. Пишут историю живописи, музыки, медицины; хорошая история геометрии была бы куда интереснее и полнее. Подобный труд, умело выполненный, являлся бы по истине историей человеческого ума».
Как показывает отрывок одного из писем Монмора, помещенного в «Acta Eruditorum» (1721, p. 215), он сам предпринял работу в этом направлении, но после его смерти, все розыски Монтюкла (совместно с Ла-Кондамином) не привели ни к чему и, по его словам, ему пришлось убедиться «в Полном исчезновении драгоценной рукописи.
Труд Монтюкла своим появлением обязан мысли, аналогичной мысли Монмора но, возникшей независимо от этой последней, и насколько сам Монтюкла серьезно относился к выполнению задуманного им грандиозного предприятия, насколько он сознавал трудность его осуществления, лучше всего видно из его письма к Таланду от 7 августа 1799 г., т. е. за четыре месяца до смерти: «Plus y reftechis, plus e vois par les difficult6s, que eprouve, que ai et6 un temeraire dentreprendre un pareil ouvrage. e suis rfe-duit & dire, que e men tirerai, comme e pourrai».
Монтюкла прекрасно видел недостатки своего труда, в ббльшей части которых он неповинен: прежде всего он был бессилен в преодолении трудностей, создаваемых на- « личием «пробелов», на что он неоднократно указывал.
И последующая вековая работа не заполнила всех этих пробелов.
Отсюда и берет начало проблема исторической интерполяции в широком масштабе. Это уже не пополнение пробелов в знании истории какого нибудь периода в развитии науки, хотя бы в Греции, когда общие контуры более, или менее известны: здесь задача высшего порядка: по намекам и весьма недостаточным фактическим данным реконструировать в целом историю развития науки у данного народа. Ясно, что при наличии скудного фактического материала изложение этой истории являлось совершенно неудовлетворительным: отсутствие целого ряда звеньев отражалось и в неправильном понимании, а след и толковании научно-исторических фактов более позднего происхождения. Преемственность идей при таких условиях не выявлялась совсем, или допускались натяжки. С другой стороны, эта неполнота знаний лишала возможности делать сопоставления и применять при изучении сравнительный метод. Материал уже известный мог бы получить, как показало дальнейшее развитие истории, совершенно новое освещение: то, что считалось оригинальным, оказывалось заимствованным, элементы подражания, ассимиляция — выявлялись с необычайной яркостью.
Поэтому, вполне естественно, что при чтении исторических трудов общего характера недомолвки, игнорирование целых эпох, незнакомство с развитием научных знаний у отдельных народов, могло побудить некоторых исследователей к изысканиям в целях устранения этого нежелательного явления и путем глубокого изучения первоисточников содействовать увеличению данных, которые бы позволили в дальнейшем наметить с ббльшей вероятностью общий абрис истории науки. Каждое новое звено, каждая новая точка на кривой, интерпретирующей историческую функцию является в этом отношении настоящим вкладом в науку, так как там, где приходилось пускаться в рискованные гипотезы, или, в лучшем случае, молчать, дипломатично обходя «разрывы функции, теперь вставлялся исторический факт, или даже группа фактов, и, чем больше их накоплялось, тем ясней вырисовывалась общая картина.
С начала XIX века проблема интерполяции стала понемногу разрешаться прежде всего по отношению к Индусам и работа в этом направлении, длящаяся до сего времени и далеко незаконченная, совершенно перетасовала карты историков науки. Достаточно вспомнить пресловутую теорему Пифагора. Открылся новый мир идей и методов, своеобразные приемы вычислений и решения задач, стало понятным такое явление, как «арифметики Диофанта
Несколько позднее и с меньшим успехом эта проблема была применена к изучению арабской науки, с еще меньшими результатами она сказалась в нашем ознакомлении с математикой Китая. О Японии не приходится и говорить:
в европейской литературе не наберется и десятка статей, трактующих о развитии точных наук в стране Восходящего Солнца. А между тем, эти «французы Дальнего Востока заслуживают особого внимания историков математики: в национальной школе математиков дореформенной Японии мы встречаем массу оригинальных методов и приемов.
Вполне понятно, что недостаточность знакомства с дальне-восточными культурами зависит от трудностей, сопряженных с изучением соответствующих языков с одной стороны и малодоступностью первоисточников с другой. Очередная задача — победить эти затруднения.
Почти одновременно выдвигается в XIX веке и вторая проблема — экстраполяция у нижнего предела, считая сперва таковым время возникновения древне-греческой науки. Несомненно, что эта задача более сложная, чем первая: предстояло изучить культуры переднего Востока — Вавилонскую и Египетскую.
Если в деле изучения науки Арабов, Индусов и Китайцев могла останавливать трудность изучения языка, то, во всяком случае, это препятствие было вполне преодолимо.
Наоборот, в отношении науки халдейских и египетских жрецов ученые при всем желании до поры до времени были бессильны, так как и ассирийская клинопись и египетские иероглифы казались неразрешимой загадкой. Мертвые языки ждали своей «живой воды. Надо было прежде всего найти ключ к расшифровке сохранившихся памятников письменности, надо было и найти эти памятники. Здесь требовалось участие лингвистов и археологов.
По счастливой случайности до нас дошли трехязычные надписи с параллельными текстами.
Совместными усилиями ряда выдающихся ученых (прежде других Юнга и Шамполлиона) удалось положить начало новой науке — египтологии. По близости от западного устья Нила у Розетты была найдена черная гранитная плита с тремя тожественными текстами: верхний — иероглифический, средний — демотического письма и нижний на греческом языке. Этот последний, как дословный перевод первых двух (что отмечено в самой надписи), и дал возможность проникнуть в тайны египетской письменности.
Точно также возникла и другая наука — ассириология, благодаря трудам датского академика Мюнтера и особенно немецкого ученого Гротефенда, разобравшего с помощью остроумного метода первую из трех клиновидных надписей на плитах, найденных в развалинах Персеполя и скопированных еще в 1765 г. Нибуром.
Гротефенд исходил из гипотезы тожественности всех трех надписей и в первой из них, наиболее простой по начертаниям, оказалось персидское письмо эпохи Сассанидов. Путем удачных сопоставлений Гротефенд угадал правильно девять знаков этого клинообразного письма. Начало было сделано. Позднейшими трудами Раска, Лассена, Бюрнуфа, Раулинсона, Гинкса и Опперта воя первая надпись была прочитана, оставалась путем сличения с ней двух остальных текстов расшифровать и их.
Значительно помогло открытие так называемой Беги-стунской трех язычной йадписи, заключавшей в себе более ста собственных имен — лиц, стран, городов и крепостей.
Второй текст оказался написанным на Ново-Эламсксм наречии области Суз. Наконец, третья система знаков, наиболее трудно поддававшаяся расшифровке, принадлежала вавилоно-ассирийскому языку. Дальнейшая успешная работа в деле чтения клинописи во многом зависила от неутомимости археологов, производивших раскопки и доставивших огромное количество памятников письменности древнего Вавилона и Египта. В первом были найдены целые библиотеки, состоявшие из глиняных табличек, испещренных клинописью, ознакомление с культурой и наукой второго дала расшифровка папирусов. Открывался новый мир, граница
истории отодвигалась в глубь не только веков, но нескольких тысячелетий. Ряд неожиданных открытий совершенно меняет общую картину хода исторической функции; греки оказываются учениками египетских и вавилонских жрецов. Первый период их научной деятельности — это период усвоения чужеземной мудрости. При создавшейся ситуации Греция на первых порах, рисуется нами не как «культурный центр, а лишь местом восприятия и ассимиляции знаний, создававшихся на протяжении тысяч лет в двух древнейших культурных центрах и Греция приобретает право на это звание много позднее. Характер кривой, интерпретирующей историческую функцию, благодаря такой экстраполяции резко видоизменился. В последующие периоды греки превзошли своих учителей и внутри промежутка, ооответствующего периоду усвоения, ветвь кривой медленно подвигается, но, связывая ее с вновь определившейся ветвью, мы видим, что тому абсолютному minimumy точных знаний, которым располагали Греки до начала восприятия элементов чужеземной культуры, предшествовали неоднократно колебания исторической функции. К рассматриваемому времени ординаты кривых Египта и Вавилона с екстремальной ординатой Греции давали среднюю ординату довольно значительную.
Заслуги археологии и лингвистики в деле развития истории математики в этом случае не подлежат сомнению, но роль их этим не ограничилась с постановкой проблемы экстраполяции в более широком смысле: нижний — «исторический» предел оказалось возможным сместить в глубь времен. Место «относительно нижнего предела» занял абсолютный нижний предел» — периода донаучного. Задача эта еще более сложная и трудная и здесь на помощь пришли геология, история первобытной культуры и сравнительное языкознание. Возникают попытки проникновения к моментам генезиса основных идей «числа и протяжения.
В этой области мы довольствуемся пока первым приближением, остается сделать еще очень многое, но и того,
что дала в этом отношении напряженная работа XIX века, достаточно для уверенности, что решение задачи во втором более точном приближении — вопрос времени.
Сдвиг к абсолютному пределу дает хотя и недостаточно ясное, но все же до некоторой степени определенное понятие о первом этапе восприятия числовых и пространственных представлений. Под здание науки медленно подводится его естественный фундамент.
Между прочим, скудость фактических данных заставляет пополнять пробелы по методу аналогии, с одной стороны путем изучения быта малокультурных и варварских племен, с другой путем исследований детской психологии в отношении указанных восприятий. Сопоставление материалов добытых рядом наблюдений проливает некоторый свет на темные и трудно поддающиеся анализу места в области процесса эволюции идей в донаучном периоде.
Параллельно с этим внимание ученых привлекают своеобразные особенности культур точного знания Нового Света.
К несчастью для науки, неуместное усердие завоевателей в деле истребления драгоценных памятников письменности, сильно затруднило решение этой задачи. При отсутствии ключей для понимания сохранившихся остатков древне-американской культуры (рукописи майасов и ацтеков) мы почти лишены надежды расшифровать их. Однако и здесь, благодаря усилиям ряда видных американистов, удалось достичь кое-каких результатов — разобраны числовые и календарные системы народов Центральной Америки, перуанский квипос и т. д.
С сороковых годов проблема общей интерполяции разрешается еще и в другом направлении: в виду открытия связи с передне-восточной культурой история математики в Греции становится предметом особого внимания виднейших историков науки во Франции. Англии и Германии: достаточно назвать П. Таннери, Алльмана, Гоу, Нессельмана.
Параллельно с этим появляется ряд трудов, посвященных истории развития математических знаний и в Новое время у отдельных европейских народов. (Италия, Бельгия, Голландия, Германия).
В сочинениях этого типа более всего почвы для национального честолюбия, но историк должен быть беспристрастен и осторожен: обычные увлечения успехами отечественной науки заставляют автора грешить против истины: между тем, главнейшая цель таких трудов связать их с Общей Историей математики, рассматривая их как отдельные главы, обработанные сравнительным методом. Строго говоря, это — работы вспомогательного характера, назначение которых выявить цельность картины общего развития математической мысли и помочь устаневлению законов этого развития по отношению к человечеству в целом.
В периоде уже сформировавшейся культуры проследить преемственность идей и установить взаимоотношения с другими культурами легче, чем дать анализ периода усвоения чужой культуры высшего порядка, или более зрелой: эта часть трудов рассматриваемого типа, вообще говоря, оказывается довольно слабо развитой.
Несомненно больше пользы для Общей Истории науки дал XIX век в решении проблемы «частной интерполяции1, т. е. разработки сырого материала и освещения мелких деталей и вопросов второстепенной важности путем узко специальных исследований, монографий, статей и заметок, касающихся отдельных исторических моментов, биографий выдающихся математиков и, наконец, библиографических и хронологических данных.
Рост науки повышал интерес к ее истории и успеху в решении только что указанной задачи в значительной мере содействовало появление целого ряда периодических органов. Мы имеем в виду как научные математические журналы, дававшие на своих страницах приют статьям и мемуарам исторического содержания, так и журналы, специально посвященные истории и библиографии физико-математических наук.
Если в XVIII вке наука на фундаменте, заложенном творцами анализа, развивалась по преимуществу в ширь, то XIX век дал ряд блестящих ученых, стремившихся продолжить это развитие вглубь. Успехи науки Нового времени вызвали к жизни и ряд новых дисциплин, необычайное обилие материала, подлежащего изучению с исторической точки зрения, ждет своих исследователей: о подведении итогов и обобщениях говорить в некоторых случаях преждевременно, но кое что в области частной интерполяции уже сделано по отношению к истории развития математических знаний, главным образом, в Западной Европе, начиная с Эпохи Возрождения.
Очерки развития отдельных научных дисциплин, нося вспомогательный характер в отношении Общей Истории, устанавливают связь во времени и пространстве между родственными идеями и понятиями. Сюда же примыкают монографии, посвященные обзору успехов науки в отдельные эпохи, или века и более частные задачи — исследования развития какой либо отрасли математических наук в одну из таких эпох, или веков. Делаются попытки проследить и историю преподавания математики.
Разбор рукописей и архивов, изучение неизданной переписки великих ученых, очерки их жизни и деятельности, штудирование старинных математических журналов и давно забытых сборников — все это в целом дает огромный фактический материал, выясняя массу мелких деталей, и способствует устранению неточностей и ошибочных мнений относительно происхождения идей, методов, доказательств, обозначений.
Медленный и кропотливый анализ понемногу рассеивает туман и вскрывает заблуждения. Незаметные в отдельности, все эти поправки в массе исправляют на кривой исторической функции неверно намеченные отдельные точки, а иногда и целый комплекс их в определенном интервале.
Если мы в настоящее время многого еще не знаем, за то, благодаря работам в указанном направлении многое из того, что считалось еще в XVIII веке правильным, отброшено, как явно ошибочное, и, таким образом, неустанная работа в области частной интерполяции выясняет в первом приближении истинный характер исторической функции, в некоторых частях своего хода определенной с удовлетворительной точностью.
Конечно, в целом, мы не только далеки от идеального приближения и действительности для всей области изменения исторической функции, но, по всей вероятности, никогда его и не достигнем, так как, отодвигаясь в глубь веков, мы сталкиваемся с непреодолимыии препятствиями в задаче полной реконструкции соответствующих эпох в виду скудости сохранившихся первоисточников и в некоторых случаях без надежды пополнить уже имеющийся запас, но, по скольку возможно, работа историков науки XIX века осветила то, что еще в XVII веке было погружено в сплошной мрак, и там, где на кривой были разрывы, исключавшие всякую возможность сделать вывод, теперь имеется ряд точек, иногда столь густо расположенных, что это дает определенное представление о процессе развития математической мысли.
Первая половина XIX века не ознаменовалась появлением трудов общего характера и при том состоянии историко-математических знаний, какое мы застаем в начале истекшего века после сочинения Монтюкла, трудно было дать что либо новое и более полное.
Только во второй половине столетия, когда фактического материала оказалось в руках историков значительно больше, появляются вновь труды общего характера по своим достоинствам в целом оставляющие далеко позади себя все сделанное их предшественниками. Но на ряду с капитальными трудами, часть которых можно считать классическими, (напр, неоконченное, к сожалению, сочинение Ганкеля и обширная «История» М. Кантора), многие авторы продолжают отдавать дань традициям XVIII века, и если фактическая сторона их трудов стоит выше, то в отношении философско-критического построения они мало чем отличаются от историков старшего поколения. Короче говоря — эти труды при отдельных несомненных достоинствах в целом не заслуживают за немногими исключениями наименования «Истории математики с точки зрения требований, предявляемых к историку науки в силу изменившихся условий анализа и критической обработки сырого материала в целях извлечения соответствующих выводов и обобщений. С этим явлением мы продолжаем встречаться и до настоящего времени, т. е. уже в XX веке.
Прежде чем перейти к изложению историографических фактов, подведем итог всему сказанному, что послужит, кстати сказать и планом дальнейшего расположения материала.
Мы видели, что на долю XIX века выпало решение в первом приближении целого ряда важных задач, постановка которых логически вытекала из всего, что дали предшествующие два века: во первых, проблема частной экстраполяции (Египет и Вавилон). Как увидим ниже по отношению к Вавилону получено довольно обстоятельное решение, благодаря тому что раскопки доставили массу фактического материала, от объма которого зависит весь успех работы.
Во вторых, проблема общей экстраполяции (до научный период), решенная пока в общих чертах вследствие ее необычайной трудности. Объем фактов в этой области значительно меньше, кроме того, многое зависит от уменья ставить вопрос, на который должны ответить немые памятники старины.
В третьих, проблема общей интерполяции (хронологически возникшая раньше первых двух) коснулась культур Арабов и Дальняго Востока. Мы говорим «коснулась потому, что сделано еще слишком мало в сравнении с тем, что предстоит сделать. Напр., что касается Индусов, мы еще пребываем в полном неведении относительно первых шагов их в области точного знания. (Частичная задача экстраполяции у нижнего предела.
Предстоит осветить и Средневековье, но эта задача всецело зависит от дальнейших работ в сфере четвертой
и последней проблемы — частной интерполяции, затрагива- ющей все эпохи и все народности, но пока бессильной в отношении исчерпывающих ответов в виду обилия поставленных и постоянно возникающих тем. Но только она одна поможет Общей Истории, пользующейся сравнительным методом, ответить на кардинальные вопросы об одностороннем и взаимном влиянии различных культур во времени и пространстве.
Нам остается сказать о том «внешнем» влиянии, которое оказали успехи Истории математики. Интерес к вопросу о генезисе и дальнейшей эволюции основных идей, составляющих основу точных наук, стремление с одной стороны, классифицировать математические знания б целом, с другой, уловить преемственную связь между отдельными ветвями — вызвали в совокупности ряд фундаментальных исследований в области философии и методологии математики. Ограничиваясь более крупными именами, достаточно назвать Вронскаго, Больцано, О. Конта, Дюгамеля, Дже-вонса, Кромана Гуссерля, Дробиша, Когена, Вундта, Грас-смана, Дюринга, Зигварта, Маха, Пирсона и Пуанкаре.
Помимо углубления в задачи, поставленные и отчасти разрешенные в XIX веке в целях отыскания более точных приближений, на обязанности XX века лежит очередная задача наметить подступы к проблеме экстраполяции у верхнего предела, то есть на основании как чисто научного, так и добытого уже исторического материала — проявить некоторую долю предвидения в смысле указания тех очередных задач, которые в своем победоносном шествии математика может разрешить или путем обобщения уже достигнутых результатов, или путем постановки новых заданий.
В этом направлении зачатки уже имеются (напомню лекции Э. Пикара, читанные им в Clark-University «О развитий за последние сто лет некоторых основных теорий математического анализа»), но, конечно, обольщаться пока
что, не приходится1). Здесь мы вступаем в круг вопросов удовлетворительное решение которых зависит от успехов философиии математики, стоящей, в свою очередь, в тесной зависимости как от усовершенствования приемов научного исследования математики в самой себе, так и от более полного знакомства с ее историей.
Успехи историографии в XIX веке.
I. Проблема общей интерполяции.
А. Индусы.
В XVIII веке Западно-Европейская наука успела ознакомиться до некоторой степени с астрономическими знаниями Индусов.
Пионером в этой области был французский ученый Лежантиль, (oseph Baptist Le Gentil, 1725 — 1792) долго живший в Индии, основательно изучивший санскритский язык и давший целый ряд интересных исследований, посвященных индусской астрономии: «Sur Iorigine du Zodiaque» (1772), «Remarques et observations sur lastronomie des n-diens et sur Ianciennetd de cette astronomie» (±784) и «Ме-moire sur lanciennetfe de la sphere en general et de quelques constellations en particulier» (1789).
Овладеть тайнами Индусской науки этому астроному удалось с большим трудом. Хотя его и свели с ученым Брамином, умевшим вычислять солнечные и лунные затмения, но только благодаря участию одного Тамила хри-
х) На 2-м Международном математическом Конгрессе (Париж, 1900) D. Hilbert прочел интересный доклад «О будущих задачах математики (Напечатан в «Gottingen Nachrichten, 1900). По мнению автора, существование точных и определенных задач важно и для прогресса математики и для работы каждого исследователя. Определенность — признак проблемы, наиболее способной двинуть науку вперед. Смысл и значение ее должны быть легко схватываемы. Она должна быть трудна, но не недоступна. Средства к решению — обобщение н специализация. В случае неудачи решения проблемы при данной постановке надо дать строгое доказательство ее невозможности. Гильберт склонен думать, что рост и разнообразие не поведут к распадению математики на отдельные ветвн. Наоборот, каждый существенный шаг вперед прив3яит к открытию метопов более совершенных и простых, дающих математику сравнительно легкий доступ ко всем частям науки.
стианина после двух лет настойчивых трудов явилась возможность приникнуть в сущность приемов этих вычислений, без нужды усложняемых и потому весьма туманных.
В третьей книге второй части первого тома своей «Истории» Монтюкла касается математики Индусов и по недостатку фактических данных ограничивается поневоле изложением того, что говорит об астрономии Индусов Ле-жантиль, примем сведения, данные им, по мнению Монтюкла, столь подробны и ценны, что ничего не остается, как только следовать за ним шаг за шагом.
Что касается другого специалиста, Бальи, то при всем богатстве собранных им фактических данных, он слишком смел в своих выводах и в обяснении циклов индусской хронологии дает простор фантазии, будучи убежден в глубокой древности научных знаний Индусов.
Более трезво и осторожно разбирает те же вопросы Деламбр (главы II, III, V, VI второго тома его «Истории древней астрономии, отдел «Astronomie orientale»). касаясь и математических знаний, поскольку они стоят в связи с астрономией, но он уже опирается на ценные специальные исследования, ознакомившие западно-европейскую науку с содержанием сочинений виднейших представителей индусской математики.
Первые по времени, относящиеся сюда сведения об алгебре и геометрии Индусов появились в сочинении ГУт-тона. «Tracts on Mathematicae», London, 1812. Они были сообщены автору английским ориенталистом Стракеем, прежде чем он сам опубликовал свои исследования. Отрывок из этого сочинения был переведен на французский язык основателем первого историко - математического журнала Ольри Теркемом и помещен в «Correspondance de 1EcoIe Polytechnique», t. III. 1816 г. под заглавием «Sur le Lilavati indie n».
Но уже в 1813 году вышел в Лондоне труд самого Стракея, «Bia Ganita: or the Algebra of the Hindus» By Edvard Strachey. (Виа-Ганита или Алгебра Индусов).
Сочинение это представляет извлечение из астрономического трактата «Siddhantaciromani» (венец астрономической системы), принадлежащего Индусскому математику и астроному Баскара Ачариа (1141 — 1225) (приставка « Ачариа» к имени Баскара означает его принадлежность к сословию ученых). В качестве введения к этому трактату присоединены два сочинения: математического содержания: « Lilavati или «Прекрасная» — так Баскара называет арифметику и «Bia Ganita» — буквально «вычисление корней.
С этой второй частью введения Стракей и ознакомил европейскую науку, но он пользовался не оригиналом, а персидским переводом, сделанным еще в 1634 году ученым Ата Аллах Рушиди бен Ахмед Надиром.
Что касается первой части, то она появилась в переводе Тейлора уже с санскритского оригинала: «Lilavati or a treatise on Arithmetic and Geometry by Bhascara Acharya translated from the original sanserif by . Taylor. Bombay. 1816. (Лилавати или трактат об Арифметике и Геометрии Баскара Ачариа)).
«Лилавати» состоит из 13 глав, в которых арифметический материал смешивается с алгебраическим. Главы 6 — 11 посвящены геометрии.
«Виа-Ганита» состоит из 8 глав и заключения. В 1-й главе рассматриваются 6 основных алгебраических действий, 11, III, VII, и VIII содержат неопределенный анализ, IV и VI занимаются уравнениями 1-й степени и квадратными с одним неизвестным, наконец VI посвяшена уравнениям со многими неизвестными.
Интересно, что в Бомбее, где было много индусов, числившихся оффициально астрономами, Тэйлор не нашел ни одного, кто йонимал бы хоть страницу из Лилавати и в главном учреждении Браминов — Пуне оказалось очень мало лиц, способных понимать Лилавати и Виа-Ганита.
Крупный вклад в историю науки сделал знаменитый англйскнй санскритолог Генри Томас Кольбрук (1765 — «Лилавати» также переведена в 1587 г. на персидский язык ученым Fyzi.
1837). Служа в Индии в качестве судьи, он стал изучать санскритский язык, чтобы ознакомиться с юридическими нормами Индусов и, будучи любителем математики, попутно изучил их литературу в области точного знания.
В результате в 1817 году вышло в свет его ценное исследование: «Algebra, with Arithmetic and Mensuration, from the Sanscrit of Brahmegupta and Bhascara translated by Henry Tomas Colebrooke, London (Алгебра с Арифметикой и наукой измерения, с санскритского по Брамегупта и Баскара переведенная Генрихом Томасом Кольбрук).
Упоминаемый здесь индусский астроном и математик Брамегупта (род. в 598 г.) автор популярного в Индии астрономического трактата «Br&hma-sphuta-siddhanta» («Пересмотренная система Брамы), состоящего из двадцати книг. Из них Х11-ая касается Арифметики (первые три главы) и Геометрии (главы IV — X), в XVIII книге излагается Алгебра в 8 главах.
К своему переводу Кольбрук присоединил историческое введение с весьма ценными фактическими данными: многое из того, что приписывалось Арабам, оказалось достоянием Индусской науки.
Ф. Бухнер сделал извлечение из сочинения Кольбрука: «F. Buchner, De algebra Indorum, Elbing, 1821», представив туманные и крайне запутанные правила индусской алгебры в удобопонятной форме.
Указанные работы дали толчек в деле дальнейшего более детального ознакомления с математическими знаниями Индусов.
В 1849 г. в «Memoires de llnstitut National de France», Т. XVIII появилась заслуживающая внимания статья Рено: «Mfemoire gbographique, historique et scientifique sur llnde, anterieurement au milieu du Xl-e siecle de Гёге chretienne, dapres les 6crivains arabes, persans et chinois» par M. Reinaud. Она интересна, главным образом, в том отношении, что показывает как проникали элементы индусской культуры к народам, приходившим с ней в соприкосновение.
Астрономическая часть сочинения Баскары вместе с двумя первыми главами переведена на немецкий язык Брокгаузом («Berichte der KonigI Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften» Лейпциг, 1852).
Более ценный английский перевод третьей главы (Голадхиайа) — «трактат о сфере» появился в 1862 г. в Калькутте в «Bibliotheca ndica, new series, №№ 13, 28». Перевод выполнен Ланцелотом и Вилькинсоном при содействии пандита) Вари Deva Shastri — профессора математики и астрономии в Бенаресе.
Этим же ученым Индусом при участии американского ориенталиста Fitz Edward НаНя напечатан в «Bibl. i Indica» санскритский текст древнейшего астрономического трактата «Суриа-Сидганта», (Surya — солнце, Siddhanta — система, знание), носящего явные следы греческого влияния. Форма трактата стихотворная, вычисления ведутся реторически (на словах) и в сущности сводятся к одним правилам, изложенным настолько туманно, что потребовалось глубокое знание древней астрономической науки и санскритского языка, чтобы овладеть чтением, а тем более переводом.
С этой задачей успешно справился Бургесс. Его перевод на английский язык вышел с весьма ценными пояснениями американского санскритолога Whitney: «The Surya Siddhanta», translated by E. Burgess and annotated by W. D. Whitney. (ournal of the Americ. orient soc. Т. VI, Newhaven, 1860).
Далее заслуживают внимания исследования известного санскритолога А. Вебера. Его статья л Vedische Angaben iiber Zeittheilung und hohe Zahlen» (1861) посвящена вопросу о значении больших чисел в космогонических представлениях Индусов.
«Веды» — их священные книги (числом четыре) снабжены особыми астрономическими приложениями «lyotisha». (Нечто
) Пандитами называют ученых брахманов. Среди них многие получили известность в европейской науке своими трудами в области санскритской филологии и археологии.
вроде календаря, содержащего правила определения времени различных ведических церемоний). Еще Кольбрук описал календарь, приложенный к Риг-веде. Описание другого дал Вебер в статье «Ueber den Veda Kalender, genannt Iyoii-scham» (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1862).
Кроме того, в «Indische Studien» он поместил несколько интересных статей, из которых особенно следует отметить «Zur geschichte der indischen Astrologie» (т. 11) и «Ueber die Metrik der Inder». (т. Vlll).
В первой автор касается вопроса о влиянии греческой культуры, во второй указывает на знакомство Индусов с комбинаторикой.
Особенно важны в деле изучения состояния точных наук в Индии исследования лейденского профессора Керна Прежде всего он обратил внимание на астрономические трактаты известного ученого VI века нашей эры Варага-мигира: ,,Brihatsamhita» и ,,Horapastra». Санскритский текст первого из них с предисловием и примечаниями помещен в Bibliotheca Indica в 1865 г. Позднее Керн дал в трудах «Asiatic Royal Society» английоий перевод (1869).
Второй трактат издан в оригинале с комментариями Bhattotpala в Калькуте (1867 г.). Перевод и санскритский текст помещены Керном в «Indische Studien» Вебера (Т. X). Еще ра»ее отрывки в переводе Вебера и оригинальном тексте появились там же (т. II). Предметом первого служит рассуждение о значении и влиянии комет, во втором говорится о составлении гороскопов.
Сочинения эти приобретают особый интерес опять таки в виду несомненного влияния греческой астрологии. Так как, по словам самого Варагамигиры, оба трактата составлены им на основании трудов его предшественников, индусских астрономов, имена которых им тут же перечисляются, является возможность сделать заключение, что Индусы ознакомились с греческой наукой много ранее VI века.
«Хотя греки нечистые», говорит Варага-мигира, «тем ке менее, они достойны уважения за услуги, оказанные ими науке; тем более брамины заслуживают внимания, так как кроме познания в науках, они соединяют в себе еще чистоту души».
Вопрос о степени заимствований Индусами научных знаний Греции принадлежит к числу спорных и пока что, мало выясненных. Еще в 1854 г. Мартэн в своем прекрасном исследовании «Recherches sur la vie et les ouvrages hHeron dAIexandrie» утверждал, что сочинения Геронт были известны Индусам, однако Ганкель определенно отрицал это. Роде в 1878 г. в своем мемуаре «Lalgebre hAlkha-rismi et les methodes indiennes et grecque» (ournal Asiatique) проводит взгляд, что первые сведения в области математики Индусы почерпнули из творений древне - греческих геометров. Известный ориенталист математик Седильо сомневается даже в древности санскритского языка. Факт заимствований налицо, более того, пандиты нередко прибегали к обманам, выдавая чужеземные произведения за продукты оригинального творчества, перелагая их в стихотворную форму и искажая до неузнаваемости. В новейшее время наш соотечественник, проф. Бубнов подверг сомнению подлинность индусского происхождения нуля и принципа поместного значения, выдзигая теорию арифметической самостоятельности европейской культуры. С обеих сторон могут быть увлечения там, где за неимением веских фактических данных, приходится довольствоваться гипотезами, но одно несомненно: наличие фактов заимствования не меняет в целом оригинальной физиономии математической культуры Индусов, по самому духу и складу чуждой традициям эллинской науки. В позднейшее время Греки могли быть учителями Индусов в геометрии, но эта область знания не так привлекала их внимание, что же касается арифметики, а. в особенности алгебры и тригонометрии, то своеобразные методы и приемы индусских ученых и самый характер решаемых ими вопросов исключает всякую мысль
о влиянии греков. Как ни темен вопрос о первых шагах индусской науки, все же нет никаких оснований, так увидим ниже, приписывать их греческой указке. В некоторых случаях вероятней обратное влияние в эпоху, предшествовавшую сформированию греческой геометрии. Индусская культура в конечном итоге древнее эллинской и скорей она обязана влиянию Вавилона задолго до того, как наладились сношения с Грецией.
Мы еще вернемся к этому вопросу по поводу новейших исследований, теперь же обратимся к дальнейшим работам Керна.
В 1874 году он издал санскритский текст трактата «Aryabhathiyam» х), автор которого Ариабгатта (475 — 550) является одним из виднейших древних индусских ученых. Трактат состоит из четырех частей: «небесная гармония» «основы вычисления», «об измерении времени» ;и «о сферах»,написан в обычной для индусов-стихотворной ферме и предназначен для заучивания наизусть при соответствующих комментариях учителя. Автор излагает свои мысли столь лаконически, что только приложенный к тексту обширный комментарий «Bhatadipika», принадлежащий перу индусского ученого Paramadigvara (о последнем Керну не удалооь собрать каких либо сведений) позволяет до некоторой степени вскрыть смысл трактата.
Первая часть и две последние касаются астрономии и тригонометрии, вторая посвящена исключительно математике. Французский ученый Роде в 1879 г. опубликовал перевод второй части с присоединением санскритского текста и объяснительными примечаниями: «Lecons de Calcul dAryabhata» par Leon Rodet (ournal Asiatique, mai-uin, Paris).
Часть эта состоит из 33 правил, изложенных в высшей степени сжато.
l) The Aryabhatiay, vifh commentary Bhatadipika of Paramadifvara, edited by Dr. H. Kern. Leiden 1874 in 4. Еще в 1863 г. он поместил об этсм труде небольшую статью в (ournal of the Asiatic Society, Lnndon. v. XX p.p. 371 — 387.
Анализу сочинения Ариабгатты посвящена статья Роде «Sur la veritable signification de la notation numerique inventfee par Aryabhata» (ournal Asiatique, 1880) автор склонен видеть в некоторых пунктах этого трактата греческое влияние, нэ его соображения по этому поводу не всегда приемлемы.
Например. По его мнению, правило X, дающее приближенное значение 62832 длины окружности для диаметра, равного двум ayatas (2000), т. е. двум греческим «мириадам» — греческого происхождения, так как только греки считали «мирйадами», но Роде упускает из вида, что в древних буддийских книгах встречается деление на « тетрады», т. е. классы, содержащие по четыре разряда.
Отголоски этого мы видим даже в современных монгольских арифметических учебниках, где приводятся специальные названия для 18 классов (тетрад), т. е. до единицы с 72 нулями. По этой системе наше число 1.987.654,321 явится в виде 19.8765.4321, и прочтется: 19 бумтай, 8765 тумэн 4321 единица.
Переходя к древнейшим памятникам «ведической» геометрии, мы должны также констатировать факт независимости первых шагов индусов в этой области от греческого влияния, что установлено трудами Тибо, Бюрка и Шрбдера. Пифагор жил в VI веке до нашей эры, а следы знакомства индусов с теоремой о прямоугольном треугольнике восходят к VIII веку.
В 1875 г. появилась первая работа g. Thibaut «On the Sulvasutras» ournal of th6 Asiafic Sociefy of Bengal, Calcutta, посвященная разбору содержания сборников «Сулва-сутра» (буквально — правила веревки), трактующих о построении жертвенников. В различных школьных руководствах эти правила составляют особую главу «Kalpa-Sutra» или «Qrauta-Sutra», цель которых дать обзор жертвенного ритуала а «Sulva-sutra» содержит правила точного обмера мест, предназначенных для установки жерственников, алтарей и т. д. В журнале Pandit, т. IX Тибо поместил один из таких сборников, составленный по древним источникам Бодхайаной, с английским переводом. Там же (New Series, т. IV поместил он часть другой Сутры, принадлежащей Катиайяне). Наконец, третий сборник Апастамбы опубликован вместе с немецким переводом Бюрком. A. Burk — «Das Apastamba Sulva — Sutra, herausg. tibersetzt urn mit einer Einleitung ver-sehen, z eitschrift der deutsch. Morgenland, gesellschaft, 55 и 56 Leipzig, 1901 — 1902). Этой работой определенно устанавливается приоритет индусов в деле формулировки «знаменитой теоремы». Трудно установить хронологически точно время составления указанных сборников, однако, базируясь на исследованиях известного индолога Бюлера Biihler (Introduction to apastamba), можно считать, что Апастамба жил не ранее IV или V века, а Бодхайяна в VI или VII веке, но следы пользования теоремой Пифагора имеются уже в еще более древних индусских книгах «Taittiriya — Samhita» и «Satapatha — Brahmana». Бюрк определенно высказывается в том смысле, что теорема эта найдена индусами самостоятельно, может быть, путем неоднократной проверки ее применимости к частным видам треугольников. (Einleitung — « fiber Herkunst und Entwieklung der altesten indischen geometric). Здесь уместно упомянуть еще о работе Шрбдера «Pythagoras und die Inder», (Дерпт, 1884 г.) автор которой вместе с Бюрком держится мнения, что индусы владели теоремой задолго до греков, которые узнали о ней через Пифагора. Если последний был, как некоторые полагают, в Индии, то он не только мог, он должен был знать эту теорему.
Приняв во внимание, что с одной стороны пифагорейцы держали в секрете свои знания, с другой, что древние греческие геометры этой эпохи не имели обыкновения отмечать в своих сочинениях заимствования у других авторов, да и самый вопрос о приоритете не имел в их глазах особого значения — мы не должны удивляться тому, что современные индологи считают в общем основы учения пифагорейцев заимствованными у индусов, что древность содержания Сутр восходит, по крайней мере, к 1000 г. до Р. Хр. и что первые познания индусов в геометрии возникли на почве потребностей религиозного культа задолго до пробуждения научных интересов в Греции, что, конечно, не исключает факта обратного влияния в позднейшие эпохи, особенно после похода Александра Македонского в Индию.
В нашем знании о развитии математики в Индии пробелов не мало и начатое в XIX веке должно быть продолжено в XX: нет многих звеньев и нет достаточной связи между известными звеньями 1). Очередная задача, решение которой может быть растянется на добрую сотню лет, подойти ко второму, более точному приближению. В этом отношении кроме оригинальных источников могут оказать помощь и арабские манускрипты, ожидающие своих исследователей в неменьшей степени, как это мы сейчас увидим, переходя к успехам арабоведения
В. Арабы.
В 1812 г. индусский математик Рушен-Али, изучив по рукописным вариантам сочинение арабского математика БеггаЭддин, .Эссенция искуства счисления», издал в Калькутте персидский перевод его с комментариями.
Стрэкей в 1816 г. в Asiatic Researches, т. XII Calcutta, сообщая о жизни и деятельности Бегга Эддина, указывает, что это сочинение служило в то время учебным руководством арифметики и Геометрии в школах Индостана и Персии. Написанное, повидимому, в конце XVI века, т- е. в период упадка Арабской науки, оно не имеет самостоятельного значения, обнаруживая знакомство автора, родом Перса, с индусской и греческой наукой. Но в историческом отношении оно представляет несомненный интерес. Этим объясняется, что известный историк Нессельман издал в
) Вопросу о связи математических культур Индии и Греции посвящена работа М. Кантора «grako indische Studien, (zeitschrift fiir Mathem und Physik, T. XXtl, 1877) в основе которой лежит прочно установившийся, ио далеко ие правильный взгляд, что в Греции по преимуществу культивировалась геометрия, а в Иидии риф-метика.
1843 г. арабский текст с немецким переводом (Beha-Eddins Essenz der Rechenkunst), а в 1846 г. Аристид Марр перевел и комментировал его на французском языке (Nouvelles Annales de Mathematiques. т. V); в 1864 г. оно вышло в Риме вторым изданием: «Kholaqat al Hissab, ou Quintessence du Calcul par Beha-Eddin al Aamouli». Сочинение состоит из 10 глав, посвященных изложению арифметики, геометрии и алгебры, а в заключении приводится семь задач, неразрешимых (кроме последней) в форме, предложенной автором. Так как эти задачи встречаются и у других математиков, то проф. Дженокки взял на себя труд их исследовать в мемуаре «Note analitiche sopra tre scritti inediti di Leonardo Pisano, pubblicati da B. Boncompagni», Roma, 1855 r.
Знаменательным в истории математики фактом является издание в 1831 г. арабского текста с английским переводом Розена «Алгебры» Магомет — бен — музы Альхваризми. The Algebra of Mohammed Ben Musa, arabic and englisch transl. by F. Rosen, London).
Этот арабский ученый жил в конце VIII и первой четверти IX века и, как видно из предисловия, труд его составлен по поручению калифа Аль-Мамуна и представляет элементарное руководство, преследующее чисто практические цели. Это не более, как извлечение из обширных индусских трактатов, касающееся в своей теоретической части решения уравнений первой и второй степени и некоторых геометрических вопросов. Этот последний отдел переведен с английского издания А. Марром «Partie дёо-metrique de lalgebre de Abou - Abdallah Mohammed ben Moussa (Al Khowaresmi) (Nouvelles annales de Mathematiques т. V, 1836). 2-е издание в Annali di matematica pura ed applicata, Т. VII 1865. Сами арабы считают М. первым писателем, излагавшим алгебру на арабском языке. Из этого источника Западная Европа впервые ознакомилась с алгеброй, благодаря Леонарду Пизанскому, хотя в XII веке появились и латинские переводы, напр. Герарда Кремонского.
Впрочем этот перевод не сохранился. Либри в приложениях (Note XII) к первому тому «Histoire des sciences ma-thfematiques en Italie» поместил один из старинных переводов «Liber Maumeti filii Moysi alchoarismi de algebra et alrnu chabala incipit» но в нем отсутствует геометрический отдел.
И Кольбрук в своем известном труде «Brahmegupta and Bhascara Algebra», и Розен в предисловии к своему переводу и много раньше М. Casiri в « Bibllotheca arabico — hispana» (1760 г.) определенно высказываются за индусское влияние. Самое заглавие «Альджебр вапьмукабала» предполагается известным, автор нигде не поясняет этих терминов.
Если Тарталья считает М. изобретателем алгебры и Кардан отводит ему девятое место в ряду двенадцати величайших гениев человечества, то для XVI века подобный взгляд вполне понятен, но он совершенно недопустим с развитием истории науки уже в XVIII веке: достаточно вспомнить иронический отзыв Монтюкла. Ясно, что ал-1 гебра, даже в том виде, как она излагается у М., по выражению Пелетье, относится к числу таких дел, изобретение которых не могло принадлежать одному человеку, что правила, формы и порядок могли выработаться в течение довольно протолжительного промежутка времени путем целого ряда постоянных обсуждений, перерывов в работе мысли, обмена и ассимиляции. В виду всего этого вопрос переносится в другую плоскость: кто был вдохновителем М., т. к. решение этого вопроса весьма важно для истории математики. Послушаем, что говорят специалисты. Шаль, опираясь на сопоставления Розена, буквально высказывается так: «Сочинение М. представляет несомненное сходство с сочинениями Индусов и нисколько не похоже на книгу Диофанта. М. подобно индусам вводит геометрические соображения, чтобы со всей ясностью обнаружить верность алгебраических действий. Роде х), наоборот, полагает что алгебра М.
) L. Rodet, «Lalgebre dAl Khurismi ef les methodes indiecnes et greques» ournal Asiatique Vll serie, т. XI, 1873 г.
написана под влиянием греческих авторов, в частности Диофанта и что его приемы мало напоминают индусские методы. A. Sedillot ученый арабовед и математик, в пятой части (de lastronomie indienne) своих, «Materiaux pour servir histoire сошрагёе des sciences mathfematiques chez les grecs et les orientaux (т. II, 446 — 460) подвергает вопрос о происхождении алгебры тонкому анализу и. скептически настроенный по отношению к индусам, старается показать, что сторонники индусского происхождения этой науки не выставляют веских доказательств в пользу этого. Явно склоняясь в сторону грекор, он не решает однако этого вопроса, так как его аргументы, парирующие доводы Казири, Розена и Кольбрука, тоже не всегда убедительны: во всяком случае, опираться на то, что сочинения Диофанта не дошли до нас полностью, нельзя. Только открытие алгебраического трактата какого нибудь ученого Александрийской школы могло бы решить этот вопрос, на что, впрочем, прибавляет он, трудно надеяться. М. конечно мог быть знаком с сочинениями Диофанта, хотя, как известно, перевод «Арифметики» Диофанта на арабский язык, принадлежащий Абул-Вафа (940 — 998) появился после смерти М. Однако, допуская влияние греческого ученого на «Алгебру» М.), мы не в меньшей мере должны признать и влияние индусское, резко сказывающееся в геометрической части. Нам кажется, что весь этот вопрос следует рассматривать под другим углом зрения. Ни о жизни, Ни о деятельности Диофанта мы ничего не знаем. Нам неизвестно даже, в каком веке он жил. Дошедшие до нас его сочинения носят печать настолько своебразную, многое Представляется в столь развитой форме, что естественно Предполагает или ряд предшественников — греческих ученых, Или индусское влияние. Кантор сторонник первого, а Ган-Кель — второго предположения.
1) Не лишено вероятия, что был более раниий перевод сочинений Диофанта, fno нас не дошедший) сделанный арабским врачем и плодовитым переводчиком Куста иби Лукой (864 — 923).
Допуская исключительные дарования Диофанта, мы не можем согласиться с тем что его «арифметики» со всеми их особенностями вышли как аеина-паллада из головы Зевса. Несомненно, должны быть предшественники, но кто они? Если греки, то, мы никого из них не знаем, хотя П. Таннери полагает, что «арифметики» представляют свод того, что в этой области было сделано другими учеными. Глубокий знаток, Нессельман говорит, что изложить вполне методы и приемы Диофанта — все равно, что переписать его сочинение. Не будем отрицать, что в оригинальности приемов греческого ученого в решении задач сказались его замечательные способности, но все содержание и характер задач, его занимающих — не греческого происхождения: они навеяны далеким Востоком, трудами тех индусских ученых, которые, идя по пути, родственному Диофанту, ушли от него намного вперед. Вопрос пока остается не решенным, но один из ключей к нему, как нам кажется, есть: это «Бахшалийская арифметика», найденная в 1881 г. в северо-западной Индии, с задачами того же типа, как и в сочинении Диофанта. Во всяком случае-это одна из важнейших проблем, от решения которой в том. или ином направлении, зависит коренное перераспределение взаимоотношений между античной и дальневосточной математикой: проблема стоит того, чтобы индологи над ней поработали.
Перейдем теперь к обзору трудов двух французских арабоведов I. I. S?dilIot (отец) и L. Am. S6diIIot (сын).
Перу первого принадлежит перевод с арабского по рукописи 1147 королевской библиотеки трактата,, коллекции начал и концов» Абул Гассана Али из Марокко (XIII век.) об астрономических инструментах арабов. Это посмертный труд, изданный L. Am. Sedlllot в Париже в 1834 — 1835 г. (ТгаКё des Instruments astronomiques des arabes, compost au XIII sifccle par Aboul Hhassan Ali, de Maroc, intitule «Collections des Commencements et des Fins», traduit de Iarabe sur le manuscrit 1147 de la Biblioth6gue royale par feu 1. 1. Sedillot (2 m. in. 4) ).
Помимо важного значения для истории астрономии, это сочинение, представляющее в сущности целый трактат по Гномонике, интересно и для историков математики, так как он вводит нас в круг тех применений, которые арабы съумели извлечь из знакомства с «Коническими сочинениями» Аполлония.
М. Caussin в 1804 г. перевел несколько глав из труда арабского астронома Ибн-Юниса (le livre de la grande table Hakemite, введение и главы IV и V), касающиеся ряда наблюдений до 1007 г., весьма полезных при определении средних движений; восходя к 829 г., они ясно указывают, что часть результатов, приписываемых обычно Альбаттани, была известна арабским астрономам — его предшественникам.
I. 1. Sedillot, глубокий арабовед, желая проникнуть в сущность методов, практиковавшихся арабскими учеными, предпринял целый ряд исследований, краткий отчет о которых дает сын его в первом томеьсвоего капитального труда (о нем речь будет ниже).
Во первых, он пополнил перевод Ибн-Юниса по рукописи Лейденской библиотеки «Historia coelestis», содержащей кроме описания наблюдений (затмения, солнцестояния, равноденствия) много указаний на самые способы и приемы. Седильо нашел в сочинении Инб-Шатира двадцать восемь новых глав, принадлежащих перу Ибн-Юниса, весьма ценных для истории тригонометрии. В западной Европе только в первой половине XVIII века могли достичь того успеха в смысле тонкости тригонометрических вычислений, какого достиг Ибн-Юнис и его современники. Они оперировали с тангенсами и секансами и распологали таблицами тангенсов и котангенсов для первого квадранта, пользуясь ими ничуть не хуже современных калькуляторов. И благодаря тому, что в западной Европе не были знакомы с этим трудом, Ре-1 гиомонтана возводили на пьедестал, хотя он ни в чем не опередил Ибн-Юниса. Обе работы И. Седильо были использованы Деламбром в его истории астрономии средних веков. Если принять во внимание, как скудны и отрывочны были сведения об успехах арабов в области точного знания, то заполнение только что указанных пробелов является, вне всякого сомнения, крупным вкладом в науку.
Младший Седильо, идя по следам отца, также посвятил всю жизнь изысканиям в этой области и, можно сказать, даже превзошел его. Часть его мемуаров имеет большое значение для истории астрономии, но еще более ценны его фундаментальные исследования по сравнительной истории развития математических знаний у Восточных народов и Греков. К числу первых относятся: «Lettres sur quelques points de Iastronomie orientale» 1834, «Nouvelles recherches pour servir к lhistoire de Iastronomie chez les arabes et Notes, relatives к la decouverte de la variation par Aboul-Wefa de Bagdad (1836-1845), Tables astronomiques doloug-Beg, 1839. Ко вторым относятся следующие три работы: «Отчет о трактате о геометрических известных Гассана Бен-Гайтем», 1835., «Новые разыскания по предмету истории математических наук у Восточных народов» (Recherches nouvelles pour servir a lhistoire des sciences mathdmatiques chez les Orientaux, Paris, 1837). Это отчет о статьях, ) составляющих содержание арабского манускрипта (1104 королевской библиотеки) по алгебре, геометрии и сферической тригонометрии. Наконец, сочинение, доставившее славу автору, образец исторических исследований — двухтомные «материалы по предмету сравнительной истории математических наук у Греков и Восточных народов» (Materiaux pour servir к Ihistoire comparee des s ciences math6matiques chez les grecs et les orientaux, par L. A-Sedillot, Paris, 1845 — 1849). Первый том касается греческой и арабской астрономии, астрономических инструментов Греков и Арабов и математики у Арабов, второй посвящен индусской и китайской астрономии и обзору географических систем Греков и Арабов.
«Теперь, благодаря настойчивым усилиям», говорит Седильо, «арабы заняли в истории математических наук место, им принадлежащее; приходится признать, что они своими трудами заполнили бездну нескольких веков, которая казалось брошенной навсегда между александрийской школой и новейшей.
«Космос» Гумбольдта, прибавляет он, «дает беспристрастную картину услуг, оказанных арабами цивилизации и дает в тоже время почувствовать, чего можно ждать в дальнейшем от искусно направленных изысканий». Характерно, что арабовед по преимуществу, Седильо очень высоко ставит арабскую науку и в то же время у него не раз сквозит определенное недоверие к творческим силам индусов и он пытается везде, где можно, опираясь на факты с одной стороны и на недостаточную аргументацию индологов с другой, показать, что во многом Индусы обязаны своему знакомству с греческой наукой. Большинство индологов, наоборот, склонно приписывать индусскому влиянию многие явления в истории развития математической мысли у Греков.
Этот, вполне впрочем понятный, антагонизм возник и развивается на почве тех пробелов, порой ьесьма существенных, которые мешают спаять в одно целое комплекс уже известных нам звеньев. Связь между античной и Восточной наукой несомненна, питались они весьма вероятно на первых порах из общего источника, но различие территориальных и исторических условий, различие в национальных особенностях духа, различие направления творчества повело индусов и греков разными путями и, конечно, надо быть слишком хладнокровным, сказал бы я, чтобы при наличии фактов обмена и ассимиляции с несомненностью установленных, не увлекаться в ту, или инук сторону.
Что касается Арабов, Седильо, на основании ряда изученных им рукописей, приходит к определенному заключению, что, овладев греческой наукой, они не преминули ее развить и усовершенствовать, прибавив много нового к теориям их предшественников. В геометрии они сосредоточили свое внимание на вопросах более высокого порядка, приложив к ней алгебру, они первые занялись решением уравнений третьей степени и, наконец, достигли высокого искусства в тригонометрических вычислениях. В вышеупомянутом главном труде Седильо особенно интересна статья о математике у Арабов, где он подвергает анализу анонимную рукопись (1104, королевской библиотеки) с геометрическим решением кубичных уравнений, затем знакомит с содержанием трактата. Гассан-бен-Гайтема, в котором он видит зачатки идей, легших в новейшее время в основу «геометрии положения»1), дальше он разбирает сочинения Аль-Синжари «Ответ на вопросы, заданные по поводу предложений из книги Архимеда «Леммы», маленький трактат, содержащий одиннадцать геометрических предложений» и трактат «о линиях, проведенных в данных окружностях через данные точки. Конец статьи по священ работе Аль-Изферледи о предложениях, относящихся к 14-й книге «Начал» Эвклида и заметке по предмету сферической тригонометрии, приписываемой Абул-Валиду, в котором Седильо склонен видеть Ибн-Рошда (Аверроеса).
В своем месте мы еще вернемся к перечисленным трактатам и ознакомимся в общих чертах с их содержанием.
Перейдем теперь к четвертому знаменитому ориенталисту . и математику Frangois Woepke (182о — 1864) неутомимому исследователю, многие сочинения которого, к сожалению, до настоящего времени не опубликованы. Часть осталась в рукописях, а часть рассеяна по различным периодическим изданиям.
1) Шаль, впрочем, это оспаривает.
Во первых, наука обязана ему переводом сочинения замечательного арабского математика Омара-бен-Ибрагим Апкгайами «сб алгебраических доказательствах», мемуара, посвященного изложению теории геометрического решения уравнений третьей степени. Заслуживает внимания то обстоятельство, что автор, живший во второй половине XI века, считал своим долгом снабдить свой труд историческим обзором, тем более ценным, что он начинает с указания на неудачные попытки Алмагани, вызвавшие поиски решения в другом направлении, которые и привели к первому удовлетворительному построению при помощи конических сечений, данному Абул-Алгозейном. Различные частные случаи были предметом изысканий математиков позднейшего времени и это обстоятельство побудило автора к составлению систематического труда, обнимающего всевозможные случаи. Методы арабского геометра были опубликованы Ебпке в статье «Nctice sur un manuscrit arabe dun traitfe dalgebre par Aboul Fath Omar Ben Ibrahim Alkhay- mi, contenant la construction g6ometrique des Equations cubiques» (1850 r.) ), в следующем же годуон издал и самый манускрипт «Lalgfebre dOmar Alkhayami, publifee, traduite et ассотрадпёе dextraits de manuscrits inddits. Paris. 18ol.
Появление в свет этого труда было фактом знаменательным в истории развития математики у Арабов, подтверждавшим вышеуказанное мнение Седильо о талантах арабских геометров.
Еще в 1742 г. Герард Меерманн в своем «Specimen calculis fluxionalis» (Leiden) говорил о хранящейся в Лей-де-ской библиотеке рукописи Алкгайами, но он впал в ошибку, повторенную Монтюкла и GartzeM (последним в его «De interpretibus et explanatoribus Euclidis arabicis», 1823. Они полагали, что предметом содержания этой рукописи было алгебраическое решение кубичных уравнений. Между тем, Седильо, как мы только что видели, в статье «о математике у Арабов» приводит анонимную рукопись с геометрическим решением этих уравнений (рукопись Me 1104), Седильо не знал тогда, что это отрывок «алгебры» Алк-гайами. Полный экземпляр Лейденской библиотеки озаглавлен «Algebra cubica, seu de problematum solidorum resolutione». Заглавие дало повод к ошибке Монтюкла. Шаль, осведомленный о находке Седильо, но тоже не подозревавший еще о том, кому принадлежит отрывок, писал однако: «Ничто не дает нам права думать, что Арабам было известно алгебраическое решение уравнений третьей степени, т. е. выражение их корней. Напротив, заглавия рукописей Лейденской и Парижской королевской библиотеки указывают, кажется, на то, что вопрос состоял в геометрическом построении корней посредством телесных мест (конических сечений).
Чутье историка не обмануло Шаля, как мы видим. Либри, о котором мы не раз упоминали, нашел тем временем в той же Парижской библиотеке полный экземпляр сочинения Алкгайами, после чего выяснилось и происхождение отрывка рукописи N° 1104. Что касается Лейденского экземпляра, тоже полного, то он представляет копию с арабского оригинала, привезенного с Востока знаменитым ориенталистом Голиусом в Голландию под условием вернуть манускрипт владельцу по снятии копии. Вот этими то тремя рукописями и воспользовался Вбпке при переводе «Алгебры» Алкгайами. Труд этот — ценный вклад в историческую науку и это опять таки предвидел Шаль, когда по поводу отрывка, найденного Седильо, еще не зная о его содержании, он определенно заявил, что перевод этого отрывка будет важнейшим памятником для истории математики у Арабов.
Одной из важных работ Вбпке является издание части трактата арабского математика XI века Алкарги. «Extrait du Fakhri, traits dalgebre par Abou ekr Mohammed ben Alhaqon Alkarkhi (Manuscrit 952, supplement arabe, de la bibliotheque imperiale), pr6c6d? dun mbmoire sur lalgebre ind6termin6e chez les arabes. Paris. 1853.
«Аль-Факри» представляет обстоятельный алгебраический трактат, свидетельствующий о знакомстве автора с сочинениями Диофанта. Вбпке прежде всего выяснил путем сличения, что Леонард Пизанский в своем «Liber abaci очень многое заимствовал у Алкарги. Из того же источника черпал он материал для своего трактата «О квадратных числах», на что опять таки указал Вбпке в своем «Note sur le traits des nombres carr6s, de Leonard de Pise, retrouv6 et publi6 par B. Boncompagni» (1885 г.). Что касается заимствований Алкарги у Диофанта, то они все отмечены Ебпке (введение к «аль-факри ), задавшимся целью проследить, в какой мере в это время сказывалось на успехах арабской науки индусское влияние с одной стороны и греческое — с другой. Между прочим у Алкарги приводится ряд задач на неопределенный анализ, часть которых сводится к уравнениям высших степеней. Сравнивая их с приемами решения неопределенных уравнений Брамегупты Вбпке приходит к заключению, что указанный тип задач чисто арабского происхождения. Н , несомненно, что арабский математик был одинаково хорошо знаком и с греческой наукой, о чем свидетельствуют его постоянные ссылки на Эвклида и Диофанта, и с приемами индусских ученых. Напр, геометрическое доказательство суммирования кубов чиъл натурального ряда явно носит следы индусского влияния, что, между прочим, было отмечено Никелем. Характерно еще и то обстоятельство, подчеркнутое Вбпке, что Диофант, как известно, пользуется только одним неизвестным, между тем как Алкарги сознательно вводит для двух неизвестных различные термины, аналогично тому, как мы обозначили бы их через л: и у. В то же BpevH мы знаем, что Индусы свободно вводили в свои задачи многие неизвестные.
Третьей работой Ебпке, заслуживающей внимания, является обширный мемуар, помещенный в 1885 году в ournal Asiatique Cinquibme Serie, Т. V «Recherches Sur lhistoire des sciences mathematiques cher les Orientaux, dapres des traites infedits arabes et persans. Analyse et extrait dun recueil de constructions gfcometriques par Abobl Wafa». Абул-Вафа — видный арабский математик, астроном и переводчик. Его трактат «о геометрических построениях», к сожалению, дошел до нас в отрывках, с содержанием которых Вбпке и знакомит в указанном мемуаре. И здесь мы встречаем:я со смешанным влиянием Греков и Индусов, с яв шм преобладанием последних. Но справедливость требует заметить, что Абул-Еафа искуссный математик и данные им решения многих вопросов отличаются оригинальностью, а иногда и изяществом. И опять выясняется, что в геометрическом трактате Леонарда Пизанского имеется ряд заимствований у арабского автора. Между прочим, Абул-Вафа дает ряд построений при псмощи линейки и одного раствора циркуля, вопрос, около которого, начиная с работ Mascheroni (1797 г.) создалась целая литература и по свидетельству Паппуса этот род задач был известен уже Грекам. Но Ебпке склонен думать, что итальянские математики (Еенедетти, Кардан, Тарталья) впервые культивировавшие эти задачи в западно-европейской науке, ознакомились с ними по арабским манускриптам. В другом своем мемуаре Вбпке возвращается к трудам Абул-Вафы по вопр су, имеющему для истории математики большое значение. (ournal Asiatique, Т. XV, 1860. «Sur une mesure de la circonference du cercle, due aux astronomes arabes, et fond6e sur un calcul dAboul-
Waf&»). Дело идет об отыскании значения У Апькваригми мы уже встречаемся с двумя значениями явно заимствованными у Индусов, но б=з знания приемов, которыми эти значения получены. По мнению Вбпке Абул-Вафа предпринял самостоятельное исследование этого в проса, вписывая в круг пр .вильный многоугольник, имеющий 720 сторон. Он находит значение = 3,14156815 точное
до четвертого десятичного знака, причем погрешность в десять р з меньше погрешности Архимедова приближения.
Следующей работой Вбпке является перевод арифметического трактата арабского математика Алкалсади (XV век),
(дошедшего до нас в трех рукописных вариантах) Traduction du traits darithmetique dAboul Haqan Ali ben moham-med Alkalqadi, Rome 1859. Еще раньше (в 185 i г.) в ournal Asiatique Т. IV. «Notice sur des notations algebriques, employees par les arabes» Вбпке ознакомил с символическими обозначениями Алькальсади. Самый трактат называется «поднятие завесы с науки «Гобар»«. Последним термином обозначается система нумерации, вошедшая в употребление у Арабов Кордовского халифата. Буквальный перевод — «цифры Гобар» — «пыльные цифры». Вбпке высказал предположение, потом подтвердившееся, что термин этот ведет свое начало от вычислении, производившихся на доске, посыпанной песком. Действительно, уже после смерти Ебпке Марр издал сделанный им перевод маленького арифметического трактата, касающегося того же вопроса. (Introduction au calcul gobari et Hawai, traits darithmetique traduit de 1arabe par Woepcke et preced6 dune notice de M. A. Marre Sur un manuscrit, possdde par M. Chasles». 1866 г.). Выяснилось, что этот способ практиковался Индусами и от них перешел к западным Арабам.
Что касается трактата Алькальсади, то он в равной мере относится по своему содержанию и к арифметике, и к алгебре и заслуживает особого внимания в виду того, что мы встречаемся здесь с определенно развитой символикой, свидетельствующей о том, что в это время вырабатывалось сознательное стремление заменить несовершенные приемы реторической алгебры, если не в целях экономии мысли, то в интересах удобства обозрения получаемых результатов.
Много труда положил Вбпке на решение спорного вопроса о происхождении и распространении наших цифр (см. его мемуары «Sur introduction de larithm6tique indienne en Occident et sur deux documents importants, publics par B. Boncompagni», 1859 и «M6moire sur la propagation des chiffres indiens», Paris, 1863). Хотя гипотеза, развитая Вбпке в последнем мемуаре не устраняет всех неясностей, но его блестящий анализ столько же остроумен, сколько правдоподобен и свидетельствует об огромной эрудиции и уменьи пользоваться историческими данными. Здесь уместно вспомнить слова Зигмунда Гюнтера по поводу споров и разногласий, вызванных этой темой. «Розыскивая материалы, — говорит он, — ученые должны были близко рассмотреть условия умственной, коммерческой и политической жизни Индусов. Александрийских Греков, Римлян и в особенности Восточных и Западных Арабов. Это прекрасный пример того, как вопросы, относящиеся к истории математики, могут дать сильное побуждение к изучению истории цивилизации и с своей стороны бросить новый свет на эту йсторию».
В своем месте мы ознакомимся с фактическими данными. на которых основывает свои выводы Вбпке. Мы особенно подробно остановились на рассмотрении трудов этого замечательного и еще недостаточно оцененного исследователя в виду исключительной ценности сделанных им научных вкладов. Детальный разбор их должен составить предмет специальной монографии, но и вышеприведенный беглый обзор его деятельности показывает нам всю важность тех исторических материалов, которыми Вбпке обогатил европейскую науку, распоряжаясь ими с неподражаемым мастерством в целях извлечения соответствующих выводов.
Мы не раз упоминали имя французского ученого Аристида Марра. Неутомимый Вбпке при всей своей трудоспособности не успел за свою недолгую жизнь выполнить многого из того, что было им намечено к переводу и обработке. После его смерти осталась собственноручно списанная им копия интересного манускрипта, хранящегося в Оксфордской библиотеке. Это трактат по арифметике и алгебре знаменитого арабского математика и астронома XIII века, профессора в Марокко, Абул Ибн-Альбанна. Марр в 1864 г. перевел это сочинение, первоначально помещенное в журнале «Atti dellAccademia Pontificia de Nuovi Lincei», Т. XVII. Позднее годом оно было издано в Риме «Le Talkhys dlbn Albanna, publi6 et tradult par. A. Marre. Извлечения с комментариями переводчика были помещены в том же году в «ournal de Math6matiques pures et appliqudes»1). Трактат называется «Сокращенный разбор действий счисления» (Talkhys amali al hissab). Комментарии к нему написаны упомянутым раньше арабским математиком Алкалсади. Приемы Ибн Альбанны пользовались большой известностью и излагаются во многих трактатах, между прочим и у Бега-Эддина, о котором речь шла выше. Главный интерес трактата сосредоточен на изложении метода «чашки весов», известного в западно-европейской науке под именем «regula falsi», правила ложного положения. У Арабов впервые он встречается в сочинениях Авраама-Ибн Езры (il30 г.) (см. Libri, Histoire des sciences mathematiques, Т. 1. там воспроизводится рукопись сочинения «Liber augmenti et diminutionis vocatus numeratio divinationis, ex eo quod sapientes ndi posuerunt»), но правило это встречается, как средство решения уравнений и в Бахшалийской арифметике и в египетских папирусах. Сущность метода заключается в определении неизвестного в уравнении при помощи геометрической пропорции и объяснение его в современной нам символической форме дано Маттисеном («Grundziige der Antiken und Modernen Algebra der litteralen Gleichungen», Leipzig, 1878).
Правило дается арабскими математиками эмпирически без доказательств, но они обособляют его от обычного приема решений уровнения «альджебр — альмокабала» и при том пользуются своеобразной геометрической схемой решения, происхождение которой пока не выяснено.
Мы уже говорили об алгебраическом трактате Алкарги. В 1878 г. в Halle Адольф Хохгейм издал другое сочинение Алкарги «Необходимое об арифметике», обработанное по рукописи (Kafi fil His&b, (geniigendes fiber Arifhmetik des Abu Bekr Muhammed Ben Alhusein Alkarkhi nach der auf der
l) Перевод этой статьи иа русском языке напечатан во II томе «Математического Сборника, издаваемого Московским Математическим Обществом.
Herzoglich gothaischen Schloss bibliothek befindlichen Hands-chrift bearbeitet von D-r A. Hochheim, Halle).
«Кафи — фил — Гисаб», несмотря на заглавие, содержит кроме арифметики много геометрического материала, а в конце переходит к алгебре. Пэ словам автора цель сочинения служить путеводителем в искустве счисления. Трактат обнаруживает большую начитанность в греческих классиках и комментаторах, начиная с Эвклида, Архимеда и Аполония и кончая Никомахом, Паппусом и Евтокием. Индусское влияние значительно ослаблено. Разностороннее содержание трактата и пелый ряд интересных задач делает эту книгу особенно ценной потому, что она дает вместе с ее естественным продолжением «Аль — факри» довольна полную картину состояния математических знаний у Арабов XI века и в этом отношении работу Хохгейма следует признать серьезным вкладом в науку.
Большое значение имеют труды Максимилиана Куртце, глубокого специалиста по исследованию математических рукописей средневековья вообще и арабов в частности. Именно ему мы обязаны знакомством с колективным трактатом по Геометрии трех братьев Магомета, Газена и Гамета. Отрывок его находится в рукописном сборнике Торн-ской библиотеки. Этот сборник был предметом исследования Курце «Ueber die Handschrift R. 4°. 2. Problematum Euclidis explicatio der K6nigl. gymnasial bibliothek zu Thorn. 1868 r.
Арабский оригинал до нас не дошел, но нам известны два манускрипта на латинском языке,) воспроизводящие этот трактат. Один хранится в библиотеке Базельской Академии (под заглавием «Liber trium fratrum de geometria. Другой включен в рукописный сборник латинских переводов с арабского «Mathematica (Supplement latin, n° 49, in folio) в Парижской Национальной библиотеке. Куртце исследовал Базельскую рукопись и в 1885 г. издал с историческим введением и коментариями «Liber trium fratrum de geometria. Verba filiorum Moysi, filii Sekir, id est Maumeti, Hameti et Hasen, nach d. Codex Basil, hrsg. v. M. Curtze. Halle».
Это первое арабское сочинение (IX век), в котором встречается выражение площади треугольника в функции его сторон, причем геометрическое доказательство отлично от данного Героном Александрийским.
Формула эта, как известно, имеется у Брамегупты (§ 21, отдел IV арифметики). В арабском трактате она применяется к треугольнику со сторонами 13, 14, 15, как у Герона и Брамегупты. Авторы сами говорят, что формула эта без доказательства встречается у многих писателей. Трудно установить, чье влияние сказалось в этом случае. С одной стороны, буквы для обозначения вершин фигуры те же самые и расположены в том же порядке, как у Герона. С другой, несомненно, чтэ арабские авторы черпали многое из индусских источников (Casiri, Bibliotheca Arabico — Hispana Escurialensis). Шаль в своей «Истории Геометрии», подвергая сочинения Брамегупты подробному разбору, определенно высказывается в том смысле, что предложение это получено Индусами независимо от Греков и в доказательство этого приводит то соображение, что Брамегупта дает формулу более общую для четыреуголь-ника, по отношению к которой рассматриваемая формула является не более как частным случаем. Комментатор Брамегупты Шатурведа прямо говорит, что это последнее предложение включается в общее. Действительно, достаточно принять четвертую сторону равной нулю. Ганкель также держится того мнения, что предложение о треугольнике Индусы нашли самостоятельным путем, исходя из алгебраических соображений.
В сборнике Торнской библиотеки, изданной Куртце, заслуживает внимания маленький трактат «о весах» известного арабского переводчика и комментатора Табитт Ибн Корра: «Carastonis liber editus a Thebith filio Thore». Латинский перевод этого сочинения дан Герардом Кремонским.
Оно представляет интерес, как один из немногих известных нам арабских трактатов по механике.
Говоря о вкладах, сделанных в XIX веке в истерию развития математики у Арабов, нельзя обойти молчанием трудов, имеющих значении для историографии. В этом отношении очень ценны: во первых обширное исследование Рено M6moire gdographique, historique et scientifique sur llnde an terieurement au milieu du XI Steele de Гёге chretienne, daprfes les fecrivains arabes, persans ef chinois», Paris, 1849, где помещены отрывки из единственного дошедшего до нас сочинения знаменитого арабского путешественника и писателя Албируни, посвященного описанию состояния научных знаний у Индусов в эпоху завоевания Арабами Индостана. Во вторых, специально посвященный этой теме мемуар Бон-компани «Intorno all opera dAlbiruni sull India» (т. II Bul-letino di bibl. e di storia delle scienze matematiche e fisiche, 1869 г.). Сочинение Альбируни, кажется, единственное в арабской литературе, относящееся к истории математики (написано в 1031 г.) и притом написанное не арабом, так как Альбируни (правильнее Абу — р — рейхан Бируни) родом из Хорезма. Труд его приобретает особое значение в виду того, что Альбируни изучал произведения Индусов по санскритским подлинникам и отличается широтой взглядов и научным беспристрастием. Язык автора крайне труден для понимания и поэтому его сочинения, по его собственному признанию, предназначавшиеся для ученых, пользовались среди последних большим уважением. Он был знатоком греческой науки и, живя в Индостане, перевел на санскритский язык часть «Начал» Эвклида и .Альмагеста» Птолемея. При этом Альбируни сообщает, что пандиты перелагали эти переводы в стихи, искажая их крайне туманными формами выражения до неузнаваемости.
Нам остается указать на работы библиографического характера, которые могут служить средством ориентировки в предстоящих исследованиях арабской науки. В этом отношении, как мы уже указывали, остается сделать очень многое. XIX веку принадлежит почин и от усердия арабо-ведов зависит приумножение накопленных материалов.
Прежде всего подлежат изучению «биографические словари, род литературы излюбленный арабами и содержащий ценные справочные сведения для дальнейших специальных изысканий и розысков по европейским и азиатским книгохранилищам. В зависимости от принципа, положенного в основу распределения материала, они называются весьма различно. Напр. «Китаб-аль-ансаб (расположен по генеологическим прозвищам) словарь уроженца Мерва Са-мания, или «Вафайат аль айан» (вафайат — некролог) Ибн-Халликяна. Затем алфавитные словари «можям», из которых особенно важен словарь ученых людей Якута. Наконец, «табакаты» (своды по разрядам). Сюда относится «табакат аль хбкама философов и ученых Аль-Кыфтыя.
Из числа в тесном смысле библиографических трудов особого внимания заслуживает «Фихрист» (указатель) На-дима Багдадского.
Известный историк математики Генрих Зутер, о деятельности которого речь будет впереди, в 1892 году опубликовал очень ценную для истории науки работу в приложении к «Historisch — literarische Abtheilung der Zeitschrift fiir Mathem. und Physik под заглавием «Список математиков в «Фихрист», составленном Ибн-Аби Якуб-ан-Надимом, в первый раз вполне переведенный на немецкий язык и снабженный примечаниями». (Das Mathematiker — Verzeichniss im Fihrist des Ibn Abi akub an Nadim).
Книга «Китаб-аль Фихрист» написана около 988 г. арабским писателем Абул-Фарадж-Мухаммед ибн Исгак к буквальный перевод заглавия «Книга указаний». Она содержит ряд кратких биографий и заметок библиографического характера, касающихся трудов представителей науки Вавилона, Индии, Персии, Греции и Арабов. 2-я часть 7-го отдела этой книги касается математиков, астрономов и механиков. В 1871 — 72 г. Густав Флюгель предпринял полное издание этого важного исторического памятника, доконченное за его
смеотью Родигером и А. Мюллером (Лейпциг, 2 тома)Л Часть, посвященную деятельности ученых в области точного . знания, Зутер и перевел с арабского языка на немецкий, чтобы облегчить знакомство историкам с этой интересной книгой.
Заслуживает еще внимания статья Зутера, помещенная в 1894 г. в «Bibliotheca Mathematical «Zur geschichte der Trigonometrie». В 1892 г. в Константинополе опубликована рукопись, хранящаяся в библиотеке великого визиря Эдхема-паши. К арабскому тексту присоединен французский перевод «Trait? du quadrilatfere, attribu? a Nassiruddin el Toussy» паши Александра Каратеодори. В виду большого значения этой рукописи в тем же году она стала предметом внимания Карра де Во (ournal Asiatique) и П. Таннери (Bulletin des sciences mathematiques). В этом сочинении известный арабский ученый Нассир-ЭддинТуси, родом Перс (1201 — 127ч) впервые дает полное изложение плоской и сферической тригонометрии, причем плоская рассматривается опять таки в первый раз независимо от метода Птолемея, исключительно с помощью функций синуса и косинуса.
Мы уже говорили о работах в этом направлении арабского астронома Ибн-Юниса. Приходится признать, что в этой области на долю западно-европейских ученых не оставалось ничего. Обе тригонометрии были разработаны Арабами в такой форме, что остается пожалеть о слишком запоздалом знакомстве Европы с этими выдающимися трудами Сколько сил и времени было бы сбережено для исследований в других направлениях
Из Европейских справочников мы должны указать на не потерявшее до сего времени значения двухтомное сочинение М. Casiri. Bibliotheca arabico-hispana escv-rialensis slve librorum omnium mss. quos arabice compositos bibl. escurialensis complee-titur. recensio et explanation Мадрид. 1760 — 1761. Все, касающееся обзора арабской математической литературы содержится в первом томе. Казири дал подробный каталог математических рукописей библиотеки Эскуриала.
Известный ориенталист DHerbelot в своей Bibliotheque Orientale (1697) отводит видное место математической литературе Арабов. При словах «Ketab» (трактат и «Gebr» (алгебра) приводятся названия многочисленных оригинальных и переводных сочинений (преимущественно с санскритского) по всем отделам математики. При слове «Е1т» (наука) читаем «Не подлежит сомнению, что Арабы со времени основання халифата имели глубокое уважение к искусствам и наукам, так как они еревели на свой язык все лучшие греческие, евгейские, халдейские и индусские книги». Из переводных арабских справочников мы на стр. 139 упоминали семитом-яый труд Fliigela: Lexicon bibliographicum et encycl. paedicum a Mustafa ben Abdallah, Katib Itlebi dicto et nomine Hasi К half a celebrata conpositum (183 — 1838 Лейпциг.
Наконец указания на научную литературу Арабов по математике и ас рономин имеются в III, IV V, VI и VII т мах семитомного сочинения Hammer-Purg tall «Lite-raturgeschichte der Araber. V. n. ihrem Beginne bis zu Ende des zwolften fahrhunderts der Hidschret». Вена. 1850 — 56. Впрочем, пользование этим последним справочником затрудняется вследствие хаотичности и спутанности материала, с которым автор не съумел справиться. По отзыву проф. Крымского, это механическое награмождение арабских табакатов в сыром виде на немецком языке.
Весьма полезная монография Вюстенфельда «Die Academien der Araber und ihre I ehrer» Гёттинген, 1837. Ему же принадлежит обзор переводной литературы «Die Uebersetzungen aiabischer Werke in das Lateinische seit dem XI lahr hundert. (Гёттинген 1877). О переводах гречегкой литературы на арабский язь:к% существует дельнаа книга: Wenrich .De auctorum Craecorum versionibus et commentariis Suriacis, Arabicfs, Armeniacis Persicisque». Leipzig. 1842.
С. Китайцы.
Известный синолог Сен-Жюльен говорил, что он охотней переведет десяток страниц китайских классиксв, чем несколько строк об их астрономии. Наиболее выдающиеся знатоки китайского языка Иакинф Бичурин, Аввакум Чеснов, Палладий Кафаров, Еасильев, Захаров, Ремюза, Клапрот, Сен-Жюльен, Моррисон, Эдкинс и Вильямс не написали ни слева ни о математике, ни об астрономии Китайцев.
Объясняется это, главным образом, тем, что сочинения, трактующие о точных науках, написаны специальным слогом, с крайне своеобразной терминологией, с тесриями, лишенными всякого смысла, с доказательствами, которые граничат с наивностью, так что не только иностранец, хорошо знакомый с особенностями китайского языка, но нередко и природный Китаец отказывается понять, о чем идет речь.
Китайцы никогда не улавлив ли того, что на Западе и переднем Еостоке постепенно способствовало формированию науки. У них развита способность наблюдения, они могут разобраться в деталях явления, но синтезировать, обобщать они не умеют и с удивительным уп рством, достойным лучшей участи, держатся заведомо ложных возрений, хотя наблюдаемые явления, казалось бы, могли побудить их к исправлению предвзятых представлений.
Знаменитый Ремюза говорит, что мы удивляемся их изобретениям, но мы не обязаны им ни одним глубоким взглядом на связь и ближайшие причины явлений. Они преисполнены уважения ко всему, что составляет содержание древнейших летописей и памятников классической литературы, где факты тесно переплетаются с баснословными преданиями и если в области истории им недостает критики, то в сфере точного знания, по справедливому замечанию Леона де Рони, им «недостает правильного метода». Вместо того, чтобы эволюционировать, итти вперед, они движутся по кругу.
Китаец по природе своей слишком консервативен, что вытекает из его национальной ограниченности. Каждая география, или история, написанная Китайцем, есть неизменно география, или история Китая. Со всем тем, они держатся очень высокого мнения о своей науке и готовы серьезно уверять, опираясь на древность своей культуры, что другие народы заимствовали от них начала всех наук. Установился взгляд, что Китайцы замкнуты, отчужденны, недоверчивы по отношению к Европейцам. Если это и верно, то только по отношению к позднейшим периодам существования Срединного царства. Было вгемя оживленных сношений Китая с отдаленными странами: Туркестан, начиная от Кашгара до Ха ула со II века до Р. Хр. был естественной дорогой из Персии, Рима, Византии и Арабского халифата в Китай. И в той части развития точного знания у китайцев, которая зависела от этих сношений, мы находим следы иноземного влияния. Но если Индусы, народ, стоявший неизмеримо выше в культурном отношении, воспринимая элементы чужеземной науки, нередко отливал их в оригинальные и подчас малопонятные формы, то нужно ли удивляться тому, что Китайцы, хотя бы в области астрономии здоровое зерно истинного знания заключали в угоду исторически сложившимся традициям и выработанным фор-
мам научных сочинений в туманную оболочку отвлеченных философских рассуждений, берущих начало от мудрецов, не имевших ни малейшего понятия об астрономии.
И чаще всего происходило так, что, опираясь на темные изречения древности, философы предписывали законы движению небесных Светил, сбивая с толку и настоящих астрономов, которые прежде всего были «китайцами», далекими от возможности скептически отнестись к заповедной мудрости предков.
В итоге, по словам Fr6ret «Китайцы с давных пор были знакомы с элементами большей части умозрительных наук, но они мало заботились о том, чтобы довести свои знания до надлежащей степени совершенства. И было необходимо, чтобы время от времени, являлись чужеземцы, поучавшие, к каким выводам можно притти из внимательного изучения этих элементов».)
Первые обстоятельные сведения о Китае дал, как известно, путешественнык Марко По о, родом из Венеции, издавший описание своих странствований по Востоку на французском языке в 1298 году. (Из иностранных изданй лучшее вышло в 1827 году в Флоренции « Marco Polo, И milione, pubblicato е illustrato dal Baldelli, 2 vol in 4, на русском языке заслуживает внимания, как безупречное в научном отношении, издание: Минаев, U — « Путешествие Марко Поло в Китай. Перевод со старо французского текста, под ред. проф. СПБ. Университет# В. Бартольда, с многочисленными комментариями, (записки Русского Географического Общества по этнографии, т. XXVI).
Сочинение это, как и следовало ожидать, в свое время было встречено общим недоверием, несмотря на то, что оно было составлено с редкой добросовестностью. Тем не менее, интерес к изучению внутренней жизни китайцев, их политического строя, религии и научных знаний проявился только в конце XVI века, когда завязались сношения с Китаем при посредстве католических миссионеров, среди которых было не мало ученых иезуитов.
Надо признать, что попытки распространения хр сти-анства в Небесной Империи большим успехом не увенчались, но Китайцы извлекли не малые выгоды для себя из пребывания образованных европейцев, часть которых вошла в состав Пекинского математического трибунала в коммиссию по исправлению календаря, регулирующего все стороны государственной жизни Китая. Миссионеры, живя в Китае десятки лет, устели настолько основательно ознакомиться с языком и письменностью, что не только переводили их астрономические трактаты на латинский язык, но и сами писали по китаиски, так, первый из прибыЕших в 1583 г. в Пекин иезуитов Риччи (Matteo Ricci) составил руководство по арифметике и перевел на китайский язык первые шесть книг «Начал4 Эвклида. (1608 г.), причем в предисловии он указывает на более ранние переводы с арабского, предпринятые по приказу первого правителя Минской династии Чжу-юань-чжан, (XIV век) отличавшегося заботами о восстановлении просвещения, (пришедшего в упадок при владычестве Монголов) и особенно покровительствовавшего Хань-линской академии ученых.
Пораженный наивными представлениями Китайцев и имея достаточно такта, чтобы не оскорбить их национальную гордость, Риччи составил описание земного шара и специальную карту Европы, о чем упоминается в Китайской истории, повествующей о Минской династии, По его следам в области популяризации астрономических, географических, а отчасти и математических знаний шли миссионеры: Ж. Аглени, написавший ,,Ki-ho-yao-fa» (Principia geometriae) и «Che-fang-vai-Ki» (mindi extra Sinas explicafio) (1600 г.), Себастьян де Урсис (Planisphaerium), Эманнуил Диаз (Тгас-tatus de sphaera», Иоанн Теренций («De sph .ere с nstructi-one et eclipsibus» 1620 — 1630), Джакоппо Po (Rh») («Tabulae quinque planetarum, theoria Liinae, ac Solis, introductio ad astronomiam» 1625 — 1638).
В 1634 г. немецкий иезуит Адам Шааль во главе смешанной комиссии (т. е. совместно с Китайскими учеными) предпринял пересмотр календаря. Результаты этих работ были опубликованы под заглавием « Си-ян-ли-фа Синь-шу1)
Для юного правителя Шуньчжи коллективно было составлено руководство «Tchong-ching-lie chou» (Т. ch. cur-sus dierum) sive Kalendarii liber. Эта книга содержала извлечения из Эвклида и других греческих авторов, были даже отрывки из сочинений Клавия. После смерти Ро в 1645 году Шааль был назначен председателем Математического трибунала и долгое время, пользуясь доверием Шунь-чжи, распоряжался делами единолично, что очень не нравилось членам трибунала — мусульманам, добившимся во время регенства (в 1664 г.) отрешения Шааля от должности и назначения одного из своих единоверцев. Хотя Александр Вилли, глубокий знаток китайской науки, и говорит, что Ро и Шааль вместе с новыми формулами и исправленными таблицами, воспользовавшись своим положением, навязали Китайцам устарелую систему Птолемея, однако, после ухода Шааля дела в трибунале, повидимому, пошли из рук вон плохо и новый правитель Кан-си, известный впоследствии своими заботами о просвещении, в широких размерах воспользовался услугами миссионеров, хотя население относилось к ним враждебно и в лучшем случае индифферентно. Исправление календаря было поручено голландскому миссионеру Вербиесту, прожившему в Китае 29 лет.
Ему суждено было испытать все превратности судьбы: прибывши в Китай, он был сначала подвергнут тюремному заключению. Вызванный ко двору для обяснений по поводу невязок китайского календаря, Вербиест своими толковыми указаниями на способы их устранения обязан освобождению и быстрому возвышению включительно до трго, что в 1667 году он занял место председателя Математического трибунала. Деятельность его ознаменовалась появлением на китайском языке целого ряда трудов: «У-Siang-tu, Eulh-Kiven (Regularum et schematum tabula duobus libris) seu de theoria et usu instrumentorum astronomicorum et mecanicorum», 1663, «Hi-Tchao-ting-уеп, San-Kiven, sive libelli supplices et I udicium in favorem astron Europae, 3 libris « ,,Quenyn-tu-xai, Eulh-Kiven, (Orbis terrae tabulae expositio)», но особенно важным для китайцев трудом по практической астрономии следует признать свод астрономических таблиц «Astronomia europaea, sub imperatore tartaro-Sinico Kam-hi appellato, ex umbra in lucem revocata A. P. Ferdinando Verbiest, Flandro Belga Brugensi, e Societate Iesu, academiae astronomicae in regia Pekinensi praefecto, anno Salutis, 1668».
Однако, в дальнейшем деятельность миссионеров приняла довольно странное направление, осуждаемое ныне всеми синологами, ознакомившимися с их двойственной политикой в деле ознакомления Китайцев с завоеваниями Европейской науки и Европейцев с состоянием астрономических знаний Китая. Верные наказам Рима, иезуиты, снабжая китайцев безграмотными переводами Священного Писания, в то же время пускались в явный обман и морочили европейскую читающую публику баснями о высоком развитии Китайской астрономии. При ближайшем расследовании выяснилось, что китайские трактаты писались под диктовку миссионеров.
Здесь не место распространяться о причинах, вызвав- ( ших уже в первой четверти XIX века изгнание иезуитов из Китая, но несомненно, что, за слишком двухсотлетний промежуток пребывания в Небесной Империи, европейские культуртрегеры при желании могли бы сделать куда больше для распространения точных знаний среди Китайцев, с другой стороны, их научная недобросовестность — печальный факт, с которым историкам науки приходится считаться.
К. Скачков, бывший директор нашей обсерватории в Пекине, ученик Струве, Делена и Савича, прожил в Китае, около 25 лет, изучил китайский язык и в подлиннике ознакомился с астрономической литературой Китайцев. Он говорит, что отчеты, которыми иезуиты наводняли Европу, принимались за чистую монету и в глазах европейцев миссионеры представлялись «Колумбами», открывшими Китай.
Однако, впоследствии выянилось, что их астрономические наблюдения и особенно геодезические изыскания по определению широт и долгот многих пунктов Срединного Царства добыты ими при помощи циркуля по приблизительному масштабу с китайских карт.
, «Такие труды», по словам Скачкова, «далеко отодвигают их назад от славы Колумба».
А между тем, Эйлер, Кассини, Лаплас жадно читали мемуары Пекинской миссии, верили всему, что писали иезуиты, восхваляя китайских астрономов, да и сами Китайцы не подозревали, какую злую шутку разыгрывали с ними их просветители.
Но Китайцы вобщем не проиграли. Правда, из уроков почтенных астрономов они не извлекли знания законов небесной механики. После изгнания иезуитов, построенная ими обсерватория пришла в упадок, остались не у дел переводы астрономических трактатов и таблицы логарифмов, но иезуиты вычислили для них на срок почти двух столетий таблицы солнечных и лунных затмений, а также таблицы лунных годов. Эта работа была неоценимой услугой для Китайцев, так как они только ею и пользовались при составлении точного календаря.
Об астрономии Китайцев особенно много писал иезуит Гобиль (Gaubil), проживший в качестве придворного переводчика в Пекине тридцать шесть лет (1723 — 1759). Труды его, в общем заслуживающие внимания, выиграли бы много, если бы он не был вынужден по поручению своего высшего начальства в лице иезуита Амио, писать панегирики китайским ученым. Его очерк истории китайской астрономии и часть других работ вошли в трехтомное издание Сусье « Observations mathdmatiques, astronomiques, chronologiques et physiques, tiroes des anciens Livres chinois, ou faites nouvel-lement a la Chine et aux Indes, par les PP. de la compagnie de esus, publi6es par le P. Souciet Paris, 1729 — 1732 in 4.
Но уже Монтюкла указывает, что Майла (автор «Histoire дёпёгае de la Chine) горько плакался по поводу массы крупных неточностей, вкравшихся в этот сборник. Мы обязаны Гобилю переводом одной из книг, приписываемых Конг-фу-тзе (Конфуцию): «Le chouking, onvrage recuelli par Confucius, par Gaubil, revu et corrigfe par de Guignes. Paris, 1770.
Ему же принадлежит перевод первой книги известного китайского трактата «Tcheou — pei», составленного за одиннадцать веков до нашей эры. В этом трактате, написанном в форме диалога, говорится, между прочим, о свойствах прямоугольного треугольника со сторонами 3, 4 и 5.
Многое из работ Гобиля утеряно, но его «Histoire de Г astronomie chlnoise» и ряд писем, касающихся состояния научных знаний в Китае помещены в «Panth6on li tteraire» Т. IV. «Lettres 6difiantes et curieuses, concernant lAsie, 1Af-rique et lAmerique, publifees sous la direction de M. L. Aime Martin». Paris. 1839 г. Очерк астрономии с целым рядом примечаний и таблиц занимает около 60 страниц убористой печати и заключает не мало интересных сведений. В своем месте мы приведем разбор и вкратце содержание этого малоизвестного труда, в целом не лишенного достоинств и для историка представляющего не маловажное значение. Он обнимает историю развития астрономических знаний в Китае с 2677 по 206 год до нашей эры) Лаплас, считавший Гобиля лучшим знатоком китайской астрономии (среди пекинских миссионеров) напечатал в «Connaissance des temps» (1809 г.) «драгоценную рукопись этого иезуита» по его выражению, «о солнцестояниях и полуденных тенях гномона, наблюденных в Китае».
Главным недостатком трудов Гобиля является отсутствие критической обработки исторического материала, что отчасти зависело не от автора, а было ему навязано извне.
Седильо в своей статье «De lastronomie chez les Chl-nois» подвергает уничтожающей критике увлечения Гобиля, которые ввели в заблуждение Лапласа. Но трудно сказать, насколько эти увлечения были неумышленны, когда Гобиль, безусловно хорошо знавший историю древнейшего периода в развитии китайской астрономии, с легким сердцем допускает, что ТсЬёои — Kong за 11 веков до Р. Хр. пришел к результатам, которые были получены китайскими астрономами во втором веке нашей эры На долю XIX века выпала довольно неблагодарная задача разобраться не только в том, что представляла из себя китайская астрономия до начала очевидного влияния чужеземной науки, но и дать критический анализ европейских трудов, представлявших развитие этой области знания у Китайцев в искаженном виде.
И Дегинь и Деламбр, осторожные в своих выводах, на основании изучения документальных данных, пришли к заключению, что астрономии, как науки, у Китайцев не существовало даже во времена Гобиля.
Седильо говорит, что ее и не было никогда у Китайцев. С 206 г. до нашей эры до 718 г. по Р. Хр. Седильо проследил явные следы греческого влияния, а с 775 по 1460 г. несомненные признаки знакомства с трудами арабских астрономов. Но ассимиляция произошла на почве туманных и спутанных понятий национальной мудрости, от которой Китайцы не могли отрешиться. Научные проблемы не рисовались их уму и воображению: все, что им было нужно, это точный Календарь, отсутствие которого постоянно причиняло им не мало хлопот и неприятностей, а сами они не могли справиться с этой задачей.
На ряду с едким и сокрушающим анализом Седильо в работах ean Baptiste Biot (французский физик и математик) мы встречаемся с явлением иного порядка. Его «Recher-ches sur lancienne astronomie chinoise, 1840 и «Etudes sur lastronomie indienne et sur lastronomie chinoise, 1862 не представляют сколько нибудь значительного вклада в науку, так как критическая обработка материала отсутствует. Тем не менее и Био высказывает взгляд на китайскую астрономию, также подтверждающий ее полную несостоятельность: «Она неизменно прикреплена к той самой практике наблюдения и к тем самым простым формам, которые она приняла при своем рождении и рассматривает всегда движения небесных тел с точки зрения их полезности для регулирования гражданских дел и для доставления астрологических предсказаний, не проявляя никогда ни потребности, ни даже мысли сделать из нее объкт умозрительного изучения.
Ббльшого внимания заслуживают труды Эдуарда Био. Не касаясь самой сущности Китайской науки, он ограничивался переводом и комментированием некоторых древних памятников и странно, что его сочинения способствовали укреплению ложного мнения о знаменитости Китайских астрономов.
Одной из наиболее полезных для истории науки его работ является полный перевод трактата «знак в окружности (Traduction et examen dun ancien ouvrage chinois, intitule «Tcheou — pei», littdralement: Style ou signal dans une circonference, ournal Asiatique, III Serie, Т. XI. 1841) хотя первая часть, как мы говорили выше, была переведена и притом весьма точно Гобилем. Вторая часть касается астрономии и, повидимому, прибавлена к первой значительно позднее, может быть не раньше II века нашей эры.
Здесь, между прочим, китайский математик считает отношение окружности к диаметру равным трем; этим грубым приближением, как мы знаем, пользовались еще Вавилоняне и Евреи.
Автор первой части трактата Tshiou — Kong, тот самый астроном, наблюдениями которого, как мы упоминали выше, был введен в заблуждение Лаплас, доверившись Гобилю.
Этому же автору приписывается и другое сочинение з чисто — китайском духе по астрономии и математике «Tcheou-Ly\ также переведенное Эд, Био («Le Tcheou-Ly, ou rites de Cheou, traduit par Ed. Biot, Paris, 1851.
Более интереса и значения представляет китайский трактат XVI века «Начало искусства вычисления», краткое изложение, содержания которого дал еще Либри. (См. Е. Biot «Table generale dun ouvrage chinois, intitule Souan fa — tong, tong ou Traitfe complet de lart de compter» ournal asia-tique, III Scrie, Т. VII. 1839.)
Это — целая энциклопедия математических знаний, рисующая нам состояние наук в Китае к концу XVI века и носящая явные следы индусского, греческого и арабского влияния. Для отношения окружности к диаметру даются приближения ® и ~, но удерживается и древнее Имеется даже решение кубичного уравнения с численными коэффициентами, причем находится, конечно, только один корень. Позднейшие математические трактаты, подобные только что указанному, составлялись уже под руководством миссионеров.)
Мы должны также упомянуть о работах Паравея (Карл Ипполит де), много занимавшегося исследованием истории древней астрономии и математики у восточных народов. Непосредственно к интересующей нас теме относятся: его мемуар «Astronomie ancienne et 6gyptienne et astronomie chez les aponais et les Chinois и ряд статей в «Comptes Rendus, парижской академии наук. Содержание их составляет главным образом, извлечение из китайских астро-мических сочинений («Sur une comfete, observfee a Tonquin le 8 Mars 1668», Т. IV, 1937, «Sur deux clepsydres, dont la figure se trouve dans 1ancien ouvrage chinois, Т. X. 1840, ete.)
) Свод всего написанного миссионерами о состоянии точных наук в Китае издан в Париже в 16 томах под заглавием «Mdmoires, concernant lhistoire, les sciences, es arts, les moeurs, les usages etc de Chinois, par les Missionaires de Pekin. 1776 — 18 4.
Мы уже говорили, что католические миссионеры в осуществлении своих ближайших целей по обращению Китайцев в Христианство потерпели неудачу. На смену им в первой четверти XIX века выступили протестанты, взявшиеся за это дело с ббльшей осторожностью и уменьем и достигли в этом направление значительных успехов, особенно за последнюю четверть истекшего столетия. Но ео второй четверти пропаганда шла довольно туго, за то многие миссионеры обогатили науку крупными вкладами в области синологии. Достаточно назвать имена Gutzlaffa Medhursta, Hepburna и в особенности Legge и Wylie.
Ледж известен своими комментированными и притом весьма точными переводами китайских классиков. (Пяти- томный труд «Legge, ames» The Chinese classics with a translation, critical and exegetical notes, Prolegomena and copious indexes. Hong — Kong and London 1861 — 1875), В III томе интересная работа ohn Chalmers «Appendix on the astronomy of the ancient Chinese», где автор пользуется сравнительным методом и проводит параллель между Греками и Китайцами, высказываясь не в пользу последних, да и сам Ледж в предисловии говорит о древней китайской астрономии весьма скептически.
Что касается вопроса о происхождении своеобразных астрономических представлений, на дальнем Востоке то, вообще говоря, он трудно разрешим в виду отдаленности эпохи их возникновения и отсутствия надежных документальных данных. Напр, вопрос о делении солнечного круга на 28 домов1) по мнению Челмерса и Био китайского происхождения, индусы же, у которых встречается аналогичное деление, заимствовали его у Китайцев.
Герен в своей «Astronomie Indienne» Paris, 1847 держится как раз противуположного мнения. Террьен де Лакупери («The languages of China before the Chinese, London, 1887) склоняется к тому, что и китайцы, и индусы и арабы, у которых это деление также встречается, заимствовали его из общего источника (Хорезмия). Седиль© считает его присущим всем восточным народам, наконец, Макс Мюллер убежден, что это деление чисто индусского происхождения. Если верить авторам некоторых арабских рукописей, то это действительно так; впрочем этот спорный вопрос имеет столь обширную литературу, что критическаа обработка ее могла бы стать предметом специального исследования. Мы коснулись этого примера, как одного из многих, ему подобных, где взаимные влияния сплетаются в столь тесный клубок, что распутать его и найти начало подчас совершенно невозможно и этот пример лишний раз указывает, как должен быть осторожен исследователь в своих заключениях.
Перейдем теперь к работам A. Wylie. Мы видели, что значение китайской астрономии, как науки, новейшие исследования свели к нулю. Александр Вилли, превосходный синолог, оказался и сведущим математиком, редкое, но весьма желательное сочетание. Для науки это было тем более важно, что о математических знаниях Китайцев имелись отрывочные сведения, носившие скорей случайный характер, если судить по тому что было известно. В 1852 г. появился замечательный мемуар Вилли ottings on the science of Chinese arithmetic» (North China Herald)1) единственный по полноте и надежности сведений об успехах Китайцев в математике. Выяснилось, что они задолго до нашей эры владели арифметикой и геометрией, умели решать уравнения, и, суда по дошедшим до нас трактатам создали своеобразные приемы и проявили уже в 111 веке по Р. Хр. необычайное искусство в решении сложных вопросов неопределенного анализа. На простейшие задачи они могли неизбежно натолкнуться при затруднениях, сопряженных с составлением календаря, напр, на определение числа, которое при делении на данные числа, давало бы данные остатки.
1) См. также «Shangae Almanac for 1S53 and Miscellany printed Schangae.
Труд Вилли1) обратил на себя внимание европейских ученых особенно после того, как Бирнацкий ознакомил с его содержанием на страницах европейских журналов в двух работах: «Die Arithmetik der Chinesen (ournal fur die reine und angewandte Mathematik, 1856) u «Arithm6tique et algfebre des Chinois» (Nouvelles annales de Mathematiques, 1862 — 63).
Вопрос о методах китайских математиков, применявшихся ими в неопределенном анализе вызвал ряд исследований. Аналогичные задачи решались, как известно, Индусами, но их приемы существенно отличаются от китайских как это удалось выяснить немецкому ученому Маттисену в статьях: «Zur Algebra der chinesen» (Zeitsch-rift fur Mathematik und Phyhik, 1874), «Vergleichung der indischen Cutucca und der chinesischen Та-yen Regel «, 1876 u Die Methode Ta-an im Suan-King von Sun-ts6 und ihre Verallgemeinerung durch ih-hing im I Abschnitte des Ta-an li-schou», 1881 r.
Речь идет о так называемом «правиле Тайен», впервые изложенном в сочинении «Swan-king» китайского ученого Сун-тзе, жившего не позже III века нашей эры. В более общем виде это правило встречается в трактате «Та-уеп-Ш Schou» буддийского монаха И-Кинг, (VIII век) повидимому, обладавшего для своего времени огромными знаниями. С содержанием этого трактата знакомы только по извлечениям Вилли. Одна из очередных задач синологов, интересующихся математикой, перевести на один из европейских языков указанное сочинение, так как выяснение сущности метода «Та-йен», выполненное Кантором и Маттисеном с помощью теории сравнений, приводит к совершенно неожиданным результатам: Китайцы в VIII веке нашей эры решали вопросы, которыми в XIX веке занимались Гаусс и Дирихле.
) Мы должны упомянуть, что живя в Шанхае, Вилли не ограничился изучением китайских первоисточников, но и содействовал знакомству Китайцев с европейской наукой. Между прочим, в 1857 году в дополнение к уже имевшимся иа Китайском языке первым шести книгам «Начал» Эвклида, он издал китайский перевод остальных книг: Translation of Euclidis Elements, Book VII to Book XV, into Chinese by Wilie Schanghae, 3 vol.
В сочинениях общего характера математике Китайцев уделяли место более, чем скромное и самое обстоятельное изложение всего, что известно, дал Кантор в своих «Vorlesungen» но остается сделать в этой области гораздо больше того, что уже сделано и это одна из наиболее Существенных задач, выпадающих на долю синологов XX века, тем более что, это должно вскрыть связь китайской математической культуры с культурами Вавилона, Древней Персии, Греции, Индии и Арабов. Ни в одной стране не могло быть такого сплетения чужеземных влияний, как в Китае: и если этому способствовали торговые сношения, то еще в большой мере это зависило от странного тяготения чужеземцев навязать Китайцам свои религиозные верования.
Я не буду говорить о европейских миссионерах католиках и протестантах позднейшаго времени. Но, углубляясь в прошлое, остановимся прежде всего на буддизме. Хотя китайские летописи упоминают о буддийском миссионере, появившемся в пределах Китая в 217 г. до нашей эры, но, оставляя это событие на совести летописца, мы знаем достоверно, что в 65 году нашей эры это было совершившимся фактом и отсюда начало влияния Индусов. В начале 7 го века в Небесную Империю проникают христиане — несториане, а известно, какую роль играли эти последние в деле переноса культуры. Достаточно вспомнить Арабов. В том же 7 веке распространилось и манихейство, в котором идеи персидскаго язычества странным образом сочетались с христианством. В 1271 г. Хубилай хан сам отправил Римскому Папе письмо с просьбой прислать 100 католических ученых. И действительно, вскоре в Китай прибыли францисканские монахи. Наконец, всем известно, каким влиянием пользовались в Китае мусульмане, утвердившеся там с середины
7-го века. В 713 году прибыла вторая арабская миссия, в 798 году третью послал в Китай знаменитый покровитель наук Калиф Гарун — аль — Рашид. Не достаточно ли этих фактов, повлекших за собой слияние элементов национальной науки с целым комплексом элементов, чуждых духу и творчеству правовернаго Китайца и в тоже время чуждых друг другу. Последствия такого синтеза, как нам представляется вероятным, имели роковое значение для развития китайской науки. В общем, мало склонные к методической и систематической разработке идей в области точнаго знания, китайцы просто были подавлены массой нахлынувших новых идей, и конечно, не их вина, что отсутствие критического и трезвого отношения к попадавшему в их руки материалу лишало их возможности разобраться в этом хаосе мыслей, направлений, методов. Полагаем, что и, более сильная умственно, нация оказалась бы в затруднительном положении. Все это необходимо принимать в расчет при оценке Китайской науки. Историк должен прежде всего считаться с фактами, а таковые говорят сами за себя. Насколько нам известно, под таким углом зрения этот вопрос еще не рассматривался в европейской летературе и мы будем ему следовать при изложении истории развития математических знаний в Китае.
По независящим от автора обстоятельствам продолжение историографическаго очерка отнесено ко второму выпуску, куда войдет обзор донаучнаго периода, (генезис основных идей — числа, порядка и протяжения). |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) —
творческая студия БК-МТГК.
|