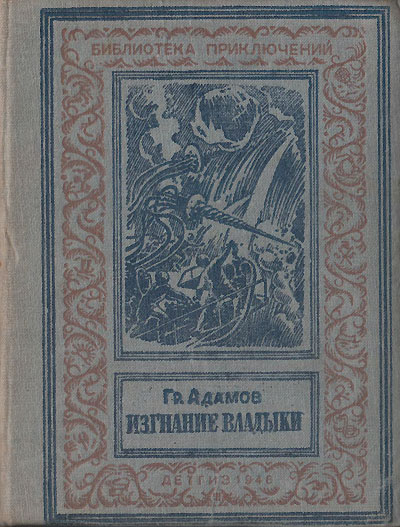Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
Автор книги - Григорий Адамов родился в Херсоне, был седьмым ребёнком в многодетной семье рабочего-деревообделочника. В 15 лет стал профессиональным революционером, вступил в херсонскую организацию большевиков, неоднократно арестовывался. Участвовал в террористическом акте по уничтожению судебных документов о восстании на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический». За что отбыл три года в крепости. После выхода из тюрьмы работал журналистом, редактировал социал-демократическую газету «Юг».
После 1917 года работал в Наркомпроде, Госиздате. С 1930 — профессиональный писатель. В 1940 году приступил к работе над новым романом «Изгнание владыки», посвящённом теме обогрева северных территорий путём повышения температуры Гольфстрима. Он совершил путешествие в Арктику, начал сбор материалов. Роман был издан после смерти писателя.
Сын — Адамов, Аркадий Григорьевич, тоже русский советский писатель, автор детективов.
Художник книги - Лев Моисеевич Смехов, известный художник-карикатурист, классик книжной иллюстрации («Пионерская правда», «Весёлые картинки», «Известия», «Литературная газета»), прекрасно иллюстрировал эту книгу.
Сыновья Льва Моисеевича тоже художники - Аркадий Львович Смехов (род. 1936) и Зиновий Львович Смехов.
Брат художника Борис (экономист, профессор) является отцом артиста и режиссёра Вениамина Смехова, дочь которого Алика Смехова (внучка Бориса Моисеевича) - известная певица («Бесаме мучо»,«Не перебивай» и др.), киноактриса («Бальзаковский возраст») и ведущая. Вторая дочь Елена Смехова - российская писательница. Сын Елены — Леонид Владимирович Смехов — преподаватель МГУ, музыкант, автор книги «Популярная риторика» М., «Просвещение», 2011.
Другой брат — главный художник издательства «Медицина» Ефим Моисеевич Смехов.
ЧАСТЬ I
Напрасно строгая природа
От нас скрывает место входа
С брегов вечерних на восток.
Я вижу умными очами:
Колумб Российский между льдами
Спешит и презирает Рок.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПЕРЕБЕЖЧИК
Была полуденная тишина. Южное августовское солнце стояло высоко.
Свободные от нарядов бойцы спали в прохладных спальнях, другие занимались в тени деревьев с собаками, разбирали и чистили оружие, проходили теоретический курс стрельбы. Шла обычная, будничная жизнь заставы.
В кабинете начальника инспектор Министерства государственной безопасности майор Комаров знакомился с работой заставы.
Самая значительная часть нарушений падает на перебежчиков из-за кордона.
Работа органов государственной безопасности здесь, на границе, очень сложна. О каждом перебежчике из-за границы надо навести справки, проверить его показания, жалкие документы, обрывки бумажек, с которыми люди часто перебираются через границу. Все это надо сделать в невероятно трудных условиях, когда источники справок и необходимых сведений находятся за границей, и сделать это надо в кратчайший срок.
Вот и сейчас на этой маленькой заставе оказалось семь человек, задержанных при переходе границы. Их отправляют сегодня в районный центр. Впрочем, один находится здесь уже почти двадцать дней.
— В чем дело, товарищ Никитин? — отрывая глаза от ведомости и подымая круглую бритую голову, спрашивает майор. — Почему Кардан так долго задерживается у вас?
— А это один из неудачников, товарищ майор, — ответил Никитин. — Его подстрелили, когда он собирался переплыть речку. Все-таки он нашел в себе силы, чтобы добраться почти до самого нашего берега, но метрах в трех от него начал тонуть. Подоспели наши бойцы. Степанов бросился в воду и вытащил его уже почти без памяти.
— Так… — проговорил Комаров. — Рана была серьезная?
— Нет, не очень. В бедро. Но крови потерял много. Бойцы перевязали его и сейчас же доставили сюда. Наш врач немедленно переправил его в совхозную больницу: надо было извлечь пулю.
— Какая пуля?
— Винтовки Сандерса.
— Как он себя чувствует сейчас?
— Оправился. Три дня назад его выписали из больницы. А первые дни был в тяжелом состоянии. Нервы, должно быть, не выдержали. То смеялся, то плакал, умолял не выдавать его.
— Сведения о нем передали районному управлению?
— Передал на другой день после задержания. Кардан бежал из концентрационного лагеря под Котолани. Районное управление довольно быстро проверило его показания, пока он был еще в больнице. В котоланской газете помещены объявление коменданта лагеря о бегстве Кардана, его портрет, приметы и обещание награды за его поимку. Приметы сходятся. Районное управление предложило мне направить Кардана в его распоряжение. По-русски Кардан не понимает, но хорошо знает французский язык.
— Так, так… — задумчиво сказал Комаров, потирая чисто выбритый подбородок. — Ну, давайте посмотрим задержанных.
— С кого желаете начать?
— Да по порядку… Кто у вас первый? — Комаров посмотрел в список. — Корнелиус? Ну, давайте Корнелиуса.
Старший лейтенант протянул руку к аппарату, стоявшему на столе, и нажал кнопку. Серебристый экран аппарата засветился, и тотчас же на нем появилась высокая комната с опущенными на окнах шторами. В углу стояла койка, возле нее стол и стул. На столе — раскрытая книга, графин с водой, стакан, письменный прибор. На койке спал человек, повернувшись лицом к стене.
— Ну, с Корнелиусом придется отложить знакомство, — заметил майор.
— Отсыпается, — усмехнулся старший лейтенант. — Первые два-три дня они всегда спят без просыпу. Следующий по списку, кажется, Ганецкий?
— Да, давайте Ганецкого.
В такой же комнате, как и предыдущая, Ганецкий — маленький истощенный человек с грустными глазами и длинными, печально опущенными усами — озабоченно рассматривал у окна свой разбитый сапог, стараясь подвязать бечевкой отвалившуюся подметку.
— Гм… Да… Задача нелегкая, — проговорил Комаров. — Вы бы ему, товарищ Никитин, выдали сапоги из специального фонда. Ну, давайте дальше.
В следующих комнатах кто читал, кто беспокойно ходил из угла в угол, кто писал.
Кардан, коренастый человек со смуглым, худым лицом, тонким горбатым косом и густыми черными усами, стоял спиной к окну и внимательно рассматривал в небольшое зеркальце какое-то пятнышко на подбородке, прилаживаясь и так и этак, вертя перед собой зеркальце в разные стороны. Потом вдруг улыбнулся, отложил зеркальце, опустил голову и начал медленно крутить ус, потом досадливо дернул его несколько раз книзу и прошелся по комнате. Остановился у стола под окном, задумчиво глядя вдаль. Постоял с минуту, повернулся и, ероша густые, нависающие над лбом волосы, возобновил медленное хождение по комнате. Под волосами на лбу мелькнул небольшой розовый шрам.
Майор Комаров молча и внимательно наблюдал.
— Шрам на лбу указан в приметах? — спросил он, не отрывая глаз от экрана.
— Указан, товарищ майор, — ответил начальник заставы.
— Об усах что-нибудь сказано?
— Да. "Черные и густые".
— Больше ничего?
— Больше ничего. Да ведь усы вообще не примета. Сегодня есть, а завтра сбрил.
— Конечно, но поскольку они имеются…
Кардан подошел к стулу, сел, откинулся на спинку, свободно и непринужденно закинул ногу на ногу и протянул руку к столу за раскрытой книгой. Опустив голову, начал читать. Небольшая смуглая рука мягким, почти неуловимым движением длинных пальцев перевернула страницу. Кардан читал. Комаров не сводил с него внимательных, спокойных глаз. Снова мягко перевернута страница… В кабинете продолжается молчание.
Начальник заставы с легким нетерпением посматривал то на майора, то на экран.
Не поворачивая головы, Комаров наконец тихо спросил:
— В показаниях профессия указана?
— Указана, товарищ майор. Электрик-монтажник.
— Сколько лет работает?
— Двадцать лет, с восемнадцатилетнего возраста.
— Где работал последние годы?
Начальник заставы перелистал папку с бумагами.
— На заводе электрооборудования Фидера в Полтони.
— Кем работал?
— Чернорабочим.
— Долго был чернорабочим?
— Два года восемь месяцев.
— Имеются подтверждения?
— Имеются.
— Какое образование получил?
— Низшая электротехническая школа в Таворе.
— Так…
Не поднимая головы, Кардан вынул из кармана куртки папиросу, закурил, затянулся и с гримасой отвращения бросил папиросу на плоскую пепельницу.
— Какие папиросы курит Кардан? — неожиданно спросил майор, резко подавшись к экрану.
Начальник заставы растерянно взглянул на Комарова.
— Право, не знаю…
— Узнайте, пожалуйста.
— Есть, товарищ майор.
Начальник заставы нажал кнопку на столе. Через минуту в кабинет вошел боец, заведующий хозяйством.
— Вы снабжаете нарушителя Кардана папиросами?
— Я, товарищ старший лейтенант.
— Какими?
— "Весна", товарищ старший лейтенант.
— "Весна"? — вмешался Комаров. — Это, кажется, третьесортные папиросы? Вы всех задержанных снабжаете ими?
— Они получают папиросы и табак по личному выбору и вкусу, товарищ майор. Кардан пожелал простых папирос. Сказал, что к другим не привык.
— Ах, вот как! Ну, тогда понятно. Кстати, вы, кажется, сказали, что он говорит по-французски. Что, он жил во Франции?
— Да, он показал, что несколько лет работал там.
Начальник заставы отпустил бойца.
Комаров медленно встал и выключил экран телевизора.
Майор был высок и широкоплеч. Мощная, словно литая шея, большая круглая, чисто выбритая голова. Бритое загорелое, несколько полное лицо с крупными чертами, крутой лоб, серые спокойные глаза под густыми, чуть рыжеватыми бровями. Плотно сжатые, красивого рисунка губы, тяжелый, почти квадратный, выбритый до лоска подбородок.
Заложив руки за спину, легким для своей плотной фигуры шагом Комаров прошелся по кабинету.
— Да… — проговорил он. — Интересный тип…
Старший лейтенант ничего не ответил, продолжая испытующе смотреть на Комарова. Он слишком хорошо знал этого известного в их профессиональных кругах "следопыта", чтобы не придавать значения даже простому его раздумью над чем-нибудь.
— А где мой лейтенант? — спросил майор. — Где Хинский?
— Еще не вернулся с объезда постов на линии. Рано утром уехал.
— Так… так…
Комаров подошел к столу, к телевизору, и вновь включил комнату Кардана.
— Все-таки курит… — заметил Комаров, внимательно глядя на экран и думая, по-видимому, о чем-то другом.
— Почему "все-таки", товарищ майор? — позволил себе спросить старший лейтенант.
Комаров поднял на него глаза.
— Почему "все-таки"? — медленно повторил он вопрос. — Он же не любит этих папирос. Они ему противны… Но если бы только папиросы… — раздумчиво, словно размышляя вслух, продолжал Комаров, играя карандашом. — Вы не заметили его манеры держаться, сидеть на стуле, перекладывать ногу на ногу? Свободные, легкие манеры… не угловатые манеры человека тяжелого физического труда. Два года восемь месяцев чернорабочим и три года тяжелых работ в концентрационном лагере! За это время любой профессиональный интеллигент огрубеет!
Брови старшего лейтенанта медленно поднимались.
— И это не все… — продолжал Комаров. — Как он читает? Вы обратили внимание? Книга не случайный, редкий гость в его руках. Он привык к ней, умеет обращаться с ней. Как бережно его пальцы перелистывают страницы! Привычно, легко, уверенно. Разве так читают люди с огрубевшими пальцами, с привыкшими к тяжелой работе руками?
В дверь постучались. Послышался молодой, звонкий голос:
— Можно?
— Да, да… входите! — оживленно сказал Комаров.
В кабинет быстро вошел молодой лейтенант, высокий, стройный, загорелый, с живыми черными глазами под густыми, почти сросшимися на переносице бровями. Он принес с собой веселое молодое оживление.
Со сдержанной лаской в глазах и улыбке Комаров взглянул на него и спросил:
— Ну, как посты, Лев Маркович? Как погранлиния?
— Могу доложить, товарищ майор: работают отлично. Внимательность и четкость работы бойцов прекрасные. Как ни старался сбить, ничего не вышло. Вот только, — обратился Хинский к начальнику заставы, — на отрезке "Семи дубов" линия инфракрасных сторожей1, кажется, у вас не совсем надежна. За маленьким бугорком мне удалось скрытно проползти. Правда, ваша собака… кажется, Рекс… услышала… Я все же указал старшине…
— Ну и отлично, — сказал Комаров. — Садитесь, Лев Маркович.
Хинский сел, снял фуражку и вытер загорелый лоб.
— Фу! Устал чертовски! Солнце палит невозможно… А на самом солнцепеке, на лужке, — со смехом обратился он к Комарову, — какой-то чудак-старичок уселся и бреется. Зеркало шатается на пеньке, никак не держится, он его и так и сяк поправляет, устанавливает, а оно все валится. Старик ругается, отплевывается, лицо все в мыле… Мы со старшиной минут пять стояли, наблюдали с дороги, помирали со смеху. Кто это, товарищ старший лейтенант?
— А! — рассмеялся Никитин. — Это дедушка, пастух соседнего совхоза. Между прочим, человек образованный, правда по-старинному. Знает французский язык и постоянно пользуется нашей библиотекой. Он здесь каждый день бреется, как только загонит скот от жары в лес. Большой чудак, строгий старик. Держит себя очень респектабельно и выражается всегда высоким штилем.
Комаров и Хинский смеялись.
— Вероятно, большой чудак этот ваш пастух.
— Ну, ладно! Шут с ним, с этим чудаком, — заметил Комаров. — Давайте, товарищ Никитин, кончать. Сегодня нам с лейтенантом дальше ехать надо…
— Как же с Карданом? — спросил начальник заставы.
— Вот именно о Кардане-то и речь… — ответил Комаров. — Вы когда намерены отправить его в район?
— Сегодня, товарищ майор. В семнадцать часов, со всей партией.
— Так… Вот что, товарищ Никитин: пройдите сейчас с лейтенантом Хинским по коридору мимо комнаты Кардана, скажите лейтенанту громко, по-русски, что этот задержанный подозрителен и что сегодня в двадцать два часа вы его отдельно от партии отправите в район. Когда вернетесь сюда, продолжим знакомство с остальными нарушителями.
— Слушаю, товарищ майор.
Старший лейтенант и Хинский вышли. Комаров включил по телевизору комнату Кардана.
Кардан продолжал читать, но уже лежа на койке лицом к Комарову.
Комаров не отрывая глаз следил за ним.
Книга, очевидно, очень заинтересовала Кардана. Страницы равномерно и быстро переворачивались одна за другой. Прошло несколько минут. Вдруг брови дрогнули, глаза, расширившись, неподвижно остановились на какой-то строке, смуглое лицо Кардана стало медленно сереть. Он отложил книгу и закрыл глаза.
Солнце заливало комнату жарким светом.
Кардан открыл глаза, лениво повернул голову, посмотрел на окно, на поднятую кверху штору, словно борясь с желанием опустить ее. Потом медленно встал, потянулся, потрогал с болезненной гримасой кожу над губой. Взял зеркальце и, став спиной к окну, в ливень горячего солнечного света, опять начал вглядываться в отражение своего лица, пощупывая кожу на подбородке, гримасничая, поворачивая и наклоняя зеркало во все стороны. Наконец положил его на стол, прошелся несколько раз по комнате.
Вдруг солнечный зайчик сверкнул откуда-то в окно комнаты Кардана, стрельнул Комарову в глаза. Скользнул на потолок, исчез, вновь появился и опять исчез где-то над дверью. Так продолжалось минут десять. Изредка, поглаживая подбородок, Комаров внимательно наблюдал за мельканием зайчика. Кардан уже лежал на койке лицом кверху, бездумно, казалось, глядя на потолок над входной дверью, невидимой на экране, куда прыгали непрерывно зайчики из окна. Комаров встал, выключил экран и, заложив руки за спину, с опущенной головой, размеренными шагами начал ходить по кабинету. На скулах его спокойного лица играли желваки.
Ходил долго, потом внезапно остановился перед столом, включил в аппарат телевизора звук и вызвал районное управление. Через него соединился с Москвой и попросил к экрану заместителя министра государственной безопасности.
Разговор продолжался долго.
— Ну что же, Дмитрий Александрович, — сказал под конец заместитель министра, — эксперимент ваш одобряю. Но только смотрите: не по пустякам ли вы отрываетесь от более важных дел? Наблюдение за Карданом мог бы вести и менее ответственный работник. Вот на арктическом строительстве что-то неладное творится.
— Василий Петрович, — глуховатым ровным голосом ответил Комаров, — я чувствую… что за Карданом скрывается что-то очень значительное. Тряхну стариной! А если я вам понадоблюсь для арктического строительства, меня всегда легко отыскать.
— Я верю вашему чутью, Дмитрий Александрович. Оно вас, кажется, никогда не обманывало.
— Благодарю вас, Василий Петрович.
— Ну, прощайте. Желаю успеха.
Комаров выключил аппарат, встал, взял карандаш со стола и, решительными шагами подойдя к большой карте района, висевшей на стене, погрузился в ее изучение.
ГЛАВА ВТОРАЯ
РИСКОВАННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Ночь в лесу была темная, безлунная.
Ветер порывами шумел в вышине, скрипели ветви, шептались листья, словно набегающая на песчаный берег морская волна.
Надвигались тучи. Где-то далеко, тяжело ворочаясь, погромыхивал гром.
Прямая дорога была едва заметна в лесу, в темноте, между двумя черными, колеблющимися под ветром стенами деревьев.
Далеко впереди, в облачке света, мерцали красные точки — фонари на электромобиле2 Паншина.
С потушенными фарами электроциклы3 бесшумно бежали вслед. Певуче, чуть слышно гудели под сиденьями моторы, мягко шуршали шины. Ветер свистел в ушах, забивал ноздри ароматом увядающих трав, опавших листьев, предгрозовыми запахами земли.
Словно кончик маленького бича, хлестнула в лицо первая крупная капля.
— Быть грозе, — сказал Комаров вполголоса.
— Не иначе, товарищ майор, — последовало в ответ с соседнего сиденья. — Джим нервничает. Боится без следа остаться…
Собака отозвалась нетерпеливым повизгиванием на свое имя.
Вдруг ослепительно сверкнула молния, осветила небо, землю, лес — и погасла. Тьма на мгновение стала плотной, почти осязаемой. С оглушительным треском разорвалось над головой полотнище неба, с грохотом, непрерывно сталкиваясь, покатились с невидимой горы огромные пустые железные бочки.
Хлынул дождь.
Красные огоньки, чуть видневшиеся впереди, словно сквозь густую мерцающую сетку, вдруг взметнулись кверху, вильнули в сторону и исчезли. Желтоватое световое облако разрослось, перенеслось на другую сторону дороги, и яркий луч облил расплавленной бронзой вынырнувшие из тьмы стволы деревьев.
В облаке света мелькнули какие-то тени.
Сквозь шум грозы издалека донесся слабый крик и оборвался. Навалилась тьма, проглотила луч, залила сияющее облако.
— Стоп, Платонов! — отрывисто сказал Комаров и, поднеся ко рту аппарат микрорадио4, скомандовал: — Лейтенант, стоп! Выгружаться! Ко мне! Выходите с Джимом, старшина!
Через несколько секунд два силуэта смутно возникли в темноте.
— Здесь, товарищ майор, — послышался тихий голос Хинского.
— Вперед! — бросил Комаров.
Четыре человеческие тени молчаливо в потоках низвергающейся воды понеслись по залитой дороге. Впереди, с натянутым, как струна, поводком, бежал старшина, увлекаемый Джимом.
Вдруг поводок ослабел и упал, старшина едва не налетел на окаменевшую в стойке собаку.
— Стой! — глухо произнес старшина.
Поперек дороги неподвижной черной глыбой стояла машина.
Послышался слабый, приглушенный стон.
Комаров бросился к настежь раскрытой дверце электромобиля.
Луч карманного фонарика осветил на полу кабины пограничника, опутанного веревками, с завязанным ртом. Его винтовка валялась рядом.
— Паншин! — глухо воскликнул Комаров, быстро и умело развязывая бойца, в то время как Хинский торопливо освобождал его от кляпа.
— Не ранен? — спросил Комаров.
Боец молча, словно с трудом приходя в себя, отрицательно покачал головой.
— Оглушен?
— Ударили чем-то… по голове… товарищ майор, — пробормотал Паншин, поднимаясь с помощью Хинского на сиденье.
— Вы сопротивлялись?
— Просил пощады, товарищ майор — повеселев и усмехаясь, ответил окрепшим голосом Паншин. — Бросил винтовку… Рассмеялись… Один сказал: "Тем лучше". Все получилось так, как вы предсказывали.
— Говорили по-русски?
— По-русски, товарищ майор.
— Сколько их было?
— Кажется, четыре человека. В масках.
— Как остановили машину?
— Веревку протянули поперек дороги. Я ее заметил вовремя… затормозил. Машину занесло…
— Где Кардан?
— Связали и унесли.
— В какую сторону?
— По дороге. К мосту.
Хинский вдруг рванулся внутрь кабины.
— Товарищ майор, записка!
В углу на сиденье белел обрывок бумаги.
Комаров схватил ее, осветил фонарем. На бумажке было написано печатными буквами:
"Смерть предателю! Так будет со всеми изменниками!"
Подписи не было.
Комаров помолчал, глядя на записку, погладил подбородок и произнес:
— Очень глупо… Для дурачков писано…
Частой барабанной дробью дождь бил по крыше кузова.
— Сможете довести машину до заставы? — спросил Комаров Паншина, выходя под ливень.
— Вполне, товарищ майор. Я уже оправился.
— Отлично! Товарищ старшина, отдайте ему Джима. Собака бесполезна при такой погоде. Где электроциклы?
— Здесь, товарищ майор, — ответил старшина. — Андреев привел.
— По машинам! — скомандовал Комаров. — Скажите начальнику заставы, товарищ Паншин, чтобы дедушку Павла не трогал, но глаз чтобы с него не спускал. Особенно когда дедушка бреется на солнцепеке. Молод еще, глуп, не сеял круп… Ну, счастливо!
Раскаты грома заглушили последние слова Комарова. Молния на мгновение осветила залитую водою дорогу.
Электроциклы полным ходом понеслись сквозь ливень.
— До поста далеко? — спросил сквозь свист ветра Комаров, доставая из футляра, висевшего на груди, инфракрасный ночной бинокль5.
— Сейчас будет, — ответил старшина.
Он сунул два пальца в рот, тихо свистнул и сбавил ход машины.
У края дороги возникла тень. Электроцикл остановился. Тень приблизилась вплотную. Обозначилась фигура бойца в плаще, с винтовкой.
— По дороге проходили? — спросил Комаров.
— Четверо. Пробежали к мосту. У двоих длинный тюк на плечах.
— Хорошо, — сказал Комаров. — Вперед!
Он поднял к глазам ночной бинокль, долго всматривался в темноту вдоль дороги.
— Ничего не видно, — сказал он.
Через километр из засады вышел боец и доложил тоже:
— Пробежали четверо. С тюком на плечах. К мосту.
Но бинокль все еще ничего не мог уловить.
За мостом дорога раздваивалась. Из густых придорожных кустов при вспышке молнии появился боец в струях стекающей по плащу воды и доложил:
— Только что пробежали пятеро. Сели в ожидавшую машину с потушенными огнями. Ушли по правой дороге. Уловил слова: "Георгий Николаевич, садитесь к шоферу".
— Какая машина? — спросил Комаров.
— Цвета не различил. По форме кузова — тульская, "ТЭМ-146".
Электроциклы были пущены на полную мощность.
Дождь утихал. Гроза уходила. Ветер забивал дыхание. Дорога вырвалась из леса, и сразу посветлело.
— Сколько еще постов впереди, товарищ старшина? — спросил Комаров не отнимая бинокля от глаз. — Кажется, пять?
— Пять, товарищ майор.
— Дорога на станцию?
— На станцию. Другая — в районный центр — осталась слева.
— Ближайший поезд на станции?
— В четыре пятьдесят восемь. На Киев.
— Отлично… Вот и машина! — тихо воскликнул Комаров.
Вдали, в серой мгле, начало сгущаться смутное темное пятно, уносившееся вперед. Еще через несколько минут пятно стало принимать более четкие формы. Блеснули металлические части. В бинокль уже ясно стал виден приземистый, удлиненный кузов преследуемой машины.
Комаров почти лежал грудью на бортике коляски, пристально, до боли в глазах, всматриваясь в силуэт машины сквозь сереющую темноту.
— Так, — сказал он наконец, выпрямляясь и опуская бинокль. — Правильно. "ТЭМ-146". Как фамилия бойца на разветвлении дорог, товарищ старшина?
— Красавин, товарищ майор.
— Заметьте себе: доложите начальнику заставы о его внимательности при исполнении службы.
— Слушаю, товарищ майор.
Комаров достал из кармана аппарат микрорадио, ощупью отвернул нижнюю крышку его плоского футляра — микрофон, вытянул вверх провод-антенну, приложил слуховую трубку к уху и перевел на диске кнопку избирателя на новую позицию.
— Районная шестьдесят четыре?.. "Индеец"… Кто у микрофона?.. Присоедините диктофон… Говорит Комаров… Старший инспектор Главного управления… Двести восемьдесят шесть… Передайте срочно на станцию Вишневск. К станции идет электромобиль — тульский "ТЭМ-146". Пассажиров пять или шесть. Внимание на коренастом мужчине, широкое, смуглое, скуластое лицо, черные волосы, свисающие на лоб, черные густые усы, тонкий горбатый нос. Следить и за остальными. За "ТЭМ-146" следую я на двух электроциклах вашей погранзаставы. Номера: два нуля девяносто шесть и два нуля девяносто семь. Встретить меня на станции с информацией. Все.
Навстречу, сверкая матовыми огнями, неслась огромная грузовая машина с горою мешков, тюков, ящиков. Мелькнул туманный, расплывчатый силуэт какого-то здания у дороги, за ним другого, третьего. Начинало светлеть. Наступало утро.
Вдали показалась группа строений. Одновременно донесся отдаленный протяжный звук сирены.
— Экспресс Одесса — Киев, — заметил старшина.
— Поспеем ли? — с тревогой спросил Комаров.
— Поспеем. Это сигнал перед поворотом пути за тридцать километров до станции. Поезд еще должен нас обогнать, вон там — справа.
Встречные машины и люди стали попадаться все чаще. Пришлось замедлить скорость. Несколько раз "ТЭМ-146" исчезал из виду, потом вновь показывался, когда электроцикл набирал скорость.
Справа на прояснившемся горизонте появилась стремительно скользившая темная лента. Она шла наперерез электроциклам и "ТЭМ-146".
Станция была уже совсем близко. Но и движение по шоссе становилось все гуще. В бинокль Комаров уловил, как электромобиль ворвался на станционную улицу, продолжавшую шоссе, ловко лавируя между встречными машинами, и скрылся среди них.
— Увеличьте скорость, — произнес Комаров и оглянулся.
Машина Хинского, держась в двухстах метрах, мчалась сзади. Хинский, в штатском платье, как и Комаров, сидел рядом с бойцом-водителем, тоже одетым в штатское. Встречный ветер трепал его черные волосы, и Комарову показалось, что на смуглом худощавом лице молодого лейтенанта сверкнули зубы в широкой улыбке. Губы Комарова чуть тронулись в ответной теплой улыбке. Он вспомнил радость своего юного помощника, когда тот узнал, что майор берет его с собой. Лейтенант впервые участвовал в такой крупной охоте…
Электропоезд стоял у перрона. На выходном семафоре вспыхнул зеленый цвет. "ТЭМ-146" медленно отходил от станционного подъезда.
Электроциклы не успели еще остановиться, как Комаров и Хинский спрыгнули на ходу. Они бросились вверх по широкой каменной лестнице в станционное здание.
На верхней ступени стоял человек. Он шагнул им навстречу.
Комаров пробежал мимо него, шепнув одно слово: "Индеец".
Человек быстро пошел за майором, говоря вполголоса:
— Третий вагон, пятое купе… Вдвоем… четверо остались…
— Следите за ними! — отрывисто бросил Комаров, выбегая из здания на перрон.
Мимо перрона, набирая скорость, мелькали лакированные вагоны с закрывающимися на ходу створками выходных дверей. Поезд был скоростной, с обтекаемыми формами, без промежутков между вагонами, со скрытыми ступеньками и поручнями.
Когда Комаров подбежал к краю перрона, последний вагон поравнялся с ним. Комаров бросил на него взгляд, полный отчаяния. Потом вдруг пригнулся, одним прыжком влетел в еще полураскрытую дверь вагона и уперся в нее плечом.
В следующее мгновение на него обрушился, едва не сбив с ног, Хинский и обхватил его за плечи. Неся на себе Хинского, Комаров сделал шаг внутрь вагона, отпустил дверь, и она неслышно захлопнулась за ними.
Поезд уже летел по простору полей, мягко покачиваясь и глухо погромыхивая на стыках рельсов.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
— …И я вам определенно говорю, что если бы не ранняя смерть, Красков дал бы неподражаемые вещи! Одна его "Девочка с цветами" чего стоит! А "На физкультурной площадке"? Сколько в этих полотнах изящества, тонкости рисунка! Я не боюсь сказать, что это были лишь первые шаги гения.
— Ну… уж и гения! Вы преувеличиваете, Лев Маркович, — тихо возразил Комаров, поправляя в ухе наконечник гибкой трубки; второй конец ее он плотно прижимал к отверстию трубы из установки для кондиционирования воздуха6, пытаясь уловить все звуки, раздававшиеся из разных купе. Это не мешало Комарову поддерживать с Хинским разговор об искусстве.
Когда разговор касался вопросов искусства, особенно живописи, Хинский терял спокойствие и выдержку, которым он так старательно учился у Комарова.
— Уверяю вас, Дмитрий Александрович, это был художник огромной силы. Вы просто недостаточно знаете его работы! — горячо доказывал Хинский.
Комаров вдруг предостерегающе поднял руку, наклонил голову к стенке вагона и прислушался.
Вагон, чуть покачиваясь, стремительно несся вперед. Моторы под полом монотонно жужжали, колеса глухо и дробно постукивали. За плотно закрытым окном, в сумерках засыпающего дня, свиваясь в вихри, уносилась назад придорожная пыль.
Хинский, подавшись вперед, вытянул шею, тоже стал прислушиваться.
Наконец Комаров поднял разочарованное лицо. Он поправил наконечник трубки в ухе, плотнее прижал другой ее конец к отверстию трубы из установки для кондиционирования воздуха и сказал:
— О чем-то разговаривают… Так тихо, что ничего не удалось понять… В каком-то дальнем купе очень громко говорят, забивают… Разобрал только: "Николаев" да "аэродром".
Хинский задумался. Он взял со столика вечернюю поездную газету и, расположившись поудобнее в кресле, начал читать.
Сумерки сгущались.
— В Вознесенске будем в ноль тридцать? — не то спрашивая, не то утверждая, сказал Комаров.
— Да, Дмитрий Александрович.
— Так… Значит, на меридиане Николаева в одиннадцать часов тридцать минут…
Хинский потянулся к выключателю, тихо спросил:
— Свет не помешает?
В темноте угла, куда забился Комаров, он уловил смутное движение его головы.
Свет залил купе. Комаров с опущенными глазами неподвижно сидел у стены.
Молчание длилось долго. Жужжали моторы; колеса что-то быстро и неразборчиво бормотали под полом.
Наконец Комаров вздохнул и поднял глаза.
— Что нового в газете? — тихо спросил он.
— Программа зимнего сезона в Большом театре… Новая опера Харламова… Открытие профессора Курдюмова… Новый способ переливания крови… О!.. Минутку… минутку…
Хинский быстро пробежал несколько строчек.
— Внезапно умер Вишняков… Помните? Дело об искажении георадиограмм на арктическом строительстве… Вот: "В доме предварительной изоляции при загадочных обстоятельствах…", говорится в сообщении.
У Комарова заблестели глаза.
— Подробностей нет? — спросил он.
— Нет… Вот только, что Вишнякова накануне осматривал врач и что он был совершенно здоров.
— Странно, — задумчиво произнес Комаров. — Внезапные смерти стали у нас редкими. Что бы там могло случиться?
После короткого молчания Хинский сказал:
— С линии Владивосток — Иокогама — Сан-Франциско сняты океанские электроходы "Карелия", "Днепр" и "Щорс", а с линии Ленинград — Лондон — Нью-Йорк — электроходы "Десна", "Полтава" и "Дон". Все переданы ВАРу для ускорения его морских перевозок…
— Да, там какие-то затруднения с перевозками, — заметил Комаров. — Еще перед отъездом из Москвы я слышал об этом. Какая-то путаница, неразбериха. При таком огромном, мощном флоте, какой имеется в их распоряжении… Можно подумать, что Катулин разучился вести большие дела…
Хинский перебил его:
— Большое дело… Это не то слово! Великое! Грандиозное! Я уж и не знаю, какой эпитет здесь подыскать… Второй год идет строительство, четвертый год оно волнует весь Советский Союз, весь мир, а я все не могу свыкнуться с ним, хладнокровно говорить о нем. Подумать только — переделать Арктику! Дух захватывает при одной мысли об этом! Нет, Лавров положительно гений! И ни разу мне не удалось побывать там…
— Все это верно, — медленно сказал Комаров, погруженный в свои мысли. — Боюсь только, не исполнится ли ваше желание раньше, чем вы думаете… не назревает ли и там для нас работа…
— Вы думаете? — живо спросил Хинский. — Почему?
— Слишком большие страсти разгорелись вокруг этого строительства. Слишком много мировых враждебных сил оно привело в движение.
Комаров помолчал и снова тихо заговорил:
— Мне не нравится это дело Вишнякова… И его странная смерть… И вся эта путаница в делах строительства. Это не похоже на Катулина.
На большом матовом экране над дверью вспыхнула зеленая надпись: "В вагон-ресторане ужин с 21 часа до 24 часов. Меню…" Следовал длинный список блюд, закусок и напитков.
Надпись продержалась на экране минуть пять, погасла, на ее месте вспыхнула новая: "В концертном вагон-зале с 22 часов телевизо-тонпередача: "Отелло" Шекспира со сцены Ленинградского Большого драматического театра. В ролях: Отелло — Беркутов, Дездемоны — Королева, Яго — Сикорский".
Комаров показал головой на дверь.
— Проследите, держите связь… — тихо сказал он.
Хинский отложил газету, встал, осмотрел себя в зеркале и, поправив галстук, вышел из купе.
В узком коридоре двое людей оживленно разговаривали, третий стоял у окна и смотрел в темноту на двигавшиеся по полю яркие огни. Очевидно, электрокомбайны спешно заканчивали уборку второго урожая пшеницы-скороспелки.
Хинский тоже стал у окна перед дверью соседнего купе.
Вскоре дверь отодвинулась, вышел широкоплечий, невысокого роста человек со светлыми, зачесанными назад волосами, с длинным бритым лицом и быстро закрыл купе за собой. Но за это короткое мгновение Хинский, оглянувшись, успел заметить в купе человека с черными усами. Он лежал на диване и читал газету. Пассажир, вышедший в коридор, быстро, но незаметно осмотрелся и спокойно направился к выходу из вагона.
Прильнув к окну и прикрыв рукой глаза от бокового света из коридора, Хинский, казалось, целиком ушел в наблюдение за ночной жизнью на поле.
Спустя минуту он последовал за неизвестным.
На герметически закрытых переходных площадках сильно покачивало, стук колес и гул моторов звучали ясней. Хинский быстро прошел два вагона, не выпуская из виду широкой спины незнакомца, одетого в светло-коричневый костюм.
Вагон-ресторан был ярко освещен, пестрел букетами цветов на столиках, сверкал белизной скатертей, стеклом и металлом столовых приборов. Сквозь хрустально чистое стекло внутренней входной двери среди нарядно одетых, оживленных людей Хинский увидел незнакомца, уже усаживающегося за столик.
Вдоль наружных стен вагона, над столиками, тянулась четырехугольная труба из черной лакированной пластмассы. Над каждым столиком в стенку трубы была вделана дощечка с разноцветными кнопками и цифрами против них.
Незнакомец посмотрел меню, повернулся к дощечке и нажал несколько кнопок. Потом взял газету, откинулся на спинку кресла и начал читать.
Убедившись, что незнакомец основательно уселся, Хинский оглянулся. В узком коридорчике, где он стоял, справа была дверь с надписью: "Туалет". Хинский быстро вошел в это купе и запер дверь за собой. Вынув карманный радиотелефон, он раскрыл его, настроил аппарат на волну Комарова. Через минуту послышался тихий ответный гудок.
Хинский почти шепотом произнес над микрофоном: — "Индеец" и "Лев"… Да, это я… Основной остался, спутник в вагоне-ресторане… Да… Понимаю… До конца? Хорошо… Но вряд ли… Они разойдутся… Слушаю…
Хинский спрятал аппарат в карман и, выйдя из кабины, направился в ресторан. Здесь он незаметно прошел к столику в дальнем углу.
В этот момент в трубе над столиком незнакомца раздался тихий звонок, в ней раскрылась незаметная до того дверца. В отверстии показались две конвейерные ленты: одна, верхняя, с использованной посудой, непрерывно двигалась; другая, с горкой хлеба на тарелке, была неподвижна. Незнакомец снял тарелку, лента продвинулась по трубе немного дальше и опять остановилась: показалась стопка из нескольких тарелок, набор ложек, вилок, ножей, соусники. Затем на продвигавшейся постепенно ленте показались один за другим крытые судки с блюдами. Незнакомец снял их и принялся за ужин. Он был, очевидно, голоден, если судить по количеству заказанных блюд и по той поспешности, с которой он начал есть.
"Еще бы! С утра не ел…", — сочувственно подумал Хинский.
Хинский был тоже голоден и заказал себе скромный ужин.
Стрелка на больших настенных часах приближалась уже к двадцати трем часам. Хинский, покончив с ужином, поставил использованную посуду на верхнюю ленту конвейера и принялся за фрукты. Наконец незнакомец встал и, постояв минуту, словно в нерешительности, направился в концертный вагон-зал. Через некоторое время вошел туда и Хинский.
В зале было темно, на ярко освещенном большом экране демонстрировалась сцена ленинградского театра. Отелло разговаривал с Яго, волновался, негодовал, уже отравленный ядом подозрений. Зрители с напряженным вниманием следили за великолепной игрой Беркутова и Сикорского.
Уже кончался третий акт, когда Хинский обратил внимание на то, что поезд замедляет движение.
"Подъем, что ли?" — подумал Хинский, но сейчас же отбросил эту мысль: для экспресса, шедшего со скоростью в сто пятьдесят километров в час, подъемов, замедлявших эту скорость, не существовало. Однако поезд шел все тише. В зал доносились частые приглушенные звуки сирены.
"Шестьдесят… сорок километров в час…", — с нарастающим беспокойством определял Хинский скорость, прислушиваясь к стуку колес.
Он оглянулся и шепотом спросил соседа:
— В чем дело, товарищ? Не знаете ли, почему поезд замедляет движение?
— Третий день ремонт пути… — вежливо ответил тот, не сводя глаз с экрана.
В этот момент мимо окон с обеих сторон вагона медленно проплыли назад несколько красных предостерегающих огней.
Хинский успокоился и, убедившись, что незнакомец на месте, обратился к экрану. Минут через пять поезд начал вновь набирать ход и, словно наверстывая потерянное время, с ускоренной быстротой понесся во тьме.
В начале первого, за полчаса до Вознесенска, экран потух, в зале загорелся свет, и зрители начали расходиться.
Не теряя из виду незнакомца, Хинский быстро прошел за ним в свой вагон. Когда человек скрылся в купе, молодой лейтенант отодвинул свою дверь и глухо вскрикнул.
Купе было пусто, Комаров исчез.
В открытое, вопреки всем правилам, окно со свистом врывался ветер, трепля оконные занавески и внося с собой клубы пыли, подхваченный с дороги мусор и песок. Полотенца, салфетка и вазочка с цветами валялись на полу. Пыль облаком стояла в воздухе, свет электрической лампы едва пробивался сквозь нее; трудно было дышать.
Машинально закрыв за собой дверь, Хинский некоторое время стоял посреди купе, растерянно оглядываясь и силясь что-нибудь понять. Наконец он медленно подошел к окну, поднял его и повернул рычажок герметизации. Потом он пустил вытяжной вентилятор, усилив подачу чистого воздуха из установки кондиционирования. Мозг лихорадочно работал, густые черные брови совсем сошлись на переносице.
"Что случилось? Куда он девался? Может быть, просто вышел, сейчас вернется? Но окно!.."
Он внимательно осмотрел только что повернутый на раме окна рычажок. Нет… он действует исправно. Окно было кем-то опущено. Но это категорически воспрещается правилами для пассажиров, чтобы не загрязнять чистый, свежий воздух, который подается в вагоны установками кондиционирования. Значит, что-то очень важное заставило Комарова нарушить эти правила. Комаров не такой человек, чтобы делать что-либо зря… Да… но куда же он девался? Выскочил поспешно из купе, не успев закрыть окно?
Вдруг новая неожиданная мысль кольнула сердце.
Нападение! Его выбросили в окно!
Хинский быстро оглянулся. Нет… Не видно никаких следов борьбы… Комарова голыми руками не возьмешь… Наконец, был бы шум… Сбежался бы народ…
Хинский немного успокоился, но все же подошел к окну, внимательно и пристально рассматривая столик под окном, нижнюю часть оконной рамы, место, где сидел Комаров, в углу дивана у наружной стенки.
Ничего подозрительного под ровным слоем все покрывавшей пыли.
Да! Салфетка! На столике была салфетка!
Молодой лейтенант быстро поднял ее с пола и начал исследовать сантиметр за сантиметром. Вот!
У середины салфетки, возле сгиба, чуть заметно обозначалось широкое, с неясно закругленными контурами пятно.
Хинский пристально вгляделся в него, потом вынул из кармана маленькую, но сильную лупу и навел ее на подозрительное место. Теперь хорошо видны очертания пятна.
Подошва! Подошва ботинка! Впрочем… Не он ли сам неосторожно наступил на салфетку? Нет… нет… Он отлично помнит, что бессознательно, по укоренившейся уже привычке, обходил лежавшую на полу салфетку. Уже с первого момента, войдя в купе, пораженный всем, что увидел здесь, он старался ни к чему не прикасаться, точно предчувствуя, что все это еще придется исследовать, рассмотреть. Кроме того, у него узкий ботинок, а здесь след гораздо шире. И у Комарова нога широкая…
Осторожно держа растянутую в руках салфетку, Хинский разложил ее на столике, отпечатком следа кверху. Сгиб лег ровно по бортику стола, на противоположном бортике лежал такой же сгиб. Салфетка оказалась на своем месте. След, словно отрезанный, начинался у бортика против места Комарова. Отпечаток носка приходился на середину стола.
Хинскому стало жарко. Ему впервые приходилось самостоятельно решать такие задачи.
Итак, Комаров ступил одной ногой на столик.
Зачем? К окну?!
Хинский отвернул рычажок герметизации, начал медленно и осторожно спускать раму окна.
Горячий, колкий от песка ветер ударил в лицо, растрепал волосы.
Сантиметр за сантиметром, медленно и пристально Хинский рассматривал черное каучуковое ребро оконной рамы.
Тонкая, едва заметная и чуть взлохмаченная царапина. Совсем свежая, еще взъерошенная, она шла поперек ребра — изнутри кнаружи. И вот другая вдоль ребра…
Сомнений не было! Комаров выпрыгнул в окно!
Чувствуя внезапное изнеможение, Хинский поднял раму, повернул рычажок и опустился на диван.
На полном ходу поезда… Ведь это смерть! Это самоубийство!
Лейтенант сорвался с места, бросился к двери.
Надо поднять тревогу! Надо остановить поезд! Надо искать его… может быть, уже его труп!
Он схватился за ручку двери — и остановился.
Нет! Нет, нет… Комаров не такой… Не такой человек Комаров! Что, он этого сам не понимал? Значит, это нужно было… Нужно было и можно было… Что-то произошло… Где Кардан? Не может быть, чтобы Комаров оставил Кардана. Значит, и Кардан туда же…
Вдруг вспыхнуло воспоминание: красные огни, ремонт пути, замедленный ход поезда… Ясно!
Лейтенант слабо улыбнулся, надежда оживила его. Несколько минут он сидел неподвижно, откинувшись на спинку дивана, закрыв глаза, потом встал, снял с крючка электропылесос и начал приводить в порядок купе.
Вдали за окном показались огни. Жемчужный световой туман, все больше сгущаясь, залил горизонт.
Поезд замедлил ход; тряхнуло на первой стрелке.
Вот и Вознесенск.
* * *
В Вознесенске незнакомец почти не причинял хлопот лейтенанту. По-видимому, он чувствовал себя здесь вполне спокойно и уверенно.
Не желая попадаться ему на глаза, лейтенант передал наблюдение местным работникам. Ежедневно ему сообщали лично и по микрорадио, что делает, как живет, кого посещает незнакомец.
Впрочем, с первого же дня своего пребывания в Вознесенске этот человек перестал быть незнакомцем. На большом заводе, который он с утра посетил, его давно знали: Петр Оскарович Гюнтер, контролер-приемщик ВАРа — Великих Арктических Работ.
Сейчас он приехал для обследования работы контролеров-приемщиков на заводах.
Он был очень строг, требователен, почти придирчив. Ни одна мелочь не ускользала от его глаз. И контролеры и администрация заводов с уважением относились к его указаниям. Все его требования были дельными, и возражать было нечего.
Два дня Гюнтер провел в Вознесенске. Хинский находился эти дни безвыходно в гостинице, почти не показываясь на улице. Помимо того, что в любой момент к нему могло поступить сообщение о готовящемся выезде Гюнтера из города, он неустанно занимался поисками Комарова в эфире при помощи своего микрорадио.
Он все надеялся, что майор, может быть, еще находится в радиусе действия этого маломощного аппарата, где-нибудь в пределах двухсот километров от Вознесенска.
Сомнения и тревога не давали покоя молодому лейтенанту.
За год работы с Комаровым он успел всей душой привязаться к начальнику — всегда спокойному, выдержанному, талантливому "следопыту", человеку с самыми разносторонними интересами и запросами. Беседы с ним о работе, долгие задушевные разговоры о жизни, об искусстве доставляли Хинскому истинное наслаждение. Они открывали ему столько нового, иногда неожиданного, что молодой человек готов был часами слушать своего начальника и друга.
Комаров был одинокий человек. Два года назад он потерял жену. Он был из породы однолюбов, и до сих пор затянувшаяся, но не зажившая рана тихо ныла в его сердце. Ему все не хватало чего-то, он чувствовал все время рядом с собой пустое, незанятое место. Сын умер еще мальчиком. Дочь в прошлом году уехала с любимым человеком в Ташкент, и редкие встречи с ней на экране телевизефона не могли оживить пустую теперь квартиру.
Восторженная привязанность молодого лейтенанта трогала Комарова своей искренностью. Он полюбил его, как сына, когда-то потерянного и теперь словно вновь найденного.
…Тревога мучила лейтенанта. То ему представлялось искалеченное тело Комарова — одинокое, в ночи, возле путей, то казалось, что он видит своего майора окруженным врагами, отражающим нападение, изнемогающим, раненым, то он видел его усталым, измученным жаждой, едва бредущим под палящим солнцем.
И книга летела в сторону, Хинский вскакивал с кресла, шагал по комнате, потом вновь садился за радиоаппарат и посылал в эфир свои секретные позывные.
Проще всего, казалось, было бы начать поиски через аппарат государственной безопасности. Но Комаров мог быть недоволен, если в дело, которое он взялся вести самостоятельно, будут втянуты другие люди. Единственное, на что решился Хинский в первый же день, это навести справку на ремонтируемом участке железной дороги под Вознесенском. Он спрашивал, не был ли там подобран вчера ночью или сегодня утром раненый или убитый человек, бритоголовый, высокий, плотный, в сером костюме и темно-серых мягких ботинках с застежками "молния".
Отрицательный ответ немного успокоил Хинского.
На третий день, рано поутру, Гюнтер улетел на пассажирском самолете, отправлявшемся без промежуточных посадок в Харьков. Хинский последовал за ним.
В Харькове, занятый теми же делами, Гюнтер провел еще три дня, после чего железнодорожным экспрессом Севастополь — Москва вечером выехал в столицу.
Хинский ехал в том же поезде.
Чем ближе подходил поезд к Москве, тем более возрастало волнение лейтенанта. В Москве должно было многое выясниться и решиться.
Комаров еще в поезде высказал уверенность, что если его подозрения правильны, Кардан не минует Москвы, что клубок, пока еще запутанный, завязан именно там, в столице. Теперь лейтенанту надо было быть особенно начеку, тщательно проследить Гюнтера в Москве, подобрать нить, которую тот, может быть, обронит здесь.
Кроме того, Хинский решил лично доложить заместителю министра об исчезновении Комарова. Наверное, ему уже что-либо известно. Уж ему-то майор обязан доносить о ходе работы, о своих передвижениях по территории Союза. Если он только здоров… если жив… Скорее бы… скорее бы в Москву!
Поезд прибыл в Москву поздно, около двух часов ночи.
Прямо из вагона Гюнтер направился в привокзальный подземный гараж. К удивлению Хинского, он выбрал там сильную машину, малопригодную для движения по оживленным улицам города, и, сев за руль, вывел ее из гаража. Хинский в отдалении следовал за ним на быстроходном одноместном электроцикле.
Через несколько минут он понял выбор Гюнтера. Коричневый электромобиль вскоре свернул на загородное шоссе. Держась на приличной дистанции, Хинский не отставал от электромобиля.
Ночь была темная, беззвездная. Газосветные фонари хорошо освещали широкую гладкую дорогу, ехать было легко. Ветер свистел в ушах. По сторонам сквозь деревья мелькали смутные контуры уснувших дач, проносились огни загородных ночных кафе и ресторанов, придорожных электроколонок для зарядки аккумуляторов транспорта. Все реже становился поток встречных машин. Дорога делалась пустынной. Хинский потушил фары своего электроцикла и прибавил скорость.
Задние красные огоньки машины Гюнтера приблизились.
Дорогу Хинский знал отлично. Эти места были хорошо памятны ему по воспоминаниям юности.
И теперь, почти беззвучно мчась с огромной скоростью, он узнавал поселки, станции, санатории и дома отдыха, тянувшиеся вдоль дороги.
Уже далеко позади остались Мытищи, Челюскин, скоро, за Клязьмой, должно было появиться Пушкино.
Электромобиль в облаке света от фар упорно мчался вперед.
"Куда его несет?" — подумал Хинский и посмотрел на свои светящиеся часы.
Была уже половина третьего ночи.
Справа мелькнул во тьме смутный силуэт знакомой мачты ветряка, накачивающего воду в сады и огороды.
"Клязьма…" — отметил про себя Хинский.
Едва он подумал об этом, как светлое облако впереди погасло и электромобиль исчез.
"Не проведете, гражданин Гюнтер… — подумал Хинский, ускоряя ход электроцикла. — Здесь только один поворот — направо, в улицу Коммунаров".
Зоркие глаза лейтенанта разглядели в черноте ночи поворот, и электроцикл помчался по улице. Через минуту, совсем привыкнув к темноте, Хинский увидел впереди себя темную массу электромобиля.
Расстояние между машинами быстро сокращалось. Казалось, что Гюнтер замедляет ход.
Внезапно электромобиль со скрипом остановился.
Хинский чуть не слетел с сиденья, затормозив машину на полном ходу. Через несколько секунд лейтенант лежал на земле, у кустов, растущих вдоль дороги, тихо подтягивая к себе опрокинутый набок электроцикл.
Хлопнула дверь кабины электромобиля. Послышались неторопливые шаги по песку дорожки, потом по каменным ступеням. Вероятно, Гюнтер ожидал у дверей дома.
Затаив дыхание, лейтенант медленно, неслышно подползал по траве ближе к коттеджу.
В нескольких шагах от дома он приник к земле и замер.
Изнутри за дверью послышался какой-то глухой шум.
Гюнтер тихо, приглушенно произнес:
— Свои… Косарев… Привет от Асты…
Из-за двери донеслось новое бормотанье.
— Половина седьмого… — вполголоса произнес Гюнтер.
Лязгнула цепь, послышался глухой звук засова, бесшумно открылась дверь и уже вполне явственно закрылась. Наступила тишина.
Хинский продолжал лежать, не поднимая головы. Прошло минут десять. Окна дома слепо глядели в ночь, ни искорки, ни отблеска света не мелькнуло в них.
Хинский осторожно пополз назад, к электроциклу, потом, неслышно ступая, перебежал на другую сторону улицы. Ему хотелось, насколько допускала темнота, осмотреть дачу, соседние здания, запомнить местность. Держась подальше от края мостовой, под смутно вырисовывающейся тенью деревьев, он тихо пошел налево, дошел до угла.
"Кажется, Октябрьская улица", — подумал он и, решив проверить, повернул обратно, к другому углу квартала.
Не спуская глаз с дома, все так же тихо, словно скользя над землей, он прошел мимо него и направился дальше, к углу.
И вдруг он инстинктивно метнулся в сторону, к ограде: ему показалось, что какая-то тень вынырнула из-за угла и тотчас же скрылась.
Нет, не скрылась! Чуть слышное шуршание крадущихся шагов донеслось до лейтенанта.
Лейтенант приник спиной к ограде, сердце у него забилось, кулаки сжались.
"Вот как!.. Своя охрана?!"
Скользящее, почти неслышное движение приближалось… Оно уже совсем близко… Высокая тень возникла и сгустилась во тьме, послышалось сдержанное дыхание…
Лейтенант стиснул зубы… Сердце застучало, словно молот.
И вдруг совсем близко тень сделала резкий поворот, громко скрипнул песок, вскинулась рука человека.
Хинский замер.
Мгновенно вспомнился девиз Комарова:
"В схватке не защищаться, а нападать!"
Молниеносным движением Хинский перехватил враждебную руку и сжал ее, как в тисках.
Послышался приглушенный стон, и в следующее мгновение лейтенант взлетел на воздух, перевернулся и грохнулся всем телом оземь. Он не успел еще прийти в себя, как кто-то, могучий и тяжелый, уже навалился на него…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ПРЫЖОК В НОЧЬ
После ухода Хинского в вагон-ресторан Комаров с удвоенным вниманием прислушивался к тому, что происходило в соседнем купе.
Как он и ожидал, через трубу установки для кондиционирования воздуха к нему вскоре донеслись звуки открываемой двери. Но кто вышел из купе? Оба пассажира или один? Этого Комаров не мог определить.
Оставалось ждать и слушать.
Комаров долго и неподвижно сидел в своем углу, ловя невнятные голоса, разговоры, доносившиеся из ближних и дальних купе, шорохи, зарождавшиеся в самой установке кондиционирования. Все это надо было распознать, из потока звуков выделить то, что было интересно и нужно.
Наконец настороженное ухо уловило едва слышный шум. Это был знакомый шелест тонкой и мягкой бумаги.
"Кто-то, значит, остался в купе и читает газету. Кто именно? Кардан или его спутник?"
Едва задав себе этот вопрос, Комаров услышал тихий, приглушенный гудок спрятанного в кармане микрорадио. Кто-то вызывал его. Конечно, Хинский.
Так и есть: пароль этой декады — "Индеец" и их двусторонний пароль — "Лев".
Хинский сообщал, что "основной" остался в купе, а спутник — в вагоне-ресторане. Ну что же, пусть он наблюдает за спутником неотступно, хотя бы пришлось разделиться, если тот высадится в Вознесенске отдельно от "основного"… Вряд ли?.. Почему вряд ли? Все возможно… Ну, хорошо… все…
Итак, Кардан остался в купе. Почему? Что он намерен делать? Почему не пошел в вагон-ресторан? Ведь он с утра там не был. Пора бы поесть. Решил ждать до Вознесенска? Ну что же, подождем.
Комаров опять задумался.
"Николаев"… Почему они говорили про Николаев? И "аэродром"… Правда, эти два слова в их беседе были разделены некоторым промежутком времени… В Николаеве есть аэродром. А пересадки из экспресса на Николаев нет. Значит, из Вознесенска они направятся туда, что ли? Но ведь и в Вознесенске есть аэродром! Нет, тут что-то не так…
Комаров терялся в догадках, строил предположения, но ни к чему прийти не мог.
Время шло. Было уже двадцать три часа, когда Комаров вдруг почувствовал замедление хода поезда. Колеса под полом стучали медленней, моторы звучали глуше… Снаружи, в темноте за окном, промелькнул красный огонь…
Комаров встрепенулся. Из соседнего купе по трубе донесся явственный шорох, быстрое шарканье ног по полу, какое-то металлическое пощелкивание… А поезд еще более замедляет ход! Второй красный огонь за окнам медленно ползет назад… В чем дело? Ремонт пути, что ли? А, черт!
Комаров чуть не вскрикнул: из трубы вдруг послышался заглушенный грохот какого-то упавшего предмета, легкий свист. Комаров вскочил с места, не спуская глаз с окна.
В следующее мгновение за окном прошел третий красный фонарь. В его густом кровавом свете мимо окна, отделяясь в воздухе от вагона, пронеслась какая-то темная масса, вроде тюка с раскинутыми в стороны полосами, и растворилась в темноте позади…
— Ах, дьявол! — пробормотал Комаров сквозь стиснутые зубы.
В одно мгновение он вырвал трубку из отверстия в стене, спрятал в карман, бросился к окну и опустил раму. Горячий ветер ворвался в купе, трепля занавески, неся пыль и духоту. Одним движением, держась за раму, едва коснувшись столика ногой, Комаров выбросился из вагона. Нога задела за раму, рука чуть не сорвалась, но Комаров удержался и повис на руках. Внизу проносились тени каких-то глыб, машин, штабелей. Приближался четвертый красный фонарь. Комаров сильно раскачался, глубоко вздохнул и оттолкнулся ногами от стенки вагона.
Снизу, из темноты, с головокружительной быстротой налетала на него какая-то темная бугристая масса.
Комаров вытянул вперед руки, с силой ударился ими, потом грудью обо что-то твердое, со стоном перевернулся в воздухе и покатился вниз по насыпи…
Лязгая цепями и буферами, сверкая огнями, поезд пронесся мимо и растворился в темноте.
Его отдаленный гул, замирая, скоро совсем затих, и в потревоженную на мгновение степь вернулись ночь, безмолвие и покой…
* * *
Откуда-то издалека со странным звоном донеслась короткая тихая очередь пулемета и оборвалась… потом, совсем близко, откликнулась другая… Нет, это не пулемет… Как будто ласковое шепелявое стрекотанье бабушкиной швейной машинки… Пахнуло далеким солнечным детством… Потом вдруг зябкая дрожь прошла по телу…
Комаров открыл глаза.
На склоне ясного неба длинное, с рваными краями облачко окружилось золотой каймой. У самого уха в густой траве трещал свою раннюю песенку кузнечик.
Комаров быстро пришел в себя.
— Вот тебе и пулемет и бабушкина машинка, — усмехнулся он и сел.
Кузнечик взвился, трепеща крылышками, описал дугу и скрылся за высокой кучей щебня.
Боль в груди и правой руке напомнила обо всем, что произошло ночью.
Вдали громыхали машины, гудели моторы, лязгал металл.
"Ну, мое счастье, что упал сюда, — подумал Комаров оглядываясь. На этом участке ремонт пути, видимо, был уже кончен: машины, рельсы, камень убраны, остались лишь кучи песка и гравия.
В южных степях светает и в августе очень рано. Солнце уже стояло над горизонтом. Золотая кайма на облачке бледнела и ширилась. Подул прохладный ветерок. Тихо шелестела пшеница, плотной высокой стеной стоявшая по обе стороны полотна.
Шатаясь и потирая ушибленную грудь, Комаров медленно встал, отряхнул с себя пыль и пошел, прихрамывая, вдоль пути, внимательно всматриваясь в землю, в траву, покрывавшую небольшой пологий откос. Следов было много — и свежих и старых, трава была везде примята, покрыта пылью и землей.
Комаров рассчитал, что он выбросился из вагона и упал примерно метрах в шестидесяти от места, куда должен был упасть Кардан. Однако, пройдя гораздо больше, Комаров не заметил ничего, что можно было принять за след Кардана. Тогда Комаров, отойдя подальше от полотна дороги, прошел обратно, к месту своего падения. Слева от него колыхалась высокая стена пшеницы. Золотистое море с седой зыбью тяжелых колосьев тянулось, насколько хватал глаз, до самого горизонта. Ни в пшенице, ни на земле, ни на кучах песка — нигде ни малейшего подозрительного следа.
— Что за черт! — пробормотал Комаров, потирая подбородок, и поморщился; подбородок был второй день не брит, и это было очень неприятно. — Куда же, однако, он девался? Не к Знаменке ли пошел пешком?.. Ба! Николаев! Посмотрим по ту сторону пути.
Комаров перешел через полотно железной дороги. Та же взрыхленная почва, те же кучи песка и щебня, ровная стена шумящей пшеницы. Шаг за шагом Комаров исследовал узкое пространство между пшеницей и полотном дороги и вдруг припал к земле.
На небольшом камне под косыми лучами солнца сверкала, как свежеотбитый осколок красного стекла, капля крови. Немного поодаль едва заметно краснело в песке другое кровавое пятнышко. Комаров осторожно притронулся к нему пальцем. Палец окрасился.
"Свежее", — подумал Комаров и поднял голову.
Прямо перед ним, как пролом в плотной пшеничной стене, темнел узкий проход со сломанными, раздвинутыми в обе стороны колосьями. Присмотревшись, Комаров теперь заметил на поверхности пшеничного моря извилистую темнеющую полоску, уходящую далеко на юго-восток.
— Так… Понятно… Ломать пшеницу?! Никто другой не позволил бы себе этого. Итак, на Николаев?.. — пробормотал Комаров и, зачем-то оглядев себя, почистил один рукав, потом другой, одернул куртку и решительно направился к пробитому в пшенице следу.
Через два шага он почувствовал себя словно затерянным в густом подводном лесу. Как будто плывя в море колючей воды, Комаров обеими руками раздвигал перед собой зыбкую щетинистую массу колосьев, тяжелых, словно маленькие початки кукурузы; колосья кололи глаза, уши, ноздри. Путь был тяжел и мучителен. Пыль забиралась в нос и рот, в горле першило, солнце, поднимаясь все выше, припекало обнаженную бритую голову, ноги путались в густой массе стеблей.
Но Комаров шел по следу, не думая об отдыхе, зорко всматриваясь в сетку стеблей.
Его занимал вопрос, на сколько времени Кардан опередил его. Может быть, он упал счастливее и тотчас же двинулся в путь? Тогда, значит, он впереди часа на четыре. Это слишком много… Но нет… Кровь была еще довольно свежа… Значит, можно думать, он вошел в пшеницу всего лишь часа на два раньше. Кроме того, дорожку эту он первый прокладывал, ему и трудней пришлось. Тогда дело обстоит не так уж плохо.
И, стиснув зубы, Комаров раздвигал брассом7, как пловец, пшеничное море. Вверху звенели жаворонки, купаясь в синеве ясного неба. Солнце жгло голову все сильней. Было душно и жарко. Ломило руки, спину, шею. Еще болела грудь от удара при падении. Перед глазами все чаще возникало и дрожало сетчатое огненное марево. Во рту горело, хотелось пить. Пшеничное море представлялось бесконечным. Казалось, вся жизнь прошла и пройдет в этом шелесте колосьев, в однообразном и мучительном движении рук — вперед, в стороны, опять вперед, опять в стороны…
И вдруг после одного из взмахов, как за распахнувшимся занавесом, прямо перед уставшими глазами открылся необъятный светлый мир. Пшеничное поле кончилось.
Далеко на юг, почти до горизонта, простиралось пустынное желтое жнивье. Но, посмотрев направо, Комаров увидел вдали процессию огромных машин, неуклюжих, как стадо первобытных мастодонтов. Одна за другой, уступами, они приближались к нему вдоль стены несжатой пшеницы. Это были электрокомбайны, убиравшие урожай.
Вытирая платком лицо и голову, Комаров поспешил к передней машине. Он увидел перед собой тихо гудевшее двухэтажное сооружение на низких толстых колесах, блиставшее медью, пластмассой и стеклосталью. За комбайном тащилась огромная платформа с высокими бортами, нагруженная рядами квадратных соломенно-желтых плиток-брикетов. Из комбайна тянулся длинный открытый желоб, двигавшийся над платформой. По желобу безостановочно шел поток брикетов и укладывался в ряды. Справа от комбайна горизонтально вертелись длинные крылья, наклонявшие стебли пшеницы к ножевому аппарату, от которого подрезанные стебли по ленте конвейера шли к машине и исчезали в ней.
Когда-то комбайн обрабатывал урожай только до момента получения чистого зерна и снопов соломы. Теперь эта машина, постепенно усложняясь и совершенствуясь, превратилась в комбайн-мельницу и фабрику брикетированной соломы. Пройдя через различные агрегаты комбайна, зерно превращалось в чистейшую муку и отруби, а солома размельчалась и прессовалась в маленькие брикеты, которые потом отправлялись как сырье на бумажные или химические фабрики.
За широким стеклянным окном в передней части комбайна Комаров увидел молодое лицо, изумленно глядевшее на него. Комаров поднял руку. Машина остановилась, из открывшейся сбоку дверцы показался человек и спустился по лесенке наземь. На нем были широкополая шляпа, белоснежный комбинезон из тонкой легкой материи, на ногах белые легкие туфли, на загорелом лице сверкали живые, полные любопытства глаза. Молодой человек быстро направился к Комарову, приветливо улыбаясь и протягивая руку:
— Здравствуйте, товарищ! Чем могу вам быть полезным? Вы, видно, устали? Не хотите ли зайти ко мне в рубку? Там прохладно, можно отдохнуть и освежиться…
Молодой человек говорил торопливо и внимательно оглядывал Комарова. Очевидно, комбайнера разбирало любопытство.
Комаров поднял воспаленные глаза и хрипло сказал:
— Благодарю… Но прежде всего… Вы не заметили, кто-нибудь до меня выходил сюда из пшеничного поля?
— Ну, конечно! — живо ответил комбайнер. — Это-то меня и поразило. Вы второй человек, вышедший из пшеницы. И как раз в том же месте. Очевидно, вы шли по следам первого, и потому, надеюсь, поле не очень пострадало… Спутанные и надломленные стебли наши машины не очень любят.
— Знаю… — коротко прервал молодого человека Комаров. — Простите… Но где он, этот человек?
— Так ведь я же сам отвез его в совхоз! — воскликнул комбайнер и с беспокойством оглянулся. — Но зайдемте в рубку и продолжим беседу там. Задняя машина нагоняет меня, и мы ее задерживаем. Может получиться неприятность.
В рубке комбайнера, узкой и длинной, было удобно и прохладно. На передней стенке расположились вокруг смотрового окна щиты телеуправления всеми комбайнами этой группы, контрольные приборы, красные и зеленые лампочки сигнализации, приборы автоматического шофера, экран телевизефона. Против двери у окна стояли столик, два легких стула; вдоль задней стенки — узкая кушетка, над ней — полочка с книгами, в углу — небольшой шкаф-холодильник. На столе была приготовлена закуска из мясных и овощных блюд, вскрытая коробка с концентрированным бульоном, фрукты, графин с прохладительным напитком. Комбайнер, очевидно, готовился завтракать.
— Садитесь за стол, — радушно предложил молодой человек, пропуская гостя в кабину. — Подкрепитесь. Завтрак скромный, но сытный. Я пущу машину и тотчас присоединюсь к вам.
Комаров тяжело опустился на один из стульев у стола и с наслаждением выпил один, потом другой стакан приятного напитка из графина.
— Вы могли и не подымать руки перед машиной, — продолжал словоохотливый комбайнер, усаживаясь в свое кресло перед смотровым окном и запуская машину. — Автоматический шофер все равно остановил бы ее перед вами.
— Он снабжен инфракрасным сторожем? — спросил Комаров, жадно принимаясь за бутерброды.
— Нет, простым фотоэлементом. Этот аппарат нащупывает за двадцать пять метров впереди любое препятствие выше тридцати сантиметров над землей. Сначала он предупреждает об этом водителя звонком, а если тог спит или отлучился, то сам останавливает комбайн. Такой же фотоэлемент удерживает машину на краю пшеничного поля и не позволяет ей уклоняться в сторону.
Машина тихо, чуть покачиваясь, шла вперед. Позади, за стеной рубки, мягко гудели моторы. Внутренние агрегаты возобновили, прерванную работу, а снаружи за боковым окном завертелись узкие длинные крылья мотовила, пригибая к ножам хедера8 сильные стебли пшеницы.
Молодой комбайнер оставил свое кресло и перешел к столу.
— Как вы все-таки попали сюда, товарищ? — спросил он наконец, не умея сдержать свое любопытство. — Зачем вы ломились через поле, когда в пяти километрах отсюда есть прекрасная дорога?
Комаров молча доел второй бутерброд и выпил лимонаду.
— Мне очень жаль, мой друг, — сказал он наконец, — что я не могу ответить вам на этот вполне законный вопрос. Наоборот, я хотел бы сам кое-что узнать от вас. Не можете ли вы мне описать наружность человека, который встретился вам до меня?
Молодой человек смутился, слегка покраснел.
— Пожалуйста… Простите, если мой вопрос показался вам нескромным… Что касается человека, то это был коренастый, широкоплечий мужчина, смуглый, с густыми черными усами и такими же черными волосами. Ладонь его правой руки была перевязана носовым платком, сквозь платок проступала кровь. Человек шел прихрамывая. Он объяснил мне, что его ушибло на работе по ремонту железнодорожного пути, что его хотели отправить в Вознесенск, но он пожелал, поскольку уже работать не придется, побывать у своей семьи в Николаеве. Так как все машины с их участка оказались в разгоне, то он надеялся, что доберется как-нибудь на попутной машине до цели. Бункера моего комбайна были уже полны мукой, и мне нужно было отправиться в совхоз, чтобы сдать продукцию. Я и предложил этому человеку свои услуги.
Комаров внимательно слушал.
— Еще вопрос, товарищ. На каком языке вы разговаривали с этим человеком?
Комбайнер с удивлением посмотрел на Комарова.
— То есть как это на каком языке? Разумеется, по-русски…
Довольная улыбка появилась на лице Комарова.
— Да, да… разумеется, по-русски… Ну, конечно, по-русски! — И, сразу согнав улыбку, он продолжал: — Акцента никакого не заметили?
— Нет, — ответил комбайнер. — Никакого.
— Отлично! Великолепно! — с посветлевшими глазами говорил Комаров. — Очень вам благодарен, товарищ. Это как раз то, что мне нужно было знать. Где вы ссадили этого человека?
— В совхозе. Там ему обещали с первой же машиной — электромобилем или геликоптером9 — доставить его в город.
Комаров насторожился.
— О дальнейшем вам ничего не известно?
— Нет. Я быстро выгрузился и вернулся в поле.
— У вас, кажется, постоянная связь с совхозом. Я вижу в углу аппарат телевизефона. Нельзя ли вызвать на экран кого-нибудь из совхоза?
Через несколько минут Комаров узнал, что незнакомец, доставленный в совхоз молодым комбайнером, пятнадцать минут назад в грузовом электромобиле отправлен в город, что задержать эту машину невозможно вследствие порчи ее телевизефонной установки, что все легковые машины совхоза сейчас в разгоне и первая вернется лишь минут через двадцать, а до Николаева от совхоза всего около ста километров.
Экран померк. Комаров недовольно потер колючий подбородок.
— Когда вы предполагаете отправиться в совхоз? — спросил он.
Комбайнер посмотрел на контрольный прибор, показывающий количество муки в бункерах, потом на пшеничное поле.
— Минут через двадцать. Дойдем до дороги, к этому времени моя полоса кончится и бункера заполнятся.
— А сколько езды до совхоза?
— С полчаса.
— Ничего не поделаешь, товарищ. Придется немедленно отправиться туда.
Молодой комбайнер с недоумением посмотрел на своего самоуверенного и требовательного гостя.
— Простите… Не понимаю… С чего это вдруг? Работа не кончена и… и это внесет беспорядок в работу всей колонны… Я нарушу строй и график.
После минутного колебания Комаров сказал:
— Сознаю, мой друг, и очень прошу извинить меня за бесцеремонность. Но… этого требуют интересы государственной безопасности.
Комаров отогнул обшлаг. Под ним золотисто сверкнул значок.
В первый момент комбайнер казался ошеломленным, затем покраснел от радости: впервые в жизни ему выпала такая редкая удача — принять непосредственное участие в деле государственной важности.
Он засуетился, бросился к щиту управления.
— Сию минуту, товарищ… товарищ?.. — и, не дождавшись ответа на свой робкий вопрос, продолжал: — Только вызову сюда помощника, передам ему колонну… Ей надо перестроиться.
Через несколько минут огромный комбайн, тяжело покачиваясь на низких колесах и набирая скорость, понесся по жнивью вдоль высоких, нетронутых зарослей пшеницы.
ГЛАВА ПЯТАЯ
НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
Недалеко от совхоза Комаров вышел из рубки комбайна, сел на скамью в придорожной аллее и, вынув из кармана аппарат, послал в эфир свой пароль. Несколько минут он поговорил с кем-то; в это время подошел легковой электромобиль, высланный ему навстречу директором совхоза.
Быстро понесся элекгромобиль по шероховатой дороге. Позади остались пшеничные поля с медленно бредущими по ним комбайнами. Сначала тянулось словно остриженное под машинку плоское жнивье, затем пошли бахчи. Здесь работали странные машины с длинными металлическими когтистыми лапами. Лапы поочередно опускались, поднимали с земли огромный тяжелый шар, подрезав стебель, поворачивались и осторожно клали арбуз в тащившуюся позади машины тележку. За бахчами начались сады.
— Скоро аэродром, — сказал водитель, оборачиваясь к Комарову, — а там и город. Вы куда хотели бы подъехать?
— Сначала к аэродрому. Возле него нас встретят.
Действительно, не успела вдали показаться белая вышка аэровокзала, как из придорожной аллеи показался легкий электроцикл. Седок поднял руку, электромобиль замедлил ход, и обе машины пошли рядом. Комаров высунул голову из окна и вопросительно посмотрел на электроциклиста.
— Номер? — спросил тот.
— Двести восемьдесят шесть, — ответил Комаров.
— Грузовая машина совхоза пришла в город пустая, — доложил человек. — Пассажир высадился за километр до аэродрома, у входа в последний сад. Через некоторое время на аэродроме появился субъект, интересующий вас. Приметы сходятся.
— Где он сейчас?
— Записался на рейсовый самолет Николаев — Воронеж — Куйбышев — Свердловск и пошел в ресторан аэровокзала. Машина улетает в четырнадцать десять… через несколько минут.
— Я успею? — быстро спросил Комаров.
Человек пожал плечами:
— Сомневаюсь, товарищ…
— Гоните! — крикнул Комаров, обернувшись к водителю. — Вовсю! К аэровокзалу!
Электромобиль, словно подскочив и сорвавшись с места, стремглав ринулся вперед. Ветер пронзительно засвистал в ушах Комарова. Электроцикл не отставал от машины.
— Наблюдение ведется? — крикнул Комаров, перекрывая свист ветра и гудение моторов.
Человек утвердительно кивнул головой.
Комаров посмотрел на часы. Оставалось только три минуты до отлета.
Комаров понял, что может опоздать и надолго, а то и совсем потерять Кардана из виду. На мгновение ему показалось, что все пропало. Холодная, медленно нарастающая ярость охватила его. Что может произойти, если подозрения относительно этого человека правильны? Диверсия! Катастрофа! Гибель людей! И как он, Комаров, будет смотреть в глаза заместителю министра государственной безопасности? Как он доложит ему о своей неудаче, о том, что буквально из рук выпустил этого человека? Он заскрипел зубами и тут же отчаянным усилием воли подавил свое волнение.
Прежде всего не хныкать, не безумствовать, а действовать.
Вернуть с пути геликоптер, послав ему приказ по радио? Зачем? Чтобы принять опоздавшего пассажира? Глупо! Лишь обратить на себя внимание Кардана… Не годится!
Догонять на другом аппарате? Найдется ли он на аэродроме? А если найдется, пока подготовишь к взлету… и его скорость неизвестна… Не годится!
Дать радиоприказ в Воронеж, Куйбышев, Свердловск, чтобы встретили там Кардана, установили наблюдение за ним? Но Кардан может "по требованию" спуститься где-нибудь в пути с парашютом — обычное явление на воздушных трассах Советского Союза. Ищи потом следы! Не годится! Не годится!
Что же делать?
Электромобиль уже мчался по въездной аллее аэродрома. Она была, к счастью, пуста. Машины неслись к видневшемуся вдали высокому белому зданию… Справа сквозь деревья видна была широкая ровная площадка — взлетное поле аэродрома.
У перрона стоял готовый к отлету огромный геликоптер, опираясь, как на единственную ногу, на высокий, в два человеческих роста, пружинный амортизатор в виде тумбы с расширяющимся основанием.
Кашалотообразный фюзеляж гетикоптера сверкал на солнце широкими окнами кабин. Как круглый рыбий хвост, поставленный на ребро, высоко в воздухе висел широкий руль горизонтальных поворотов. Впереди из-за фюзеляжа выглядывали отливавшие серебром концы лопастей металлического пропеллера. Над фюзеляжем, все убыстряя вращение длинных лопастей, ревел гигантский горизонтальный ротор10.
Все двери и окна геликоптера были уже герметически закрыты, провожающие стояли на перроне, махая платками и шляпами. Мощный "Дедал" готовился к прыжку в высокое, бледное от жары небо.
Держась за ручку дверцы, Комаров сидел, стиснув зубы, готовый к прыжку из машины.
Его нервы напряглись до крайности, до озноба.
И вдруг, неожиданно для самого себя, он крикнул водителю:
— К геликоптеру! Слева к ноге!
Он с усилием раскрыл против ветра дверцу кабины.
Электромобиль, как метеор, врезался в смерч, поднявшийся вокруг геликоптера, и, вскинув от внезапного торможения задние колеса, с пронзительным визгом остановился у амортизатора. Комаров стремительно выпрыгнул из еще не остановившейся машины.
В следующее мгновение геликоптер сделал гигантский скачок в воздух и высоко взвился над землей.
Зрители на площадке аэродрома дружно вскрикнули. Толпа заволновалась.
Среди ажурного сплетения прутьев амортизатора все ясно увидели крошечную фигурку человека, уверенно взбиравшегося вверх, под брюхо фюзеляжа. Геликоптер быстро уходил ввысь, затем лег на курс и скоро исчез в вышине.
Сопровождавший Комарова электроциклист бросился в радиорубку аэровокзала…
* * *
Уже в воздухе, сжав зубы, легким усилием тренированного тела Комаров подтянулся вверх и через минуту, перебирая руками прутья, очутился в ажурном колоколе амортизатора, под днищем фюзеляжа11.
"Дедал" был уже на высоте около двух тысяч метров и с тихим урчаньем несся на северо-восток, когда из-под брюха фюзеляжа опустилась вниз суставчатая пластмассовая оболочка амортизатора и закрыла его со всех сторон, придав ему обтекаемую форму.
Внутри стало совсем темно. Опираясь ногами на прутья и крепко держась за них руками, Комаров облегченно вздохнул: от ураганного ветра, холодного и режущего, уже начало зябнуть все тело, болеть кожа на лице и руках.
Держась одной рукой, Комаров быстро расстегну т свой кожаный пояс и после некоторых усилий надежно прикрепил себя к одному из прутьев. Руки теперь были свободны. Комаров достал микрорадио и стал быстро настраивать его на нужною волну. Надо было торопиться: "Дедал" быстро выйдет из двухсоткилометровой зоны действия радиоаппарата.
Комаров отыскал волну Николаева, местного управления государственной безопасности.
— "Индеец"… "Индеец"… — понеслось в эфир. — Двести восемьдесят шесть… Двести восемьдесят шесть… Да, да… Комаров… Кто у аппарата? Включите диктофон и слушайте. Говорю из амортизатора пассажирского геликоптера "Дедал" Николаев — Свердловск. Немедленно прикажите командиру "Дедала" строго секретно принять меня на борт машины. Без шума и лишних разговоров… Что? Волна "Дедала" мне неизвестна… Что? Нет. Лучше сами сообщите ему. Стучать в люк не хочу… Поспешите… Очень холодно… Трудно дышать… Все.
Очевидно, геликоптер поднимался все выше, и температура в амортизаторе быстро и резко опускалась, холод все сильнее пронизывал. Руки и ноги коченели, мучительно трудно было положить радиоаппарат обратно в карман. Кровь молотом стучала в висках, голова кружилась, подступала тошнота и не хватало воздуха. Комаров ловил его судорожными глотками.
"Дедал" был уже, вероятно, на высоте семи-восьми тысяч метров.
Минуты казались часами. Медленно текли мысли. Почему медлят на "Дедале"? Неужели еще не получили приказа? Недолго и замерзнуть… Не постучать ли в люк?
Сказывалась все сильней усталость — результат напряженного дня и пониженного атмосферного давления на высоте. Руки не держали, подгибались немеющие ноги. Тело начинало свисать на поясе. Мысль угасала. Далекое и тихое гудение винта превратилось в рев, заполняло и разрывало голову.
Надо стучать… Обессилеешь совсем… Все пропадет.
От невероятного напряжения воли закружилась голова. Что-то теплое упало на руку. Кровь… из носа… Еще… все чаще…
Из последних сил Комаров оторвал от прута тяжелую, словно налитую чугуном, руку и вскинул ее к люку над головой.
Рука очутилась в пустоте и осталась там, крепко схваченная чьими-то теплыми дружескими руками. Комаров слабо встрепенулся. Как будто сквозь сон он увидел падающую мимо него гибкую металлическую лестницу, быстро спускающихся по ней двух человек в электрифицированных комбинезонах и кислородных масках. Ловкие пальцы молниеносно расстегнули пояс. Еще мгновение, и, подтянутый кверху сильными руками, Комаров очутился в небольшой кабине.
Лежа на кушетке, вдыхая теплый, обогащенный кислородом воздух, в блаженной дремоте, он отдавался заботливым рукам, раздевавшим его, массировавшим окоченевшее тело, подносившим укрепляющее питье.
Первым его вопросом было:
— До Воронежа близко?
— До Воронежа? — послышался ответный недоумевающий вопрос. — Да ведь мы еще только в ста километрах от Николаева!
С радостным удивлением Комаров посмотрел на своего собеседника. Тот добродушно улыбался.
Очевидно, он правду говорит. Значит, прошло всего лишь десять — пятнадцать минут с момента отлета. А казалось, будто вечность… Комаров усмехнулся и покачал головой.
Ел он с жадностью и после еды сразу почувствовал себя крепче. За едой поговорил с вошедшим в кабину командиром воздушного корабля, условился, что о каждом требовании высадки с парашютом тот его предупредит.
Короткий сон окончательно восстановил силы Комарова. В салон он вошел чисто выбритый, бодрый, спокойный, как всегда, с наслаждением потирая гладкий подбородок. Его появление среди пассажиров корабля не привлекло ничьего внимания.
Кардан с перевязанной ладонью, с газетой на коленях дремал в покойном, глубоком кресле у широкого окна.
У Комарова едва заметно шевельнулись брови. Ему сразу бросилось в глаза нерусское название газеты.
* * *
В Воронеже геликоптер опустился на центральный аэродром в шестнадцать часов. Через несколько минут он вновь поднялся, оставив в городе Кардана и Комарова.
Пообедав в ресторане аэровокзала, Кардан долго ходил по улицам, словно знакомясь с городом.
Сумерки начали сгущаться, когда Кардан свернул в тихую, обсаженную кустами и деревьями улицу Коммунаров и дошел до парка Электриков. Перед последним домом с высоким арочным подъездом он прошелся взад и вперед и, словно убедившись в окружающем спокойствии, решительными шагами вошел в ярко освещенный подъезд.
Укрывшись за густым кустом жасмина, Комаров видел сквозь стекло наружной двери, как Кардан начал подниматься по лестнице. Подождав немного, Комаров вынул из кармана свой аппарат микрорадио и тихо, почти шепотом, поговорил с кем-то.
Минут десять он оставался на своем посту, не сводя глаз с ярко освещенного подъезда. Кругом было тихо и безлюдно. Лишь с улицы Октябрьской революции катился непрерывный гул, говор и шум толпы, глухие сигнальные вскрики электромобилей и электроциклов.
Со стороны парка доносились обрывки мелодий "Пер Гюнта"12, порой заглушаемые звонкими голосами и взрывами смеха.
Внезапно из тени деревьев возник человек и приблизился к Комарову. Они тихо поговорили несколько минут, и человек снова исчез в темноте.
Комаров продолжал наблюдать за подъездом.
Через четверть часа человек вернулся.
— Посты расставлены, товарищ майор, — тихо доложил он Комарову. — В дворовом саду — ангар с двумя спортивными геликоптерами типа "Икар". На втором этаже живет лаборант завода концентрированных продуктов питания Заммель. Один из геликоптеров принадлежит ему.
— Вот как… — задумчиво произнес Комаров. — Его номер? Отличительные признаки?
— Номер "МФ 26–140". Красный фюзеляж с косыми синими полосами.
— Отлично, товарищ лейтенант! Приметы приезжего я уже вам сказал. Через пятнадцать минут пришлю вам увеличенные снимки моего микрофото, которые я успел сделать в дороге. Раздадите их по постам. Я буду в управлении. Держите со мной связь, каждый час радируйте. При вылете машины или подготовке вылета сообщите немедленно.
— Слушаю, товарищ майор!
Четыре дня Кардан безвыходно находился в квартире Заммеля, никуда не показываясь. Лишь два раза постовым удалось заметить его профиль в окне, выходящем во двор.
Поздним вечером четвертого дня Комаров наконец получил сообщение, что красный геликоптер выведен из ангара и что его готовят к отлету. Еще через пять минут последовало сообщение, что в машину вошли Заммель и Кардан. Через минуту геликоптер взвился в воздух, покружил над городом и лег на курс северо-запад.
Комаров в своем геликоптере с погашенными огнями устремился за ним. Город, словно огненное озеро, быстро промелькнул под машиной.
Ночь была безлунная, темная, хотя и звездная. Лишь с помощью инфракрасного ночного бинокля удавалось не терять из виду машину Кардана, держась позади нее на достаточном расстоянии.
Через час быстрого полета, когда белесоватое световое пятно Тулы проплыло далеко слева, Комаров, не отрывая бинокля от глаз, сказал пилоту:
— На Москву летим…
— Точно! — согласился пилот. — Скоро покажется и Москва.
Вскоре впереди на горизонте показалось светлое, чуть мерцающее облако. Облако светлело, разрасталось, заполняя четверть черного неба. На фоне этого жемчужного занавеса машина Кардана была отлично видна. Еще несколько минут — и вдали открылось спокойно горящее море добела раскаленной, расплавленной лавы.
— Москва! — сказал пилот.
Геликоптер Кардана начал вдруг быстро снижаться, замедляя ход. Пилот Комарова последовал за ним. Залитая светом Москва опять скрылась, оставив на высоте мерцающий туман.
Машина Кардана опустилась еще ниже и начала медленно кружить в воздухе, словно ища удобного места для посадки. Комаров поднялся над ней повыше, наблюдая за ее маневрами. Внизу под машинами вдруг вспыхнул огромный правильный треугольник из зеленых световых полос. Машина Кардана тотчас же подлетела, остановилась в воздухе прямо над зеленым треугольником и медленно пошла на посадку.
Геликоптер Комарова отлетел на сто метров в сторону и ринулся вниз на хорошо заметную в ночной бинокль свободную ленту какой-то улицы. Слабое гудение мотора тонуло в гудении машины Кардана. И тут и там шум смолк почти одновременно. Очевидно, оба аппарата приземлились в один и тот же момент.
Легкий упругий удар, тишина: посадка была совершена вполне благополучно.
— Подождите меня здесь, — шепотом сказал Комаров пилоту, выходя из кабины. — Пойду на разведку.
Тьма окружила его. Комаров посмотрел на светящийся циферблат своих часов. Было уже поздно: третий час. Вдали сверкал ночной фонарь. Смутно виднелись сквозь черноту ночи густые массы деревьев, силуэты темных домов.
Комаров определил, где должен был быть световой треугольник, тихо перешел улицу и в густой тени деревьев осторожно пошел в намеченном направлении. Дойдя до угла, он после небольшого колебания повернул направо и, неслышно ступая, пошел вдоль забора под нависшими ветвями. Через каждые пять шагов останавливался и, затаив дыхание, вслушивался и всматривался в тьму, напрягая почти до боли глаза. Он долго шел, повернул на другую улицу, потом обратно — медленно, осторожно. Где-то здесь, по той стороне улицы, должно было находиться небольшое здание, похожее на коттедж, с четырьмя стрельчатыми башенками — по одной на каждом углу. Он его хорошо запомнил, разглядев в бинокль. Но ничего похожего на башенки не было видно, хотя в поисках прошло уже около получаса. Как назло, он забыл взять с собой бинокль. Не вернуться ли за ним?
"Ладно, — подумал с досадой на себя Комаров. — Пройду еще немного… Не найду — вернусь к аппарату за биноклем".
Вдруг легкий шорох заставил его окаменеть на месте. Как будто что-то живое метнулось в сторону, к забору. Комаров вслушивался, не шевелясь, не дыша. Прошли томительные минуты звенящей тишины. Кажется, померещилось… Не иначе как померещилось.
Комаров осторожно, на носках, двинулся вперед. Проклятый песок: нет-нет да зашуршит! Ни зги не видать… Еще напорешься на что-нибудь…
Едва он протянул вперед руку, как рядом кто-то шумно вздохнул, мелькнула тень, кто-то цепко схватил руку Комарова и больно завернул ее за спину.
От неожиданности Комаров издал приглушенный стон, но свободная рука почти автоматически, как стальной рычаг, стремительно рванулась, схватила врага, вскинула в воздух и бросила оземь.
В следующее мгновение Комаров уже всей тяжестью навалился на кого-то и придавил его к земле, прерывисто бормоча сквозь зубы:
— Молод… глуп… не сеял круп…
И вдруг послышался слабый, придушенный стон, страдальческий и радостный:
— Комаров!
И сразу обмякли напруженные мускулы, от радости на мгновение закружилась голова, перехватило дыхание.
— Хинский!..
ГЛАВА ШЕСТАЯ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД
Лето в тот год было жаркое, душное. Бледно-синее, без единого облачка небо таяло в вышине. Полуденное солнце жгло немилосердно.
Лавров вышел на набережную. Сразу повеяло прохладой. Очутившись в густой платановой аллее, Лавров облегченно вздохнул и снял белый берет.
Здесь было немноголюдно, несмотря на праздничный день. Лавров шел быстро, рассеянно посматривая на противоположную сторону реки, на взбегающие над ней вдали смелые арки легких мостов. За рекой виднелись высокие здания, похожие на дворцы, украшенные колоннами, балконами, скульптурами в нишах. Как всегда летом в праздничные дни, полноводная река была усеяна судами. С белоснежных яхт, шлюпок, катеров, расцвеченных флагами, переполненных людьми, неслась музыка. Изредка, низко гудя, медленно и осторожно проплывал большой волжский электроход13.
Не менее оживленно было в воздухе. Над рекой и городом реяли ярко раскрашенные аэромобили14, похожие на жучков с короткими выдвижными крылышками, геликоптеры с узкими стрекозиными или трехэтажными башенными туловищами, орнитоптеры15 с птичьими крыльями.
Лавров словно не замечал всей этой праздничной картины.
За густой оградой из кустарников, окаймлявшей аллею, возникло огромное здание. На его открытых террасах и балконах, увитых зеленью, звенели детские голоса, мелькали цветные женские платья. Посредине фасада здание полукругом отступало вглубь. Перед центральным входом пестрели цветники, зеленели газоны, высокие говорливые фонтаны разбрасывали сверкающую жемчужную пыль. В глубине полукружия за рядом строгих колонн открывался обширный вестибюль, похожий на уголок густого сада.
По тихо шелестящему эскалатору16 Лавров поднялся на площадку перед высокой резной дверью с табличкой: "Ирина Васильевна Денисова, инженер". На высоте человеческого роста в обеих половинках двери мягко отсвечивали два больших серебристых овала. Один из овалов отразил, словно матовое зеркало, лицо Лаврова — молодое, худощавое, с тонким носом и маленькими, тщательно подстриженными черными усиками. Под высоким лбом, чуть сжатым в висках, светились, то прячась в длинных ресницах, то вспыхивая глубоким внутренним светом, синие задумчивые глаза.
Он с минуту постоял неподвижно перед дверьми, потом овал повернулся в своем гнезде, и дверь бесшумно открылась.
Лавров вошел в высокую переднюю, и дверь, щелкнув, сама захлопнулась за ним.
Послышались легкие шаги.
— Сережа! Голубчик! Как это мило, что вы вспомнили обо мне! Я уже начала скучать по вас и собиралась звонить…
Перед Лавровым стояла девушка с двумя тяжелыми русыми косами. Большие серые, чуть выпуклые глаза девушки сияли, точно льдинки, и все ее свежее, с нежным румянцем лицо казалось сейчас только умытым холодной, ключевой водой.
— Здравствуйте, Ирина… Здравствуйте… Поздравляю вас с вашей первой годовщиной…
— Спасибо, Сережа. Это очень, очень радостный для меня день! Первая годовщина на первом заводе…
— Ну кто же у нас не радуется такому дню! Я уже давно к вам собирался.
— Слишком долго вы собирались, — смеялась девушка. — Идемте!
Она провела его через гостиную в соседнюю маленькую комнату, уставленную мягкой мебелью. Окна были наглухо закрыты, но воздух, подаваемый из установки кондиционирования, был чист и свеж, с легким ароматом сосновой хвои.
— Я все не мог собраться, — говорил Лавров усаживаясь. — Я очень хотел видеть вас, но мне хотелось также и рассказать вам кое-что…
Он внезапно умолк, словно не решаясь продолжать.
Девушка сидела на широком диване, забравшись в уголок и уютно поджав под себя ноги.
— Ну, рассказывайте же, — сказала она, шаря в карманах, и добавила: — Ах, какая жалость! Ни одной конфетки!
Отбросив тяжелые косы на спину, она вскочила с дивана, выбежала из комнаты и быстро вернулась, неся горсть конфет в пестрых прозрачных обертках.
— Вот, полакомьтесь, легче будет рассказывать. Ну, я слушаю!
Посасывая конфету, она устраивалась на диване. Лавров задумчиво сворачивал и разворачивал хрустящую конфетную бумажку.
— Я долго не мог решиться, Ирина, — начал он. — Но это захватило меня. И чем дальше, тем больше. Иногда я приходил в отчаяние, иногда такая радость охватывала меня, что все казалось легким, возможным. Ах, Ирина, милая, если бы вы только поняли меня!
Лавров вскочил с места и взволнованно зашагал взад и вперед по комнате.
Ирина слушала ею с опущенными глазами.
— Говорите, Сережа, ведь я всегда понимала вас, — прошептала она.
— Ира! — воскликнул Лавров, останавливаясь перед ней с конфетой в поднятой руке. — Эта идея грандиозна! На первых порах она может показаться невыполнимой, но, подумав, вы согласитесь, что нам это сейчас под силу, что теперь настало время и для таких грандиозных проектов…
Румянец медленно таял на лице Ирины, ее ровные тонкие брови поднимались все выше, и наконец широко раскрытые серые глаза недоумевающе взглянули на раскрасневшегося Лаврова.
— Какая идея? — растерянно спросила она. — Какие проекты?
— Послушайте, Ира, — говорил Лавров. — Вам и Николаю первым я хочу рассказать о том, над чем я уже целый год думаю и работаю. И первая из первых — это вы, Ирочка…
— Ну, говорите, Сергей, не томите, — сказала Ирина, встряхнув головой, словно отгоняя от себя какие-то свои, другие мысли.
— Вы — металлург и машиностроитель, Ирина, — начал Лавров, — я студент-гидрогеолог, еще совсем молодой научный работник. Но мы можем мыслить одинаково научно и притом свободно. Мы не скованы традициями, известной косностью, привычками, которые бывают присущи иногда даже большим ученым. Молодость, не отягощенная еще грузом традиций, укоренившихся привычек, способна иногда к таким скачкам по лестнице культуры…
Тихий, мелодичный звон прервал Лаврова. Звон доносился из черного лакированного ящика с разноцветными головками регуляторов и матово-серебристым овальным экраном.
— Смотрите, Сережа, — тихо сказала Ирина, показывая на экран. — Николай!
На экране виднелась круглая бритая голова Николая Березина, его скуластое веснущатое лицо. На коротком вздернутом носу сидели большие роговые очки. У широких плеч виднелась верхушка букета из больших ярких цветов.
— Я совсем забыла, Сережа, — быстро говорила Ирина. — Николай вчера еще спрашивал меня, буду ли я сегодня дома… Он собирался прийти поздравить меня. — Виновато взглянув на Лаврова, она добавила: — Я же не знала, что вы придете, Сережа. Ну, как быть? Он не помешает?
Лавров с видимым неудовольствием кивнул ей.
Ирина подбежала к телевизору, повернула регулятор и торопливо вышла. Из передней сейчас же послышались хлопанье закрывающейся двери, шаги и голоса — тихий, певучий Ирины и резкий, громкий Березина.
Лавров нетерпеливо поглядывал на дверь.
В комнату вошел Березин, потирая ладонью бритую голову. Лавров с улыбкой протянул руку товарищу:
— Здравствуй, Николай. Видно, сама судьба направила тебя сюда…
— Ага! Что-то неизбежное должно случиться… И ты уже здесь?!
— Почему "уже"? Я почти месяц не видел Ирины.
— Вот как! Поздравляю вас, дорогая, с радостным днем. Желаю вам много-много лет счастливого труда! — И, протягивая Ирине букет, Березин вдруг спросил: — А я не помешал вам?
— Нет, нет! Что вы, Николай! Спасибо, что вспомнили об этом дне моего второго рождения. Садитесь. Хотите конфет? Очень вкусные… мои самые любимые, — говорила Ирина, вставляя букет в высокую вазу.
— Для вас, сластена, все конфеты любимые, — говорил Березин, усаживаясь в кресло.
— И правда, — засмеялась Ирина, устраиваясь в своем уголке на диване. — Умирать буду — с собой возьму… Не хотите конфет — возьмите в стенном шкафу апельсины или груши.
— А! Апельсинчик в такую жару — не вредно.
На стене была нарисована большая картина: две девушки с букетами полевых цветов в руках. Березин нажал едва заметную кнопку посреди картины — девушки разошлись в разные стороны и скрылись в стене.
— Ого! — воскликнул Березин, вынимая из стенного шкафа огромный оранжевый шар. — Сергей, поможешь? Мне одному не справиться. Ну-с! — продолжал он, усаживаясь в кресле и снимая тонкую кожицу апельсина. — Рассказывай, Сергей, зачем, по-твоему, судьба привела меня сюда.
— Я думаю, ты не очень сопротивлялся ей, — со смехом заметил Лавров, но сейчас же сделался серьезным. — Я только что собирался рассказать Ирине о своей идее. Я хочу посоветоваться с вами — с Ириной и с тобой.
— Это становится интересным. Ну, ну, выкладывай, не стесняйся, — рассеянно говорил Березин, старательно очищая апельсин.
* * *
Странная дружба связывала этих двух молодых людей, так не похожих друг на друга.
Они познакомились лет пять назад, при несколько необычных обстоятельствах. Однажды, проводя зимние каникулы в доме отдыха, Лавров в сумерки одиноко катался на коньках по льду отдаленного пруда. Вдруг он услышал слабые призывы о помощи. Лавров вихрем полетел в ту сторону, откуда раздавались крики, и вскоре заметил человека, барахтавшегося в воде, среди обломков льда. Лед в этом месте был тонкий, трещал и гнулся под коньками. Человек хватался за края льда, лед подламывался под его тяжестью, человек с головой уходил в воду и через секунду, хрипя и захлебываясь, вновь показывался на поверхности. Лицо его уже совершенно посинело.
Никого вблизи не было, все конькобежцы уже ушли ужинать. Маленький, худощавый Лавров не растерялся. Подбадривая и успокаивая тонущего, он сорвал с себя пояс, лег на лед, подполз поближе к краю полыньи и, бросив конец ремня утопающему, осторожно вытащил его на крепкий лед.
Спасенный потерял сознание, и Лавров с трудом дотащил его до дома отдыха.
Этим, однако, дело не кончилось. Не приходя в сознание, Николай Березин заболел жестоким воспалением легких.
Давно уже известно, что чем больше мы делаем людям добра, тем больше мы к ним привязываемся, тем дороже они нам становятся.
Лавров сопровождал больного в больничном электромобиле в Москву. Он волновался, когда исход болезни еще не был известен, ежедневно справлялся о здоровье Березина; потом, когда больной стал поправляться, навещал его, приносил лакомства, книги и книфоны17 — словом, развлекал его как мог.
Товарищи по институту шутили, что Лавров выудил из пруда колючего ерша и стал его другом.
Николая Березина недаром прозвали ершом.
Большеголовый рыжий крепыш, с сильными квадратными плечами и короткими ногами, Николай Березин был любимцем профессоров и преподавателей, его ценили как очень способного, подающего большие надежды студента. Но товарищи не любили Березина за самоуверенность, горделивое самомнение, резкость, стремление быть всегда на виду и впереди.
У него не было настоящих друзей, и неожиданно возникшая дружба с Лавровым обрадовала Березина. Насколько мог, Николай старался в отношении своего нового друга быть осторожнее и мягче. Но странное чувство долго грызло его: он словно не мог простить Лаврову своего спасения. То, что он, Березин, оказался спасенным, а не спасителем, унижало его в собственных глазах и, как ему казалось, в глазах товарищей, хотя объяснялось очень просто. Березин еще с детства смертельно боялся воды, органически не выносил вида открытого водного пространства и не умел плавать. Из всех видов спорта он увлекался лишь тяжелой атлетикой и лыжами.
Друзья не разлучались. Разница в летах — три года — и то, что Лавров был на втором, а Березин на пятом курсе, не мешало им. У обоих не было в Москве родных, жили они в студенческом доме, и это еще более сближало их.
При встречах, во время бесконечных разговоров, они часто мечтали о будущем. Главным образом говорил о себе Березин. Он мечтал о научной деятельности, решив сделаться потамологом-гидрологом18 и посвятить себя изучению рек. Он особенно интересовался реками Советской Арктики и суб-Арктики. Он даже старался увлечь этой работой и Лаврова, горячо доказывая ему, что Великий Северный морской путь, пролегавший вдоль берегов Советской Арктики, с каждым годом будет играть все большую роль в жизни страны. Работая в этой области, говорил Березин, можно очень скоро оказаться на виду. Профессор Денисов, известный потамолог, преподающий у них в институте, уже несколько раз дружески говорил с Березиным, расспрашивал о его планах на будущее и советовал ему сосредоточиться на потамологии. Профессор даже пригласил его к себе, показывал ему свою домашнюю лабораторию и намекал, что такой способный студент в будущем может превратиться в его помощника.
— А дочка у него, Сережа, прямо прелесть! — с восхищением говорил Березин, и его веснущатое скуластое лицо и даже уши горели от воодушевления. — Ее зовут Ирина. Она учится в институте тяжелого машиностроения… Умница, веселая, красивая. Я тебе серьезно советую перейти на потамологию, Сережа. С таким человеком, как Денисов, работать интересно во всех отношениях. Побуду у него аспирантом, поеду на два-три месяца на какую-нибудь потамологическую станцию на Волге, потом диссертация…
— Постой, Коля, — недоумевающе спросил Лавров, — ведь ты хочешь сосредоточиться на Арктике, северных реках, почему же на Волгу? Тебе бы куда-нибудь на Яну или Индигирку.
— Ну вот еще! Охота забираться так далеко! В крайнем случае можно будет съездить на Иртыш или Обь, куда-нибудь поближе к Омску, Красноярску, к культурным центрам… Там видно будет.
Застенчивый и простодушный Лавров занимался своей любимой гидрогеологией19 и не строил грандиозных планов будущего. Хотя его что-то и коробило в мечтаниях Березина, он полностью, казалось, был под влиянием своего решительного и самолюбивого друга. Однако иногда Лавров, неожиданно для Березина, устраивал "бунт".
Однажды Лавров неудачно сдал зачет по астрофизике20. Березин предложил товарищу свою дружескую помощь: он в прекрасных отношениях с профессором Терентьевым, он уговорит профессора улучшить отметку и сам поможет Лаврову подготовить предмет на "отлично" к следующему зачету.
Прием, оказанный Лавровым этой дружеской услуге, изумил Березина; Лавров рассердился, покраснел и даже раскричался:
— Я сам исправлю отметку! Не нужна мне твоя протекция! И без того товарищи говорят, что ты слишком любишь эти "личные" отношения с профессорами!
И выбежал из комнаты.
Березин был глубоко обижен. Несколько дней он ждал Лаврова, но, не дождавшись, сам пошел к нему. Он много и горячо говорил о своей чистосердечности, о чувстве дружбы, которое он испытывает к Лаврову и которое побудило его предложить ему свою помощь, доказывал, что с этим профессором он просто в хороших отношениях и даже не бывает у него на дому. В конце концов друзья помирились.
Лавров простодушно любил Березина, верил в его великую будущность, старался не замечать и прощать ему неприятные черточки характера, а Березин слишком дорожил дружбой Лаврова — любимца всего института. Эта дружба отчасти смягчала холодок в отношениях товарищей к Березину.
Лавров скоро забыл о размолвке, но Березин запомнил ее надолго. После этого случая он с изумлением признался себе, что, в сущности, он Сережу Лаврова, своего, можно сказать, единственного друга, после года знакомства почти не знает. Лавров скромен, молчалив, больше слушает, мало говорит. И вдруг такая вспышка…
Вскоре другой случай привел Березина в не меньшее замешательство. Как-то летом, на пляже Москвы-реки, друзья расшалились, стали возиться, потом раззадорились и, поощряемые быстро собравшейся вокруг них толпой купающихся, начали почти всерьез бороться. Крепкий, на коротких сильных ногах, горячий Березин ломал своего тоненького, но увертливого противника и долго не мог с ним справиться. Тот выскальзывал из сильных рук Березина, как уж, его почти мальчишеская фигура мелькала в глазах немного неповоротливого Березина. И наконец совершенно неожиданно Березин вдруг почувствовал, что из-под его ног вырвалась земля и все лица превратились в вертящуюся розовую массу. Раскинув руки, Березин грохнулся всем телом на песок под крики и аплодисменты зрителей. Лавров припечатал Березина к песку и в следующее мгновение стрелой бросился к воде. За ним, рыча, с пылающим от ярости лицом, гнался Березин, готовый, казалось, превратить его в порошок. Вода-спасительница встала непреодолимой преградой между ними: тяжело дыша, словно наткнувшись на невидимую стену, Березин остановился перед ней, а немного испуганный Лавров, торопливо выбрасывая руки, был уже далеко, стремительно уносясь на середину реки…
С этого дня Березин стал внимательнее присматриваться к Лаврову. Сережа оказался не таким тихоней и не таким слабеньким, как думалось.
Расспрашивая Лаврова о его детстве, Березин стал лучше понимать характер своего друга.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ ЛАВРОВА
Он родился слабым, хилым ребенком. Его спасли старания врачей, самоотверженные заботы матери, а потом солнце и море южного детского курорта закалили мальчика.
Сережа рос, развивался, физически креп. Постепенно забывались бесконечные насморки, простуды, электрифицированные теплые шубки21, шерстяные чулки. Он даже начал полнеть. Но от первых болезненных лет жизни остались задумчивость, неловкость в движениях, недоверие к собственным силам. В школе он сторонился шумной ватаги жизнерадостных ребят, опасливо поглядывая со стороны на их веселые игры и беготню. Он боялся показаться слабым, неловким, смешным, но всем сердцем тянулся к веселой, радостной жизни ребят. Однажды на перемене в гимнастическом зале он сделал попытку поупражняться на турнике, но сорвался, под общий смех упал, сконфузился и больше не показывался в зале. Все старания учителя терпели неудачу. Уроки гимнастики превратились в сплошное мучение для Сережи. Чем больше ему уделяли внимания на этих уроках, тем более неловким он становился, тем чаще вызывал смех ребят. Его оставили в покое, решили, что нужно дать ему время втянуться в школьную жизнь. И тогда он почувствовал себя совсем несчастным, не таким, как все ребята, хотя товарищи, смеявшиеся над его мешковатостью, в сущности относились к нему хорошо.
Его сосед по парте, длинноносый Ваня Колосов, вспыльчивый, высокомерный, задорный мальчишка, был первым силачом класса и не терпел противоречий. Однажды кто-то из ребят пролил чернила на его парту. Ваня не заметил этого, сел и весь испачкался. Ребята засмеялись, и Сережа тоже. Ваня вспылил и закричал, что это он, Сережа, нарочно разлил чернила, и пригрозил ему "взбучкой". Сережа хотя и видел, что чернила пролил Женя Катенин, но не сказал об этом, потому что Ваню ребята побаивались, а Женя был славный, тихий мальчик и очень нравился Сереже.
На следующей перемене Ваня начал толкать Сережу, вызывая его на драку, а Женя издали со страхом следил за ними. Сережа сначала отступал, уклоняясь от драки, но потом, случайно бросив взгляд в сторону Жени, почему-то ясно понял, что еще немного, и тот скажет: "Это я пролил чернила". Тогда вдруг что-то непонятное подхватило Сережу, он закусил губу и первый ударил Ваню. Сбежавшиеся ребята ахнули от изумления, потом захлопали в ладоши и в восторге закричали: "Браво!", "Не поддавайся, Сережа!" Ваня яростно дубасил Сережу, но тот не отступал и защищался, правда неумело и неловко. Кончилось тем, что Ваня сбил Сережу с ног и навалился на него, но раздался звонок, и драка прекратилась. Сережа вышел из нее порядочно помятым, сердце страшно колотилось, спина и бока ныли, а поцарапанная щека горела и вспухла, но, странное дело, он всего этого почти не чувствовал и испытывал какое-то удовлетворение, чуть ли не удовольствие. Ребята громко и оживленно обсуждали схватку, спорили, кричали, горячились. Все хвалили Сережу и удивлялись его смелости.
Домой Сережа вернулся взволнованный и молчаливый. Матери, которая заметила царапину, он сказал, что наткнулся на раскрытую дверь шкафа, что это пустяки и щека совсем не болит. Потом он сказал, что нужно готовить уроки, но, вместо того чтобы идти к себе в комнату, пробрался через всю обширную квартиру в дальний чулан, где складывали старую или лишнюю мебель и вещи. Там в потолке для каких-то неизвестных целей было вделано несколько толстых железных крюков. Сережа отыскал крепкую веревку, нашел ровную, гладкую палку и, подставив высокую раздвижную стремянку, с опаской влез на самый верх. Пыхтя, рискуя свалиться, но сжав зубы и стараясь не смотреть вниз, он долго возился под потолком и наконец соорудил нечто вроде трапеции.
Ежедневно, тщательно скрываясь, он неутомимо упражнялся на трапеции, исполняя все более сложные фигуры. Он не раз падал, но, потерев ушибленное место, вновь забирался на трапецию и каждый раз выходил из комнаты с чувством гордости, словно после одержанной победы.
Через полтора — два месяца он уже умел, изгибаясь дугой, одним взмахом взлетать на трапецию и вертеться на ней колесом. Он мог раскачаться, вися вниз головой, и с замирающим от восторга сердцем летать из конца в конец комнаты.
И при каждом успехе, при каждом ловком и смелом движении он представлял себе изумленные глаза товарищей и учителей, когда наконец он войдет в гимнастический зал школы и начнет спокойно и равнодушно проделывать свои упражнения. И уже никто не будет смеяться над ним.
И вдруг он вспомнил: а турник? А если ему предложат перейти на турник? Он ведь именно на турнике так позорно оскандалился.
И одиннадцатилетний упрямец, отсрочив день своего торжества, сдвинул две кровати с трубчатыми спинками и на этом подобии турника с прежним упорством начал новый курс упражнений. Потом пришла очередь гантелей; он читал, что они развивают мускулы рук и плеч, грудную клетку. Постепенно мысль о триумфе в гимнастическом зале приходила все реже. Сережу увлекало теперь лишь одно желание — быть ловким, быть сильным и смелым.
Родители уже давно узнали о тайном увлечении своего сына, да и сам Сережа перестал скрывать свои занятия. Дальнюю комнату освободили от ненужного хлама. На полу был постлан толстый ковер, посредине стоял настоящий турник, с потолка свешивались трапеция, кольца, в потолок упирались два гладких шеста для лазания.
Триумф пришел гораздо позднее — когда Сереже исполнилось тринадцать лет и он успешно перешел в седьмой класс. О нем заговорили не только в классе, но и во всей школе. А на всемосковской школьной спартакиаде Сережа занял третье место, и "маленький Лавров", как все его теперь звали, сделался гордостью своей школы. Два года еще продолжал он увлекаться легкой атлетикой, плаванием, бегом, борьбой, лыжами и коньками, выровнялся, сделался стройным и легким.
Потом он вдруг начал писать стихи и пришел к убеждению, что истинное его призвание — поэзия. Впрочем, это длилось недолго. Уже в восьмом классе он стал серьезно интересоваться естественными науками, много и усердно читал, работал в школьной лаборатории. Вскоре с экскурсией он попал на Урал, а впоследствии, в десятом классе, сосредоточился на геологии.
Упорство, настойчивость, сила воли, которые он развивал в себе еще мальчиком, когда начал увлекаться гимнастикой, счастливо сочетались в нем с природной скромностью. Только постепенно, после долгого знакомства, можно было увидеть в этом тихом, худеньком, малоразговорчивом юноше серьезное многостороннее образование, физическую силу и ловкость.
* * *
Узнавая Лаврова, Березин не раз удивлялся своему другу, но это удивление длилось недолго. Привычные представления были сильнее, и Николай по-прежнему считал Сергея хорошим товарищем, трудолюбивым студентом, скромным и немного ограниченным.
В дружбе с Лавровым любимца профессоров, будущего ученого Николая Березина был оттенок снисходительности. Березин отогревался в обществе друга, спасаясь от своего самолюбивого и холодного одиночества. Он даже познакомил Лаврова с семьей профессора Денисова и был доволен, когда старый профессор отозвался хорошо о его друге.
Родители Лаврова к тому времени уехали из Москвы в Воронеж, куда отец был переведен директором нового большого завода, и молодой Лавров часто проводил вечерние часы в дружеской семье Денисовых. Сергей сошелся со старшим сыном профессора Валерием, студентом авиационного института. Младший Денисов — девятилетний Димка — ходил в школу, дочь Ирина училась в институте. Молодые люди скоро подружились.
Однако это быстрое и сердечное сближение Лаврова с семьей профессора скоро перестало нравиться Березину, особенно когда он заметил, что Ирина встречает Лаврова особенно тепло. Сначала это его удивляло, потом стало раздражать, и он всячески старался показать Ирине свое превосходство над Лавровым, этой "милой, но наивной посредственностью".
Однако дружба Ирины и Лаврова росла и особенно укрепилась после смерти старого профессора. Ирина, нежная и преданная дочь, тяжело переживала смерть отца, и Лавров, как мог, старался облегчить ее горе.
Березин успел блестяще окончить институт и сначала работал ассистентом профессора Денисова, а после его смерти — самостоятельно. Он прочел несколько интересных, отмеченных в прессе докладов во Всесоюзном потамологическом обществе; в "Известиях" этого общества были напечатаны две его работы, привлекшие внимание к молодому, выдвигающемуся ученому.
Лавров успешно кончал курс в институте и готовил выпускные работы.
Ирина, уже оправившаяся от своей тяжелой потери, прошлой весной получила диплом инженера-машиностроителя и в течение года работала на Московском гидротехническом заводе. Ее брат Валерий — авиаконструктор — уехал на авиазавод в Воронеж. Дом Денисовых оставался родным для Лаврова и Березина. Старого профессора не стало, но товарищи часто вспоминали, как он радовался, когда за его стол садилась большая, "полноводная", как он выражался, семья.
Однако Ирина давно уже чувствовала, что эти два "притока" сливаются не очень дружно. Чем милей ей делается застенчивый и скромный Лавров, тем все язвительнее и нетерпимей становится Березин, тем откровеннее он стремится оттеснить своего друга на задний план. Ей было больно за своего "маленького Лаврова", хотя она признавала за Березиным все его качества будущего блестящего ученого и остроумного собеседника.
Вот и сегодня — с какой небрежной, высокомерной снисходительностью он готовился слушать Лаврова!
И, усаживаясь поуютнее в своем любимом уголке дивана, Ирина готова была пожалеть о появлении у нее Березина в этот час…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ПЕРВЫЙ НАБРОСОК
— Выкладывай, выкладывай, — повторял Березин, посасывая ломтик апельсина, — а мы послушаем.
— Только предупреждаю, Николай, — сказал Лавров, — отнесись серьезно к тому, что я расскажу. Это слишком важно для меня.
— О! После такого предупреждения клянусь, что буду слушать благоговейно.
Обхватив руками колени и опустив голову, Лавров с минуту помолчал.
— Помнишь, Николай, несколько лет назад ты уговаривал меня заняться потамологией и, в частности, работой над изучением рек Советской Арктики? На потамологию я не перешел, но мысль об Арктике увлекла меня.
— Вот как! — воскликнул Березин. — Выходит, что я все же натолкнул тебя на какую-то новую идею об Арктике! И ты все время молчал и не признавался в этом, тихоня?!
— Ну, это чистая случайность, — вмешалась Ирина. — Не прерывайте же его. Дайте ему говорить.
— Молчу, молчу… Продолжай, Сергей, Ирине не терпится!
Лавров словно не заметил этого маленького пререкания между слушателями и продолжал.
— Я стал много читать об Арктике, особенно о Советской. Меня поразило все то, что сделано в Арктике Советским Союзом. Всего несколько десятков лет назад Арктика начала просыпаться…
— То есть как это "начала"? — придирчиво спросил Березин. — По-твоему, значит, и Тикси-порт, и Игарка, и Диксон-порт, и десятки других заполярных городов, иные с десятками тысяч жителей, живут еще спросонья? И самые могучие в мире ледоколы и сотни грузовых и пассажирских судов тоже, по-твоему, ходят спросонья по Северному морскому пути — от Мурманска и Архангельска до Владивостока и Шанхая? Ну, мой милый, если твоя идея начинается с таких утверждений, то я тебе советую начать свое знакомство с Арктикой сначала.
— Ты совершенно прав, — тихо, но твердо сказал Лавров. — Именно с таких утверждений и начинается моя идея. Я очень прошу тебя не раздражаться, а выслушать. Скажи, пожалуйста, сколько времени в году работают — не спросонья, а лихорадочно, в, спешке — эти суда?
— Ну как я могу ответить на этот вопрос? Год на год не приходится. Иногда три, иногда четыре, а бывает, и все пять месяцев. Если, конечно, не считать случайных и коротких зимних рейсов. Все зависит от состояния льдов, от сроков вскрытия и замерзания моря, от метеорологических и гидрологических условий. Что же, ты сам этого не знаешь?
— Конечно, знаю… И потому-то я считаю, что наша Арктика живет еще далеко не полной жизнью. Ведь вся эта жизнь почти целиком зависит от Северного морского пути, органически связана с ним. Никакие железные дороги, никакие геликоптеры и стратопланы22 не смогут заменить его. Две — три тысячи километров морского пути и от восьми до двенадцати тысяч сухопутного! Так можно ли считать достаточным для бьющей ключом жизни нашего Союза эти короткие три-четыре месяца, в течение которых только и работает Северный морской путь? Разве мы можем мириться с таким положением вещей?
Березин некоторое время пристально и молча смотрел на Лаврова, потом перевел недоумевающий взгляд на Ирину.
— Не понимаю… — сказал он наконец, пожимая плечами. — Мне кажется, ты начинаешь заговариваться. С таким же успехом ты можешь задать тысячу других вопросов. Например, можем ли мы мириться с тем, что в Арктике шесть — семь месяцев длится ночь, а на экваторе ночь и день чередуются через каждые полсуток? Это же бессмысленно. Природа ставит свои пределы, и в этих пределах мы строим свою жизнь.
— Природа… — задумчиво произнес Лавров. — Разве в истории мало случаев, когда человечество, изучая законы природы, выходило за их пределы? Весь прогресс человечества заключается в том, чтобы бороться с природой, изменять ее и приспосабливать к своим нуждам. Особенно у нас, в Советском Союзе! По законам природы Печора течет в Северный Ледовитый океан, а мы заставили ее часть своих вод отдавать через Волгу Каспийскому морю. По законам природы Аму-Дарья сотни лет текла в Аральское море, а мы повернули ее русло к тому же Каспийскому морю, влили новую жизнь в этот высыхавший водоем, оживили бесплодные пустыни Кара-Кумов…
— Но какое отношение все это имеет к Северному морскому пути? — прервал Лаврова Березин.
— Я считаю, что настало время, когда Советский Союз может и должен взяться за приспособление этого пути к своим потребностям. Народы Советского Союза должны реконструировать Северный морской путь.
— Какой-нибудь новый сверхмощный ледокол, длиною в километр, с машинами, развивающими миллион лошадиных сил? — насмешливо спросил Березин.
— Это было бы принципиально тем же пассивным приспособлением к враждебным силам природы, к которому мы вынуждены были прибегать до сих пор, — спокойно, словно не замечая насмешки, ответил Лавров. — Нетрудно представить себе такой огромный ледокол, который и зимой будет ломать самые мощные арктические льды и прокладывать себе путь в Игарку или Тикси-порт. Но, увеличивая мощность ледокола, мы только приспособляемся к мощности льда. Строя оранжереи и теплицы в тундре, мы только приспособляем наше сельское хозяйство к условиям Арктики, но не изменяем их активно, как хозяева. Мы поднимаем рельсы наших железных дорог над почвой, спасаясь от вечной мерзлоты, но мерзлота все же остается. Мы хитрим, изворачиваемся, защищаемся, как всегда делает слабый в борьбе с неизмеримо более сильным врагом. И имя этого врага, который пока еще царит в Арктике, — холод! Вот с этим владыкой надо наконец вступить в открытое единоборство, вот кого надо одолеть и изгнать навсегда. И лишь тогда Великий Северный морской путь превратится в магистраль, действующую не три — четыре летних месяца, а круглый год.
Лавров взволнованно и быстро ходил по комнате. Глаза его разгорелись. Ирине даже показалось, что он как-то сразу вырос, возмужал, и его голос звучал сильно и уверенно.
С лица Березина уже давно сбежала насмешливая улыбка. Он вскочил:
— Да это же чистое сумасбродство! Прогнать холод из Полярной области? Ведь это явление почти космического23 характера! Уж не намерен ли ты переместить географический полюс и изменить наклон земной оси?
— Подождите, Николай, — ответила Ирина, отрывая глаза от Лаврова. — Ведь мы слышали только цель, которую поставил перед собой Сергей, но ничего еще не знаем, как он думает ее достигнуть. Может быть, это совсем не так страшно, как вам кажется.
Лавров тепло и благодарно посмотрел на Ирину.
— Никаких изменений в наклоне земной оси я производить не собираюсь. Дело обстоит гораздо проще.
Березин безнадежно махнул рукой. Его обычно красное веснущатое лицо теперь было кирпичного цвета, между редкими бровями легла глубокая складка.
— Какие бы ты способы ни предложил, сама цель, поставленная тобой, остается нелепой, пригодной только для фантазии романиста, — мрачно сказал он. — Плохое начало для будущего ученого…
— По-моему, плох тот ученый, у которого отсутствует фантазия, — серьезно ответил Лавров. — Должен ли я напоминать тебе, что Ленин сказал по этому поводу?
— Можешь не напоминать. Это не имеет отношения к тому, что я сказал. Я говорил о беспочвенной фантазии… Мне очень обидно за тебя, Сергей. Я считал тебя более уравновешенным человеком.
— Не спешите, Николай, с приговором, — примиряюще вмешалась Ирина, с улыбкой протягивая ему конфеты. — Возьмите вот эту, синенькую. В ней какой-то новый витамин, он действует успокоительно на нервы. Надо выслушать Сергея до конца.
— Ну что же, давайте дослушивать сказку, — с прояснившимся лицом сказал Березин, беря конфету из рук Ирины. — Продолжай, Сергей.
Лавров стоял у окна, молча глядя вдаль. При последних словах Березина он живо повернулся к товарищу.
— Прежде всего, несколько предварительных замечаний. Владыка — холод, который еще царит в Арктике — уже кое-где изгнан из своих владений. Правда, это произошло без вмешательства человека. Холод столкнулся там с другой силой природы, перед которой он должен был отступить. Наш Мурманский порт лежит за Полярным кругом на одной широте с Маре-Сале, что на южном берегу Карского моря, и почти на одной широте с Тикси-портом, что на берегу моря Лаптевых. Однако оба эти порта Северного морского пути замерзают на зиму, а Мурманский порт свободен от льда круглый год Почему? Потому что до него доходит теплая, хотя и слабая нордкапская струя могучего Гольфстрима. Вот та сила, перед которой должен был отступить холод на первом участке Великого Северного морского пути.
— Но это теплые атлантические воды дальше Баренцева моря по Северному морскому пути не идут, — со скучающим видом, вытянув ноги, проговорил Березин.
— Совершенно верно! — с живостью продолжал Лавров. — Но есть еще и другая струя Гольфстрима, которая далеко проникает в полярные воды. Она отходит около Нордкапа прямо на север и идет вдоль западных берегов Шпицбергена. Далее, повернув на восток, она пыряет под холодные воды Ледовитого океана. На глубине от нескольких десятков до нескольких сотен метров она огибает с севера архипелаг Земли Франца-Иосифа и, прижимаясь к подводной материковой ступени нашего арктического побережья, идет далеко на восток. Совсем слабой, едва заметной струёй она достигает Чукотского моря…
— Однако влияние этой второй струи Гольфстрима на льды Полярного бассейна уже совершенно незаметно. Море там сковано льдами, пожалуй, сильнее, чем у Маре-Сале и у Тикси-порта, — заметил Березин.
— Ну, если бы влияние этой струи было заметно, тогда и вся проблема отпала бы. Тогда эта теплая струя Гольфстрима отрезала бы центрально-полярным льдам дорогу на юг, к побережью Арктики, к Северному морскому пути. Тогда теплая воздушная стена, постоянно возникая над этим теплым течением, возбуждала бы непрерывную циркуляцию огромных воздушных масс. И теплый воздух с юга, из горячих пустынь Кара-Кумов, был бы привлечен на север. Влажный теплый воздух проносился бы над тундрами Сибири и, прогревая почву, уничтожил бы там вечную мерзлоту, вернул бы жизнь этим бесплодным пространствам. Этот воздух, проходя далее на север, не давал бы замерзнуть морям вдоль побережья Советской Арктики. Тогда и Великий Северный морской путь был бы свободен от льдов и мог бы нормально работать круглый год — так, как он сейчас работает в южной части Баренцева моря, у Мурманского порта…
— Если бы да кабы… — заметил, иронически улыбаясь, Березин. — К сожалению, всего этого нет и это реальное положение от нас не зависит.
— Ты думаешь? — резко остановился перед ним Лавров. — А я думаю, что если этого нет, то оно должно быть!
— Как? — воскликнула Ирина.
— Что должно быть? — растерянно спросил Березин.
— Вторая, бесплодно замирающая в полярных водах струя Гольфстрима должна получить новую мощь, и тогда она принесет новую жизнь Советской Арктике.
Лавров стоял посредине комнаты. На его побледневшем лице горели синие глаза. Березину показалось, что он видит перед собою нового, неизвестного ему человека.
Он бросил быстрый взгляд на Ирину, тоже пораженную, но совсем по-иному — восхищенно и радостно, как будто она уже чувствовала победу этого человека, Внезапная зависть и глухая злоба охватили Березина.
— Что же, это так и произойдет по щучьему велению, по твоему хотению? — спросил он с видом крайнего благодушия и дружеской насмешки.
— Нет, это произойдет по велению и хотению советского народа, — спокойно возразил Лавров и добавил: — Конечно, если он одобрит мою идею и согласится с ней, если он возьмет в свои руки дело ее реализации.
— Та-а-ак… — протянул Березин. — Но народу надо будет предложить не одну идею, как бы прекрасна и заманчива она ни была. Надо еще показать народу, партии, правительству, какими средствами можно реализовать эту идею, и выяснить, располагает ли этими средствами даже наша страна. С чем же ты придешь к народу? О каких средствах ты станешь говорить ему? Увеличить мощность Гольфстрима? Поднять его из глубин на поверхность Ледовитого океана? Да ведь тебя засмеют, едва ты заговоришь об этом!
— Во всяком случае, Николай, — сдержанно и тихо сказала Ирина, — мне кажется, вы не хотите никому уступить этой чести — быть первым в осмеянии идеи Сергея… Идя сюда, к своим друзьям, он, вероятно, не ожидал этого. Мне очень жаль…
Настороженное ухо Березина уловило в этих словах нотки осуждения, необычной холодности.
— Что вы, Ирина, милая! — простодушно воскликнул Лавров. — Наоборот, я даже доволен такой придирчивой критикой. Это дружеская репетиция будущих боев, которые мне еще предстоят. Борьба будет нелегкая и длительная, я знаю это. Николай помогает мне подготовиться к возражениям будущих критиков… Ты спрашиваешь, — обратился он к Березину, — о средствах. Средство уже имеется, Николай, мы уже давно с успехом, пользуемся им. Правда, мы применяем его для других целей. Мы просто не подумали, что его можно применить с огромным эффектом также и для отепления Арктики.
— Что же это за средство? — с невольным интересом спросил Березин.
— Опыт Мареева24.
— Мареева? Строителя подземных термоэлектрических станций? Неужели ты собираешься током от этих станций подогревать струю Гольфстрима?
Лавров весело засмеялся.
— Наконец ты начинаешь понимать меня, но еще не совсем. Я не думаю пользоваться для поднятия температуры Гольфстрима электрическим током от подземных станций. Это слишком сложный и дорогой путь. Для моих целей нужны не глубокие термоэлектрические станции, а одни лишь шахты Мареева, внутренняя теплота тех глубин, которых они достигнут. Правда, эти шахты должны быть неизмеримо большего диаметра. Пропуская даже сравнительно небольшую часть вод Гольфстрима или лежащих под ними холодных вод океана через ряд таких сдвоенных шахт, можно будет поднять и постоянно поддерживать температуру этого и самого по себе теплого течения. А последствия уже известны и ясны…
— Браво, браво, Сережа! — воскликнула Ирина, вскакивая с дивана. — Это изумительно! Дорогой мой, это гениально по простоте… по реальности выполнения.
Она схватила Лаврова за руки и, казалось, готова была закружить его, как кружатся маленькие дети.
— Позволь… позволь, Сергей, — бормотал Березин. — Ты говоришь о пропуске вод Гольфстрима через подземные шахты… Где же ты думаешь рыть эти шахты?
— В дне морском… Под всей линией прохождения Гольфстрима в Советском секторе Ледовитого океана… Однако… — Лавров испуганно взглянул на часы. — Скандал! Ведь в девятнадцать часов я должен быть на консультации у профессора. У меня осталось только десять минут! Николай, Ирина, мы еще встретимся, правда? Здесь же, в следующий день отдыха. И, пожалуйста, обдумайте и критикуйте, критикуйте изо всех сил! Ну, прощайте, друзья мои… Бегу!..
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
КАК РОЖДАЮТСЯ ВРАГИ
В комнате сразу стало как-то пусто и тихо.
Ирина несколько минут молча постояла у окна, потом медленно вернулась к дивану.
Березин сидел неподвижно, но внутренне был глубоко взволнован.
Хорошо, что Ирина молчит. Это дает ему время подумать. Ясно, что она на стороне Сергея. "Наконец ты начинаешь понимать меня"… И этот самоуверенный смех… Мальчишка! Это он говорит ему. Николаю Березину, начинающему приобретать известность ученому… Она не только на его стороне, она, кажется, симпатизирует ему… Неужели увлечена? Что делать? Что сказать? Она сейчас спросит…
Откуда у тихони Лаврова эта дерзость мысли? Идея здоровая, хотя и ошеломляющая. Почему же она пришла в голову не ему, ученому, а этой посредственности? Это он должен был предложить ее… Он! Николай Березин, а не какой-то студентик! Молокосос… И Ирина пойдет с ним, если он добьется успеха… Надо помешать этому. Может быть, присоединиться? Работать вместе? Два автора — Сергей Лавров и Николай Березин. Быть на втором плане? Помощником? Ассистент Сергея Лаврова? Ну, нет!
— Ну, что вы скажете обо всем этом, Николай?
Ирина сидела на диване в своем уголке, поджав под себя ноги и раздумчиво играя кистями пояска.
Березин пожал плечами:
— Что сказать, Ирина? Мне искренне жаль Сережу. Юношеская фантазия, плод воспаленного воображения. Если его увлечение серьезно, он погубит себя. Ему надо готовиться к полезной практической работе, а он… шахты на дне морском! Ведь надо же додуматься…
Березин презрительно усмехнулся и опять пожал плечами. Жребий был брошен. Со смятением в душе Березин почувствовал, что с этого, момента он уже пленник сказанных им слов, что отступления нет…
— Мареева в свое время также обвиняли в сумасбродстве и беспочвенности, — с живостью возразила Ирина. — Новизна и смелость часто раздражают. Неужели вы сразу так отрицательно отнеслись к Сережиной идее? Меня, напротив, она увлекла. Я знаю Сережу, да и вы его должны знать не меньше, если не больше меня. Он слов на ветер не бросает и продумал эту идею хорошо, глубоко.
— Есть разная новизна, Ирина, — сказал Березин. — Новизна, которая вырастает из действительности, из реальных возможностей, и новизна беспочвенная. Мареев был зрелым человеком, с большим научным и практическим опытом. А Сережа? Мальчик, юноша, еще сидящий на студенческой скамье! В состоянии ли он произвести все математические и технические расчеты, точно учесть наши научные и промышленные возможности?
— Ньютон, открыв закон всемирного тяготения, стал великим двадцати четырех лет, — быстро возразила Ирина. — Не будем говорить, Николай, о незрелой молодости и о мудрой старости. Мы-то ведь еще не старики, и не нам с вами принижать молодость. Мы не скованы привычками и традициями…
Она вдруг спохватилась, что говорит почти словами Лаврова, смешалась, потом, решительно тряхнув головой, хотела продолжать, но Березин перебил ее.
— Во всяком случае, — примирительно сказал он, — вам следовало быть более сдержанной, Ирина. Ваш восторг еще больше распалит его, увеличит его самонадеянность. Сергея надо сейчас отрезвлять, а не разжигать.
Он сел, со страхом ожидая, что скажет Ирина.
— Я не собираюсь разжигать Сережу, — помолчав, ответила она, — но не буду и гасить его порыв. Я хочу поддержать его. Пусть люди, стоящие во главе нашей страны, нашей науки, судят о ценности проекта. Сережа достаточно рассудителен, чтобы понять свою ошибку, если ему укажут и докажут ее…
Из соседней комнаты вдруг послышался звонкий веселый смех, рычание и громовой лай.
— Сюда, Плутон! — раздался детский голос. — Оставь! Ты свалишь меня!
Дверь распахнулась, и в комнату ворвались мальчик лет десяти и великолепный ньюфаундленд25.
Огромная собака головой почти касалась голого плеча мальчика. Могучие лапы, большая, гордо поставленная голова и характерный плотный прикус массивных челюстей могли привести в восхищение самого придирчивого к чистоте породы кинолога26.
Пес был черный, без единой отметины. Только над умными глазами собаки виднелись два темно-желтых пятнышка, придававших ее взгляду какой-то уморительно-скорбный вид.
Мальчик был в одних трусах, босой, крепкий, загорелый. Черные вьющиеся волосы шапкой покрывали его голову, большие черные глаза смотрели прямо и задорно. Неправильные черты лица — крупный рот с припухлыми губами, широкий, чуть приплюснутый нос — придавали ему своеобразную привлекательность.
— А где дядя Сергей? — спросил мальчик, остановившись на бегу посредине комнаты. — Мы с Плутоном слышали, что он здесь.
— Ну, какие вы оба невоспитанные! — с укором сказала Ирина, хотя глаза ее любовно и с нескрываемым удовольствием глядели на мальчика. — Дядя Сергей сейчас только ушел. Надо же поздороваться, Дима!
Дима чуть нахмурился, оживление спало с его подвижного лица.
— Что же он, даже не зашел к нам, — своенравно ответил мальчик. — Я ему скажу, когда он еще придет… Плутон! Здороваться!
Они вместе, без видимой охоты, приблизились к Березину. Дима подал, ему руку, Плутон поднял тяжелую мохнатую лапу. Березин, едва пожал руку Димы, быстро и брезгливо отодвинулся от собаки вместе с креслом, подобрав под него ноги.
— Уведи своего зверя, — сказал он Диме, скривив губы, и обратился к Ирине: — Что за дикий пережиток — держать собак в доме!
С повисшей в воздухе лапой Плутон недоумевающе взглянул на своего друга.
"Какой невоспитанный! — казалось, говорил его взгляд. — Кажется, он боится. Вот чудак!"
С достоинством повернувшись, Плутон подошел к Ирине, положил ей на колени свою огромную голову и закрыл глаза, словно заранее предвкушая наслаждение: он ждал, чтобы Ирина почесала ему за ухом.
Ирина засмеялась. Приподняв обеими руками голову собаки, она заглянула Плутону в глаза и сказала:
— Это Плутон — пережиток? Наш славный пес — дикий пережиток? Слышишь, Плутон? Ну, не огорчайся, мы сейчас проявим еще немного варварства и почешем тебя за ухом.
И ее пальцы быстро забегали по голове собаки, путаясь в густой мохнатой шерсти.
— Что вы нынче такой сердитый, Николай? Придирались к Сергею, нетерпимы к Плутону. Я знаю, что вы не любите собак. Но сегодня у вас, кажется, особенно плохое настроение.
— Что вы, Ирина! — с добродушным видом защищался Березин. — Наоборот, я шел к вам в самом лучшем настроении и с самыми, можно сказать, радужными надеждами. Правда, меня немного расстроил Сергей, но это не важно. Я… — смущенно замялся он, — я хотел бы поговорить с вами, Ирина… совсем о другом…
— Вот как, — рассеянно ответила Ирина. — Ну что же, давайте. Дима, пойди с Плутоном в сад. Я потом приду к вам туда… Вот только поговорю с Николаем Антоновичем.
Дима, обрадовавшись, вскочил с пола, где он сидел возле Плутона, и побежал к двери вместе с собакой.
— Говорите, Николай, я слушаю, — сказала Ирина.
Лицо Березина покрылось красными пятнами. Видно было, что он не знает, с чего начать.
— Ира, — проговорил он наконец каким-то сдавленным голосом, не поднимая глаз, — пришла пора объясниться. Я хотел сказать… Вы, вероятно, уже не раз имели случай убедиться, как вы мне дороги… И с каждым днем вы делаетесь мне все ближе, все милей… Ира… Я хотел сказать, что люблю вас…
* * *
Бледный, растерянный Березин спускался по эскалатору.
Выйдя из подъезда, он оглянулся и не сразу понял, куда попал. Перед ним оказалась внутренняя площадка дома с газонами, клумбами цветов, фонтаном, рассыпавшим радужную водяную пыль.
Из дальнего угла площадки, где высились шесты для лазания и сверкали гимнастические приборы, слышались детские голоса, смех, плач, порой доносился громкий лай.
Березин тяжело опустился на скамью возле фонтана, вытер лоб.
Ясно; ясно… И тут Лавров стал поперек его пути. Она этого прямо не сказала, но нетрудно было понять… Иначе почему она так смутилась, когда, получив ее отрицательный ответ, он вскользь упомянул имя Сергея?
Он ударил себя кулаком по колену.
Хорошо, хорошо, мой советский Ньютон… Вы знали, что я люблю Ирину, я вам говорил об этом не раз. А вы в ответ помалкивали. Мировые проекты? Умопомрачительные масштабы? Посмотрим, посмотрим… Что — посмотрим? Ты можешь предложить что-нибудь лучше проекта Сергея или хотя бы такое же? Ты, Николай Березин, молодой ученый с блестящим будущим…
А теплопроводность горных пород?
Эта мысль пришла неожиданно.
Теплопроводность… низкая теплопроводность…
И сразу радость подступила к сердцу.
Дурак! Дурак! Трижды дурак! Он, кажется, забыл об этом! Он, вероятно, не учел этого!
Березин даже засмеялся.
Два человека, разговаривая, прошли по дорожке мимо скамьи и с недоумением посмотрели на него.
Березин перехватил этот взгляд, встал и быстро зашагал к арке, выходившей на набережную.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
СОБЫТИЯ РАЗВЕРТЫВАЮТСЯ
Через два года после этих, казалось бы, ничем не примечательных, можно сказать, домашних событий огромный Советский Союз был охвачен небывалым волнением. Газеты были полны сообщений, статей, заметок о проекте Лаврова. Невозможно было найти дом, даже квартиру, где бы равнодушно или безразлично относились к проекту. В ресторанах и кафе, в кабинах стратопланов и в вагонах метро, в театрах люди говорили и спорили о нем.
Одни поддерживали проект, другие горячо осуждали.
Несколько месяцев назад Лавров подал правительству Союза докладную записку, в которой подробно излагал сущность своего, проекта. Кроме груды материалов — чертежей, схем, выкладок, расчетов, — записка сопровождалась положительным заключением двух институтов, с помощью которых Лавров в течение года разрабатывал свою идею.
Правительство признало проект заслуживающим внимания и передало в печать его основные принципы для предварительной общественной дискуссии.
К тому времени Советская страна достигла необычайного расцвета и могущества. Тяжелые раны, нанесенные ей когда-то войной с немецким фашизмом, давно были залечены. Разгромив своих смертельных врагов, Советский Союз вновь принялся за прерванное войной мирное строительство. Из года в год страна цвела, росла и ширилась. Уже давно Большая Волга каналами и обширными водохранилищами соединилась с Доном, Печорой и Северной Двиной, получая избыток их вод, чтобы напоить засушливое Заволжье, поднять уровень мелевшего Каспийского моря, лечь просторным, глубоким и легким путем от края до края Советской земли.
Древняя Аму-Дарья была направлена по старому ее руслу — вместо Аральского к Каспийскому морю, и там, где когда-то передвигались с места на место, по воле ветров, сыпучие волны мертвого, сухого песка, былая пустыня покрылась белоснежными хлопковыми полями, бахчами и кудрявым руном фруктовых садов.
Кавказский хребет был прорезан тоннелями. В гигантские ожерелья из гидростанций превратили советские люди Волгу, Каму, Амур, Обь, Иртыш, Енисей, Лену и, наконец, суровую красавицу Ангару. Энергия этих рек снабдила электричеством огромные области необъятной Страны Советов.
В станциях подземной газификации, разбросанных по всему Союзу, горел неугасимым огнем низкосортный уголь, превращаясь под землей в теплотворный газ. Сотни тысяч гигантских ветровых электростанций покрыли поля страны, улавливая "голубую" энергию воздушного океана; крупные и мелкие гелиостанции на Кавказе, в Крыму, в республиках Средней Азии превращали солнечное тепло в электрическую энергию. Приливно-отливные и прибойные станции на берегах советских морей, электростанции, построенные на принципе использования разности температур в Арктике, — весь этот океан энергии, непрерывно вырабатываемой и хранимой в огромных электроаккумуляторных батареях, был в распоряжении советских людей, готов был выполнять для них любую работу.
* * *
"Проблему Лаврова" встретили с восторгом. Удивлялись, почему до сих пор эта грандиозная и, казалось, такая простая идея никому не пришла в голову.
Северный морской путь — важнейшая морская магистраль Советского Союза — оказывается, действительно полноценно работал только три-четыре месяца в году!
Как можно было мириться с этим фактом? Как его не замечали до сих пор?
Миллионы тонн самых разнообразных грузов торопливо перебрасывались в эти три — четыре месяца из богатейших областей советского Дальнего Востока, из Маньчжурии, Китая, из Японии и западных портов Северной Америки навстречу грузовому потоку из северных и центральных областей страны, из Скандинавии, из портов Великобритании и северо-западной Европы.
Этот морской путь уже давно стал широкой международной дорогой, прекрасно изученной советскими учеными и моряками-полярниками.
Еще задолго до начала навигации советские метеорологи27-полярники предсказывали сроки весеннего вскрытия льдов в советских арктических морях, направление к силу ожидаемых ветров. Воздушная разведка на каждом участке пути непрерывно держала радиосвязь с судами, заранее сообщая им о наиболее чистом от льдов пути. Самые мощные в мире ледоколы стояли в арктических портах, готовые помочь судам, встретившим неожиданные ледовые затруднения.
Давно уже стали историей героические рекорды "Сибирякова", "Челюскина", "Литке", ходивших почти вслепую и все же сумевших в тяжелой борьбе со льдами в одну навигацию пройти весь путь от Мурманска до Владивостока или обратно. Теперь же транспортные суда, приспособленные к арктическим условиям, проделывали такие рейсы в один месяц, почти в полной безопасности.
Но этот путь был открыт и свободен только три-четыре месяца в году! Десятки миллионов тонн грузов должны были идти по железным дорогам или кружить вокруг Европы и Азии, по южным и тропическим морям. Решение "проблемы Лаврова" должно было покончить с таким положением вещей.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ВСЕНАРОДНАЯ ДИСКУССИЯ
Прошел месяц со дня обнародования проекта. Им восхищались, увлекались, но слышались и голоса, призывавшие к осторожности и благоразумию.
Высказывались сомнения, сможет ли страна осилить такие работы. Ведь потребуются миллионы тонн высококачественных новых материалов, потребуются новые рудники, металлургические и машиностроительные заводы, для которых нужно новое специальное оборудование.
Как представляет себе автор проекта, спрашивал известный горный инженер Нурахметов, процесс удаления выработанных пород из шахт глубиной в несколько километров? Ведь самый прочный металлический трос28 при такой длине не выдержит собственной тяжести и оборвется, не говоря уже о дополнительной нагрузке в виде землечерпательных снарядов и удаляемой породы.
Океанограф Бахметьев в большой статье под заголовком "Будем благоразумны!" обрушился на проект Лаврова. Он писал, что никто в мире, в том числе и Советский Союз, не имеет достаточного опыта в подводном строительстве. Строение дна Северного Ледовитого океана еще слишком мало известно. Для предохранения подводных шахт от затопления в период работ должны быть созданы какие-то гигантские перекрытия. Но если самые шахты будут иметь огромный диаметр, каких же размеров должны быть эти перекрытия? Смогут ли наши конструкторы спроектировать их, а наши строители — построить? Не рухнут ли эти гигантские конструкции под двойным воздействием огромного давления водных масс и собственного веса?
Радиогазета "Мурманское радиоутро" передала в эфир статью известного ученого-полярника, профессора гласиологии29 С.М.Радецкого. Профессор считал проект Лаврова вообще ненужным и излишним. Естественное потепление климата всего земного шара, а вместе с ним и Арктики, идет своим путем, и человечеству нет смысла заниматься проблемой, которая разрешится рано или поздно сама собой.
Решающее значение имел доклад известного метеоролога и не менее известного художника-пейзажиста профессора Грацианова. Доклад состоялся в Москве, перед двадцатитысячкой аудиторией Дворца Советов, и передавался по всей стране по телевизефонной сети30. Последствия доклада оказались, однако, совершенно неожиданными для самого докладчика.
Профессор начал с того, что выразил свое восхищение проектом Лаврова.
— Проект, — сказал он, — научно и технически обоснован почти безукоризненно. Такие идеи, имеющие огромное значение для судеб человечества, заключающие в себе все достижения своей эпохи, появляются лишь раз в столетие. Но, к сожалению, одна область науки не может еще поспеть за проектом Лаврова. Это — климатогия31. Конечно, мы и в этой области далеко ушли от прошлого, узнали много нового, установили неизвестные ранее закономерности, но этого мало. Кто из климатологов возьмет на себя смелость исчерпывающе предсказать все последствия, которые внесет новое теплое течение в климатический порядок, установившийся в нашей стране?
Мы можем лишь в самой общей форме сказать, что теплый воздушный поток, постоянно возникая над этим течением, будет уходить в верхние слои атмосферы, а в нижние, разреженные слои устремится холодный воздух с севера и с юга. Северное направление, как менее важное, можно сейчас не рассматривать. Займемся южным течением. Здесь на место поднимающихся кверху воздушных масс, в образовавшееся разрежение, ринется с юга нижний, более холодный воздух. Первыми придут в движение холодные воздушные массы над прибрежными полярными морями, за ними последуют воздушные массы, лежащие над тундрами, затем — над тайгой, далее — над среднероссийскими и казахскими степями и, наконец, еще южнее — над остатками пустынь Средней Азии.
Именно эти последние горячие и теплые воздушные струи, проходя с юга над тайгой, тундрой и полярными морями, будут отдавать им большую часть своего тепла, прогревать мерзлую почву, расплавлять тысячелетний подпочвенный лед, согревать воду полярных морей и препятствовать образованию льда. Но этим дело не ограничится. Эти пришедшие с юга воздушные струи, сначала охладившиеся над полярными областями и затем вновь обогретые над возродившимся Гольфстримом, поднимутся в верхние слои атмосферы и устремятся обратно на юг, чтобы заполнить разреженность, образовавшуюся там в атмосфере. Проходя в верхних, холодных, слоях атмосферы, воздушные потоки снова охладятся, водяные пары, насыщающие их, превратятся в воду, и обильные дожди прольются над тундрами, тайгой, степью и над полумертвыми остатками пустынь Кара-Кумов и Кызыл-Кумов, оживляя их. Но образовавшиеся от таяния подпочвенного льда и обильных дождей гигантские массы подпочвенных вод хлынут на поверхность земли, переполнят реки и озера, затопят всю сушу и превратят ее в необозримое болото с подымающимися кое-где плоскогорьями и вершинами холмов и гор. Что станет тогда с нашими субарктическими и арктическими городами и поселками? Что станет с нашими заводами, рудниками, копями, железными дорогами? Что станет с единственной в мире по ценности тайгой, на благоустройство которой наше поколение затратило столько сил и средств? Кто знает, как отразится эта перемена климата на здоровье людей, как повлияет на приспособившиеся к существующему климату наши культурные растения, которые со времен Мичурина мы выводили с такой заботой!
— Долой проект Лаврова! — прервал докладчика чей-то резкий голос.
— Не долой, мой уважаемый, но слишком экспансивный товарищ, — быстро возразил профессор, — а отложить! Вот, по-моему, самое правильное решение. Отложить до того времени, когда климатология сможет сказать свое решительное слово о реализации проекта.
Профессор начал собирать свои заметки, намереваясь сойти с трибуны, но, прежде чем он успел это сделать, из зала через десятки репродукторов прозвучал спокойный звучный голос:
— Вы запугали нас своими картинами гибели мира, Иван Афанасьевич. И совершенно напрасно! Товарищ председатель, позвольте мне сказать несколько слов.
— Кто просит слова?
— Академик Карелин.
Академика встретили бурными аплодисментами. Ученый с мировым именем, в молодости геолог, затем климатолог, он дал человечеству, среди многих других открытий, теорию формирования и строения климата и поразительно точный метод прогноза погоды. В науку этот метод вошел под названием "метод Карелина". Молодежь любила Тихона Ивановича за прямоту и простоту, за редкий ум и лукавое добродушие. С тех пор как климатология стала обязательным предметом изучения в средней школе, Тихон Иванович изъявил желание сам читать лекции школьникам Советского Союза, занимающимся по московскому времени. В точно определенный час в этих школах перед миллионами советских школьников на экранах телевизефонов32 появлялась характерная фигура Тихона Ивановича.
— Так вот, друзья мои, — сказал Тихон Иванович, когда немного утих приветственный шум, — по-моему, профессор Грацианов немного преувеличил. Должен признаться, что проект уважаемого товарища Лаврова мне пришлось, по просьбе самого Сергея Петровича, проконсультировать. Начал я с консультации, а кончил тем, что сам увлекся этой замечательной идеей и продолжал ее разрабатывать под руководством моего молодого друга уже более детально. Ночи просиживали напролет… И выводы у нас получились совсем не похожие на те, которые здесь изложил Иван Афанасьевич.
В чем его ошибка? Прежде всего в том, что он требует подождать, пока климатология станет наукой, чуть ли не математически точно решающей все стоящие перед ней вопросы. Но это значит вообще отказаться от помощи науки, потому что ни одна наука своего развития до сих пор не закончила и закончить не может. Природа всегда и непрерывно ставит перед нами новые и новые вопросы. Проблема, решенная сегодня, в свою очередь, выдвигает новые загадки. И в этом счастье нашей жизни, нашей научной деятельности, дающее нам возможность бесконечного прогресса, движения вперед. Ведь если стать на точку зрения Ивана Афанасьевича, ни один шаг в нашей человеческой деятельности, при желании обосновать его данными науки, никогда не может быть сделан, так как всестороннего, абсолютно точного и исчерпывающего обоснования его наука дать не сможет. В этих условиях доля риска всегда остается, и ждать, пока она совершенно исчезнет, значит отказаться от живой практической деятельности. Люди ведь отваживались плавать на просторах океана даже тогда, когда еще не знали ни компаса, ни хронометра33, ни секстана34.
Вторая ошибка Ивана Афанасьевича заключается в том, что по его представлению, действие отепленной струи Гольфстрима будет иметь характер катаклизма35, чего-то внезапного, словно извержение вулкана. Между тем и сущность и влияние морских течений на климат достаточно уже известны, чтобы иметь суждение о влиянии отепленной струи Гольфстрима на климат северной части Евразийского континента.
И Тихон Иванович рассказал слушателям, что даже мощное североатлантическое теплое течение, продолжение Гольфстрима, подходя к берегам Западной Европы, несмотря на сравнительно высокую температуру своих вод, посылает на континент вполне умеренные осадки и не превратило его климат в тропический. Температура вод на севере будет находиться в руках человека. Диаметр шахт, а следовательно, и мощность пропускаемого через них потока воды, а также глубина этих шахт, определяющая количество подаваемой из подземных недр теплоты, рассчитаны в проекте так, чтобы разогрев всей полярной струи арктических вод шел постепенно. Это произойдет в тот срок и с такой быстротой, какие нам желательны, примерно — в три — четыре года.
— Кстати, — заметил Тихон Иванович, — я хотел бы мимоходом коснуться замечаний профессора Радецкого, переданных на днях по радио. Профессор Радецкий полагает, что в проекте Лаврова нет никакой необходимости, так как естественное потепление Арктики идет само по себе. Профессор Радецкий рекомендует нам ждать сложа руки, пока в награду за наше терпение с неба не придет полное потепление Арктики. А ведь профессору Радецкому известно, что это процесс очень длительный и медленный, что здесь счет идет на столетия, и нам неизвестно еще, когда и на какой ступени потепление остановится. Почему же нашему поколению уклоняться от решения такой грандиозной задачи? Но это между прочим. Вернемся к докладу профессора Грацианова. Мы установили, что действие отепленной струи атлантических вод в Полярном бассейне будет лишь постепенно сказываться на климате континента. Профессор Грацианов пугает нас результатами потепления и растаивания подпочвенного льда в области вечной мерзлоты. Но если в атмосферных массах процесс этот будет происходить совсем не с такой катастрофической быстротой, как это кажется уважаемому докладчику, то тем более следует ожидать замедления этого процесса в почвенной среде. Необходимо иметь в виду, что подпочвенный лед покрыт в области вечной мерзлоты толстым, иногда в несколько десятков метров, слоем теплоизолирующей почвенной и мшистой подушки. В долгие летние дни среднеиюльская температура, например, а Верхоянске — "полюсе холода" — достигает 15–16 градусов выше нуля, а максимальная — плюс 34, даже 38 градусов жары! И все же горячее летнее солнце не может там сколько-нибудь заметно повлиять на состояние подпочвенного льда. Ясно, значит, что медленное и сравнительно незначительное повышение зимних температур во всяком случае не приведет к тем катастрофическим наводнениям, которых опасается докладчик. Процесс растаивания подпочвенного льда под охраной теплоизолирующей почвенной подушки будет медленным и длительным. Конечно, нужно заранее готовиться к значительным нарушениям в природе этих областей. Вероятно, появятся новые реки, в некоторых местах русла старых рек не смогут вместить нового притока подпочвенных вод, будет угрожать опасность наводнений, появится много новых провальных озер. Придется заняться подготовкой и устройством новых вместилищ для стока вод, заранее проводить русла новых рек и каналов, реконструировать фундаменты под зданиями и железнодорожные пути, искусственно заморозить некоторые рудники и шахты. Но если еще в полуварварский период своей истории маленькая Голландия смогла отвоевать себе землю у сурового моря, то неужели нашу великую страну, в период ее расцвета, в эпоху могучего развития науки, техники и плановой организации сил, смогут остановить какие-то подпочвенные воды и задержать в нашем движении к высшей культуре? Нет! Никогда!
Бурный взрыв оваций был ответом на речь старого ученого. Но овации сейчас же оборвались, как только Тихон Иванович нетерпеливо поднял руку.
— И пусть не говорят нам, — продолжал старый ученый, — что, дескать, мы достигли уже всего необходимого, отлично приспособились к существующему порядку вещей и нам нечего бросаться, как они говорят, в авантюры. Жизнь только в движении! В непрерывном движении вперед. Мы еще только начинаем жить по-настоящему, и стыдно нам уклоняться от зова жизни. Проект Лаврова является именно таким призывом жизни. И мы не смеем отказываться идти навстречу этому призыву, если мы хотим быть достойными нашего великого прошлого, нашего прекрасного настоящего и еще более чудесного будущего!
Заключительные слова академика вызвали восторг. Раздались крики: "Браво!" "Да здравствует проект Лаврова!" Многие устремились к трибуне и, стоя внизу, приветствовали старого ученого, медленно спускавшегося по ступеням. Непрерывный звонок председателя даже через десятки усилителей был едва слышен.
На трибуне появился молодой человек, высокий, смуглый, с длинными черными волосами и горящими глазами. Энергичными движениями рук он требовал внимания.
— Мы, молодежь, хотим действовать, — начал наконец молодой человек, — работать, творить! Мы хотим тоже оставить свой след на земле, след, не стираемый веками! Мы тоже хотим служить нашей родине, всему будущему человечеству, как наши героические отцы и деды. Пусть даже с риском, пусть с жертвами! Мы не боимся их, мы без страха пойдем на жертвы, потому что мы хотим подвига! Я предлагаю сейчас же организовать сбор подписей и просить наше правительство немедленно учредить комиссию для практического рассмотрения и дальнейшей разработки проекта Лаврова. Да здравствует Лавров и его проект!
Закончив под грохот аплодисментов и крики "ура" свою речь, молодой человек быстро сошел с трибуны и скрылся в толпе.
Председатель едва успел спросить его:
— Кто говорил? Ваша фамилия?
— Красницкий, — ответил молодой человек.
— Собрать подписи! Пусть президиум раздаст листы! Раздайте листы! — слышались крики из разных концов зала.
Через минуту из рук в руки, из одного ряда в другой по всему огромному залу началось перепархивание белых листов, быстро покрывавшихся сотнями и тысячами подписей…
Среди гула оживленных разговоров раздался голос председателя:
— Внимание! Внимание! Даю Тбилиси! Смотрите и слушайте Тбилиси!
Огромный серебристый экран позади президиума вдруг засветился трепетным розовым светом, его гладкая поверхность быстро начала как будто уходить куда-то вглубь. Еще мгновение — и рядом с залом Дворца Советов, словно продолжение его, возник новый огромный зал с бесконечной перспективой боковых колонн, несущих на себе обширный подковообразный балкон. Зал и этот балкон с амфитеатром были полны взволнованным народом, президиум занимал свои обычные места над трибуной, на трибуне стоял человек с черными курчавыми волосами, и его голос разносился теперь одновременно под сводами московского и тбилисского дворцов:
— …Выслушав доклад профессора Грацианова и возражения академика Карелина, мы единодушно присоединяемся к почину наших московских товарищей! Да здравствует Лавров и его проект!
— Внимание! — послышался голос председателя. — Смотрите и слушайте Харьков!
Еще через пять минут:
— Сейчас будет Минск!
Потом:
— Мурманск!
— Владивосток!
— Сталинград!
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ПОСЕВЫ
Весеннее солнце припекало, но в большом универсальном магазине, окна которого были затемнены шторами, было прохладно.
Инфракрасный сторож36 тихо закрыл за Березиным дверь магазина, не давая выхода наружу прохладному кондиционированному воздуху.
Лавров снял берет и вытер лоб. Плотный, краснолицый спутник последовал его примеру. Лицо этого человека было гладко выбрито, под узенькими прищуренными глазами висели припухлые мешочки, как у людей с нездоровым сердцем, но с толстых красных губ не сходила веселая, добродушная улыбка. Глаза его находились в непрерывном движении, они быстро скользили по всему, что встречалось на пути, лишь на мгновение останавливаясь на той или иной детали, и тогда казалось, что этот зоркий фотоаппарат цепко хватает и фиксирует на бесконечной пленке памяти все, на чем останавливается обостренное внимание человека.
Это был московский корреспондент иностранных газет Эрик Гоберти. Его статьи и корреспонденции были всегда увлекательны и талантливы.
Одни читатели восхищались его работами, другие нападали на него. Уже десять лет Гоберти жил в Стране Советов и следил за ростом и расцветом ее. Каждое достижение Советского Союза, каждый новый интересный завод или электростанция, рекорд советских летчиков или советских хлопководов, открытие советских ученых, каждый новый шаг в развитии страны — все умел он ярко и увлекательно показать в своей очередной корреспонденции и завоевал себе в Советской стране уважение.
— Ну, — сказал Лавров, взглянув на часы, — мне нужно в гастрономическое отделение.
— В гастрономию и мне, — заявил Гоберти.
— Ну что же, пойдемте все, — присоединился Березин.
Прошли через фруктовое отделение, потом через отделение мясных и рыбных продуктов. Многие встречные узнавали Лаврова, останавливались, приветствовали его, пожимали ему руки. Гоберти при одной такой остановке случайно взглянул на Березина. Тот криво улыбнулся ему, чуть заметно пожал плечами и отвернулся. Гоберти, недоумевая и силясь что-то понять, продолжал наблюдать. Но Березин спешил вперед, не оглядываясь.
Наконец, при одной немного затянувшейся встрече с двумя восторженно настроенными молодыми женщинами, Березин повернулся и с досадой, едва дождавшись их ухода, громко сказал:
— Что же ты мешкаешь, Сергей? До сих пор еще не привык к своей славе?
— Ладно, ладно, — краснея отвечал Лавров. — Неудобно же обрывать…
Гоберти напряженно наблюдал и слушал. Его маленькие серые глазки горели острым любопытством.
В гастрономическом отделении Лавров нажал кнопку в столе возле вазы с образцами икры, просунул в щель свою адресную карточку и небольшой квадратный талон.
— Странно все-таки, — говорил Гоберти, отбирая себе продукты: — как это в Советском Союзе сохранились еще вещи, за которые нужно расплачиваться!
— Их совсем не так много, — возразил Лавров, — лишь наиболее редкие. Некоторые сорта дорогой рыбы, икра, старинные гравюры, геликоптеры. Все это уж не такие предметы первой необходимости и не так их много, чтобы пользоваться ими без некоторых ограничений. Советскую икру, например, весь мир требует. Другой такой не найти. Надо же с вами поделиться. Ну, я бегу, мне еще нужно в художественное отделение. Хочу порыться в гравюрах. До свиданья, господин Гоберти! До свиданья, Николай! Когда же ты навестишь Ирину или меня?
— Работы много, Сергей, и своей и, так сказать, твоей, — криво усмехнулся Березин. — Твой ответ на мою статью принес мне много неожиданностей — не скрою, довольно неприятных. Собираю теперь материал для возражений.
— Неожиданностей? — пожал плечами Лавров. — Если бы ты, прежде чем печатать свою статью, предварительно поговорил со мной, никаких неожиданностей не было бы. Ведь все мои аргументы — не секрет. Ну, прощай! Заходи…
Он помахал рукой и быстро вышел.
Оставшиеся некоторое время молчали.
Гоберти первый прервал молчание.
— Господин Березин, — сказал он, незаметно наблюдая за своим новым знакомым, — вы считаете ответ Лаврова на вашу статью неисчерпывающим?
— Далеко нет, господин Гоберти, — ответил Березин, нетерпеливо передернув плечами. — Нужно только хорошо разобраться в ней. Это еще не последнее слово в нашей дискуссии.
— Помню, вы что-то писали о теплопроводности… Да, да, припоминаю… о низкой теплопроводности горных пород. Так, кажется?
— Да, об этом.
— Вы хотели сказать, что эти горные породы, то есть шахты, скоро остынут, перестанут согревать воду Гольфстрима и вся постройка окажется бесполезной? Я верно передаю вашу мысль?
— Совершенно верно.
— Что же Лавров ответил на это?
Березин досадливо пожал плечами и минуту помолчал.
— Он рассчитывает, — нехотя начал Березин, — встретить внизу, под дном океана, большие гнезда радиоактивных пород — уран, торий, актинии. Усиленный процесс распада этих элементов доставит шахтам дополнительный источник тепла. Это источник вечный, незатухающий.
Березин оживился и, сам того не замечая, говорил с возрастающим увлечением:
— Вы понимаете, раньше думали, что внутриземная теплота — это просто остатки солнечного тепла еще с тех времен, когда Земля только отделилась от Солнца. Это, конечно, неправильно. Ученые уже давно подсчитали, что этого запаса тепла хватило бы нашей планета только на двадцать два миллиона лет, а в действительности она существует около трех миллиардов лет.
— Ого, разница большая! Так откуда же берется земная теплота?
— Из собственных ресурсов планеты — вот откуда! — воскликнул Березин. — Вы понимаете, уран, например, содержится во многих горных породах, а особенно в гранитах. Он постоянно, непрерывно распадается и превращается в другие элементы — тяжелый свинец и легкий газ гелий. А распад и превращение всегда связаны с выделением тепла, с повышением температуры тех горных пород, в которых эти процессы совершаются.
— Вот как! И этого достаточно, чтобы обезопасить шахты от остывания?
— О да! — воскликнул Березин и, словно спохватившись, потухшим голосом добавил: — То есть так думает Лавров… Но некоторые ученые считают, что залежи радиоактивных пород встретить на глубине не удастся…
— Вот как, — задумчиво произнес Гоберти, тихонько барабаня пальцами по столу. — Гм… гм… Я три дня назад вернулся в Москву. Должен вам сказать, что статья ваша произвела фурор в заграничных журналистских кругах. Я слышал, что какая-то французская газета собирается перепечатать ее.
— Да? Очень рад… Не знаете ли, какая газета?
— Нет, не знаю. Но, во всяком случае, этой статьей очень заинтересовалась. Вам, конечно, известно, что проект Лаврова сильно взбудоражил некоторые круги на Западе? Все прогрессивные круги и печать сразу подняли его на щит. И могу добавить — с большим энтузиазмом. Но я говорю о других кругах. Они взволнованы не меньше, но без внешнего шума.
— О ком вы говорите?
— Я говорю о некоторых, правда довольно узких деловых кругах. Там меня положительно разрывали на части, надеясь узнать какие-либо подробности о проекте.
— В самом деле? Почему бы так? Кажется, именно там достаточно трезвых людей, — с горечью заметил Березин.
— Люди там трезвые… трезвее, пожалуй, нигде не найти, но и предусмотрительные. Особенно если они кровно, то есть акциями и дивидендами, связаны с судьбой Суэцкого канала.
Березин удивленно поднял глаза.
— Об этом я не думал.
— А тут есть о чем подумать, — серьезно сказал Гоберти. — Если вы не спешите, посидим здесь, поговорим… Вон в том уголке нам никто не помешает. Мне хотелось бы поговорить с вами. Не скрою от вас, — продолжал он, когда они удобно расположились в уединенном углу зала, среди пышно разросшихся в кадках розовых кустов, — не скрою от вас, что хотя мои личные симпатии полностью на стороне товарища Лаврова и его проекта, но мои корреспонденции являются, в сущности, лишь отражением советской действительности. Проект Лаврова был с восторгом принят общественностью вашей страны. С таким же энтузиазмом приняли его по моим корреспонденциям широкие народные массы за границей. Но я скажу, что проект имеет, к сожалению, не очень много шансов на реализацию…
— Почему вы так думаете? — оживившись, спросил Березин.
Гоберти минуту помолчал, внимательно всматриваясь в лицо своего собеседника.
— Видите ли, — сказал он наконец, — решит дело, как вы сами понимаете, советское правительство. Оно должно будет учесть не только энтузиазм масс, не только производственные, хозяйственные и технические возможности страны, но также и некоторые другие факторы, которые широкая общественность предусмотреть не в состоянии…
— Что же это за факторы? — нетерпеливо перебил Березин.
— Внешние, — коротко ответил Гоберти. — Интересы некоторых иностранных кругов. Проект затрагивает самые жизненные интересы международного Акционерного общества Суэцкого канала, — продолжал он после минутного молчания, — и это общество кровно заинтересовано в судьбе проекта Лаврова. Ведь если он будет реализован и Северный морской путь будет открыт для безопасной навигации в течение круглого года, то это убьет Суэцкий канал! Я полагаю, что эти круги предпримут попытку тем или иным путем оказать давление на советское правительство, чтобы устранить эту угрозу дивидендам акционеров общества Суэцкого канала.
— М-да! Пожалуй, вы правы, — задумчиво ответил Березин.
— Видите, — рассмеялся Гоберти, не спуская с него пристального взгляда, — видите, на каких невидимых нитях висят и слава и жизненные успехи вашего друга.
Березин исподлобья бросил на Гоберти быстрый взгляд, но ничего не ответил.
— Не в этом, конечно, дело, — добродушно продолжал Гоберти. — Дело в том, что если вы боретесь против проекта Лаврова из соображений, разумеется, патриотических, то кое-кто за границей, несомненно, сочувствует вам в этом. Вот почему там проявили такой интерес к вашей статье, направленной против проекта. Кстати, когда вы думаете изготовить ваш ответ на возражения Лаврова?
— Примерно через декаду, — медленно и угрюмо ответил Березин, не поднимая головы.
— Хотите, я передам вашу новую статью в свою газету? — спросил Гоберти. — Это докажет беспристрастие редакции, если после моих восторженных корреспонденции будет помещена ваша статья. Я уверен, что она несомненно будет иметь большое влияние на мировое общественное мнение.
Березин не сразу ответил.
— Если в вашу газету… — нерешительно сказал он наконец. — Что ж… надо подумать… Газета дружественная.
— Это было бы замечательно! Кстати, я тоже через декаду отправляю свою корреспонденцию о назначении правительственной комиссии по проекту Лаврова. Вы, кажется, включены в эту комиссию как один из самых серьезных его оппонентов?
— Да. Но имейте в виду: если я дам статью, то только при условии, что она пойдет без подписи.
— Простите, — замявшись, сказал Гоберти, — но ваша подпись должна быть под статьей… Иначе редакция может не поверить, что она принадлежит именно вашему перу.
— Ну хорошо! Оригинал я подпишу, но в печати статья должна появиться анонимно.
— Это, конечно, ваше право. Значит, договорились? — весело сказал Гоберти вставая.
Выйдя на улицу, новые друзья очутились под тенистыми кронами кленов и платанов. Березин нес букет свежих цветов, Гоберти — свои пакеты и коробки.
Множество бесшумных электромобилей разнообразных форм и окрасок, одноместных и двухместных злектроциклов быстро мчались вверх и вниз по улице. По-весеннему празднично одетые люди заполняли тротуары; высоко в воздухе носились стаями аэромобили, геликоптеры и орнитоптеры; они то взмывали с крыш окружающих зданий, то садились на них.
Гоберти и Березин, погруженные каждый в свои мысли, изредка перебрасываясь словами, спустились к площади. Навстречу им по подъему двигался эскалатор, переполненный людьми.
Площадь была большая, овальная, окруженная высокими зданиями. В центре на зеленом острове газонов, среди струй кольцевого фонтана, высился бронзовый памятник знаменитому русскому ученому Ломоносову.
Свернув с улицы на площадь Ломоносова, Гоберти и Березин вышли в подъезд первого дома и по мягко освещенной лестнице-эскалатору спустился в огромный, залитый светом подземный зал. В центральной части между двумя рядами колонн, слепо поблескивая матовыми поляризованными стеклами37 фар и кабин, стояли в ряд заснувшие электромобили. По сторонам вытянулись одноместные и двухместные электроциклы с открытыми сиденьями вроде кресел. Среди машин бродили люди и, выбрав подходящую, уезжали. Гоберти и Бере-зин остановились у четырехместного электромобиля с прозрачной верхней частью кузова.
Березин сел за рулевую баранку. Машина медленно, с чуть слышным певучим гудением электромотора прошла по подъемному тоннелю. Впереди показалось широкое пятно света — выход на улицу.
— Вам куда, господин Гоберти? — спросил Березин, осторожно выводя машину на стеклянною мостовую.
— Мне недалеко, на Клязьму. Хочу навестить приятеля, поудить, кстати, рыбу и отдохнуть возле воды. А вам?
— Гораздо ближе, на Москву-реку, Фрунзенская набережная.
— С букетом? — добродушно усмехнулся Гоберти.
— Как видите…
— Эх, молодежь! — с грустной завистью вздохнул Гоберти. — Вся жизнь ваша — как букет.
— Не всегда, к сожалению, — проговорил угрюмо Березин. — В букетах попадаются и цветы с шипами.
— Розы, например?! — заметил Гоберти, искоса прищуренными глазами посмотрев на своего спутника.
— Чаще всего… Вы не возражаете, если мы раньше поедем на набережную и там я передам вам машину?
— Пожалуйста, мне не к спеху… Вам не кажется, что в кабине немного душно?
— Да, солнце припекает. Прибавьте прохлады. Рычажок кондиционного аппарата возле вас.
Машина неслышно мчалась. Бежали мимо широкие улицы, обсаженные рядами тенистых деревьев, тротуары с пестрым потоком людей. Мелькали освещенные тоннели под перекрестками, проносились мимо зеленые острова садов и скверов, площади с ровными, как ковер, газонами и фонтанами, окутанными сверкающей пылью.
Гоберти и Березин молчали. Еще через десять минут, у полукруглого, окаймленного колоннами подъезда на гранитной набережной Москвы-реки, Березин простился со своим спутником. С плохо скрываемым волнением, чувствуя себя словно перед решительным сражением, он начал подниматься по эскалатору к Ирине…
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ПОСЕВЫ
(Продолжение)
В сущности, ничего особенного не произошло. Березин предчувствовал этот результат. Правда, маленькая надежда чуть теплилась в его груди, но она улетучилась, как только он начал этот разговор… Последний разговор. Неужели последний?
Опять, как два с лишним года назад, Березин сидел на той же скамье у фонтана во внутреннем дворе дома Ирины. Как и тогда, с детской площадки доносились веселый смех и звонкие крики детей, громовой лай Плутона. Тогда была еще какая-то надежда. А теперь? Теперь никакой. Ну что же, этого надо было ожидать.
Как-то неожиданно для себя самого Березин довольно спокойно отнесся к результату сегодняшнего разговора с Ириной. Он испытывал даже чувство некоторого облегчения, словно освободившись наконец от долгого, мучительного ожидания. И сама Ирина показалась Березину сейчас какой-то далекой, безразличной, чужой.
Согнувшись, он сидел на скамье, опустошенный, без мыслей, тупо разглядывая следы на влажном песке дорожки. И снова возник перед ним образ Сергея. Имя друга преследовало его повсюду — о Лаврове говорили радиогазеты, экраны телевизора, на улицах и площадях о нем кричали плакаты, его имя звучало в разговорах прохожих. Этот человек встал перед ним на дороге к известности и славе, отодвинул его на задворки. Злоба и зависть с новой силой поднялись в душе Березина. Он порывисто откинулся на спинку скамьи и положил ногу на ногу.
Проект… проект… Если бы не проект, этот мальчишка вновь вернулся бы на ученическую парту, в безвестность…
В памяти Березина вдруг всплыло лицо Гоберти. Давление откуда, из-за границы… Может быть, это заставит отказаться от проекта? Если дать статью для газеты с новыми доводами, новыми возражениями, она, может быть, подкрепит позицию иностранных правительств, поддерживающих Суэцкую компанию, повлияет на решение советского правительства… В комиссии не только один Березин против проекта. Грацианов, Радецкий, Нурахметов. Но какие доводы? Какие новые соображения? А хотя бы то, что, выдвигая такой проект, нельзя базироваться на каких-то еще не открытых залежах радиоактивных веществ под дном океана. Мало ли что еще можно возразить против проекта! Это послужит на пользу хозяйству страны. Если проект будет отвергнут, сколько средств сохранится…
Глухой лай прозвучал вдруг совсем близко. Березин вздрогнул от неожиданности.
— Вперед! Вперед, Плутон!
Из-за куста на повороте дорожки показался скачущий во всю мочь, запряженный в легкую низенькую коляску огромный ньюфаундленд с раскрытой пастью и высунутым языком. В коляске сидел раскрасневшийся Дима. Плутон круто повернул, коляска подскочила, опрокинулась и вывалила Диму на песок. Плутон, не оглядываясь, с радостным лаем бежал вперед.
— Стой, Плутон, стой! — кричал запутавшийся в вожжах Дима.
Плутон остановился, недоумевающе посмотрел назад и виновато шевельнул хвостом.
Березин бросился к Диме.
Мальчик был весь в пыли и грязи, курточка разодралась, на лице и руках — ссадины. Закусив губу, он старался высвободиться из вожжей и встать.
— Ушибся. Дима? — спрашивал Березин, распутывая вожжи и поднимая мальчика. — Разве можно так мчаться?
— Ничего, Николай Антонович, — бормотал Дима стряхивая с себя пыль. — Мне совсем не больно.
Плутон скулил, стараясь перелезть через коляску, и, добравшись наконец до Димы, лизнул ему руку.
— Ну, идем, присядь на скамью, — говорил Березин. — Отдохни и приведи себя в порядок. Ирина испугается, если ты придешь домой в таком виде.
Он заботливо вытер платком покрытое пылью лицо и руки мальчика. Нетерпеливо скача на трех ногах — четвертая запуталась в упряжи, — Плутон приволок к скамье опрокинутую набок коляску. Смущенно и скоро но поглядывая на Диму, пес уселся у его исцарапанных и испачканных ног.
— Ничего, Николай Антонович, мне, право, не больно, — говорил Дима, распрягая Плутона. — Вы только ничего не говорите Ире.
— Почему же, Дима?
— Понимаете, она обещала подарить геликоптер когда мне исполнится четырнадцать лет. И теперь, как я с чем-нибудь не справлюсь, она говорит: "Где тебе с геликоптером управиться, да еще в Арктике…"
— Почему в Арктике? — удивился Березин.
— Да… — замялся Дима.
— Нет, в самом деле, — почему-то настаивал Березин, — при чем тут Арктика? Тебя дядя Сергей берет туда?
— Да, обещал… дядя Сергей с Ирой только и разговаривают что об Арктике, о Гольфстриме, о льдах белых медведях… Страшно интересно! Лапу, лапу подними, Плутон! Вот запутался! Мы с Костей Симаковы решили полететь в Арктику работать с дядей Сергеем, охотиться на белых медведей… Ну иди, Плутон!
— Нет, нет, не сюда! — забеспокоился Березин, пряча ноги под скамью. — Держи его, пожалуйста, подальше от меня…
— Да вы не бойтесь, Николай Антонович, — солидно говорил Дима, переводя Плутона на другое место. — Он никогда не кусается. Он очень умный и добрый.
— Не советую тебе доверять ему. Собака всегда останется родственницей волку.
— Ну вот, сказали! — обиделся Дима. — Плутон сам любого волка загрызет.
— М-да… Может быть, может быть… А как-нибудь и на человека набросится. А дядя Сергей часто у вас бывает?
— Часто. Вот он любит Плутона и всегда играет с ним.
— Вот как… А что они? Спорят о Гольфстрнме?
— С Плутоном? — рассмеялся Дима.
— С Ириной! С Ириной, конечно!
— С Ирой спорят. То есть не спорят, а говорят, смеются.
— Вот как! А ты всегда видишь дядю Сергея, когда он бывает у Иры?
— А как же? Плутон всегда чувствует, что дядя Сергей пришел, и бежит к нему в комнату Иры, и я за ним.
— Понятно… А Ира вас не выпроваживает из комнаты? Может быть, им посекретничать нужно? — натянуто усмехнулся Березин.
— Зачем же? Ведь мы им не мешаем. Когда они смеются, и мы с Плутоном смеемся. Вы не видали, как Плутон смеется? До того забавно! Я бы вам показал, только он сейчас грустный: ему стыдно за коляску. Ну, я пойду домой. — Дима вскочил со скамьи. — Брюки порваны, надо другие надеть.
Березин оторвался от своих мыслей, внимательно посмотрел на Диму, потом нерешительно сказал:
— Подожди, Дима. Так ты твердо решил слетать в Арктику?
— Ну, конечно, через два года… Когда мне исполнится четырнадцать и я получу свой геликоптер.
— Вот будут тебе завидовать ребята! Совсем героем сделаешься! Будешь рассказывать про свои приключения, и все станут слушать тебя разиня рты.
— Да, да! — У Димы разгорелись глаза. — А пока я уговариваю ребят организовать в школе полярный кружок. Будем изучать Арктику, ее природу…
— Ты не видал чучел белых медведей, моржей, тюленей? Приходи ко мне. Я живу рядом с нашим институтом, и там есть отличный арктический музей. Я тебе все покажу. Там и полярные нарты, и одежда, лыжи, оружие — все! А у меня самого есть чудесная коллекция разного оружия со всего света: и африканские луки со стрелами, и боевые палицы с тихоокеанских островов, и копья, и воздушные трубки малайцев…
— Вот замечательно! И бумеранг есть?
— И бумеранг. Приходи! Я тебе покажу, как стрелять из лука, как бросать бумеранг. Ладно?
— Непременно приду.
— Ну, смотри! Буду ждать тебя. В будущий понедельник вечером… А мой адрес знаешь?
— Знаю, знаю! Прошлый год мы с Ирой заходили к вам, но вас дома не было… Я помню… На электроцикле пять минут.
— Вот и отлично! Ну, прощай, будущий герой, мне тоже пора уходить. Будь здоров! Только Ире и дяде Сергею и вообще никому не говори. Пусть никто не знает, что ты уже готовишься в поход. Ладно?
— Никому, никому не скажу! И вы не говорите!
— Уж будь спокоен!
Березин приветливо кивнул Диме и быстро удалился.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ПЛАНЫ
Коллекция Березина была действительно замечательная. Она разместилась в двух больших светлых комнатах его квартиры.
Веером развешаны были на стене самые разнообразные копья — от простых, обугленных на конце палок огнеземельцев до тонких и острых метательных дротиков кафров и длинных, украшенных рисунками и перьями дагомейских копий с острыми железными наконечниками. Возле луков висели колчаны со стрелами. Надписи заботливо предостерегали, что многие стрелы отравлены. Были здесь и боевые палицы — то в виде простой сучковатой дубины, то утыканные зубами акул, клыками кабанов, тигров, ягуаров или железными гвоздями. Самые разнообразные щиты — деревянные, плетеные, обтянутые толстой шкурой носорога или буйвола, окаймленные длинными прядями шерсти и разрисованные магическими знаками. На отдельных столах расположились шлемы с воинственными, пугающими врагов украшениями: бизоньими и буйволовыми черепами, страшными челюстями крокодила, головами тигров, горилл, леопардов, гиен. На наклонных полках застекленных витрин и шкафов были разложены боевые каменные топоры, томагавки, секиры, полинезийские метательные пращи в виде расщепленной на конце палки и различные кожаные пращи южноамериканских племен. Здесь же был набор бумерангов из Австралии и редчайший экземпляр бумеранга, найденный при раскопках в древнемексиканских руинах, а также несколько очень редких духовых трубок с Зондских островов. Дальше шли ножи и кинжалы — каменные, роговые, железные и бронзовые.
Другую комнату занимали образцы европейского оружия: древнегреческие и римские шлемы, щиты, луки со стрелами, мечи, копья, средневековые арбалеты, рыцарские доспехи, тяжелые мечи и палаши, аркебузы, мушкеты, грубые однозарядные пистолеты. Затем шли более современные стальные сабли, кортики, штыки, охотничьи ружья, боевые магазинные винтовки и карабины с патронами и пулями, револьверы простые с барабаном, полуавтоматы и автоматические и, наконец, коллекция современного оружия, самого разнообразного и неожиданного по принципам построения и применения.
Березин еще со студенческих лет собирал свою коллекцию. Она была его неугасающей страстью.
Обычно такие страстные коллекционеры рады случаю похвастать своими сокровищами, собранными иногда ценой больших усилий и жертв.
Березин избегал таких демонстраций, но перед Димой все шкафы и витрины раскрывались настежь. Никому Березин с таким увлечением и охотой не показывал свои богатства.
Дима был совершенно подавлен раскрывшимися перед ним чудесами. В первые свои посещения он с жадным любопытством рассматривал все эти предметы из далеких, окутанных дымкой очарования стран, робко касался страшной головы тигра, косматой бахромы на щите, древнегреческого копья и жадно слушал объяснения Березина.
— И в музеях не найдешь такой коллекции, правда? — спрашивал Дима.
— Не знаю… — отвечал Березин. — Разве вот в музее Красной Армии… Там, пожалуй, полней. Во всяком случае, — он все же не мог удержаться, чтобы не похвастать, — не скоро встретишь такую.
Он любовно, с загоревшимися глазами и горделивой улыбкой оглядел все эти столы, стенды, витрины. Дима с недоумением посмотрел на Березина: он тоже собирал коллекцию — правда, всего лишь писчих перьев, — но хотел, когда она будет достаточно полной и интересной, передать ее Музею материальной культуры. Он сговорился уже с директором музея и несколько месяцев состоит членом "Общества активной помощи" музею. Там Димина коллекция со временем будет размещена в отдельных витринах, и всюду на них будут развешаны таблички: "История писчих перьев. Отдел создан, пополняется и ведется В.В.Денисовым".
Вон Костя Мякишев уже год имеет и ведет свой отдел перочинных ножей в том же музее, а об отделе Васи Горбунова и Миши Бородкина "История швейной иглы" в журнале "Культура" была целая статья. После появления статьи Вася и Миша стали отовсюду получать письма и запросы от ребят и даже от взрослых. Одни хотели принять участие в пополнении отдела, другие, наоборот, просили помочь им организовать такие же отделы при местных музеях, третьи хотели обмениваться дублетами. Вообще Вася и Миша сделались знаменитыми на весь Союз. И Дима был уверен, что года через два он поставит свой отдел писчих перьев также полно и интересно и отдел этот станет известным во всем Союзе.
И Дима с удивлением смотрел на Березина: собрать такую замечательную коллекцию и держать у себя дома! Да ведь любой, даже самый известный музей с радостью примет ее! Такая коллекция будет ежедневно привлекать тысячи посетителей! Вот чудак!
— Почему же вы такую чудесную коллекцию не поместите в какой-нибудь музей? — спросил наконец Дима.
— Видишь ли… — протянул Березин, доставая со стенда какой-то странный пистолет и протягивая его Диме, — коллекция-то еще далеко не полна. Вот видал ты световой пистолет?
— Световой?
Дима сразу забыл все свои недоуменные вопросы.
Пистолет имел широкую плоскую рукоятку, как у старинных маузеров, и два коротких дула, расположенных одно над другим. Верхнее дуло заканчивалось правильным раструбом в виде чашечки с блестящей, как зеркало, внутренней поверхностью.
— Эта чашечка, — объяснял Березин, — играет роль рефлектора, а маленькое отверстие в ее центре — конечное отверстие верхнего дула, на которое она насажена. Это световое дуло. По нему из зарядника, который находится вот здесь, внутри приклада, идут к рефлектору крохотные патроны, световые заряды, начиненные особым порошком. В него входят магний и другие вещества. Когда ты нажимаешь вот эту кнопку, из маленького аккумулятора, скрытого в прикладе, проскакивает в первый патрон, находящийся уже у самого рефлектора, электрическая искра. Она зажигает порошок, и он вспыхивает таким сильным и ярким светом, что никакой глаз — ни человека, ни животного, ни рыбы — не может его выдержать и моментально слепнет. Небольших животных этот свет может убить на месте, а для более крупных и опасных имеется еще нижнее дуло. Из него одновременно со вспышкой света бьет пуля. Целиться нужно прямо в глаза животного, вот через эту прицельную щель в верхней части рефлектора.
— Ага! Понимаю… — Дима подумал, потом нерешительно спросил: — А если возле медведя будет Плутон… И он ослепнет?
— Какого медведя? — спросил Березин и рассмеялся: — Ах, ты опять об Арктике? Я и не сообразил. Да, с Плутоном выходит похуже. Впрочем, если Плутон будет возле медведя, то он, конечно, будет смотреть не на тебя, а на зверя… Да, кстати, об Арктике! Дядя Сергей был у вас?
— Был, — рассеянно ответил Дима, прицеливаясь пистолетом в мишень на двери.
— О чем они говорили с Ирой?
— Опять о шахтах… о Гольфстриме… — Дима нажал кнопку на прикладе и спросил: — А можно пострелять из пистолета, хоть не по-настоящему?
— Можно. Только в другой раз. А еще о чем говорили?
— Дядю Сергея вызывали к самому министру. И министр сказал дяде Сергею, что про него что-то писали в заграничных газетах. И дядя Сергей и Ира смеялись… А зачем здесь эта пружинка?
— Эта? Если вздумается выпустить десять пуль сразу… А почему смеялись, не знаешь?
— Потому что антисоветская газетка… Николай Антонович, а это что? Я в прошлый раз не видел этого здесь.
Дима побежал в открытую дверь соседней комнаты — рабочего кабинета Березина. Березин досадно поморщился и пошел за Димой.
Дима стоял возле какого-то странного экипажа, похожего на маленький электромобиль, прозрачный кузов которого помещался между широкими гусеничными цепями из зубчатых пластин. Внутри было видно двухместное мягкое кресло, перед креслом стоял пюпитр с рычажками, кнопками и циферблатами различных крохотных приборов. Сбоку, возле кресла, в кузове была дверцы с ручками.
— Что это, Николай Антонович? Я никогда не видал таких машин.
— Это полярный вездеход. Мне прислали модель, потому что хотят лучше приспособить его к сибирским рекам.
— Вездеход? — недоумевал Дима. — Это как трактор?
— Вот когда будешь в Арктике, среди льдов, покатаешься на таких тракторах, тогда и поймешь всю их пользу.
Мысли Березина были, по-видимому, далеко и от тракторов и от вездеходов, но он заставил себя отвечать мальчику:
— В Арктике, Дима, на полярных морях чаще всего лед неровный, торосистый, весь в буграх, валах, провалах, гладкого места не найдешь. Вот этими гусеничными цепями вездеход и цепляется за неровности льда, лезет на торосы, сползает с них и вновь взбирается. Видишь, внутри, под креслом, электрические батареи, из них электрический ток идет в эти два ящика по обе стороны пюпитра. В ящиках — маленькие, но сильные электромоторы. Они и заставляют эти гусеничные цепи вращаться и вести всю кабину. В кабине тепло и уютно. Сам когда-нибудь испытаешь… А еще о чем говорили дядя Сергей и Ира?
— Дядя Сергей? — мальчик мысленно уже мчался на вездеходе среди таинственных ледяных просторов. Он с трудом оторвался от этих видения и посмотрел на Березина невидящими глазами. — Дядя Сергей… — повторил он. — Не помню… Ах, да! Он скоро уезжает вместе с Ирой. Куда-то на завод. Министр посылает их… А это что, Николай Антонович? Вот здесь, между гусеницами. Похоже, как будто гидросамолетные лыжи.
Березин в глубокой задумчивости ожесточенно растирал ладонью бритую голову.
— Это? — не глядя, почти машинально ответил он. — Это баллоны с воздухом, чтобы вездеход лучше держался на воде. Это вездеход-амфибия38. Видишь, сзади гребной винт. Впрочем… Ты прости, Дима… У меня голова разболелась… помолчи немного.
Бледный и расстроенный, он прошелся по комнате.
Вот как! Министр дает им уже совместные поручения…
Прозвучал тихий звонок. На экране телевизора, стоявшего на тумбочке в углу, появились голова и плечи Гоберти. Он вытирал и обмахивал платком пунцово-красное лицо.
Березин засуетился.
— Димочка, иди, пожалуйста, туда в оружейную. Займись там чем-нибудь. Только, смотри, не испорти ничего. Ко мне знакомый пришел по делу, мне нужно поговорить с ним. Когда кончу, приду к тебе… Иди, иди скорее.
Выпроводив Диму, Березин впустил гостя.
В кабинете, усевшись в кресло и обменявшись с хозяином обычными фразами о погоде, о здоровье, Гоберти со смущенным видом вытащил из кармана сложенную газету.
— Знаете, дорогой Николай Антонович… Тут произошло маленькое недоразумение с вашей статьей… Мне очень неприятно… Моя редакция не сочла возможным поместить ее в своей газете. Она мне пишет, что это было бы принципиальной невыдержанностью. И шло бы вразрез с позицией газеты и моими предыдущими корреспонденциями. И заместитель редактора нашей газеты, по собственной инициативе, передал статью представителю той газеты, которая уже однажды перепечатала вашу статью, направленную против проекта Лаврова.
Березин вскочил, словно ужаленный.
— "Обозрение"?! — воскликнул он. — Это архиреакционная, антисоветская газета?!
— Да, "Обозрение"… Но, право, здесь нет ничего ужасного, — сказал Гоберти. — После первой статьи вполне логично появление второй, такой же по духу. А вот и чек, ваш гонорар. Как видите, довольно солидная сумма, Николай Антонович.
— Но моя статья, моя подпись! — почти кричал в неподдельном отчаянии Березин, бегая по комнате. — Ведь это же меня совершенно компрометирует… Как вы этого не понимаете!
— Ради бога, не волнуйтесь. Повторяю, ничего ужасного не произошло. Ваша статья… вот посмотрите сами, — Гоберти развернул газету, — она напечатана без подписи. Кому придет в голову, что автором ее являетесь именно вы?
— Нет, нет, не говорите! Как можно поручиться за эту редакцию, состоящую сплошь из жуликов, пройдох, мошенников! Если им понадобится, они не постесняются раскрыть аноним и оперировать моей подписью.
— Люди там, конечно, не очень чистоплотные, — согласился Гоберти, — но деловые круги Запада прислушиваются к газете. Сделать же то, что вы опасаетесь, они никогда не посмеют, хотя бы просто из боязни задеть нашего заместителя редактора, человека очень богатого и влиятельного.
Березин, понурившись, шагал по комнате. Так вот над чем смеялись Сергей с Ирой! Да… в этой газете все доводы, даже архинаучные, выглядят совсем иначе.
— Как ваша работа в комиссии? — после минутного молчания продолжал Гоберти. — Наверное, в разгаре?
— Да, уже было два заседания… — задумчиво ответил Березин, устало опускаясь в кресло. — Теперь членам комиссии розданы чертежи и прочие материалы для рассмотрения.
— Вот как! — В маленьких глазах Гоберти промелькнул огонек живого интереса. — И чертежи шахт в том числе?
— Ну, конечно, — равнодушно ответил Березин.
— Вы уже рассмотрели их?
— Да. Читаю сейчас записку об экономических перспективах Северного морского пути.
— Что же, интересно? Убедительно?
— Как сказать! Реальные и логичные расчеты на фантастической основе. Это часто бывает в подобного рода литературе, и именно это, я бы сказал, гипнотически действует на читателя.
— Все-таки очень, очень интересно… Не сочли бы вы возможным оказать мне любезность, дорогой Николай Антонович? — дружески улыбаясь, говорил Гоберти. — Как-никак, мы с вами теперь собратья по перу… И вы должны понять меня! Дайте мне на денек чертежи шахт и эту записку! Просто ознакомиться. А? Жилка журналиста теперь задета во мне. Ну, пожалуйста…
— Что вы, господин Гоберти! Как можно? Эти материалы ни в коем случае не подлежат оглашению!
— Да я и не подумаю разглашать их без вашего разрешения! Можете совершенно не опасаться. Буду нем, как рыба! Тайна за тайну, а? — добродушно смеялся Гоберти. — Ведь не беспокоитесь же вы о том, что я знаю про ваше сотрудничество — правда, невольное — в "Обозрении"! Не правда ли?
Березина всего передернуло.
— Нет, нет! Ради всего святого, не подумайте обо мне худо! — испуганно воскликнул Гоберти. — Поймите лишь меня, Николай Антонович. Влезьте хоть на минуту в мою шкуру! Ведь я же газетчик, журналист, черт меня подери! Ведь я теперь сна лишусь, я потеряю покой, аппетит, здоровье, зная, что вот тут, "так близко и так возможно", как говорится у вашего Пушкина, лежит такое сокровище! И я его не знаю! И оно недоступно для меня! И, кроме того, ведь тут нет для вас никакого риска! Клянусь вам здоровьем моих престарелых родителей, что без вашего разрешения я не опубликую ни слова, ни единой запятой из этих материалов! Но я хочу быть первым среди моих коллег, кто, после этого разрешения пошлет радиограмму в свою газету. Неужели же никто не в состоянии понять проклятую душу старого журналиста! — в отчаянии вскричал Гоберти.
Понял ли действительно Березин всю глубину души старого журналиста и посочувствовал ему, или к нему пришли другие соображения, но через короткое время записка Лаврова была уже в кармане Гоберти, а Березин, разворачивая свернутые в трубку красно-синие листы чертежей, передавал ему некоторые из них.
— Где тут у вас почтовый шкаф, Николаи Антонович? — спросил Гоберти, заклеивая конверт с чертежами и закладывая в особые вырезы на нем свою адресную карточку. — Не хочется носить с собой, еще потеряешь. Так вернее будет.
— А без вас дома никто не вскроет конверт? — с беспокойством спросил Березин.
— Кроме жены, у меня в квартире никого нет. Спасибо, Николай Антонович, большое спасибо за такое исключительное доверие! — горячо благодарил Гоберти опуская конверт в трубу почтового шкафа.
Он вернулся к своему креслу, чем-то, по-видимому, озабоченный.
— Вам приходилось уже выступать в комиссии, Николаи Антонович? — спросил он после минутного молчания.
— Да, один раз.
— Против, конечно?
— Разумеется! Моя позиция известна.
— Та-ак… И многие члены комиссии стоят на этой позиции?
— Не очень… Человек пять — шесть из двадцати трех.
— Да, маловато. Кажется, этого достаточно, чтобы обеспечить ваше поражение. — Гоберти задумался. — Вероятно, проект пройдет в комиссии… Как вы думаете?
— Думаю, что пройдет.
— А дальше?
Березин с досадой пожал плечами:
— Дальше? Правительство утвердит проект… если… если не будет тех новых обстоятельств… внешних, о которых вы как-то говорили.
— Да-а… Конечно, лично я приветствовал бы именно такое решение правительства. — Гоберти опять задумался. — Но вы-то что предполагаете делать, если правительство утвердит проект?
— Буду продолжать бороться… доказывать, убеждать… — Березин встал с кресла и опять начал возбужденно ходить по комнате. — Даже если начнутся работы, их всегда можно приостановить.
На некоторое время опять воцарилось молчание.
— Хотите услышать дружеский совет, Николай Антонович? — сказал наконец Гоберти. — Я питаю к вам такое глубокое чувства симпатии и… благодарности, что я надеюсь, вы мне позволите…
— Пожалуйста, пожалуйста!
— Не делайте этого.
— Чего не делать? — в недоумении остановился посреди комнаты Березин.
— Как только комиссия примет проект, советую вам, дорогой Николай Антонович, в ваших же интересах прекратить бесполезную борьбу и во всеуслышание заявить об этом на последнем, заключительном заседании комиссии…
— Что? Не понимаю… Зачем это нужно? — продолжал недоумевать Березин.
— …И, сделав это заявление, — продолжал ровным голосом Гоберти, — тут же скажите, что вы готовы на любом посту, на любой работе отдать все свои силы и знания для наилучшего осуществления проекта…
Не веря своим ушам, Березин неподвижно стоял на месте, устремив глаза на спокойное, полное дружелюбия лицо Гоберти…
…Дима терял уже надежду дождаться Березина. Сначала мальчика то и дело отвлекали от коллекций доносившиеся из кабинета голоса, особенно чей-то чужой, бархатный и густой. Ожидание, однако, слишком затянулось, и Дима уже с некоторой обидой собирался уходить, когда Березин неожиданно появился в оружейной — бледный и взволнованный. Разговор теперь не клеился. Березин жаловался на головную боль, и Дима скоро простился с ним, условившись опять прийти через неделю.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ПЕРВЫЕ ШАГИ
Малый конференц-зал Государственной плановой комиссии гремел аплодисментами.
Проект Лаврова о реконструкции Великого Северного морского пути и областей распространения вечной мерзлоты на территории Советского Союза был принят комиссией.
Автор проекта скромно сидел за огромным столом президиума. Его горячо поздравляли, жали ему руки. Старик Карелин трижды расцеловал его.
Непрерывный звонок председателя, пытавшегося восстановить тишину, долго не мог пробиться сквозь этот шквал приветствий. Наконец наступило относительное спокойствие, взволнованные участники заседания мало-помалу заняли свои места, и председатель смог произнести:
— Ко мне поступили просьбы членов правительственной подготовительной комиссии товарища Березина Николая Антоновича и профессора Грацианова Ивана Афанасьевича о разрешении сделать внеочередные заявления по личному вопросу. Я предоставляю слово товарищу Березину. Прошу внимания!
Березин поднялся на трибуну бледный, с глубоко запавшими глазами.
Последние два месяца были для него месяцами лихорадочной работы. Почти все свое время он отдавал борьбе с проектом Лаврова: писал статьи, выступал на собраниях, произносил речи по радио.
Сегодня, незадолго перед голосованием, он произнес свою последнюю речь. По общему признанию, она была одной из лучших по силе, эрудиции и широте охвата проблемы. Но, как говорили, его выступлению не хватало прозорливости, умения глядеть вперед, наконец не хватало понимания сил и возможностей нашего великого народа.
Теперь он стоял на трибуне, видимо колеблясь, как будто решаясь на какой-то отважный и бесповоротный шаг.
Зал напряженно, в молчании ждал.
— Я считал и считаю, — произнес наконец Березин слегка охрипшим голосом, — что проект Лаврова недостаточно научно обоснован, что он потребует огромной и в то же время бесполезной затраты сил и средств нашего народа, повлечет за собой немало жертв при работах в столь необычайных, еще не вполне изученных условиях. Я считал и считаю, что такое исключительное напряжение всех ресурсов страны и возможный неуспех предприятия надолго затормозят дальнейшее развитие нашей науки и техники. Вот почему я так упорно боролся против осуществления проекта, но… резолюция одобрения принята. Проект Лаврова этим самым получает санкцию нашего высшего правительственного органа, он превращается в предприятие общегосударственного значения, становится делом чести всей страны, делом чести всех граждан нашего Союза. — Голос Березина окреп, стал звучать почти вдохновенно. — Я — сын своей великой родины — не мыслю себя отделившимся, враждебно или хотя бы даже нейтрально стоящим в стороне от предприятия, которому вскоре отдастся с энтузиазмом вся моя страна. Поэтому я считаю своим долгом заявить здесь во всеуслышание, что с настоящего момента я отбрасываю все мои возражения против проекта, что я готов отдать все мои слабые силы, все мои знания и опыт на помощь товарищу Лаврову, моему старому другу, и выполнять всякую работу по осуществлению проекта, какую найдут полезным поручить мне. Я хочу, чтобы моя великая родина вышла победительницей в этом предприятии исторического значения, хотя бы, если это нужно, ценою моего поражения…
Шумные аплодисменты покрыли эти слова Березина. Слышались возгласы: "Браво!", "Браво, Березин!", "Да здравствует советский патриотизм!"
Глаза Лаврова сияли. Он сорвался с места и бросился к Березину:
— Николай! Дорогой мой! Как я рад!
И на высокой трибуне, на виду у всего зала, они крепко обнялись.
В зале наконец восстановилась тишина.
— Слово для заявления по личному вопросу предоставляю товарищу Грацианову, — послышался голос председателя.
— Я не сговаривался с товарищем Березиным, — начал профессор, — но в прекрасных и сильных выражениях он сказал именно то, о чем и я хотел заявить с этой трибуны. Я пойду с моей страной по тому пути, который она избрала. Я разделю с ней радость победы и, если случится, горечь поражения. Я всего себя отдаю в распоряжение будущего строительства…
Новая вспышка оваций была сразу же прервана чьим-то мощным басом из зала.
Огромная фигура профессора Радецкого стояла в третьем ряду.
— Я полностью присоединяюсь к заявлениям моих товарищей…
Овации загремели снова.
* * *
Уже через декаду после исторического решения Государственной плановой комиссии был опубликован указ правительства об организации Министерства великих арктических работ — ВАР. Министром был назначен Владимир Леонтьевич Катулин с оставлением его в должности министра строительной промышленности.
Опытный организатор, прославившийся успешным проведением работ по повороту Аму-Дарьи к Каспийскому морю, Катулин пользовался огромной популярностью в стране.
Первым шагом Катулина было, как все и ожидали, приглашение Лаврова на должность своего заместителя и начальника строительства цепи подводных шахт. Сотни тысяч людей самых разнообразных специальностей — металлурги, химики, машиностроители, горняки, электрики, геологи, транспортники, врачи, климатологи, геодезисты, мелиораторы, моряки, радисты — стремились попасть в почетную армию строителей величайшего сооружения эпохи.
Фабрики, заводы, шахты ждали решения вопроса, кто перейдет в ведение нового министерства для снабжения строительства своей продукцией. Всем было известно, что такому огромному начинанию потребуется множество предприятий.
С приглашением на работу Березина, которое состоялось по личному представлению Лаврова, это сложное дело быстро двинулось вперед. Каждый день опубликовывались списки переходящих в ведение ВАР предприятий самых разнообразных отраслей промышленности.
Такой первоклассный завод, как Московский гидротехнический, на котором Ирина сейчас работала уже начальником производства, был включен в первый же список предприятий, переходящих в ВАР.
Огромная армия конструкторов и исследователей в центральном аппарате ВАРа, в конструкторских бюро заводов и фабрик, в научно-исследовательских институтах и лабораториях немедленно принялась под руководством Лаврова за разработку новых конструкций, сплавов металлов, за создание новых строительных материалов — всего, что было необходимо для такого необычайного строительства.
Уже через месяц мощный флот исследовательские судов и ледоколов был готов к выходу в Северный Ледовитый океан. Там они должны были искать наиболее удобные — с геологической и радиогеологической точек зрения — пункты для строительства шахт под полярной струей Гольфстрима. Время для подготовки похода в эти широты не было упущено: ледовые прогнозы на июль август, сентябрь и даже весь октябрь были исключительно благоприятными.
С острова Рудольфа, с мыса Желания на Новой Земле, с острова Визе, островов Большого Котельного, Беннета и Генриетты в течение всего июня радиостанции доносили о, преобладании ветров южных ромбов, о чистой воде или разреженном льде в районах их наблюдения, о благоприятных метеорологических показателях, установленных по методу академика Карелина.
Весь фронт строительства шахт под струей Гольфстрима, начиная от западных границ Советского сектора Северного Ледовитого океана и до меридиана острова Врангеля, то есть протяжением около трех тысяч километров, был разбит на пять участков.
Работа экспедиции значительно облегчалась тем, что почти на каждом участке уже имелись, достаточно известные и разведанные места глубокого залегания радионосных пород. Оставалось лишь найти более или менее удобные площадки на морском дне для закладки шахт.
Двадцатого июля, держа курс на Землю Франца-Иосифа, к головному участку строительства из Мурманска вышло первое экспедиционное судно-лаборатория "Новый Персей". До своей базы в бухте Тихой его сопровождал мощный десятитысячетонный ледокол "Челюскин", который должен был обеспечить безопасность и непрерывность работ не только "Нового Персея", но и других исследовательских судов — "Чекина" и "Нерпы", вышедших вслед за ним для тех же работ в том же районе океана.
Двадцать третьего июля Диксон радировал, что ледоколы "Литке" и "Ермак", закончив зимний ремонт, вышли на участок № 2, сопровождая три экспедиционных судна-лаборатории во главе с "Ломоносовым" и одно вспомогательное судно.
Двадцать восьмого июля, используя необычайно благоприятные ледовые условия этого года, исследовательская флотилия в составе сверхмощных ледоколов "Георгий Седов" и "Харитон Лаптев", трех судов-лабораторий во главе с "Амундсеном" и одного вспомогательного судна отправилась из порта Амбарчик к пятому участку.
В следующие четыре дня пришли сообщения из Нордвика и Тикси-порта. Из Нордвика к третьему участку ушли ледовый дредноут "Ленин" и десятитысячетонный "Красин", сопровождавшие два экспедиционных судна — "Менделеев" и "Мария Прончищева" с вспомогательным судном "Жохов". Из Тикси-порта отправились к четвертому участку два мощных ледокола — "Макаров" и "Дмитрий Лаптев", четыре судна-лаборатории во главе с "Капитаном Берингом" и одно вспомогательное судно.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ПЕРВАЯ ПЛИТА В ФУНДАМЕНТЕ
Работа того сектора строительства, которым руководил Лавров, поражала огромным размахом. С невиданной быстротой разрабатывались детали проекта, новые конструкции, специальные механизмы, велась подготовка технических кадров для работы в подводных и подземных условиях. Сотни институтов, лабораторий, экспериментальных цехов на фабриках и заводах не могли даже после самого жесткого отбора вместить всех желающих работать над задачами, поставленными проектом Лаврова. Десятки и сотни тысяч любителей — специалистов самых разнообразных отраслей науки и техники — круглые сутки заполняли общественные, открытые для всех лаборатории, экспериментальные станции, принимая на себя задания ВАРа по разрешению частных и не всегда мелких проблем.
Именно этими "любителями" были решены такие, например, проблемы, как георастворитель для гидромониторных39 установок Генина, механические штукатуры для теплоизоляции шахт, антирадиевые скафандры40 для предохранения людей от вредного влияния радия при проходке сквозь залежи радиоактивных пород, наконец методы предохранения подводных шахтных поселков от затопления при случайной аварии их перекрытий.
Если у Лаврова так успешно шли подготовительные работы, то необычайную деятельность развивал и Березин со своим аппаратом снабжения. Катулин и даже сам Лавров должны были сознаться, что не представляли себе, сколько энергии, изобретательности и организаторского таланта скрывалось в этом человеке. В его распоряжении оказалось огромное количество строительных материалов, машин, механизмов, инструментов, снаряжения и продовольствия. Березин организовал приемку и отправку всех этих материалов к основным портовым базам строительства — Мурманску, Архангельску, Нарьян-Мару, Новому Порту, Игарке, Диксону, Нордвику, Тикси-порту, Владивостоку. Сотни тысяч людей работали по его указаниям на приемных, транзитных и конечных пунктах, принимая и регистрируя грузы; караваны судов шли по рекам и морям, длиннейшие составы поездов везли по железнодорожным путям Советского Союза цемент, стальные трубы, тросы, балки, плиты стального стекла, консервы, строительный лес, баллоны с жидким кислородом, машины, мебель для будущих подводных жилищ. Строились новые причалы в портах, железнодорожные ветки, заводы и рудники.
Среди этой, казалось, необъятной работы Березин находил еще время помогать заводам-поставщикам усиливать их производственную мощность, хлопотать об их расширении, переоборудовании, направлять на работу опытных, проверенных, иногда лично ему известных людей. В донесениях этих заводов все чаще стало фигурировать имя Березина, которое всюду упоминалось с благодарностью за своевременную помощь и совет. Все помнившие его былую оппозицию проекту Лаврова теперь поражались его преданности строительству, неутомимой заботливости, с которой он относился ко всему, что хотя бы в малейшей степени могло повлиять на ход работы. Все личное как будто отошло для него на задний план. Казалось, он жил только проектом. Единственно, что в его жизни сохранилось из прошлого, — это встречи с Димой, правда более редкие, но по-прежнему систематические. Горькие и сладостные встречи, когда он мог говорить об Ирине, следить за ее жизнью, платя за это сочувствием мечтам мальчика о будущих его путешествиях…
Лавров бывал всегда доволен, когда, забегая в кабинет Березина, в ответ на вопрос: "Где Николай Антонович?" — слышал:
— Вчера вылетел в Магнитогорск.
— Когда вернется?
— Точно неизвестно. Он собирается побывать еще в Сталинске.
Лавров теперь тоже редко виделся с Ириной. Несмотря на огромную, захватывающую работу, он порой тосковал. Пока вокруг проекта шла дискуссия, пока его обсуждали в различных общественных и государственных инстанциях и нужно было выступать на докладах и по радио, писать статьи, отвечать на тысячи запросов, Ирина была верным помощником и секретарем Лаврова. Он привык работать с ней, привык видеть ее около себя двенадцать и шестнадцать часов в сутки, слышать ее тихий голос и смех. И теперь часто его охватывала тоска. Ирина наотрез отказалась идти работать с ним в центральный аппарат ВАРа. Она ни за что не хотела оставить свой завод, тем более что с головой погрузилась сейчас в конструирование новых гигантских насосов для водоотводной системы в гидромониторных установках Генина.
Уже 5 августа "Новый Персей" с первого участка радировал в Министерство ВАРа Лаврову, что вполне подходящая площадка для поселка и шахты № 3 найдена и обследована.
В тот же день Лавров передал распоряжение Березину о немедленной отправке необходимых строительству материалов и первой партии водолазов-строителей в указанное место и выгрузке их там на дне океана.
Через два дня начали поступать радиосообщения со второго, четвертого и частично с третьего участка о найденных и обследованных площадках в уже разведанных районах залегания радиоактивных пород.
Лишь на пятом участке и на восточном отрезке третьего, где крейсировало экспедиционное судно "Мария Прончищева", шторм и надвинувшиеся внезапно льды несколько задержали работу экспедиционных судов. Однако водолазные отряды продолжали обследования на дне, не испытывая особых помех от непогоды и ледовой обстановки на поверхности океана.
Восьмого августа огромные трансарктические электроходы "Василий Прончищев", "Колыма" и "Рабочий", нагруженные материалами и строительными механизмами приняв людей, вышли на рассвете из Мурманска к месту назначения — у острова Рудольфа.
Погода была исключительно благоприятная, и 17 августа капитаны этих кораблей рапортовали по радио, что все грузы на специальных парашютах, а также водолазы строители благополучно спущены на дно, где люди уже приступили к выравниванию и остеклению площадки для поселка.
Двадцать восьмого августа, в четырнадцать часов, на дне океана в совершенно необычной и торжественной обстановке состоялась историческая закладка первого подводного поселка. На это торжество из Мурманска на специально снаряженной подводной лодке прибыли министр ВАРа Катулин, Лавров, Березин и много приглашенных гостей.
Огромная круглая площадка на дне океана была залита светом мощных подводных прожекторов. Множество разнообразнейших механизмов с моторами и батареями в стеклянных оболочках были разбросаны по площадке среди штабелей и груд строительного материала. У края площадки, над глубоким кольцевым рвом для фундамента поселкового свода, выстроились кругом многорукие карусельные краны с зажатыми в стальных пальцах семидесятитонными стеклянно-стальными плитами для фундамента. Электротракторы на широких гусеницах с прицепленными гигантскими плугами застыли, словно отдыхая после законченной работы. По шероховато-стеклянной поверхности площадки змеились различной толщины шланги и трубы. Толстые стальные ленты транспортеров пересекали пространство, неся на себе разнообразные грузы — от огромных плит и балок для каркаса свода над будущим поселком до сосудов с химическими материалами для сварки этих плит и балок.
Несколько сот странных человеческих фигур в причудливых металлических одеждах, с прозрачными шарами на головах, молчаливо сгрудились вокруг подводной трибуны. На ней стоял человек, который время от времени взмахивал то одной, то другой металлической рукой.
Сквозь прозрачную оболочку шлема были видны его безмолвно шевелящиеся губы. Движения его рук вспугивали привлеченных сюда необычным светом рыб. Они сновали над головами людей, между механизмами и лентами транспортеров или, неподвижно повиснув в воде, изумленно-тупо рассматривали странные существа, собравшиеся здесь, в подводном мире.
С трибуны произносил приветственную речь министр Великих арктических работ Катулин. Крохотные радиоаппараты, вделанные в круглые шлемы водолазных костюмов, принимали и передавали его слова строителям и гостям.
Потом люди сразу подняли руки и, с видимым усилием преодолевая сопротивление воды, попробовали аплодировать. Ничего не вышло: аплодисменты получились неслышные. Но в ушах всех под шлемами гремели крики: "Да здравствует Советский Союз!", "Да здравствует арктическое строительство!"
Катулин сошел с трибуны и, взяв Лаврова под руку, направился ко рву у края площадки. Толпа последовала за ними. Катулин отдал распоряжение, главный инженер строительства повторил распоряжение и махнул рукой. Огромная прозрачная плита, зажатая в металлических пальцах карусельного пятирукого крана, стала медленно спускаться на тросе в кольцевой ров. Катулин жестом пригласил Лаврова вниз.
— Вам принадлежит честь закладки первого камня этого великого строительства, дорогой Сергей Петрович, — услышал Лавров у себя под шлемом слова Катулина.
Лавров спрыгнул в узкий котлован фундамента. Плита медленно опускалась за ним. Лавров поднял вверх руки и, притронувшись к плите металлическими пальцами, словно свел ее вниз и опустил ребром на дно. Конечно, это был только символ: плита сама легла бы точно в рассчитанное место, и Лавров едва ли был в силах управлять ее многотонной тяжестью.
Лавров легко, словно акробат, поднялся по тросу на площадку и очутился в стальных объятиях Катулина. Оглушительные овации загрохотали в ушах Лаврова.
Тотчас же двинулись вниз плиты, зажатые в лапах других кранов, выстроившихся вокруг всей площадки. На ребра улегшихся плит полились сине-огненные струи сваривающего материала. Карусель крановых рук повернулась на семьдесят два градуса, и следующая плита уже опускалась вниз на кипящее верхнее ребро предыдущей плиты. Транспортеры пришли в движение, придвигая новые плиты к крану, и его свободные руки автоматически схватывали плиты, лежащие на ленте конвейера, поднимали их и включались в движение карусели.
Толпа, стоявшая вокруг Катулина, Лаврова и другие гостьи с "Большой земли", мгновенно растаяла: строители разбежались к своим постам у механизмов.
Великое арктическое строительство началось.
ЧАСТЬ II
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
НА ЗАВОДЕ
"Министерство Великих арктических работ
Начальник Главного управления снабженья
Москва, 19 февраля 19…
Дорогая Ира! Скоро закончится осушка подводных поселков и начнется проходка шахт № 2, 3, 6, 9, 10. Между тем строительство ВАРа, как вам известно, остро нуждается в продукции вашего завода, особенно в насосах и гидромониторах. Наш приемщик на вашем заводе, инженер Гюнтер, сообщает мне, что вы испытываете недостаток в квалифицированных, опытных работниках. Позвольте мне, в интересах нашего общего дела, хоть немного помочь заводу.
Рекомендую вам подателя сего, товарища Акимова Константина Михайловича, инженера-металлурга, хорошо мне известного, прекрасного конструктора-автоматчика и опытного производственника. Я пытался привлечь Константина Михайловича к работе у себя, в центральном аппарате ВАРа, но он стремится на производство, на завод, и я не позволил себе настаивать на своем желании. Во всяком случае, буду очень рад, если окажется, что я смог быть вам полезным и помочь в ваших затруднениях. Всегда ваш друг — Ник. Березин".
Ирина читала записку, украдкой поглядывая на плотного, несколько грузного человека, сидевшего в кресле у ее рабочего стола. Его живые, умные глаза, открытое выражение лица произвели на нее хорошее впечатление. Судя по проседи в густых усах и морщинкам у глаз, он был далеко не молод. Спокойная уверенность движений говорила о большом жизненном опыте и чувстве собственного достоинства.
Последнее время, в связи с увеличивающимся размахом строительства ВАРа, завод действительно испытывал нужду в работниках, особенно в производственных цехах, за которые несла ответственность Ирина.
Она чувствовала некоторую неловкость перед Березиным, какую чувствует человек, нанесший другому незаслуженною обиду. С Березиным она не встречалась с прошлой весны, но самоотверженная работа Березина, завоевавшая ему всеобщее уважение, даже популярность, была ей известна.
Заключительные слова записки и общий тон ее тронули Ирину: она чувствовала заботу не только о заводе, о строительстве, но и лично о себе. Ирина была благодарна Березину за внимание, доброту к ней и — неловко было сознаться даже самой себе — за непоколебимую верность ей.
Ирина доверчиво подняла глаза на Акимова, тот выжидающе смотрел на нее.
Из короткого разговора Ирина узнала о его прошлой работе. Больше всего ее обрадовало упоминание Акимова о его особенном интересе к автоматизации литья: автоматика его всегда привлекала, он с успехом работал в этой области. Это было как раз то, в чем больше всею нуждались литейные цехи завода.
— Большой ли персонал на заводе? — поинтересовался, в свою очередь, Акимов.
— Не очень, — ответила Ирина. — В цехах занято двести двенадцать человек, работников снабжения и складских — около пятидесяти, в конструкторском бюро — двести шестьдесят семь человек, в лабораториях — восемьдесят семь да в управлении и конторе — тридцать пять человек. Всего около шестисот пятидесяти человек. Как видите, немного.
— Большая механизация? Автоматика? — живо спросил Акимов. — Насколько примерно у вас механизированы и автоматизированы производственные процессы?
— Вы спрашиваете только о производственных процессах в цехах?
— Лучше, конечно, цифры по всему заводу, если это вас не затруднит.
— Пожалуйста! — с некоторой гордостью усмехнулась Ирина.
Она порылась в кармане и вынула горсть конфет.
— Вот, — протянула она их с улыбкой Акимову, — пожалуйста. Это мои любимые…
— Это что? Задаток? — в свою очередь, улыбнулся Акимов, беря одну конфету. — Связываем меня по рукам и ногам? Ведь я тоже грешен насчет сластей.
— Да что вы? — обрадованно рассмеялась Ирина. — Вот приятно слышать! А то все смеются надо мною: сластена, сластена… Ну-с, так вот. Наша контора механизирована, я бы сказала, процентов на семьдесят пять. В конструкторском же бюро все вычисления, расчеты, которые занимают так много рабочего времени конструкторов, производятся исключительно счетно-аналитическими машинами. Даже чертежная работа больше чем наполовину механизирована. Наши конструкторы заняты только тем, что думают, изобретают, составляют формулы, уравнения, делают наброски, эскизы, а почти всю черную математическую и оформительскую работу делают за людей машины.
— Да, — задумчиво сказал Акимов, — это потому, что вашему заводу всего десятка два лет. Новый завод… К сожалению, мне приходилось работать только на старых, правда значительно реконструированных, заводах, где механизация и автоматика коснулись преимущественно производственных цехов. А у вас как дело обстоит в этих цехах?
— О, здесь, по-моему, достигнут предел мыслимого! — с гордостью заявила Ирина. — Раньше, лет тридцать — сорок назад, на таком заводе работало бы не меньше десяти-двенадцати тысяч человек! А ведь мы производим только часть необходимой нам продукции, остальное нам дают четыреста других заводов, которые кооперированы с нами.
— Боюсь, не придется ли мне пожалеть, что я перешел работать на такой завод.
— Почему? — с недоумением спросила Ирина.
— Помилуйте, — улыбаясь и разводя руками, произнес Акимов, — что же мне здесь делать, в этом царстве самостоятельных автоматов? Нянькой ходить возле этих стальных ребятишек и время от времени вытирать кому-нибудь из них носик? Право, это очень скучно!
— Ах, вот в чем дело! — рассмеялась Ирина. — Ну, не огорчайтесь. Для вас мы приберегли последние шесть процентов, недостающих до ста, чтобы наша автоматизация была полной. Для летчика, например, самое трудное — выжать последние метры до потолка, а для производственника — вот эти последние проценты механизации и автоматизации. Итак, Константин Михайлович, когда вы могли бы приступить к работе?
— Я хотел бы использовать свое право на декадный срок для предварительного ознакомления с заводом, цехом, механизмами и людьми.
Огорчение едва заметно отразилось на лице Ирины.
— Михаил Борисович Кантор, — сказала она вздохнув, — временно исполняющий сейчас обязанности начальника фасоннолитейного цеха, хотя и усердный, горячо интересующийся делом работник, однако еще очень молод, недостаточно опытен и… какой-то нерешительный робкий. Это, конечно, со временем пройдет…
— Должно быть, мямля, — прервал ее Акимов, пре зрительно сощурившись и поджав губы. — Не люблю таких.
— Да, конечно, характер странный, — покачала головой Ирина. — Он атлет, физкультурник и в этом деле смел, инициативен, а с машиной неуверен, боязлив… Фактически мне приходится, оставаясь начальником производства всего завода, быть в то же время и начальником этого цеха. Между тем он сейчас выпускает чрезвычайно ответственную продукцию: детали гидромониторных установок для шахт.
— Вот оно что… — протянул Акимов. — Ну хорошо, Ирина Васильевна! Я постараюсь, насколько возможно, сократить срок ознакомления с заводом. И немедленно же начну помогать товарищу Кантору. Это будет та же работа, хотя без формальной ответственности. Если вы не возражаете, я завтра же явлюсь на завод.
— Ну, вот и отлично! Директора сейчас нет на заводе. Я вас потом представлю ему. Я уверена, что у него не будет возражений против вашей кандидатуры. Особенно с рекомендацией Николая Антоновича, — улыбнулась Ирина, вставая из-за стола. — Мне нужно пройти по заводу. Если хотите, могу бегло показать вам его.
— Буду вам очень благодарен, — ответил Акимов.
Из подъезда конторы перед Ириной и Акимовым, одетыми в теплые электрифицированные костюмы, открылся просторный вид на внешний двор завода, покрытый пушистой белой пеленой снега.
Двухэтажное, почти целиком застекленное здание огромной подковой окружало двор. Широкие, очищенные от снега матово-стеклянные дороги шли между площадками, где летом красовались цветы и журчали фонтаны. Крыша здания была, очевидно, плоская: ее окаймляла за низким парапетом густая стена кустов, покрытых снегом.
— Там у вас аэроплощадка? — спросил Акимов, спускаясь с Ириной по лестнице на двор и показывая на аэромобиль, тихо спускающийся на крышу.
— Не только. Туда по наклонному въезду поднимаются электромобили и электроциклы. Там стоянка — ангар и гараж — для всех видов наземного и воздушного легкового транспорта. Кроме того, летом на крыше открывается ресторан, площадки для тенниса, подвижных игр, там много зелени…
Тяжелая, массивная, украшенная резьбой дверь гостеприимно раскрылась перед ними, как только они пересекли невидимый луч инфракрасного сторожа.
Через пустынный коридор Ирина с Акимовым, выключив ток в своей электрифицированной одежде, вошли в большое помещение, залитое солнечным светом. Покрытые белой глазурью стены, сверкающие приборы, белые пластмассовые столы с лабораторной посудой, цветы и декоративные растения в кадках, наконец стоявший посреди гигантский куб, облицованный белыми плитками, уставленный контрольно-измерительными приборами, — все вместе создавало смешанное впечатление химической лаборатории, операционной и новейшей фабрики-кухни, построенной по последним требованиям гигиены. Два человека в белоснежных комбинезонах из стеклянной ткани сидели за лабораторными столами.
Пять широких белых труб проходили отлого под потолком на равном расстоянии друг от друга и скрывались в верхней грани куба. Спереди, из нижней его части, выходили другие трубы, которые, изогнувшись вправо, тянулись к поперечному простенку.
Воздух, подаваемый сюда, в помещение новомартеновского цеха, общезаводской установкой кондиционирования, был чистый, свежий, приятно теплый. Слышалось тихое гудение где-то далеко спрятанного бушующего пламени.
— Пять печей? — спросил Акимов.
Ирина кивнула головой.
— Как контролируются состав и чистота шихты41?
— В начале верхних питательных труб, на материальном складе, установлены приборы, контролирующие химическую чистоту сырья, а здесь, внизу в трубах, перед их входом в печи, выстроены автоматические контрольные весы.
— Ага! Какие весы? Их точность? Вместимость печей?
— Вместимость — пять тонн каждая. Весы системы Громова, их точность — до одного миллиграмма.
— Как контролируется процесс плавки?
— Кроме пирометров42 Форбса, еще фотоэлементные43 аппараты нашего конструктора Бергмана. Они пока применяются только на нашем заводе и проходят испытания. Аппараты улавливают все нюансы44, расцветки пламени в печи. При появлении пламени того цвета, на который аппарат настроен, в нем срабатывает реле45, в нижней выпускной трубе автоматически открывается кран, и расплавленный металл направляется по ней в соседнюю литейную. Желательная точность достигается идеально.
— На чем работают печи?
— Преимущественно на газе, который доставляется в Москву по трубам из шахт подземной газификации Подмосковного угольного бассейна. Но, вероятно, в ближайшее время нас переведут полностью на электроэнергию.
— Так… так… Дальше — литейная?
— Да. Я думаю, мы можем перейти туда.
Когда-то в таких литейных, темных, дымных, отравленных отходящими газами, засыпанных горами сырой формовочной земли, копошились испачканные, прокопченные люди, унося в легких, в порах тела грязь и пыль. Теперь посетителей встретили сверкающая белизна стен, обилие света, свежесть и чистота воздуха, зелень и цветы.
Сменный цеховой наблюдатель, человек в очках, в белом комбинезоне и перчатках, встретил гостей и сопровождал их во время осмотра.
В литейной от питательных труб с расплавленным металлом, проведенных сюда из соседнего новомартеновского цеха, горизонтально отходили блестящие цилиндрические машины самой разнообразной величины — от огромных, диаметром в рост человека, до маленьких, не больше флейты. Из этих машин и механиков доносились приглушенные звуки: низкое басовое гуденье — из больших, высокий теноровый звук — из средних и истеричный визг — из самых маленьких цилиндров. Это расплавленный металл центробежной силой превращался в цилиндры и трубы для будущих насосов, гидромониторов и других гидротехнических механизмов. Возле выходного отверстия каждой центробежной машины с легким шелестом проходил свой транспортер. Равномерно, через короткие промежутки времени, выходное отверстие каждой машины раскрывалось, и вытолкнутая наружу внутренним механизмом готовая, чистая и охлажденная отливка ложилась на ленту транспортера и уносилась сквозь отверстие в стене. Другой механизм автоматически открывал внутренний кран, впускал в машину новую порцию расплавленного металла из питательной трубы, и приглушенные звуки бешеного вращения центробежной машины вновь начинали нарастать.
— Как производится контроль качества? — спросил Акимов.
— Дефектоскопом46 Кононова, помещенным внутри у выхода из машины, — ответила Ирина. — Просвечивание рентгеном…
В следующем, фасоннолитейном цехе, работало, глухо жужжа и визжа, множество других вертикальных и горизонтальных центробежных машин. Здесь производилась отливка более сложных деталей — поршней, кулачков, коромысел, кранов, рычагов, лопаток. Они непрерывно выходили из машин, укладывались особыми приборами на транспортеры и бесконечным потоком вносились на склады.
Ирина познакомила Акимова с двумя находившимися здесь цеховыми наблюдателями. Одним из них был Кантор, сменный начальник цеха, молодой, атлетически сложенный человек с бритой головой и живыми черными глазами.
— Это новый начальник цеха, товарищ Акимов, Константин Михайлович. Прошу любить и жаловать.
— Очень рад, — говорил Кантор, пожимая Акимову руку с такой силой, что тот невольно поморщился. — Гора с плеч… Будет у кого поучиться. А то приходится все к Ирине Васильевне бегать, надоедать…
В большой и, по-видимому, очень сложной цилиндрической машине постепенно замирало гудение. Через минуту оно совсем заглохло, выходное отверстие машины раскрылось, и одновременно изнутри ее послышался громкий звонок.
Показался медленно вылезавший наружу цилиндр со сложными выемками, отверстиями, выступами и с широкой красной полосой вдоль его блестящей, словно отполированной поверхности. Едва цилиндр показался у отверстия, с края машины сдвинулось широкое черное кольцо и, поддерживаемое снизу горизонтальным металлическим стержнем, пошло вперед, обхватив выходивший из машины цилиндр. Когда он почти весь вышел из машины, с нее сошло второе кольцо и, опираясь на продолжавшийся выдвигаться стержень, обняло цилиндр с заднего конца. Цилиндр прошел над ползущей внизу широкой лентой транспортера и повис над платформой электрокара47. Кольца выносящего прибора раскрылись, осторожно спустили цилиндр на электрокар, вновь сомкнулись и вернулись вместе со стержнем на свои сторожевые посты у выходного отверстия машины. Звонок умолк. Машина тем временем наполнилась уже новым расплавленным металлом и завела свою монотонную песню.
— Михаил Борисович! Опять брак! — с укором произнесла Ирина, обращаясь к Кантору.
— Сейчас узнаю, в чем дело, Ирина Васильевна. Не понимаю, ведь я только что отрегулировал, — смущенно говорил Кантор, вглядываясь в окошечко прибора, стоявшего на машине.
За стеклом двигалась лента с фоторентгеновскими снимками отдельных участков и деталей выпускаемой продукции.
Через минуту, не отрывая глаз от окошечка, Кантор сообщил:
— Раковина на девятом участке цилиндра…
— Газы? — спросила Ирина.
— Нет, воздух. Вина наша, вернее — моя, а не мартеновцев. Каким-то образом в машине нарушен вакуум48. Туда опять проникло несколько кубических сантиметров воздуха, — говорил Кантор, быстро манипулируя каким-то сложным прибором на машине.
— Останавливаете машину? — озабоченно спросила Ирина.
— Нет. Я думаю, можно еще успеть на ходу восстановить вакуум, выгнать этот лишний здесь воздух. Жидкий металл пока не настолько уплотнился, чтобы задержать его в себе. До этого момента осталось еще полторы минуты. Успеем, Ирина Васильевна, не беспокойтесь. Опять, видно, недоглядел… Виноват…
— Какая это краска? — заинтересовался вдруг Акимов, внимательно рассматривая красную полосу на бракованной детали и проводя пальцем по ней.
— Обыкновенная, по формуле Каруса, — равнодушно ответила Ирина и, огорченная этими неполадками и очевидной небрежностью Кантора, обернулась к нему: — Будьте же внимательны, Михаил Борисович. Не отходите от машины, пока не наладите ее.
Огромный, двухсветный, шириной во все здание, зал механического цеха раскрылся перед Ириной и Акимовым, когда за ними захлопнулась дверь фасоннолитейного цеха. Бесчисленные станки двадцатью шеренгами расположились во всю длину зала между узкими зелеными полосками декоративных растений. Визг, шелест, скрежет, шипение работающих механизмов должны были, казалось, создать страшный шум, но необъятные размеры цеха, а также остроумные глушители у каждого станка поглощали этот грохот. Сотни станков резали, долбили, строгали, сверлили, шлифовали. Разогретая стружка мгновенно уходила в ящики-собиратели под полом, металлическая пыль всасывалась мощными вентиляторами, и непрерывно обновляемый воздух в помещении оставался чистым и свежим.
Человек десять цеховых наблюдателей ходили между рядами станков, изредка останавливаясь, чтобы ликвидировать задержку или аварию, о которой станок извещал тревожным звонком и светом красной лампочки.
Ирина и Акимов шли вдоль ряда гигантских станков, величиной иногда с небольшой дом, предназначенных для обработки крупных деталей. Мощный транспортер из подвижных стальных пластин вынес из склада заготовок огромный поршень насоса, диаметром около двух метров, и подал его к рабочей части высокого станка.
Провожая поршень от станка к станку, наблюдая за процессом его последовательной обработки, Ирина с Акимовым видели его постепенное изменение. Вот он вышел наконец из последнего станка и скользнул в готовом виде на транспортер, уносивший его в склад. Трудно было теперь узнать в этом мягко отшлифованном гигантском поршне сложного вида и устройства тот кусок металла, который всего лишь час назад начал свое движение в ряду этих удивительных станков.
Но для Ирины и Акимова во всем этом ничего поразительного не было, все это уже давно стало для них обычным явлением.
Лишь в следующем, сборочном, цехе — сердце завода — даже Акимов в первое мгновение несколько растерялся.
Этот цех был еще более огромным. Его противоположный конец терялся где-то вдали, в сплошной чаще движущихся во всех направлениях конвейерных лент. Вертикальные, горизонтальные, наклонные, изогнутые, то мощные, то тяжелые, то легкие, тонкие, с маленькими гнездышками и миниатюрными приборами, они двигались с легким шорохом, в непрерывном, бесконечном движении, сплетаясь в какой-то чудовищный клубок. Они спускались сквозь люки в потолке и поднимались обратно, выходили из отверстий в стенах, похожих на гигантские решета, скрывались в полу и выползали оттуда. Надо было пристально вглядеться, внимательно присмотреться, чтобы увидеть в их то быстром, то замедленном движении четкую согласованность.
Вся площадка цеха была сплошь занята рядами станков, все воздушное пространство — густой подвижной сетью транспортеров. Лишь узкие дорожки оставались свободными для людей.
Акимов шел за Ириной мимо высоких мощных станков, похожих на многорукие и многоглазые чудовища, и наблюдал, как к основной трубе, в которой с трудом можно было угадать будущий гидромонитор, при переходе от одного станка к другому что-то прибавлялось и с каждым переходом труба принимала все более знакомые формы.
Двенадцатый станок выпустил уже вполне готовый к работе огромный гидромонитор и передал его на транспортер, который должен был отнести его на склад.
Проводив его взглядом, Ирина обернулась к Акимову:
— Пойдем дальше, Константин Михайлович? На склады, на отгрузку?
— Спасибо, Ирина Васильевна. Самое необходимое я видел. Для первого раза достаточно. Я хотел бы, если вы ничего не имеете против, вернуться в свой цех, к Кантору, и ближе познакомиться с людьми и процессом.
— Ну что же! Пожалуйста! Я пройду к конструкторам, потом вернусь к себе. Приходите часа через полтора, я вас познакомлю с директором.
В фасоннолитейном цехе Акимов застал одного лишь Кантора. Своего товарища он послал в библиотеку — отыскать какую-то справку.
С полчаса Акимов беседовал с Кантором о работе цеха, об особенностях каждой центробежно-отливочной машины, о качестве металла, доставляемого новомартеновскнм цехом.
— Жаловаться нельзя, Константин Михайлович, — говорил Кантор. — Металл они дают равномерный по химическому составу, по механическим свойствам, температуре…
— Однако, — возразил Акимов, указывая на электрокар с бракованными цилиндрами насосов, — я вижу, брак возрастает: при нас машина выбраковала одну деталь, а сейчас их уже две. Неужели только из-за неполадок в этой машине?
— К сожалению, да, Константин Михайлович, — грустно ответил Кантор. — Я не смог на ходу отрегулировать машину после первой выбраковки. И мой товарищ не знал, как это сделать. Вот и пришлось отправить его в библиотеку.
Помолчав и не глядя на Акимова, Кантор тихо добавил:
— Между прочим, это уже вторая партия брака. Первые две штуки я раньше отправил на склад сырья для переплавки… Может быть, вы, Константин Михайлович, сможете на ходу отрегулировать машину? А? Иначе мне придется остановить ее, и это будет очень неприятно. План цеха такой большой…
На столе певуче прозвучал гудок телевизефона. Кантор включил аппарат. На экране показалось недовольное лицо директора. Директор сухо пригласил Кантора к себе.
— Очевидно, по поводу брака, — обратился совсем расстроенный Кантор к Акимову, выключая аппарат. — Разрешите отлучиться из цеха минут на пятнадцать. А вы пока посмотрели бы, что можно сделать с машиной…
— Хорошо, хорошо, Михаил Борисович, не беспокойтесь, — утешал Акимов Кантора. — Не падайте духом. Сделаю, что смогу.
Оставшись один, Акимов постоял у злополучной машины, потом подошел к лабораторному столу, взял склянку с зеленоватой жидкостью, взболтал ее, понюхал и, оставшись, по-видимому, довольным, положил склянку в карман, захватив и кусок ваты. Из пачки чистых, слегка дымчатых пластинок для фоторентгена он взял одну, вернулся к машине и сунул пластинка в щель дефектоскопа.
Минут пять Акимов неподвижно стоял, пристально всматриваясь в приборы на машине, протянув одну руку к кнопке на сигнализационном щитке и другую к рычажку красящего аппарата. И все же он не уловил момента. Звонок успел коротко зазвучать, крышка выходного отверстия машины открылась. В то же мгновение рука нажала на кнопку, другая передвинула рычажок. Звонок оборвался. Из отверстия показался новый цилиндр с коротенькой, словно отрезанной красной полосой — сигналом брака. Акимов повернул никелированный штурвал у выходного отверстия и быстро вынул из кармана склянку и вату. Он смочил зеленоватою жидкостью вату и, пока цилиндр ложился на проходивший мимо транспортер, несколько раз провел влажной ватой по красной полосе брака на цилиндре. Полоса исчезла, густо окрасив вату, которую Акимов опустил в карман.
Транспортер унес заготовку цилиндра в соседний, механический, цех для обработки.
Акимов вынул платок, отер пот со лба и облегченно вздохнул.
Через пять минут он вновь повторил ту же операцию со звонком и рычажком. Из отверстия машины, уже без тревожного сигнала и без красной полосы, вылезла новая, чистая и блестящая заготовка, легла на транспортер и также унеслась в механический цех. Пустив таким образом в производство третий и четвертый поршни, Акимов вернулся к машине, вынул вложенную им раньше в дефектоскоп пластинку фоторентгена, повернул никелированный штурвал обратно и точными, уверенными движениями начал быстро регулировать машину.
Вскоре, уже без вмешательства Акимова и без звонка, показался новый цилиндр. Он был чист, без красной отметки.
Машина была в порядке.
Вернулся огорченный Кантор. Ему пришлось выслушать выговор директора по поводу брака. Он получил приказ остановить машину до полной отрегулировки ее.
Кантор был очень доволен, когда увидел, что машина уже работает безукоризненно.
Он жал руку Акимова с такой горячей благодарностью, что тот, не выдержав, грузно затоптался на месте.
— Будет, будет, Михаил Борисович! — бормотал он. — Пустяки какие!
— Нет, нет, не говорите, Константин Михайлович, — говорил Кантор, пока Акимов дул на слипшиеся пальцы. — Так быстро и так точно отрегулировать! Вот что значит опытный производственник!
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
НА КОРАБЛЕ
Сквозь светлую мглу, уже вторые сутки державшуюся над морем и льдами, солнце казалось огромным матовым шаром. "Мария Прончищева", экспедиционное судно-лаборатория, смутной, едва различимой тенью виднелась вдали, у кромки ледяного поля.
Было тепло. Полярная весна — конец июня — была в разгаре.
Карманов, третий помощник капитана, остановил электропилу и вытащил ее из разреза во льду, чтобы не вмерзла. Потом, сдвинув шапку назад, он выключил ток в своем электрифицированном комбинезоне и оглянулся.
Стояло полное безветрие. С корабля не доносилось ни звука. С ледяных глыб ближайших торосистых гряд, тихо звеня, стекали тоненькие струйки воды.
Карманов с минуту отдохнул и собирался опять взяться за работу — вырезать кубики льда с разных глубин для лабораторных исследований на плотность, на сжатие, на упругость, на разлом.
Внезапно над голубоватой тенью дальней гряды торосов он заметил три черные точки, маленьким треугольником двигавшиеся из стороны в сторону.
Карманов на мгновение замер на месте, рука потянулась к соседнему ропаку49, схватила стоявшее возле него световое ружье.
На снегу, покрывшем торосы, самого медведя не было видно. Но три предательские точки — черный нос и два черных глаза — выдавали его опытному полярнику.
Медведь был далеко, стрелять в него было бесполезно. Кроме того, по закону об охране промыслового зверя, в этих шпротах стрелять можно было только при острой нужде в пище и для самозащиты. Но медведь, видимо, не собирался нападать. Черные точки продолжали маячить вдали. Очевидно, зверь принюхивался и всматривался.
С минуту зверь и человек стояли неподвижно, следя друг за другом.
Вдруг человек сорвался с места, побежал, пригнувшись, в противоположную от медведя сторону и скрылся за ближайшим торосом. Через минуту Карманов осторожно выглянул из своего убежища. Черных точек не было на месте.
Присыпав снегом шапку, Карманов взобрался на вершину тороса и бросил взгляд вокруг. Он чуть не вскрикнул от неожиданности: метрах в ста от него, в провале между торосами, мелькнула белая с рыжеватым отливом тень.
"Уходит или преследует?"
Не успела проскочить в мозгу эта тревожная мысль, как на вершине соседнего тороса во весь рост показалась фигура зверя. Медведь был огромный — вероятно, около трех метров в длину. Секунду он стоял, как изваяние на ледяном пьедестале, потом повел длинной головой с черным глянцевитым носом в сторону Карманова.
Карманов бросился бежать дальше. В тот же миг медведь соскользнул вниз и устремился за ним. Такой, казалось, неуклюжий и неповоротливый, он бежал, однако, непостижимо быстро.
Судорожно сжав ружье, Карманов молча и неторопливо бежал, спотыкаясь на неровном, изломанном льду, проваливаясь в рыхлый снег и лишь изредка оглядываясь. За огромным торосом, на небольшой ровной площадке, он остановился, передохнул и, повернувшись назад, щелкнул предохранителем ружья. Затем, твердо ступая, сделал два шага в сторону и вышел из-за тороса.
При его неожиданном появлении медведь на всем скаку остановился и растерянно присел на задние лапы.
В то же мгновение Карманов вскинул ружье к плечу и нажал на шейке приклада кнопку. Блеснул свет и, отразившись на исковерканных льдах, мягко плеснул Карманову в глаза, и тотчас же просвистела пуля. Сквозь всплывшие перед ним оранжевые пятна Карманов увидел, как медведь подскочил и сейчас же, коротко взревев, словно подкошенный, упал на бок, вытянувшись во всю длину. Огромные лапы с черными когтями несколько раз судорожно взрыли и взметнули снег, потом, скрючившись, замерли.
Карманов, тяжело дыша, опустил ружье к ноге и улыбнулся. Все произошло, как полагается, по закону: преследовал и нападал медведь, а человек только защищался. Это был старый, испытанный способ: лишь притворившись бегущим, можно заставить зверя преследовать вас.
Карманов осторожно направился к трупу медведя с ружьем наизготовку. Уже только несколько метров разделяло их, как вдруг медведь одним прыжком вскочил на ноги, с оглушительным ревом бросился на Карманова и лапой ударил по его плечу. Жаркое клокочущее дыхание огромной пасти словно опалило Карманову лицо. Карманов вскрикнул и с повисшей, как плеть, рукой упал навзничь. Медведь всей тушей навалился на него…
* * *
— Странно, странно…
Лавров задумчиво ходил по небольшой светлой лаборатории судна, заложив руки за спину. Тяжелая дверь раскрытого несгораемого шкафа мешала ему, и он машинально закрыл ее. Потом остановился у стола, где возвышалась пышная груда перевившихся лент георадиограмм50, листков вычислений, формул, геологических разрезов. Взяв верхнюю из лент, он расправил ее и опять начал внимательно изучать тонкую, лениво извивавшуюся на ней линию георадиограммы, которая почти у конца внезапным ломаным скачком поднималась кверху.
— Вы не находите странным, товарищ Вишняков, такое неизменное падение напряжения, начиная с района восьмой шахты? Потом этот крутой, ничем не объяснимый ее взлет так близко от шахты номер пять…
Он покачал головой, сел на стул и медленно расправил ленту на столе. Не глядя, взял первые попавшиеся мензурки51 с каким-то голубоватым раствором и поставил их на концы свертывающейся ленты.
— Что же тут такого исключительного, Сергей Петрович? — ответил Вишняков, низенький полный человек с гладко выбритым лицом нездорового, темновоскового цвета, с маленькими беспокойными глазами, глубоко запрятавшимися под высоким лбом. — Распределение радиоактивных веществ на большой глубине становится довольно неравномерным. Очевидно, гнездо богатых урановых пород под пятой шахтой будет очень ограниченным в своих горизонтальных пределах. Георадиограф52 и показывает на ленте постепенное падение содержания радионосных пород и лишь на далеком расстоянии от восьмой шахты новое гнездо…
Шумно дыша, он стоял возле Лаврова и, вглядываясь в линию на ленте, водил по ней толстым, несгибающимся пальцем.
— Все это верно, — сказал Лавров, — но промежуток между седьмой и восьмой шахтами будет слишком велик. Плохо, плохо… На каких горизонтах работал прибор?
— Начиная от трех километров и до пяти, — ответил Вишняков.
— Напрасно, — мягко заметил Лавров. — Имея такой плохой профиль, следовало просвечивать недра до более глубоких горизонтов. Ведь вам как старшему радиогеологу на участке должно быть понятно, что если нам не встретятся радиоактивные породы, придется заложить на этом участке простую тепловую шахту. Для этого надо было искать здесь какой-нибудь батолит53 с магмовым54 очагом на глубине до двенадцати — пятнадцати километров…
— Простите, Сергей Петрович, — почтительно возразил Вишняков, — ваше задание сводилось к просвечиванию только до пяти километров…
— Декабрьским циркуляром, — резко прервал его Лавров, — по второму, третьему и пятому участкам я указал, что ввиду неблагоприятных результатов прошлогодних изысканий для шахт седьмой, двенадцатой, шестнадцатой и семнадцатой в этом году необходимо производить изыскания на глубинах от восьми до двенадцати километров. На пятом участке это распоряжение оправдало себя уже сейчас, в самом начале навигации.
Краска залила лицо Лаврова. Видно было, что он едва сдерживает гнев.
— Но я не получал вашего циркуляра, — удивленно сказал Вишняков. — Я ничего не знал об этом распоряжении…
— На преднавигационном совещании участников экспедиций этого года я повторил его содержание.
— Я не участвовал а этом совещании, Сергей Петрович. Если вы помните, я тогда уезжал из Москвы.
— Присутствовал ваш заместитель!
— Накануне отправления "Марии Прончищевой" в рейс его списали с судна по случаю внезапной болезни… Он ничего не успел мне передать…
Громыхающий топот ног, беготня по палубе, тревожные крики, громкая команда внезапно прервали Вишнякова.
— Медведь, медведь!
— Карманов на льду!
— Подвахтенным с оружием — за борт! Вызвать врача! Спустить собак!
Шум и беготня на палубе усилились.
Вишняков испуганно обернулся к двери.
— Там какое-то несчастье, Сергей Петрович, — проговорил он.
— Скорее наверх! — крикнул Лавров.
Оба бросились к выходу.
Стол закачался от толчка, одна из стоявших на ленте мензурок упала. Струя голубоватой жидкости залила почти целиком ленту, вызвавшую только что столь напряженный разговор…
* * *
Карманова нашли под уже мертвым медведем. Удар ослабевшей лапы зверя переломил ему левую ключицу, да тяжелая, почти с полтонны весом, туша сильно помяла его.
Предсмертный прыжок медведя был лишь последней вспышкой жизни в его могучем организме. Ни одно животное не отличается такой изумительной живучестью, не так "крепко на рану", по выражению полярных зверобоев, как белый медведь.
Среди команды и научных работников, сопровождавших носилки с Кармановым на борт судна, встреча с медведем и его "посмертный бой", как кто-то выразился, вызвали необыкновенное оживление. Говорили о выносливости этого животного, вспомнили памятную охоту Нансена, когда белый медведь, получив пулю в сердце, пробежал тридцать шагов и лишь после этого упал.
Главный механик рассказал, как однажды на острове Врангеля медведя загнали на край скалы, которая отвесной стеной поднималась метров на шестьсот над прибрежным льдом. Видя, что выхода нет, медведь, не раздумывая долго, бросился с этой головокружительной высоты вниз, и через минуту растерявшиеся охотники увидели вдалеке быстро уходившего во льды зверя.
Когда носилки были подняты на палубу, Лавров расспросил врача о состоянии раненого и, убедившись, что опасности нет, пошел обратно в лабораторию. Мысль о вынужденной задержке на важном участке работы угнетала его. Придется, очевидно, пройти участок в третий раз с глубоким просвечиванием недр, потерять, может быть, целое лето.
В лаборатории никого не было. Лавров подошел к столу и был неприятно поражен: на столе было голубое наводнение. Драгоценные документы — георадиограммы, листки с вычислениями, геологические разрезы — размокли; линии, цифры, слова на них расплылись. Досадуя на свою неловкость, Лавров принялся торопливо просушивать под электрополотенцем55 ленту георадиограммы, которую он рассматривал с Вишняковым. Под сильной струей сухого, почти горячего воздуха Лавров водил вправо и влево размокшую ленту. Она ежилась, коробилась, начинала похрустывать. Линии на ней теряли понемногу расплывчатость, принимали более четкий и ясный вид.
Вдруг Лавров вскрикнул и замер с лентой в руках у отверстия сушильного аппарата.
Расширенные глаза Лаврова были неподвижно устремлены на отрезок линии там, где она, между восемьдесят четвертым и восемьдесят пятым меридианом восточной долготы, круто взлетала вверх.
Смутно, едва различимо под этим ломаным взлетом на ленте проступила другая линия — спокойная, чуть изогнутая, как вполне естественное продолжение всей линии на ленте.
Словно не доверяя себе, Лавров отвел глаза, недоумевающе оглянулся и опять посмотрел на ленту. Нет, вторая линия, хоть и слабо, виднелась под ломаным отрезком первой — четкой и ясной, но теперь Лавров заметил что-то новое и в этом ломаном отрезке, какой-то рыжеватый оттенок. Между тем нижняя, едва проступавшая линия по цвету ничем не отличалась от основной.
"Подделка?.. Фальсификация?.. Зачем это нужно было?.." — думал Лавров, продолжая медленно водить ленту под струей горячего воздуха.
Теперь он пристально следил за слабо извивающейся линией на георадиограмме. Опять та же картина, но уже на другом конце ленты и в обратном, перевернутом виде!
Над основной линией, значительно дальше к востоку и ближе к месту, намеченному для восьмой шахты, едва различимой тенью проступала на ленте круто поднимающаяся линия, указывающая на богатую залежь радиоактивных пород. С тем же рыжеватым оттенком шла под ней ровная, ясная линия, связывающая основание этого едва различимого выступа с основной линией.
Сомнений не было!
Лавров просушил ленту до конца, но больше ничего подозрительного не заметил.
Закрыв глаза, бледный, он опустился на стул возле залитого стола, но через минуту, когда послышался скрип открывающейся двери, уже был внешне спокоен.
Обернувшись и глядя в упор на входившего Вишнякова, Лавров спросил:
— Скажите, товарищ Вишняков, зачем вам понадобилось искажать показания георадиографа?
Вишняков резко остановился, пошатнулся, словно от внезапного удара. Багровая краска залила его полное лицо, маленькие глаза испуганно заметались.
— Это… это не я… — пробормотал он сразу охрипшим голосом.
— Кто же, если не вы? — не сводя с него глаз, продолжал Лавров. — Ведь георадиограммы находились у вас под замком. Вы при мне достали их вот из этого несгораемого шкафа. Кто же, кроме вас или без вашего ведома, мог произвести эту бесчестную работу?
— Не… не знаю… уверяю вас… — бормотал едва внятно Вишняков.
Лицо его начало синеть. Задыхаясь и пошатываясь, он добрел до свободного стула и упал на него, продолжая бормотать:
— У… уверяю вас… Сергей Петрович… не я… ключи могли подделать…
Внезапно глаза его закрылись, голова упала на грудь, он откинулся на спинку стула, потом начал медленно сползать на пол…
Лавров вскочил, подбежал к аппарату телевизефона и вызвал корабельного врача.
Когда через несколько минут, по спешному вызову Лаврова, в лабораторию вбежал капитан, Вишнякова там уже не было. В бессознательном состоянии его унесли в госпиталь.
— Василий Дмитриевич, — отрываясь от своих мыслей, с едва сдерживаемым волнением сказал Лавров, — приказываю вам арестовать старшего радиогеолога на вашем судне, Вишнякова. Сейчас он в госпитале, без сознания. По получении разрешения врача вы отправите его на самолете в Москву и поручите передать властям для производства следствия. Я обвиняю его в злоумышленном искажении показаний георадиографа, что могло повлечь за собой огромный вред строительству шахт. Мотивированный приказ об этом вы получите через полчаса…
Капитан стоял молча, точно не веря своим ушам. Наконец он растерянно сказал:
— Сергей Петрович! Что вы говорите? Зачем это ему нужно было?
— Вот в этом-то следственные власти и должны будут разобраться… Я сам ничего не могу понять. Смотрите, — подводя капитана к столу и показывая на георадиограмму, говорил Лавров. — Здесь, между восемьдесят седьмым и девяносто первым градусами восточной долготы, прибор показал огромную, быстро возрастающую интенсивность радиоизлучений с глубины четырех километров. Однако именно эта подскакивающая кверху линия показаний прибора была чем-то стерта или смыта. Вместо нее какими-то другими чернилами проведена линия, ложно показывающая отсутствие на этом отрезке каких-либо крупных залежей радиоактивных веществ. А вот здесь показано, наоборот, наличие богатых залежей, хотя ничего подобного тут нет.
Лавров устало опустился на стул.
— Какой ужас! — тихо проговорил капитан, наклонившись над столом и внимательно рассматривая ленту. — Выходит, если бы в последнем месте вы заложили шахту, вся работа была бы проделана впустую?
Лавров кивнул головой.
— Он хотел нас направить по ложному пути…
— Но зачем это ему нужно было? — опять спросил капитан.
— Зачем это ему нужно было? — с недоумением повторил Лавров вопрос капитана.
* * *
Первая инспекционная поездка этого года, второго года Великих арктических работ, принесла Лаврову много волнений, огорчений, а под конец и тяжелые удары.
Началось с того, что на "Пахтусове", экспедиционном судне-лаборатории, в открытом океане, среди льдов, неожиданно произошла ничем не объяснимая утечка электрического тока из всех мощных батарей. Электроход оказался в совершенно беспомощном состоянии, лед начал затирать его. Были два сжатия, из которых одно настолько сильное, что, несмотря на относительно крепкую, специально предусмотренную для полярных плаваний конструкцию и мощный пояс из толстой стальной брони, судно едва не погибло. Несколько дней люди мерзли в необогреваемых помещениях судна, питались всухомятку окаменевшими от стужи продуктами, пока не подоспел на помощь ледокол "Харитон Лаптев".
Главного электрика с "Пахтусова" Лавров снял с работы, вызвал из Владивостока следственную и экспертную комиссии для выяснения всех обстоятельств аварии и установления виновных. Из Владивостока же Лавров вызвал резервное судно-лабораторию "Андромеду" для замены выбывшего из строя "Пахтусова".
Преступление Вишнякова на "Марии Прончищевой" потрясло Лаврова. Расстроенный, почти больной, он провел на судне не один день, как предполагал, а целых три дня, разбираясь вместе со Спицыным, заместителем Вишнякова, в запутанной документации, оставленной Вишняковым.
Следующее за тем посещение шахты номер шесть несколько подняло настроение Лаврова: проходка шахты шла по плану, и он остался доволен и работами и организацией поселка. Вызвав из Москвы на мыс Желания Березина и разрешив ему взять с собой для ознакомления со строительством корреспондента Эрика Гоберти, он встретился с ними в назначенном месте, и все трое в подводной лодке Лаврова направились к первенцу великого строительства — шахте номер три у острова Рудольфа.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
НА ДНЕ ОКЕАНА
Капитан подводной лодки посмотрел наверх, на куполообразный матовый экран, и отдал команду:
— Внимание! Приготовиться ко входу в порт!
— Есть приготовиться ко входу в порт!
На нижней полосе экрана, впереди по носу, в обычной на этих глубинах тьме проступало круглое желтое пятно. Пятно быстро росло, светлело и наконец заполнило всю переднюю часть экрана. Через минуту в этом световом пятне уже можно было видеть сначала смутные, потом все более ясные очертания огромного сводчатого тоннеля, освещенного изнутри множеством ярких ламп. По обеим сторонам входного отверстия стояли широко раздвинутые половинки ворот. Внутри, на ровном дне, почти во всю стометровую длину тоннеля виднелись два странных сооружения, похожие на скелеты гигантских китов с поднятыми кверху короткими, широко расходящимися ребрами. На одном из этих сооружений, слегка охваченное с боков его ребрами, лежало длинное кашалотообразное тело, сильно расширяющееся впереди и сужающееся к заднему концу.
Было ясно, что на этом своеобразном ложе покоится одна из тех советских подводных лодок, для которых прототипом послужил знаменитый "Пионер", совершивший в свое время первый в истории глубоководный поход через два океана, из Ленинграда во Владивосток56.
— Две сотые хода вперед! — отдал новую команду капитан.
— Есть две сотые хода вперед! — отвечал вахтенный лейтенант, работая на клавиатуре щита управления.
— Одна сотая право на борт! Так держать! Одна десятая хода вперед! Погружение три метра! Так держать! — следовали одна за другой команды капитана, и лейтенант едва успевал повторять и выполнять их.
Труднейшая операция входа в подводный порт-тоннель длилась, впрочем, недолго. Через десять минут подводная лодка легла рядом с первой, уже находившейся в порту. Внешние портовые ворота к этому времени автоматически закрылись, и заполнявшая тоннель вода стала быстро убывать. Скоро матово поблескивающее дно подводного порта совершенно обнажилось, но все его обширное пространство, залитое светом, оставалось пустынным. Тишину нарушали лишь громкие вздохи где-то скрытых воздушных насосов, восстанавливающих нормальное давление воздуха в тоннеле.
Наконец почти одновременно на правых бортах лодок откинулись широкие площадки и легли горизонтально над влажным дном. Из далекого конца тоннеля донесся мягкий грохот раздвигающейся стены. В широко раскрывшийся проход ворвались яркий свет и глухой шум человеческого поселения, отрывистые голоса людей, жужжание и гудение работающих машин, приглушенный лязг и скрежет металла.
Под сводами тоннеля послышался шорох катящихся на резиновых шинах электрических платформ. Электрокары остановились у откинутой площадки большой, ранее прибывшей подводной лодки. Изнутри ее показались люди, протянулась лента транспортера, выносившая на площадку тяжелые бочки, невидимые краны стали подавать тюки и ящики. Возгласы людей, грохот передвигающихся грузов, гудение крановых моторов, мелодичные звонки электрокаров гулко раздавались под сводами этого необычайного порта. Возобновилась прерванная на время работа по нагрузке и выгрузке подводной лодки.
В раскрывшихся внутренних воротах порт-тоннеля показались два человека. Впереди торопливо шел пожилой полный человек с кругло подстриженной седой бородой, шапкой черных с проседью курчавых волос и живыми черными глазами под мохнатыми бровями. Он был одет в свободною коричневую куртку с отложным воротником и темным галстуком; куртку стягивал широкий пояс. За ним следовал смуглый молодой человек, почти юноша, с худощавым бритым лицом и большими горящими глазами.
На откинутой площадке подводной лодки появилась группа пассажиров в сопровождении капитана.
— Ну, еще раз спасибо, товарищ капитан, за приятное плавание, — обернулся к капитану Лавров. — Идем, идем, товарищи! Вот и Гуревич спешит сюда, сейчас будет потасовка. Готовьтесь, товарищ Березин, — с веселой усмешкой сказал он, повернувшись к своему спутнику.
— Ну что же, — вздохнул Березин, смущенно улыбаясь и проводя ладонью по круглой бритой голове. — Я уже привык быть козлом отпущения.
— Такова, кажется, участь всех работников снабжения, — рассмеялся кто-то позади.
Разговаривая, все сошли с площадки и стали на влажное стеклянное дно тоннеля.
— Здравствуйте, Сергей Петрович! Здравствуйте, Николай Антонович! — приветствовал приезжих Гуревич. — Давненько не видали вас в нашей подводной берлоге.
— Немало, вероятно, здесь перемен, — говорил Лавров, пожимая Гуревичу руку и направляясь к выходу из порт-тоннеля.
Все последовали за ним. Вокруг сновали электрокары, в вышине проносились краны с тяжелыми грузами в цепких лапах.
— Немудрено, Сергей Петрович, ведь вы у нас не были, пожалуй, месяцев пять. Позвольте вам представить Андрея Глебовича Красницкого, начальника насосной станции.
— Рад познакомиться с вами, Андреи Глебович, — сказал Лавров. — Мне много говорил о вас Самуил Лазаревич — и только одно хорошее. Вы здесь, кажется, всего месяца два? Ну как? Втянулись уже в работу?
— С головой, Сергей Петрович, — ответил, слегка смущаясь, Красницкий. — Работа уж очень интересная. Я ведь с самого начала, как только быт опубликован проект, стал его горячим сторонником. Я даже темой дипломного проекта взял разработку детали гидромониторной установки.
— Ах, вот как! — сказал Лавров, уступая дорогу стремительно несущемуся электрокару. — Так это ваш проект прислал мне Московский гидротехнический институт? Теперь я и фамилию вашу отлично припоминаю. Очень рад познакомиться с вами. — Лавров, улыбаясь, оглядел юношу, потом вдруг прищурился и медленяо произнес: — Позвольте… и лицо ваше кажется мне знакомым, где-то я вас видел. Вы не помните? Не встречались мы?
Красницкий смущенно посмотрел на Лаврова:
— Не помню, Сергей Петрович, не думаю.
— А! Вспомнил! — воскликнул Лавров, кладя руку на плечо Красницкому. — Ведь это вы выступали на дискуссии во Дворце Советов и предложили просить правительство о созыве комиссии?
— Ах, это… — смешался Красницкий. — Да, это был я. Но ведь вас не было тогда на докладе профессора Грацианова.
— Какие пустяки! — засмеялся Лавров. — А экран телевизефона? Я следил из своей комнаты за дискуссией от начала до конца. Очень рад видеть вас здесь. — И, повернувшись к Гуревичу, он забросал его деловыми вопросами: — Ну, как у вас с выработкой? Как ведут себя механизмы? Сколько проходите в день? Последняя сводка дает почему-то снижение.
Позади, оживленно беседуя друг с другом и осматривая все окружающее, следовали спутники Лаврова. Еще дальше, отстав от всех, шли Березин и Гоберти.
— Господин Гоберти! — внезапно крикнул Лавров. — Что же вы отстали? Идите скорее сюда! Смотрите!
— Бегу, бегу, Сергей Петрович! — ответил Гоберти, торопливо приближаясь к Лаврову и Гуревичу.
Стоявший впереди электрокар с горою пухлых тюков отошел в сторону, и перед гостями, подошедшими к выходу из тоннеля, открылся необычайный вид.
Под высоким полукруглым сводом в свете огромных шаровых фонарей показался поселок. По его левой стороне виднелись ряды небольших, кубической формы коттеджей, полускрытых в кудрявой зелени кустов и деревьев. Справа тянулись здания молчаливых, словно заснувших складов, четырехугольных двухэтажных мастерских, из которых доносился приглушенный шум обрабатываемого металла. Поближе к центру высилось здание электростанции, дальше были насосная и компрессорная станции. В центре поселка, упираясь в вершину свода, находилась гигантская башня из прозрачного материала, с ажурным сплетением балок, тросов и лестниц, заполнявших ее внутри. Из основания башни выходили наружу мощные трубы, которые тянулись, подобно круглым валам, до наружной стены поселка, проходили сквозь нее и скрывались во мраке подводных глубин. Наружная стена была также прозрачна.
Это зрелище поразило всех, кто был здесь впервые, особенно Гоберти. Он глядел, слегка испуганный и словно зачарованный, на эту существующую и в то же время словно отсутствующую преграду между поселком и океаном. Там, за стеной, шла своя таинственная жизнь. На уровне дна вспыхивали разноцветные огоньки, загорались и гасли на короткие мгновения какие-то высокие стебли, покрытые узорными листьями и странными цветами. В вышине, над ними и над сводом поселка, изредка мелькали в разных направлениях то темные гибкие тени, то цветистые гирлянды и точки огней, блеклых и туманных, едва заметных сквозь сильный свет из поселка. Молчание длилось долго. Наконец Гоберти глубоко вздохнул, снял клетчатую кепку и вытер платком высокий морщинистый лоб.
— Это стекло? — хрипло спросил он.
— Стекло, — ответил Лавров, — но только стальное стекло, очень легкое и в то же время необычайно прочное. Я вам говорил о нем, теперь можете убедиться, что это не мистификация.
— Я не мог себе этого представить, — пробормотал Гоберти.
— Имейте в виду, дорогой Гоберти, мы теперь не довольствуемся лишь тем, что нам предлагает в готовом или полуготовом виде природа, хотя бы это было лучшее из того, что она может предложить. Нет! Мы сами изготовляем для своих нужд именно тот материал, который нам требуется. Благодаря успехам физической и синтетической химии57 мы настолько проникли в таинственные глубины вещества, в законы его внутреннего строения, образования и расположения молекул, что, беря из природы самое простое, дешевое, имеющееся всюду в изобилии, мы создаем из него нечто совершенно новое, чего в природе даже не встретишь. И, уверяю вас, этот новый материал получается у нас гораздо лучше, чем тот, что выходит из мастерской природы.
— А эта прозрачная сталь?
— Эта прозрачная сталь — просто пластмасса. Но по своей необычайной твердости, легкости, кислото- и жароупорности она превосходит все известные стали и сплавы металлов.
— И все же, — спросил Гоберти, — над нами, вероятно, огромное давление воды?
— Не такое огромное, как может показаться, — ответил Лавров. — Глубина здесь не достигает и двухсот метров, следовательно давление воды на свод не превышает двадцати атмосфер. Примите во внимание также идеальную сопротивляемость геометрически точного полусферического свода, который к тому же опирается на башню, построенную из того же материала. Такое сооружение может выдержать значительно большую нагрузку. Однако пойдем дальше. Сначала в шахту, Самуил Лазаревич, — повернулся Лавров к Гуревичу и сейчас же, спохватившись, воскликнул: — Да, простите! Забыл вас познакомить. Самуил Лазаревич Гуревич — начальник строительства и главный инженер шахты номер три — товарищ Красницкий. Эрик Гоберти — корреспондент иностранных газет.
Покончив с этой неизбежной церемонией, Лавров двинулся вперед.
— На какой глубине сейчас работаете, Самуил Лазаревич? — обратился он к Гуревичу.
— Тысяча двести десять метров, Сергей Петрович.
— Температура?
— Пятьдесят пять градусов.
— Мне помнится, — вмешался Гоберти, — вы предполагали достигнуть температуры что-то около трехсот пятидесяти градусов. На какой же глубине вы ее встретите, если разрешите спросить?
— Примерно около пяти километров, — ответил Гуревич.
— Колоссально… Колоссально… — бормотал Гоберти, торопливо занося в записную книжку свои заметки.
Поселок казался безлюдным. Лишь изредка встречался одинокий прохожий и, приветливо поздоровавшись с новыми людьми, исчезал в ближайшем здании. С левой стороны поселка, из густо разросшейся зелени, внезапно донесся веселый детский смех.
— Неужели здесь дети? — удивленно спросил Гоберти.
— Ну как же! — ответил Гуревич. — В поселке немало семейных людей, которые привезли сюда и своих детей. Сейчас, вероятно, в школе перерыв и ребята выбежали в наш крохотный сад.
— Черт возьми! — не мог удержаться Гоберти. — Вы, однако, с комфортом устроились на дне морском.
— Без детей было бы скучно, — объяснил Гуревич. — И уверяю вас, они себя чувствуют здесь не хуже, чем на поверхности земли. Зелень, озонированный воздух58, кварцевые фонари, под которыми ребята загорают не хуже, чем на солнце… Даже теннис и футбол у нас процветают. Такого вратаря, как наш Андрей Глебович, и на поверхности земли не скоро найдете, — сказал Гуревич, показывая на улыбающегося Красницкого. — Если вам захочется отдохнуть на даче, приезжайте сюда, господин Гоберти. Право, не пожалеете, — заключил он, открывая высокую стеклянную дверь у подножия башни.
Гоберти ничего не успел ответить — новое зрелище захватило его. Тихий шорох вертящихся колес, шелест ползущих тросов, музыкальное гуденье моторов, тяжелое пыхтенье и вздохи где-то скрытых насосов наполняли огромное внутреннее пространство башни. Ее противоположная прозрачная стена виднелась далеко впереди. Высоко над головами вошедших густо сплетались в ажурную сеть бесчисленные балки, подкосы, среди которых изредка мелькала маленькая фигура человека. На разной высоте то здесь, то там в эту сеть были вкраплены баки и газгольдеры59, перевитые трубами и змеевиками. Круглый ровный пол был составлен из огромных четырехугольных плит. Из-под пола выходило наверх множество кабелей и труб. Через большой круглый люк двигались вверх и вниз прозрачные кабины лифта с грузом или изредка с людьми. Через другой люк, огороженный легкими перилами, виднелись ступеньки металлической лестницы, уходящей куда-то вниз, в светлую пустоту.
После чистого, свежего воздуха поселка в башне чувствовался какой то едва уловимый, щекочущий горло запах.
— Что это? Чем здесь пахнет? — поспешно повернулся к Гуревичу Лавров.
— Вот уже несколько дней, как этот запас держится в башне, — ответил Гуревич, недовольно проводя рукой по пушистым седым усам. — Мы вынуждены употреблять низкосортный георастворитель, совершенно непригодный для закрытых помещений.
— Почему же вы не замените его высококачественным? — нетерпеливо спросил Лавров.
— У нас другого нет, Сергей Петрович, — хмуро ответил Красницкий. — Вся последняя партия растворителя никуда не годится.
— Надо было немедленно сообщить нам об этом! — уже не скрывая волнения, заметил Лавров.
— Мы говорили об этом лично товарищу Березину по телевизефону, — сказал Гуревич.
Лавров вопросительно посмотрел на Березина.
— Я уже распорядился, Сергей Петрович, о срочной отправке на шахту номер три новой партии георастворителя, — ответил Березин смущенно и поспешно. — Произошла ошибка на заводе. Я сделал внушение нашему приемщику.
Лавров укоризненно покачал головой.
— Примите меры, чтобы это больше не повторялось. Когда будет доставлена новая партия?
— Дней через десять, — подумав, ответит Березин. — Партия уже отправлена из Архангельска на "Васлии Прончищеве".
— Ну нет! — решительно возразил Лавров. — Вы переправите сюда в аварийном порядке на самолете одну тонну растворителя. Вам хватит тонны на десять дней, товарищи? — спросил он Гуревича и Красницкого. — До прибытия "Прончищева"?
— Хватит, Сергеи Петрович, вполне хватит!
— Вот и отлично! Я попрошу вас, Николаи Антонович, пройти в контору, связаться по телевизефону с кем нужно на "Большой земле" и распорядиться об отправке этой тонны. А вы, товарищ Красницкий, проводите, пожалуйста, Николая Антоновича в контору… Мы спустимся в шахту с товарищем Гуревичем. Вы догоните нас… Пойдем дальше, товарищи, — продолжал Лавров, после того как Березин и Красницкий вышли из башни.
— На лифте или по лестнице, Сергей Петрович? — спросил Гуревич.
— По лестнице, Самуил Лазаревич.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
В НЕДРАХ ЗЕМЛИ
Металлическая лестница вилась уступами и через каждые два — три десятка метров прерывалась площадкой. Справа она примыкала к стене шахты, слева была пустота — светлая, пугающая, от близости которой у человека замирало сердце. Лестница, легкая, словно паутина, висела в пространстве, и Гоберти, сжав зубы, с трудом заставлял себя переставлять ноги, спускаясь по ступенькам.
Впереди и позади лестницы уходили вниз две сетчатые клетки лифтов: грузового и пассажирского.
Залитая светом круглая пропасть открылась перед глазами людей, как только они сошли на первую площадку лестницы. Шахта уходила глубоко вниз, в звездную туманность скопившихся там огней. По ее гладким светло-голубым стенам тянулось множество проводов, шлангов, труб.
Глухой ровный гул шел из глубины шахты, чмокающие звуки доносились из толстых труб; тяжко вздыхая, ухали насосы и компрессоры; где-то грозно гудели мощные моторы.
Осматриваясь по сторонам и прислушиваясь к возрастающему гулу, все молча спускались по лестнице ниже и ниже. Над каждой площадкой висели на стене мраморные щиты с рубильниками, выключателями, разноцветными кнопками.
Гоберти спускался рядом с Лавровым, присматриваясь, ежеминутно делая на ходу заметки в своей записной книжке.
— Что за хлюпающие звуки доносятся из этой трубы, Сергей Петрович? — спросил он после долгого молчания.
— Из этой толстой? Придется сначала объяснить вам значение водонапорной трубы, которая идет рядом с ней. Как видите, она немного тоньше первой. По ней под собственным напором — я вам уже говорил, что здесь, у дна океана, давление равно двадцати атмосферам — внешняя морская вода устремляется вниз, в шахту. В нижнем, глухом конце этой трубы вода разбивается на несколько десятков мощных струй, и каждая из этих струй по своему шлангу, через свой брандспойт60, вырывается наружу и с огромной силой бьет и разбивает горную породу на дне шахты…
— Простите, Сергей Петрович. Я, конечно, мало понимаю в технике, но все же слышал, что этим способом размывают, скажем, песчаную почву, глинистую или, как их там…
— Вы хотите сказать — осадочные породы?
— Да, да, мягкие породы. Но только что товарищ Красницкий докладывал вам, что они пробивают шахту в базальте61. В базальте! Он ведь, кажется, такой же твердый, как гранит. Не так ли? Что же может с ним сделать вода даже под напором в двадцать атмосфер?
— Это вполне естественный вопрос, — сказал, улыбаясь, Лавров. — Надо знать, что под таким давлением струя воды получает твердость стали и действует, как стальной лом. Но, кроме того, мы получили еще добавочную силу благодаря успехам советской химии. Недавно, один из наших химических институтов открыл состав, который называется геологическим растворителем. Это о нем мы только что разговаривали наверху. Подробно говорить об этом составе я не могу. Могу сказать лишь, что одна его крупинка, растворенная в кубометре воды, позволяет ей под сильным давлением разъедать и растворять почти мгновенно верхний слой любой горной породы, в том числе и самой твердой, как, например, гранит, базальт, диорит62. Ну, хотя бы вот так, как соляная кислота растворяет в себе без остатка большинство металлов, органические ткани, кости. По водонапорной трубе идет вода уже с ничтожной примесью растворителя, но этого достаточно, чтобы наши гидромониторы даже в базальте каждые сутки углубляли шахту на десять — пятнадцать метров.
— Так… Интересно… О чем же вздыхает другая труба? — спросил Гоберти.
— Другая труба — отводная, — продолжал Лавров. — Внутри нее через равные промежутки помещаются мощные электрические насосы, которые поднимают наверх пульпу — то есть уже отработанную воду с размытой горной породой. Эта пульпоотводная труба уходит далеко от поселка по морскому дну, и там теперь образуется, если можно так выразиться, новый геологический слой отложений из выбрасываемой породы. Работу этих насосов вы и слышите из пульпоотводной трубы.
— Замечательно! — проговорил Гоберти, снимая кепку и на ходу вытирая покрытые капельками пота лоб и розовый лысый череп.
— Кстати, Самуил Лазаревич, — обернулся Лавров к Гуревичу, — как работают пульпоотводные насосы? Какая производительность?
— Великолепно работают, Сергей Петрович, и монтаж идеальный. Прекрасная конструкция! Поршень с расширяющимся эластичным ободом, и зазора между поршнем и цилиндром насоса фактически нет. Производительность выше проектной.
— Вот как! Очень хорошо. Какой завод поставлял?
— Московский гидротехнический. А конструкция — Ирины Васильевны Денисовой, начальника производства на этом заводе. Мы с ней обменялись визетон-письмами, и я прямо благословлял ее за эти насосы…
Обычно бледное лицо Лаврова порозовело.
— Вот как! — пробормотал он с улыбкой. — Очень рад… Очень…
Гоберти энергично обмахивал кепкой раскрасневшееся лицо.
— Что-то очень жарко становится, — говорил он. — Сердце у меня неважное, с трудом выносит такую температуру.
— Сейчас будет станция, господин Гоберти, — отозвался Гуревич. — Минуту потерпите.
Через два лестничных пролета на площадке, в стене шахты, показалась плотно закрытая дверь. Гуревич открыл ее, за ней другую и пропустил мимо себя гостей. Они очутились в высокой, мягко освещенной комнате, уставленной мебелью. Здесь была тишина и приятная прохлада. Из боковой двери появился человек в белом халате и быстро направился навстречу вошедшим.
— Наш врач, — представил его Гуревич и обратился к нему: — Илья Сергеевич, господин Гоберти жалуется на сердце. Можно ли ему продолжать спуск?
Врач подошел к журналисту, пощупал пульс, взял со стола какой-то миниатюрный сложный прибор и приставил его к груди Гоберти. На наружной стороне прибора задрожала стрелка и затем начала быстро и неравномерно колебаться из стороны в сторону.
Врач покачал головой.
— Только в скафандре, — сказал он. — Вам нельзя утруждать свое сердце.
— В таком случае, — обратился Гуревич к Лаврову, — я предложил бы всем сейчас одеться. Все равно нам придется это сделать на следующей станции. Внизу довольно высокая температура.
— Ну что же, давайте, — согласился Лавров.
— Давайте давайте — весело говорил Гоберти, к которому в прохладе и тишине вернулась обычная жизнерадостность. — Мое сердце не раз уже доставляло мне неприятности в самые интересные моменты. Лучше заранее принять меры.
Через десять минут несколько странных человеческих фигур гуськом вышли из помещения подземной станции и возобновили свой спуск уже в кабине грузового, медленного лифта. Они были одеты в широкие, мешковато сидящие коричневые комбинезоны, на спинах они несли небольшие ранцы, на головах были надеты круглые прозрачные шлемы. В этих костюмах люди напоминали водолазов, готовых к спуску под воду. Сквозь прозрачную оболочку шлема виднелось оживленное лицо Гоберти.
— Вот это я понимаю! — довольно говорил он, оглаживая на себе костюм рукою в перчатке. — Дышать легко, приятная прохлада… Замечательно!
— Это жароупорный скафандр, изолирующий человека от внешней температуры газов и вредного влияния радиоизлучений, — сказал Гуревич. — А свежим воздухом вас снабжает аппарат кондиционирования, спрятанный в ранце на спине скафандра. Там же находится и крохотный радиотелефон, по которому вы поддерживаете связь с внешним миром.
— Замечательно! Гениально! — восторгался Гоберти, занося что-то в записную книжку, прикрепленную на тесьме к поясу скафандра.
Спуск продолжался. Одна за другой сменялись площадки с мраморными щитами управления. Через каждые три площадки на щитах выделялся величиной один рубильник, длинная ручка которого, окрашенная в красный цвет, далеко простиралась над площадкой.
— Что это за штука? — спросил Гоберти, указывая на рубильник.
— Это аварийный рубильник шахты. Пока его ручка находится в горизонтальном положении, ток подается всей шахте. Прижимая ее вниз, к щиту, мы сразу лишаем шахту тока и прекращаем работу всех до единого механизмов.
— Зачем же такой рубильник имеется почти на всех площадках?
— Чтобы с любой из них можно было в случае аварии прекратить подачу тока и остановить механизмы. Обычно же управление сосредоточено в главной диспетчерской63 в надшахтной башне…
Внизу, под ярким светом фонарей, что-то матово блестело, словно стеклянный круг покрывал все дно шахты.
Гул все увеличивался, разрастался, плотным шумом заполняя уши людей через наружные микрофоны. Приходилось повышать голос при разговоре.
— Почему шахта наклонная? — спросил Гоберти.
— Потому что на глубине пяти километров, под небольшим углом, при посредстве горизонтального тоннеля она должна соединиться с другой, — ответил Лавров. — Из соседнего поселка, в нескольких километрах отсюда, проходят точно такую же наклонную шахту.
— Зачем же это?
— По этой шахте из океана будет устремляться вниз сравнительно холодная вода. Вы видите, стены здесь оштукатурены. Их покрывает теплоизолирующая штукатурка, не допускающая сюда подземное тепло. Поэтому и вода по дороге вниз не будет нагреваться. Вон там видны механические штукатуры.
Гоберти уже давно обратил внимание на множество машин, похожих на больших черных жуков. Построившись ровной шеренгой по всей окружности стены, они непонятным образом держались над темным, еще оголенным пространством свежепройденной породы. Машины медленно спускались по стене, равномерно двигая вправо и влево своими восемью лопатообразными лапами, захватывая ими все новые полосы темной породы и оставляя за собой свежую, светло-голубую полосу штукатурки… Каждые пять машин соединялись длинным серым шлангом с толстой трубой. Они походили на огромных запряженных жуков; казалось, что тугие вожжи держит скрытый в трубе невидимый ямщик.
— Каким же чудом эти штукатуры держатся на стене и не срываются с нее? И как они так ловко работают? — восхищенно задавал вопросы Гоберти.
— Они держатся благодаря вот этим металлическим полосам, которые заделаны в стене под штукатуркой и тянутся снизу, под каждой машиной. Электромагнитный аппарат, имеющийся внутри каждого механического штукатура, притягивает его к этой полосе и не дает ему упасть, позволяя в то же время двигаться вниз вдоль полосы. По серым шлангам из трубы в машину поступает теплоизолирующая штукатурная масса, которая затем переходит в лопатки. Они распределяют эту массу ровным слоем по стене: первая пара — впереди машины, вторая — дальше, в ширину, по обе стороны машины, третья пара — самых длинных — еще дальше, до границ захвата соседней машины, четвертая пара вибрирует и уплотняет уже наложенный слой штукатурки.
— Замечательно! Гениально! — не переставал восхищаться Гоберти. — Но вы хотели объяснить мне, зачем оштукатуриваются стены этой шахты…
— Да, да… Соседняя шахта номер три-бис и тоннель между обеими шахтами не будут изолированы от подземной теплоты, — продолжал Лавров. — Именно в них холодная вода, поступающая из первой, вот этой шахты, будет нагреваться почти до критической температуры и — сначала в виде пара, потом горячей воды — вырываться по второй шахте наверх, в океан.
— Ага, так, так… — понимающе говорил Гоберти. — Но все-таки, Сергей Петрович, простите мою безграмотность: почему же вы лишаете себя одной из этих парных шахт? Ведь в двух шахтах вода скорее нагрелась бы?
— Это так. Но нам нужна не только теплая вода, но и ее движение. Мы создаем условия для быстрейшей циркуляции воды. Если бы она нагревалась в каждой шахте самостоятельно и одинаково, то процесс обмена с верхними слоями воды шел бы очень медленно. В данном же случае создается усиленное движение, усиленная циркуляция воды из этой сравнительно холодной шахты через горячий тоннель в другую, горячую шахту. Холодная, то есть более тяжелая вода в первой шахте будет стремиться вниз, чтобы занять в тоннеле и во второй шахте место горячей, легкой воды, которая с особой энергией будет вырываться вверх через вторую шахту.
Кабина лифта медленно опускалась под всевозрастающий гул и рев. Навстречу снизу выплывало сверкающее гигантское кольцо в виде толстого колесного обода, опоясывающего по стене всю шахту. Обод лежал на огромных металлических балках, вделанных в стены шахты. Сквозь прозрачные стены обода виднелись расставленные внутри его механизмы, приборы, аппараты. Изредка мелькали одинокие фигуры людей в скафандрах.
Кабина лифта прошла сквозь отверстие в ободе, толщина которого оказалась около четырех метров, и пассажиры увидели под собой еще около десятка таких же ободьев, параллельно опоясывающих стены на расстоянии двадцати пяти метров друг под другом.
— Что это за гигантские колеса? — спросил Гоберти, всматриваясь во внутренние помещения приближающегося обода.
— Это галереи искусственной метаморфизации64, — ответил Гуревич. — Здесь создается искусственная гранитная оболочка вокруг шахты для предохранения ее от обвалов. Электрический ток расплавляет окружающую горную породу и…
Внезапно странный прерывистый звук, похожий на громовой кашель великана, прервал его. Гуревич побледнел и растерянно посмотрел на Лаврова, который ответил ему недоумевающим взглядом.
От этого необычайного звука, казалось, вздрогнула вся шахта, и даже гул и рев, наполнявшие ее, сразу пропали, поглощенные им. Но звук сейчас же исчез, пронесшись мгновенной бурей, и через секунду все в шахте было по-прежнему, привычный ровный шум вновь плотно встал в ней. С минуту все в полном молчании напряженно прислушивались, словно выжидая чего-то.
— Что бы это могло быть? — спросил наконец Лавров.
Гуревич пожал плечами.
— Не понимаю, — ответил он не сразу. — Я даже не мог уловить, откуда он, этот грохот.
— Мне показалось, — сказал Гоберти, которому передалось беспокойство его спутников, — мне показалось, что он несся отовсюду, как будто из самых недр земных, со всех сторон.
— Но в нем было что-то металлическое, — задумчиво сказал Гуревич.
— Совершенно верно, — живо подтвердил Лавров. — Значит, шум возник где-то здесь, в шахте, среди механизмов и перекрытий.
— Вот это меня и беспокоит, Сергей Петрович. Надо во что бы то ни стало и, главное, поскорей установить место возникновения этого звука.
Миновав последнюю галерею метаморфизации, кабина медленно приближалась ко дну шахты. Огромный, чуть выпуклый стеклянный круг покрывал его, узенькие серые полоски лучеобразно расходились по кругу из центральной черной площадки. Издалека можно было различить на этой площадке, огороженной решеткой, человека в скафандре, стоявшего перед возвышением, похожим на кафедру.
Вскоре кабина остановилась. Выйдя из нее, все очутились на стеклянно-стальной поверхности круга и вступили на серую дорожку, тянувшуюся от лестницы к центру.
Внизу, под ногами, бешено клокотала, вскипая желто-коричневой пеной, темная вода.
Черные трубы, изогнувшись под прозрачно-стальным потолком, словно ноги гигантского паука, тянулись во все стороны, доходя до таких же стеклянных стен шахты, словно образуя собой каркас огромной круглой палатки с прозрачным сводом. От каждой трубы отделялось и висело вниз множество отростков — брандспойтов. Из их нижних отверстий вырывались, словно толстые металлические прутья, белые струи воды и с чудовищной силой били в илистую массу на дне, вздымая кверху водяные холмы. Нижние концы брандспойтов, как огромные слоновые хоботы, медленно описывали круги, и в какие-то определенные моменты соседние струи воды как будто сливались вместе и били с удвоенной силой. Гул и рев воды достигали здесь такой силы, что в них тонул шум работы других машин и механизмов, не слышен был человеческий голос, а стеклянно-стальной круг под ногами заметно дрожал.
Гоберти опасливо поставил ногу на эту прозрачную вибрирующую поверхность. Стараясь подавить инстинктивный страх, он следовал за быстро и твердо идущими впереди Гуревичем и Лавровым. Человек на кафедре приветствовал их кивком головы в прозрачном шлеме скафандра. Перед человеком на наклонной доске кафедры были небольшие штурвальные колеса, рубильники, кнопки, рычажки. В правом углу доски зеленые лампочки, образуя квадрат, светились спокойным мягким огнем, но одна из средних потухла, а в левом углу, среди квадрата темных лампочек, одна светилась ярким красным светом.
Гуревич быстро приблизился к человеку. Неожиданно громко и ясно, перекрывая царивший здесь гул, прозвучали под всеми шлемами его слова:
— Что тут случилось, Геннадий Семенович? Что за удар?
Человек показал рукой на красную лампочку в левом углу пюпитра:
— В пульпоотводной трубе двадцать четвертый насос прекратил работу… Я уже вызвал аварийную команду.
Гоберти, стоя позади Лаврова, дотронулся до его рукава. Обернувшись, Лавров увидел его вопросительный взгляд. Гоберти кивнул в сторону человека.
Лавров коснулся незаметной кнопки на груди Гоберти и перевел ее на новую позицию.
— Говорите свободно, — сказал Лавров. — Я привел в действие усилитель вашего радиотелефона. Что касается этого товарища, то он — гидромониторщик. Перед ним пульт управления. Отсюда он дает общее направление проходке, ослабляет или усиливает струю воды в зависимости от твердости грунта, увеличивает или уменьшает дозу георастворителя…
Он хотел еще что-то сказать, но в этот момент новый громовой удар неожиданно потряс всю шахту до основания. В следующий момент, сливаясь с оглушительными перекатами эха, раздался неистовый рев прорвавшейся воды. Туча осколков стеклостали, обломков металла, кусков цемента со свистом понеслась во все стороны.
Подняв головы, окаменевшие от ужаса люди увидели на большой высоте, под нижней галереей искусственной метаморфизации, гигантскую темно-коричневую дугу воды, устремившуюся из огромного отверстия в ближайшей к лестнице пульпоотводной трубе.
Громадная металлическая глыба, вырвавшаяся из трубы, ударила в лестницу, с визгом и скрежетом сорвала целый пролет ее и, пронесясь вместе с ним в воздухе, вертясь, ударяясь о встречные трубы и отскакивая от них, с потрясающим грохотом свалилась на стеклянно-стальное перекрытие дна, недалеко от пульта управления. Перекрытие дрогнуло, но уцелело. Сейчас же сверху обрушился мощный коричневый водопад, заливая стеклянное дно.
Все произошло в одно мгновение, с неуловимой быстротой.
Гидромониторщик схватился за грудь и упал в липкий густой поток, который подхватил его, протащил, перекатывая, под решеткой и начал уносить дальше, к стене.
Люди метались по залитому водой стеклянному дну шахты, хватаясь за решетки центральной площадки, бежали, скользя и спотыкаясь, к подножию лестницы. Ослепленный мутными струями стекавшей по шлему воды, Лавров бросился к гидромониторщику. Он схватил его за руку на полдороге к стене, поскользнулся, упал на колено, но поднялся и, задыхаясь, с силой, которую трудно было предположить в нем, перебросил гидромониторщика себе на плечи. Шатаясь, он побрел с ним, уже почти по щиколотку в клокочущей воде, к решетке площадки.
Как раз в этот момент, покрывая рев низвергающегося водопада, раздался откуда-то сверху пронзительный, полный отчаяния крик:
— Авария! Спасайте Лаврова!
Под нижней галереей метаморфизации, мелко семеня ногами по ступенькам лестницы, держа у груди портфель, бежал Березин и что-то кричал. Далеко впереди него, с горящими, почти безумными глазами и бледным, как мел, лицом, летел вниз Красницкий. Он мчался прыжками через пять — шесть ступеней сразу и вдруг, встретив зияющую пропасть на месте сорванного пролета, ни на секунду не останавливаясь, взлетел, словно футбольный мяч, пронесся над провалом, мимо красного рубильника над уцелевшей нижней площадкой. На лету он успел ударить рукой по рубильнику сверху вниз, прижать его к мраморной доске щита управления, протянув одновременно другую руку к перилам площадки у начала следующего пролета лестницы.
И сразу замолк оглушительный рев водопада, гигантская струя взбесившейся воды укоротилась и сжалась, словно втянувшись обратно в трубу, затих непрерывный гул гидромониторов под стеклянным кругом на дне, прекратилось чмоканье невидимых насосов, остановилось движение лифтов.
Но Красницкому не удалось схватиться за перила. Перелетев через всю площадку, он зацепился ногой за верхнюю ступень лестницы, перевернулся в воздухе и упал головой вниз. В наступившей жуткой тишине, глухо и мягко ударяясь телом о ступени лестницы, он покатился по ней вниз, высоко подпрыгивая, словно туго набитый мешок с ватой. В несколько секунд он пролетел первый пролет, перекатился через следующую площадку и возобновил свой ужасный спуск по второму пролету.
— Андрюша!.. — раздался под всеми шлемами крик, полный ужаса и боли.
Расталкивая окружающих, задыхаясь и всхлипывая, Гуревич бросился к лифту и, пустив его по аварийной цепи, понесся вверх. Смертельно бледный Лавров, уложивший гидромониторщика на площадку, Гоберти и все другие бросились в следующую кабину и устремились вслед за Гуревичем.
— Доктора!.. Доктора!.. Скорее доктора!.. — кричал между тем Гуревич. — Герасимов, вызвать врача! Калмыков, примите аварийную гидротехническую команду! Андрюша… родной мой… мальчик мой…
Красницкий неподвижно лежал на площадке. Врач уже бежал сверху, нагоняя Березина. На последней, висевшей над пропастью площадке оба вскочили в спускающуюся кабину лифта. Из верхнего люка бежали по лестнице люди с испуганными лицами. По тросам, протянутым вдоль толстых труб, в люльках летели вниз монтеры с инструментами.
В тишине замолкнувшей шахты слышались гулкие, перебивающие друг друга крики, возгласы, распоряжения.
Через минуту вокруг Красницкого образовалась толпа. Вид его был ужасен. Сквозь уцелевший прозрачный шлем было видно его лицо, залитое кровью. Вокруг губ вскипала кровавая пена. Из груди со свистом вырывалось прерывистое хрипение.
Но вот затрепетали веки, приоткрылись глаза, сначала словно мертвые, потом в них мелькнул отблеск сознания. С усилием разжались и искривились губы, чуть слышно, сквозь хрип и свист дыхания, послышались прерывистые слова:
— Люди… Лавров…
Стоящий на коленях перед ним врач, просунув руку под резиновым воротником скафандра в шлем Красницкого и вытирая ватой кровавую пену с губ, поспешно ответил:
— Молчите, молчите… все благополучно…
Едва заметная улыбка прошла по губам Красницкого.
— Хорошо… — прошептал он и закрыл глаза.
Врач поднялся с колен. Окаменевшее лицо его не предвещало ничего хорошего.
— Ко мне, в кабинет первой помощи, — произнес он.
Красницкого осторожно подняли, положили на появившееся уже возле него кресло-носилки и внесли в кабину лифта. Кабина быстро поползла кверху.
В кабинет никого не впустили, кроме двух других врачей, прибежавших из поселка. Вскоре туда привели гидромониторщика. Он шел, пошатываясь, но, видимо, ничего угрожающего жизни с ним не произошло.
Лавров стоял, прислонившись к перилам площадки, бледный и молчаливый. Все проходило перед ним словно в тумане. В душе нарастало чувство необъяснимой тревоги, ожидания нового непоправимого несчастья. Шум раскрывшихся вблизи дверей привел его в себя.
Возле площадки остановилась другая кабина лифта, в ней были видны два человека и какой-то огромный кусок металла.
— Сергей Петрович, посмотрите на этот сектор поршневого круга, который наделал столько бед, — услышал Лавров голос Гуревича.
Лавров с трудом отошел от перил и вошел в кабину.
— Посмотрите на излом, Сергей Петрович, — сказал Гуревич, снимая с головы, шлем и вытирая платком покрасневшие глаза.
Лавров наклонился к металлической глыбе и сейчас же отшатнулся. Его лицо, и без того бледное, казалось побледнело еще больше.
— Пустоты… Раковины… — пробормотал он. — Совершенно дефектная деталь.
Он заставил себя внимательно рассмотреть излом. Испарина стала покрывать его лоб. Он медленно выпрямился.
— Это из поршня насоса? — спросил он Гуревича.
— Да, Сергей Петрович, — ответил Гуревич.
Минуту Лавров простоял неподвижно, закрыв глаза.
Потом, ничего не замечая вокруг, двинулся сквозь расступившуюся толпу к лестнице.
— Ирина… Ирина… — беззвучно шептал он, поднимаясь по ступеням.
Гуревич печальными глазами проводил Лаврова. Затем, вздохнув и сокрушенно покачав головой, быстро направился вниз, отдавая нужные распоряжения.
Началась работа по ликвидации аварии.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
ПУТАНИЦА
Следствие по делу Вишнякова, старшего радиогеолога на "Марии Прончищевой", подвигалось очень медленно.
За полтора месяца следственным властям удалось выяснить лишь обстановку преступления, но свое участие в нем Вишняков упорно отрицал. Он продолжал настаивать, что обе георадиограммы — рабочая и контрольная — были искажены неизвестным ему лицом, которому удалось подобрать электроключ к несгораемому шкафу.
Кто же мог это сделать? И с какой целью преступник произвел эту предательскую работу?
На все эти вопросы в материалах следствия не было ответа.
Между тем выяснилось, что Вишняков был давно известен среди радиогеологов как добросовестный, методичный работник.
Это подтвердили директоры научных институтов, бывшие начальники и участники геологоразведочных экспедиций и многие другие научные деятели, в том числе и Березин. Правда, Березин отрицал личное знакомство с Вишняковым, заявив, что он знал его лишь по опубликованным в печати научным трудам. При этом Березин выразил следователю некоторое удивление и даже возмущение тем, что Вишняков ссылается именно на него, в то время как многие другие знают его гораздо лучше. Березин так расстроился и разволновался, давая эти показания, что следователю пришлось даже успокаивать его, указав на право каждого гражданина Союза искать помощи у любого другого гражданина для установления истины во всяком запутанном деле.
Таким образом, дальше того, что удалось установить относительно самого факта преступного искажения георадиограмм и биографии Вишякова, следствию не удалось продвинуться.
Совсем по-иному шло следствие об аварии "Пахтусова" в восточном секторе строительства. В первый же день работ следственной комиссии она получила письменное заявление электрика первого разряда Ходжаева о том, что в аварии виноват только он один. Зная о распоряжении главного электрика выключать ток из ледорезного форштевня65 корабля во время его переходов по чистой, свободной от льдов воде, он забыл это сделать — вернее, ему показалось, что он это сделал.
Главный электрик "Пахтусова" был снят с судна за отсутствие контроля над работой своих сотрудников, а Ходжаева лишили звания электрика первого разряда и права работать в течение двух лет где-либо на ответственных постах у агрегатов66.
Гораздо сложнее обстояло дело на Московском заводе гидротехнических сооружений. Для назначения следствия по поводу выпущенного заводом пульпоотводного насоса с дефектным поршнем, вызвавшим аварию на шахте № 3, ждали лишь приезда Лаврова.
Никто никогда не видел Лаврова таким суровым и сосредоточенным, как после его возвращения из инспекторской поездки по фронту арктических работ. Исчезла его юношеская доверчивость, он утратил обычную мягкость и жизнерадостность. Оказалось, что открытая, радостная, вдохновенная борьба с природой осложнилась так, как он и не предполагал, когда начиналось строительство.
При воспоминании о погибшем Красницком Лавров терял всякий покой и самообладание.
Как могла Ирина допустить такую непростительную беспечность, недоглядеть, послать туда, где самоотверженно работают героические люди, такой смертоносный снаряд?
Их первый разговор, сейчас же по возвращении Лаврова в Москву, был гневен и горек. Впрочем, говорил один лишь Лавров Ирина молчала.
О том, что произошло на шахте № 3, ока уже знала из газет, от многочисленных комиссий, ревизовавших работу завода. Она знала, в чем ее лично обвиняют, знала, что ждали только приезда Лаврова и его доклада, чтобы дело перешло в руки следственных органов…
И вот он приехал, и поток горьких и гневных слов льется из его уст, и синие любимые глаза то вспыхивают огнем возмущения, то туманятся жалостью и скорбью. Потому что больше всего он говорит о Красницком, о чудесном юноше, так самозабвенно бросившемся навстречу гибели для спасения других. И это ранит сердце больше самых обидных слов и подозрений. Как хотела бы она быть тогда на месте Красницкого!
Ирина молчала и слушала, подбородок ее порой едва заметно вздрагивал, чуть выпуклые, воспаленные бессонницей глаза тоскливо глядели с похудевшего, измученного лица.
Внезапно Лавров взглянул на Ирину и умолк.
Он молча прошелся два раза по комнате, постоял с минуту у окна. Потом нерешительно подошел к дивану, на котором сидела Ирина, и опустился возле нее.
— Моя бедная Ирочка… — тихо сказал он. — Тебе тоже нелегко было эти дни…
Ирина ничего не ответила, только кивнула опущенной головой, и подбородок задрожал сильней.
— Как же это могло у вас случиться? Как это прошло мимо тебя? Расскажи, Иринушка.
Ирина отрицательно покачала головой.
— Не надо, Сережа… — Потом, помолчав, спросила: — Когда ты думаешь передать дело следственным властям?
— Завтра, — глядя на носки ботинок, едва слышно произнес Лавров.
— Скорее бы… Не для себя хочу — для завода, для товарищей. Завод не виноват, и никто… никто не виноват… формально… Только я… Это мне говорит сердце… моя совесть…
Крупные слезы покатились по ее похудевшим щекам, вздрогнули плечи, и, закрыв лицо платком, Ирина опустила голову на плечо Лаврова…
Уже на второй день после приезда Лаврова следственная комиссия приступила к работе.
С первого взгляда было нетрудно установить виновников. Наблюдатель литейного цеха инженер Кантор допустил выпуск из находившейся под его наблюдением и неправильно отрегулированной машины бракованных поршней. Чтобы скрыть размеры неполадок в своей работе, а может быть с другой, более преступной целью, он направил один из этих поршней в производство. Начальник же производства завода, временно исполнявшая обязанности начальника фасоннолитейного цеха инженер Ирина Денисова, зная недостаточную опытность своих помощников по цеху — Кантора и Лебедева, зная о неисправности литейной машины, не пришла немедленно на помощь цеху, не помогла Кантору тут же отрегулировать машину, а целиком положилась на него.
Однако Ирина категорически возражала против такой формулировки обвинения Кантора. Она потребовала проверки показаний счетчика машины и рентгеновских снимков дефектоскопа со всех выпущенных цехом поршней. Экспертиза убедилась, что показания счетчика о количестве выпущенных машиной бракованных поршней точно совпадают с показаниями счетчика на транспортере склада о количестве этих поршней, поступивших туда. Следовательно, все бракованные поршни были отправлены на склад, и каким образом в производстве оказался еще один дефектный поршень — неизвестно.
И снимки дефектоскопа подтвердили показания счетчика машины. В этом не было ничего удивительного, так как счетчик и выводной аппарат работали в строгой согласованности с дефектоскопом.
Лишь четыре снимка показались комиссии смутными, неразборчивыми, и экспертиза не могла достаточно уверенно судить, был ли этими снимками обнаружен какой-нибудь дефект в поршнях. Очевидно, или дефектоскоп по какой-либо причине тогда испортился, или дефекты были настолько ничтожны, что даже дефектоскоп не послал тревожных импульсов к выводному аппарату и счетчику.
Экспертиза пришла к заключению, что, вероятно, именно среди этих четырех сомнительных поршней оказался тот, который впоследствии вызвал аварию в шахте № 3. Винить людей, наблюдавших за машиной, следственные власти не решились, так как если даже чувствительнейшие приборы не получили или не поняли сигналов дефектоскопа, то человек тем более не мог бы заметить дефектов на его смутных снимках.
С Ирины и Кантора было снято обвинение в сознательном выпуске бракованных поршней. Следственные власти прекратили дело об этом.
Оставалось решить, как быть с остальными тремя поршнями, снимки с которых казались столь сомнительными.
Экспертиза и дирекция завода пришли к заключению, что необходимо проверить еще раз переносными дефектоскопами все насосы и поршни на складах и в шахтах и даже в готовых пульпоотводных трубах.
Руководство ВАРа согласилось с этим заключением.
Лавров послал распоряжение всем шахтам, а Березин — на склады.
Инженер Ирина Денисова за невнимательное отношение к работе своих сотрудников была снята дирекцией с поста начальника производства завода и с понижением переведена на пост начальника литейного цеха того же завода, а инженер Акимов был назначен на ее место. Кантор был оставлен на работе в качестве оператора цеха.
* * *
В начале августа второго года арктических работ строительство значительной части шахт было в разгаре. Для большинства шахт заканчивались подводные поселки, в нескольких шла уже проходка шахтных стволов, и лишь для трех — одной на третьем участке и двух па последнем, пятом — еще не было найдено подходящих площадок на дне. Ледовые условия, штормы, неожиданные понижения температуры и, наконец, авария "Пахтусова" не дали экспедиционным судам возможности достаточно тщательно обследовать на этих участках дно под Гольфстримом. Лавров считал, что придется перевести оставшиеся незаконченными исследовательские работы на лето будущего, третьего года.
Правда, это нарушало план всего строительства, но даже бесплодность поисков и отсутствие радиоактивных гнезд в глубоких недрах под морским дном уже не могли подорвать и опорочить всю идею проекта. В крайнем случае пришлось бы приступить к строительству простых тепловых шахт. Чуткие георазведочные приборы могли быстро и легко обнаружить наиболее близко подходящие снизу к морскому дну вершины батолитов — гигантских интрузивных67 масс, которые когда-то, в древние геологические эпохи, поднялись в расплавленном состоянии из глубоких недр земли, но не дошли до ее поверхности и с течением времени стали понемногу остывать.
Однако лишь некоторые из батолитов — самые незначительные, самые старые или давно лишенные связи со своим центральным магмовым очагом — могли успеть совершенно остыть. В большинстве несомненно сохранялась достаточно высокая температура, и поэтому доведенные до них глубокие шахты могли быть надолго обеспечены необходимой теплотой.
О наличии таких батолитов под дном Северного Ледовитого океана достаточно ясно говорит сейсмическая карта68 Арктики, вся усыпанная черными точками эпицентров69 многочисленных полярных землетрясений. А в областях частых землетрясений всегда можно ожидать разрывов земной коры, трещин, по которым магма обычно поднимается из глубин земли. Наконец, такие вулканического происхождения острова Ледовитого океана, как Земля Франца-Иосифа, Генриетта и Жаннетта из группы островов Де-Лонга, остров Геральда, доказывают большую геологическую активность недр Полярного бассейна в недавнее геологическое время.
Таким образом, даже отсутствие под некоторыми участками Гольфстрима радионосных гнезд не нарушило бы плана великих работ и лишь могло задержать его реализацию.
Вторая и третья шахты первого участка, расположенного вдоль северных окраин Земли Франца-Иосифа, а также четвертая, шестая и седьмая шахты на втором участке, между этим архипелагом и Северной Землей, уже приближались ко второму километру глубины. Шахта № 3, шедшая все время впереди, из-за памятной июльской аварии отстала и лишь через две декады начала понемногу догонять передовую, шестую шахту. Впрочем, положение дел на третьей шахте вообще не беспокоило Лаврова: ее радиоактивное гнездо лежало близко к поверхности морского дна. Гуревич, несомненно, раньше всех закончит проходку и пустит воды Гольфстрима через шахту, так как уже давно было решено, что шахты будут вступать в строй, не дожидаясь друг друга, а по мере готовности.
Между тем новые заботы и тревоги начали, как тучи, скопляться над строительством.
Август подходил к концу, вместе с ним приближалась осень и окончание арктической навигации. Все основные материалы для строительства шахт и поселков, запасы продовольствия и снаряжения на предстоящую долгую темную зиму нужно было доставить на места в течение короткого лета. Надеяться на зимнюю подледную навигацию, которую мог вести подводный грузовой флот, не приходилось. Грузовые подводные корабли, относительно мало грузоподъемные, не могли полностью заменить флотилию огромных надводных кораблей и справиться с миллионами тонн громоздких грузов, которые постоянно требовались гигантскому строительству.
Поэтому северные порты работали летом необычайно напряженно, сотни кораблей бороздили, океан и моря, грузились и разгружались в портах, непрерывно уходили и приходили.
Но со временем все больше обнаруживался какой-то непонятный разнобой в работе портов и кораблей.
То мурманский док выпустил теплоход "Касатка" из капитального зимнего ремонта с огромным опозданием, то пришедший в Тикси-порт гигантский электроход "Социализм" не нашел груза, который должны были подготовить для зимовщиков Ново-Сибирских островов и шахт № 13 и № 14. "Морская звезда", транспортный электроход, грузоподъемностью в тридцать тысяч тонн, шла почти порожняком в Архангельск за новыми грузами, но по дороге получила вдруг распоряжение из Москвы свернуть в Нордвик для вывозки соли и руды во Владивосток. Придя через восемь суток в Нордвик, "Морская звезда" узнала, что этот груз только что взяла "Белуха" и ушла с ним в Амдерму. Между тем в Амдерме соль имеется в изобилии, а с рудой не знают, что делать. Пока сносились по радио с Москвой, распутывая этот клубок, "Белуха", теряя драгоценное время, ждала в Амдерме, а "Морская звезда" стояла в Нордвике.
Березин, в ведении которого находились и снабжение и перевозки, быстро находил выход из затруднительного положения, смело заменял одни корабли другими, перебрасывал лишние грузы из одного порта в другой, сменял начальников портов, смотрителей складов.
Однако чем ближе к августу, тем все более возрастала путаница, срывались графики движения судов и снабжения шахт.
К середине августа эти случаи участились настолько, что привлекли внимание министра. Ему стало очевидно, что с теми средствами, какие были в распоряжении Березина, тот не в состоянии справиться с затруднениями, несмотря на всю свою энергию и находчивость.
На экстренном заседании руководящих работников ВАРа под председательством министра было решено мобилизовать для морских грузовых перевозок все свободные корабли — даже малопригодные для этих целей, в том числе и некоторые научно-исследовательские. Постановлено было также просить правительство снять несколько пассажирских и грузовых электроходов с балтийских и дальневосточных линий и передать их ВАРу, а также предпринять ряд других решительных мер.
Зима быстро надвигалась, времени оставалось мало. Работу нужно было перестроить быстро, не теряя ни одного дня. Особенное внимание следовало уделить упорядочению и ускорению морских перевозок.
Поэтому Катулин решил освободить Березина от забот по снабжению и сухопутным перевозкам, с тем чтобы тот мог полностью сосредоточиться на морских перевозках и обеспечить шахты всем необходимым.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
ВНЕЗАПНОЕ РЕШЕНИЕ
На семью Денисовых обрушилось неожиданное горе. Валерий, старший брат Ирины и Димы, пропал без вести. Три дня назад он вылетел в пробный полет на новом геликоптере собственной конструкции из Воронежа, где работал уже три года на авиазаводе. Полет был на продолжительность и дальность по замкнутому кольцу: Воронеж — Архангельск — мыс Уэллен на Чукотке — Владивосток — Иркутск — Воронеж.
Через пять часов после старта, когда машина была уже в районе мыса, радиосвязь с ней неожиданно прервалась и больше не возобновлялась. Из поселка на мысе сообщили, что геликоптер не был замечен. Радиосвязь оборвалась на подходе машины к поселку, а жестокая пурга, внезапно разразившаяся в северной части Карского моря, может быть, не дала летчику возможности сбросить над поселком контрольные флажки.
Если в это время геликоптер держался в воздухе лишенный радиосвязи, то пурга могла сбить машину с курса, а вслед за тем и привести ее к гибели. Если это было так, то какова же судьба экипажа?
Дни проходили, а о геликоптере не поступало никаких сведений, несмотря на запросы, посланные из Москвы во все полярные порты, поселки, зимовки, на станции и на плавающие суда.
Надо было начать поиски пропавшей машины, но никто не знал, в каком месте она села или упала. Где случилось несчастье? Не долетая мыса, к западу от него? Следовательно, над Карским морем? Или, может быть, над одним из островов архипелага Северной Земли? Или где-нибудь дальше, на восток, над обширными пространствами моря Лаптевых?
Уже через сутки после прекращения радиосвязи с геликоптером пурга прекратилась так же внезапно, как и началась. Погода прояснилась, и с мыса немедленно поднялись в воздух для первого разведочного полета три геликоптера. За двое суток они облетели огромные пространства над льдами и чистыми водами морей вокруг Северной Земли, но никаких следов пропавшего геликоптера не обнаружили.
Машину Валерия вел известный полярный летчик Малышев.
На это обстоятельство особенно напирал Лавров за обеденным столом у Ирины, стараясь, насколько возможно, поддержать надежду в сердце девушки.
— Малышев — старый полярный волк, — говорил он. — Малышев в Арктике найдет выход из любого положения. Даже сев на воду, машина Валерия продержалась бы достаточно долго, чтобы люди смогли перейти на лед и перенести туда все необходимое для жизни…
Ирина, бледная, с темными кругами под глазами, страстно хотела и боялась верить словам Лаврова.
Дима, обычно шумный и говорливый, сейчас сидел за столом притихший, жадно слушал эти разговоры и лишь переводил внимательные черные глаза с Ирины на Сергея.
— От первого облета Северной Земли, — говорил Лавров, отрезая себе кусок пирога, — почти никаких результатов и нельзя было ожидать. Что значат три машины на район в десятки тысяч квадратных километров! Настоящие поиски начнутся через два — три дня, когда на базу, в поселок, перебросят десятки полярных геликоптеров, электроэнергию и продовольствие для них и они начнут систематически, по квадратам, обследовать и море и льды, каждую складку местности. Вот увидите, все кончится хорошо. Папанинцы в свое время с примусами и керосином благополучно провели на плавучей льдине десять месяцев. А в наше время, с электроаккумуляторами, в электрокомбинезонах, Валерий там устроится с полным комфортом!.. Ну простите, я спешу: у меня в ВАРе назначено совещание. Вечером я еще заеду.
Лавров кончил обед, так и не дотронувшись до пирога. Ирина только после ухода Сергея заметила это. Побледнев еще больше, она судорожно прикусила губу: ей стало ясно, что своими бодрыми разговорами Лавров старался не только обнадежить ее, но заглушить и свою собственною тревогу…
С ярким румянцем на лице и растрепавшимися волосами, Дима неподвижно сидел в своей комнате перед странной книгой в толстом переплете.
Дима читал, смотрел и слушал повесть о жизни великою полярного исследователя и путешественника, о его смелых походах, удивительных приключениях в пустыне Ледовитого океана.
Рассказ был живо и талантливо написан. Искусно сделанные кадры визетонфильма показывали на экране, вделанном в переплет книфона, этот героический поход.
Дима забыл об окружающем. Он сжимал в пальцах регулятор движения ленты с микротекстом под увеличительной линзой на левой крышке книфона. Время от времени вступал в действие экран на плоском ящичке правой крышки, и тогда блестящие глаза Димы не отрывались от живых, захватывающих сцен визетонфильма. Вместе с героями рассказа Дима пробивался сквозь пургу, проваливался в занесенные снегом трещины льдов, тонул в снежном месиве, перетаскивая через полыньи и гряды торосов сани с грузом, отражал нападение белых медведей, охотился на тюленей, сражался с моржами, стойко выдерживал сокрушительные и грозные штурмы атакующих судно льдов.
И вот наконец вместе со всеми героическими товарищами по походу, преодолев тысячи препятствий, изнемогая от усталости, Дима добрался до твердой земли — маленького островка в огромном архипелаге. Началась томительная зимовка в землянке, похожей на звериное логовище, во мраке бесконечной полярной ночи, в вечном холоде, в постоянной борьбе с белыми медведями и вороватыми полярными лисицами. Одинокие люди, оторванные от всего мира, забытые в царстве холода мрака и мертвого молчания…
И тут вдруг Дима, побледнев, откинулся на спинку стула, глаза его наполнились слезами. Валя! Валя! Милый… родной… Ведь то же самое, может быть, и с ним! Где-нибудь в ущелье Северной Земли лежит одинокий, раненый… среди обломков машины… Брат встал в памяти как живой — высокий, широкоплечий, с бронзовым загаром на лице, веселый, всегда готовый смеяться и играть… Неужели Валя погиб? Исчез навсегда? И никогда уж не увидеть его милое лицо, не услышать его голос…
В первый раз за все эти горестные дни Дима с такой остротой и болью почувствовал всю глубину несчастья. Эта боль была так непереносима, что Дима не выдержал и, вздрагивая от плача, закрыл лицо руками.
Непрерывный шорох привлек наконец внимание мальчика. Аппарат визетонфильма продолжал работать, посылая свет на опустевший экран. Дима с мокрым лицом машинально остановил аппарат, не сводя глаз с пустого экрана. Неожиданная мысль пришла ему в голову: Валя упал где-то на Северной Земле… Надо там его искать… Только там, и как можно скорее…
Дима не мог себе дать отчета, почему он так уверен, что машина Валерия упала именно на Северную Землю, а не куда-нибудь на льды, окружающие этот архипелаг. Но он ясно представлял себе тесное, мрачное ущелье с высокими, почти вертикальными стенами, покрытыми снегом и льдом, и на дне ущелья, среди ледяных глыб, исковерканный кузов геликоптера, а в стороне, у самой стены ущелья, человека, наполовину занесенного снегом. Он мертвый, а возле сорванной двери кабины сидит Валя с окровавленным, искаженным от боли лицом, с беспомощно свисающей, как у куклы, переломанной ногой…
Ах, если бы Дима мог быть там сейчас! Он бы искал, искал без сна, без отдыха, он нашел бы Валю! Нельзя оставаться здесь, когда Валя там погибает! Сергей сказал, что первые геликоптеры сегодня вылетают в море, а завтра другие полетят над Северной Землей… Но что там, сверху, увидят, что различат, если Валя лежит в глубоком ущелье? Нужна санная экспедиция! Надо осмотреть каждую ложбинку, каждое ущелье, надо каждую минуту кричать, звать, гудеть, стрелять… Ах, если бы он сам там был, сам участвовал в этих поисках!
И вдруг Дима чуть не задохнулся от ошеломляющей мысли’ Николай Антонович! Вот кто ему поможет.
Дима стоял с запрокинутой головой, с загоревшимися глазами, словно готовый к полету.
Да, да! Березин поможет… Ира не пустит, но Березин поможет. Дима покажет всем, что может сделать мальчик тринадцати лет для родного, любимого брата. Все равно геликоптеры ничего не найдут! Потом все-таки придется искать на санях, а к этому времени он поспеет туда… Только скорей, нельзя терять ни одного дня…
Дима бросился в комнату Ирины, к телевизефону. В квартире никого нет. Никто не помешает.
Николай Антонович, конечно, поможет. Он всегда говорил с ним о путешествии в Арктику, он даже наставляет Диму, как готовиться к этому… И этот книфон об Арктике дал Диме тоже Николай Антонович. Хорошо бы с Ирой посоветоваться… да нельзя! Она во всем верит Сергею. Сергей говорит, что все кончится благополучно, она и верит. Разве она понимает что-нибудь в Арктике! И, кроме того, у нее какие-то неприятности на заводе… она такая озабоченная, грустная…
В комнате Ирины Дима торопливо настроил аппарат на волну телевизефоча Березина и нажал позывную кнопку. Экран оставался неживым, молчаливым. Дима подождал минутку и опять нажал кнопку, долго не отрывая пальца от нее.
II вдруг — о радость! — экран мягко засветился, по нему быстро пробежали волнующиеся тени и появились знакомый угол кабинета с полками книг и книфонов, со свертками визетонлент, стол, заваленный трубками чертежей, бумагами, желтовато-прозрачными листками диктописем, и бритая голова Березина над столом.
Лицо Березина, сначала серьезное вдруг повеселело, стало приветливым.
— А, Дима! Здравствуй, голубчик! Что скажешь?
— Николай Антонович! Здравствуйте, Николай Антонович! — волнуясь и торопясь, заговорил Дима. — Мне нужно… Мне обязательно нужно поехать как можно скорее. Уже каникулы кончаются… И скоро только месяц останется…
Березин рассмеялся:
— Экий ты горячий! Чего ты вдруг так заторопился?
Диме показался очень обидным этот смех в такой момент… Но ведь Березин еще ничего не знает…
— Видите ли… Дело в том, Николай Антонович… Вам ведь известно, что Валя где-то… около мыса…
— Ну и что же? — улыбаясь, спросил Березин, поглаживая рукой круглую бритую голову. — Тебя там еще недостает? Так, что ли?
— Да нет же, Николай Антонович! — с горячностью возразил Дима. — Я должен обязательно участвовать в поисках…
Тихий гудок прервал его, на экране что-то замелькало, улыбающееся лицо Березина скрылось, потом сейчас же вновь появилось, уже серьезное. Он прислушивался к чему-то.
— Подожди, Дима, минуточку, — сказал Березин. — Там ко мне пришли. Я сейчас…
Дима смотрел на опустевший экран, нетерпеливо скользил глазами по золотистым буквам на корешках книг и свертках визетонлент, и отчаяние начинало овладевать им. Неужели Березин только посмеется и опять — который уже раз! — скажет, что нужно подождать, потерпеть? Что же тогда делать?
Вдруг с экрана послышался шум открываемой двери, шаги, неразборчивые голоса. Шаги сейчас же утихли, донеслись взволнованные слова Березина:
— Какие новости? Ну говорите же!
— Во-первых, Коновалов приехал.
Голос, спокойный, густой, бархатистый, показался Диме странно знакомым, как будто он его где-то слышал, но где и когда, невозможно было припомнить.
— Ага! Наконец-то! — обрадовался Березин. — Ну, дальше!
— Во-вторых, Вишняков умер…
Несколько мгновений тяжелого, словно растерянного молчания, потом с экрана послышалось бормотание невидимого Березина:
— Что? Что вы говорите? Вишняков? Где? Когда?
— Вчера. В доме предварительной изоляции. Николай Антонович, я прямо вам скажу: когда я увидел, как вас расстроили его показания… Вы нам дороже десятка Вишняковых… Кроме того, он оказался слабым на язык… Ничего не оставалось делать, как… Очень жаль, но дело важнее всего…
— Послушайте… послушайте… это же убийство! — бормотал Березин. — Я ничего не хочу знать об этом! Вы слышите? Не хочу, не хочу!
Голос Березина с каждым словом повышался, переходя в какой-то визг.
Дима услышал приближающиеся к экрану шаги, на правом его краю мелькнуло бледное, испуганное лицо Березина. Опущенные глаза поднялись, взглянули на Диму, и вдруг смертельный страх перекосил лицо Березина, и, вскинув руки, он мгновенно метнулся обратно и исчез с экрана. Сейчас же послышался испуганный шепот, торопливые шаги, хлопнула дверь, и все затихло. Дима опять остался перед пустым экраном со странным смущением в душе, с сильно бьющимся сердцем. Ему стало страшно. Какое убийство? И при чем тут Николай Антонович? И чем он, Дима, так огорчился и даже напугал Николая Антоновича? Теперь он уже наверно рассердился и не захочет помочь. Отчаяние окончательно овладело мальчиком.
В тоскливом ожидании прошло минут пять. Дима потерял уже надежду, хотел выключить аппарат, уйти в свою комнату, броситься на кровать, зарыться в подушку.
Вдруг послышался резкий стук раскрывающейся двери, быстрые решительные шаги, и на экране вновь показалось лицо Березина — бледное, но как будто спокойное. Березин сел за стол, на обычное место, и, перекладывая с места на место какие-то бумаги, не поднимая глаз, сказал чуть охрипшим голосом:
— Ты извини меня, Дима, я было совсем забыл про тебя.
— Нет, нет… — торопливо возразил Дима. — Пожалуйста, Николай Антонович… Я в другой раз…
— Нет, ничего, — ответил Березин и мельком взглянул на Диму какими-то пустыми глазами. — Мне сообщили о внезапной смерти одного знакомого, и это очень расстроило меня. Да… Так, значит, насчет своего дела… Ну, отвечай прямо: ты очень хочешь попасть в Арктику?
— Очень… Очень, Николай Антонович, — невнятно проговорил Дима. Сердце его сразу упало от радости и страха.
"Что ты делаешь, Димка! — оглушительно закричал какой-то испуганный голос в его душе. — Не надо, не надо!"
Но Березин уже ответил, и нельзя было убежать от его решительных, строгих, деловых слов.
— Ну ладно. Раз ты уж так твердо решил… Вот что! Туда на днях отправляется один человек. Он возьмет тебя с собой. Приготовься, собери вещи на дорогу. Только немного. Электрифицированный костюм, немного белья, туалетные принадлежности. Об остальном позаботится этот человек.
— Хорошо, Николай Антонович, — едва шевеля губами, говорил Дима. — Спасибо… спасибо большое… На мыс? Да?
— Да, да… — нетерпеливо и досадливо ответил Березин.
И опять слабо заныло в испуганной и смятенной душе Димы: "Не надо… ой, не надо…"
Но уже какой-то невидимый поток подхватил и понес Диму, и мальчик только еще раз пробормотал:
— Спасибо, большое спасибо…
— Пустяки, не стоит. Но только помни, Дима! Чтобы ни одна душа не знала об этом. Особенно о моей помощи тебе, Ирина не простит мне этого.
— Никогда, никому, Николай Антонович! — горячо обещал Дима. — Честное пионерское… Честное ленинское! Вот увидите, Николай Антонович! Только…
Дима замялся, тяжело дыша, краснея еще больше, и поднял на Березина умоляющие глаза.
— Ну, что еще? — нетерпеливо спросил Березин.
— Николай Антонович… Только я хочу с Плутоном… Я не могу без него… Пожалуйста… Можно? Он все понимает и никому не помешает… И он мне очень нужен будет. Можно?
Березин поморщился и мгновение подумал.
— Ну, ладно! — сказал он наконец. — Бери и Плутона. Через два дня вызови меня по этому аппарату, в это же время. Ну, прощай, помни: никому ни слова!
— Спасибо, Николай Антонович, никому, никому…
Экран опустел, замер, превратился в гладкую овальную серебристую дощечку.
Дима постоял немного перед аппаратом, красный, взволнованный, почти падая с ног от неожиданно нахлынувшей усталости. Потом побрел к дивану и упал на него, не в силах собрать разбежавшиеся мысли, чувствуя странный озноб и слабость.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
ПЕРВЫЕ СЛЕДЫ
В высокой светлой комнате было тихо и прохладно. На бледно окрашенных стенах висели портреты вождей страны, большая цветная карта Союза. Все здесь было приспособлено для сосредоточенного труда. Небольшой шкаф с приемно-передаточным радиоаппаратом стоял рядом с письменным столом. На столе — два телевизефона с экранами на откинутых крышках, шкатулка визетонпереписки, трубка диктофона, похожая на черную лилию с высоким гибким стеблем, выходившим из коричневого ящичка записывающего аппарата.
Комаров сидел за столом, углубившись в чтение. Время от времени он отрывался, выбирал из лежащей рядом пачки один — два фотоснимка, долго всматривался и изучал их.
Комаров читал "Сводку ежедневных донесений клязьминских постов по делу № ОК 0468".
"№ 3 за 22 августа.
12.15. Передвижной Д. Владельцем коттеджа, выходящего на улицы: Коммунаров, Школьную и Горького, является гражданин Иокиш Адольф Августсвич, 58 лет, уроженец гор. Львова, переехавший оттуда в Москву 23 года назад. Преподает греческую и римскую литературу в Московском государственном институте древней и античной культуры. Совместно с Иокишем проживают: 1) его жена Цецилия Викентьевна, 52 лет, переводчица того же института, в браке с гр. Иокишем тридцать лет, переехала в Москву одновременно с ним из Львова; 2) сын Владек, 14 лет, ученик 8-го класса школы № 78 Клязьминского района города Москвы.
12.20. Пост № 2. Через садовую калитку с улицы Горького вошел человек с портфелем, в пальто, с высоко поднятым воротником (снимок с ленты телевизора № 26). Во дворе встретился с мальчиком, сыном владельца коттеджа (снимок № 27), поговорил. Вошли через внутренний подъезд в коттедж.
12.45. Пост № 1. Во внешний подъезд вошел человек с небольшим саквояжем (снимок № 13), приехавший на электромобиле СД 014–86, Через 32 минуты, в 13.17, вышел без саквояжа, сел в электромобиль и уехал вправо, скрылся за поворотом на улицу Октябрьской революции. Наблюдение перешло к передвижному наблюдателю А.
18.00. Пост № 3. Из внутреннего подъезда коттеджа через дворовую калитку вышла на Школьную улицу жена владельца (фотоснимок с ленты телевизора № 34).
18.00–18.40. Передвижной пост В. Жена владельца (фотоснимок № 134) вышла из двора коттеджа на Школьную улицу, пошла по этой улице, остановилась с другой женщиной (фотоснимок № 135), поговорила, проследовала далее до улицы Жуковского, вошла в универсальный магазин. Отобрала несколько пакетов с продовольственными продуктами и сластями, цветы. Вернулась тем же путем домой.
18.40. Пост № 3. Через дворовую калитку со Школьной улицы вернулась жена владельца коттеджа с пакетами и цветами. Прошла в ангар, через 12 минут вышла из ангара без пакетов, вошла в коттедж.
18.45. Передвижной А. Человек на электромобиле СД 014–86 (фотоснимок № 13) от коттеджа проехал, не останавливаясь, по Северной автостраде, далее по 1-й Гражданской через центр Москвы к Гидротехническому, заводу. Его фамилия — Акимов Константин Михайлович. Работает на заводе в качестве начальника производства. В 20 часов выехал на том же электромобиле, проехал на Добрынинскую площадь, к дому № 3, корпус К, где он проживает в квартире № 82. Электромобиль был им предварительно поставлен в подземный гараж под той же площадью.
19.10. Пост № 3. К дворовой калитке по Школьной улице подошли с улицы Горького мужчина в кепи и мальчик с большой черной собакой ньюфаундленд (фотоснимок с ленты телевизора № 35). В руках у мужчины большой саквояж, у мальчика — сверток, завернутый в газету. Калитку открыл сын владельца коттеджа. Люди вошли, но собака заупрямилась, заскулила. Лишь после строгого окрика со стороны пришедшего с нею мальчика: "Плутон! Сюда!", собака вошла во двор коттеджа. Калитка сейчас же закрылась. Приехавший мальчик все время беспокойно оглядывался вокруг, держа собаку за ошейник.
20.25. Пост № 1. На улицу Коммунаров из внешнего подъезда коттеджа вышли человек в кепи и человек с портфелем, в пальто с высоко поднятым воротником (фотоснимок с ленты телевизора № 16). Оба направились по улице Коммунаров, потом повернули на улицу Октябрьской революции. Наблюдение перешло к передвижному С.
20.25–20.35. Передвижной С. Человек с портфелем и человек в кепи (фотоснимок № С3), выйдя из внешнего подъезда коттеджа, с улицы Коммунаров, завернули на улицу Октябрьской революции, затем направо, на улицу Горького. На углу Пушкинской улицы они внезапно подошли к ярко-красному электромобилю № МИ 319–24, который, очевидно, ожидал их здесь. Машина с места взяла полный ход, понеслась по Пушкинской улице, повернула налево, в Парковую улицу, и скрылась. К сожалению, я был в этот момент без машины. Дальнейшие поиски на электроцикле ни к чему не привели".
Комаров неодобрительно покачал головой и, разложив перед собой снимки, указанные в последних трех донесениях, принялся внимательно изучать их.
Экран одного из настольных телевизефонов беззвучно светился. На нем появилось смуглое лицо Хинского. Глаза лейтенанта были задумчивы. Левая рука была на перевязи.
Комаров коленом нажал кнопку под столом. Дверь распахнулась, пропустила Хинского в кабинет и сейчас же закрылась.
— Садитесь, садитесь, Лев Маркович, — сказал Комаров, едва Хинский кончил рапортовать. — Рассказывайте… Но прежде всего, как рука? — заботливо спросил он.
— Ничего особенного, Дмитрий Александрович. Пустяковый вывих. Видно, вы не в полную силу работали, — улыбаясь, ответил Хинский.
— Не сердитесь, на старика? — допытывался Комаров, прищуривая глаза, полные отеческой теплоты.
— Да что вы, Дмитрий Александрович! Ради такой встречи не жаль было бы и десяти рук!
— Ну, при десяти руках мне, пожалуй, и несдобровать бы, — рассмеялся Комаров, но сейчас же оборвал смех. — Итак, Лев Маркович, что нового?
— Все утро потратил на поиски следов красной машины. Она была взята вчера в шестнадцать часов в Новоарбатском гараже…
— Это в каком же? — перебил Комаров. — Возле Москвы-реки?
— Нет, у начала магистрали, недалеко от Гидрогеологического института. Фотосчетчик гаража отметил номер машины и время ее выхода на улицу. Между шестнадцатым и двадцать первым часом ни в одном из московских гаражей эта машина не зарегистрирована.
— А в двадцать первом часу? — спросил Комаров.
— В двадцать один час ее приход отметил фотосчетчик подземного гаража у площади Маяковского. Мне повезло. Сейчас же по возвращении в гараж машина поступила на осмотр и промывку, но, к счастью, за ночь этих операций не успели проделать, даже не дотронулись до нее. В двадцать два часа я задержал машину по телевизефону в гараже, приехал туда, и, по моему требованию, ее со всеми предосторожностями перевели в особое, изолированное помещение. Ключи от помещения у меня. Там я подробно осмотрел ее.
— Так, так… — одобрительно сказал Комаров. — Что вам рассказали счетчики?
— Почти ничего нового. Подтвердили лишь то, что уже было нам известно.
— Именно?
— В шестнадцать часов она вышла из Новоарбатского гаража с одним пассажиром-водителем. Прошла пятьсот пятьдесят метров, остановилась, через десять минут приняла двух довольно легковесных пассажиров — оба весили всего восемьдесят восемь килограммов — и немедленно ушла на расстояние тридцати одного километра пятисот двадцати метров. Остановка после этого пробега в девятнадцать часов точно совпадает с донесением поста номер три на Клязьме. Показания часов и счетчиков машины об обратном пути, о нагрузке и времени прихода в гараж совпадают с моими расчетами и показаниями фотосчетчика гаража.
— Отлично. Что еще?
— Я тщательно осмотрел изнутри и снаружи кузов машины, сделал фотоснимки и исследовал их после многократного увеличения.
— Так… так… Хотя бы это ничего и не дало, но сделать надо было обязательно.
— Нет, это кое-что дало, Дмитрий Александрович.
— Ага! Тем лучше.
— Во-первых, на обивке сидения я нашел несколько длинных волнистых шерстинок блестящего черного цвета, а на подстилке в кабине следы больших собачьих лап. Несомненно, это тот черный ньюфаундленд, о котором доносит пост номер три.
— Можно, значит, не сомневаться, что именно на этой машине мужчина в кепи приехал на Клязьму с мальчиком и собакой и затем уехал, захватив человека с портфелем.
— Я тоже так думаю, Дмитрий Александрович. Кроме того, возле задних сидений электромобиля я нашел обрывок алюминиевой бумаги с печатным текстом, вероятно обрывок газеты или журнала.
Хинский, достав из бумажника обрывок, передал его Комарову. Тот внимательно рассмотрел тончайшую, не очень прочную металлическую бумажку на свет, прочел обрывки фраз, отпечатанных на ней с обеих сторон, и задумался.
— Так. Хорошо, — сказал наконец Комаров, подняв голову. — Что еще?
Хинский огорченно развел руками:
— Пока ничего, Дмитрий Александрович.
— Ну, что же! Поработали неплохо и узнали немало. Что вы думаете дальше предпринять? Надо идти по следам, пока они свежи и горячи.
Хинский минуту помолчал.
— Прежде всего, — начал он, — я хотел бы сегодня же обследовать окружность радиусом до пятисот пятидесяти метров вокруг Новоарбатского гаража, откуда была взята красная машина. Где-то на этой окружности была первая остановка машины. Возможно, кто-нибудь там запомнил ее яркую окраску. Одновременно надо будет поручить сержанту Васильеву…
На столе перед Комаровым послышалось тихое гудение, засветился экран второго телевизефона.
Хинский замолчал. Комаров включил аппарат. Экран остался пустым, но из звуковой части аппарата послышался голос:
— Алло. Кто у аппарата?
— Двести восемьдесят шесть, — ответил Комаров.
— Колесо.
— Луна.
— Клязьма. Пост номер два. Разрешите срочно доложить, товарищ майор. Во дворе замечается усиленное движение людей между коттеджем и ангаром. Внесли в ангар чемодан и баул. Пришедший в шестнадцать тридцать через калитку со Школьной улицы человек вышел из коттеджа, переодетый в рабочий комбинезон, с какими-то инструментами в руках и направился в ангар. Предполагаю, идет подготовка к вылету.
— Кардан не появлялся? — живо спросил Комаров.
— Не появлялся, товарищ майор. Полчаса назад из коттеджа во двор вышел пришедший сюда вчера посторонний мальчик с собакой. Их сопровождал сын владельца коттеджа. Погуляли минут десять по саду и вернулись в дом.
— Больше ничего нового?
— Пока все, товарищ, майор.
— Спасибо. Будьте внимательны. Если начнут выводить геликоптер из ангара, немедленно сообщите. Буду у аппарата.
Комаров выключил телевизефон, и сейчас же по волновому избирателю вновь включил его. На экране появилась небольшая комната диспетчера при ангаре. Диспетчер, сидевший у пульта, на котором были видны разноцветные кнопки, рычажки, горящие и потухшие лампочки, светившиеся нити графиков, поднял глаза и вопросительно посмотрел на Комарова?
— Что прикажете, товарищ майор?
— Приготовьте, пожалуйста, скоростную машину к немедленному отлету и держите ее наготове.
— Слушаю, товарищ майор, — ответил лейтенант-диспетчер, быстро переводя какой-то рычажок на пульте и нажимая кнопку на щитке. — С пилотом?
— Непременно. На всякий случай — для длительного, дальнего и высотного полета. Машину перевести поближе, на малую площадку.
— Слушаю, товарищ майор. Через семь минут машина будет на малой площадке.
Комаров выключил аппарат, экран потух.
— Итак, мой дорогой, — сказал майор, обращаясь к Хинскому, — я опять отлучаюсь из Москвы. Когда вернусь, не знаю. После донесения поста номер три о заготовке продовольствия в ангаре клязьминского коттеджа я понял, что там организуется новое путешествие Кардана. Всю ночь я думал и не мог решить: следовать ли мне далее за Карданом или остаться в Москве и распутывать узел, завязавшийся вокруг Клязьмы. Сегодня я наконец договорился с заместителем министра государственной безопасности, что лично займусь Карданом и не выпущу его из виду, пока мне не станут известны цели, ради которых он пробрался в Советский Союз. Боюсь, что этот человек несет нам несчастье. У него есть какие-то связи, возможно — сообщники в Советском Союзе. Здесь пахнет преступной организацией, в которой Кардан, кажется, собирается играть видную роль. Посмотрим. А вы продолжайте идти по тем следам, какие уже имеются в Москве. Будьте терпеливы и настойчивы. Вы будете работать под руководством моего заместителя, капитана Светлова. Не забудьте получать сведения со станции Вишневск о ходе наблюдений за "освободителями" Кардана. Ну, прощайте, друг мой, — закончил Комаров, вставая и протягивая Хинскому обе руки. — Времени у меня остается мало. Каждую минуту могут вызвать. Я хочу оставить капитану Светлову и вам подробную инструкцию…
Хинский, прощаясь с майором, был взволнован и грустен.
— Дмитрий Александрович, — сказал он запинаясь, — вы, пожалуйста, присылайте хоть изредка весточку о себе…
— Непременно, Лев Маркович. Непременно, дорогой мой. При первой возможности.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
У ВОРОТ АРКТИКИ
Дима жил словно в тумане. Ни о чем невозможно было думать, ничто не доходило до сознания. Дима ходил растерянный, на вопросы отвечал невпопад, словно с трудом пробуждаясь от сна.
Березин назначил отъезд на 22 августа. И после этого Дима шел уже за событиями, как на аркане, с затуманенным сознанием. Иногда при взгляде на похудевшее лицо сестры, ему становилось больно и стыдно, и робко всплывала мысль: "А может, не надо… может, отказаться"… Но тут же вставало в воображении презрительное и насмешливое лицо Березина, и Диме казалось, что он уже слышит, как Березин цедит сквозь зубы: "Струсил… Я так и знал". И Дима гнал от себя мысль об отказе. Нет, он не трус. Он должен поехать, должен найти брата. Перед отъездом он оставит Ирине письмо, объяснит ей, что он не мог иначе, что он непременно вернется к началу занятий в школе. Только не надо говорить об Арктике, он напишет, что уехал… ну, куда-нибудь в другое место. А то она начнет искать, пошлет вдогонку радиограмму…
Дима так и сделал. В тот день, 22 августа, когда он в последний раз, с маленьким свертком в руке, вышел из дому, ведя на поводке степенно шагавшего Плутона, в кармане у Димы лежало письмо Ирине. В нем он сообщал, что один человек, сибирский охотник, берет его с собой в тайгу на охоту и что ровно через месяц они вернутся в Москву. "Только, пожалуйста, не беспокойся, Ирочка, нам в тайге будет очень интересно", писал он, подразумевая, очевидно, охотника, себя и Плутона. Потом следовали горячие поцелуи и опять просьбы не беспокоиться.
Зная, что отъезд из Москвы состоится ночью, а письмо дойдет очень быстро, через два часа, Дима опустил его в уличный почтовый шкаф, предусмотрительно замазав номер дома, корпуса и своей квартиры: письмо придет в почтовый узел района и там застрянет на некоторое время.
Пока отыщут квартиру по фамилии Ирины, пока доставят — пройдет ночь, и Димы уже не будет в Москве.
* * *
И вот, после ночного полета на геликоптере, Дима шагает по улицам Архангельска, молча рассматривает улицы, скверы и время от времени поглаживает Плутона, который с достоинством выступает рядом на коротком поводке. Плутон каждый раз в ответ поднимает тяжелую голову, вопросительно поглядывает на Диму и теснее прижимается к его ноге.
Долго не разговаривать с дорожным товарищем неловко, а разговор с ним как-то не налаживается. В сущности, Дима почти ничего не знает о человеке, с которым ему придется провести много времени в пути.
Этого человека зовут Георгий Николаевич. Так его назвали, когда знакомили с Димой на даче где-то под Москвой. Фамилию Георгия Николаевича Диме не сказали, да он и не обратил на это внимания. В общем, человек этот ему понравился. Познакомившись, Георгий Николаевич увел Диму к себе в комнату, долго разговаривал с ним, расспрашивал, почему ему так хочется попасть в Арктику, и все время добродушно улыбался, похваливая за смелость и мужественную любовь к брату. Потом он горячо поддержал мысль Димы, что его брат, вероятно, приземлился где-то на Северной Земле: не такие теперь машины в Советском Союзе, чтобы падать, разбиваться и губить людей. Дима, без сомнения, найдет брата, если будет настойчив и смел. Потом Георгий Николаевич сказал, что Дима должен переменить имя. В удостоверении, которое ему дадут перед отъездом, будет проставлена новая фамилия Димы — Антонов Вадим Павлович. Если его будут спрашивать, куда он едет, Дима должен отвечать, что едет к отцу, Павлу Николаевичу Антонову, в подводный поселок шахты № 6. Дима должен говорить, что Георгий Николаевич их хороший знакомый, что его фамилия Коновалов. По просьбе отца, Коновалов везет Диму в поселок, чтобы он там жил и учился в школе. Но лучше всего, если Дима будет поменьше говорить о себе, чтобы случайно не проговориться. Ведь если узнают, что он вовсе не Антонов, его могут вернуть обратно в Москву, а у Георгия Николаевича тоже будут большие неприятности.
Дима обещал все это хорошенько запомнить, а у самого сердце замирало от страха при мысли о таинственности, которая начинала окружать его.
Георгию Николаевичу, видно, очень понравился Плутон. Правда, он говорил, что больше пригодилась бы в Арктике простая сибирская лайка, но, вообще говоря, Плутон замечательный пес.
Новый знакомый погладил Плутона по голове и поиграл его мягкими ушами. Дима даже покраснел от удовольствия, с увлечением начал рассказывать об уме и силе своего друга и наконец приказал ему поздороваться с Георгием Николаевичем. Плутон исполнил приказание с обычной спокойной величавостью и достоинством, но, по-видимому, без особого энтузиазма, против обыкновения не шевельнув даже хвостом. Это, вероятно, объяснялось непривычной обстановкой, новыми людьми и вообще всеми треволнениями этого дня.
Дима ушел от Георгия Николаевича очень довольный, но больше с ним не встречался вплоть до посадки в геликоптер.
Перед посадкой, уже ночью, Георгий Николаевич передал ему удостоверение с фотопортретом Димы. В бумажке было сказано, что Вадим Павлович Антонов, 14 лет, направляется в сопровождении грузового наблюдателя министерства Великих арктических работ Г.Н.Коновалова к своему отцу П.Н.Антонову, в подводный поселок при шахте № 6, для проживания там и продолжения учения в поселковой школе.
Эти спокойные официальные слова придали Диме уверенность, и он смело вошел в кабину геликоптера.
В полете Георгий Николаевич был молчалив, все время курил, то и дело поднося к бритой верхней губе руку и сейчас же отдергивая ее. В начале пути он посоветовал Диме поспать, так как завтра день будет хлопотливый и отдохнуть не удастся. Дима охотно последовал этому совету и быстро заснул в откидном кресле, чувствуя теплоту Плутона, который лежал у его ног на ковре, положив тяжелую голову на вытянутые лапы…..
Ранним утром высадившись в Архангельске, они отправились с аэродрома в город, позавтракали в большом автоматизированном ресторане и там же накормили Плутона. После этого, оставив Диму с собакой на бульваре у фонтана, Георгин Николаевич пошел по делам. Он отсутствовал часа четыре, а Дима ожидал его, читая взятую здесь же, в библиотечном павильоне, книжку об Арктике.
Георгии Николаевич вернулся довольный и веселый и сказал, что нужно поехать на Соломбалу — остров возле Архангельска, на Северной Двине, у которого стоит их электроход. Там они пообедают, после чего Георгий Николаевич пойдет еще кое-куда по делам, а вечером можно будет перейти на корабль. У Димы тревожно и радостно забилось сердце.
В большом поместительном электробусе70 они через полчаса достигли речного порта и поехали вдоль набережной. Глаза у Димы разбежались. Тут были огромные океанские многопалубные электроходы, совершавшие пассажирские рейсы до Мурманска, Шпицбергена, до советских портов Черного и Балтийского морей и далеко за границу. Они были нарядно окрашены, сверкали на солнце металлическими частями, стеклами больших иллюминаторов. У самых быстроходных экспрессов носовые и кормовые части, вплоть до самой верхней палубы, были наглухо закрыты прозрачной обшивкой безукоризненно обтекаемой формы. В далеком пути такая же обшивка укрывала весь электроход, и он походил на торпеду — гладкую, без единого выступа, кроме невысокого прозрачного колокола над рубкой. Были здесь и большие старинные теплоходы71.
Дальше, вверх по реке, за длинным мостом, красивой дугой перелетавшим через нее, виднелось, словно стадо огромных лебедей, множество белых речных электроходов… От устья Северной Двины, через систему ее притоков, соединительных каналов и озер, затем по Неве, Волге, Днепру, Дону они совершали рейсы до Ленинграда, Москвы, Астрахани, Ростова-на-Дону, Херсона.
По спокойной зеленовато-голубой воде, сверкавшей под солнцем, сновали по всех направлениях катера, буксиры, яхты под высокими белоснежными парусами. С верховьев реки, сверкая иллюминаторами и окнами кают, приближался большой трехпалубный электроход, наполненный пестрой толпой пассажиров.
Над всей рекой стоял гул кипучей жизни, работы людей и машин. Слышались тягучий вой сирены и тонкие вскрики судовых гудков.
Электробус шел вдоль портовых складов, от которых по рельсам ходили к пристаням и обратно огромные портальные краны с тяжелыми грузами. Внизу, из подземных галерей, и вверху, по узким мосткам эстакад, из амбаров и складов к раскрытым бортам кораблей непрерывно ползли ленты конвейеров и передавали груз в трюмные лифты. Даже Московский порт показался теперь Диме маленьким и тихим по сравнению с этими "воротами Арктики", которым словно не было конца.
В электробус входили пассажиры — энергичные, загорелые моряки, полярники с дальних зимовок, спокойные, вдумчивые люди из таежных чащ, ведущие огромное лесное хозяйство страны, и строители арктических подводных поселков и шахт. Это были веселые, говорливые люди, они узнавали друг друга, вступали в оживленные разговоры, расспрашивали — кто, куда и на какую работу едет, рассказывали новичкам о чудесах подводной жизни и работы.
Из окна электробуса Дима увидел на рейде и у причалов не похожие на другие корабли с голубыми вымпелами, трепавшимися на тонких невысоких мачтах. Эти суда сидели низко, казались широкими, грузными. У Димы сразу екнуло сердце. По голубым вымпелам он сразу понял, что это полярные суда.
Электробус остановился у портового клуба, и Георгий Николаевич сказал, что пора выходить.
Они пообедали в тихом зимнем саду клубного ресторана. Потом Георгий Николаевич отвел Диму в комнату отдыха, а сам ушел, сказав, что вернется часа через три.
Началось томительное и беспокойное ожидание. Совсем вплотную приблизился час отъезда в неведомую влекущую даль, и Димой овладевали тоска и боязнь. Порой ему казалось, что вот-вот человек, читающий газету за соседним столиком, встанет, подойдет и спросит: "Откуда ты мальчик? Зачем ты здесь?" И Диме хотелось убежать, скрыться куда-нибудь в уголок, где бы его никто не мог заметить. Он взял со стола какую то книгу, пытался читать, но ничто не шло в голову, и он тупо смотрел на раскрытую страницу, боясь поднять глаза.
Человек ушел, и Дима вздохнул свободнее, но вскоре его охватило новое беспокойство: а что если Георгий Николаевич раздумает, не придет сюда и оставит Диму здесь одного?
На одну минуту Диму даже обрадовала эта мысль. Все уладится, и он не будет виноват, если вся эта поездка расстроится. Он вернется домой, в Москву, опять будет дома, с Ириной, с Лавровым, с товарищами. А Валя? Надо спасать Валю! Он погибает! Нет, нельзя возвращаться! Надо скорее попасть на мыс — сколько уж дней напрасно прошло! И как там идут поиски? Приготовят ли собак? Хорошо, что он Плутона с собой захватил. В крайнем случае Плутон один сможет потащить Димины нарты. Вдруг сердце у Димы сжалось: а что если его не возьмут в экспедицию, прогонят? Нет, нет, ни за что! Он докажет им…
При мысли об этом Дима нахмурился, резко повернулся на стуле, упрямо перебросил ногу на ногу, задев Плутона, лежавшего на ковре. Плутон вскочил, со скорбным недоумением посмотрел на Диму из-под желтых пятнышек над глазами и положил свою тяжелую голову ему на колени. Диме стало неловко под его пристальным взглядом. Он словно прочел в преданных глазах собаки немой и тоскливый вопрос: зачем мы здесь? Почему мы не идем домой? Дима погладил друга, почесал за ухом, потом вдруг нагнулся, прижал к себе его голову и прошептал:
— Плутоня… Это ради Вали… Мы не бросим его, мы его будем искать…
А Георгия Николаевича нет и нет. Солнце, опускаясь все ниже, протянуло сквозь окна широкие золотые полотнища.
Плутон, шумно вздохнув, опять улегся. Дима задремал.
Лишь "ночью", когда солнце, спрятавшись под горизонт на несколько часов, залило кровавым пожаром половину неба, вернулся Георгий Николаевич. Вскоре очи все втроем, минуя мост, взошли на огромный двухэтажный паром, чтобы переправиться через реку на остров, где готовились к отплытию суда их каравана. Во время переправы Георгий Николаевич, сумрачный и чем-то недовольный, сказал, что "Чапаев" не готов, погрузка задерживается и придется еще несколько дней торчать в Архангельске. Диму это сообщение очень огорчило.
* * *
Со стапелей Мурманского судостроительного завода "Чапаев" сошел лет двадцать назад. Он был построен специально для плавания в полярных водах и снабжен всеми современными техническими средствами для борьбы со льдами. Его сварной, без заклепок корпус был сделан из специальной прочной и легкой стали, толстый "ледовый" пояс из той же стали окаймлял его с обоих бортов, предохраняя от опасного натиска льдов. Подводная часть корпуса была с двойной обшивкой. Удвоенное против обычного количество стальных ребер судна — шпангоутов и бимсов — поперечных балок, связывающих под палубами каждую пару шпангоутов, должно было усилить сопротивление судна при сжатиях. Днище у "Чапаева" было закругленное, и благодаря этому при особо сильных сжатиях льда корабль выжимался кверху, как бы выскальзывая из смертельных ледовых объятий. Кроме того, нос под водой был срезан, и "Чапаев" мог с ходу налезать на лед и всей тяжестью ломать его, прокладывая себе путь.
Однако "Чапаев" не был настоящим современным ледоколом. Это был обычный полярный электроход для перевозки грузов и людей в арктических условиях. Палубы "Чапаева" были герметически укрыты сверху и с боков прозрачно-стальной обшивкой. Люди, защищенные от всех капризов арктической погоды, могли спокойно работать на палубах. Сквозь прозрачное, но надежное прикрытие они могли и в ненастье следить за состоянием моря и льдов, наблюдать за бушующей снаружи стихией.
Электричество приводило в движение все машины на корабле, вращало винты, обогревало все помещения, начиная от капитанской рубки и пассажирских кают до самого глухого закоулка. На электричестве готовили пищу, оно доставляло во все уголки чистый подогретый воздух, питало радио и телевизефонные установки, радиопеленгаторы72, эхолот73, ультразвуковые прожекторы74, предупреждавшие водителей судна о подводных и надводных препятствиях, возникающих на пути, радиолокационные установки75.
Сердцем этой системы были батареи аккумуляторов, распределенные из предосторожности в трех различных местах: на носу, в середине корабля и на корме.
В этих маленьких, легких и чрезвычайно емких аккумуляторах хранился огромный запас законсервированной электроэнергии, способный обеспечить все нужды корабля на полтора-два года. Это стало возможным с тех пор, как Московским институтом физических проблем был открыт новый сплав электродий, который обладал способностью накапливать огромное количество электроэнергии в низкой температуре жидкого воздуха, долгое время сохранять ее и потом по мере надобности отдавать.
Эти портативные аккумуляторы произвели настоящую революцию в промышленности и быту. Электромоторы, не связанные теперь громоздкой сетью проводов с дальними источниками энергии, повсюду вытесняли другие двигатели. Вместо огромных складов угля, котельных установок на заводах, фабриках и паровозах, вместо сложной сети электропроводов для поездов, вместо бензиновых баков, тяжелых баллонов со сжатым газом на тракторах и автомашинах повсюду ставились небольшие батареи электроаккумуляторов с легкими, компактными электромоторами. Крохотные аккумуляторы помещали в электроплитки и утюги, в днища кастрюль и сковород, в нагревательные приборы в лампы, в электробритвы, в аппараты микрорадио, часы, электрифицированные одежды — всюду, где нужен был независимый, автономный источник света, тепла, работы. Использованные и истощенные аккумуляторы быстро заменялись новыми. Перезарядка их легко производилась на любой электростанции или у придорожных электроколонок.
"Чапаев" же для этой цели имел две ветробашни — на баке и на корме. В свежую погоду они выдвигались из трюмов корабля над его верхней палубой, и эти походные ветроэлектростанции, используя постоянный ветер полярных областей, могли пополнять запасы электроэнергии по мере истощения судовых аккумуляторов.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
НА "ЧАПАЕВЕ"
Разину красную пасть, огромный белый медведь с ревом навалился на Диму и повалил его на лед.
"Завтракать! Завтракать!" — почудилось мальчику в рычании зверя.
Дима вскрикнул, рванулся и широко раскрыл глаза.
Перед ним была уютная, светлая, сверкающая лаком переборок каюта. На вешалках возле двери чуть покачивалась одежда. Тихонько дребезжали стаканы и графин с водой в своих гнездах на полочке.
Возле койки, положив передние лапы и голову на грудь мальчика, стоял, пошатываясь, Плутон и то тихонько скулил, то испуганно рычал, когда пол каюты выскальзывал из-под его задних лап.
Сердце еще испуганно трепыхалось в груди, но Дима с облегчением вздохнул и улыбнулся Плутон. Пес по-щенячьи взвизгнул, спрыгнул на пол, и его радостный лай загремел в маленькой каюте. Но каюта опять вдруг качнулась, лай тотчас же оборвался на жалобной ноте, и Плутон припал к полу, скорбно глядя на хозяина.
Из репродуктора послышался громкий голос:
— Завтракать, завтракать! Первая смена кончает.
Дима улыбнулся, вспомнил свой сон; и вскочил с койки.
Он торопливо умывался, разговаривая с Плутоном:
— Не скучай, Плутоша! Сейчас позавтракаю, потом тебе принесу поесть. Проголодался? Правда? Потом пойдем гулять.
Дима быстро кончил свой туалет и, приказав Плутону лежать смирно, вышел из каюты.
Во всю длину большой, высокой столовой тянулись два ряда тонких, стройных колонок из пластмассы цвета слоновой кости. Сквозь широкие окна из прозрачной стали вливался туманный свет, видны были тяжелые свинцовые валы с пенистыми гребнями. Валы проваливались, потом вновь медленно набухали, вздувались и вдруг, сгорбившись и злобно оскалив длинные ряды белых зубов, бросались вперед, на невидимого врага, и бессильно падали вниз, чтобы через минуту опять подняться для новой атаки.
Над волнами, то поднимаясь, то стремительно падая к воде, летали во всех направлениях черно-белые и белые чайки. Вместе с заглушенным завыванием ветра в столовую чуть слышно доносились их жалобные крики. Ветер подхватывал птиц, и они боком уносились вдаль, кувыркаясь, взмывая и тяжелыми взмахами вновь догоняя корабль. Другие чайки сидели на воде, колыхаясь на волнах и купаясь в их пенистых гребнях.
Дима с минуту наблюдал сквозь окно картину взволнованного моря, а затем пошел к облюбованному им еще с первого дня плавания месту за дальним столом у окна. Отовсюду слышались звон посуды, громкие разговоры, шутки, смех. Конвейеры находились в непрерывном движении, подавая из широких выходивших из центра каждого стола труб закрытые термосные тарелки, столовые приборы, плоские сосуды с напитками. Перевалив через круглую вершину стойки, конвейерная лента исчезала в другой трубе, унося в своих гнездах и карманах использованную посуду.
— А! Здравствуй, молодой человек! — весело, как старого знакомого, приветствовал Диму сидевший за столом моряк в кителе с позолоченными пуговицами, голубым вымпелом и золотыми нашивками на рукаве.
Моряк был невысок, смугл, худощав. На подвижном лице живым блеском горели большие черные глаза. Жесткие черные, точно лакированные волосы были гладко причесаны. Как у большинства людей его склада, живых, быстрых, энергичных, трудно было определить возраст этого человека. Ему легко можно было дать и тридцать, и сорок лет.
— Садись, садись, — продолжал он, наливая в стакан дымящийся кофе из термоса. — Ну, как спалось? Как себя чувствуешь при свежем ветерке?
— Спасибо, Иван Павлович, — смущенно ответил Дима, усаживаясь в кресло. — Спалось очень хорошо… Только голова сейчас чуть-чуть кружится. Ветер — пять баллов, — точно оправдываясь и в то же время щеголяя морскими словечками, добавил Дима.
— О, да! — внушительно подняв палец, подтвердил Иван Павлович. — Пять баллов! Это не шутка. Да ты заказывай себе завтрак. Чего тут засиживаться?
Дима быстро просмотрел лежащее в рамке под стеклом меню и нажал несколько кнопок, вделанных в стол.
— Ты непременно возьми тюленьи отбивные по-североземельски. Попробуй — пальчики оближешь! — рекомендовал Иван Павлович.
Дима рассмеялся. Этот человек ему очень нравился. Дима познакомился с Иваном Павловичем Карцевым в первый же день плавания за обедом и теперь норовил приходить в столовую в ту смену, когда Иван Павлович завтракал, обедал и ужинал. Дима уже успел узнать у своего нового знакомца, что он главный электрик на "Чапаеве". Морское училище кончил на штурмана, а потом увлекся электротехникой и вот уже десять лет работает в полярном флоте по этой специальности.
— А разве тюленье мясо так вкусно? — спросил Дима, снимая с конвейера кофе в термосе, заказанные блюда и приборы со своим номером. — Я думал, что его едят только во время дрейфа во льдах или потерпевшие крушение.
К столику подошел высокий широкоплечий человек со спокойными серыми глазами, чисто выбритыми лицом и головой. Кивком поздоровавшись с сидевшими за столом, он занял свободное кресло и углубился в изучение меню.
— Отстал, отстал, молодой человек, — возразил Иван Павлович, — лет на двадцать отстал! Повар в поселке на Северной Земле, давно уже нашел такой способ готовить тюленье мясо, что полярник не променяет его на самую лучшую дичь.
— А без этого способа его неприятно есть? Вам приходилось, Иван Павлович? — спрашивал Дима.
— Приходилось в самой первобытной обстановке, лет пять назад. Зима тогда была ранняя, вот как в этом году ожидается. И случилось, что заблудился я в тумане во льдах. Пять дней блуждал, голодал, наконец подстрелил тюленя у лунки. Ну, и зажарил его самым примитивным образом, и таким он мне показался вкусным — не хуже, чем по-североземельски! Да ты ешь, а то кофе остынет.
— Страшно интересно! — сказал Дима, словно пробуждаясь и принимаясь за завтрак. — А как же это случилось, что вы заблудились? Расскажите, Иван Павлович!
— После когда-нибудь. Длинная история. После завтрака приходи к люку машинного отделения. Я освобожусь, погуляем.
— Простите, товарищ, — обратился к Ивану Павловичу человек с бритой головой и серыми глазами. — Вы вскользь заметили, что зима в этом году будет ранняя. Если вас не затруднит, не скажете ли, почему вы так думаете?
— Это уже давно всем известно, — охотно ответил Иван Павлович. — Еще прошлой осенью и зимой наши и иностранные гидрологи обратили внимание, что температура Гольфстрима в Атлантике несколько понизилась и количество его теплых вод, поступающих в Полярный бассейн, уменьшилось. Было еще много других метеорологических и гидрологических показателей. Обработанные по методу академика Карелина, они дали полное основание предсказать раннюю и суровую зиму в этом году.
— Вот как! — задумчиво заметил человек с серыми глазами, поглаживая свой гладкий квадратный подбородок. — Когда же, по-вашему, должна кончиться полярная навигация?
Иван Павлович покачал головой, пожал плечами.
— По-настоящему, — ответил он, — учитывая этот прогноз, можно бы сделать еще два-три рейса. Но в этот рейс мы вышли с таким запозданием… Задержали в порту с погрузкой на целых десять дней! Подумайте, — внезапно заволновался Иван Павлович, — потеряно десять драгоценных дней короткого арктического лета! А ведь в портах скопилось множество невывезенных грузов, без которых зимой может остановиться строительство подводных шахт. Там есть и продовольствие. Если его вовремя не доставить подводным поселкам, то отрезанные от мира на всю зиму люди начнут терпеть лишения. Вот и придется теперь, не считаясь с погодой, плавать с риском для судов пока можно будет.
Иван Петрович замолчал, нервно барабаня пальцами по столу. Молчал и человек с серыми глазами. Дима с аппетитом уплетал тюленину по-североземельски, поглядывая в окно.
Море утихло. Валы вздымались ленивее и беззлобно катились вперед. Становилось светлее.
— Почему же все так сложилось? — спросил незнакомец. — Как вы думаете?
Иван Павлович передернул плечами.
— Разное говорят. Одни думают, что всему причиной поздняя весна и, значит, позднее открытие навигации. А иные считают, что многие корабли поздно вышли из ремонта и работают не там, где нужно, и не полностью.
— Но, может быть, из-за позднего начала летней навигации рассчитывают на зимнюю, подводную?
Иван Павлович махнул рукой.
— Для строительства шахт и поселков нужен главным образом громоздкий материал. Даже наш грузовой подводный флот не справится с ним. Ну, простите, надо идти… Заболтался…
Иван Павлович быстро вышел из столовой.
Человек с серыми глазами задумчиво погладил подбородок и принялся молча доканчивать завтрак.
Дима торопливо выпил кофе, убрал в конвейер посуду и опять несколько раз нажал кнопки заказа.
Человек с серыми глазами удивленно посмотрел на него.
— Неужели ты еще голоден? Как тебя зовут, мальчик?
Дима смотрел в окно и любовался переменчивыми красками зари на далекой земле. Захваченный врасплох, он на минуту смешался, потом, вспомнив советы Георгия Николаевича, неохотно ответил:
— Зовут Дима… А это для собаки… Я с собакой еду…
— Ах, вот как! Большая, красивая собака? Я ее заметил вчера. Кажется, ньюфаундленд?
— Да, — коротко ответил Дима, чувствуя себя все более неудобно.
Он привык разговаривать вежливо, даже если не хотелось говорить, и ему было неловко так коротко и отрывисто отвечать. Этот большой, сильный человек со спокойными серыми глазами нравился Диме. От него исходило спокойствие, а в густом голосе было много теплоты. Кажется, очень хороший человек… Поговорить бы с ним, да нельзя — страшно, еще проговоришься.
В первый раз в жизни Дима не мог поговорить с человеком так, как ему хотелось бы, и от этого мальчику стало тяжело.
— Куда же ты едешь, Дима? — В голосе человека послышались едва заметные участие и ласка.
В это время на конвейере показались нарезанный ломтями хлеб и два блюда с номером Димы. Дима торопливо вскрыл термосные тарелки, переложил куски мяса между ломтями хлеба и, чувствуя, что краснеет, словно стыдясь чего-то, быстро ответил, вставая с места:
— Я к папе еду, в подводный поселок…
Мальчик почти побежал к дверям. Человек проводил его взглядом до двери и лишь после того, как он скрылся, вернулся к прерванному завтраку.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
НОВЫЙ ДРУГ
Самолетная база острова Визе радировала, что море далеко на запад от острова покрыто тяжелым паковым льдом и прямой путь к шахте № 6 небезопасен. С острова Уединения, лежащего почти в центре Карского моря, воздушная разведка, наоборот, доносила, что в районе острова море большей частью свободно, лишь местами встречаются скопления мелко битого льда и большие поля дрейфующего пакового льда, которые легко обойти.
Рация острова Домашнего сообщала такие же успокоительные сведения, добавляя, что у западных берегов Северной Земли сейчас густо идет сайка, которую сопровождают стада белух. Сайка — чисто морская рыба, держится в холодных водах, не избегая и кромки льда. Но белуха, для которой сайка в открытом море является основной пищей, боится больших пространств, покрытых сплошным льдом. Подобно родственным ей китам, кашалотам, дельфинам, белуха должна часто подниматься на поверхность, чтобы обновлять запас воздуха в своих объемистых легких. Сплошные льды не дают ей этой возможности. Вот почему присутствие белух у западных берегов Северной Земли как бы подтверждало благоприятные сообщения с острова Домашнего.
В Арктике прямой путь не всегда бывает самым коротким.
Капитан "Чапаева" Василий Николаевич Левада, старый опытный полярник, знал цену этой истине. Лучше проходить длинным кружным путем, но чистой водой, чем пробиваться напрямик короткой дорогой, но сквозь тяжелые, всегда опасные льды, с риском повредить судно или надолго застрять.
Капитан Левада решил вести караваны следующих за ним судов кружным путем, через район острова Уединения. Правда, на широте мыса Желания и дальше к югу миль на тридцать лежала широкая полоса сплоченного семибального льда, но капитан был уверен, что "Чапаев" сможет преодолеть ее без особого труда и провести даже такие, не приспособленные для плавания во льдах суда, как "Полтава" и "Щорс".
На долготе мыса Желания "Чапаев" круто повернул на восток. "Полтава" и "Щорс", четко выделяясь огромными и в то же время изящными контурами на сером небе, последовали за своим вожаком.
Капитан Левада с тревогой посматривал на них с высоты своего мостика. И о чем только думали в Москве и Архангельске, когда направляли сюда этих франтов?! Понавешали на них по ватерлинии76 стальные ледовые пояса и думают, что все сделано для их безопасности. А шпангоуты! А бимсы! А весь их деликатный скелет, совсем не созданный для могучих ледовых объятий! Хорошо, что пассажиры, все до одного, на "Чапаеве". Хоть за них-то душа спокойна. "Ну, да ладно! — встряхнулся старый капитан. — "Чапаев" пошире этих красавцев! Он проложит для них достаточно свободный канал во льдах, А сжатий летом почти не бывает".
К вечеру сильно похолодало, пошел густой снег.
В обоих бортах "Чапаева" во всю их длину открылись продольные щели, и из них медленно поднялись между вертикальными стойками широкие пластины прозрачного металла. Вверху пластины достигли такой же прозрачной крыши и автоматически наглухо скрепились с ней.
Весь "Чапаев" оказался укрытым от непогоды, на палубах стало тепло и уютно. Автоматические снегоочистители равномерно двигались по прозрачным стенам вверх и вниз — сохранялась отличная видимость.
В густой кружащейся пелене снега никто не заметил появления первых мелких льдин. Их почувствовали лишь по ударам о корпус судна.
Дима стоял один на своем любимом месте — на баке, там, где у форштевня сходились углом верхние прозрачные стены корабля. Мальчик задумчиво смотрел вперед, в снежные вихри, мечущиеся перед ним снаружи, прислушивался к стонам ветра.
Вот он сейчас в самом сердце Арктики, и льдины кругом, и снег и холод. И ничего особенно интересного. Даже скучно. Не то, что дома. А что теперь дома? Его, наверное, ищут. Ира плачет. А что если вернуться? Сказать Ивану Павловичу… Нет, и думать об этом нельзя. Он должен найти Валю! Но легко ли найти человека здесь, в этих бескрайных льдах?
Льдины стучались о борта "Чапаева" все сильней, а ветер сразу стих, как будто его и не было. Можно было различить крупные льдины вокруг корабля. "Чапаев" раздвигал их носом, и они теснились в стороны, налезая одна на другую, ломаясь. Вон впереди одна, круглая, большая, совсем как островок, даже не качается. "Чапаев" идет как будто нарочно прямо на нее, расталкивает льдины помельче, точно хочет именно с ней встретиться. Вот она все ближе, совсем близко… У Димы на мгновение замерло сердце. Ух! Легкий толчок, чуть заметное сотрясение палубы под ногами — и огромная льдина беззвучно лопнула, словно кожа на барабане: по ней побежали две змейки-трещины, они на глазах делались все шире, потом средняя из трех новых льдин наклонилась набок, стала торчком на ребро, прозрачное, чистое, как стекло — зеленое с синевой. А "Чапаев" равнодушно идет дальше, словно никакие силы в мире не могут его остановить. А льдина так, торчком, и пошла вдоль его борта, жалкая, побежденная. Она жалобно скрипит, визжит — даже в груди ноет от этого визга. Впрочем, визг и скрежет несутся теперь отовсюду. Кругом, далеко-далеко — лед; ближе он розовый, а дальше фиолетовый, и вдруг весь он вспыхнул, заблестел, как на солнце. Откуда же солнце.
Дима оглянулся. На небе клубились темные низкие тучи, снег уже не падал. С запада низко, совсем у горизонта, пробиралось оранжевое солнце и на прощанье раскрасило весь ледяной мир.
А около Димы стоял тот высокий, со спокойными серыми глазами человек. Он смотрел вперед и молчал, точно не замечая мальчика. Так простояли они с минуту, не произнеся ни слова.
Потом человек опустил глаза и посмотрел на Диму. Встретив спокойный дружественный взгляд, Дима опять почувствовал симпатию к незнакомцу, желание поговорить с ним и неловкость оттого, что это было запрещено.
Человек улыбнулся и тихо спросил:
— Ну, что ты думаешь об этой картине? Нравится тебе?
И вдруг какое-то ожесточение охватило Диму. Что ему надо? Чего он пристает? И без него грустно. И неожиданно для самого себя мальчик ответил:
— А зачем вам знать, что я думаю? Отвратительная картина!
И, круто повернувшись, он побежал к трапу, бегом пронесся по палубе и ворвался в каюту.
При виде Димы Плутон, дремавший на ковре, тревожно вскочил на ноги.
— Лежи, лежи, Плутон, — проговорил Дима задыхаясь.
Опустившись вместе с ним на ковер, он положил голову на вытянутые лапы собаки.
Возмущение не проходило, и Дима прижался к Плутону, бормоча:
— Смотрит и смотрит… Подглядывает, что ли? Что ему от меня надо? Как будто он что-нибудь знает…
Плутон тихо заворчал и осторожно лизнул Диму в ухо.
— Не надо лизать, Плутон!
Плутон легонько постукивал пушистым хвостом по ковру, обнюхивал затылок Димы, щекотно шевеля волосы своим большим шершавым носом. Снаружи, за бортом, визжали и царапались льдины; казалось, будто они царапают сердце. А весь мир лежал кругом пустой и холодный, словно вымерший, и только он, Дима, остался в нем, одинокий и обиженный.
Дима прерывисто всхлипнул, вскочил с ковра и сел в кресло.
Плутон немедленно встал, подошел и положил тяжелую голову Диме на колени. Дима машинально почесал его за ухом.
А почему, собственно, он так ответил тому человеку? Почему вдруг вспыхнула в нем такая злость? Ах, не надо было! Не надо было! Что он теперь подумает?
И Дима опять увидел перед собой спокойное лицо и серые, немного удивленные глаза.
Дима вскочил с кресла и выбежал в коридор.
Лишь очутившись на палубе, Дима заметил, что "Чапаев" стоит на месте. Позади него среди ледяного поля виднелись огромные неподвижные силуэты "Полтавы" и "Щорса". По полю тянулись длинные гряды торосов, валы из нагроможденных друг на друга обломков льдин, торчали одинокие ропаки, и все было покрыто нежно-голубым покрывалом снега, который дальше, к горизонту, окрашивался в густой сиреневый цвет. Спускались сумерки.
С кормы раздалось тихое шмелиное гудение, и вдруг над "Чапаевым" взвился в воздух небольшой, синий с желтыми полосами геликоптер. Он повисел минуту неподвижно над кораблем, тускло поблескивая своим вращающимся ротором и окнами фюзеляжа, потом передний тянущий пропеллер завертелся, и геликоптер, поднимаясь все выше, стремительно понесся на восток.
"Ледовая разведка", — мельком подумал Дима, пробираясь к палубным каютам.
В конце тихого, мягко освещенного коридора, у двери, найденной после долгих нетерпеливых расспросов, Дима передохнул и, закусив губу, упрямо сжав брови, громко постучал.
— Сейчас, сейчас, — послышался из каюты спокойный голос.
Щелкнула задвижка, дверь раскрылась, и на пороге показалась знакомая статная фигура.
— Дима, ты?! — с удивлением произнес человек. — Что случилось? Входи, входи!
Дима споткнулся о порог, но успел схватиться за дверь и с силой захлопнул ее за собой.
— Я… — начал он звенящим голосом. — Я разговаривал с вами сейчас грубо… дерзко… Простите меня!
Губы человека тронула спокойная, мягкая улыбка, тепло глянули серые глаза.
— Что ты, Дима! — мягко прозвучал его приятный, несколько глухой голос. — Право, не стоило так волноваться. Я ведь понимаю, что ты неплохой мальчик. Мы просто забудем об этом и станем друзьями. Ладно?
И человек протянул Диме свою широкую сильную руку. С глазами, полными радостных слез, Дима порывисто схватил ее, и его маленькая рука потонула в теплой, мягкой ладони человека. А тот, обняв Диму за плечи, подвел его к широкому дивану.
На круглом столике стояли кофейный прибор с недопитой чашкой кофе, корзинка с печеньем, хрустальная вазочка с виноградом.
— Садись, садись, — говорил человек, опускаясь рядом с Димой на диван и нажимая одну за другой буфетные кнопки на переборке. — Гостем будешь. Я очень рад, что ты зашел. Скучно в одиночестве кофе пить. Не то что тебе. Ты в каюте с соседом и собакой. Прекрасная у тебя собака!
Человек говорил не торопясь, его движения были спокойны. Разговаривая, он протянул руку к соседнему окну, выходившему на палубу, спустил тяжелую штору. В каюте под матовым светом лампы стало совсем уютно. Все здесь нравилось Диме, и ему стало жалко Плутона, одиноко лежащего теперь в темной пустой каюте.
Дима почувствовал благодарность к незнакомцу за то, что он и про Плутона вспомнил, и мальчик торопливо ответил:
— Спасибо… спасибо… — Он запнулся.
Собеседник понял и подсказал:
— Меня зовут Дмитрий Александрович.
— Спасибо, Дмитрий Александрович. Вы знаете, Плутон мой лучший друг, Дмитрий Александрович! — горячо добавил Дима. — Он такой умный, такой умный, ну прямо как человек! Он даже умеет смеяться! Очень забавно! Я как-нибудь при вас рассмешу его. Сами увидите.
— Правда?
В переборке прозвучал короткий звонок, и раскрылась дверца буфетного конвейера. Дмитрий Александрович снял с конвейера чашку с блюдцем и ложечкой, сахар, корзинку с новым печеньем и вазочки с фруктами, вареньем, конфетами.
За горячим кофе беседа о Плутоне продолжалась с новым оживлением. Дима мог часами говорить о своем друге, рассказывать о его длинной родословной, которую знал наизусть, о его уме, силе и подвигах.
Да и Дмитрий Александрович оказался большим знатоком собак, настоящим кинологом. Он столько интересного рассказывал про них, особенно про ньюфаундлендов, что Дима просто диву давался, и его дорогой Плутон раскрывался перед ним совершенно в новом свете. Дима, например, не подозревал, что ньюфаундленды не раз участвовали в арктических экспедициях прошлого, а знаменитый Торос, спутник Пайера и Вайпрехта, открывших Землю Франца-Иосифа, прославился на весь мир.
Время в уютной каюте уходило незаметно, когда вдруг снаружи послышалось тихое жужжание, через минуту прекратившееся.
— Геликоптер вернулся из ледовой разведки, — сказал, прислушиваясь, Дмитрий Александрович. — Сейчас, наверное, "Чапаев" тронется в путь. Хочешь, Дима, посмотреть? Очень интересно, как работает ледокол ночью.
Короткая сумеречная сентябрьская ночь уже опустилась на корабль. Все вокруг потеряло свои естественные очертания, получило неопределенные, смутные формы. И лед, среди которого неподвижно стоял "Чапаев", был уже не тот, что встретился несколько часов назад. Это был тяжелый паковый, многолетний лед, серьезная преграда на пути. Все пространство, насколько хватал глаз, было занято этим льдом. Он лежал, как толстая белая кора, вся изрытая, словно перепаханная гигантским плугом.
Едва лишь Дмитрий Александрович и Дима поднялись на бак, как яркий светло-сиреневый свет залил весь лед вокруг судна, и все заискрилось, засверкало миллиардами радужных блесток. Мощные прожекторы "Чапаева" прорезали сгущающуюся тьму и ослепительно ярко осветили дикую страну льда и снега.
Корабль стал медленно отходить назад. Послышался знакомый визг потревоженного льда. Отойдя метров на пятьдесят, "Чапаев" на мгновение остановился и сейчас же полным ходом двинулся вперед.
Дима вцепился руками в борт судна в ожидании ужасного толчка. Лед быстро надвигался. Раздался глухой шипящий удар, "Чапаев" вздрогнул, и Дима почувствовал, как вместе с носом корабля поднимается все выше и выше. "Чапаев" налезал на лед. Еще несколько секунд, и вдруг под ногами послышался гулкий грохот, стон и скрежет — впереди и по сторонам "Чапаева" разбежалась сеть извилистых черных трещин, и корабль стал медленно опускаться вниз. С воем и визгом льдины топили друг друга; иные, подмятые носом корабля, погружались в черную воду, иные всплывали и тащились за судном, как пленники, издавая визжащие вопли.
"Чапаев" отступал и вновь налезал на лед, ломал, крошил, подминал под себя обломки, продвигаясь вперед. А лед упорно шел ему навстречу, высылая из тьмы все новые и новые ряды одетых в сверкающие доспехи бойцов.
Порой корабль сворачивал в сторону, к трещинам и разводьям, о которых сообщала капитану лежавшая перед ним аэрофотосъемка с геликоптера. "Чапаев" шел по ним в спокойной воде, покрытой уже тонкой пленкой свежего льда, и грохот жестокого сражения сменялся тогда певучим звоном.
Почти три часа длилась эта борьба со стихией, но Дима не мог отойти от борта. Каждый разбег корабля перед штурмом обещал что-то новое, каждое отступление перед разбегом наполняло Диму ожиданием еще не испытанного. Не хотелось уходить с палубы.
Широкие трещины попадались все чаще, каналы становились шире, сплошные ледяные поля сменились большими льдинами, разбивавшимися от столкновения со стальным форштевнем "Чапаева". Скоро и эти льдины стали мельчать.
— Ну, сражение кончилось в нашу пользу, — сказал Дмитрий Александрович. — Вражеский фронт прорван, и мы скоро очутимся в чистой воде. Можно идти спать, Дима. Плутон, наверное, соскучился и не знает, что думать о тебе.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
В БОРЬБЕ СО ЛЬДОМ
Благополучно выйдя со своим караваном из сплоченного льда, "Чапаев" уже два дня спокойно шел по чистой воде на юго-восток, к острову Уединения.
Погода все время держалась тихая, но мглистая; изредка прояснялось небо, показывалось солнце, потом опять надвигался туман, предвестник близких ледяных полей, или шел дождь, смешанный со снегом.
Прошли через две широкие полосы разреженного льда. На одной из крупных льдин Дима издали заметил небольшое стадо моржей. В бинокль он ясно мог разглядеть их огромные туши. Одни спокойно лежали, положив на лед круглые головы с длинными мощными бивнями, другие возились, переползая с места на место.
Пятого сентября "Чапаев" круто повернул на север. Ветер свежел, свинцовые тучи низко шли по небу, на тяжелых волнах качались одинокие льдины, быстро проносившиеся мимо судна к югу. Несколько чаек и большой бургомистр77, уже второй день упорно следовавший за кораблем, хрипло кричали и то беспомощно, как лоскутья бумаги, уносились ветром далеко назад, то догоняли корабль и кружили над ним на своих словно изломанных крыльях.
К ночи ветер ослабел, пошел густой снег, и "Чапаев" приблизился к новым льдам. Несмотря на работу всех прожекторов, дальше пятнадцати метров впереди корабля ничего нельзя было различить в белом крутящемся вихре снега. Когда Дима, потушив в каюте свет и оставив лишь синюю ночную лампочку, укладывался спать, послышались первые удары встречных льдин о корпус корабля. Удары становились все чаще и сильнее, затем начались царапанье и скрежет, скоро превратившиеся в сплошной, непрерывный гул.
Георгий Николаевич, который во все время пути почти не общался с Димой, спал на своей койке, повернувшись лицом к переборке, но Дима, как ни старался, не мог заснуть. Плутон, поднимая время от времени голову, тревожно прислушиваясь к тому, что делается снаружи, вопросительно посматривал на Диму.
Вдруг Дима почувствовал, как от удара содрогнулось все судно, как опускается кормовая часть корабля, и через минуту услышал донесшийся с носовой части отдаленный треск и грохот. Георгий Николаевич встрепенулся, приподнялся на локте и, испуганно оглянувшись, хриплым от сна голосом что-то пробормотал, потом спросил:
— Форсируем льды?
— Да, Георгий Николаевич, — ответил Дима. — Должно быть, тяжелые льды.
— А почему ты думаешь, что тяжелые?
— Иван Павлович мне говорил.
— А-а-а… — протяжно зевнул Георгий Николаевич. — Ну, ладно, пусть форсирует, а я спать буду. Адова работа была сегодня в трюме!
Он опять улегся и скоро захрапел.
Дима лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к грохоту и треску льдин, становившимся все оглушительней и невыносимей. Кормовая часть корабля опускалась медленно и низко — значит, нос его поднимался на лед… Борьба становилась для ледокола все тяжелей: очевидно, лед делался толще и сплоченней. Наконец, с трудом поднявшись на лед, "Чапаев" на минуту замер на месте, хотя его корпус продолжал содрогаться от работы винта. Потом корабль начал медленно крениться на один борт, затем на другой. Раздался оглушительный грохот, корма поднялась. "Чапаев" выровнялся и остановился. Винт прекратил работу, и сразу наступила тревожная, пугающая тишина.
Дима прислушался. Все спокойно, не слышно криков, беготни, топота ног — всего, чего ожидал испуганный Дима.
Все же, под мирный храп Георгия Николаевича, он торопливо оделся и тихо вышел из каюты, позвав Плутона.
На палубе, ярко освещенной прожекторами, Дима встретил лишь двух-трех пассажиров и несколько человек из команды.
— Простите, — остановил одного из них Дима, — почему мы стоим?
— Сейчас пойдем дальше, мальчик, — последовал ответ. — Лед толстый и сплоченный, девять баллов. Готовимся резать его.
"Резать лед? — Дима стоял в полном недоумении. — Пилы они готовят, что ли?"
Не доходя до бака, в проходе между палубными каютами и бортом, Дима встретил Дмитрия Александровича и очень обрадовался.
— Вы не спите? Вот хорошо! Говорят, что будут резать лед. Он очень толстый и сплоченный. Девять баллов… — без передышки говорил Дима. — Вы не видели, как режут лед? Машинами, что ли? А какие бывают баллы у льда?
Дмитрий Александрович улыбался, слушая этот поток вопросов.
— Погоди, погоди, Дима, — говорил он, увлекая мальчика на бак, — не все сразу. Как режут лед, я слыхал, но не приходилось видеть. Сейчас посмотрим и узнаем. А баллы… Баллами обозначают сплоченность льдов. Один балл — это редкий лед, два балла — менее редкий, три балла — уже густой лед, который надо раздвигать носом корабля, чтобы пройти, и так далее. Лед десяти баллов — это крепко смерзшиеся льдины, сквозь которые не всегда удается пробиться и самому мощному ледоколу. А если лед к тому же толстый, многолетний — так называемый паковый — и состоит он из больших льдин или обширных ледяных полей, тогда без помощи специальных средств и орудий ни одно судно не сможет пройти. Ну, вот мы на нашем посту, — прибавил Дмитрий Александрович, приближаясь к носу "Чапаева". — Как видишь, никаких ледопильных машин не готовят.
И действительно, вокруг корабля лежала освещенная белая ледяная пустыня с холмами из ледяных глыб. Острые пики, изломанные склоны, гряды обломков, ущелья, усыпанные осколками, встали на пути "Чапаева" и преградили ему путь. Все кругом сверкало под лучами прожекторов миллиардами разноцветных злых огоньков.
Снег перестал падать, но ветер бился о прозрачные стены корабля и высоко — казалось, до самого неба — вздымал со льда жемчужную снежную пыль, свивал ее в светящиеся жгуты, развертывал в колеблющийся занавес и швырял на прозрачную стену корабля.
Очарованные этой картиной, Дмитрий Александрович и Дима не заметили, как тихо тронулся с места "Чапаев" и медленно, словно крадучись, стал приближаться к ледяному барьеру, только что остановившему его движение. В самом широком месте носа корабля, из обеих его скул, выдвинулись вперед две длинные прямые трубы, наклоненные вниз, как стволы странных орудий, приготовившихся расстреливать лед. Когда нос "Чапаева" оказался метрах в десяти от блестящей ледяной преграды, внезапно из обеих труб со свистом вырвались две толстые сверкающие струи жидкости и ударили в лед. Легкие облачка пара на короткое время окутали текучие стальные струи и, унесенные ветром, растаяли в воздухе.
"Чапаев" все так же медленно и осторожно подходил ко льду, и всюду, куда били твердые, как сталь, струи, словно под ударами ломов, взлетали жемчужные облачка мелких хрустальных осколков и пыли, прокладывались глубокие раны в ледяном теле. Все дальше проникали в лед жидкие ножи, борозды и трещины делались все глубже и глубже.
Мощные насосы уже заполнили кормовые цистерны водой, а подрезанный снизу нос высоко задрался кверху, когда "Чапаев" коснулся льда своим форштевнем как раз в середине между двумя прямыми и глубокими надрезами. В то же мгновение винт заработал на максимальное число оборотов — "Чапаев" получил полный ход вперед и быстро стал влезать на лед. Едва он немного продвинулся вперед, как раздался грохот. Схватив Дмитрия Александровича за руку, Дима вскрикнул от испуга и восхищения: огромная, почти десятиметровой длины, глыба льда подломилась под кораблем, раздробилась на десятки обломков и погрузилась в воду. "Чапаев" шел по широкому каналу, раздвигая раскрошенный лед, загоняя его под нетронутое ледяное поле. Водяные струи, не прерывая, продолжали свою работу, и когда "Чапаев" приблизился к концу только что появившегося канала, новые щели и надрезы были уже проделаны во льду впереди. Ледокол вновь поднялся на лед, и новый участок пути освободился перед ним.
Могучий и протяжный вой чапаевской сирены, покрывая свист ветра, торжествующе разнесся над ледяной пустыней. Из ночной тьмы тотчас же послышался такой же протяжный, ответный крик, потом другой.
— "Иду вперед! Следуйте за мной!" — закричал Дима, хлопая в ладоши и переводя на человеческий язык эту перекличку кораблей. — "Иду вперед! Следую за вами!" — это "Полтава" и "Щорс" отвечают.
— Ишь ты! — сказал Дмитрий Александрович. — Откуда ты это знаешь?
— Иван Павлович объяснил мне все звуковые сигналы. А если бы "Чапаев" дал три коротких гудка, то это значило бы: "Дайте полный ход назад!" А "Полтава" и "Щорс" ответили бы тоже тремя короткими гудками: "Даю полный назад!" Десять разных сигналов имеется.
— Иван Павлович из тебя полярника сделает, — тихо засмеялся Дмитрий Александрович.
— А я уже давно полярник в душе, — ответил Дима, — но никогда не слыхал, чтобы так резали лед. Это горячей водой, наверное? Правда?
— Ну, что ты! Даже кипятком не удалось бы так быстро проделать эти глубокие надрезы во льду. Ведь лед-то трехметровой толщины! Главное здесь не температура воды, а давление, под которым ее бросают на лед. Под давлением в десять — двенадцать атмосфер струя воды получает твердость стального лома. Попробуй перерубить ее саблей — клинок разлетится в куски, как стекло. Человека такая струя может пробить насквозь. А здесь вода вырывается из ствола гидромонитора под давлением в двадцать — тридцать атмосфер. Она не только лед, но и камень пробьет. И все-таки даже такая струя действовала бы не так быстро, как сейчас, если бы не георастворитель. Ты слыхал что-нибудь про него?
— Нет, никогда не слыхал. Что это, Дмитрий Александрович?
— Георастворитель — значит растворитель земли, вернее всего, из чего состоит земля: гранита, песчаника, глины, руды. Это новое химическое вещество, которое недавно изобрели у нас. Если добавить хотя бы крупинку его к цистерне воды, она получает способность размывать, разъедать с необыкновенной быстротой даже гранит, особенно если действует под большим давлением. В воде, таким образом, соединяются сила и едкость. И тут уж никакой лед не устоит.
На трапах, ведущих с палубы на бак, послышался топот ног, и через минуту наверху показался чем-то озабоченный Иван Павлович в сопровождении нескольких человек из команды. Люди были одеты в электрифицированные комбинезоны и нагружены разнообразными инструментами.
Увидев Дмитрия Александровича и Диму, Иван Павлович направился к ним, бросив на ходу несколько коротких приказаний сопровождавшим его людям.
— Наблюдаете работу ледорезов? — спросил моряк. — Ну, как вам нравится?
— Замечательно! — живо воскликнул Дима, не давая Дмитрию Александровичу времени ответить. — Я уже знаю и про давление и про георастворитель… прямо, как масло ножом!
— Это вы отбиваете у меня его восторги, Дмитрий Александрович? — рассмеялся Иван Павлович. — К сожалению, беда случилась: георастворитель у нас кончается. Остатка хватит всего лишь на час-полтора…
— Как же это так? — спросил Дмитрий Александрович. — Разве "Чапаев" не взял с собой достаточного запаса?
— В том-то и дело! Произошло какое-то странное недоразумение. В спешке во время погрузки нашему мониторщику вместо георастворителя сдали баллоны с другими химическими реактивами. Как бы то ни было, но положение создается затруднительное.
— Странно… странно… — произнес Дмитрий Александрович, задумчиво потирая подбородок.
Диме очень нравился этот его жест. Серые глаза Дмитрия Александровича делались при этом далекими и глубокими, как будто смотрели куда-то в глубь себя, и лицо изменялось — становилось и чужим и таким родным, что хотелось еще больше любить его и во всем верить ему. Такой человек, думалось Диме, если посоветует, то уж верно и крепко. Он поможет, если понадобится.
— Что же будет делать "Чапаев", когда иссякнет остатки георастворителя? — спросил Дмитрии Александрович.
Иван Павлович вместо ответа кивнул на людей, пришедших с ними на бак.
Разделившись на группы, они возились у бортов корабля, возле его прозрачных стен, там, где снаружи, рядом с металлическими вантами78, поднимались две тонкие длинные трубы. Над толстой прозрачной крышей бака трубы эти широко расходились и соединялись третьей горизонтальной трубой со множеством вставленных в нее коротких открытых трубок.
Люди опустили по одной прозрачной пластине в каждом борту, открывая себе доступ к поднимавшемся вверх трубам. С радостным, торжествующим воем на бак ворвался ветер, принес колючий холод и мелкую снежною пыль.
Взбираясь по вантам, люди начали осматривать трубы, проверять и продувать их какими-то приборами.
— Что они делают? — спросил Дмитрий Александрович.
— Капитан решил прибегнуть к новому средству, — ответил Иван Павлович, — еще ни разу не испытанному у нас. Из-за спешки при снаряжении "Чапаева" в порту не успели полностью смонтировать новые машины, и они не были опробованы. Монтаж решили закончить в пути. Это уже сделано. Во всяком случае, моя электротехническая часть готова к работе. А опробование придется произвести сейчас, но не в легком, а, как видите, в тяжелом льду. Можно сказать, в боевых условиях. Это не совсем безопасно.
— Что же это за новое средство? — заинтересовался Дмитрий Александрович.
— Будем сжигать лед…
— Как сжигать? — изумленно спросил Дима. — Как же можно сжигать лед? Объясните, пожалуйста, Иван Павлович!
Иван Павлович рассмеялся, и мелкие морщинки собрались сеткой в уголках его живых глаз.
— Сначала посмотри, как это делается, а объясню потом. Сейчас некогда, тороплюсь.
Проверка труб скоро закончилась, люди подняли бортовые пластины и ушли. На баке снова сделалось тепло, и лишь мокрая палуба напоминала о минутном разгуле арктического ветра, холода и снега.
Дима не сводил глаз с труб, вопросы сыпались на Дмитрия Александровича без конца и без передышки:
— Что же это значит? Сжигать лед! Как это можно? Нефтью поливать его будут и потом зажигать и растапливать, что ли? Скажите же, Дмитрий Александрович! Вы никогда не слыхали об этом? Нет, Иван Павлович просто дурачит меня! Он любит шутить.
— Да потерпи немного, Дима, — смог наконец вставить слово Дмитрии Александрович, сам с интересом следя за трубами. — Скоро узнаем, в чем дело.
— Смотрите, смотрите! — закричал вдруг Дима, указывая наверх. — Двинулись!
Действительно, горизонтальная труба, раньше запрокинутая далеко назад, теперь поднялась кверху и начала медленно опускаться через нос на лед. Гидромониторы перестали работать, струи воды исчезли. "Чапаев" тихо двинулся к концу проделанного ими канала и в семи-восьми метрах от края льда остановился, низко опустив горизонтальную трубу.
В ярком свете прожекторов Дима заметил, как из коротких трубок заструилась на ровный лед какая-то черная, тяжелая пыль. Ветер не успел подхватить и разметать ее, как сквозь пыль эту проскочила синеватая электрическая искра. В одно мгновение пыль вспыхнула, и струи ослепительно белого огня полились из коротких трубок на лед. Казалось, в него вонзались огненные ножи, с огромной быстротой углублялись, и весь лед сверкал изнутри так ярко, что свет прожекторов как бы потускнел. Стало больно глазам, и Дима на минуту закрыл их. Густое облако пара с шипением поднялось над горящим льдом и, разрываемое ветром, унеслось в ночную тьму.
"Чапаев" снова начал тихо приближаться ко льду. Горизонтальная труба, словно черная пила, окруженная паром, медленно двинулась вперед, она прожигала лед своими пылающими зубьями, но оставленные ею позади блистающие гнезда огня продолжали ярко пылать, сливаясь друг с другом и углубляясь в лед. Прозрачная, пронизанная светом толща льда позволяла видеть, как полоса сияющего пламени ушла ниже уровня воды и, словно светлое изумрудное лезвие, быстро опускалась вниз. А впереди возникали новые и новые пылающие гнезда, быстро погружающиеся в лед, и скоро перед "Чапаевым", как триумфальная дорога, протянулся канал, залитый ослепительным белым, светом. Когда форштевень "Чапаева" был уже в трех метрах от льда, черная до сих пор вода вокруг корабля внезапно вспыхнула и окрасилась в светло-зеленый цвет. Рой ярко-зеленых лохматых метеоров стремительно вылетал из-подо льда и исчезал, словно растаяв, во тьме морских глубин. Освещенный сверху лучами прожекторов — впереди блистающим пламенем горящего льда и снизу — изумрудными звездами шлака, прорвавшегося сквозь лед, — "Чапаев" плыл в каком-то неправдоподобном море из снега, пламени и жемчужных облаков пара.
Лед был совсем близок и ясно виден, он казался слепленным из бесчисленных сотовых ячеек. Даже сквозь прозрачные стены корабля доносился звенящий хруст и шелест. Едва форштевень корабля коснулся льда, как разрыхленная тепловыми лучами масса начала рассыпаться, оседать и с шипением, словно куча снега, погружаться в воду. "Чапаев" входил в эту ледяную кашу, следуя за огненными граблями, прочищавшими ему путь. Если впереди на льду встречались обломки, отдельные ропаки, гряды торосов, труба медленно поднималась над препятствиями, поливая их огненные ливнем, затем переваливала через чих, продолжая свое уничтожающее движение.
Дима был совершенно ошеломлен. Он, казалось, лишился языка. Иногда он что-то неразборчиво бормотал или восклицал отрывисто:
— Чудесно! Как красиво! Ой, как красиво!
— Не только, красиво, — тихо, со сдержанным волнением говорил Дмитрий Александрович. — Какая сила! Что может остановить нашего человека? На что способна наука, когда ею вооружен свободный народ!
Наконец Дима устал. Все реже слышались его восхищенные возгласы, ослепленные светом и красками глаза начали смыкаться.
Дмитрий Александрович тоже почувствовал утомление.
— Ну что, видали? — раздался веселый голос Ивана Павловича. — Какова штучка? А? С первого же опробования! Ну, что скажешь, пострел? Понимаешь ты, в чем дело?
Дима поднял усталые глаза, слабо улыбаясь.
— Нет, не очень понимаю Пыль какая-то горит…
— Пыль, говоришь? — воскликнул Иван Павлович. — Не пыль, а термит79. Слыхал когда-нибудь о термите? Эх, ты! Вот слушай. Я тебе объясню. Термит уже давно применяется в промышленности. Это порошкообразная смесь из некоторых металлов, которая способна воспламеняться и при горении развивать высокую температуру — до трех с половиной тысяч градусов. А недавно изобретена новая пылевидная смесь, которая, как вода, течет по трубам под влиянием магнитного поля. Понимаешь? Термит бежит по трубам, льется и загорается от искры. Попадая на лед, горящий термит не только расплавляет и испаряет его, но тут же разлагает полученный водяной пар на его составные элементы — кислород и водород. Термит — вернее, один из его элементов — жадно поглощает кислород и сгорает при очень высокой температуре, а водород при такой высокой температуре соединяется с кислородом воздуха и тоже сгорает. Излучаемое при этом тепло глубоко проникает в массу льда и разрушает его, образуя внутри него сеть мелких трещин, которые под действием продолжающего поступать тепла быстро расширяются и превращают лед в снежную кашу… Понял? Да ты просто спишь на ногах…
— Хватит! — сказал Дмитрий Александрович. — Теперь ему нужна только койка и подушка. Пойдем, Дима.
Дима попробовал было слабо протестовать, но скоро сдался и побрел за Дмитрием Александровичем, чувствуя, как покачивается палуба под ногами. Он не сознавал, как очутился в каюте, как разделся и заснул, едва коснувшись головой подушки.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
НОЧЬЮ В ПУРГУ
Ранним утром по открывшемуся большому разводью "Чапаев" и следовавший за ним караван проникли дальше во льды. Потом, опять пустив в ход термитную машину, "Чапаев" возобновил свое медленное, но упорное движение вперед.
Дима спал непробудным сном почти до обеда, не слыша ни репродуктора, три раза звавшего к завтраку, ни Георгия Николаевича, пытавшегося разбудить его. В двенадцать часов Плутон, придя в отчаяние от скуки и голода, стащил наконец с Димы одеяло, навалился ему на грудь и начал обнюхивать ухо. Стало нестерпимо щекотно, и после нескольких энергичных, но безнадежных попыток отбиться Дима проснулся.
Как раз в этот момент винт "Чапаева" остановился. Наступила тишина, и тотчас же в каюту донеслись два могучих протяжных гудка чапаевской сирены и прогнали последние остатки сна.
Он прислушался.
— Слышишь, Плутон? — тихо спросил Дима. "Чапаев" кричит: "Не следуйте за мной остановитесь!"
— Вот! Вот! — сказал он через мгновение, уловив далекий вой. — Такие же два гудка. Это "Полтава" отвечает! "Остановлюсь!" А почему они остановились?
Дима торопливо оделся и побежал в столовую, оставив жалобно скулившего Плутона одного.
В коридоре, встретив одного из пассажиров, Дима спросил его о причине остановки "Чапаева".
— Не знаю, что-то там испортилось. Говорят, ничего серьезного, скоро пойдем дальше.
Дима поспешно позавтракал и, накормив Плутона, поднялся вместе с ним на палубу.
"Чапаев" стоял среди высоких торосов. Вдали под серым, облачным небом виднелась черная громада "Полтавы". "Щорс" был, очевидно, дальше, за торосами.
В сопровождении Плутона Дима вошел в надстройку палубных кают и постучал в знакомую дверь.
— Сейчас, — прозвучал голос Дмитрия Александровича, но Диме послышалось "пожалуйста", и он вошел в каюту.
Дмитрий Александрович, очевидно не ожидавший такой стремительности со стороны мальчика, сидел перед экраном телевизефона и рассматривал изображение какого-то полутемного помещения с наваленными до потолка бочками, тюками, громадными ящиками, между которыми виднелись фигуры людей, работавших в глубине помещения. Но изображение на экране промелькнуло перед Димой лишь на мгновение и сейчас же исчезло. Дмитрий Александрович поспешно выключил аппарат, быстро встал и с легкой тенью недовольства на лице пошел навстречу Диме.
— Доброго утра, Дмитрий Александрович! Вы не знаете, почему "Чапаев" стоит?
— Здравствуй, Дима. Одна из термитных труб сломалась. Машинист слишком поздно заметил небольшой ропак на пути и не успел вовремя поднять трубу. Она воткнулась в лед, а "Чапаев" продолжал нажимать. Левая тонкая труба не выдержала такого давления и сломалась.
— Это ночью случилось?
— Нет, с час назад. Пойдем на бак, посмотрим.
На льду перед носом "Чапаева" работала кучка людей, среди них друзья заметили и Ивана Павловича. Возле сломанной трубы лежала новая, целая, которой очевидно, собирались заменить первую. Работа, однако, не спорилась. Время шло, новая труба продолжала лежать на льду, а обломки старой оставались по-прежнему на месте.
Уже репродукторы позвали обедать первую смену, потом пригласили вторую. Дмитрий Александрович и Дима должны были идти в столовую.
У трапа они встретили Ивана Павловича, устало поднимавшегося со льда на палубу.
— Здравствуйте, Иван Павлович! — окликнул его Дима. — Что же это "Чапаев" стоит?
— Питательная труба сломалась.
— Мы видели. А что, ее трудно починить?
— Оказалось нелегко. Под влиянием высокой температуры она приварилась к поперечной, огневой. Металл оказался недостаточно жароупорным. Вот и идет возня. Не хочется менять все три трубы — много времени потеряем. Но, видно, этого не миновать. Температура воздуха падает, как бы не вмерзнуть накрепко в лед. Выбиваться потом из него будет трудно. Ну, я спешу…
— Обедать не придете, Иван Павлович? — крикнул вдогонку Дима.
— Где уж там! — донесся ответ, и Иван Павлович скрылся в люке машинного отделения.
Уже спускались сумерки, когда Дмитрий Александрович и Дима вновь появились на носу корабля?
Ветер дул сильными порывами, поземка быстро неслась по льду, порой скрывая кучку людей, торопливо работавших у термитных труб. Работа, видимо, приближалась к концу.
Весь день прозрачные стены корабля были открыты у трапов, спущенных с обоих бортов. На палубе было холодно, ветер врывался под крышу, ревел и бился о стены. Повалил густой снег, и белая крутящаяся стена скрыла людей на льду и их яркие фонари. На левобор-товом трапе стали появляться светлые точки, поднимающиеся к палубе.
— Ну, начинается пурга. Видно, работу прекратили, — сказал Дмитрий Александрович. — Пойдем в кают-компанию. Туда, вероятно, и Иван Павлович придет.
Георгий Николаевич дома, в каюте?
— Да, спит. Мы с Плутоном тихо ушли, чтобы не разбудить его.
Они шли по темному безлюдному проходу между правым бортом и палубными надстройками. Ветер со свистом и ревом врывался сквозь открытый проем, неся с собой тучи снега. Ослепленные вихрем, оглушенные его воем, Дмитрий Александрович и Дима, закрывая лица руками, торопливо прошли мимо трапа, спеша укрыться от пурги.
Пройдя мимо палубной надстройки, Дмитрий Александрович остановился и, поколебавшись мгновение сказал:
— Подожди меня здесь, Дима. Я на минутку забегу к себе.
Он быстро направился к своей каюте.
— Часа четыре не наблюдал… мало ли что… — бормотал он, открывая дверь.
Дмитрий Александрович включил аппарат телевизефона и поспешно набрал волну. Экран засветился, и на нем появился участок слабо освещенного и тесно заставленного грузами помещения. С минуту Дмитрий Александрович манипулировал экраном так, что на нем появлялись и исчезали все новые участки помещения. Затем, словно убедившись в бесцельности этих поисков, он выключил аппарат, вновь включил и набрал новую волну. На экране появилось помещение, похожее на прежнее. Но здесь в дальнем углу копошилась согнутая фигура человека.
Дмитрий Александрович внимательно смотрел на экран.
Человек на экране выпрямился. Он был одет в широкую одежду вроде плаща, и лицо его было скрыто глубоко надвинутым капюшоном. Стоял он у какого-то высокого, узкого предмета с блестящими головками на передней стороне. Вот он поднял согнутую руку, словно смотря на часы. Другой рукой человек осторожно вращал одну из головок.
Дмитрий Александрович, почти не дыша, нагнулся к экрану.
Человек вдруг начал торопливо закрывать тюками и ящиками узкий предмет, которым он только что занимался. И едва этот предмет скрылся из виду, человек резко повернулся и чуть не бегом кинулся к выходу.
Дмитрий Александрович шумно перевел дыхание и провел рукой по покрасневшему лбу. Затем он быстро выключил аппарат и, немедленно включив его, набрал новую волну.
На экране появился капитан "Чапаева".
Увидев Дмитрия Александровича, он встрепенулся и живо спросил:
— В чем дело, товарищ майор?
— Немедленно направьте людей для обыска во всех грузовых трюмах "Чапаева". Только никого не берите из трюмной команды. Искать нужно длинные узкие черные ящики с блестящими головками на одной стороне. Я встречу вас лично у кормового трюма номер два.
Лицо капитана Левады стало белым, как листок лежавшей перед ним бумаги. Он хрипло произнес:
— Слушаю, товарищ майор! Будет сделано!
На корме у трюма Дмитрий Александрович нашел старшего помощника капитана с двумя людьми из экипажа судна. Пока открывали люк и опускались в трюм, подошел и капитан Левада.
— Люди разосланы во все трюмы, — тоном рапорта доложил он Дмитрию Александровичу.
Ящик быстро нашли в месте, указанном Дмитрием Александровичем. Майор отстранил от него людей и приблизил ухо к одной из алюминиевых головок. Послышалось спокойное тиканье часового механизма. Майор уверенным движением нажал и повернул головку против указания стрелки на ней.
Тиканье прекратилось.
Дмитрий Александрович выпрямился и облегченно вздохнул.
— На лед! — приказал он и обратился к капитану Леваде: — Поступайте таким же образом, с другими снарядами, если найдутся, и выносите их на лед. Прикажите искать на электроходе человека в плаще и капюшоне с кисточкой. Через пять минут встречу вас у трюма номер пять.
Он быстро поднялся на палубу и направился к трапу, у которого оставил Диму с Плутоном. Они стояли за каютами, прижавшись в углу, спасаясь от колючего снежного вихря, врывавшегося на палубу сквозь открытый борт.
— Извини, Дима, я немного задержался, — сказал майор спокойным тоном, словно он уходил выпить стакан лимонаду. — Ты не замерз?
— Нет, ничего, Дмитрий Александрович. Пойдем в кают-компанию?
— Сходи уж один, голубчик. Мне надо сначала кончить одно маленькое дело, а потом и я туда явлюсь.
Они собирались разойтись в противоположные стороны, когда Дмитрий Александрович окликнул мальчика:
— Ты не видел, Дима: здесь никто не проходил?
— Проходил. Только не здесь, а по трапу на лед, И пурги не побоялся.
Дмитрий Александрович остановился и внимательно посмотрел на Диму.
— Ты не ошибся, Дима? — спросил он серьезным тоном.
— Как ошибся? — ответил Дима. — Я ясно видел сквозь снег. Он очень быстро пробежал. Я даже подумал, не Георгий ли Николаевич. Доха очень похожа.
— Ты же сказал, что он спит в каюте!
— Ну да! Спал, когда мы с Плутоном выходили.
— Беги скорей к себе в каюту! Проверь, но не буди его. Я подожду тебя здесь. Плутона оставь со мной.
— Хорошо, Дмитрий Александрович. Плутон, останься!
Дима скрылся за штурманской рубкой.
Подавшись вперед, Дмитрий Александрович силился что-нибудь рассмотреть в кромешной белой мгле, бесновавшейся вокруг корабля, что-нибудь расслышать сквозь рев усиливавшегося ветра. Но ничего нельзя было разобрать в адском вихре за прозрачными стенами корабля.
Через минуту с левого борта донеслись голоса перекликающихся людей, топот ног и гул мотора. На борт поднимали какой-то тяжелый предмет.
"Левобортовый трап убирают", — с беспокойством подумал Дмитрий Александрович и оглянулся.
Из-за штурманской рубки вынырнул Дима.
— Ну что? — быстро спросил Дмитрий Александрович.
— Его нет в каюте, — задыхаясь, ответил мальчик. — И дохи его нет. И бинокля нет…
— Значит, это был он?
— Он, Дмитрий Александрович! — испуганно, заразившись тревогой Дмитрия Александровича, крикнул Дима. — Он был в дохе, с кисточкой на капюшоне! Я ни у кого не видел такой кисточки.
Дмитрий Александрович одним движением натянул на голову шлем своего электрифицированного костюма и бросился к трапу.
— Я побегу за ним! — крикнул он Диме на ходу. — Дай мне Плутона!
Не отдавая себе отчета в том, что делает, Дима тоже натянул на себя шлем и кинулся за Дмитрием Александровичем, крича:
— Я тоже! Я с вами! Плутон не пойдет без меня! Они сбежали почти одновременно с трапа все трое — Дмитрий Александрович, Дима и Плутон — и сразу потонули в воющем и крутящем снежном вихре.
— Давай руку! — прокричал Дмитрий Александрович. — В какую сторону он побежал?
— Направо! К корме! — с трудом выкрикнул Дима, не имея сил вздохнуть, так как ветер забивал ему рот и ноздри.
Молча, наклонив голову и крепко держа Диму за руку, Дмитрий Александрович бросился направо. Ветер накинулся на них, швыряя в лицо колючий снег и сбивая с ног.
Не отпуская руки Дмитрия Александровича, Дима спотыкался о неровный лед, проваливался по колено, опять поднимался и бежал дальше. Дмитрий Александрович шагал, сжав зубы, пронизывая глазами белую вертящуюся мглу. Через несколько шагов корабль пропал из виду, но неожиданно все вокруг озарилось странным молочно-сиреневым светом. Это вспыхнули восемь мощных прожекторов "Чапаева", но пользы от них было столько же, сколько от свечи. Дальше протянутой руки ничего нельзя было разобрать в снежной волнующейся пелене.
— Подальше от корабля! — крикнул изо всех сил Дмитрий Александрович, наклоняясь к Диме. — Там взломанный лед! Пошли вперед Плутона!
Ветер с яростным воем уносил слова вдаль. Дима слышал только далекое, неразборчивое "аи-яйя-а-а-у", но последние слова он понял.
Нагнувшись к Плутону, он прокричал:
— Вперед. Плутон! Ищи! Ищи! Георгия Николаевича! Георгия Николаевича! Ищи, Плутон!
Плутон взглянул на взволнованное лицо Димы и глухо залаял. Одним скачком он очутился впереди и, подняв кверху морду, внюхиваясь в воздух, начал кружить вокруг остановившихся людей, отбегал вправо и влево, скрываясь в белом вихре, и вновь внезапно появлялся у ног Димы — седой от снега, набившегося в его густую черную шерсть.
Дима прижался к Дмитрию Александровичу и, поднявшись на носки, прокричал:
— Вряд ли отыщет след! Снегу навалило!
— Тогда вернись с ним на корабль. Я один пойду.
— Нет, нет! Подождем! Он скажет.
Неожиданный порыв ветра с огромной силой вдруг ударил Диму в грудь в тот момент, когда он опускался на пятки, оторвал от Дмитрия Александровича и бросил в высокий, только что наметенный сугроб. В одно мгновение Дима бесследно исчез.
Дмитрий Александрович бросился туда, где только что стоял мальчик. Но на этом месте никого уже не было. Дмитрий Александрович громко звал Диму и полз на коленях вперед, широко разбрасывая руки.
Из пляшущей и ревущей белой мглы вдруг выскочил с приглушенным ревом какой-то чудовищный зверь и прыгнул на Дмитрия Александровича. "Медведь?" — мелькнула в голове мысль, и тотчас же он узнал собаку.
— Плутон! Плутон! — закричал изо всех сил Дмитрий Александрович. — Дима! Ищи! Ищи Диму!
И вдруг он почувствовал под рукой энергично барахтающуюся ногу, и перед ним появился белый шар с двумя блестящими точками. Это была голова Димы, сплошь залепленная снегом. Плутон, держа в огромной пасти его плечо, тащил мальчика из снежного сугроба.
— Держись крепче! — кричал Дмитрий Александрович, пытаясь подняться на ноги, но ветер, словно плотный водяной поток, наваливался на него и вновь бросал на снег.
Наконец ему и Диме удалось подняться и встать на ноги. С отрывистым лаем Плутон вертелся возле них, отбегал и вновь возвращался и наконец, схватив в пасть руку мальчика, потащил его за собой.
— Он что-то нашел! — кричал Дима Дмитрию Александровичу. — Он что-то нашел!
"Пойдем за ним!" — жестом показал Дмитрий Александрович.
Согнувшись и опустив головы, ложась грудью на ветер, как на доску, и крепко держась за руки, они побрели за Плутоном. Чтобы выдохнуть воздух, приходилось прикрывать нос рукой.
Плутон бежал впереди, подняв нос кверху и ловя какие-то одному ему заметные запахи, которые ветер приносил из белой ревущей пустыни.
Они с трудом прошли несколько метров, и перед Дмитрием Александровичем внезапно выросла высокая ледяная глыба, усыпанная смерзшимися обломками льда. Они с трудом обошли ее. За торосом было чуть потише и можно было перевести дух.
Дмитрий Александрович вынул из кармана электрический фонарь и привесил его себе на грудь. Яркий луч света пробил крутящуюся и свивающуюся снежную пелену на полметра. Дальше была сплошная белая стена.
Дима оглянулся. Ни "Чапаева", ни его прожекторов не было видно. Только снег и ветер, превратившийся в живое разъяренное существо, в хозяина ледяной пустыни. Два человека и собака были затеряны в этом диком царстве.
Плутон побежал в сторону, мимо тороса, исчез, через минуту вернулся и лаем позвал за собой. Передохнув, Дмитрий Александрович пошел за ним, спотыкаясь, падая, перелезая через крупные, засыпанные снегом обломки льда, увязая в сугробах.
Дима плелся за Дмитрием Александровичем, держась за его пояс. Через несколько шагов они наткнулись на остановившегося Плутона. Он повернул белую, залепленную снегом голову, посмотрел на них, словно приглашая за собой, и, внюхиваясь поднятым носом в плотный ветер, полез на груду наваленного льда. Люди карабкались по колючим обломкам, срываясь и поддерживая друг друга.
Внезапно оба, потеряв опору, свалились вниз и упали в высокий снежный сугроб, избитые и оглушенные. Горячий язык Плутона лизнул щеку мальчика, и Дима пришел в себя.
Внизу было сравнительно тише, словно в горной долине, защищенной от ветров. Вверху гудел, ревел и метался ветер, как зверь, упустивший добычу.
Отдышавшись, Дмитрий Александрович спросил:
— Ты не разбился, Дима?
— Нет, ничего. Стукнулся несколько раз, но не очень больно. Пойдем дальше, Дмитрий Александрович? Плутон уж, видно, знает дорогу. Видите, он беспокоится.
Огромный ньюфаундленд, действительно, опять начал бегать, усиленно нюхая воздух, словно требуя, чтобы люди следовали за ним.
Дмитрий Александрович сидел в снегу, молча опустив голову на грудь и изредка потирая подбородок, закрытый нижней частью шлема. Нагрудный фонарь бросал яркий свет на лицо Дмитрия Александровича, но Дима лишь смутно, сквозь густой вертящийся снег, мог различить его суровые, словно окаменевшие черты.
Наконец после долгого молчания Дмитрий Александрович поднял голову и сказал:
— Плутон ведет себя слишком уверенно. Или здесь вблизи действительно находится человек, или собака чует совсем другие запахи. Все-таки пойдем еще немного за ней. Там посмотрим.
Он помог Диме подняться. Мальчик чуть слышно, сжав зубы, застонал и схватился за бедро.
В кромешной беснующейся тьме, за воем ветра, Дмитрий Александрович не расслышал этого стона и не увидел искаженного гримасой боли лица Димы.
Они отряхнулись, пластами сваливая с себя снег, и двинулись за нетерпеливо лающим и оглядывающимся Плутоном. Дима шел, прихрамывая, с трудом поспевая за Дмитрием Александровичем.
Через три — четыре шага, скользя и проваливаясь в глубокие сугробы, они опять очутились перед грядой торосистого льда. Плутон, увязая в снегу по брюхо, полез на гряду, то скрываясь за огромными ледяными обломками, то вновь смутной тенью показываясь над ними.
Все время он оглядывался, непрерывно лаял, но его обычно оглушительный голос доносился чуть слышно.
Вдруг он опять исчез, и его лай, подхваченный ветром, шел теперь откуда-то снизу.
Дима и Дмитрий Александрович полезли на гряду, крепко держась за руки.
Словно обрадовавшись встрече, ветер с злорадной яростью, с воем и ревом неся тучи снега, обрушился на людей сразу со всех сторон. В одно мгновение он подхватил, как пушинку, Дмитрия Александровича, приподнял его и бросил вниз. Судорожно сжав руку Димы, Дмитрий Александрович покатился вниз, увлекая за собой мальчика по изломанному склону, туда, откуда доносился непрерывный лай Плутона. Дмитрию Александровичу удалось выставить вперед ногу, опереться о какой-то выступ и на минуту остановить стремительное падение. Но в следующий момент навалившийся сверху Дима сбил его и повлек дальше. Они с головой погрузились в высокий сугроб у подножья гряды. Беспомощно барахтаясь с забитыми снегом ртом и ноздрями, они безуспешно старались выбраться, но только выбивались из сил. Однако скоро пришла неожиданная помощь.
Плутон бросился к мальчику и начал рыть снег. Пес работал, нетерпеливо визжа и рыча, и, добравшись до плеч Димы, немедленно лизнул его щеку, потом схватил зубами свободную руку и начал тащить из сугроба. Отчаянно работая руками и ногами, жалобным голосом подбадривая Плутона, Дима наконец выкарабкался и сполз по склону сугроба вниз.
Одновременно с ним там оказался и Дмитрий Александрович, освободившийся из снежной трясины собственными силами.
Все трое, собравшись в тесный кружок, с трудом дышали. У Плутона высунулся из пасти длинный язык, бока ходили, как кузнечные мехи.
Уцелевший фонарь на груди Дмитрия Александровича слабо освещал сквозь густой снег истомленные лица людей и уставшую собаку, окруженных беснующейся и ревущей стихией.
— Хорошо, что слабый мороз! — прокричал Дмитрий Александрович, наклоняясь к лицу Димы и вглядываясь в него. — Кожа на лице заиндевела бы. Как ты себя чувствуешь?
Он отстегнул от рукава перчатку, снял ее и теплой мягкой рукой провел по лицу мальчика, попробовал, хорошо ли прилегает шлем у лба, щек и на подбородке, подсунул под шлем клок выбившихся волос. "Как Ира", — подумал Дима, и теплота от руки Дмитрия Александровича прошла ласковой волной по всему телу. Глаза Димы сами собой зажмурились, он потянулся и чуть заметно, на ходу, прижался лицом к мягкой и сильной ладони.
"Бедный мальчик, — подумал Дмитрий Александрович, поймав это мимолетное движение Димы. — Одиноко ему без семьи".
Он натянул перчатку на озябшие пальцы и, щелкнув кнопками, включил ток. Потом положил руку на плечо Димы, прижал его к себе и повторил:
— Как ты себя чувствуешь, Дима?
— Ничего. Хорошо, Дмитрий Александрович. Я не устал. Пойдем дальше… Георгий Николаевич заблудится…
— Пойдем, пойдем! Минут десять еще поищем. Потерпи. Если не найдем его, вернемся домой. Плутон доведет нас?
— Конечно! Конечно, доведет!
Сквозь свист и завывание ветра слова едва доносились до ушей даже здесь, в низине, под защитой нагроможденных ледяных глыб, но они понимали друг друга.
— Вперед, Плутон! — прокричал Дима, схватив Дмитрия Александровича за пояс. — Ищи! Ищи Георгия Николаевича! Георгия Николаевича!
С громким лаем и поднятой головой отдохнувшая собака бросилась вперед. Люди с трудом брели за ней, ежеминутно оступаясь и падая, проваливаясь в глубокий снег и карабкаясь через набросанные глыбы льда.
Они долго, с трудом шли, и Дмитрий Александрович, погруженный в свои мысли, не замечал, как все более тяжело обвисал на его поясе Дима. Внезапно тяжесть исчезла, и Дмитрий Александрович, потеряв равновесие, упал, больно ударившись коленом об острый выступ ледяного обломка.
— Что с тобой, Дима? — закричал он, быстро обернувшись.
Дима лежал ничком в снегу у ледяной глыбы. Он только что переполз через нее и, оступившись, упал. Мальчик делал слабые попытки подняться, но каждый раз со сдавленным стоном падал на снег. Свет фонаря мутно осветил его искаженное от боли лицо и застывшие в глазах слезы.
— Что с тобой? Что с тобой, голубчик? — повторял Дмитрий Александрович, осторожно поднимая Диму и усаживая его.
— Я еще раньше ушиб ногу… — приблизив губы к уху Дмитрия Александровича, сказал Дима. — Теперь опять… то же место… Очень больно…
— Где? Покажи.
Дима указал на левое бедро.
Направив фонарь, Дмитрий Александрович прежде всего осмотрел ткань костюма на этом месте. Костюм был в порядке, ткань и провода не порваны, стало быть угрозы отморожения не было. Дмитрий Александрович вздохнул и начал прощупывать кость. Она также оказалась цела.
— Домой! — решительно сказал он, поднимаясь с колен. — Скажи Плутону, чтобы вел к "Чапаеву".
— А Георгий Николаевич? — услышал Дмитрий Александрович сквозь вой ветра слабый голос Димы. — Он же заблудится.
— Плутон ведет нас к "Полтаве". Это для меня теперь совершенно ясно, Дима. Георгий Николаевич, наверное, ушел к ней. Ты можешь стать на ноги?
— Кажется, смогу.
Дима приподнялся с глыбы, но сейчас же со стоном упал на нее.
— Очень больно, — прошептал он, побледнев.
Дмитрий Александрович не расслышал слов, но понял мальчика.
— Скажи Плутону, чтобы вел домой! — громко повторил он.
— Плутон! Плутон! — закричал Дима. — Домой! Веди домой! Домой!
Вертевшийся все время возле Димы Плутон поднял на него глаза и, словно в недоумении, сел на задние лапы.
— Домой, Плутон! — опять закричал Дима. — Домой!
Плутон вскочил, еще раз внимательно посмотрел на мальчика и, медленно, непрерывно оглядываясь, словно проверяя, верно ли он понял приказ, пошел.
Дмитрий Александрович подхватил Диму и поднял к себе на спину.
Он не успел, однако, сделать и шага, как раздался оглушительный, перекрывающий рев бури грохот. Лед задрожал, застонал под ногами, огромные глыбы, срываясь с ближайших торосов, понеслись к их подножию в густых облаках снежной пыли. Едва устояв на ногах, Дмитрий Александрович успел увернуться от крупного обломка льда, ударившегося в глыбу, на которой только что сидел Дима. Плутон с испуганным лаем бросился к людям и прижался к ногам Дмитрия Александровича.
Сейчас же за первым ударом последовал второй, затем третий, самый сильный.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
ОДИН НА ЛЬДИНЕ
На льду творилось что-то невообразимое. Среди бешеного воя и свиста ветра в темноте с гулом катились, ударяясь друг о друга, огромные глыбы. Новые тучи снега поднялись и кружились в сумасшедшем вихре, лед под ногами людей, визжа и скрежеща, пришел в движение.
Позади, совсем близко, почти у их ног, по снежному белому фону пробежала извилистая черная змейка, быстро расширяясь и удлиняясь.
"Трещина", — промелькнуло в голове Дмитрия Александровича, и во всю силу своих легких он крикнул:
— Домой, Плутон! Домой!
— Что это? Что это? — испуганно спрашивал Дима.
— Скоро узнаем!
Дмитрий Александрович бросился вперед за Плутоном.
Дима забился, пытаясь вырваться и соскользнуть на лед.
— Я сам пойду! — кричал он. — Сам! Пустите! Дмитрий Александрович, дорогой… милый… Пустите! Я пойду… я могу…
— Лежи смирно, Дима, спокойно! Так будет скорее.
Дима затих, крепко обхватив плечи Дмитрия Александровича.
Плутон бежал, опустив голову вниз, то оглядываясь и поджидая Дмитрия Александровича с Димой, то с лаем бросаясь вперед.
Дмитрий Александрович шел нагнувшись, осторожно ставя ноги в расщелины между обломками, взбираясь на глыбы, одной рукой поддерживая Диму, другой хватаясь за ледяные выступы. Ветер яростно дул теперь в спину, толкал и гнал, грозя опрокинуть через голову, и ноги шли как бы сами собой, не поспевая за телом. По ветру, как оказалось, было гораздо трудней продвигаться, чем раньше против ветра.
Из ревущей белой пелены внезапно возникла гряда высоких торосов.
Плутон остановился, потом начал бегать взад и вперед вдоль нее, словно потеряв след, потом исчез в мятущейся снежной пелене.
Издали послышались глухие хлопки, через мгновение высоко вверху начали вспыхивать огненные, багрово-красные точки, рассыпавшиеся роем маленьких красных звезд. Хлопки и вспышки быстро следовали друг за другом в течение минуты, потом прекратились.
— Дмитрий Александрович, — встрепенулся Дима, — ракеты?
— Аварийные ракеты! — ответил Дмитрий Александрович. — "Чапаеву", видно, плохо. Что там теперь делается?! — с нескрываемой тоской прибавил он и через минуту, спуская Диму с плеч на высокую глыбу льда, сказал: — Посиди здесь немного, пока Плутон вернется.
Плутон долго не возвращался; иногда сквозь вой и грохот бури издалека доносился его короткий, приглушенный лай. Потом и он замолк. Что-то гремело вдали, снег хлестал, словно бичами, в лицо, ветер, неожиданно меняя направление, забегал то спереди, то с боков и яростно кидался на людей.
Они молча вслушивались в гремящую тьму: Дима, сидя на глыбе под навесом высокого тороса, Дмитрий Александрович — возле мальчика, прижимая его к своей груди.
У Димы внезапно сжалось и до боли заныло сердце.
— Плутон! Плутон! — отчаянно закричал он, вытягивая шею и прислушиваясь.
Но ветер подхватывал его крик, с торжествующим воем уносил, разрывая в клочья. И слова моментально глохли — казалось, тут же, вблизи.
— Он не может пропасть? Он не заблудится? — с тревогой спрашивал Дима и опять кричал изо всех сил: — Плутон! Плутон! Сюда! Ко мне! Плутон!
— Не беспокойся, Дима. Он слишком уверенно ведет себя.
Прошло пять, десять минут. Плутон не возвращался. Дима не находил себе места. Он уже сполз с ледянок глыбы и непрерывно, с едва сдерживаемыми слезами, срывающимся голосом звал любимую собаку.
Беспокойство стало закрадываться и в душу Дмитрия Александровича, он присоединил свой голос к голосу Димы.
Прошло пятнадцать минут. Дмитрий Александрович вынул из заднего кармана свой световой пистолет и поднял его кверху, готовый стрелять.
Вдруг из бушующей, ревущей снежной завесы совсем близко прозвучал знакомый короткий лай, и, чуть не опрокинув Диму, на грудь к нему бросился Плутон, весь белый, совершенно облепленный снегом. Казалось, животное потеряло от радости голову. Оно кружилось вокруг людей, бросалось на них, пыталось лизнуть Диму в лицо, непрерывно и весело лая. Наконец, успокоившись и тяжело дыша, с видом крайнего утомления, Плутон растянулся у ног мальчика, время от времени хватая горячей пастью снег.
Дима обнимал и прижимал к себе его огромную голову, заглядывал в глаза, забрасывал вопросами:
— Где ты был, Плутон? Куда ты пропал? Я боялся за тебя…
— Домой, Дима! Домой! — торопил Дмитрий Александрович, поднимая мальчика на глыбу. — Нельзя медлить!
— Плутон устал… — пытался возразить Дима.
— Нет времени отдыхать! Прикажи ему идти вперед!
И Дмитрий Александрович взял мальчика к себе на спину, готовый двинуться в путь. Голос Дмитрия Александровича был так властен и решителен, что Дима беспрекословно повиновался.
— Вперед, Плутон! Домой! Домой! — закричал он.
Плутон медленно поднялся и побрел, оглядываясь на Диму, вдоль гряды, в ту сторону, откуда только что появился.
Долго он вел людей за собой каким-то извилистым, одному ему известным путем. Ни одной более или менее высокой, труднопроходимой торосистой гряды не встречалось. Идти было значительно легче, чем раньше.
На ровном льду Дима молча сполз со спины Дмитрия Александровича и так же молча, но прихрамывая, пошел с ним рядом. Дмитрий Александрович подхватил мальчика под руку. Ветер гнал их теперь с такой силой, что иногда приходилось шагать, отбрасываясь назад и упираясь изо всех сил ногами.
Плутон шел совсем близко впереди, низко опустив голову.
Из крутящейся молочной мглы неожиданно донесся крик, потом другой. Плутон громко залаял, бросился вперед и на минуту исчез. Опять послышались крики, они переплелись с приглушенным лаем собаки, лай усилился, и внезапно из снежной пелены громадным скачком вынырнул Плутон и следом за ним фигура облепленного снегом человека.
— Дима! Дима! — кричал знакомый голос. — Это ты? Дмитрий Александрович! Откуда вы появились?
Иван Павлович сжимал мальчика в объятиях, тискал руки Дмитрия Александровича и сквозь свист ветра неразборчиво, как в бреду, выкрикивал:
— "Чапаев"… Какое несчастье! "Чапаев" взорвался… Исчез… Я тут один… Один!.. Какие ужасные взрывы!.. Бедный "Чапаев"!..
— Что с людьми? — схватив его за плечо, крикнул Дмитрий Александрович…
— Не знаю… не знаю… Я принимал на льду аварийные запасы… Со мной были ледорез Семенов, термотехник Матвеев и еще два человека… Они побежали к "Чапаеву"… оттаскивать грузы подальше, от него… И не вернулись… Не вернулись… Но вы где были? Как вы попали сюда?
При свете фонаря в мятущемся снежном вихре видно было лицо Ивана Павловича, его широко раскрытые, почти безумные глаза, вздрагивающая щека.
— Потом… Потом, Иван Павлович, — ответил Дмитрий Александрович. — Где же "Чапаев"?
— Исчез… Люди не вернулись… Я тоже побежал к "Чапаеву". Вдруг я заметил, что шар света, который окружал его в момент взрывов, стал быстро меркнуть… Как бы удаляться… Я чуть не свалился в воду возле ящиков и тюков. У края льда никого не было… Ни "Чапаева", ни людей. Шар света исчез… На воде плавали какие-то темные предметы. Он погиб! Пошел ко дну! "Чапаев" пошел ко дну… погиб!
Столько отчаяния и горя было в словах и глазах Ивана Павловича, что Дмитрий Александрович решил прекратить расспросы о корабле. Все уже стало ясным…
— Где грузы? — спросил он Ивана Павловича.
— Здесь, в десяти шагах отсюда. Пойдемте. Там вездеход. Можно укрыться от шторма.
Он взял Дмитрия Александровича за руку и потащил за собой. Держась за пояс Дмитрия Александровича, оглушенный ужасным известием, Дима, прихрамывая, последовал за ними. Плутон бежал, словно уже зная дорогу. Ветер ревел и гнал всех вперед, толкая в спину и сбивая с ног.
Через несколько шагов из серой крутящейся тьмы возник, словно гряда плоских торосов, длинный низкий холм, полузасыпанный снегом. Иван Павлович пошел вдоль него, и вскоре из мглы показались тусклые желтые пятна света. Через минуту Иван Павлович приблизился к небольшому возвышению, изнутри которого, как будто сквозь тонкую алебастровую вазу, пробивался слабый свет, а сзади поднимались кверху какие-то тонкие длинные тени.
Иван Павлович обошел этот снежный холмик, разгреб ногами снег и поднялся на три ступеньки. Что-то металлически звякнуло, раскрылась низкая, с прозрачной верхней частью дверь, и Иван Павлович сказал:
— Вот и вездеход. Входите.
Внутри кабина вездехода походила на длинную каюту со шкафами для продовольствия и снаряжения и маленькой электрокухней. У боковых стен тянулись мягкие диваны-лари, над ними, между окнами, висели откидные койки с постелями, прижатые сейчас к стенам. Посреди кабины находился маленький узкий столик, впереди, у смотрового окна, стояло кресло водителя.
Под крышей над столом горела электрическая лампа в матовом шаре.
Вьюга била в окно снегом, выла и металась снаружи, но внутри было тепло, уютно и светло.
— Надо бы спустить тамбур перед дверью… снегу нанесет в сани, — говорил Иван Павлович, в облаках снега и пара закрывая дверь за собой. — Я второпях не успел этого сделать, раздевайтесь, садитесь… Ох, горе, горе!
Дима в изнеможении, бледный, упал на мягкий диван.
Сняв с него пальто, Дмитрий Александрович прежде всего осмотрел ушибленную ногу. Кость была цела, и Дмитрий Александрович растер ушибленное место, положил компресс и сказал:
— Ничего серьезного, Дима. Полежишь спокойно, и пройдет. Раздевайся и ложись, мальчик, я помогу тебе.
Сняв электрифицированные костюмы, Иван Павлович и Дмитрий Александрович, измученные и усталые от всего пережитого, уселись на диван — возле Димы, а Плутон улегся впереди, у кресла водителя.
— Расскажите же, Иван Павлович, как это все произошло? — сказал Дмитрий Александрович, вытягивая ноги.
— Как рассказать, Дмитрий Александрович! — вздохнул Иван Павлович, сжав ладонями голову. — Ужасно! Ужасно! До сих пор не могу прийти в себя… — Он опять глубоко вздохнул и продолжал: — Я был у себя в каюте. Моя вахта только что кончилась, и я собирался отдохнуть перед ужином. Вдруг раздался потрясающий взрыв, меня выбросило, как мяч, из койки к двери. Все с грохотом и звоном рушилось вокруг. Я вскочил и бросился вон из каюты. Тут в коридоре меня настигли второй и третий взрывы, один другого сильнее. Меня швыряло от переборки к переборке, обо что-то я ушиб голову… Крики, стоны, вопли отовсюду… Я все-таки выбрался на палубу. Там уже были капитан, два его помощника, почти вся команда. Палубные стены были спущены, и весь корабль открыт. Среди воя ветра, в тучах снега люди метались по палубе. Я услышал команду о спуске вездеходов на левый борт и посадке на них пассажиров. "Чапаев" кренился все сильнее и оседал на корму. Тут капитан увидел меня и приказал взять людей, сойти на лед с правого борта, принимать аварийные запасы. Краны начали работать — выбрасывать грузы на лед. Мои люди принялись оттаскивать их подальше от корабля, а я их укладывал и укрывал от снега. И вот… люди не вернулись. Может быть, под ними подломился лед или они провалились в трещину… В такую пургу все случается. А может быть, их забрал какой-нибудь вездеход и ушел с ними. Хотя не думаю, они вернулись бы за мной. А "Чапаев" погиб… "Чапаев" пошел ко дну…
Сжимая руками голову, закрыв глаза, Иван Павлиний закачался на диване, точно от невыносимой боли.
С замирающим сердцем, в каком-то оцепенении слушал Дима рассказ моряка. Дмитрий Александрович, опустив голову, полузакрыв глаза, молчал, потом тихо, точно про себя, промолвил:
— Значит, не все нашли…
Пурга билась и выла за стенами, кузов вездехода дрожал непрерывной мелкой дрожью, по крыше шуршал снег и с мягким шелестом хлестал по стеклам.
Иван Павлович поднял голову.
— Но скажите мне, как вы-то попали сюда? Почему вы не на вездеходе со всеми пассажирами? Как я обрадовался, увидев Плутона! Я понял, что и Дима где-то здесь близко… Плутон схватил меня за руку, тянул, очевидно, к вам, потом исчез. Я долго кричал, звал его. И вдруг он снова появился — и вы за ним. Расскажите, Дмитрий Александрович…
Дмитрий Александрович продолжал молчать, рассматривая свои ногти. Черты его лица словно окаменели, губы были плотно сжаты, и Дима вновь почувствовал непонятную, влекущую силу этого человека.
Наконец Дмитрий Александрович медленно поднял глаза и тихим, ровным голосом спросил:
— Как вы думаете, Иван Павлович, отчего произошли взрывы на "Чапаеве"?
— Не знаю, Дмитрий Александрович, не знаю, — ответил Иван Павлович. — Может быть, среди грузов были взрывчатые или легко воспламеняющиеся вещества… Ведь взрывы произошли в средних грузовых трюмах…
— Вот как! Значит, дело проясняется еще больше… Иван Павлович, подняв брови, с изумлением посмотрел на Дмитрия Александровича.
— Проясняется? Еще больше? А что тут вообще ясного?
— Мы с Димой очутились здесь потому, что преследовали преступника, совершившего этот взрыв…
Бледный, испуганный Дима стремительно сел на диване и в первый момент словно лишился голоса. Потом, заикаясь, он пробормотал:
— Георгий Николаевич — преступник?..
Иван Павлович переводил недоумевающие глаза с Дмитрия Александровича на Диму и растерянно спрашивал:
— Преступник? Почему Георгий Николаевич? Простите… я ничего не понимаю…
Тем же тихим и ровным голосом, продолжая рассматривать свои руки, Дмитрий Александрович говорил:
— В разгар пурги Коновалов сбежал с "Чапаева" и скрылся в темноте. Мы с Димой бросились за ним. Плутон повел нас, очевидно, по его следам. Но собака слишком уверенно шла. Вряд ли она могла в такой пурге долго различать следы человека. Я подумал, что она чует запахи "Полтавы" и "Щорса", которые находились сравнительно недалеко, метрах в четырехстах-пятистах от "Чапаева".
— Правильно! — машинально заметил Иван Павлович.
— К этому времени Дима дважды ушиб ногу и не мог идти. Дальше рисковать жизнью мальчика я не мог. Тем более, что бегство Коновалова было бы бессмысленным, если предположить, что он ушел в сторону от кораблей, в глубь ледяного поля. Это было бы простым самоубийством. Единственной разумной целью его могла быть только "Полтава". Зачем он так стремился к ней, я тогда еще не понимал. И все же я решил вернуться, чтобы не подвергать опасности Диму и на "Чапаеве" связаться по радио с "Полтавой" и "Щорсом" до прихода к ним Коновалова… А теперь мне ясно и то, почему он так стремился к этим кораблям…
— Почему же? — продолжал недоумевать Иван Павлович.
— Потому что он искал там спасения, после того как привел в действие поставленные в трюме "Чапаева" адские машины80. На "Полтаву" он явился бы как спасшийся с погибшего корабля…
— Но позвольте… Тут какая то ошибка… недоразумение — растерянно заговорил Иван Павлович. — Ведь я же лично видел Коновалова, когда, по приказанию капитана, спускался вместе с моими людьми на лед. Коновалов бежал мне навстречу по трапу, поднимаясь со льда на корабль. Я был уверен, что его посылали за чем-нибудь на лед…
Дмитрий Александрович вскочил на ноги. Его губы побелели, кулаки сжались.
— Что вы говорите?! Значит, он остался на "Чапаеве"? Значит, это был обман? Поймите! Никто его не посылал на лед! Он сам сбежал с корабля. Дима его видел. Значит, он ушел с корабля лишь на время взрыва и потом вернулся, чтобы с оставшимися в живых пассажирами и командой спасаться на "Полтаве"… Не иначе… — Дмитрий Александрович говорил все тише, опускаясь на диван с поникшей головой. — Именно так… Он спрягался среди торосов недалеко от корабля и пережидал… пока мы его искали совсем в другом месте… Какая дьявольская хитрость!
Дмитрий Александрович вдруг замолчал, резко перебросил ногу на ногу и громко хрустнул сцепленными пальцами рук.
— Моя ошибка… — пробормотал он сквозь стиснутые зубы. — Это я виноват.
— Почему же это именно ваша ошибка? Кто вы? — нерешительно спросил окончательно сбитый с толку Иван Павлович.
Дмитрий Александрович машинально, почти непроизвольным движением, отогнул обшлаг на рукаве своей куртки. В свете яркой лампы на мгновение блеснул значок государственной безопасности.
— Я майор государственной безопасности Комаров… — глухо прозвучал голос Дмитрия Александровича.
Иван Павлович некоторое время неподвижно смотрел на Дмитрия Александровича с каким-то новым выражением любопытства и уважения.
Дима сидел, забыв о боли в ноге, о смертельной усталости. Он думал только об ужасных событиях, участником которых он неожиданно стал.
Молчание длилось долго.
Наконец Дмитрий Александрович встрепенулся и выпрямился.
— Ну, друзья мои, — сказал он, слабо улыбнувшись, — утро, говорят, вечера мудренее. Надо отдохнуть, поспать. Дима совсем истомился. Ночь уже проходит, снаружи как будто даже сереет. Да, кстати, Иван Павлович! Вы отсюда, из вездехода, не пытались говорить с "Полтавой"?
— Нет, Дмитрий Александрович, — ответил Иван Павлович. — Радиоаппараты должны быть отдельно, в аварийном запасе. Завтра, если пурга утихнет, при дневном свете попробуем довести вездеход до "Полтавы". Хотя… В своей каюте, еще перед взрывом, я взглянул на барометр: он упорно шел вниз…
— Ну ладно! Тогда спать! — заключил Дмитрий Александрович, устраиваясь на диване.
Иван Павлович спустил над Димой верхнюю койку, выключил свет, и скоро под монотонный вой ветра и шелест хлещущего снега в теплой, уютной кабине все погрузилось в сон…
Иван Павлович проснулся при сером свете наступающего раннего утра. Одновременно встал и Дмитрий Александрович. Лицо Ивана Павловича пожелтело и осунулось за ночь, вокруг глаз появились новые сеточки морщин. На лице Дмитрия Александровича видна была усталость. Он недовольно потер чуть потемневший подбородок и тихо сказал, оглядываясь на крепко спавшего Диму:
— Давайте, Иван Павлович, сходим посмотрим, что делается вокруг.
Они надели электрифицированные костюмы, включили в них ток, Иван Павлович с трудом открыл дверь, наполовину засыпанную снегом, и они вышли из кабины.
Ветер почти совсем стих, снег прекратился, и видимость была прекрасная. Все вокруг было покрыто белоснежным покровом, по небу неслись густые серые облака. Гряды торосов за вездеходом превратились в пологие снежные валы, отдельные ропаки едва возвышались из высоких сугробов.
Возле вездехода стоял высокий снежный холм. Дальше, шагах в тридцати, возвышался другой холм, поменьше. Прямо перед моряком и Дмитрием Александровичем далеко тянулась плоская снежная равнина, над которой где-то у горизонта серое небо окрашивалось а резкий темно-синий цвет.
Иван Павлович стоял у машины, словно приросший ко льду, и растерянно, почти испуганно оглядывался во все стороны.
— Что же это? — бормотал он. — Как же так? Где же "Полтава"? Где "Щорс"? Глядите… Ни "Полтавы", ни "Щорса"!
— Странно, — сказал Дмитрий Александрович, всматриваясь в ровную снежную даль перед собой. — И вы и мы с Димой сошли на лед с правого борта "Чапаева". Но ведь и с его левого борта на льду были торосы, ропаки, неровности, а слева от нас, подальше, стояли "Полтава" и "Щорс". Странно… — повторил он. — Теперь перед нами ровное снежное поле…
Вопросительно подняв брови, он оглянулся на Ивана Павловича.
Тот стоял, опустив голову, с внезапно постаревшим лицом и молчал.
Дмитрий Александрович положил руку ему на плечо:
— Что с вами, Иван Павлович? О чем вы задумались?
Иван Павлович медленно поднял на него глаза, и Комаров вздрогнул, посмотрев в них: глаза были пустые, усталые, покорные.
— Ледяное поле раскололось вдоль канала, проделанного "Чапаевым" — произнес Иван Павлович. — Нашу часть поля отнесло за ночь от другой части… У которой стояли "Полтава" и "Щорс"… Мы теперь одни на льдине в центре Карского моря…
ЧАСТЬ III
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
ЧУТЬЕМ ПО СЛЕДУ
Для решения задачи имелись, в сущности, четыре величины: три человека и один красный электромобиль.
Кто эти три человека — было известно. Но какое они имели отношение к Кардану? Комаров говорил, что, может быть, за Карданом стоит целая организация. Если так, необходимо найти ее центр, узнать ее цели. Судя по инструкции Комарова, Дмитрий Александрович пред полагает, что Кардан только исполнитель, правда как будто не из второстепенных. Следя за ним, можно вернее и быстрее добраться до центра, узнать задачи, размеры и состав организации.
Но если Иокиш, Акимов и Гюнтер тоже члены этой организации, то почему нельзя через них добраться до ее центра? Комаров будет действовать одним путем, а здесь можно попытаться идти другим. Нет сомненья, что это дело имеет общегосударственное значение. Комаров знает, за что берется. Недаром он бросил ради этого все остальное. А может быть, раскрыть это дело удастся здесь, в Москве, и именно ему, Хинскому.
Хинский даже покраснел при мысли о возможности такой удачи, но в следующий момент, нахмурив густые брови, вскочил с кресла. Фу, как он глупо размечтался! Не фантазировать нужно, а думать о деле!
Лейтенант прошелся по знакомой до мелочей комнате, с которой связано столько воспоминаний. Он перешел работать сюда, в кабинет Комарова, по желанию самого Дмитрия Александровича.
Да… Так, значит, Иокиш, Акимов, Гюнтер…
За Иокишем наблюдение продолжается. Новых результатов пока нет. К нему никто не ходит, он бывает только в институте, где читает лекции. Надо ждать более полных и точных сведений о нем, о его связях с Акимовым, Гюнтером и с теми, кто скрывается за их спиной. А Дмитрий Александрович тоже ждал бы? "Будьте терпеливы и настойчивы", — сказал он в своей инструкции.
Хинский выдвинул ящик стола, вынул из него круглую коробочку с желтоватой полупрозрачной и туго смотанной лентой, испещренной едва заметными волнистыми штрихами. Он развернул эту ленту до половины, вложил ее в звуковую часть диктофона и нажал красную кнопку на ящике аппарата.
Из черного раструба послышался знакомый мужественный голос. Хинский порывисто наклонился к раструбу, его глаза потеплели, губы тронула мягкая улыбка.
Голос Комарова звучал просто и задушевно, как всегда, когда Дмитрий Александрович обращался к своему молодому ученику и другу:
"Будьте терпеливы и настойчивы. Сосредоточьте внимание на наиболее важных направлениях, наиболее важных и подозрительных лицах, относительно которых у вас больше всего скопилось компрометирующего материала и на которых всего сильнее наводит вас чутье. Оно у вас есть, это чутье, доверяйтесь ему, но проверяйте, непременно проверяйте его указания точными фактами и материалами. И не забывайте второстепенных, на первый взгляд, направлений и лиц. Если вы сами слишком заняты, поручите наблюдение за ними помощникам. Помните: то, что сегодня вам кажется второстепенным, завтра может превратиться в самое важное…"
Хинский резким движением нажал зеленую кнопку, выключил аппарат, затем медленно поднялся.
Семь дней упорного наблюдения ничего не дали… Ну что же… Может быть, восьмой день что-нибудь принесет… Не восьмой — так девятый, десятый! Главное внимание — Акимову. А Иокиш? Значительным лицом в таких организациях не рискуют, превращая его дом в место для сборищ, в станцию для пересадки пассажиров… Пусть за ним продолжают наблюдать сержант Струнин и его четыре поста. За Гюнтером наблюдает сержант Киселев. Гюнтер тоже второстепенное лицо, иначе его не послали бы на большую дорогу для простой бандитской операции — похищать Кардана, то есть Коновалова… Теперь он уже Коновалов, значит заметает следы. Видимо, дело очень серьезное… Крупный зверь… как он прав, Дмитрий Александрович! Какое у него редкое, безошибочное чутье!
Где он теперь? Что с ним? По крупному зверю идет… отчаянному, зубастому… Один прыжок из поезда на ходу чего стоит! Эх, вместе бы с Дмитрием Александровичем уехать! Душа не болела бы… Ну-ну… А здесь кто будет работать?.. Итак, Акимова оставить за собой… Теперь второе важное направление: красный электромобиль — мальчик Дима — собака Плутон…
Хинский вновь вернулся к столу, достал из ящика две бумажки; зашифрованную цифрами радиограмму и расшифрованный текст ее, и начал внимательно вчитываться.
"Русская Гавань". Москва. Почтовый ящик ВК 04672. Хинскому. Кардан на "Чапаеве". Едет по документу, выданному на имя Коновалова Георгия Николаевича, раздатчика грузов ВАРа. С ним из Москвы мальчик Дима — Вадим Павлович Антонов — с собакой, большим черным ньюфаундлендом, кличка Плутон. Мальчик направляется к отцу в шахту номер шесть в сопровождении Коновалова. Очевидно, Коновалов предполагает перейти в эту шахту. Осторожно выясните в ВАРе личность Коновалова, кому он там известен, кто направляет его в шахту, цели его командировки. Следую за ним. Ответ по условному адресу. Желательно до прихода "Чапаева" к шахте — числа десятого — двенадцатого. Ледовые условия в пути ожидаются тяжелые. Привет. Желаю успеха. Комаров".
Прочитав радиограмму, Хинский задумался, потом отпер другой ящик стола и вынул из него папку с исписанными листами бумаги, фотоснимками, распрямленными лентами визетонписем и кинокадров. Из одного конверта он достал помятый обрывок страницы журнала, найденный в красном электромобиле. Обрывок был покрыт каким-то блестящим прозрачным составом. Несколько фотоснимков его с непомерно большими буквами печатного текста лежали здесь же. Не было сомнений, что фотоснимки произведены под многократным увеличением и должны были обнаружить на обрывке какие-то детали, незаметные невооруженному глазу. И действительно, на полях некоторых снимков можно было рассмотреть довольно ясные, хотя и прерывистые узоры извилистых линий, характерные для отпечатков человеческих пальцев. Под одним из фотоснимков была надпись: "Дактилоскопический снимок № 57805. С документа № 04–ВР–1481. Отпечатки указательного и среднего пальцев левой руки мальчика лет 13–14. Занимается физической работой или гимнастикой на снарядах. Дактилоскопист Лебедев". Под другим фотоснимком стояла надпись того же Лебедева: "Дактилоскопический снимок № 57806. С документа № 04–ВР–1481. Отпечатки большого и указательного пальцев правой руки мужчины лет 33–35". На третьем снимке, судя по надписи, был отпечаток среднего пальца того же человека.
Внимательно рассмотрев оба последних снимка, Хинский положил рядом с ним и снимок с какой-то черной дуги, похожей на отрезок правильного круга. Возле густого сплетения множества перепутавшихся оттисков на маленьком свободном пространстве поверхности черной дуги четко выделялся один оттиск человеческого пальца. Под фотоснимком была надпись Лебедева: "Дактилоскопический снимок № 57808. Отпечаток большого пальца левой руки мужчины лет 33–35. Снимок с документа № 04–ВР–1485 — дуги рулевой баранки электромобиля № МИ 319–24. Дактилоскопист Лебедев".
Хинский откинулся на спинку кресла. В конце концов все расследования дали только одну новую деталь — дактилоскопические снимки. Бедный сержант Васильев! Трудная дана ему задача. Вокруг новоарбатского гаража, в радиусе пятисот пятидесяти метров, множество улиц и переулков… Масса материалов вокруг электромобиля, но не его пассажиров…
Хинский вздохнул, поднялся из-за стола и взял фуражку.
"Ну что же, — подумал он, сдувая пушинку с околыша, — займусь Акимовым. Кажется, это будет вернейшая дорога и к электромобилю".
Он надел фуражку, погасил свет и вышел из комнаты.
* * *
— Вы говорите, что вскоре он получил повышение? Очевидно, его предшественник не оправдал ваших ожиданий?
Директор завода развел руками:
— Не только моих. Это была грустная история. Ирина Васильевна Денисова очень дельный инженер. И надо же было случиться такому несчастью! Вы, может быть, слышали об аварии на арктическом строительстве? Шахта номер три, летом прошлого года… Эта авария наделала много шуму.
Хинский утвердительно кивнул головой и опустил глаза: он боялся выдать волнение, внезапно охватившее его.
— Там разорвало мощный насос пульпоотводной системы, — продолжал директор. — Насос оказался дефектным и не выдержал огромного давления. Произошла катастрофа, погиб человек. Насос был выпущен нашим заводом. Ирина Васильевна была ответственна за качество продукции. Дело расследовали специальные комиссии — злого умысла не нашли. Машины, как доказали контрольно-измерительные приборы, были в тот день не вполне исправными, а наблюдатели при этих машинах — не вполне опытными. Ирина Васильевна слишком доверилась им. Пришлось ее сменить. На ее место мы назначили товарища Акимова, человека опытного, прекрасного рационализатора.
— Вот как! Всего этого я не знал… А после назначения Акимова на вашем заводе никаких недоразумений или брака больше не было?
— Как вам сказать… — замялся директор. — Брак бывает. Но мы его или сами обнаруживаем, или контрольные пункты на складах ВАРа задерживают и возвращают. Там теперь установили очень строгие условия приемки.
— Денисова продолжает работать на вашем заводе?
— Да, конечно! Ирина Васильевна слишком ценный работник, чтобы завод отказался от нее. Она сейчас руководит тем же литейным цехом, которым раньше ведал товарищ Акимов.
— Денисова подчинена Акимову?
— Акимов — начальник производства всего завода, в том числе и литейного производства.
— Простите, мой вопрос, может быть, не совсем делового характера, но он имеет некоторое значение…
— Пожалуйста, пожалуйста! Не стесняйтесь…
— Не заметили ли вы, какие личные отношения установились между Денисовой и Акимовым?
— Личные отношения? Как будто хорошие, товарищеские. Константин Михайлович очень ценит Ирину Васильевну, уважает ее. Он не раз говорил мне об этом. Вот только месяца два назад между ними произошло недоразумение.
— Вот как! Что же именно?
— У нас на работе заболел контролер-выпускающий. Его увезли домой, и я попросил Ирину Васильевну заменить на час — два заболевшего, пока приедет смена. Ирина Васильевна на контрольном пункте заметила довольно значительный брак и задержала его. Акимов отменил ее решение. Денисова опротестовала передо мною вмешательство Акимова. Пришлось мне заняться этим делом и мирить их. А брак между тем ушел из завода, и мы его теперь ищем…
— Значит, права была Денисова?
— В значительной части брак, задержанный Ириной Васильевной, оказался сомнительным, но лучше было бы все-таки не выпускать его из завода.
— А в остальной части?
— Там был явный брак, и Ирина Васильевна была безусловно права.
— И как реагировал на это Акимов?
— Он, конечно признал брак, расследовал причины его появления, и, по докладу Константина Михайловича, я объявил порицание двум цеховым наблюдателям…
— Вы не помните их фамилий и в каких цехах они работают?
— Филимонов и Девяткин из сборочного цеха.
— Так… — сказал Хинский, занося эти фамилии в свою записную книжку. — И после этого между Акимовым и Денисовой испортились отношения?
— Я не сказал бы, что испортились. Константин Михайлович продолжает быть очень предупредительным и по-прежнему высоко ценит Ирину Васильевну, но мне кажется, что она стала с ним как-то сдержаннее, суше. Я полагаю, что в этом сказывается разница в их возрастах. Константин Михайлович — человек пожилой, с большим жизненным опытом. Он, видимо, не принимает так близко к сердцу все эти мелкие и обычные деловые столкновения. А молодая, непосредственная, горячая Ирина Васильевна, очевидно, не в состоянии мириться с ними и переносит их сейчас же на личную почву.
— Да… Понимаю… — задумчиво произнес Хинский. — Скажите, нельзя ли мне… конечно, как-нибудь так… инкогнито… поговорить лично с Денисовой и с ее помощью познакомиться с работой литейных цехов?
— Пожалуйста. Только, к сожалению, сейчас это невозможно. Ирина Васильевна дней шесть назад взяла на заводе отпуск для устройства личных дел. У нее в семье разные огорчения, и ей пришлось куда-то уехать. Она вернется через три дня — тогда пожалуйста.
— Ну что же! — заметил Хинский. — Три дня я могу подождать. За это время, я думаю, можно будет познакомиться с цехами, хотя бы и в ее отсутствие? Не правда ли?
— Конечно. Я попрошу сюда ее заместителя, товарища Кантора, и познакомлю вас.
— Отлично. Буду вам также очень благодарен, если вы дадите мне возможность просмотреть материалы обеих комиссий, которые расследовали это дело.
— Всегда готов помочь вашей работе. Директор пододвинул к себе настольный телевизефон и набрал какой-то номер.
* * *
За эти три дня Кантор показал себя очень талантливым лектором и проводником. Но и слушатель оказался вдумчивым, пытливым и притом чрезвычайно оригинальным. Объясняешь ему, например, назначение и работу какого-нибудь контрольно-измерительного прибора у центробежно-отливочной машины, а он задает свои вопросы — и все какие то необычные, даже, можно сказать странные: всегда ли приборы показывают правильно, в каких случаях они врут, бывает ли так, что машина вы пускает брак, а приборы не отметят это?..
Да, были, конечно, такие случаи с этой машиной, только лучше о них не вспоминать. Он, Кантор, здорово тогда поплатился. И не он один, даже Ирина Васильевна, которая была в то время начальником производства завода. Если бы товарищ Акимов пришел сюда хоть на один день раньше, ничего бы этого не было…
— Ах, вот как! Когда же он вступил в исполнение обязанностей начальника цеха?
— Как раз в тот злосчастный день, когда машина закапризничала и начала вываливать на мою голову брак.
— Ну, все-таки, — не отставал Хинский. — Как же это произошло?
Право, можно было в отчаяние прийти от такой настойчивости гостя. И надо все-таки отвечать. Директор просил полностью и возможно подробнее удовлетворять любознательность товарища, чего бы она ни касалась.
Как это произошло?.. Он, Кантор, был тогда малоопытным работником, почти без практики, и его товарищ по цеху — тоже. Начальника же цеха не было. Ирине Васильевне, руководившей тогда производством всего завода, приходилось временно замещать и начальника цеха. Трудно ей было. Ну вот… В тот день — непонятно, каким образом, вероятно по его, Кантора, оплошности — в машину попал воздух. А выгнать его полностью Кантор не сумел. Получились подряд два бракованных поршня. А тут как раз пришла Ирина Васильевна и представила нового начальника цеха — Акимова. Надо было тут же попросить помощи. Так нет! Какое-то дурацкое самолюбие заговорило, не хотелось лицом в грязь ударить перед новым начальником. А в результате — катастрофа на шахте… человек погиб… Его, Кантора, оставили все-таки здесь, на работе… учиться… А вот Ирину Васильевну понизили в должности, хотя виноват скорее он. Кантор… До сих пор невозможно забыть, невозможно смотреть ей прямо в глаза.
Кантор вздохнул.
— Да… — заметил Хинский помолчав. — Но как попали эти два бракованных поршня в, производство?
— Они и не попали туда, а пошли на склад бракованной продукции. Это показали автоматические счетчики склада. Но машина выпустила еще четыре сомнительных поршня, насчет которых показания дефектоскопа были смутны, неясны, и приборы из-за этого пропустили их на транспортер, а не положили на электрокар брака…
— Но ведь вы, зная, что машина неисправна, вероятно, следили за дефектоскопом и могли заметить, что с ним творится что-то неладное?
Кантор недоумевающе посмотрел на Хинского. Что это за человек? Что за вопросы? Куда он гнет? Странная любознательность…
— Н-не знаю, что вам на это ответить, товарищ. Возможно, что дефектоскоп только начал портиться и у меня еще не было причин пристально следить за ним. Но возможно, что это произошло уже после выпуска первого брака и после моих попыток исправить машину. А следить за дефектоскопом я уже не мог. Меня в этот момент вызвал директор для объяснений по поводу этого брака.
— Значит, ваш товарищ остался у машины вместо вас?
— Нет, его тоже не было. Я послал его в библиотеку за справкой по поводу этого случая. Здесь оставался тогда товарищ Акимов.
— Акимов? Он был здесь с товарищем Денисовой?
— Нет! После того как Ирина Васильевна представила ему нас, он бегло ознакомился с цехом, потом оба они ушли дальше по заводу, а через некоторое время Акимов вернулся сюда один.
— Так… Понимаю… Но скажите, товарищ Кантор… Вы меня простите, может быть, это не имеет прямого отношения к работе дефектоскопа и скорее относится к вопросу о заводской дисциплине… Так вот, разве вы могли бы разрешить мне, постороннему человеку, остаться здесь одному при машинах?
— Прошу прощения, в свою очередь. Но вы сами сказали, что вы посторонний человек, а товарищ Акимов был мне представлен Ириной Васильевной в качестве нового начальника цеха, то есть моего прямого начальства. Какое же тут может быть сравнение? И при чем тут заводская дисциплина?
— Да, да! Я совершенно упустил это из виду. Конечно, вы совершенно правы. Но вернемся к дефектоскопу. Как же вы его исправили? Как вы прекратили выдачу брака? Как вновь наладили машину?
Уступчивость Хинского и переход к технической стороне вопроса несколько успокоили Кантора. Ему даже показалось, что он был слишком резок с гостем.
— Видите ли, — примирительно сказал он, — должен вам чистосердечно сознаться, что как машину, так и дефектоскоп наладил не я. За двадцать — тридцать минут моего отсутствия это сделал именно Акимов. Посторонний, как вы изволили заметить, человек. И заметьте — он сделал это на ходу, не останавливая машины, не внося дезорганизации в работу всего завода! Вот что значит опыт, практика!
— Да… Действительно, видна рука специалиста, — согласился Хинский, но сейчас же, лукаво улыбаясь, спросил: — А почему вы, собственно, так уверены, что Акимов не останавливал машину? Это он вам так сказал?
— Ну, зачем же? Если бы даже он и не говорил, то это показал бы счетчик машины. Ежедневный итог счетчика мы записываем в цеховой журнал, и если бы машина стояла хотя бы пять — десять минут, это сразу бросилось бы в глаза.
— Сколько же поршней, хотя бы приблизительно, могла выпустить машина за эти полчаса?
— Не приблизительно, — чуть обиженно ответил Кантор, — а совершенно точно могу сказать: шесть штук, по пять минут на поршень.
— Кажется, на каждом поршне сама машина выбивает его выпускной номер?
— Конечно!
— И на бракованных экземплярах тоже?
— Разумеется.
— А можно узнать номера этих бракованных экземпляров?
— Можно, по специальному "Журналу брака". Мы в нем подробно отмечаем время и причины появления брака, номера бракованных экземпляров, меры, принятые для устранения брака.
— Любопытно. Порядок, достойный всяческой похвалы. Нельзя ли посмотреть этот журнал?
Перелистывая тощую книжку журнала, Хинский остановился на странице, которая особенно заинтересовала его.
— № 848 и № 849? Это именно те поршни, которые машина выпустила в вашем присутствии и которые затем пошли на склад брака?
— Совершенно верно.
— Значит, те сомнительные четыре экземпляра, о которых вы раньше сказали, могли иметь номер или непосредственно до № 848, или следовать сейчас же за № 849?
— Да… Но простите, товарищ… Что вас, собственно, интересует у нас? Технические вопросы или постановка учета на нашем заводе?
— И то и другое, — ответил Хинский, не поднимая головы и внося что-то в свою книжку.
— Зачем же это вам? — не удержался Кантор.
— Простая любознательность, — последовал равнодушный ответ.
Хинский встал, закрыл журнал, спрятал записную книжку в карман и, улыбаясь, протянул руку:
— Очень вам благодарен, товарищ Кантор. Простите, что отнял у вас столько времени. Больше мне пока ничего от вас не надо.
Хинский дружески кивнул Кантору и направился к двери.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
ДНИ ГОРЯ И РАДОСТНЫХ УДАЧ
Очутившись в кабинете Ирины, Хинский вдруг почувствовал себя до странности неловко, скованно и не знал, с чего начать разговор.
Ирина встретила его приветливо, но молодой лейтенант видел, что на ее лице лежит отпечаток усталости, что глаза ее как бы пусты, глядят мимо, а опущенные углы рта неестественно старят ее молодое лицо.
"Семейные огорчения… — вспомнил Хинский слова директора, и ему стало жалко девушку. — Лучше без прелюдий, прямо к делу… Это отвлечет ее".
— Товарищ Денисова, — начал он, — вас, кажется, предупредил уже обо мне директор?
— Да, да, — ответила Ирина. — Пожалуйста. Чем я могу быть вам полезной?
— За последние три дня перед вашим приездом я успел ознакомиться с литейным цехом, с его технологическим процессом, машинами и аппаратурой. Но некоторые детали еще неясны мне, и я буду вам очень благодарен, если вы поможете мне понять их.
— Слушаю вас.
— Меня интересует работа дефектоскопа центробежно-литейной машины и других ее контрольно-измерительных приборов. Каким образом при их наличии машина все же выпускает иногда брак? Ведь приборы эти следят за всем технологическим процессом — от первой стадии до последней. Больше того — вся работа машины так идеально автоматизирована и, если можно так выразиться, самоконтролируется, что, скажем, при получении негодного материала из мартеновского цеха она может самостоятельно, автоматически отказаться от его приема. А между тем брак, хотя и в ничтожных размерах, нет-нет да выпускается. В чем тут дело?
— Понимаю ваше недоумение, — слабо улыбнулась Ирина, и в глазах ее мелькнул отблеск живого интереса. — Понимаю… Вы правильно оценили машину. И возлагать на нее ответственность за брак, в любых случаях его появления, будет нечестно. В браке всегда виноват человек, руководящий машиной. В примере, который вы привели, виноваты мы и виноваты сознательно. Мы не даем машине останавливаться при поступлении случайной порции негодного расплавленного металла из мартеновского цеха. Ведь остановка нашей машины дезорганизует работу всего завода, которая строго согласована. Мы предпочитаем выпустить одну — другую заведомо бракованную деталь, лишь бы не останавливать для ремонта машину и тем самым все другие связанные с ней механизмы. Но пока машина выпускает этот брак, который все равно в производство не пойдет, а автоматически отправится на склад бракованных изделий, мы всегда можем на ходу или исправить повреждение, или сигнализировать мартеновскому цеху, что материал идет негодный, не стандартный. Впрочем, и это делает автоматически сама машина.
— Но в таком случае часть завода, связанная с вашей машиной, все равно будет работать впустую, не получая от вас необходимого материала для своей работы — ни доброкачественного, ни бракованного!
— Нет! То гнездо в транспортере, которое осталось пустым, проходя на своем пути через контрольный пункт, заденет рычажок сигнализатора, и он пошлет сигнал на склад запасных деталей. Склад автоматически пошлет по своему транспортеру доброкачественную деталь в пустое гнездо первого транспортера, перехватив его по дороге, и работа других машин не нарушится.
— Какой сложный и замечательно слаженный организм — ваш завод! — не мог скрыть своего восхищения Хинский.
— Наш завод почти полностью автоматизирован, — улыбаясь и с обычной в таких случаях гордостью ответила Ирина.
На бледном лице ее появилась легкая краска, глаза оживились.
"Вот и жизнь вернулась… — подумал Хинский, не сводя глаз с Ирины. — Славная девушка…"
— Вы сказали, товарищ Денисова, что в ошибках машины всегда виноват человек. В чем же он виноват? Заинтересовавшись этой стороной дела, я просмотрел цеховой "Журнал брака". Возьмем наудачу любой из происшедших у вас случаев. Их так мало, что вы их, вероятно, помните. Ну вот, например, выпуск двух бракованных поршней под номерами 848 и 849. Кто виноват в их выпуске и в чем конкретно его вина?
Ирина опустила глаза, с ее лица медленно сошел румянец. С минуту она помолчала, видимо справляясь с охватившим ее волнением, потом снова взглянула на Хинского.
Все, что она рассказала затем — история бракованных поршней и причины их появления, — было уже хорошо известно ее собеседнику.
— Так… — медленно протянул Хинский. — Товарищ Кантор рассказал мне любопытный случай, показывающий, как дефектоскопы способны все-таки пропускать недоброкачественную продукцию. Это произошло, с теми четырьмя поршнями, которые последовали за двумя, явно бракованными, о которых мы сейчас говорили. Что тут, по-вашему, могло произойти с дефектоскопом?
— Мы до сих пор сами не знаем, что именно с ним произошло и чем объяснить этот случай.
— Но вы пытались разобраться в нем? Я думаю, что этот случай очень интересен и с теоретической и с практической точки зрения. Тут, мне кажется, очень помог бы эксперимент, то есть сознательное повторение этого процесса в искусственных условиях. Как вы думаете?
— Не знаю, товарищ Хинский. Мы не производили таких экспериментов.
— А жаль… Такое исследование в лабораторных условиях было бы очень полезно.
— Да, пожалуй, — согласилась Ирина.
— А вообще-то говоря, как вы думаете, можно произвести такой эксперимент? Ну, скажем, тут же, в вашем цехе, вы могли бы при мне исказить показания дефектоскопа так, как это произошло тогда?
Задача, по-видимому, заинтересовала Ирину. Она задумалась, в глазах отразилась напряженная работа мысли.
— Любопытно… — тихо, точно про себя, говорила она, — действительно, очень любопытно…
Хинский молча наблюдал за Ириной, за бессознательной игрой ее глаз, за меняющимся выражением лица.
Вдруг Ирина улыбнулась, перевела глаза на Хинского и, слегка смущенная его пристальным взглядом, сказала:
— Нашла! Мне кажется, я сумею это сделать!.. Пойдемте в цех! Я сейчас же попробую…
Она вскочила и, не оглядываясь, быстро направилась к двери, ведущей из кабинета в тихо гудящий цех.
Хинский встал, готовый следовать за ней.
В этот момент радиочасы громко сыграли коротенькую мелодию: восемнадцать часов.
Хинский остановился на первом же шагу. Как быстро и незаметно пролетело время! В восемнадцать тридцать назначен его доклад у капитана Светлова.
— Простите, Ирина Васильевна, — остановил он девушку. — Мне очень жаль, но через полчаса я должен явиться на важное свидание. Я едва успею. Мне страшно жаль, что не смогу присутствовать при этом интереснейшем эксперименте. Разрешите мне завтра опять увидеться с вами и узнать, чем он кончился.
— Пожалуйста, — держась за ручку двери, сказала Ирина, уже мысленно стоявшая у машины.
— В четырнадцать часов. Не возражаете?
— Пожалуйста. Я буду здесь.
Посторонний человек нашел бы довольно невежливым такое прощание хозяйки со своим гостем. Но молодой лейтенант, видимо, был на этот счет другого мнения, так как не скрывал своего явного удовольствия и тихонько посвистывал, выходя на заводской двор.
* * *
Эксперимент долго не удавался. Приходилось, не прекращая работы машины, следить за правильными показаниями дефектоскопа о качестве каждого изготовленного поршня и лишь после этого производить опыт искажения показаний.
Лишь поздно вечером, возбужденная и радостная, Ирина получила наконец первые положительные результаты: рентгеноснимок дефектоскопа получился смутный, на нем нельзя было ничего разобрать. После этого она сознательно впустила в машину немного воздуха.
Кантор в полном недоумении следил за Ириной. Но на все его вопросы следовал один ответ: эксперимент.
Из машины вышел новый, сверкающий чистотой отделки поршень — без тревожного звона, без полосы краски. Дефектоскоп, на время искусственно изолированный от всего, что происходило внутри машины, не смог сигнализировать о явном браке.
Около полуночи взволнованная и усталая Ирина вернулась домой.
Но за ночь этот туман рассеялся, горе вернулось, и душа Ирины вновь заныла от боли. Где Дима? Что с ним? Жив ли? Здоров ли?
Грустная и подавленная, она работала в своем кабинете, поджидая Хинского.
Лишь на короткое время ее вывело из этого состояния сообщение утреннего выпуска "Радиогазеты" о трагической гибели во льдах ледокола "Чапаев", о спасении почти всей команды и пассажиров, кроме четырех погибших и трех пропавших без вести. Фамилии этих людей были Ирине неизвестны. Но она огорчилась за Лаврова, подумала, какой это удар для него, и позвонила ему. Автомат-секретарь сообщил ей, что Лаврова нет в Москве и что он через день-два вернется. Ирина подивилась сама на себя: как она могла забыть, что действительно Лавров третьего дня улетел из Москвы на обследование каких-то заводов!
Ровно в четырнадцать часов послышался стук в дверь, и чей-то незнакомый хриплый голос спросил:
— Можно?
— Войдите!
Вошел Хинский. Ирина испуганно откинулась на спинку кресла. Хинский был неузнаваем.
За одну ночь, казалось, тяжелая, изнурительная болезнь состарила его. Черты бледного, словно воскового лица обострились, плечи ссутулились как будто под тяжестью горя.
— Разрешите… — пробормотал он, опускаясь в кресле и забыв даже поздороваться с Ириной.
Ирина молча кивнула головой. После минуты растерянного молчания она нерешительно и тихо спросила:
— Что с вами, товарищ Хинский? Что-нибудь случилось? Вы больны?
— Так, знаете… Несчастье… Личное несчастье, — тихо ответил Хинский. — Вы слышали сегодня радиосообщение… о гибели "Чапаева"?
— Да, слышала.
— Там был мой лучший друг… мой начальник и второй отец…
— Погиб? — слабо вскрикнула Ирина.
— Не знаю, — горестно развел руками Хинский. — Пропал… без вести…
— Там три фамилии…
— Его фамилия Комаров…
— Да, да… — с глубоким участием в голосе сказала Ирина. — Помню… Но зачем думать сразу о худшем? В сообщении ничего не говорится о его гибели. Может быть, он остался где-нибудь на льду… Через день-два его отыщут… Ведь уже, наверное, идут поиски! Не надо смотреть так безнадежно. В сущности, для этого нет никаких оснований…
— Вы так думаете? — с пробудившейся надеждой спросил Хинский. — То же самое говорит и капитан Светлов… Это мой… приятель… хороший знакомый… — объяснил он.
— Ну, вот видите, — тепло улыбнулась Ирина. — И все, конечно, так думают. Место гибели "Чапаева" известно в точности. Далеко от этого места оставшимся там людям уходить некуда. Вот увидите, через несколько дней наши полярные геликоптеры благополучно отыщут их.
— Вы знаете, Ирина Васильевна, — оживленно повернулся к ней Хинский, — я считаю, что самое главное здесь — это быстрейшая организация розысков. И я надеюсь, что министр сделает все, чтобы ускорить их. А теперь перейдем к делу. Как кончились ваши эксперименты, Ирина Васильевна?
— Я считаю, что очень удачно. Я нашла некоторые условия, при которых дефектоскоп не в состоянии следить за процессами, происходящими внутри машины в то время, когда она выпускает брак.
— Правда? Это действительно удача. Как же вы достигли этого.
— Я нашла два метода. Не знаю, может быть есть и другие… Первый заключается в том, что дефектоскоп до необходимой степени изолируется от этих процессов, на него как бы надеваются темные, мутные очки. Настолько мутные, что сквозь них почти ничего нельзя разобрать. И снимок он будет выдавать более яркий или более мутный — пожеланию оператора…
— А второй способ?
— Второй способ… — начала Ирина, но закончить не успела.
Тихий гудок телевизефона прервал ее.
— Простите… одну минуту… — сказала она Хинскому и включила экран.
В его овале появилась голова директора, чем-то явно взволнованного. Бросив мимолетный взгляд на Хинского, он глухо произнес:
— Здравствуйте, товарищи. Ирина Васильевна, будьте добры зайти ко мне сейчас же… Да… Извинитесь перед товарищем Хинским, но дело очень срочное. Я вас недолго задержу.
— Хорошо, Виктор Андреевич. Сейчас буду у вас.
Оставшись один в кабинет, Хинский задумался: "Нет, это совсем не так просто. Зачем строить иллюзии, зачем обманывать самого себя? Столько же шансов за то, что Комаров остался на льду, сколько и за то, что он погиб… Ведь был страшный взрыв…"
За дверью, сквозь тихий гул работающего цеха, послышались твердые шаги. Дверь распахнулась. Хинский открыл глаза. У двери стоял плотный человек небольшого роста, с седыми усами, высоким выпуклым лбом и острыми живыми глазами.
Человек долго и внимательно рассматривал Хинского, словно стараясь запомнить его, потом, оглядев кабинет, тонким, певучим голосом произнес:
— Ирина Васильевна, очевидно, вышла. Вы ее ожидаете, товарищ?
— Да. Она скоро вернется.
— Вы не знаете, куда она ушла?
— Директор ее вызвал к себе…
Хинскому не понравилось настойчивое и пристальное внимание этого человека, и он сам не сводил с него глаз, ставших под конец не менее настойчивыми и пристальными.
— Ага! Благодарю вас! — вежливо сказал человек и повернулся с намерением выйти.
Навстречу ему из цеха метнулась фигура Кантора и заступила дорогу.
— Простите, товарищ Акимов, я забыл вам сказать…
Едва Кантор успел произнести эти несколько слов, как человек стремительно надвинулся на него. Кантор в недоумении оборвал фразу и должен был попятиться на шаг. Дверь захлопнулась, и Хинский опять остался один.
В то же мгновение он оказался на ногах. Кровь бросилась ему в лицо, сердце сильно забилось.
Так вот он какой, Акимов! Как же было не узнать его? Фотоснимок не совсем удачный… Почему он так пристально смотрел? Знает? Понял? Узнал? Ах, нехорошо! Не надо было отвечать таким же пристальным взглядом… Интересный тип. Совсем не такой серый, как на снимке. Видимо, умный, сильный враг… Надо держать ухо востро…
Хинский прошелся несколько раз по кабинету — от двери к противоположной стене. Время шло, а Ирина не возвращалась. У Хинского уже начинало иссякать терпение. Наконец открылась дверь.
Ирина вошла, как слепая, пошатываясь. Подойдя к столу, она схватилась за него, как будто опасаясь упасть. Хинский услышал ее шепот:
— Не может быть… Не может быть… Это не он…
Хинский бросился к ней:
— Что с вами, Ирина Васильевна? Что случилось?
Руки Ирины упали со стола, она пошатнулась.
Хинский подхватил ее и повел к креслу. Усадив Ирину, он быстро налил из графина воды и подал ей стакан.
— Выпейте, Ирина Васильевна, — бормотал он. — Что случилось?
Она сделала несколько глотков, мелко стуча зубами о край стакана.
— Он тоже там, — бормотала она. — Не может быть… Как он туда попал?.. Что же это такое?.. Кик же это могло быть?
— Кто? О ком вы говорите, Ирина Васильевна? Успокойтесь. Возьмите себя в руки.
Глотая слезы, то и дело прикладывая платок к покрасневшим глазам, Ирина торопливо заговорила:
— Это мой брат… Дима… Мальчик мой… Сначала Валя, теперь Дима тоже там, пропал без вести… Но это не Антонов, это мой Дима… Потому что с ним Плутон… Мне сейчас сказал это наш директор, он получил радиограмму из Архангельска… Там сказано про мальчика Антонова… Только нет, это мой Дима. Он убежал из дому… Дима с Плутоном…
— Говорите, говорите, Ирина Васильевна! — едва сдерживая волнение, сказал Хинский. — Прошу вас… Это очень важно. Вы не можете себе представить, как это важно! И для вас и для… меня.
Последняя фраза поразила Ирину. Она внезапно пришла в себя, с недоумением, почти недоверчиво взглянула на Хинского и замолчала.
Через минуту она тихо спросила:
— Почему и для вас, товарищ Хинский?
"Спугнул… — с досадой подумал Хинский. — Ну, теперь ничего не поделаешь… Надо идти до конца".
Пристально глядя на Ирину, он отогнул обшлаг на рукаве. Под обшлагом сверкнул золотой значок.
Ирина перевела глаза на Хинского, и вдруг лицо ее вспыхнуло. Она встала и протянула ему обе руки.
— Теперь я все понимаю, товарищ Хинский! Не могу вам передать, как я рада!
Через пятнадцать минут Хинский знал всю историю исчезновения Димы, все, что сделала до сих пор Ирина в поисках его, и почему она думает, что мальчик Вадим Антонов с "Чапаева" в действительности ее брат Дима.
После некоторого молчания Хинский задумчиво сказал:
— Да, возможно, что вы правы. Одно присутствие Плутона говорит за это. И наши данные подтверждают ваше мнение…
— Ваши данные?.. — с удивлением воскликнула Ирина. — Значит, вы знаете что-то о Диме?
— Вот именно "что-то"… Нам не было известно, кто он на самом деле, какова его настоящая фамилия. И если этот мальчик с "Чапаева" действительно ваш Дима, то сегодняшний день для меня — день большого горя и большой удачи. — Он вздохнул и, помолчав, продолжал: — С первого же дня вылета этого мальчика из Москвы, или даже за день до этого, он находился уже под нашим наблюдением, как и лицо, сопровождающее его.
— Вы возвращаете мне жизнь, — сказала Ирина. — Значит, с ним ничего дурного не могло случиться? Правда?
— До момента взрыва "Чапаева" ничего дурного с ним не случилось. И, вероятно, не случится, если он на льду вместе с моим начальником. Будем надеяться, что их отыщут… Вы мне сами только что говорили об этом. Не правда ли?
Ирина нерешительно кивнула головой и спросила:
— А кто же этот человек, который сопровождает Диму?
Хинский с минуту колебался, но, взглянув на Ирину и увидев ее жадно устремленные на него глаза, измученное бледное лицо, решил не обманывать девушку.
— Его фамилия Коновалов, раздатчик грузов ВАРа на "Чапаеве"… Впрочем — поспешно поправился он, — Коновалов или Петров — фамилия вам ничего, вероятно, не скажет. Вернемся к Диме. Если этот мальчик с "Чапаева" действительно ваш брат… Но надо твердо убедиться в этом. Для этого вам придется зайти завтра в одиннадцать часов в мой служебный кабинет… Вы знаете, где помещается наше министерство? Там вы пройдете в комнату номер триста один. Вам будет приготовлен пропуск. Вы сможете прийти?
— Конечно, конечно! — поспешно согласилась Ирина.
— Еще одна просьба, Ирина Васильевна. Принесите с собой какие-нибудь вещи вашего брата, которые он чаще всего держал в руках незадолго до своего исчезновения, но которых после этого меньше всего касались руки других лиц. Какие-нибудь книги, тетради, твердые — лучше всего лакированные — вещи из детского хозяйства. Ну, прощайте. До завтра. Не приходите в отчаяние. Будем надеяться, что все кончится благополучно.
На другой день в кабинете Хинского Ирина, забыв обо всем на свете, смотрела на фотоснимок. Она словно переживала настоящую встречу с вернувшимся к ней живым и здоровым братом.
— Это он… Это Дима… — говорила она. — Даже будь этот прекрасный снимок в тысячу раз хуже, я узнала бы своего мальчика. И Плутон здесь! Посмотрите на эту славную морду…
Ирина вдруг остановилась, с недоумением продолжая пристально рассматривать фотоснимок.
— Не понимаю… Что это значит? Каким образом он попал сюда? — Она подняла глаза на Хинского.
— Кто? — быстро спросил Хинский, приподнимаясь с кресла, и потянулся через стол к фотоснимку в руках Ирины. — О ком вы говорите, Ирина Васильевна?
— Об этом человеке рядом с Димой, — продолжала Ирина, указывая на снимок. — Ведь это Березин Николай Антонович. Как он здесь очутился вместе с Димой?
Хинский на минуту закрыл глаза и медленно опустился в свое кресло. Он чуть не задохнулся от этой неожиданной, совершенно невероятной удачи и должен был некоторое время помолчать, чтобы прийти в себя. Загадка красного электромобиля раскрывалась.
— Вы вполне уверены, что узнали этого человека? — спросил он наконец, сам не веря своей удаче.
— Ну, конечно, это Березин! — без тени сомнения ответила Ирина. — Как же мне его не узнать, если он несколько лет подряд был нашим другом, часто приходил к нам! Только последние год-два он не бывает у нас… Я и не подозревала, что они с Димой встречаются. Или это просто случайность? Вы не знаете?.. Они сняты, я вижу, на каком-то дворе. Вокруг сад, густые кусты. И домик маленький, словно загородный коттедж, не правда ли?
Хинский кивнул головой:
— Да, это на окраине Москвы.
— Но как же они там очутились? И к тому же вместе?
Хинский помолчал и, не глядя на Ирину, пожал плечами.
— Право, не могу сказать.
На столе прозвучал гудок телевизефона. Хинский включил аппарат. На экране появилась голова Лебедева, главного дактилоскописта.
— А! — воскликнул Хинский. — Ну что? У вас есть уже какие-нибудь результаты?
— Да, товарищ лейтенант! — последовал ответ с экрана. — Дактилоскопических оттисков было найдено много, особенно на пеналах. Эти оттиски полностью совпадают с прежними, уже имеющимися у нас. Фотоснимки будут вам доставлены к вечеру.
— Очень хорошо! — произнес Хинский. — Благодарю вас, товарищ Лебедев.
Лебедев исчез с экрана. Выключив аппарат, Хинский повернулся к Ирине:
— Итак, Ирина Васильевна, я могу вам теперь твердо, вполне уверенно сказать, что ваш брат там… на льду. Будем надеяться, что он вместе с Комаровым, моим начальником, и Карцевым, главным электриком "Чапаева". Нам уже известно, что в ближайшие дни, как только в районе гибели ледокола установится погода, поиски начнутся с разных сторон.
Хинский на минуту задумался, потом поправил раструб диктофона, стоявшего возле Ирины, и бесстрастным, немного официальным тоном продолжал:
— Теперь побеседуем о другом. Расскажите мне все, что вы знаете о Березине: кто он? Где живет? Где работает? Давно ли вы знакомы с ним? Почему он перестал бывать у вас? Должен вас заранее предупредить: все что вы сегодня видели и слышали здесь, все, что вы в дальнейшем сообщите мне перед этим диктофоном, вы обязаны хранить о полной тайне, никому, даже самому близкому человеку, не рассказывать. Этого требуют высшие государственные интересы и благо нашей родины. Вы поняли меня?
— Поняла, товарищ лейтенант, — громко и отчетливо ответила Ирина.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР
— Я спрашиваю тебя, разве мы стали хуже? Разве разучились работать? В чем дело? Вот мой министр рассказывает, как он производил десять лет назад поворот Аму-Дарьи к Каспийскому морю. Работа, кажется, не маленькая! Не было ни одной аварии, ни одного несчастного случая! Почему же у нас не так? Заводы дают нам великолепную продукцию, но среди лучших материалов, инструментов, машин то тут, то там обязательно попадается что-нибудь с дефектом… Происходит авария, задерживается строительство, срывается график…
Лавров шагал по комнате, заложив руки за спину. Он сильно изменился за последний год. Втянулись щеки, глубокая складка прорезала переносицу, синие глаза стали острее, смотрели тревожно, настороженно.
Ирина сидела в своем любимом уголке на диване, в обычной позе — поджав под себя ноги. Опустив голову, она механически сматывала и разматывала какой-то шнурок.
При последних словах Лаврова Ирина подняла голову и пристально взглянула на него:
— Что ты хочешь сказать, Сережа?
Лавров продолжал быстро шагать по комнате, словно не слыша вопроса Ирины.
— После великолепно проведенных строек на Ангаре и Аму-Дарье, — продолжал он, — кто мог бы ожидать таких неполадок на арктических работах, хотя бы эти работы и были в десять, в сто раз крупнее по масштабу? А некоторые из этих неполадок по своему характеру положительно похожи на преступления! Дефектные насосы твоего завода, один из которых привел к аварии на шахте номер три, нашлись после проверки еще в двух шахтах. Это ошибка? Ладно! Пусть. На шахту номер три посылают негодный георастворитель. Я успел тогда вмешаться и быстро исправить положение. Это что? Тоже ошибка? — все более волнуясь и торопясь, словно предупреждая возражения Ирины, говорил Лавров.
Но Ирина сидела молча, снова опустив голову на грудь.
— Хорошо, пусть так. Но дальше! Почему электроход "Танкист" ушел на шахту номер пять с теми грузами, которые были нужны шахте номер семь, и потом пришлось "Рабочему" свернуть с пути, чтобы принять эти грузы и отвезти их по назначению в шахту номер семь? А запоздания выхода некоторых кораблей из портов? Разве перечислишь все! Между тем я собственными глазами вижу, как работают люди. Они засыпают меня новыми изобретениями. Команды кораблей из сил выбиваются, чтобы ликвидировать задержки и прибыть вовремя куда надо. Заводы десятки раз проверяют качество своей продукции, прежде чем выпустить ее. А на шахтах люди работают, забывая о себе, об опасностях. Ведь несмотря ни на что, большая часть шахт уже наполовину готова! А первая, третья, седьмая и десятая уже проходят наклонные соединительные тоннели…
— Кстати… — внезапно оживившись, перебила Лаврова Ирина. — Месяца два назад, случайно заменив заводского контролера-выпускающего, я обнаружила брак в нашей продукции и задержала его. Почему-то вмешался Акимов — знаешь, начальник производства, которого назначили вместо меня — и выпустил этот брак.
— И ты смолчала, Ирина? — остановившись, воскликнул Лавров.
— Нет, я заявила протест директору. Тот расследовал дело и немедленно попросил ВАР вернуть этот злосчастный ящик. А через несколько дней пришло письмо помощника Березина с сообщением, что этот ящик уже погружен в Мурманске на электроход, неизвестно какой, и что послана радиограмма на шахты о возврате ящика. Однако до сих пор его не получили, и где он — неизвестно.
— Вот, вот! Видишь? Вот как идет у нас работа. Знаешь ли, Иринушка… все это и гибель "Чапаева" наводит на страшные мысли…
— "Чапаева"? — прошептала Ирина и заплакала. — Дима, Димочка… мальчик мой…
Лавров порывисто обнял ее.
— Иринушка… милая!.. Зачем я напомнил тебе о нем?
Она быстро вытерла глаза, встряхнула головой и тихо сказала:
— Я тебя пять дней не видела, Сережа…
— Да, да… — торопливо ответил Лавров, не сводя с нее любящих глаз. — Но я был в Туле, на заводах…
— Ну вот, — продолжала Ирина. — Через два дня после твоего отъезда я получила радиограмму от начальника Архангельского порта. То есть не я лично — директор моего завода. Начальник порта боялся, что нанесет мне удар… Мой директор постепенно познакомил меня с радиограммой…
— Ну… ну… — торопил Лавров насторожившись.
— В радиограмме начальник порта сообщал, что вся команда и пассажиры "Чапаева" благополучно перешли на борт "Полтавы", кроме четырех человек, погибших на глазах капитана при попытке перепрыгнуть со льда на вездеход, и трех, которые пропали без вести. Среди этих трех пропавших был мальчик Дима Антонов с собакой Плутоном, большим ньюфаундлендом. Начальник порта спрашивал, не мог ли этот мальчик оказаться моим братом, о котором я запрашивала портовое управление две декады назад. Ты ведь помнишь, что сейчас же после исчезновения Димы московская милиция разослала повсюду его приметы… Вот он и отыскался, — прошептала Ирина. — Отыскался, чтобы тут же исчезнуть… И при каких обстоятельствах!
— Какие же у них предположения о судьбе этих трех человек? — спросил Лавров.
— По словам начальника порта, капитан "Чапаева" предполагает, что один из них, главный электрик ледокола, безусловно остался на льдине, а другие два, очевидно, погибли при взрыве, хотя очень возможно, что и они сошли на лед, к главному электрику, с которым подружились в пути. Начальник порта, кроме того, сообщает, что с мыса Желания, с островов Визе и Уединения четырнадцатого сентября, то есть завтра, вылетят геликоптеры на поиски пропавших. До сих пор в центре Карского моря свирепствовали шторм и пурга, а с четырнадцатого ожидается улучшение погоды.
Ирина замолчала, нервно сматывая шнурок на пальце. Потом прибавила:
— Между прочим, это же подтверждает лейтенант государственной безопасности Хинский.
— Лейтенант государственной безопасности? — повторил с удивлением Лавров. — Что же он тебе подтвердил по поводу людей с "Чапаева"? И откуда он появился у тебя, этот Хинский?
— Он приходил к нам на завод, — уклончиво ответила Ирина, — за разными справками по делу об аварии на шахте номер три. Ну, вот он мне и сказал, что среди трех пропавших без вести находится его начальник и друг… Хинский был в очень подавленном состоянии. Когда он узнал предположение начальника Архангельского порта о том, что Дима остался с его другом на льду, Хинский подтвердил это с полной определенностью. Он мне даже сообщил, с кем Дима попал на "Чапаев"…
— Вот как! — продолжал удивляться Лавров. — С кем же?
— Какой-то Коновалов, Георгий Николаевич, взял Диму с собой. Этот Коновалов ехал раздатчиком грузов по пути "Чапаева"…
— Коновалов! — воскликнул Лавров. — Постой… постой… Ведь я подписывал недавно… да, да, декады две назад… командировку какому-то Коновалову для работы в шахте номер шесть.
— Что ты говоришь, Сережа! Ты не ошибаешься?
— Да нет же! Я теперь отлично припоминаю… Обычно я такие командировки не подписываю. Это делает заведующий отделом кадров. Но тут… — Лавров задумался, потом медленно сказал: — Странно… Березин мне рекомендовал этого человека и просил дать ему работу на шахте. Энтузиаст, мол, горит желанием… И просил моей личной записки к начальнику строительства шахты. Я и написал эту записку на своем бланке. Странно, что же это за человек, который способен увозить детей? И как мог Березин рекомендовать такого человека?
Лавров стоял посредине комнаты, бледный, задумчивый.
— Но Коновалов, по-видимому, жив, и у него можно будет узнать о Диме, — сказала Ирина оживившись.
— Да, да, — ответил Лавров, видимо думая о своем. — Я поговорю с ним. Я еду завтра на эту шахту. После гибели грузов вместе с "Чапаевым" она может оказаться в тяжелом положении. Навигация кончилась, а подводными лодками далеко не все можно доставить зимой. — И Лавров прибавил, словно про себя: — "Чапаев", "Чапаев"… Одно к одному… Неужели я прав?..
Ирина внимательно смотрела на Лаврова.
— Ты что-то начал говорить мне о "Чапаеве", — тихо сказала она. — Его гибель на что-то раскрыла тебе глаза… Что ты этим хотел сказать, Сережа?
— О "Чапаеве"? Да… Но это пока догадки, Ирина. Рано еще высказывать их вслух. А знаешь, неплохо было бы и мне повидаться с Хинским. После разговора с ним и мы с тобой поговорили бы, Иринушка…
— Вряд ли успеем, Сережа, — сказала Ирина. — Через несколько дней я улетаю с Порскуновым.
— Что? — с изумлением посмотрел на Ирину Лавров. — С Порскуновым? Полярником? Куда?
— На Карское море. Искать Диму.
— Но это же безумие, Ира! — воскликнул пораженный Лавров. — Подумай! Ты сама только что сказала, что завтра со всех концов Карского моря люди вылетают на поиски. Они отлично снаряжены, они знают свое море, у них специальные полярные геликоптеры. Что ты хочешь делать, Ира? Родная моя, не безумствуй… Одумайся…
— Не беспокойся, Сережа, — твердо ответила Ирина. — Ничего ужасного не будет. Порскунов не хуже, а может быть, лучше других летчиков знает это море. У него тоже полярный геликоптер. И кроме того… — На лице Ирины отразилось страдание. — Я не могу… Пойми, Сережа, милый, не могу сидеть здесь в бездействии, пассивно ждать вестей от других…
Голос Ирины задрожал, и она замолчала, опустив глаза.
Лавров долго и печально смотрел на нее.
— Лети, Иринушка, — тихо сказал он, поцеловав ее в лоб. — Ты права. Горе легче переносится в борьбе с ним. Лети, дорогая. Летчики, конечно, сделают свое дело хорошо, но тебе будет действительно легче. Если бы я мог отлучиться, сам полетел бы с тобой… — Он опять помолчал и добавил, упрямо, с какой-то угрозой нахмурив брови: — А я скоро вернусь и поговорю с Хинским. Он неспроста приходил к вам на завод. Нет, если он не придет ко мне — я сам пойду к нему, когда, вернусь с шахты.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
В МЕЖШАХТНОМ ТОННЕЛЕ
Солнечный луч щекочуще пробивался в глаза, губы спящего Лаврова невольно складывались в счастливую улыбку.
Гудок телевизефона прогнал дремоту. Лавров открыл глаза, и на него сразу нахлынули мысли о приезде, о будничных заботах, деловых разговорах с Кундиным.
Скромно убранная комната была залита желтым солнечным светом наружных фонарей: широкие полосы света наискось падали на пол и на подушки постели.
Телевизефон настойчиво гудел. Лавров протянул руку к столику и включил экран. Появилось лицо Кундина — начальника строительства шахты номер шесть. Его добрые голубые глаза, толстые губы и клочковатая бородка какого-то линялого цвета вызвали у Лаврова улыбку.
— С добрым утром, Сергей Петрович, — пропел тенорком с экрана Кундин. — Отдохнули с дороги?
— Отлично, Григорий Семенович! — весело ответил Лавров. — Даже заспался. Спасибо, что разбудили.
— Разрешите зайти за вами. Пойдем вместе в столовую, позавтракаем, там скажете мне, как вы хотите провести первый день. Или, может быть, у себя завтракать будете?
— Пойдемте в столовую. Там, на людях, веселей. Заходите за мной.
Высокий, широкоплечий Кундин казался еще выше рядом со своим маленьким сухощавым спутником. У крыльца столовой Кундин остановил выходившего оттуда коренастого человека с бритым смуглым лицом и густой черной шевелюрой.
— Как себя чувствуете у нас, товарищ Курилин? Привыкли, надеюсь? — И, обращаясь к Лаврову, прибавил: — Наш новый работник, Сергей Петрович, третьего дня прибыл с "Полтавой". Прислан из ВАРа начальником склада вместо Максимова. Товарищ Курилин, это Сергей Петрович Лавров, заместитель министра ВАРа.
Курилин быстро и пронзительно посмотрел на Лаврова и молча пожал протянутую ему руку.
— Спасибо, — ответил он Кундину. — В общем, чувствую себя недурно, если не говорить о… о…
Он замялся, как будто не находя слов.
— А, понимаю, — улыбнулся Кундин, внимательно и заботливо заглядывая ему в глаза. — Сверху?
Он указал на свод. Курилин кивнул утвердительно.
— Ничего, — успокаивающе сказал Кундин. — Это общая участь всех новичков. Первые два-три дня они испытывают чувство угнетения и легкой тревоги от сознания, что над их головой — толща воды в несколько сот метров…
— Эти ощущения очень скоро и бесследно проходят, — прибавил Лавров. — Думайте, что над вами черное беззвездное небо. И еще: надо поскорей научиться владеть скафандром и выходить на дно моря.
— Я уже два дня занимаюсь этим, — ответил Курилин, глядя через плечо Лаврова. — Мой учитель, главный метаморфизатор Садухин, кажется, доволен моими успехами. Вчера с полудня я даже участвовал в аврале. И сейчас туда иду.
— Это что за аврал? — обратился Лавров к Кундину.
— Я объявил несколько дней назад, с приходом к нам "Полтавы", аврал по уборке с морского дна всех выброшенных ею грузов. Желаю успехов, товарищ Курилин.
— Много грузов? — спросят Лавров, попрощавшись с Курилиным.
— Очень много! Не знаю, когда управимся. Все свободные от вахт и дежурств работаю на дне.
— Давайте после завтрака и мы примем участие в аврале, — предложил Лавров. — Кстати, о "Полтаве", у них все в порядке?
В большой светлой столовой они устроились за столиком у окна, выбрали и заказали себе завтрак. Народу было мало. Почти все знали Лаврова по его предыдущим приездам на шахту, и ему приходилось все время здороваться с подходившими к столику людьми.
— Как будто в порядке, — продолжал разговор Кундин. — Хотя после гибели "Чапаева" и до прихода "Литке" были легкие сжатия льдов, но, в общем, ни "Полтава", ни "Щорс" не пострадали.
Кундин громко вздохнул и показал головой.
— А пропавших пока не нашли, Сергей Петрович? Каково им среди льдов!
Обычно бледное лицо Лаврова, казалось, еще более побледнело.
— Вы думаете, они живы? — спросил он. — Среди них — мальчик с собакой.
— Да, да…
— Мы с ним очень дружили. Это брат моей подруги… Славный мальчик.
Кундин сочувственно вздыхал, слушая историю исчезновения Димы из Москвы.
Через час Лавров и Кундин, надев скафандры, вы шли из поселка через проходную камеру порт-тоннеля на морское дно. От поселка во все стороны тянулись широкие стеклянные дороги, освещенные цепочками ярких электрических фонарей. Туманными перламутровыми пятнами фонари расплывались вдали, в зеленоватой темноте глубин. Идущее по радиусам дороги соединялись внешними и внутренними кольцами. Между ними на морском дне были густо рассыпаны огоньки — там в облаках ила бродили темные фигуры людей в скафандрах. Порой над дном поднимались большие круглые шары, и люди вели их за собой, как слонов.
— Видите? — сказал, указывая на огоньки, Кундин. — Это все неубранные грузы.
— Да, работы хватит на несколько дней. Возьмемся вон за ту громадину.
Они сошли с дороги на мягкое, пушистое дно и, разрезая плечом воду, взмучивая ил, направились к огромной полузарывшейся бочке.
На ней лежал двойной парашют с горящей наверху небольшой лампочкой. В таком виде груз был спущен на дно с "Полтавы". Кундин приподнял край парашюта, нащупал под ним аппарат со сжатым воздухом и нажал кнопку. Парашют стал медленно раздуваться, потом всплыл над бочкой и немного погодя, превратившись в шар, приподнял ее со дна. Увлекаемый Лавровым и Кундиным за стропы, шар поплыл невысоко над дном, унося тяжелый груз. По дороге катился свободный электрокар. Кундин поднял руку и остановил его. Маневрируя шаром, они опустили бочку на площадку машины, и через минуту она скрылась среди других электрокаров, катившихся по дороге к поселку.
Лавров и Кундин принялись готовить к отправке большой тяжелый ящик, затянутый в блестящую непромокаемую ткань и обвязанный накрест веревкой. Лавров молчал, отдавшись своим мыслям. И пока руки, почти механически, работали, в голове возникали то мысли о Диме и всех опасностях, окружающих его, то воспоминания о Березине. Неужели его догадки правильны? Неужели Николай… И Коновалова он рекомендовал… Скорей бы, скорей вернуться в Москву, повидаться с Хинским! Как мог Николай пойти на это? Почему? Зачем?
— Держите же строп, Сергей Петрович! — раздался испуганный голос Кундина. — Вырвется! Ах, черт возьми! Так и есть!
Наполненный шар взвился и быстро понесся вверх, готовый исчезнуть в темноте вместе со своим грузом. Но следом за ним, словно торпеда, взлетела закованная в сталь человеческая фигура. Это был Лавров, мгновенно пустивший в ход винт скафандра. На поверхности океана — льды, и если они в движении, шар будет раздавлен или разорван ими. Тогда тяжелый груз, быстро падая вниз, может случайно обрушиться на кого-нибудь из работающих. Ничего ужасного, конечно, не произошло бы — все люди в скафандрах. Но и в скафандре почувствовать такой удар неприятно — может ушибить или поранить.
Примерно на сотом метре от дна Лавров настиг беглеца и схватился за болтавшийся в воде строп. Одновременно из глубины вынырнул еще один тускло поблескивающий силуэт, и человек в скафандре схватил второй свободный строп. Лавров остановил свой винт, дотянулся до кнопки, регулирующей подъемную силу шара, и выпустил из него немного воздуха. Шар пошел на снижение. Тогда Лавров направил луч своего фонаря на человека. Сквозь прозрачный шлем он узнал Курилина.
— Ого! — приветливо окликнул его Лавров. — Быстро же вы освоились со скафандром! Спасибо за помощь. Как раз вовремя.
— Не за что, Сергей Петрович, — сдержанно улыбнулся Курилин, вися на стропе с остановленным винтом. — Отлично знал, что помощь вам не нужна, и поднялся просто для тренировки.
— Со стороны посмотреть, как вы управляетесь со скафандром, ни за что не скажешь, что новичок… Вы где тут работаете?
Оба одновременно стали на дно. Освобожденный от их тяжести, шар опять натянул стропы и приподнял груз. В облаках ила приближался Кундин.
— А вон на дороге мой электрокар, — ответил Курилин Лаврову. — Я ехал за новым грузом к внешнему кольцу.
— Вот и отлично. Забирайте наш ящик и нас кстати подвезете к поселку. Едем домой, Григорий Семенович, — обратился Лавров к Кундину. — Надо еще в тоннеле побывать.
* * *
Но, прежде чем спуститься в тоннель, пришлось, по предложению Кундина, посмотреть, как хозяйничает на складе новый заведующий. Курилин охотно и оживленно показал новый метод размещения инструментов, запасных частей, строительных материалов. Все находилось в отменном порядке, все было рассортировано и лежало в гнездах стеллажей под номерами. В проходах лежали неподвижные ленты конвейеров, под потолком заснули на рельсах когтистые краны.
— Вот только… — заметил Лавров, остановившись перед стеллажом с надписью "Петровидол"81, — зачем такие вещи держат на виду и на ходу? Не опасно ли?
— Нисколько, Сергей Петрович, — поспешно ответил Курилин. — В таком состоянии, без электротока и часового механизма, петровидол — простой безвредный кирпич. Замечательное вещество!
— А где к нему часовые механизмы с аккумуляторами? — спросил Кундин.
— Да вот, рядом, — показал Курилин. — Все стоят в готовности.
— Вряд ли они здесь понадобятся, — сказал Лавров.
Курилин неопределенно пожал плечами.
— Ну, мы пойдем дальше в тоннель, — добавил Лавров, протягивая Курилину руку. — Прекрасный порядок у нас на складе. Благодарю вас.
Курилин поклонился, пожал руку начальнику.
Лавров и Кундин вышли из склада. Они прошли по улице, похожей на аллею, между двумя рядами коттеджей, обогнули центральную опорную башню и вошли в нее. В приемной камере они переоделись в мягкие теплоизолирующие скафандры и перешли в скоростной лифт. Стремительно полетела вниз, словно в пропасть, прозрачная кабина. Мелькали лампы. Далеко, на противоположной голубой стене шахты, тянулись огромные трубы, пучки черных шлангов, разноцветные кабели. Приближался и нарастал глухой подземный гул. Когда лифт остановился, Кундин вызвал по радио инженера Садухина — начальника работ по метаморфизации грунта или, как его обычно называли, главного метаморфизатора. Садухин, высокий, совсем еще молодой человек, встретил Лаврова и его спутников на дне, возле лифта. Сквозь стекла шлема видны были его круглые, розовые щеки и сияющие глаза; он не скрывал радости от встречи с Лавровым.
А Лавров вспомнил, каким суровым огнем загорелись эти веселые глаза, когда два месяца назад Садухин на заседании у министра обвинял Березина в бестолковой работе флота, в бесплановом снабжении шахты! Ох, как поеживался тогда Николай…
Николай, Николай… Почему столько тревожных чувств вызывает это имя?
Кругом стоял непрерывный оглушительный грохот и гул. Он шел из гигантского жерла тоннеля, который открывался в противоположной стене шахты.
Даже в незаконченном виде горизонтальный тоннель был поразителен. По диаметру он был равен шахте, и самые высокие здания свободно поместились бы под его сводом. Десятки огромных фонарей и прожекторов заливали его своим желтоватым "солнечным" светом. У входа тоннель был уже почти готов и свободен от всяких строительных приспособлений. Его стены были покрыты голубой эмалью для уменьшения трения воды при ее прохождении через тоннель. Но уже в ста метрах от входа новому человеку было бы трудно ориентироваться. Казалось, что здесь царствует хаос.
Из глубины тоннеля, там, где работали гидромониторные установки, непрерывно, днем и ночью, несся глухой всепоглощающий рев. Казалось, земля не переставая вопила от бесконечных терзании, которым безжалостно подвергала ее какая-то чужая, неумолимая сила. Если бы не усилители в радиотелефонных аппаратах скафандров, люди не слышали бы друг друга. Временный стеклянный пол над нижней дугой круглого тоннеля непрерывно дрожал под ногами. Могучие вздохи насосов пульпоотводной трубы, проложенной под полом, равномерно прорывались сквозь этот гул.
Залитые изнутри светом галереи метаморфизации с прозрачными стенами были похожи на гигантские колесные ободья. По сводчатому потолку тоннеля к этим круговым галереям тянулись пучки разноцветных шлангов и кабелей. Они спускались, образуя нечто вроде чудовищной арфы с натянутыми струнами. Внутри галереи они соединялись с основаниями огромных сверл и игл, далеко проникавших в глубь породы. Через эти шланги и сверла проходили в толщу недр электрические аппараты, различные химические вещества, контрольные и измерительные приборы, необходимые для метаморфизации породы и наблюдения за этим процессом.
Там, в глубине, электроплавы, снабженные могучими электродами, под воздействием электрического тока огромного напряжения расплавляли породу и превращали ее в горячую жидкую лаву. Затем на место электроплава в сверло вводился электрохолодильник, а специальные аппараты вгоняли через шланги в расплавленную массу лавы ряд сложных химических веществ. От воздействия этих веществ, под огромным давлением собственного теплового расширения и затем при медленном охлаждении электрохолодильннками, порода получала повое, кристаллическое строение и твердость гранита. Этот "гранитный" цилиндр, результат искусственной метаморфизации породы, предохранял тоннель от давления вышележащих слоев земли, от обвалов и даже от землетрясений, правда, не превышающих четырех — пяти баллов.
Человек многому научился у природы и, научившись, сумел превзойти ее.
Процесс метаморфизации, то есть преобразования одной горной породы в другую, происходит в природе, между прочим, и при извержении расплавленных лавовых потоков из глубин земного шара вверх, в его более холодные слои; это так называемый контактовый метаморфизм. Прорываясь вверх, горячая лава своей высокой температурой, давлением и химическим воздействием способна превращать грубые известняки в благородный мрамор, глины — в фарфоровую яшму, песчаники — в стекловидную массу, мягкий глинистый сланец — в чрезвычайно твердый роговик. Это процесс тянется медленно — веками и тысячелетиями.
К тому времени, о котором идет речь в нашем рассказе, человек нашел способы искусственно воспроизводить процесс метаморфизации пород для своих целей, причем длительность этого процесса была сведена к дням и неделям вместо тысячелетий. Стало возможным придавать любой горной породе до сих пор совершенно необычные для нее свойства. Например, известняку, песчанику или глине — твердость гранита, а граниту — прозрачность горного хрусталя. Гигантских ободьев-галерей было двенадцать, и они отстояли друг от друга на двадцать пять метров. Когда первая от входа в тоннель галерея заканчивала процесс на своем участке, гидромониторы успевали пройти породу дальше и удлинить тоннель. Галерея разбиралась, переносилась вперед, и начиналась метаморфизация нового участка.
Жара в тоннеле стояла невероятная. Он был наполнен прозрачным, как марево, туманом от испаряющейся воды гидромониторов. Конечно, туман был бы более густым и заметным даже наверху, в поселке, если бы не огромные вентиляторы, которые непрерывно всасывали горячий, влажный воздух, прогоняли через охлаждающие установки и возвращали его в тоннель сухим и более или менее прохладным.
— Какую галерею вы хотели бы посетить, Сергей Петрович? — спросил Садухин.
— На какой стадии сейчас работа шестой галереи? — ответил вопросом Лавров, становясь вместе со своими спутниками на центральный тоннельный эскалатор, понесший всех по дну шахты ко входу в тоннель.
Свод тоннеля терялся где-то вверху, в ярком свете фонарей. Дальше шла перспектива галерей, похожих на круглые внутренние ребра гигантской трубы. Люди казались песчинками перед творением рук своих.
— От первой до шестой галереи ведут охлаждение, — ответил Садухин. — Шестая, видите ли, только начинает его, а первая уже кончает. Завтра ее операторы перейдут в новую, у гидромониторного щита.
— Каков грунт?
— Глинистый сланец с прослойками известняка.
— Температура лавы?
— Тысяча двести пятьдесят градусов.
— Максимальное охлаждение ее?
— В глинистом сланце — тридцать пять ниже нуля, в известняке — минус сорок два.
Лавров со своими спутниками приблизился к первой галерее. Нижняя часть ее лежала перед ними, как порог высотой в несколько метров. Сквозь переднюю прозрачную стену видны были стоявшие внутри на полу разнообразные приборы и аппараты, в которые входили шланги и кабели, спускавшиеся с потолка. У щита управления оператор сосредоточенно наблюдал за показаниями приборов, держа руку на рубильнике.
Эскалатор понес Лаврова и его спутников дальше.
Изредка появлялись на встречной движущейся ленте люди в скафандрах и приветственно поднимали руки.
— Посмотрим галерею номер восемь, — сказал Лавров. — Там расплав породы в разгаре, не так ли?
— Совершенно верно, Сергей Петрович…
— Вы давно здесь работаете, товарищ Садухин? Мне кажется, вас не было в мой прошлый приезд.
— Вы правы, Сергей Петрович. Я здесь всего четвертый месяц.
— А раньше вы где работали?
— Два года был начальником глубокой проходки на одной из шахт Среднего Урала. Там тоже проходка шла без креплений, одной метаморфизацией.
— Большой был диаметр проходки?
— Ну, сравнить нельзя с нашим, — улыбнулся Садухин. — Примерно то же, что бинокль перед трехметровым телескопом.
У галереи № 8 сошли с эскалатора. В пустом ободе гигантского колеса уходили вверх извивающиеся ленты движущихся лестниц и рельсы лифта.
Лавров выразил желание подняться в верхний сектор, сектор Дельта, этой галереи и стал на ступень эскалатора. Механическая лестница быстро понесла всех вверх. Применяясь к кривизне галереи, эскалатор приближался то к внутренней, то к внешней ее окружности.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ВРАГ ИЗ НЕДР
Сектор Дельта находился в верхней части тоннеля, там, где его закругленные стены переходили в свод. Поэтому потолок этого сектора был также слегка изогнут, а пол для удобства работы представлял несколько широких ступеней, вроде террас. На этих террасах разместились аппараты и механизмы, какие-то высокие снаряды на электрокарах, компрессоры с движущимися поршнями, бухты кабелей и проводов. Различной толщины и окраски шланги и кабели входили и выходили из аппаратов, поднимались до потолка и исчезали в нем, провода опутывали сложным кружевом приборы на стене. Среди них расположился щит управления, возле которого спиной к двери неподвижно стоял оператор в скафандре.
— Здравствуйте, товарищ Сеславина, — произнес Садухин, входя в помещение. — Как дела? Знакомьтесь… Сергей Петрович Лавров, заместитель министра… оператор метаморфизации инженер Сеславина Мира Антоновна…
За широкими стеклами шлема мелькнуло бледное девичье лицо с испуганными черными глазами и сейчас же отвернулось к приборам на щите управления.
— Посмотрите на магмоманометр82, товарищ Садухин, — зазвенел под всеми шлемами тревожный голос девушки. — Я не понимаю, что с ним делается. Хорошо, что вы пришли. Я уж собиралась вызвать вас…
— Что случилось? — быстро спросил Садухин, приближаясь к прибору и пристально всматриваясь в него. — Ого! Давление двести девять и пять десятых. Черт возьми! Стрелка продолжает ползти вверх… Давление увеличивается…
— Когда начало повышаться давление? — с беспокойством спросил Кундин.
— Примерно час назад. Первые тридцать минут нарастание было едва заметно, потом оно стало быстро увеличиваться, а теперь — видите… Уже двести десять… при одинаковой температуре. Я понижаю напряжение тока! — решительно закончила Сеславина.
— Подождите минуту, — вмешался Лавров. — Химические компоненты и газы уже введены?
— Да, — ответила Сеславина, — сегодня утром.
— Дайте охлажденный образец лавы и сделайте поляриметрический экспресс-анализ83, — продолжал Лавров. — Потом постепенно понижайте температуру.
— Алло! Алло! — ворвался вдруг под шлемы чей-то посторонний голос. — Ищу Садухина! Говорит сектор Дельта, галерея девять! Срочно ищу Садухина!
— Садухин слушает из галереи восемь, — сейчас же ответил главный метаморфизатор. — В чем дело, товарищ Медведев?
— В расплавленной породе повышается давление. Уже достигло двухсот десяти и трех десятых.
— Сделайте сейчас же поляриметрический экспресс-анализ охлажденного образца лавы! — приказал Садухин. — После принятия образца медленно снижайте температуру плавления на двадцать градусов. О результатах анализа сообщите мне.
— Понятно, товарищ Садухин, — ответил голос Медведева, — отключаюсь.
Садухин перевел волновой избиратель своего скафандрового радиоаппарата на новую позицию.
— Товарищ Грабин! — позвонил он в микрофон. — Товарищ Грабин!
— Я — Грабин, — ответил чей-то густой бас. — Говорю из галереи десять, сектор Дельта.
— Говорит Садухин. Сообщите показания вашего магмоманометра.
— Нехорошие, товарищ Садухин. Давление повысилось до двухсот двадцати. Взял образец лавы для экспресс-анализа.
— Очень хорошо. Как только получите результаты, сообщите мне. Отключаюсь.
Под шлемами Лаврова и всех находившихся в секторе зазвучали сразу два голоса — женский и мужской. Оба вызывали Садухина и, найдя его, торопливо доложили, что в шестой и седьмой галереях сектора Дельта заметно повышается давление лавы. Правда, это давление не было столь высоким и повышение шло не так быстро, как в галереях восьмой, девятой и десятой. Но через минуту пришли тревожные сообщения из одиннадцатой и двенадцатой галерей.
Пока шли эти разговоры и донесения, Сеславина через углубившееся в породу сверло добывала в герметически закрытый огнеупорный сосуд образец лавы и по шлангу электроплава начала спускать его вниз, в галерею. Обычно в таких случаях сосуд с образцов на секунду задерживается у выхода из отверстия в потолке, затем медленно спускается на цепочках: оператор снимает его и нажимом кнопки возвращает цепочки обратно в трубу.
Сеславина встала на электрокар, находившийся под отверстием, и подняла кверху руки, чтобы принять образец, но цилиндр внезапно сорвался вниз, на голову Сеславиной, защищенную лишь мягким шлемом скафандра. Девушка, вскрикнув, инстинктивно прикрыла голову, и удар пришелся по рукам. Он был настолько силен, что Сеславина пошатнулась и упала на электрокар. Уже падая, она получила второй удар, в грудь, от второго цилиндра, стремительно вырвавшегося из трубы вместе со струёй размельченной породы.
Садухин и Кундин, стоявшие ближе к Сеславиной, бросились к ней на помощь и, осыпаемые горячей пылью и комками земли, на лету подхватили девушку.
— В сторону! — крикнул задыхающимся голосов Кундин. — В сторону, Садухин!
Но нога Сеславиной застряла на площадке электрокара между батареей аккумуляторов и рулевой муфтой, и девушка, уже в полуобморочном состоянии, громко застонала при попытке стащить ее с тележки. Тогда Садухин оставил Сеславину на руках Кундина и бросился к электрокару, стараясь высвободить застрявшую ногу девушки.
Вдруг раздался резкий крик Лаврова:
— Назад! Лава!
Все помещение вдруг озарилось багровыми вспышками света. Вместо черной струи размельченной породы в отверстии потолка показались темно-красные комки, и лава тягуче полилась на людей, сбившихся у электрокара.
Лавров находился с другой стороны тележки. Не раздумывая, сильным ударом обеих рук он толкнул электрокар с лежащей Сеславиной на Кундина и Садухина. В то же мгновение сверкнул ослепительно яркий белый свет, и сверху в густых облаках желтого пара ринулась струя бело желтой пылающей лавы.
Электрокар, сбив с ног Садухина и Кундина, увлек их за собой из-под лившейся лавы. Лавров, однако, не успел преодолеть инерции своего тела и полностью отклониться от удара струи лавы. Пламенный поток успел лизнуть его левое плечо. Но великолепный огнеупорный материал скафандра устоял и в этом испытании. Лавров почувствовал лишь сильный удар струи и упал на одно колено, крича:
— Закрыть отверстие!
На полу между тем быстро расширялась лавовая лужа, темно-багровая по краям. Она уже начала подбираться к людям. Садухин первый вскочил на ноги, бросился к щиту управления и, почти не глядя, нажал одну из кнопок. Свисавшая на петле под отверстием заслонка приподнялась и, образуя над собой зонтичный лавовый фонтан, стала медленно подниматься к потолку, видимо с трудом преодолевая огромное давление потолка. Вплотную она не закрылась, несмотря на огромную мощность ее электрического привода, и тяжелая струйка лавы продолжала просачиваться и падать на пол.
— Подпереть заслонку трубой! — продолжал командовать Лавров, вскочив на ноги и бросаясь с Кундиным к Сеславиной.
Пока они оттаскивали в сторону освобожденную из-под перевернувшегося электрокара девушку, Садухин вывел под приоткрытое отверстие новый электрокар с трубой и пустил в ход коническую вершину трубы. Вращаясь, она поднялась вверх, уперлась в заслонку и прижала ее к потолку.
Все это длилось лишь несколько коротких минут.
Среди наполнявшего помещение пара поблескивало багрово темнеющее озерцо лавы на стальном полу. Кундин и Лавров унесли Сеславину. Она была без сознания. Садухин вызвал врача, сменного и резервного операторов, одновременно выключая ток в электроплаве и подготовляя пуск электрохолодильной машины.
Лавров на ходу приказал Садухину:
— Предложите секторам Дельта всех галерей, производящих расплав породы, выключить ток до распоряжения!
— Да… да… — бормотал Кундин. — Надо прекратить метаморфизацию. Скорее, Садухин… Скорее…
В этот момент в помещение сектора вбежал дежурный врач. Кундин и Лавров уложили Сеславину на диван в кабине оператора, и врач занялся ею.
Внезапно под шлемами раздался густой спокойный голос, вызывавший Кундина.
Вызывал начальник гидромеханизации шахты Арсеньев. Он доложил Кундину, что за гидромониторным щитом происходит необычайно сильное испарение воды, давление паров между шитом и породой резко увеличивается, а температура размываемой породы сделала внезапный скачок вверх. Необходимо присутствие Кундина у щита.
— Пойдемте вместе! — сказал Лавров Кундину. — То, что происходит сейчас у щита, несомненно связано с тем, что происходит здесь. Тоннель встретил магмовую жилу. Скорее к щиту, товарищ Кундин!
Кундин растерянно кивнул головой. Лавров быстро направился к выходу, приказав Садухину:
— Предложите секторам Дельта всех плавящих галерей сменить электроплавы на холодильные машины!
— Что за несчастный день! — воскликнул Кундин, спеша за Лавровым.
Они пустили эскалаторы галереи на максимальную скорость, почти слетели вниз на дно тоннеля и перебежали на главный тоннельный эскалатор. Переползая через нижние дуги встречающихся круговых галерей, он быстро понес их вперед, к гидромониторному щиту.
Щит вставал перед ними в непрерывном, все возрастающем гуле, от которого, казалось, сама земля приходила в колебание. За последней галереей щит показался во всю свою величину. Гигантский круг прозрачной стеной наглухо замыкал тоннель. Металлические подкосы лучеобразно расходились из центра щита во все стороны. Эти подкосы упирались концами с насаженными на них колесами в ряды мощных рельсов, тянувшихся горизонтально по своду, по закругленным стенам, под стеклянным полом тоннеля, и надежно поддерживали гигантский прозрачный щит в вертикальном положении. Множество разнообразных машин, моторов, механизмов продвигало его по этим рельсам вперед по мере выработки породы. Высоко вверху, в центреэтого прозрачного круга, там, где сходились подкосы, помещалась площадка сменного гидромониторщика. От нее по поверхности щита во всех направлениях отходили тонкие паутинные линии эскалаторов, легких горизонтальных галерей и неподвижных уступчатых лестниц. По щиту, словно правильный шахматный узор, были разбросаны легкие площадки с темнеющими квадратами дверей для выхода в пространство между щитом и размываемой впереди горной породой.
Там, со стороны породы, к щиту, словно каркас плоского зонтика, прилепилась сложная, но правильная сеть шлангов и брандспойтов с россыпью ярких ламп.
Из устремленных вперед черных брандспойтов, как сверкающие алмазные жгуты, вырывались могучие водяные струи и в перламутровом облаке пара и водяной пыли били в невидимую породу. Черная жидкая пульпа пенистыми каскадами низвергалась вниз, в пуль-поприемник, откуда через отводную трубу выводилась насосами вверх и выбрасывалась на дно океана.
Едва Лавров и Кундин сошли с эскалатора, к ним подошел плотный человек в скафандре. За стеклами шлема виднелось полное лицо с большими спокойными глазами под высоким лбом.
"Лоб философа", — подумал почему-то Лавров, всматриваясь в это лицо.
Это был Арсеньев.
— Товарищ Кундин, — не торопясь сказал он, едва прибывшие соскочили с эскалатора, — я считаю…
Багровая молния внезапно сверкнула откуда то сверху из за щита и прервала Арсеньева.
Сейчас же последовал ряд беззвучных багровых вспышек. Плотные клубы пара, словно грозовые тучи, быстро распространялись по всему пространству за щитом, поглощая брандспойты и сверкающие струи воды, затемняя свет многочисленных ламп.
— Лава! — вскрикнул Кундин.
— Ну, что же вы, товарищ Кундин! — быстро сказал Лавров, глядя с недоумением на Кундина. — Что вы смотрите? Надо принять первые меры! Надо выключить ходовые моторы щита! Пусть он свободно движется назад под давлением пара. Увеличить подачу воды в секторе Дельта щита! Ввести туда же холодильники!
Вверху в этом секторе вспыхнуло огромное багровое зарево. Медленно, нарастающей тягучей струёй полился вниз темно красный лавовый поток.
— Привести в исполнение распоряжения заместителя министра! Вызвать подвахтенных! — торопливо приказал Кундин Арсеньеву, изумленному вмешательством незнакомого ему человека.
Бросив быстрый взгляд на Лаврова, Арсеньев тотчас передал его приказания гидромониторщику на центральной площадке щита.
За щитом в густой пелене пара уже ничего не было видно, кроме полыхающего багрового пламени. Все кругом окрасилось в этот неестественный зловещий цвет.
Лавров стоял неподвижно, запрокинув голову и не сводя глаз с багрового пятна под сводом тоннеля.
Что делать? Лавовый поток не остановишь… Неужели катастрофа? Гибель работ? Какова мощность магмовой жилы? Не может быть, чтобы она была велика… Иначе ее тепловое влияние давно почувствовалось бы… И лава темная… По-видимому, в процессе остывания… В каком направлении идет жила? Вдоль тоннеля… Она ощущается во всем тоннеле… Нет, не во всем… Только в последних четырех галереях… Значит, она идет наклонно и лишь в секторе Дельта ближе всего подходит к тоннелю…
Сердце у Лаврова радостно дрогнуло от предчувствия дальнейших выводов.
Значит, магмовая жила маломощна и находится в процессе естественного охлаждения…
— Не страшно! — неожиданно для себя произнес он вслух.
— Почему не страшно, Сергей Петрович? — послышался неуверенный голос Кундина.
Лавров резко повернулся к нему и увидел округлившиеся глаза и растерянную улыбку.
— Багровая лава, — ответил Лавров, показывая рукой вверх. — И не бьет фонтаном. Значит, под слабым давлением. Ничего, Григории Семенович, — ободряюще улыбнулся он Кундину. — Не пропадем!
"Что с ним? — думал в то же время Лавров. — Растерян? Испуган? Сам не видит, что ли? Ведь опытный геолог! Нехорошо…"
Через щели между щитом и стенами тоннеля с шипением и свистом вырывались клубы горячего пара. С минуты на минуту надо было ожидать, что под его возрастающим давлением щит двинется назад. Прибежала на помощь вызванная из поселка следующая смена операторов.
Кундин, очевидно пришедший в себя, по телефону от дал приказание Курилину прислать к щиту батарею сверл и холодильных машин. Бригада Арсеньева на веренице электрокаров везла к щиту толстый черный шланг. От его головной части, словно щупальцы осьминога, ответвлялось несколько более тонких шлангов. Лавров и Кундин присоединились к бригаде. Надо было торопиться. За щитом в пульпоприемнике уже вырос холмик застывающей лавы, исходившей паром. Щит возле нее понемногу разогревался, но лившаяся сверху непрерывным потоком пульпа замедляла это разогревание.
Спущенные сверху, со свода тоннеля, толстые тросы с когтистыми лапами грейферов захватили головную часть шланга и потащили ее вверх, к сектору Дельта щита. Словно гигантский черный удав, шланг поднимался к своду тоннеля.
Кундин вызвал Садухина из восьмой галереи, а сам вместе с Лавровым перешел на эскалатор, тянувшийся изгибами по поверхности щита. По ту сторону его прозрачной стены мелькали переплетающиеся тени черных шлангов и торчащих вперед брандспойтов, тускло сверкали вырывавшиеся из них теперь уже рубиновые струи воды, сейчас же пропадавшие в густой пелене кровавого тумана.
Эскалатор, извиваясь, нес выше и выше Лаврова и Кундина. Где-то внизу видны были все уменьшающиеся фигурки людей. Огромные механизмы и аппараты на дне тоннеля казались игрушечными. Случайно коснувшись локтем щита, Лавров почувствовал его чуть заметное содрогание от нарастающего давления паров.
В стороне появилась и поплыла вниз большая полукруглая площадка центрального поста управления гидромониторами с одинокой и неподвижной фигурой гидромониторщика у пульта.
Когда Лавров поднялся на озаренную багровым светом площадку сектора Дельта, головная часть шланга уже висела в воздухе возле нее.
Снизу Курилин доложил, что батарея сверл и электрохолодильных аппаратов доставлена к щиту. Через несколько минут поднялись на верхнюю площадку щита Садухин с Арсеньевым. Еще один спущенный со свода грейфер захватил внизу огромное сверло и доставил его на площадку. Это была толстая металлическая труба. Ее длинная коническая вершина, похожая на грубый бурав, несла на себе витки глубокой винтообразной нарезки. Внутри трубы находились электроаккумуляторы, моторы, вращавшие вершину сверла, лента легкого зубчатого конвейера, держатели и другие механизмы.
Предстояла самая трудная и опасная часть аварийных работ. Нужно было открыть герметически закрытую дверь щита на выдвижной площадке, проникнуть в наполненное горячими газами и паром пространство за щитом, приблизиться к лавовому потоку и ввести в окружающую его породу сверло.
— Товарищ Садухин, — сказал Кундин, — прошу подготовиться к замораживанию грунта вокруг магмовой жилы. Кого вы возьмете себе в помощь?
— Со мной пойдет Грабин из десятой галереи, — заявил Садухин. — Я вызываю его. Он будет здесь через несколько минут, а я тем временем подготовлю все необходимое.
Новый грейфер поднимал уже снизу к площадке горизонтальный станок для сверла и необходимые инструменты.
На щите возле двери висел небольшой щиток управления с несколькими разноцветными кнопками. Садухин нажал одну из них. Площадка вместе с перилами стала медленно удлиняться, пока не увеличилась вдвое. Тогда Садухин по телефону приказал опустить грейфер с грузом, и тяжелый станок мягко стал на площадку. Раздвинув станок, Садухин с помощью Арсеньева и Кундина уложил на него сверло вершиной к дверям щита.
В это время эскалатор принес Грабина. Это был высокий молодой человек с густой копной рыжих волос. Даже мешковатый скафандр не мог скрыть его худобы. Когда он наклонился, переходя с эскалатора на площадку, Лаврову показалось, что этот человек переломится пополам. Кивком головы Грабин поздоровался со всеми находившимися на площадке и молча сразу принялся скреплять конец одного из головных щупальцев шланга с основанием сверла. Очевидно, Грабин был из породы немногословных людей. В дальнейшем за всю операцию он обронил лишь несколько коротких и совершенно необходимых фраз.
Едва Грабин появился на площадке, Кундин подошел к щитку управления и нажал новую кнопку. За прозрачной стеной щита, в густом клубящемся тумане, освещенном багровым светом лавы, можно было различить какую-то тень, отделившуюся от щита. Она ушла в глубь красного пространства и через минуту растворилась в нем.
— Садухин и Грабин, приготовиться! — отдал команду Кундин. — Открываю дверь. Всем остальным отойти к перилам!
Садухин встал впереди, против двери, Грабин — позади станка.
— Готово, — произнес Грабин.
Две половины двери раздвинулись, и открылся вход в пространство за щитом. И тотчас оттуда вырвались огромные клубы пара и газов, накрыли всех находившихся на площадке и поднялись кверху, к своду, облаком расползаясь под ним.
Сквозь эту густую пелену Лавров заметил, как шагнула за дверь и растаяла фигура Садухина, как быстро двинулся туда же высокий станок с лежащим на нем огромным сверлом, таща за собой толстый черный шланг с перевязанным пучком ответвлений у его головной части. Держась за станок, прошла высокая расплывчатая фигура Грабина и исчезла в багровой мгле.
Садухин и Грабин перешли на выдвижную площадку за щитом и приближались теперь к пышущей смертельным жаром лавовой струе.
— Товарищ Георгиевский! — вызвал Кундин к телефону гидромониторщика с центральной площадки. — Закрыть воду во всех секторах, кроме сектора Дельта! В секторе Дельта дать распыление!
— Есть закрыть воду во всех секторах, а в секторе Дельта дать распыление! — отозвался гидромониторщик.
И сразу пропал плотный, как ткань, рев, словно он исчез в какой-то раскрывшейся под тоннелем бездне. Ушам стало больно от внезапно наступившей тишины, хотя тишина эта совсем не была абсолютной: внизу продолжали работать машины, гудели моторы, мощно и равномерно вздыхали насосы, шумели эскалаторы.
— Товарищ Курилин, следующее сверло на площадку! — приказал Кундин.
— Готово, товарищ Кундин, — ответил Курилин снизу.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
БОРЬБА С ЛАВОЙ
Подавшись всем телом вперед к двери, Лавров напряженно вслушивался и всматривался в клубящиеся за щитом багровые облака пара, ловя оттуда хоть какие-нибудь признаки жизни и движения.
Люди и машина бесследно растворились в этих облаках. Совладают ли они с пылающей стихией? Если снаряд хорошо справляется с ничтожными искусственными очагами, то что будет, когда он встреться с очагами естественными, с беспрерывно прибывающими потоками магмы? Что если только ближайшие массы лавы начали застывать, а за ними пойдет настоящая, жидкая, расплавленная лава из глубоких недр? Лавров тяжело дышал, вцепившись онемевшей рукой в перила площадки, смотрел и слушал, боясь проронить малейший звук, малейшее движение из-за двери в стене щита, где сейчас, может быть, решается судьба огромной шахты.
И вдруг в клубящемся багровом пространстве за щитом возник свист. С каждым мгновением свист нарастал, становился все пронзительней. Лавров с трудом перевел дыхание и почувствовал себя воскресшим. Он бессознательно поднял руку, чтобы стереть испарину со лба, но рука в шершавой перчатке скользнула только по стеклам шлема.
— Сверло вошло в породу! — прозвучал под шлемом Лаврова голос Кундина.
Огромная радость охватила Лаврова.
— Вошло! Вошло! — громко закричал он в ответ, не в силах сдержать свое волнение.
Из густой туманной пелены, озаренные багровым пламенем, в дверях показались две человеческие фигуры и катившийся следом за ними сдвинутый станок.
— Сверло вошло в породу, — доложил Кундину с волнением в голосе Садухин. — В него можно послать холодильник. Давайте следующее.
Лавров готов был задушить в объятиях этих бесстрашных людей.
Через несколько минут по шлангу поднялась и прошла, как длинный округленный комок добычи в теле удава, холодильная машина и исчезла за дверью, направляясь в первое сверло.
Второе сверло уже лежало на раздвинутом станке, когда свист за щитом стал переходить в глухое жужжание. Садухин и Грабли опять направились со снарядом в раскрытую дверь. На этот раз прошел за щит и Лавров. Кундин и Арсеньев задержались на площадке снаружи, заканчивая подготовку операции.
За дверью лежал ровный пол, который дальше двух шагов уже не был различим в облаках пара. Казалось, еще шаг — и под ногами раскроется бездна. Багровое полыхание делалось все сильнее, впереди разрасталась красная лента изливающейся лавы. Эти полтора десятка метров до породы казались Лаврову бесконечными. Сверху сыпались густым дождем крупные капли воды, смягчая наружный жар. Но площадка была едва сыровата — влага быстро испарялась на ней.
— Осторожно, спуск! — предупредил Лаврова Садухин, шедший впереди.
Станок, повернув влево, мягко скатился на переднюю часть площадки и через минуту остановился.
Справа, совсем близко, в нескольких метрах от людей, с шипением лилась непрерывная толстая струя красноватой лавы.
— Струя как будто усиливается, — пророкотал бас Грабина.
— И лава сделалась, кажется, жиже, — добавил невидимый Садухин.
У Лаврова сжалось сердце. Держась рукой за станок, он прошел вперед, рядом с тянувшимся по полу шлангом. Через несколько шагов перед ним выросла облитая красным светом фигура Садухина, стоявшего у перил. Дальше была пропасть, наполненная волнующимися клубами пара. Через перила тянулось одно из ответвлений шланга и исчезало в темной породе. У входа в нее шланг был окружен прозрачно-металлическим кольцом. За кольцом сквозь мглу видны были циферблаты приборов, показывавших ход работы сверла, температуру и давление окружающей породы. Оттуда неслось глухое урчанье. Это сверло проникало в толщу земли.
— Почему вам кажется, что лава сделалась жиже, товарищ Садухин? — спросил Лавров молодого инженера.
— Она раньше лилась прерывисто, тягучими комками, — ответил Садухин. — Да вот посмотрите на электропирометр, который я здесь установил в самой струе. Ну да! Температура лавы повысилась за последние полчаса на сорок два градуса. Надо поскорее установить вокруг струи как можно больше холодильных машин.
— Одной батареей не обойдемся, — отрывисто прогудел Грабин.
— Товарищ Кундин, надо подумать о тампоне, — сказал Лавров. — Дело, кажется, принимает более серьезный оборот…
— Хорошо, Сергей Петрович, — ответил по телефону из-за щита Кундин. — Сейчас я отдам распоряжение о подготовке тампона и второй батареи.
— Тесней устанавливайте сверла, товарищ Садухин! — приказал Лавров. — Торопитесь!
— Подымаю площадку, товарищ Лавров, — предупредил Садухин.
На перилах был укреплен небольшой круг с кнопками и рычажками, между которыми находилось маленькое штурвальное колесо. Садухин нажал одну из кнопок. Передняя часть площадки вместе с находящимися на ней людьми и снарядом стала подниматься кверху. Садухин повернул штурвальное колесо, и площадка, продолжая подниматься, уклонилась чуть влево. Мимо площадки, волоча за собой свой шланг, поплыло вниз прозрачно-металлическое основание первого сверла. Лавров следил за ним, перегнувшись через перила и пристально всматриваясь в показания приборов. Вдруг стрелки магмоманометра и пирометра резко подпрыгнули вверх. Манометр показывал критическое давление — двести тридцать, а пирометр — тысячу триста шестнадцать градусов. И одновременно со скачком стрелок приборов прозрачное кольцо у основания сверла дрогнуло и забилось мелкой дрожью.
Лавров отчаянно закричал:
— Стой!.. Стой!.. Предельное давление! Прижать площадку к сверлу!
Не давая себе времени даже подумать, Садухин моментально изменил прежнее движение площадки и полным ходом направил ее на основание сверла, которое в этот момент находилось как раз на уровне площадки.
Но едва лишь она двинулась к мрачной, изъеденной брандспойтами стене породы, как послышалось грозное рычание, немедленно перешедшее в перекатывающийся гул. И вдруг, словно залп многочисленных орудий, прокатился по тоннелю громовой удар и оглушил людей. В струях жидкого пламени из раскрывшихся недр с ужасающим воем и свистом, как огромный многометровый снаряд, вырвалось сверло. Оно пролетело над головами людей, увлекая за собой черный шланг, с грохотом ударилось о щит возле раскрытой двери и упало на площадку. За ним на площадку, по правую сторону от станка, где стоял Грабин, хлынула мощная струя бело-желтой сверкающей лавы.
Громадная глыба беззвучно отделилась от породы и, на секунду повиснув в воздухе, ринулась вниз. Она лишь краем задела угол площадки, и отчаянный крик людей, жалобный визг и скрежет металла потонули в общем гуле и грохоте. Струя лавы сразу превратилась в широкий поток. Пламенно-желтой густой пеленой, пузырясь и вскипая, с перебегающими по ней зеленовато-голубыми язычками пламени, лава с ворчанием полилась вниз, заливая край площадки и все, что было на нем. В огнедышащей струящейся занавеси мелькнули несколько темных вертящихся теней и мгновенно исчезли.
Последнее, что заметил Лавров в этот короткий миг, был невероятный скачок какого-то фантастического всадника, в дыму и пламени, через перила, прямо в пылающий поток. И еще он помнил ощущение надежной твердости в перилах, судорожно зажатых в обеих руках…
* * *
Глубоко вздохнув, Лавров очнулся. Он лежал на внешней площадке. Склонившись над ним, на коленях стоял врач. Через тончайшую иглу он осторожно впускал из баллона под скафандр Лаврова какой-то животворящий газ — новейшее достижение советской медицины.
— Что с ним? — услышал Лавров дрожащий голос. — Скажите, что с ним? Надо унести его отсюда… Скорее…
Кундин боязливо ступил с эскалатора на площадку, со страхом оглядываясь на бушующую за щитом стихию. В глазах его стоял безумный страх, посиневшие губы подергивались.
За спиной врача, сквозь прозрачную стену щита, Лавров увидел полыхающую желтым пламенем плотную лавовую завесу, тяжело струившуюся вниз. И сразу все всплыло в его памяти.
— Садухин?.. Грабин?.. — едва слышно произнес он. — Где они?
— Успокойтесь, успокойтесь, Сергей Петрович… — прерывающимся голосом ответил Кундин. — Садухин жив…
— А Грабин? Говорите же! Где Грабин? — крикнул Лавров, поднимаясь на ноги.
Кундин отвел глаза и молча указал головой на бесконечный огненный свиток, разворачивавшийся за щитом.
С минуту Лавров стоял в оцепенении, с широко раскрытыми, неподвижно устремленными на лавовый поток глазами.
Дверь щита была открыта. Площадка по ту сторону щита была лишь до половины притянута. На ней у самой двери лежало длинное сверло с внутренними, телескопически выдвинутыми трубами, облепленными застывающей лавой. По ту сторону щита толстый черный шланг, свернувшись в кольцо, словно гигантский удав, разбросал по полу, у ног людей, свои могучие головные щупальцы.
Несколько человек хлопотали возле батареи сверл, устанавливали приборы.
Лавров медленно опустил руки и поднял голову. Лицо его было искажено болью.
— И вы были на волосок от его участи, дорогой Сергей Петрович, — плачущим голосом произнес Кундин. — Страна не простила бы мне…
Лавров не слышал его.
— И даже тела его не отыскать… — прошептал он.
Помолчав, Лавров резко вскинул голову.
— Что думаете делать, товарищ Кундин? — отрывисто спросил он.
Кундин посмотрел на него растерянными глазами и не сразу ответил.
— Надо… надо созвать совещание… Такой мощный поток не остановить… Надо дать ему излиться хотя бы частично…
Лавров подошел к раскрытой двери и всмотрелся в клубящиеся облака пара, окрашенные теперь в желтый цвет. Первая струя лавы потеряла первоначальную багровую окраску, тоже переменив ее на желтую.
— Какое расстояние отделяет нас сейчас от головы встречного тоннеля из шахты бис? — спросил Лавров, не сводя глаз с лавового потока.
— Две тысячи двести метров, — ответил Кундин.
— Прикажите шахтному диспетчеру передать на шахту бис мое распоряжение: продвигать щит и производить метаморфизацию породы вокруг тоннеля крайне осторожно, с глубокой разведкой недр на температуру и давление. Дайте им подробную информацию о нашей аварии.
Пока Кундин передавал по телефону этот приказ, Лавров неподвижно стоял у двери. Он лихорадочно перебирал в мыслях все способы борьбы со стихией. Что делать? Что можно сделать?
Такой мощный поток не затампонируешь. Очевидно, эта лавовая жила имеет сообщение с основным магмовым очагом, лежащим на большой глубине. Значит, поступление лавы из него будет непрерывным… Тогда с ним не справиться имеющимися средствами… Через несколько часов это станет ясным… Но и ждать сложа руки, оставаться пассивным нельзя… Надо бороться!
— Вы кончили, Григорий Семенович? — резко обернулся Лавров к Кундину.
— Все сделано, Сергей Петрович, — ответил тот, взглянув на Лаврова.
— Прикажите включить брандспойты нижних секторов, — быстро заговорил Лавров. — Увеличить дозировку георастворителя, чтобы удалять накопляющуюся внизу у щита лаву. Ввести в нее несколько холодильных машин, чтобы ускорить охлаждение. Увеличить число работающих вентиляторов, чтобы не допустить проникновения паров и газов из тоннеля в поселок. Отвести назад щит на десять метров.
— Сейчас передам, Сергей Петрович, — торопливо ответил Кундин.
— Приступить к тампонированию первой, более слабой струи, — продолжал Лавров. — Одновременно начать глубокое зондирование по трассе, чтобы установить границы и очертания магмовой жилы.
Через минуту снизу послышался знакомый гул начавших работать брандспойтов. Одновременно площадка под ногами Лаврова вздрогнула: щит медленно и плавно, почти незаметно для глаза, сдвинулся с места и начал попятное движение по рельсам.
"Ничего, — сжав зубы, думал Лавров. — Сегодняшнее отступление завтра превратится в наступление. Мы посмотрим, чья возьмет…"
* * *
Весь остаток дня и всю последующую ночь в тоннеле шла напряженная работа. В галереях, производивших расплавление, порода была заморожена, все операторы по метаморфизации грунта находились за щитом, в головной части тоннеля. Они были заняты глубокими разведками и замораживанием породы вокруг продолжавшего бить лавового потока. Длинные, непрерывно наращиваемые стержни разведочных аппаратов углублялись на десятки и сотни метров в окружающие недра. Измерительные приборы доносили о внутренней температуре и давлении, выбрасывали образцы проходимых горных пород. Все яснее и определеннее становились контуры магмовой жилы, ее объем, протяжение, направление.
Лавров не ошибался, когда говорил, что жила идет наклонно снизу вверх в нескольких десятках метров сбоку от тоннеля. Электроплавы галерей слишком далеко углубились в породу, размягчили слой, отделявший тоннель от магмовой жилы, и лава, находившаяся под большим давлением газов, прорвав этот слой, теперь изливается за щитом.
Ранним утром, на совещании, которое было созвано в коттедже Лаврова, старший геолог шахты доложил об этом. По его мнению, магмовая жила, проходящая вблизи тоннеля, изолирована и лишена притока свежей лавы из какого-либо глубоко лежащего в недрах магмового очага. Это видно из того, что лавовый поток, по последним измерениям, несколько уменьшился, точно так же как и скорость его истечения. Очень возможно, что в этом сказывается и влияние работы холодильных машин, замораживающих грунт вокруг лавопада, хотя пока еще на далеком от него расстоянии.
Садухин доложил совещанию, что первый небольшой поток лавы в секторе Дельта восьмой галереи уже затампонирован. Конусовидный тампон из огнеупорной упругой пластмассы заткнул, как пробка, отверстие и под давлением воздуха в четыреста пятьдесят атмосфер продвигается сейчас в глубь породы, неся в себе мощный холодильный аппарат.
Учитывая этот успех, Лавров приказал применить вчетверо больший тампон для ликвидации главного потока лавы за щитом.
— Эту опасную операцию я поручаю вам, товарищ Садухин, — обратился Лавров к молодому инженеру, с мягкой улыбкой глядя на него.
После памятного происшествия на площадке щита, когда оба они так счастливо избежали опасности, между ними возникло какое-то теплое, братское чувство.
Горячая краска залила круглое лицо Садухина, и он тихо произнес:
— Благодарю вас, Сергей Петрович… Будет сделано…
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ
ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ УДАР
Отпустив участников совещания, Лавров решил дать себе отдых часа на два.
В комнате со спущенными шторами стояла плотная тьма. Из поселка доносились слабые отзвуки никогда не замирающей жизни, убаюкивающее пыхтение какой-то машины, могучие вздохи пульпоотводных насосов. Перед Лавровым настойчиво стояли картины прошедших суток, блеск лавы, лица людей. Он вертелся на постели в тяжелой беспокойной дремоте, не в силах заснуть.
Как это произошло? Как ему удалось спастись из этого огненного ада? Как погиб Грабин?
Площадку встряхнул обвал, она упруго подбросила кверху, через перила, станок со сверлом и Грабина. Грабин был легче станка, он взлетел выше, и Лаврову показалось, тогда, что человек оседлал машину и летит на ней, как огненный всадник, прямо в пропасть, сквозь желтое зловещее облако пара. Кипящий поток лавы захватил его и увлек с собой… Кундин потом рассказывал, что через одно мгновение, придя в себя, Арсеньев бросился на площадку. Он нашел Лаврова перекинутым через перила. Лавров судорожно ухватился за них обеими руками и был без сознания. С трудом удалось оторвать его руки от перил. Арсеньев отыскал и Садухина, лежавшего на площадке у самых перил, под толстым слоем засыпавшей его породы. Хорошо, что глыба только краем задела площадку. А куда исчез Кундин? Откуда он потом появился на площадке? Лавров поспешно прогнал неприятную мысль и вернулся к Арсеньеву. Кундин куда-то сейчас же услал его, и Лавров так и не видел с тех пор Арсеньева. Не поблагодарил, не пожал его руки. Какая нужна была смелость, чтобы броситься, не думая, вперед, в желтую огненную мглу, не видя ничего перед собой, не зная, цела ли площадка или сорвана обвалом породы! Надо сейчас же отыскать этого чудесного человека, увидеть его, поговорить… Как он выглядит без скафандра?
Усталость одолевала, сон, как тяжелая глыба, опускался на сознание. Мелькнуло молодое розовощекое лицо Садухина с большими детскими глазами. Удивительно милое лицо… Его заслонило смуглое лицо Курилина. Странно, теперь, в полудремоте, Лавров увидел небольшой розовый рубец на его лбу под черными спадающими волосами, услышал какие-то неприятные нотки в ласковом, тихом голосе.
Курилин растворился в желтом тумане, и Лавров забылся, силясь что-то сказать внезапно появившемуся из тумана Кундину. Тогда Кундин начал стучать, грохотать и звать: "Сергей Петрович! Сергей Петрович!"
Отчаянным усилием воли Лавров раскрыл глаза и сел на кровати.
В дверь продолжали стучать, и голос Кундина настойчиво звал:
— Сергей Петрович! Сергей Петрович! Проснитесь! Срочная радиограмма из Москвы!
Сна как не бывало.
Через минуту лента радиограммы была в руках Лаврова. Она оказалась шифрованной.
— Пожалуйста, Григорий Семенович, вызовите сюда радиста с книгой шифров. А я пока оденусь и приведу себя в порядок. Который час?
— Семь тридцать.
— Батюшки! А я хотел в шесть быть уже в тоннеле. Забыл задать срок радиобудильнику.
— Не торопитесь, Сергей Петрович, — смущенно отводя глаза, говорил Кундин. — В тоннеле аварийные работы идут по графику. Лавовый поток ослаблен. Скопившаяся внизу лава почти вся размыта. Садухин занят своими тампонами. Как видите, все в порядке… если можно так выразиться… Ну, я пойду вызову к вам радиста.
Когда Лавров вышел из спальни, умытый и одетый, радист уже заканчивал расшифровку радиограммы, на столе был сервирован завтрак, и Кундин снимал со стенного конвейера кофейный термос.
Радист передал Лаврову листок с текстом, попрощался и ушел.
Лавров пробежал глазами радиограмму и воскликнул:
— Как же я мог об этом забыть! Скажите, Григорий Семенович, к вам сюда должен был прибыть некто Коновалов, Георгий Николаевич? Он здесь работает?
Кундин удивленно пожал плечами.
— Ну как же? — продолжал Лавров. — Вот и радиограмма об этом. Послушайте: "ВАР. Шахта номер шесть, замминистра Лаврову. Отстраните немедленно от работы Коновалова Георгия Николаевича. Установите строгий надзор за ним, подвергните домашнему аресту. Возвращаясь в Москву, предложите командиру вашей подводной лодки под его ответственность принять Коновалова и доставить в Москву. Мингосбез Татаринов, лейтенант Хинский".
— Коновалов? — с тем же недоумением переспросил Кундин. — Не понимаю. Никакого Коновалова у нас нет…
— Как же так? Сколько человек приехало к вам с "Полтавой" и "Щорсом"?
— Семь человек, но среди них нет никого с такой фамилией.
— Куда же он мог деваться с "Чапаева"? — задумчиво спросил Лавров, принимая от Кундина стакан кофе.
— Может быть, он высадился у соседней шахты шесть-бис или направился дальше, к шахте номер семь, — предположил Кундин, расправляясь с огромным бифштексом. — А в чем тут дело?
— Надо будет сейчас же ответить Хинскому. Сообщу ему и ваши соображения, — сказал Лавров, пропуская мимо ушей вопрос.
Он набросал радиограмму на листке из своей записной книжки, подписал и передал ее Кундину.
Быстро покончив с завтраком, Лавров и Кундин вышли из коттеджа. Кундин поспешил на радиостанцию, пообещав Лаврову догнать его у центральной башни. Лавров пошел дальше по улице, погруженный в раздумье, не обращая внимания на встречных и обгоняющих его людей.
— Доброе утро, товарищ Лавров! — окликнул его сзади знакомый голос.
Лавров оглянулся. Перед ним был Курилин — без шапки, с каким-то тяжелым пакетом в руках.
— Здравствуйте, товарищ Курилин! — ответил Лавров со смешанным чувством любопытства и недружелюбия. — Куда это вы так рано?
Подняв глаза, он мельком посмотрел на лоб Курилина и чуть не вскрикнул: под спадающей прядью черных волос виднелся небольшой розовый рубец!
Курилин пристально, не мигая, смотрел Лаврову в глаза и что-то говорил. Смущенный своим открытием, так странно совпавшим с виденным во сне, Лавров понял из слов Курилина лишь то, что он идет продолжать работу на морском дне.
— И что это вы несете с собой? — неожиданно для самого себя спросил Лавров и сейчас же подосадовал на свою нетактичность.
"Какое мне дело до этого?" — подумал он.
Но Курилин, спокойно глядя в глаза Лаврову, ответил:
— Кое-какие инструменты для работы, Сергей Петрович. Как дела в тоннеле?
— Ничего… — неохотно ответил Лавров. — Думаю, что все ограничится задержкой проходки на три-четыре дня. Прощайте, товарищ Курилин!
Он кивнул головой и повернулся, направляясь к башне.
— Прощайте, прощайте, товарищ Лавров! — послышался ему вдогонку голос Курилина с какой-то странной интонацией.
Эта интонация, чуть уловимая и уже знакомая, так поразила Лаврова, что он невольно обернулся. Но Курилин спокойно шагал, не оглядываясь, по направлению к порт-тоннелю, чуть склонившись набок под тяжестью своих инструментов.
"Дурацкие нервы! — с досадой подумал Лавров. — Переутомление, наверное…" И он зашагал быстрее.
* * *
Пройдя через раскрытые ворота в порт-тоннель и лавируя среди разбросанных повсюду грузов, Курилин добрался до выходной камеры. В гардеробной, небольшом боковом помещении камеры, он отыскал среди множества других свой металлический скафандр и медленно, не совсем уверенными движениями надел его. Потом, перейдя со своим пакетом в выходную камеру, нажал одну из кнопок на щите управления у наружной двери. Послышалось знакомое урчание поступающей в камеру воды. Выждав, пока камера наполнилась и насосы автоматически прекратили работу. Курилин нажал другую кнопку и через раскрывшуюся дверь вышел на дно океана.
Здесь он запустил винт, поднялся над дном и, не зажигая фонаря, описал большой полукруг вокруг поселка. Внизу на дорогах время от времени проносились пустые и груженные электрокары с людьми у контроллеров. Несколько машин очищало дороги от осевшего на них ила. Но обычного оживления здесь не было: большая часть людей работала в поселке и в тоннеле, исправляя аварию.
У самого поселка, возле прозрачного свода, было пустынно. Курилин подплыл к своду со стороны своего склада, самого малопосещаемого уголка в поселке. Да если бы кто-нибудь и был там в это время, вряд ли он различил бы фигуру Курилина в темноте океана.
Курилин опустился со своей ношей на дно в тени склада, расположенного за сводом в нескольких метрах от него.
Поискав и быстро найдя какое-то знакомое место на дне возле свода, Курилин раскопал лопаткой ил и извлек из него еще несколько пакетов, похожих на только что принесенный им. Из одного пакета выходили два провода, и Курилин поставил его у основания свода. Остальные он взгромоздил на первый, потом присоединил один из проводов нижнего пакета к следующему, а другой — к самому верхнему и медленно, как бы что-то рассчитывая, повернул круглую головку, торчавшую из нижнего пакета.
— Времени вполне достаточно, — пробормотал он, — можно уходить… Ну-с, прощайте, товарищ Лавров. Честь имею кланяться!
И, запустив винт на максимальное число оборотов, Курилин ринулся в темное пространство океана.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НА ЛЬДИНЕ
Голос Ивана Павловича, полный отчаяния и безнадежности, поразил Комарова. Майор опять посмотрела ту сторону, где только вчера стоял "Чапаев", и, помолчав, заговорил, стараясь придать своим словам бодрость и уверенность:
— Не надо предаваться отчаянию, Иван Павлович! Люди мы взрослые, профессии у нас обоих далеко не уютные… Во всяких переделках бывали. Будем надеяться, что и тут не пропадем. Поборемся! А? Как вы думаете, дружище?
Он опять взглянул на Карцева и чуть не поперхнулся от неожиданности.
Маленький, тщедушный Иван Павлович, едва достигавший плеча Комарова, искоса, с легкой снисходительной усмешкой смотрел на майора. Он как будто говорил: "Утешать, кажется, вздумали, дорогой товарищ? Ну что же, если это доставляет вам удовольствие… Но если бы вы знали то, что я знаю… посмотрел бы я на вас!.."
— Конечно, вы правы, Дмитрий Александрович, — сказал моряк, отводя глаза, с той же легкой усмешкой. — Только не отчаяние! Это было бы не вовремя и не к месту.
— Очень рад… — пробормотал Комаров. — Что же, по-вашему, нам сейчас делать в этом положении? Уж вам как старому полярнику придется теперь думать за всех нас. Говорите…
Иван Павлович молча смотрел в серую даль, за которой скрылись ночью "Полтава" и "Щорс". Ветер свистел между торосами, ерошил шерсть на Плутоне, сидевшем на снегу, у ног моряка. Пухлыми клубами бежали вверх облака. Редкие чайки с плачущим криком взмывали по ветру, падали вниз на изломанных крыльях и уносились куда-то на запад, исчезая за высокими торосами.
— Открытое море, видно, недалеко, — задумчиво сказал Иван Павлович, наблюдая за полетом птиц. — Да, положение не сладкое, Дмитрий Александрович. Но я надеюсь, что оно долго не продлится. Если бы "Чапаев" уцелел, он сейчас же выслал бы геликоптер на поиски. Но все указывает на то, что он погиб.
— А как с людьми?
— Думаю, что они все благополучно перешли на "Полтаву" или на "Щорс". А на этих кораблях самолетов нет.
— Вы хотите сказать, что на помощь нечего рассчитывать?
— Ну, что вы! На поиски полетят машины со всех ближайших баз и поселков Карского моря. Неизвестно лишь, какая погода у них и во всем нашем районе. Если даже такая штормовая, но ясная, как здесь, то она не остановит летчиков. А если снегопад, пурга, то при плохой видимости полеты будут бесполезны и наше пребывание на этой льдине затянется.
— А с ней не случится того, что произошло этой ночью? Не расколется?
Иван Павлович пожал плечами:
— Все, конечно, может быть. Ветер штормовой, волна на море большая и, как во всех мелководных морях, крутая. И наша льдина может не устоять.
— Что же нам делать?
— Пойдемте кофе пить. За кофе и обсудим. Работы найдется немало.
— Будь по-вашему, — улыбнулся Комаров.
Подгоняемые ветром, они направились к вездеходу в сопровождении Плутона. Невдалеке высоко поднимался одинокий торос. Огромная льдина толщиной не менее двух метров, вывернутая на поверхность льда, почти отвесно стояла на смерзшейся и покрытой снегом груде ледяных обломков.
Иван Павлович направился к ней.
— Не мешает ознакомиться с окрестностями. Подождите минутку, Дмитрий Александрович, я скоро вернусь.
— И я с вами.
Скоро они оказались у подножия ледяной горы и начали взбираться на ее вершину. Задача была нелегкая, но они справились с ней. Плутон не отставав от них. Однако на острой, серебристой вершине под сильными порывами ветра встать на ноги не удалось. Но и того, что они увидели лежа, с приподнятыми над вершиной головами, было достаточно.
Огромное ледяное поле, местами ровное, местами изуродованное хаотическими нагромождениями торосов, тянулось до горизонта во все стороны. Лишь далеко на западе виднелась темная полоса "водяного неба", указывающая на присутствие там чистой воды.
— Вот это и будет для нас одной из первых задач — обследовать размеры и состояние нашего ледяного поля, — сказал Иван Павлович, спускаясь с тороса…
Дима еще сладко спал, когда Комаров и Иван Павлович вошли в кабину. Моряк включил электрический кофейник и начал вынимать из шкафа закуски.
— Мы теперь вроде Робинзонов на острове, — вполголоса говорил он, умело, как и все моряки, занимаясь хозяйством. — Разница только в том, что у него под ногами была твердая земля, а у нас — ненадежный ледяной плот, который вдобавок несется по воле ветра и течений неведомо куда.
— Кстати, если наше ледяное поле плывет, то как вы думаете — куда именно? — спросил Комаров, протискиваясь между шкафом и столом и усаживаясь на складной стул.
— Куда-нибудь к Северной Земле, на юго-восток, — ответил Иван Павлович, наливая себе и Комарову горячего кофе.
— На юго-восток? Разве ветер переменился? Вчера он как будто дул прямо с запада?
— Ветер тот же, но ледяное поле не пойдет прямо на восток, а отклонится к югу.
— Это почему же?
— Потому что, кроме ветра, на него действует отклоняющая сила вращения Земли.
— Сколько же времени нужно нашему ледяному полю, чтобы приплыть к Северной Земле?
— От острова Октябрьская Революция, среднего из четырех крупных островов архипелага Северной Земли, мы находимся милях в ста — ста двадцати. А с какой скоростью плывет ледяное поле — неизвестно. Это еще надо узнать. Может быть, оно и совсем не движется, если море между ним и берегом замерзло.
— Как же это узнать?
— Надо будет астрономически определяться… погружать в воду что-нибудь вроде лота.
— Это уже по вашей части, Иван Павлович. А мне что пока делать?
— Не вам одному, а всем нам надо прежде всего заняться разборкой выброшенного на лед аварийного запаса. Весь комплект запаса, как мне кажется, выбросить не успели. Надо узнать, лопал ли на лед ящик с мореходными и астрономическими инструментами, с географическими картами, справочниками. Хотя кое-что, самое необходимое и простейшее, должно иметься в вездеходе.
Он встал из-за стола и сунул руку в один из карманов на стенке кузова, возле кресла водителя.
— Ага, есть фотоэлектрический секстан, долготомер84 и небольшая карта. И на том спасибо.
Они беседовали вполголоса, намечая план первоочередных работ и перспективы дрейфа, пока не послышался короткий, как будто испуганно оборвавшийся зевок и встревоженный голос Димы:
— Плутон! Где Дмитрий Александрович? Где Иван Павлович?
Преданно глядя на Диму, Плутон ограничился тем, что добродушно помахал хвостом.
— Мы здесь, соня ты этакая! — ответил Иван Павлович. — Вставай скорее завтракать.
— А меня почему не разбудили? — обиженно спросил Дима, вскакивая с кресла и торопливо натягивая на себя костюм. — А умыться тут негде?
— Выйди наружу, потри лицо снегом, вот и омоешься, — усмехнулся Иван Павлович.
— Интересно! — рассмеялся мальчик и выскочил из кабины.
День начался необычно, и чувство нового, неизведанного уже не покидало Диму. За каждым торосом скрывалось что-то неизвестное, на каждом шагу ожидало какое-то открытие.
За разборку аварийного запаса принялись сейчас же после завтрака.
Ветер намел на груз огромные сугробы снега и плотно прибил его. Лопат не было, и работать пришлось чем попало. Дима нашел какую-то длинную пластмассовую дощечку от ящика со съестными припасами и усердно рыл ею снег. Заразившись общим увлечением, Плутон тоже азартно работал лапами.
Облако снежной пыли вскоре окружило Диму и Плутона. Пес отфыркивался, тряс головой и поминутно погружал в вырытую яму морду, к чему-то принюхиваясь. Через минуту Плутон весь поседел и так забросал Диму комьями снега, что мальчику стало трудно дышать и работать. Все его попытки отвести собаку подальше оканчивались неудачей. Плутон упорно возвращался к своей яме и яростно продолжал рыть. Его залепленная снегом морда была так уморительна, что невозможно было смотреть на нее без смеха.
Удивляясь необычному усердию Плутона, дорылись до первого ящика. Когда его совершенно очистили от снега, Иван Павлович громко прочел надпись:
— Окорока вареные…
Взрыв хохота, должно быть, впервые огласил эти пустынные ледяные просторы.
— Так вот что тянуло сюда Плутона! — смеялся Иван Павлович. — Жаль, что не весь груз состоит из окороков. Он бы его мигом откопал.
Дальше работа пошла скорее, потому что, как и предполагал Иван Павлович, в этом месте нашлась связка шестов, лопат, кирок, пешней, ледовых пил. Кроме того, главная куча груза, более или менее аккуратно сложенная, была укрыта огромным водонепроницаемым полотнищем.
Когда одна сторона груды была совсем очищена от снега и полотнище над ней приподняли при помощи шестов, получилось нечто вроде большой палатки, заполненной ящиками разнообразной величины и формы, бочками, тюками. Один за другим они извлекались из палатки и распределялись, а Дима записывал их в записную книжку Ивана Павловича.
Чего тут только не было! Нечерствеющий хлеб в огромных бочках, различные мясные изделия, консервы — молочные, овощные, кондитерские, — свежая зелень, крупы, кофе, какао, сахар, шоколад, конфеты. Этих продуктов хватило бы сотне людей на два — три месяца. Вперемешку с продовольствием попадались ящики с оружием — карабинами с оптическим прицелом, газовыми, световыми, ультразвуковыми ружьями и многозарядными пистолетами с комплектами боевых припасов, — ящики с инструментами, электролыжами, меховой и электрифицированной одеждой, кухонной утварью, аккумуляторами. При появлении одного длинного ящика Иван Павлович проявил живейшее чувство радости и удовольствия. На ящике была надпись "Скафандры — 5 штук — №№ 0–4".
— Ну, товарищи, — весело сказал он, — теперь окраска нашего будущего меняется: из серой переходит в розовую.
— В этих скафандрах можно плавать под водой, Иван Павлович? — заинтересовался Дима.
— Вот именно! Если нам станет тесно на льду, полезем в воду.
— Тесно?! — Дима в недоумении оглянул окружающие его ледяные просторы. — Как же здесь может быть тесно?
— Поживем, может быть увидишь, — ответил Иван Павлович. — Записывай, записывай скорее. Вот Дмитрий Александрович тащит что-то интересное.
Сначала каждая надпись на ящике или бочке вызывала взрыв радости, потом чувство новизны притупилось, и работа пошла спокойно и деловито. Некоторые ящики, судя по наклеенному на них списку, заключали в себе полный набор разнообразных продуктов для пяти человек на месяц. Попадались ящики и бочки, разбившиеся при попытке вынести их из палатки. Бочки с колбасами и ящик с жареной дичью развалились. Дорога от палатки до нового склада оказалась усеянной колбасами, рябчиками, гусями, курами. Над лагерем витал аппетитный запах закусочной или кулинарного магазина.
Это было слишком даже для такой дисциплинированной собаки, как Плутон, и он сделал мертвую стойку над большой жареной, соблазнительно пахнущей индюшкой… Нетерпеливо повизгивая, он умоляюще поглядывал на Диму.
Вдруг картина резко изменилась.
Одна за другой над лагерем неведомо откуда появились чайки. Они с криком кружили над рассыпанным угощением, проявляя самые недвусмысленные воровские намерения. Птицы бросались сверху на лед, взмывали вверх и опять, со свистом разрезая воздух, проносились почти над головами людей, торопливо подбиравших разбросанную снедь. Наконец одна из чаек стремглав кинулась на большой кружок колбасы, подхватила его и, низко летя со своей добычей, попробовала скрыться. Это ей, однако, не удалось. Несколько чаек с пронзительными криками бросились на удачливого вора, и в воздухе началась отчаянная драка.
Пораженный такой дерзостью, Плутон в первое мгновение окаменел над своей индюшкой. Затем, забыв о личных вожделениях, он бросился с громовым лаем к этой воровской банде, продолжавшей крикливо драться. В несколько прыжков он настиг ее и готов был жестоко расправиться с похитителями хозяйственного добра. Но, вцепившись клювами в колбасу, стайка поднялась повыше в воздух, перелетела через гряду невысоких торосов и скрылась за ней. Плутон, однако, не мог оставить безнаказанной эту возмутительную наглость, и через минуту его лай, смешавшись со сварливыми криками чаек, доносился уже с той стороны торосистой гряды.
— Назад, Плутон! — кричал ему вслед Дима. — Сюда! Ко мне, Плутон!
Но Плутон, вероятно, не расслышал за собственным лаем и пронзительными криками дерущейся стаи голоса Димы. Лай удалялся все дальше, пока не затих совсем.
— Вот дурак! — возмущался мальчик. — Ну, что теперь делать? Как его искать?
— Что ты беспокоишься? — сказал Иван Павлович. — Побегает и вернется. Записывай. Хотелось бы к полудню закончить разборку.
Работа продолжалась, но на сердце у Димы было беспокойно. Он поминутно оглядывался на гряду, за которой скрылся Плутон, и прислушивался к малейшему шуму. Вдруг он встрепенулся и, насторожившись, замер.
— Чего ты, Дима? — спросил стоявший возле него Комаров.
— Плутон бежит!.. — крикнул Дима, бросаясь со всех ног к торосам. — Ему плохо!..
Теперь и Комаров и Иван Павлович услышали далекий лай собаки. И чем ближе он доносился, тем все явственнее различались в нем нотки страха и злобы.
Комаров и Иван Павлович побежали вслед за Димой, быстро догнали его и все вместе, помогая друг другу, задыхаясь, скользя и обрываясь, взобрались на высокий торос.
Вдали, среди беспорядочного нагромождения ледяных глыб и хребтов, то появляясь, то исчезая, мелькала черная точка. Вскоре можно было ясно различить Плутона, несущегося во весь опор к лагерю. Собака, проваливаясь по брюхо в снег, перебиралась через гряды торосов. Время от времени, оглядываясь назад, Плутон коротко, испуганно и злобно лаял.
— Что его так напугало? — удивился Комаров, тщетно всматриваясь вдаль.
— Так и есть! — воскликнул Иван Павлович. — Смотрите!
— Где? Где? — одновременно спросили Комаров и Дима.
— Вон там! На последней гряде, которую одолел только что Плутон. Желтоватое пятно катится вниз…
— Вижу! Вижу! — закричал Дима! — Что это?
— Белый медведь! Ну, дело принимает серьезный оборот. Надо сбегать за оружием.
— У меня с собой световой пистолет, — сказал Комаров.
— Боюсь, слабовато, — ответил Иван Павлович и, рискуя сломать себе шею, бегом бросился вниз по склону ледяного холма.
Желтоватое пятно быстро неслось теперь вслед за собакой между двумя грядами. Оно уже почти достигло конца коридора, когда над поперечным хребтом показался Плутон. Он начал торопливо спускаться по крутому склону. Он казался очень усталым. Эта скачка через острые и скользкие препятствия, очевидно, измучила его, выросшего в благоустроенных городах с гладкими, ровными мостовыми. Он спотыкался, обрывался и один раз даже перевернулся через голову. Когда Плутон наконец достиг подножия гряды и пустился бежать по ровному полю, позади, над перевалом, легко, словно каучуковый, взметнулся медведь. С минуту он стоял неподвижно на вершине — огромный, массивный, вытянув маленькую плюшевую голову с узкой длинной мордой и внюхиваясь в запахи лагеря. Очевидно покончив с колебаниями, он начал большими мягкими скачками спускаться вниз по склону.
Волнение Димы достигло необычайной степени. Бледный, с закушенной губой, он напряженно следил за Плутоном и медведем.
— Плутон очень устал, Дмитрий Александрович… — бормотал он, не находя себе места. — Он очень устал… Медведь не догонит его?
— Вряд ли догонит, Дима. Не волнуйся, — успокаивал мальчика Комаров.
— Правда? Тут ровный лед, но ведь снег глубокий…
— Ну и что же? Зато он сейчас много выиграл, пока медведь раздумывал.
Медведь бежал все быстрее, переваливаясь и поматывая головой. Трудно было понять его намерения: охотился ли он за собакой или стремился добраться до источника аппетитного запаха и опередить соперника, который мог раньше его овладеть какой-то неведомой, но соблазнительной добычей.
Так или иначе, но положение Плутона делалось опасным. Глубокий снег затруднял движения собаки. Она часто проваливалась, с трудом выбиралась из мягкой, податливой трясины. Медведь бежал ровной и необычайно быстрой рысью, его широкие лапы прекрасно поддерживали огромное тело на снегу. Расстояние между ним и Плутоном заметно сокращалось.
Дима вскочил на ноги и плачущим голосом твердил:
— Он догоняет… догоняет его… Дмитрий Александрович!..
— Собака в самом деле устала, — сказал вполголоса Комаров, измеряя глазами пространство, разделяющее собаку и медведя. — Ну, стой здесь. Надо помочь Плутону.
И, не оглядываясь, он начал быстро спускаться с тороса на ледяное поле.
У подножия Комаров выхватил из кармана небольшой световой пистолет. Сверкнула блестящая, как зеркало, внутренность раструба.
Комаров молча бежал навстречу медведю.
Неожиданное появление человека, по-видимому, озадачило зверя, и он несколько замедлил бег.
Метрах в ста от тороса к Комарову подбежал, тяжело дыша, Плутон, на всем скаку остановился и сейчас же с громким лаем кинулся навстречу огромному зверю. Теперь, чувствуя около себя человека, он, очевидно, забыл свой испуг. Комаров остановился, не сводя глаз с медведя, осторожно, уже шагом, приближавшегося к нему. Порыв ветра донес до медведя запах человека. Черные агатовые глаза зверя тревожно забегали: этот запах был, очевидно, знаком медведю и говорил об опасности.
Зверь еще больше замедлил шаг, продолжая внюхиваться в воздух.
Комаров стоял неподвижно, с опущенным пистолетом: Плутон находился в безопасности, самому ему еще ничего не угрожало, а убивать просто ради убийства майору не хотелось.
Вдруг громкий раскатистый выстрел разорвал напряженную тишину.
Медведь яростно взревел и упал.
Комаров быстро оглянулся и увидел Ивана Павловича, сбегавшего по крутому склону тороса и размахивавшего карабином. Майор досадливо передернул плечами и вновь повернулся к медведю. С громким ревом зверь быстро уползал через открытое поле к дальним торосам, работая только передними лапами. Задние лапы волочились за ним. Очевидно, пуля Ивана Павловича перебила ему позвоночный столб.
— Проклятое волнение! — кричал на бегу Иван Павлович. — Целил в голову, а попал в спину.
— Можно было и совсем не стрелять. Он все равно ушел бы, — сказал Комаров.
— Либо да, либо нет, — ответил Иван Павлович, поравнявшись с Комаровым. — А рисковать в таком деле нельзя. Ну, пойдем догонять. Видите, как улепетывает. Не скоро и догонишь…
И Иван Павлович бросился бежать по широкому кровавому следу за медведем.
— Да зачем это вам, Иван Павлович? — с укором спросил Комаров, следуя за ним.
— Добить, Дмитрий Александрович! — на бегу отвечал Иван Павлович. — Все равно ему с такой раной не выжить. Зачем же оставлять его мучиться несколько дней?
Сзади доносились крики Димы, догонявшего их.
Медведь заметил погоню и, не переставая реветь, еще быстрее заработал передними лапами. Несколько раз он оборачивался и в бешенстве принимался грызть свои беспомощные задние лапы, взрывая передними снег и лед. Он полз с такой быстротой, что расстояние между ним и бежавшими людьми почти не сокращалось. Лишь вырвавшийся вперед Плутон большими скачками настигал его. Вскоре он уже был возле зверя, который злобно следил за ним и устрашающе ревел.
Наконец Плутон осмелел и, подскочив, вцепился зубами в задние лапы медведя. В одно мгновение, с молниеносной быстротой зверь метнулся назад и, описав полукруг около своей неподвижной задней части, яростно набросился на Плутона. Тот едва успел увернуться. Однако, в свою очередь рассвирепев, он уже не отставал, но вел себя более осторожно. Он кружил вокруг медведя, норовя ухватить его сзади; зверь задерживался на месте, вынужденный обороняться, а люди между тем неуклонно, неотвратимо приближались.
— Эге! — проговорил на бегу Иван Павлович. — Из Плутона выработается со временем отличный медвежатник. Молодцом работает, точно родился в Арктике…
С короткого расстояния Иван Павлович одним выстрелом уложил раненое животное, прекратив его мучения.
Когда Дима, запыхавшись, наконец подбежал, все уже было кончено. Огромный зверь лежал неподвижно. Плутон, злобно, рыча, с ожесточением теребил его.
Иван Павлович не захотел упустить случая и немедленно принялся с помощью Комарова свежевать медведя, пока он еще не замерз.
— Такой вас жареной медвежатиной угощу на второй завтрак — пальчики оближете! — оживленно говорил он, ловко снимая острым ножом густую пушистую шкуру.
Через час все трое, нагруженные огромными окороками, брели к лагерю. Плутон позавтракал тут же, на месте, щедро угощенный Иваном Павловичем. Но когда на его спине укрепили тщательно сложенную тяжелую шкуру и он, очевидно, понял, что за роскошный завтрак приходится расплачиваться, настроение у него понизилось. Пес угрюмо плелся позади, время от времени недовольно оглядываясь на свою поклажу, от которой несло таким отвратительным и ненавистным запахом.
Вскоре лагерь наполнился соблазнительным ароматом жареной медвежатины, над которой священнодействовал Иван Павлович. Второй завтрак вышел на славу, и все воздали ему должное.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
НЕОБХОДИМЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Незадолго до полудня, покончив с завтраком, Иван Павлович начал готовиться к определению координат ледяного поля. Надо было решить наконец очень важный вопрос: движется ли ледяное поле?
Захватив фотоэлектрический секстан и долготомер, он вышел с ними наружу. Закрытое густыми серыми облаками небо и отсутствие солнца не смущали его.
Новейший фотоэлектрический секстан при помощи фотоэлемента, чувствительного даже к ничтожнейшему количеству света, автоматически разыскивал солнце сквозь облака и позволял определять географическую широту места даже в пасмурную погоду. "Электрический глаз" заменял здесь слабый и неточный глаз человека;.
Долготомер Ивана Павловича был тоже изобретением последних лет. Благодаря фотоэлементу он автоматически устанавливал точный полдень по местному солнечному времени, а его электрический хронометр всегда точно показывал время на нулевом меридиане, от которого ведется счет.
Когда по долготомеру наступил местный полдень. Иван Павлович выключил ток в обоих приборах и закрепил их показания. Затем, проделав короткие вычисления, он сказал Комарову и Диме, внимательно следившим за его работой:
— Ледяное поле движется на ост-зюйд-ост. Со вчерашнего вечера от местонахождения "Чапаева" оно прошло в этом направлении около пяти миль.
— Ну что же! — заметил Комаров. — Как будто неплохо. Если движемся, значит, куда-нибудь придем.
— Да, конечно, — сдержанно ответил Иван Павлович, нанося полученные координаты на маленькую карту Карского моря, найденную в кабине вездехода. — Но если ветер утихнет или перейдет на южные румбы, то поле направится к северу. А это уже менее приятно.
— Почему же это вам не нравится, Иван Павлович? — вмешался Дима.
— А потому, что если поле пойдет на север, то всегда есть опасность, что его вынесет в открытый океан, как это случилось когда-то со шхуной Брусилова "Святая Анна". Там она и погибла…
— М-да… — задумчиво произнес Комаров и махнул рукой: — Ну, там видно будет! А пока что кончим разборку аварийного запаса.
— Норд-вест уже затихает, — проворчал недовольно Иван Павлович, — вот что плохо… Однако вы правы. Нужно кончать разборку.
И маленькая ледовая колония энергично принялась за работу.
Через два часа все было приведено в порядок. В аккуратно сложенных штабелях разместились огромные запасы продовольствия, оружия, аккумуляторов, одежды и снаряжения.
Но того, чего с таким нетерпением искал Иван Павлович, не было: ящик с радиоаппаратурой и штурманский ящик с астрономическими приборами, подробными картами, справочниками отсутствовали. Очевидно, их не успели выгрузить. Иван Павлович и Комаров были этим очень огорчены. Особенно огорчало отсутствие радио: исчезла надежда дать знать о себе на "Большую землю" и в ближайшие поселки.
За обедом Иван Павлович наметил план работ на ближайшие дни.
— Прежде всего, — говорил он, — надо подготовиться ко всяким случайностям. Дима, например, не умеет обращаться с оружием, а это крайне необходимо в наших условиях. Сегодняшний визит медведя должен быть для нас уроком. Ведь, в сущности, если бы не Плутон, зверь застал бы нас врасплох и беззащитными. Основное правило в Арктике — "без оружия ни на шаг от корабля" — должно быть для нас законом. Диму нужно как можно скорее обучить обращению с оружием.
— Я уже немного умею, — сказал Дима. — Мне один знакомый в Москве показывал. У него большая коллекция оружия.
— Тем лучше, — сказал Иван Павлович. — Только в Арктике нельзя владеть оружием немного, надо им владеть хорошо… Дмитрий Александрович, не возьметесь ли вы за Диму? Я думаю, вы в этом понимаете толк… А мне предстоит другая работа.
— Охотно. А вы чем предполагаете заняться?
— Хочу как можно скорее собрать и привести в порядок скафандры. Почва под ногами у нас не очень надежная. Сами понимаете. Надо готовиться к худшему. Вы со скафандрами обращаться умеете?
— Никогда не приходилось, Иван Павлович.
— Ну вот… Как только подберу для вас подходящий номер и приведу его в порядок — пожалуйте практиковаться. И усердно буду просить вас не запускать, не откладывать этого дела.
— Слушаю, Иван Павлович. Всегда готов.
— А я когда, Иван Павлович? — с загоревшимися глазами спросил Дима.
— И ты вместе с Дмитрием Александровичем. Номер четвертый будет тебе великоват, но ничего — как-нибудь приспособишься к нему.
— И мы будем под воду спускаться? — продолжал допрашивать Дима, приведенный в восторг этой перспективой.
— Если будет подходящая обстановка…
— Вот интересно! Буду учиться стрелять и плавать под водой. Ведь и то и другое можно будет делать каждый день. Правда, Иван Павлович?
— Там посмотрим. Нам еще нужно обследовать наше ледяное поле, узнать его величину, состояние льда и многое другое. Надо разбросать наши грузы в различных пунктах ледяного поля на случай, если оно расколется на части. Видишь, сколько работы предстоит? Еще медвежатинки хотите, Дмитрий Александрович? Не обижайте повара…
Комаров внимательно посмотрел на Ивана Павловича.
— Спасибо. С удовольствием. — И, принимая тарелку с добавочной порцией, спросил. — А почему вы так торопитесь, Иван Павлович, со всеми этими делами? У вас имеются какие-нибудь основания для спешки?
— Все основания, Дмитрий Александрович, и в то же время пока — никаких. Погода в Арктике капризная. Сейчас ясно, а через полчаса может надвинуться густейший туман, а еще через час будет опять ясно. Или вот ветер у нас стихает, а через полчаса задует такой шторм, что и осколков от нашего поля не соберешь. Тогда уже поздно будет собирать скафандры и учиться обращаться с ними. Вот оно как.
— Понимаю, — медленно и задумчиво произнес Комаров, потирая небритый подбородок, и, поморщась, спросил: — Кстати, Иван Павлович, вы не заметили, нет ли в аварийном запасе какой-нибудь бритвы? Очень неприятно без нее.
— М-да… — сочувственно сказал Иван Павлович, бросив взгляд на Комарова. — К сожалению, насколько помнится, бритв там нет. В крайнем случае, будем пользоваться моим ножом. Мы его так отточим, что будет лучше бритвы. А впрочем, спросим сначала Диму. Ведь он записывал содержание ящиков — должен знать. А ну-ка, Дима… Да что с тобой?
Дима притих и сидел насупившись.
— А я без Плутона никуда не пойду! — звенящим голосом ответил он Ивану Павловичу. — Я не оставлю Плутона! Даже на кусочке льдины я с ним останусь!
У него задрожали губы, и он замолчал.
— Вот оказия! — смущенно сказал Иван Павлович. — Представьте себе — забыл… Ну просто забыл! Ты не сердись, Димушка. Как можно бросить здесь Плутона? Такого славного пса… Надо что-нибудь придумать. Обязательно придумаем. Надо не сердиться, а просто напомнить мне. Так, мол, и так, Иван Павлович, Плутона, дескать, забыли. А ты сразу на дыбы! Ишь какой горячий.
Иван Павлович незаметно перешел от обороны к нападению, но Дима не обращал внимания на то, что извинения Ивана Павловича обратились в выговор, и вскочил на ноги, готовый броситься старому моряку на шею.
— Правда? Придумаете? Иван Павлович, дорогой… Придумайте! Пожалуйста…
У наблюдавшего эту сцену Комарова потеплели глаза.
— Конечно, выход найдется. Я не могу себе представить, что можно уйти отсюда и бросить Плутона одного.
— Ну, вот видишь, Дима, и Дмитрий Александрович того же мнения. И можно, как говорится, считать вопрос исчерпанным… А теперь за работу! До захода солнца еще часа четыре осталось. Я — за скафандры, а вы, Дмитрий Александрович, с Димой займетесь. Идет?
Никто не возражал, и через несколько минут Иван Павлович уже вскрывал длинные ящики со скафандрами, а майор с Димой устроились против дальнего тороса с арсеналом разнообразного оружия.
Комаров начал курс обучения со светового ружья. В общем, оно было похоже на световой пистолет, но с более длинными дулами и большей зеркальной чашечкой на конце верхнего дула.
— Лучше и вернее, конечно, будет, — объяснил Диме майор, — если прицел возьмешь хороший, точный, но небольшая ошибка в точности не имеет значения. Все равно животное, даже самое сильное, будет некоторое время парализовано светом, а пуля прикончит его. Если даже первая пуля почему-либо не попадет, у тебя будет время послать вторую, третью. Свет делает почти всякую встречу с животными безопасной, и при выстреле можно чувствовать себя совершенно спокойным, не волноваться, не торопиться. Важно лишь при встрече с врагом дать первую вспышку света. Понял?
Дима оказался сметливым и способным учеником, и майор был очень доволен его успехами.
Когда Комаров и немного усталый, но веселый Дима вернулись в кабину вездехода, они застали Ивана Павловича стоящим на коленях перед распростертым на полу подобием горбатого человека, одетого с головы до ног в стальные доспехи. Только голова у этого человека была круглая, совершенно прозрачная и пустая, если не считать двух черных кружочков, прикрепленных изнутри в тех местах, где у людей находятся уши. Снаружи на лбу шлема сверкал рефлектор небольшого фонаря. На поясе впереди был прикреплен длинный изогнутый патронташ, закрытый гладкой крышкой, висели фонарь, топорик, кортик в ножнах и на каждом боку по пистолету со шнурами, тянувшимися к спинному горбу.
— Ну, вот ваш скафандр и готов, Дмитрий Александрович, — поднимаясь с колен, обратился к Комарову Иван Павлович. — Кажется, первый номер будет для вас как раз впору. Надо сделать примерку, если не устали. Впрочем, присядьте и отдыхайте, а я вам предварительно кое-что расскажу об устройстве скафандра.
Иван Павлович нажал кнопку и открыл патронташ на поясе скафандра.
Под откинувшейся крышкой оказался набор прикрепленных к задней стенке патронташа кнопок с рельефными цифрами и рычажков, головки которых выглядывали из прорезанных в стенке щелей.
— Это ваша центральная станция. Здесь, так сказать, капитанский мостик с рубкой управления всеми механизмами корабля. В горбу, в ранце за спиной, находятся аккумуляторы с электроэнергией, маленький, но мощный мотор и винт со сложенными лопастями, который может выдвигаться из ранца наружу, раскрывать свои лопасти и, вращаясь, давать вам движение. Вот этот рычажок, если передвигать его в щели из одной позиции в другую, управляет работой мотора и винта. Эта кнопка включает свет в фонарь на шлеме. Кнопка номер два, как видите, может двигаться по кругу. Она управляет радиотелефоном, действующим на небольшое расстояние. Двигаясь по кругу, эта кнопка нащупывает ту или иную радиоволну и включает или выключает ее. Она может включить до десяти посторонних передаточных станций. Наши скафандры имеют одну и ту же волну. Если мы все поставим кнопку вот в эту позицию, то сможем вести общий разговор, как сейчас в кабине.
Шаг за шагом Иван Павлович раскрывал перед своими слушателями все тайны управления механизмами скафандра, позволившего человеку стать властелином морских глубин.
С патронташем были связаны выдвижение рулей у ступней ног, приближение ко рту человека гибкой трубки от термоса с горячей жидкой пищей — бульоном, какао, кофе — и подача кислорода из заспинного ранца.
Оружие состояло из светового и ультразвукового пистолетов, питавшихся электричеством от собственных или заспинных аккумуляторов. Особенное значение и силу в больших глубинах, где свет совсем отсутствует, имел световой пистолет. В этих условиях сила света, по контрасту, как бы увеличивалась, особенно для зрячих обитателей глубин, либо совсем не знающих его, либо привыкших только к слабому, рассеянному освещению.
Наконец Иван Павлович раскрыл скафандр, проведя специальной иглой по швам, скрепленным электрическим током, и заставил майора тут же примерить стальную одежду. Перед тем как надеть шлем, Комаров заметил:
— Что-то уж очень легко. Я ожидал, что будет тяжелее.
— Еще бы! — ответил Иван Павлович, осматривая скафандр со всех сторон, как портной на примерке. — Сделано из самого легкого в мире сверхтвердого и в то же время гибкого сплава. Он способен выдержать огромные подводные давления и не стесняет движений. А ведь скафандр к тому же двойной. Внутри, между обеими оболочками, целая сеть проводов и сложный каркас — скелет скафандра. Ну-с, Дмитрий Александрович, костюмчик сидит на вас — лучше не надо! Очень элегантно и в талию…
— Закройщик, очевидно, попался со вкусом, — рассмеялся Комаров.
— Очень рад, что угодил такому капризному заказчику, — поклонился Иван Павлович. — Теперь наденем шлем, и, кажется, все будет в порядке.
Закончили день в глубоких сумерках. За ужином Дима поминутно клевал носом.
— Спать, спать! — сказал Иван Павлович, когда встали из-за стола. — Солнце всходит пока еще очень рано, и нам придется завтра встать тоже пораньше. Работы по горло…
Скоро Комаров и Дима уже спали на своих койках. Иван Павлович еще некоторое время возился в заднем отделении вездехода. Потом к он, погасив свет, улегся, и в кабине настала сонная тишина.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
ЛЮБОВЬ И ПРЕДАННОСТЬ
Ночью Диму кто-то словно толкнул. Он сразу проснулся, несмотря на то, что спал очень крепко, открыл глаза и, приподнявшись на локте, оглянулся.
Молодой рогатый месяц заглядывал с чистого неба в окна кабины. Полоса слабого серебристого света заливала спящего Комарова. Лицо его выглядело каким-то каменным, строгим и словно неживым. Но он спокойно и ровно дышал, лежа на нижней койке у противоположной стены.
На другой нижней койке, свернувшись в комочек, лежал Иван Павлович и тихо посвистывал носом.
Тишина стояла невозмутимая, и, сливаясь с ней, мягко и ровно жужжал аппарат для кондиционирования воздуха.
Что же случилось?.. Что-то, вероятно, не страшное и хорошее, потому что на душе у Димы было легко и радостно.
Дима совсем разгулялся, сна как будто и не было. Приподнявшись на локте, он всматривался в переднюю часть кабины. Вон там, впереди, на стене под большим изогнутым окном поблескивают стекла приборов управления, пустое кресло ждет своего водителя, а на полу растянулся большой скафандр Дмитрия Александровича, словно человек лежит…
Сердце у Димы вдруг радостно замерло. Ну да, ведь это о скафандре он думал все время, даже во сне. Будет замечательно… Ничего лучше быть не может… Замечательно — и ужасно смешно. Дима даже прыснул со смеху и сейчас же, испуганно оглянувшись, быстро юркнул с головой под меховое одеяло. Но ничего не случилось, никто не проснулся, и через минуту из-под одеяла вновь показалась курчавая голова…
Лежа на спине, устремив глаза на потолок, Дима мечтал о чем-то своем, то улыбаясь и беззвучно шевеля губами, то нетерпеливо поглядывая вниз и прислушиваясь к мирному посапыванию Ивана Павловича.
Стоило Ивану Павловичу шевельнуться, как Дима сейчас же поднимал голову с нетерпеливой надеждой — проснется или не проснется? Хоть бы скорей рассвет!
И рассвет наконец наступил.
Едва лишь Иван Павлович приподнялся на локте, чтобы посмотреть через окно на рождающийся ясный день, Дима шепотом спросил:
— Иван Павлович… вы проснулись?
— А ты что не спишь? — так же тихо ответил Иван Павлович.
— Нет, вы скажите, вы в самом деле проснулись?
— Вот чудак… Что же, я во сне с тобой разговариваю?
Свернувшись в черный клубок, Плутон сладко спал под столом. Услышав шепот мальчика, он мягко застучал хвостом по полу, потом тяжело поднялся, потянулся и протяжно зевнул, раскрыв огромную пасть.
— Слушайте… — торопливым, взволнованным шепотом заговорил Дима. — Слушайте, Иван Павлович… Я придумал… Честное слово… Это будет замечательно! Вы не знаете Плутона, он страшно умный… Чуть ему покажешь что-нибудь, он сейчас сам все проделает… Его легко научить чему хотите…
— Вот как! — усмехнулся Иван Павлович, принимаясь надевать костюм. — И ветчину ловить в воздухе тоже можно его научить? Ты уже два часа разговариваешь, а так и не сказал, что ты такое замечательное придумал.
— Так я же говорю про скафандр! — в отчаянии от непонятливости Ивана Павловича воскликнул Дима. — Надо Плутона засунуть в него… в скафандр. Неужели вы не понимаете?
— Засунуть? — недоумевающе спросил Иван Павлович.
— А что он там будет делать?
— Будет плавать с нами под водой…
— Уж не думаешь ли ты научить Плутона открывать патронташ и управлять скафандром? — удивился Иван Павлович.
— Да нет же! — горячо заговорил Дима, сползая в одной рубашке на пол. — Не надо открывать! И не надо управлять! Я его потащу на веревке за собой…
— Браво, Дима! — воскликнул майор. — Ты будешь когда-нибудь знаменитым изобретателем. Сдавайтесь, Иван Павлович! Ты, наверное, всю ночь не спал и думал о Плутоне? — обратился майор к Диме.
— Нет, я перед рассветом проснулся.
— Ну, значит, во сне думал, — уверенно заключил майор, докрасна вытираясь влажным полотенцем.
— Гм… Вот выдумщик! — произнес Иван Павлович и, видимо, не желая сразу сдаваться, добавил: — Ладно, надо будет подумать… Ты его сначала научи влезать в скафандр, а там видно будет. А ты подумал, как он там, несчастный, поместится? Куда он денет лапы? А голова? Посмотрите на нее. Ведь это же не голова, а котел! Даже в шлем Дмитрия Александровича она не войдет. Сам погляди.
— Ну, Иван Павлович… — умолял Дима, торопливо натягивая брюки. — Иван Павлович… голубчик… Ну как-нибудь устроим его там… Пожалуйста…
— А может быть, у нас в запасах найдется скафандр большего размера? — вмешался Комаров.
— Есть!.. Есть!.. — обрадованно закричал Дима. — Я помню… Я записывал… Там есть нулевой номер, а он больше первого номера, который у Дмитрия Александровича!
— Ну ладно, посмотрим, — закончил разговор Иван Павлович, направляясь к выходу. — А теперь умываться и готовиться к завтраку!
Захватив с собой большую кастрюлю, он отомкнул дверь и выбежал наружу. За ним последовали Комаров и Дима с электрифицированными полотенцами на плечах. Плутон уже весело лаял, носясь огромными прыжками по лагерю.
Солнце еще не взошло, но день обещал быть тихим и ясным. Высоко плыли в чистом небе легкие облачка с золотисто красной каймой. Восток пылал в багровом пламени сквозь прозрачную дымку утреннего тумана. Вершины торосов алели и сверкали, окрашивая своими отблесками окружающие снега и ледяные обломки во все оттенки розового цвета.
Майор остановился у дверей кабины.
— Смотри, Дима, — сказал он, обнимая мальчика за плечи и прижимая к себе, — какая красота кругом! Вон тот высокий сугроб… Он как будто усыпан рубинами, весь горит и сверкает. Или тень того тороса… Она синяя, а кругом все красное и розовое. Всмотрись, Дима, внимательно в каждую мелочь, а потом посмотри на все сразу.
Дима остановился, постоял с минуту неподвижно, медленно оглядывая все вокруг. Глаза его стали темнеть и углубляться, ноздри расширились, и детское лицо сделалось вдруг вдумчивым, серьезным, мужественным, как будто он увидел что то драгоценное, мимо чего минуту назад мог пройти, не заметив.
— Как хорошо… — тихо проговорил он.
Но в этот момент на мальчика бурно налетел с веселым, оглушительным лаем Плутон, вскинул передние лапы ему на плечи, сразу сделавшись на голову выше Димы и чуть не опрокинув его. Спрыгнув на снег, пес начал кружить вокруг мальчика, точно вызывая его на игру.
Иван Павлович тем временем отошел подальше в сторону, плотно набил кастрюлю чистым снегом и, вернувшись в вездеход, поставил ее на электроплитку.
Комаров уже натирал лицо снегом. Глядя на него, то же проделывал и Дима, отбиваясь и увертываясь от расшалившегося Плутона.
Вытирая раскрасневшееся лицо теплым полотенцем, Дима случайно взглянул на восток и вдруг неистово закричал.
— Солнце! Солнце! Смотрите скорее, Дмитрий Александрович! Что это такое?
Комаров быстро обернулся и увидел нечто необыкновенное.
Солнце уже на три четверти показалось над землей. Но что это было за солнце!
Матово-красный кирпич с горизонтальными темными полосами лежал на горизонте. На чистом небосклоне виднелось как бы приплюснутое окно с продольной решеткой, за которой рдели отблески пожара.
Показавшийся из кабины Иван Павлович посмотрел на это странное, без лучей, словно голое, светило, на изумленные лица своих товарищей и покачал головой.
— Скоро будет солнце, — сказал он.
— А это что? — удивленно спросил Комаров.
— А это только приподнятое рефракцией85 и искаженное изображение солнца. Само солнце еще находится под горизонтом. Погода сегодня морозная, воздух наполнен мельчайшими ледяными иглами, в которых и происходит сильное преломление солнечных лучей. Вообще вам надо, товарищи, привыкать ко всем неожиданным шуткам рефракции. Их не перечислишь… Ну с, вода скоро вскипит, готовьтесь к завтраку. Я сейчас приду за вами.
— Есть готовиться к завтраку, товарищ командир! — ответил Комаров и направился к вездеходу.
Дима остался на льду, любуясь необыкновенным восходом. Раскаленный кирпич через минуту стал тускнеть, линии на нем искривились, и вскоре он совсем растаял в разгорающемся пожаре неба. Наконец высоко взметнулись кверху, словно золотые стрелы, яркие лучи, на все лег золотистый отблеск, мириадами радужных искр ослепительно засверкали снег и лед, и над горизонтом величаво и торжественно начало всплывать солнце.
Насмотревшись вдоволь, Дима вздохнул и откликнулся наконец на призывы моряка:
— Иду, иду, Иван Павлович…
После завтрака Иван Павлович с помощью Комарова и Димы привел в порядок еще два скафандра — для себя и мальчика; потом все трое, одевшись в стальные доспехи, долго упражнялись: разговаривали по радиотелефону, приводили в движение заспинные моторы и винты, управляли рулями с помощью ступней.
Плутон оглушительно лаял, глядя на странные фигуры, закованные в металл, узнавая и не узнавая своего хозяина и новых друзей.
После обеда Иван Павлович разыскал в складе огромный, рассчитанный, по-видимому, на гиганта, скафандр нулевого номера.
Когда он был собран, Дима облегченно вздохнул:
— Войдет, Иван Павлович! Правда, войдет? А?
— Пожалуй, будет достаточно просторно. Надо только приучить Плутона держаться в скафандре…
— Он будет сидеть в нем, Иван Павлович. Задние лапы опустит в обе штанины, а передние сложит на груди…
— Ой, Дима, будет ему, бедному, не сладко! Он будет не сидеть, а лежать на животе. Плавать-то под водой надо в горизонтальном положении. И задние лапы ему тогда тоже придется под себя поджать. А чуть скафандр примет в воде наклонное положение, собака начнет сползать вниз и проваливаться то в одну, то в другую штанину… Смотри, какие они широкие.
Дима хмуро глядел на раскрытый и распростертый перед ним на полу скафандр и упрямо твердил:
— Ну и что ж?.. Все равно я Плутона не брошу…
— Да кто тебе говорит, что надо бросать его? — рассердился Иван Павлович. — Заладил: "не брошу, не брошу"! Надо подумать, как для него лучше сделать. Не то в первый же день так измучаешь собаку, что потом калачом не заманишь ее в скафандр.
— Что же делать? — растерянно сказал Дима и вдруг, оживившись, спросил: — А что, если набить что-нибудь в штанины? Чтобы он мог упираться ногами?
— А пожалуй, это идея, — подумав, ответил Иван Павлович. — Только мы так сделаем: набьем туда чего-нибудь поплотнее, а сверху укрепим площадку, Плутон и будет, в случае надобности, спокойно сидеть на ней, как будто он служит. Зови собаку, начинай приучать ее ложиться в скафандр.
Против ожидания, Плутон ни за что не хотел влезать в скафандр. Видимо, он испытывал к нему величайшее недоверие. Дима напрасно уговаривал его, соблазнял лакомствами, сам ложился в скафандр, пытался силой втащить Плутона в него — ничего не помогало. Плутон лежал рядом со скафандром, закрыв морду лапами, стонал, скулил и виноватыми глазами глядел на своего друга и мучителя. И сам Дима, красный, вспотевший, под конец выбился из сил и в отчаянии не знал, что дальше делать с упрямцем.
Комаров и Иван Павлович первое время пытались помогать Диме советами, указаниями, наконец примерами — сами ложились в скафандр. Но когда Дима принялся тащить собаку в скафандр, а они начали подталкивать ее сзади, Плутон внушительно посмотрел на них и тихо, но так многозначительно зарычал, что они поспешили оставить друзей договариваться наедине.
Сегодня по хозяйству дежурил Комаров. Близилось время обеда, и он принялся за стряпню, а Иван Павлович начал осмотр электролыж и вездехода. Он хотел завтра с утра заняться обследованием ледяного поля.
Иван Павлович скоро отобрал три пары наиболее подходящих лыж, привел их в порядок, испробовал и собирался уже приняться за вездеход, когда майор позвал его обедать.
Войдя в кабину, Иван Павлович увидел угрюмого, бледного, выбившегося из сил Диму. Плутон лежал в передней части кабины, возле раскрытого скафандра, вытянув на полу лапы и положив на них голову. Он даже не взглянул на входившего Ивана Павловича, вид у него был усталый и огорченный.
— Ну как, Дима, дела с Плутоном? — сочувственно спросил Иван Павлович.
Дима помолчал, не поднимая глаз, потом раздраженно сказал:
— Ничего!.. Я его все-таки заставлю! Вы не думайте, что Плутон не понимает. Он все отлично понимает! Но он не хочет. А почему, не знаю…
— Он, наверное, боится, Дима, — заметил майор, наливая в тарелки суп. — Он, вероятно, запомнил, что мы запираем себя в скафандр, и боится этого.
— Все равно, — упрямо ответил Дима, — я добьюсь, что он полезет в скафандр!
— У них сейчас был крупный разговор, — принимаясь за еду, обратился Комаров к Ивану Павловичу. — Дима даже кричал на Плутона, а тот, видимо, хочет исполнить приказание, поднимется, понюхает скафандр и прямо камнем падает возле него…
— Ну, ничего, — примирительно сказал Иван Павлович. — Побольше терпения и ласки, и пес поддастся.
Обед продолжался в молчании.
Вдруг Иван Павлович, сидевший спиной к выходу, случайно взглянул вперед и застыл, не донеся ложки до рта. Потом он тихо положил ее в тарелку.
— Осторожно… — тихо, безразличным голосом сказал он. — Не шевелитесь… Краешком глаза посмотрите вперед…
Комаров и Дима чуть не ахнули. Они увидели поднявшегося с пола Плутона. Внимательно обнюхивая скафандр, собака медленно и осторожно входила в его раскрытую утробу. Через минуту Плутон озабоченно потоптался, словно отыскивая наиболее удобное положение, наконец с тяжелым вздохом опустился на жесткое ложе в обычной позе — положив голову на вытянутые лапы — и замер.
— Милый мой… — прошептал Дима. — Плутоня моя…
Чуткое ухо собаки уловило ласковый шепот и знакомый призыв. Не изменяя положения, Плутон искоса взглянул в сторону Димы и тихо постучал хвостом по скафандру.
Дима не мог больше выдержать. Он медленно встал из-за стола и осторожно пошел к скафандру, бормоча:
— Хороший мой… Так надо… так надо, Плутоня моя…
На задушевном языке друзей это имя означало высшую любовь и ласку, и Плутон еще сильнее застучал хвостом, не сводя с Димы преданных глаз.
Дима опустился на колени и, обхватив могучую шею собаки, зарылся лицом в густую шерсть.
Плутон лежал все в той же позе, радостно стуча хвостом по скафандру…
Все сделалось теперь легким и доступным. В кабине звучал счастливый смех Димы, заглушаемый громовым лаем Плутона. Что бы ни делал Дима со скафандром, Плутон, не сводя с мальчика глаз, повторял все охотно, и быстро. Преодолев свой первый безотчетный страх, он показывал чудеса понятливости. Через два-три часа после возобновления уроков он уже сам подставлял Диме голову, торчавшую из воротника скафандра, чтобы дать надеть на нее шлем. Потом, когда и Дима надевал свой стальной костюм, Плутон громко и радостно лаял, видя смеющееся лицо мальчика сквозь прозрачный шар, слыша в телефон его знакомый голос и все ласковые прозвища, какие только возникали на устах друга.
Перед вечером Иван Павлович готовился произвести пробу вездехода, о чем и объявил всем находившимся в кабине. Прежде чем начать пробу, он осмотрел кабину и убедился, что все вещи находятся на своих местах, а посуда — в своих гнездах.
Дима прервал занятия с Плутоном и подошел вместе с Иваном Павловичем к переднему смотровому окну.
Иван Павлович уселся в кресло водителя и поднял перед собой доску управления с кнопками, рычажками, выключателями, затем нажал кнопку сирены, раздался громкий, протяжный вой.
— Прикажи Плутону лечь и сам держись покрепче за спинку кресла, — обратился Иван Павлович к Диме. — Будет качать. Не устоите на ногах.
Нажав другую кнопку, Иван Павлович включил моторы. Из-под пола кабины донеслось низкое гудение. Вездеход вздрогнул, гусеницы его пришли в движение. Огромный экипаж тронулся с места и пополз по мягкому глубокому снегу с тихим пощелкиванием гусеничных пластин.
Все быстрей и быстрей вращалась бесконечная цепь, оставляя за собой на снегу широкие отпечатки ребристых пластин. Вездеход круто и ловко обогнул одинокий торос, потом, сбавив ход, качаясь и переваливаясь с боку на бок, полез на вал из ледяных обломков.
Дима, готовясь к хорошей встряске, расставил пошире ноги и крепче схватился за спинку кресла, но был приятно разочарован. Пол под ним плавно заколыхался, мягко оседая и приподнимаясь на великолепных упругих амортизаторах86. Через минуту вездеход одолел вал, оказавшись на большом снежном поле. Здесь, окруженный облаком снежной пыли, он развил максимальную быстроту, сделал большой круг и устремился к торосистому хребту, через который вчера Плутон спасался от медведя. Идя вдоль нагромождения льдин, Иван Павлович нашел сравнительно пологий проход между ними и на малом ходу начал взбираться на подъем среди торчащих повсюду обломков.
Тут Диме пришлось узнать, что такое качка во льдах. Тряски не было, но все напоминало ему плавную качку большого электрохода на длинной морской волне. Это объяснялось тем, что длина гусениц спасала вездеход от провалов в большие ухабы, а глубокая посадка кузова между высокими гусеницами, при очень низком расположении центра тяжести, предохраняла машину от опрокидывания набок.
Колыхаясь, словно подвесная люлька, кабина была в полной безопасности между могучими стальными лентами, цепко взбиравшимися по неровному подъему.
Все были в восторге от замечательной машины. Через час, вернувшись в лагерь уже при зажженных фарах, Иван Павлович предложил отправиться завтра на обследование ледяного поля.
Немедленно по возвращении майор принялся готовить ужин. В кухонном баке запас воды кончался, и Комаров попросил Ивана Павловича принести снегу. За Иваном Павловичем увязался Дима, с Димой — Плутон.
Выйдя из кабины и взглянув на небо, Дима увидел на нем странное облако. Тонкая прозрачная кисея занимала четверть южной части небосклона и неподвижно висела на темном фоне, окрашенная в слабый зеленовато-огненный цвет. Крупные яркие звезды просвечивали сквозь облако, словно чьи-то пристальные глаза из-за вуали.
Месяц еще не появлялся, солнце уже давно скрылось, и Дима не понимал, откуда этот свет?
— Иван Павлович, что это за странное облако на небе? — спросил он наконец.
— Где? — поднял голову Иван Павлович. — А! Это северное сияние, — объяснил он, набивая кастрюлю снегом.
— Северное сияние? — разочарованно произнес Дима. — А я думал, что оно другое… красивое…
— Разные бывают, — ответил Иван Павлович. — Успеешь налюбоваться. Бывают и такие красивые, что сколько ни смотри — не насмотришься.
ГЛАВА СОРОКОВАЯ
ДИМА ИСЧЕЗ
Ночью температура неожиданно поднялась. Пошел теплый дождь, но к утру прекратился. Небо было серое и облачное. Вездеход быстро несся по снежной каше. Из-под его гусениц взлетали кверху фонтаны воды, смешанной со снегом. Лед сделался рыхлым, губчатым. Он еще не успел приобрести настоящую зимнюю твердость и легко поддавался колебаниям температуры, особенно теплому дождю.
Вездеход давил и крошил ледяные обломки, без особых усилий взбирался и сползал с высоких торосистых гряд.
Иван Павлович вел машину на запад, к кромке льда. Дима стоял возле него, держась за спинку кресла.
Вверх, вниз… Вверх, вниз… С боку на бок, иногда под таким крутым углом, что Диме становилось не по себе.
В конце концов эти однообразные ныряния и покачивания стали утомительными, и Дима собирался присесть возле Комарова на мягкий диван и дать отдых усталым ногам.
В это время машина поднялась на гребень торосистого хребта, и Иван Павлович, выключив моторы, произнес:
— Посмотри, Дима, вперед и влево… Медвежья семья…
— Где? Где? — встрепенулся Дима.
— Вон там! Три желтоватых пятна. Возле высокого тороса, похожего на кафедру. Стоят неподвижно и смотрят в нашу сторону.
Три пятна вдруг метнулись вниз и скрылись за торосами.
— Вижу! Вижу! — закричал Дима. — И уже не видно. Они от нас убежали?
— Удирают, — ответил Иван Павлович. — Это медведица с медвежатами. В таких случаях она очень осторожна. А вот они опять…
За торосами, на которых впервые увидел животных Иван Павлович, далеко на юг и на запад тянулось открытое ровное поле с более светлым и потому, казалось, более крепким снегом.
На белом нетронутом снегу Дима ясно различил большую медведицу, легкой трусцой бежавшую на юг, и двух медвежат, словно белые пушистые шары, катившихся за матерью. Они не поспевали, и ей приходилось то и дело останавливаться, поджидая их. Иногда она подталкивала головой то одного, то другого и вновь бежала вперед.
Неожиданно медведица на бегу остановилась, попятилась назад и начала внимательно исследовать снег под ногами. Потом, низко опустив голову и, очевидно, внюхиваясь, она медленно пошла направо, затем налево и вернулась в сопровождении не отстававших медвежат на прежнее место. Здесь она еще раз оглянулась на торосы, на вездеход и, по-видимому, приняла решение.
Осторожно сделав несколько шагов в прежнем направлении на юг, медведица вдруг опустилась на снег, распласталась на нем, раскинув в стороны все четыре толстые лапы, и медленно поползла вперед. Медвежата с минуту стояли неподвижно, вытянув мордочки и внимательно следя за движениями матери. Затем они сразу, точно по команде, легли и, тоже раскинув лапы, торопливо поползли за ней.
Дима не мог удержаться от смеха — до того уморительны были движения медвежат. Они, вероятно, боялись отстать от матери и очень спешили. У них не было еще ее опытности, и поэтому ползли они смешно, по-лягушечьи.
— Да зачем они ползут, Иван Петрович? — спросил, смеясь, Дима.
— А там, под снегом, медведица почувствовала тонкий лед. Вероятно, здесь была недавно широкая полынья, которая замерзла, но еще не успела покрыться толстым, надежным льдом.
Иван Павлович включил моторы и начал спускать машину, заворачивая к югу. В последний момент Дима успел заметить, что медвежья семья, благополучно переправившись через слабый лед, встала на ноги и устремилась прямо на юг.
Вскоре вездеход, пройдя небольшое расстояние по ровному полю, приблизился к тому месту, где медведица начала переправу.
— Дмитрий Александрович, — обратился Иван Павлович к майору, — опустите, пожалуйста, у двери рычаг герметизации. А ты, Дима, держись крепче.
— Мы пойдем по тонкому льду? — с опаской спросил мальчик.
Иван Павлович ничего не ответил, только кивнул головой.
— А машина не утонет?
— Нет, она ведь сделана из очень легкой пластмассы. Легче дерева и крепче стали. И гусеничный ход и ведущие колеса из того же материала. Кроме того, под кузовом два длинных пустых баллона.
Вездеход несся по опасному месту, не сбавляя скорости. Кроме непрерывного пощелкивания гусеничных пластин, в кабину доносился слабый треск и визгливый скрип. С каждой секундой эти звуки учащались и усиливались, и вдруг под вездеходом лед с треском и звоном провалился и большие куски его всплыли с обеих сторон машины, обнажая свои прозрачные зеленоватые ребра. Машина сразу низко, почти до нижнего края окон, погрузилась в воду, гусеницы совсем скрылись под ней. В следующий момент вездеход всплыл, глубоко оседая кормовой, более нагруженной частью и высоко приподнимая более легкую, носовую часть. Хотя гусеницы оставались под водой, из кабины видно было, что они не прекращают своего быстрого вращения.
На минуту вездеход прекратил движение, но Иван Павлович повернул на доске управления небольшой рычажок, сзади под кабиной послышалось гудение еще одного пущенного в ход мотора, и машина вновь устремилась вперед.
— Вы пустили винт, Иван Павлович? — спросил Дима.
Иван Павлович, занятый управлением машины, кивнул.
Едва ребристые пластины далеко выдающихся перед кабиной гусениц начинали цепляться за ледяные края, как лед обламывался, гусеницы захватывали и подминали под себя куски его, очищая дорогу продвигающемуся вездеходу.
Пройдя таким образом несколько десятков метров, гусеницы наконец уперлись в толстый, матерый лед.
Иван Павлович нажал кнопку, носы гусениц круче вздернулись кверху, и работа винта усилилась.
Вездеход медленно стал наползать на край льда, все выше и выше поднимались над ним гусеничные ленты, кормовая часть вездехода вместе с кабиной стала выходить из воды.
Переправа заняла лишь несколько минут, и вскоре вездеход несся по снежной равнине на запад.
Через некоторое время снег показался майору настолько окрепшим, что, по его мнению, можно было выйти из кабины.
Иван Павлович остановил машину, майор и Дима вышли и встали на лыжи. Машина вновь пошла, но уже на малом ходу. Лыжники последовали за ней в сопровождении Плутона, несказанно обрадованного этой прогулкой.
Изобретатель электролыж взял за основу обычную старую лыжу и вырезал из ее подошвы длинный прямоугольник — от начала переднего загиба почти до заднего конца. Получилась как бы узкая рама. И это было все, что осталось от старой лыжи. В раму изобретатель вмонтировал длинный плоский ящик, который заключал в себе двигатель — маленький мотор, — аккумулятор с большим запасом электроэнергии и передаточный механизм из исключительно прочных деталей. Снаружи вокруг ящика по всей его длине шла гусеничная цепь из ребристых пластинок, как у вездехода. Над цепью был небольшой мостик для ноги.
Обе лыжи соединялись впереди, на высоте немного ниже человеческой груди, стойкой в виде буквы "П", изготовленной из очень упругой и гибкой трубки. На верхней горизонтальной перекладине этой стойки по щелям, прорезанным в трубке, могли передвигаться с одной позиции на другую и защелкиваться две кнопки управления. От кнопок внутри трубки шли в соответствующую лыжу провода, по которым распоряжения лыжника передавались мотору. Можно было ускорить или замедлить вращение гусеничной цепи до одной из трех скоростей или выключить ток.
Над каждой цепью, в начале и в конце рамы, ходили поперек два "дворника" — жесткие металлические щеточки. Они прочищали пространство между острыми ребрами гусеничных пластинок от набившегося туда снега и раскрошенного льда.
Если старые лыжи скользили по снегу или льду, то новые ползли, неся на себе стоящего или сидящего в особо пристроенном седле человека. Но в случае надобности по ровному снежному или ледяному полю они могли "ползти" с такой быстротой, которая была совершенно немыслима для самого опытного и выносливого лыжника на скользящих лыжах. Кроме быстроты, электролыжи обладали еще одним огромным преимуществом: они легко брали подъемы, цепляясь за лед своими острыми пластинками, и великолепно тормозили на самых крутых спусках.
Комаров шел рядом с Димой, обучая его управлению лыжами и маневрированию палкой.
Дима падал, ушибался, но, войдя в азарт, не чувствовал боли. Он вспомнил все, что показывал и рассказывал ему Березин у себя дома, и Комарову оставалось лишь удивляться быстрым успехам своего ученика.
В полдень Иван Павлович остановил вездеход и определил координаты льдины. Оказалось, что льдина идет все в том же направлении, хотя и с гораздо меньшей скоростью, чем накануне, из-за почти полного отсутствия ветра. Все же результаты вычислений были приняты всеми с большим удовлетворением: льдина шла к Северной Земле, а там, по утверждению моряка, недалеко и до поселка на мысе Оловянном, в проливе Шокальского.
Вездеход тихо пошел дальше, Комаров и Дима сопровождали его на лыжах.
Между тем приближался час обеда. Так как во время похода Иван Павлович не мог оставлять свой пост водителя машины, майору пришлось взять на себя выполнение обязанностей повара.
— Надо вернуться в кабину, — сказал он Диме. — Пора обед готовить.
— А мне хочется еще немного поупражняться, — ответил мальчик. — Можно, Дмитрий Александрович? Я здесь останусь с Плутоном, если я вам не нужен в кухне…
Комаров с сомнением покачал головой, но в конце концов согласился, подумав, что мальчику нужно как можно больше практиковаться в ходьбе на лыжах.
— Только смотри не удаляйся от машины, — сказал он.
— Нет, нет! Я буду тут вертеться, около вас, — обещал Дима.
— А оружие с тобой?
— Световой пистолет… Вот он!
— Ну ладно!
Через минуту майор вошел в кабину и захлопнул за собой дверь. Поставив лыжи в угол и крикнув Ивану Павловичу: "Готов!", он нагнулся к дверцам продуктового шкафчика под кухонным столиком. Дверцы оказались очень плотно закрытыми, и майор, опустившись на колени, долго и безуспешно старался раскрыть шкаф. Обломав себе ногти, он достал нож и, провозившись еще немало времени, наконец открыл дверцы. Майор облегченно вздохнул, достал продукты и, посмотрев на часы, торопливо принялся за стряпню.
Между тем, услышав возглас: "Готов!", Иван Павлович, не оглядываясь, пустил машину полным ходом вперед. Надо было наверстать километры, упущенные во время урока лыжной езды.
Впрочем, судьба и природа недолго благоприятствовали Ивану Павловичу. Ровное до сих пор поле начало постепенно превращаться в торосистое, вездеход вынужден был замедлить скорость, потом перейти на малый ход, осторожно пробираясь в ледовом лабиринте.
Подняв машину на один из ледяных гребней, Иван Павлович взглянул вперед и выбранился про себя.
С запада быстро надвигалась и росла густая, молочно-белая стена тумана. Еще несколько минут — и она навалится на вездеход, скроет путь, и даже с этого гребня спускаться будет небезопасно.
— Вот и туман, будь он неладен! — произнес вслух Иван Павлович и повел машину вниз, в укрытое место среди ледяных глыб и хребтов.
— Туман? — переспросил Комаров, выглядывая из-за шкафа, и вдруг вскрикнул: — Где Дима?
Побледнев, он бросился к двери и распахнул ее.
Машина уже успела спуститься почти до подножия ледяного склона, и горизонт был со всех сторон закрыт громадами торосов.
Одним прыжком, рискуя разбиться на скользких обломках, майор спрыгнул с машины и начал бегом взбираться на только что покинутый гребень. Достигнув его, он с трудом передохнул и бросил взгляд на восток. Все пространство до горизонта было усеяно хаотической массой вздыбленного льда. Ровное поле, только что оставленное вездеходом, было уже скрыто, как будто его отделяли от вездехода десятки километров.
Комаров оглянулся. Наверх бежал встревоженный Иван Павлович.
— Где Дима? — кричал он на бегу.
— Его не видно… — взволнованно ответил Комаров. — Назад! В машину! Давайте сирену!
Уже в сплошном белом тумане, ничего не различая на пути, спотыкаясь, скользя и падая, Комаров с трудом добрался до вездехода.
Раздался вой сирены, мощный и оглушительный в ясную погоду, а сейчас — слабый, глохнувший тут же, словно запутавшийся в огромной, наваленной на вездеход копне ваты…
Войдя в кабину, Комаров увидел Ивана Павловича, разбиравшего свои лыжи.
Иван Павлович бросил быстрый взгляд на майора.
— Пойду искать! — прокричал он, перекрывая вой сирены, поставленной на непрерывный звук.
— Пойдем вместе, — ответил майор.
Иван Павлович молча кивнул головой и, отделив лыжи от связывающей рамы, забросил их на ремнях за спину. Через пять минут они вышли из кабины, наглухо заперев ее.
Они шли среди хаоса наваленных глыб, в густом, непроницаемом тумане, связавшись веревкой из боязни потерять друг друга. Шли, срываясь со скользких обломков, падая на их острые ребра и вновь поднимаясь, шли, не различая, куда карабкаются, куда ставят ноги, куда сползают и прыгают, минутами приходилось ползти на животе, чтобы не потерять из виду глубокие колеи, проложенные вездеходом. Хорошо, что Иван Павлович захватил с собой мощный электрический фонарь. Хотя и с трудом пробивая своими лучами белесую и пухлую стену тумана, он все же помогал различать колею, возникающие из тьмы препятствия, трудные места.
После двух часов изнурительной ходьбы оба они вышли на ровное снежное поле — избитые, с исцарапанными лицами.
— Ясно, что мальчик заблудился в этом тумане, — сказал майор, когда, достигнув снежного поля, они остановились передохнуть и собрать лыжи.
— Туман? Заблудился? — задыхаясь, переспросил Иван Павлович. — Как он мог заблудиться, когда с ним Плутон! Плутон бы его живо привел к вездеходу или к нам навстречу. Страшнее другое… Он мог встретить медведя. Это обычное здесь дело. Или случайная трещина во льду, незаметная для вездехода, но гибельная для мальчика…
Больше они не разговаривали, лишь изредка перебрасываясь отрывистыми словами, и, низко согнувшись, долго, мучительно медленно ползли на лыжах вдоль колеи вездехода. По всем расчетам, как бы медленно ни вел мальчика по этим следам Плутон, оба они уже давно должны были появиться. А их все нет и нет!
Наконец глухо прозвучал возглас Ивана Павловича:
— Есть! Следы лыж… ног… лап…
С тревогой рассматривали Комаров и Иван Павлович эти следы, старательно освещая их фонарем, все больше и больше приходя в недоумение, чувствуя себя совершенно сбитыми с толку.
Что принудило Диму оставить следы вездехода? Почему он ушел… нет, убежал?.. Это ясно видно — убежал в сторону от колеи, ведя лыжи, а не стоя на них.
Подул легкий ветерок. Внезапно и быстро, как это характерно для капризной арктической погоды, туман начал рассеиваться и отступать к югу. Показалось чистое нежно-голубое небо, солнце залило веселым, радостным светом снежную равнину.
Иван Павлович внезапно сорвал винтовку с плеча и выстрелил. Сейчас же прогремел выстрел майора.
ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ
ЛЫЖИ УБЕЖАЛИ
Удивляясь, почему вездеход убегает от него так быстро, Дима пустил лыжи на полный ход, пытаясь догнать его. Но хорошо управлять лыжами на быстром ходу он еще не умел, тем более что смотрел больше вперед, чем себе под ноги. Через минуту лыжи напоролись на мало заметный под снегом ропак, и Дима слетел с них кувырком, головой в сугроб, наметенный возле ропака.
По странной случайности, хорошо скрепленные вертикальной рамой лыжи, сбросив Диму, лишь сильно покачнулись, но удержались. Затем они повернулись вокруг своей оси и, продолжая работать гусеницами, резво понеслись вдоль злополучного ропака и дальше, по ровному снежному полю, куда-то на юг.
Пока Плутон, озадаченный этой новой игрой, недоуменно обнюхивал своего молодого хозяина, Дима встал, стряхнул с себя снег и вдруг заметил исчезновение лыж. Он испуганно оглянулся и, бросившись за ними, закричал:
— Плутон! Лови! Возьми!
Плутон внимательно взглянул на Диму, на его руку, на лыжи, видневшиеся вдали, и огромными прыжками бросился вперед.
Снег был довольно глубокий, и Дима, проваливаясь, скоро почувствовал, что задыхается Мысли мальчика путались. Почему машина вдруг умчалась? Догонит ли Плутон лыжи? Что без них делать? Как нагнать вездеход? И почему его оставили одного?
Лыжи между тем начали превращаться в темные, все менее и менее различимые на снегу полоски. Плутон еще хорошо был виден, но расстояние между ним и лыжами не сокращалось, а как будто даже увеличивалось. Плутону трудно было бежать по глубокому снегу, а для лыж не было лучше дороги… И вдруг у Димы мелькнула мысль, от которой сердце у него замерло: ведь если не остановить Плутона, он будет бежать за лыжами и час и два, пока не догонит их или пока не упадет, выбившись из сил. И Дима сразу остановился и закричал, едва успевая судорожно хватать воздух ртом:
— Плутон! Назад! Сюда! Плуто-о-он! Наза-а-ад!
Несколько секунд, пока он не убедился, что собака услышала его, показались Диме часами: такой страх он пережил за эти короткие мгновения. Наконец он различил увеличивающиеся контуры Плутона. Собака неслась назад.
Дима вдруг почувствовал, как слабеют и дрожат ноги, как темнеет в глазах. Тяжело дыша, с бьющимся сердцем, он опустился на снег и закрыл глаза.
Плутон с разбегу чуть не налетел на Диму, потом, высунув язык, глубоко и часто поводя боками, лег возле мальчика, на ходу успев лизнуть его в щеку.
Отдышавшись и придя немного в себя, Дима положил руку Плутону на спину и задумался.
Что же теперь делать? Без лыж он никогда не догонит вездеход. А может быть, Иван Павлович и Дмитрий Александрович вернутся и будут его искать? Ведь не нарочно же они бросили его здесь одного! Почему они уехали так быстро? Может быть, у них там что-нибудь испортилось и они не могут остановить машину? Тогда они не скоро вернутся… Надо искать лыжи… Первый торос или ропак должен их остановить…
Дима встал и оглянулся. И вдруг ему стало так страшно, что он схватился за шею Плутона, поднявшегося вместе с ним, и прижался к нему, точно ища защиты.
Он только сейчас понял, как он одинок здесь, в этой страшной белой пустыне — безлюдной, грозной в своем молчании, полной неожиданных опасностей. Где-то бродит здесь медведица с медвежатами… Зябкая дрожь пробежала по спине Димы. Он опять оглянулся, нащупывая висящую на бедре кобуру со световым пистолетом. В какую сторону ушла звериная семья? Их, наверное, нет поблизости. Плутон почуял бы… Какое счастье, что хоть Плутон здесь с ним!..
— Ну, что нам делать, Плутон? — с тоской и страхом обратился Дима к собаке.
Плутон поднял голову, преданно взглянул на хозяина и помахал хвостом. Всем своим видом он точно говорил: "Прикажи!.."
Дима вздохнул, постоял еще с минуту, беспомощно и опасливо оглядываясь, и нерешительно двинулся по уходящей вдаль лыжне…
Погода была тихая. Легкий мороз приятно холодил раскрасневшееся от ходьбы лицо. Первый страх проходил. Дима почувствовал голод, но старался не думать об этом. В кармане брюк он нашел небольшой кусок шоколада, с которым вышел на лыжное ученье, но Дима решил съесть его, когда еще больше проголодается.
Пройдя с километр, мальчик заметил вдали, у горизонта, какое-то длинное неровное возвышение.
"Торосы! — радостно подумал он. — Наверное, там застряли лыжи…"
Он прибавил шагу, не сводя глаз с торосов, которые вырисовывались впереди все ясней.
Дима спешил. Идти было тяжело, ноги увязали в глубоком, рыхлом снегу. Стало жарко. Крупные капли пота ползли из-под шлема на лицо. Дима выключил электрический ток в костюме.
Торосы росли, уже видны были их бесформенные очертания, провалы между ними. Следы лыж вели, не уклоняясь, прямо к ним.
Вдруг Диме послышался какой-то ровный, глухой и могучий гул. С каждым шагом мальчика гул нарастал, ширился и креп. Плутон тоже, по-видимому, обратил на него внимание. Шевеля тяжелыми ушами, он прислушивался, не обнаруживая, однако, ни страха, ни злобы. Это успокоило Диму, и он продолжал идти по следам.
Гул постепенно терял свою монотонность, стали слышны мощные ритмические вздохи и тяжелые удары.
"Море! — подумал Дима. — Ну конечно, море!"
Начали попадаться небольшие, редко разбросанные глыбы льда, полузасыпанные снегом. Следы шли прямо, по свободному еще пространству, но впереди, совсем уже недалеко, перед торосами, тянулась широкая полоса, густо покрытая ледяными обломками.
"Здесь где-то", — подумал Дима и нетерпеливо, почти бегом бросился вперед.
Еще несколько шагов, и Дима радостно вскрикнул.
Шагах в тридцати, на сравнительно ровной площадке, среди засыпанных снегом ледяных осколков, лежали лыжи — по-видимому, целые и невредимые. Ударившись об один из осколков, они упали набок: правая лыжа висела в воздухе и шелестела бесцельно работающей гусеничной цепью. Левая наружным краем лежала на снегу и выступающими точками гусеничных пластин цеплялась за него. Обе лыжи, скрепленные рамой, безостановочно егозили во всех направлениях, выписывая на снегу и в воздухе смешные, замысловатые фигуры. Казалось, что они танцевали.
При виде столь странного поведения лыж Плутон удивленно залаял. В несколько прыжков Дима настиг лыжи. Ухватившись за раму, он нажал и перевел кнопки управления. Необычайный танец лыж прекратился, и мальчик облегченно и счастливо вздохнул. Он тотчас перевернул лыжи и для полного спокойствия даже встал на них. И едва руки его легли на верхнюю перекладину рамы, а пальцы ощутили под собой кнопки управления, чувство силы и уверенности овладело им. Теперь это его лыжи! Он искал и завоевал их сам, собственными силами, без чьей-либо помощи, преодолев усталость, победив неуверенность и страх. Его уже не пугало одиночество в этой пустыне, потому что и в ней можно было бороться и побеждать.
— Догоняй, Плутоня! — весело крикнул Дима.
Он пустил лыжи в ход и сделал несколько извилистых кругов между ледяными обломками, прислушиваясь к равномерному и однообразному гулу, доносившемуся из-за торосов.
Вдруг этот гул прорезал какой-то странный хриплый лай, глухое мычание, звериный рев. Звуки шли оттуда же, из-за торосов — очевидно, с моря.
Дима резко остановил лыжи и насторожился, приказав Плутону молчать.
"Кто бы это мог быть?" — думал он, с тревогой озираясь вокруг и положив руку на кобуру.
Рев медведя уже был знаком Диме, он был совсем не похож на то, что слышалось сейчас.
Дима посмотрел на ближайший торос. Страх и любопытство боролись в душе мальчика: не пустить ли лучше лыжи на полный ход и скорее уйти отсюда, или взобраться на верх тороса и посмотреть, узнать…
Опять послышались мычание и рев.
Дима решился.
Еще раз приказав Плутону молчать, он позвал его и, дав лыжам малый ход, направился к намеченному торосу. Слабый ветер с моря дул ему в лицо и относил назад шелест лыжных гусениц.
У подножия тороса Дима поставил лыжи в укромное место и вместе с Плутоном тихо полез наверх по неровному склону ледяного холма.
Добравшись до вершины, он осторожно поднял голову и замер от восхищения?
Перед ним открылось широкое угрюмое море, густо усеянное вплоть до горизонта большими плавающими льдинами. Море билось о лед, и тяжелые удары волн далеко разносились глухим и мощным гулом.
Ледяная площадка между торосами и морем была покрыта телами моржей, вплотную лежавших друг возле друга. Дима их сразу узнал. Он видел этих животных и на картинках старых книг, и в кинокадрах книфонов, и с палубы "Чапаева".
Огромные темно-бурые и желтовато-бурые туши достигали в длину четырех-пяти метров. Длинные толстые клыки свисали вниз под сравнительно небольшой головой. Одни моржи лежали, опустив на лед головы, повернутые набок из-за непомерной длины клыков. Другие устроились более удобно, положив головы на спины соседей. Стадо, по-видимому, отдыхало. На высоких круглых спинах моржих лежали моржата-сосунки длиною до полутора метров и пестуны — постарше и побольше. Несколько сосунков ползало по телам взрослых моржей, не испытывавших от этого никакого беспокойства и продолжавших безмятежно спать. Лишь один огромный морж, лежавший в стороне, все время высоко поднимал голову и осматривался. Опустив голову на лед, он, видимо, на мгновение засыпал, потом опять поднимался и оглядывался. Это был страж всего стада.
Иногда из воды показывались темные спины и головы со свисающими клыками и приближались к ледяному полю. Высоко поднимаясь из воды и запрокинув головы, вновь прибывшие вонзали клыки в лед и, опираясь на них, пытались влезть на площадку. Но лежавшие у ее края моржи просыпались и хрипло лаяли, видимо не желая освобождать для пришельцев место в такой тесноте, И тем приходилось долго плыть вдоль льдины, пока удавалось найти свободное место и влезть на лед.
У некоторых плававших моржей виднелись какие-то большие возвышения на спине возле шеи. Дима никак не мог понять, что за горбы. Ему очень хотелось подойти поближе к этим интересным животным и лучше разглядеть их. Стадо лежало мирно, и с ближайшего к нему высокого тороса можно было это сделать в полной безопасности.
Недолго думая, Дима осторожно, еще раз строго приказав Плутону молчать, перебрался через торосистую полосу, отделявшую его от моря, и тихо начал взбираться на последний ледяной вал, Плутон полз на брюхе рядом с мальчиком. Собаке, по-видимому, страшно хотелось залаять. Но палец Димы предостерегающе поднимался, и приходилось молчать.
Вот и гребень торосистой гряды. Дима осторожно приподнял голову над ним и посмотрел вниз с пятиметровой высоты.
Как теперь хорошо видно! И какие тут огромные чудовища — прямо горы мяса и жира! Каждое животное похоже на гигантскую морковь — толстую спереди и суживающуюся к хвосту. Короткий хвост из двух сросшихся ластов лежит на льду плашмя, словно раздвоенный. Грубая, толстая кожа, почти совсем голая, вся в глубоких складках. Короткие и широкие передние ласты у большинства поджаты под туловища, а у иных вывернуты наружу, и на каждом ласте видны сквозь кожу пять длинных, гибких пальцев, соединенных толстой перепонкой. И какие устрашающе безобразные морды! Круглые, выпуклые, как у коровы, глаза, открытые ноздри в виде полумесяца, и под ними на мясистой верхней губе, вздутой над клыками, густые длинные усы из толстых щетин.
Как раз перед Димой, внизу, на небольшом ледяном мысу, оказался сторожевой морж. Совсем близко от него, тихо, без плеска, вынырнула из воды голова нового моржа, за ней тотчас же показалась его спина со странным горбом. Дима чуть было громко не рассмеялся: оказалось, что это моржиха со своим детенышем-сосунком на спине. Моржонок плотно прилип к спине матери, крепко обняв ее шею передними ластами. Моржиха с сопением и фырканием выпустила из легких воздух и, вонзив клыки в край льдины, пыталась взобраться на нее. Но грозное движение вожака, его рев заставили ее быстро отступить и искать другое место для лежки.
Дима посмотрел вниз. Торос под ним изгибался небольшой, но крутой дугой, образуя глубокую, почти круглую ложбину или колодец с высокими отвесными стенами. Открытая сторона колодца была обращена к морю и выходила на ровную ледяную площадку. Вправо от Димы и от входа в колодец площадка была очень узка, и лишь немногие из моржей могли здесь поместиться. А влево от входа площадку сплошь покрывали обломки льда. По-видимому, это место не представлялось привлекательным для ищущих покоя моржей.
У самого входа в колодец, в удобной ямке между обломками льда, неподвижно лежал моржонок-сосунок и сладко спал. Именно на него часто и, как показалось Диме, с беспокойством оглядывался сторожевой морж.
"Это, наверное, моржиха, а не морж, — подумал Дима, поймав несколько таких взглядов. — Это ее моржонок…"
Дима еще раз с любопытством посмотрел на площадку, покрытую чудовищными тушами, собираясь спуститься с тороса и вернуться к лыжам.
ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ
БИТВА
Вдруг, бросив случайно взгляд налево, на торосистое поле у края льда, Дима обомлел и прижался в страхе лицом ко льду.
С пятиметровой высоты тороса он ясно увидел, как среди обломков и глыб, прижимаясь ко льду и извиваясь, как кошка на охоте, к моржам подполз большой белый медведь. Подальше, на торосистом поле, Дима заметил два маленьких пушистых комочка, прильнувших ко льду и поводивших треугольниками черных точек — носа и двух глаз. Это была знакомая семья — медведица с медвежатами.
Если бы Дима был более знаком с жизнью в Арктике, то, испугавшись, он в то же время изумился бы.
Почти никто из путешественников и исследователей Арктики не имел случая видеть нападение белого медведя на моржа, хотя упорные слухи и легенды об этом широко распространены среди коренного населения и китобойцев полярных стран. Большинство держится того мнения, что медведь, несмотря на свою силу и свирепость, предпочитает обходить стороной моржа, закованного в двойную броню из твердой кожи и толстых пластов жира. Кроме того, это чудовище обладает грозными клыками и отличается смелостью в защите, которая у него немедленно переходит в нападение.
Увидев, что все внимание медведицы направлено на моржей, а его собственная позиция на высоком торосе обеспечивает ему совершенную безопасность, Дима решил остаться и посмотреть, чем окончится эта охота. На всякий случай он вынул из кобуры световой пистолет, а другой рукой обхватил шею Плутона и прижал его к себе.
Медведица медленно и осторожно, то скрываясь за ледяными глыбами, то припадая к снегу, подползала все ближе. Как только моржиха поднимала голову и озиралась, медведица мгновенно приникала ко льду и замирала, прикрывая свой черный нос лапой и неразличимо сливаясь со снегом. Но едва сторож опускал голову, медведица переползала дальше. Все мышцы ее волнообразно и мягко перекатывались под пушистым мехом. Очевидно, сильный голод заставил медведицу пойти на такое рискованное предприятие, как схватка с моржом.
Дима забыл о времени. Вытянувшись в струнку, затаив дыхание, он следил за хитрым и терпеливым хищником. Медведица подбиралась все ближе к подножию тороса, на котором лежал Дима. Она следила все время за сторожевой моржихой, но Диме удалось уловить ее взгляд, брошенный в сторону тороса, и он понял: охота шла на моржонка, спавшего под торосом. Уже только несколько метров отделяло медведицу от намеченной жертвы. Собравшись в огромный комок и подобрав под себя все четыре лапы, медведица с минуту, вытянув узкую голову, покачалась на поджатых лапах, словно приминая снег под собой. И вдруг, как только сторожевая моржиха опустила голову, медведица взвилась невысоко надо льдом, пролетела в воздухе четыре пять метров и в следующий миг одним ударом ее лапы моржонок был отброшен, словно мячик, в раскрытый вход колодца. Он успел издать лишь слабый, едва слышный в шуме стада и морского прибоя короткий звук, похожий на блеяние новорожденного ягненка.
Но этот почти неразличимый звук донесся до ушей моржихи. С неожиданной быстротой она повернулась вокруг себя и с яростным ревом заковыляла на изогнутых мягких ластах к месту, где оставила своего детеныша.
Медведица, по-видимому, не ожидала встретить совершенно глухое, замкнутое пространство лишь с одним выходом вместо открытого прохода. Ей пришлось броситься за своей добычей к противоположной стене колодца, схватить труп моржонка в пасть, с тем чтобы вернуться к выходу.
Она не успела этого сделать. Разъяренная моржиха с налитыми кровью глазами, не переставая реветь, предупредила ее и закрыла выход своим массивным телом.
Встревоженное ее ревом стадо мгновенно скользнуло в воду и скрылось в морской пучине.
Две матери — медведица и моржиха — остались друг против друга, с глазу на глаз: одна — в неизмеримом горе, при виде жалкого трупа своего детеныша и с жаждой мести за него, другая — в яростном стремлении добыть пищу для себя и своих беспомощных медвежат.
С минуту оба зверя стояли неподвижно, словно изучая друг друга: моржиха непрерывно и оглушительно ревела; медведица с добычей в пасти отыскивала какую-нибудь возможность проскочить мимо врага и ускользнуть из западни.
Но огромная туша моржихи заполняла почти весь проход, а высоко поднятая голова с грозными клыками не позволяла медведице перепрыгнуть через нее с тяжелой добычей в пасти.
И медведица, выпустив труп моржонка и коротко взревев, первая ринулась в бой.
Она сделала небольшой прыжок и нанесла моржихе сокрушительный удар по голове. Этот удар мог бы переломить позвоночник быку. Но голова моржихи лишь слегка качнулась в сторону, а ее огромная туша чуть продвинулась вперед. Тогда мощные, молниеносные удары посыпались на нее со всех сторон, стальные когти вонзались в шею и, цепляясь за глубокие складки кожи, рвали ее.
Ужасный рев зверей далеко разносился по воздуху.
Дима был оглушен этим двойным ревом, он весь трепетал от ужаса, но неодолимое желание не пропустить ничего в этой страшной картине заставило его бессознательно подвинуться ползком к краю ледяного колодца. Плутон тихо скулил, порываясь вскочить и убежать из этого страшного места, но рука Димы крепко обнимала его и не выпускала.
Между тем внизу под градом ударов, обливаясь кровью, моржиха мало-помалу, неуклюже и непоколебимо, продвигалась вперед, оттесняя врага к отвесной стене.
Но, выдвинувшись из узкого прохода внутрь колодца, моржиха показала врагу свои передние ласты. И тотчас в медведице заговорил тысячелетний инстинкт, подсказывающий ей особый прием для борьбы с противником.
Неуловимо быстрым, коротким прыжком медведица очутилась сбоку от моржихи и попыталась схватить ее передний ласт. Если бы это ей удалось, то, вцепившись в ласт, одним рывком она опрокинула бы моржиху на бок и сделала бы ее на короткое время беспомощной. Этого было бы достаточно, чтобы огромные клыки медведицы вонзились под нижние челюсти моржихи — в наиболее слабое и уязвимое место всякого моржа.
Но окровавленные зубы белой хищницы только лязгнули в воздухе, и она тотчас же отскочила к стене. Те же тысячелетия выработали у ее врага такой же инстинктивный прием защиты: моржиха моментально поджала ласт под себя, и медведица едва успела спасти свою наклоненную шею от смертельного удара грозных клыков. Опять среди яростного рева на моржиху посыпались удары. Моржиха выносила их, словно бесчувственная, и подвигалась вперед несокрушимо, как танк. Эта безответность и пассивность в конце концов придали смелости медведице. Словно желая оглушить противника, она издала яростный рев и с силой ударила моржиху по черепу. В то же мгновение медведица скользнула в сторону и повторила нападение на другой ласт.
Но едва медведица протянула пасть к ласту, моржиха с неожиданной для такого грузного и неповоротливого существа быстротой запрокинула голову, мелькнувшие в воздухе полуметровые клыки вонзились в шею медведицы и пригвоздили ее ко льду. Следом за ними на медведицу навалилась и вся полуторатонная туша моржихи.
Послышался громкий хруст сломавшихся позвонков, и все было кончено.
Минуты две, громко сопя, моржиха лежала неподвижно на теле врага, потом с силой вздернула голову и освободила свои окровавленные клыки. Две ужасные рапы открылись на затылке медведицы, и кровь красными фонтанами хлынула из них, впитываясь в белый примятый снег.
Не озираясь на труп врага, словно уже забыв о нем и о своих собственных ранах, моржиха тотчас заковыляла к распростертому, залитому кровью трупу своего детеныша.
С жалобными воплями она обнюхивала его, тихонько подталкивала мордой, словно пытаясь разбудить, кричала и стонала, как человек.
Дима готов был сам заплакать, наблюдая эту сцену.
Долго стонала израненная мать над своим погибшим малышом. Наконец, словно убедившись в бесплодности своих попыток поднять его, она начала тихо толкать окровавленное тело к краю ледяной площадки. Там она обняла труп моржонка ластами, крепко прижала его к себе и, с жалобным ревом бросившись в воду, исчезла в свинцовой пучине.
* * *
Дима сполз со своего тороса и, став на ноги, должен был сейчас же присесть на обломок льда. Ноги не держали его, руки тряслись, он никак не мог засунуть пистолет в кобуру. Плутон тоже обнаруживал необычное беспокойство: он бегал вокруг тороса, поднимал голову, внюхиваясь в воздух, и злобно рычал, чуя вблизи запах крови.
Прошло минут пять, прежде чем Дима пришел в себя…
Наконец он поднялся, встал на лыжи и позвал собаку:
— Плутон, домой!
Лыжи быстро понеслись по старым следам.
Дима все оглядывался назад, на молчаливый торос, точно опасаясь, что медведица может встать и броситься в погоню за ним. Лишь когда кончилась полоса разбросанных ледяных обломков, Дима облегченно вздохнул и пустил лыжи на третью скорость. Однако уже через сотню — другую метров он должен был умерить ее, так как Плутону трудно было поспевать за ним.
Чем дальше Дима уходил от моря, тем спокойнее становилось у него на душе. Он не сомневался, что так же, как он сейчас идет по своим следам, он нагонит и вездеход по его широким и глубоким колеям.
Пройдя два — три километра, Дима заметил вдали стену густого молочно-белого тумана, далеко простиравшуюся поперек его пути с запада на восток. Чем ближе он подходил к этой стене, тем больше она его смущала.
"Там и следы можно потерять, — думал он, понемногу замедляя движение лыж. — Что же делать-то? Иван Павлович и Дмитрий Александрович, наверно, ищут меня и найти не могут."
Он беспомощно оглянулся вокруг, не зная, что предпринять. Туманная стена была уже совсем близко; вот и первая, еще редкая и полупрозрачная дымка окружила мальчика. Дальше густые клубы тумана неслись куда-то направо, на восток.
Диме страшно не хотелось углубляться в белесоватую мглу. Ему казалось, что он утонет в ней, затеряется, пропадет. Он уже с трудом различал бегущего рядом Плутона.
Дима резко остановил лыжи: следов уже не было видно.
Что делать? Куда идти?
Заныло в желудке — очень хотелось есть. Дима забыл об этом там, на торосе. Но сейчас голод стал сильнее. Дима вынул остаток шоколада и, честно поделившись с Плутоном, сунул свою долю в рот. Плутон проглотил этот жалкий, хотя и вкусный кусочек, можно сказать, на лету. Облизываясь и оживленно помахивая хвостом, он деликатно отвернулся. Дима знал его повадку: это значило, что Плутон после закуски с удовольствием продолжил бы обед. Но и у Димы от шоколада через минуту осталось лишь приятное воспоминание, и он притворился, что не понимает намека.
Вокруг стоял уже такой густой туман, что дальше вытянутой руки ничего различить было невозможно.
Дима сошел с лыж, опустился на снег и, почти приникнув к нему лицом, старательно разглядывал его поверхность. Следов не было.
Диме стало страшно. Куда же они девались? Он ведь их видел все время, почти до самой остановки, до-последней минуты! Дима некоторое время испуганно озирался, потом пополз по снегу вокруг своих лыж. Сзади он нашел только те следы, которые они только что оставили. Дима хотел идти по ним назад. Он, вероятно, только что незаметно свернул в сторону от старых следов… Но, сделав лишь один шаг по своим новым следам, Дима в страхе бросился обратно к лыжам и вцепился в них: он успел заметить, что очертания лыж уже растворяются в тумане, что еще один шаг — и он потеряет их. Дима потянул лыжи за собой и на четвереньках, вглядываясь в снег, пополз обратно по следам. Плутон кружил вокруг него, тоже всматриваясь в снег, обнюхивая его, заигрывал с Димой, рыча и припадая на передние лапы. Это ползание перепуганного мальчика, по-видимому, только забавляло собаку.
Пройдя таким образом десяток метров, Дима в изнеможении опустился на снег. Никаких следов он не нашел. Кругом стояла серо-белая непроницаемая мгла — глухая, слепая и равнодушная. Ни один звук, ни один луч света не проникал сквозь нее, как будто все вымерло вокруг, как будто весь мир исчез, растворился в этом белесоватом киселе и только они одни, Дима с Плутоном, два крохотных живых комочка, остались, брошенные и забытые всеми…
Было от чего заплакать…
И все же надо что-то делать. Не вечно же сидеть здесь и хныкать! Надо идти искать. Но куда девались старые следы? Дима представил себе, как он шел на лыжах от моря. Старые следы тянулись слева от него. Если он в тумане незаметно уклонился влево, то, значит, пересек их. А вернувшись по своим новым следам, он должен был бы опять пересечь старые следы. Но он не пересекал их вторично! Значит, он с самого начала уклонился от них не влево, а вправо! И теперь, вероятно, вернулся к ним. Они должны идти где-то рядом… И до самых торосов у моря они будут идти рядом…
Дима бросился грудью на снег и, пристально вглядываясь в него, таща за собой лыжи, пополз в сторону, сопровождаемый Плутоном.
Через минуту радостный детский смех прозвучал в пустыне.
Дима вскочил на ноги и, держась за лыжи, заплясал от счастья.
Старые следы нашлись!
Только бы теперь не потерять их… Дима присел на корточки и не спускал с них глаз. Он даже положил на следы руку, чтобы держать, не выпускать, не дать им опять скрыться…
Но как идти дальше? Ведь с лыж следов не увидишь!
Дима держал с таким трудом найденные следы буквально в своих руках и не знал, что с ними делать. Радость от находки тускнела, гордиться, выходит, пока еще было нечем.
Мальчик сидел, понурив голову. Опять возвращались страх и безнадежность.
Вдруг Дима резко вскочил, испугав спокойно сидевшего рядом Плутона, потом так же быстро опять присел возле двойной линии следов и, показывая на них, крикнул:
— Плутон, сюда! Смотри! Домой, Плутон! Домой!
Скучавшая от безделья собака оживилась, вскочила и, помахивая хвостом, то вопросительно взглядывая на Диму, то опуская голову к следам, забегала взад и вперед рядом с ними.
Дима достал носовой платок, разорвал его на узкие полоски и связал их. Получилась достаточно длинная белая бечевка. Дима привязал один конец ее к ошейнику Плутона, другой взял в руку и встал на лыжи.
— Домой, Плутон! Домой! Ищи!
Плутон с минуту постоял, точно в раздумье, потом, повернувшись, громко залаял и рванулся вдоль старых лыжных следов, чуть не оборвав бечевку.
Дима едва успел включить в лыжи ток и пустить их вслед за собакой.
Он мчался так, полный уверенности в своем Плутоне, досадуя на себя за то, что раньше не подумал о нем. Теперь скоро, совсем скоро он домчится до следов вездехода…
А дальше что? Дима прогнал эту смутную, тревожную мысль. Там видно будет… Было так приятно мчаться вперед! Дима даже зажмурил глаза — от этого удовольствие только увеличилось. В самом деле, для чего ему теперь глаза? Все равно ничего не увидишь — ни внизу, на снегу, ни впереди, ни по сторонам…
Лыжи чуть качнулись на бегу, Дима машинально раскрыл глаза и вне себя от ужаса вскрикнул:
— Назад! Назад, Плутон! Ко мне!
В поредевшем и как будто посветлевшем тумане, окруженный слабым странным сиянием, в десяти шагах от него, прямо на пути, неподвижно стоял огромный медведь.
Он стоял боком к Диме, опустив узкую вытянутую голову, как будто рассматривая на снегу старые лыжные следы.
С помутившимся сознанием, стуча зубами от страха, Дима пытался высвободить из лыж ноги и достать из кобуры пистолет. И все время хриплым шепотом повторял:
— Ко мне… Ко мне, Плутон…
Все это длилось лишь одно мгновение: освободив ногу, Дима зацепился за лыжу и свалился на снег; проклятая кобура наконец раскрылась, и пистолет очутился в руке. Плутон, помахивая хвостом, подбежал к Диме, а медведь…
Медведь вдруг раскинул в воздухе исполинские крылья, сделал несколько мощных взмахов и, превратившись в крохотную чайку, со свистом пронесся низко, почти над головой Димы, и скрылся в тумане…
Приподнявшись на руках, с запрокинутой головой и раскрытым от изумления ртом, Дима бессмысленно следил за полетом необычайной птицы.
Воспользовавшись удобным случаем, Плутон не замедлил лизнуть Диму в щеку. Дима медленно поднял отяжелевшую руку, обнял шею Плутона и прошептал:
— Плутонушка… Что же это?.. Что же это такое?
Прошло несколько минут, пока Дима наконец пришел в себя. Он тяжело поднялся со льда, встал на лыжи и слабо крикнул:
— Домой, Плутон… Домой… Ищи… Ищи…
И вновь зашелестели и, чуть позвякивая, понеслись лыжи вслед за Плутоном.
Туман в самом деле разрежался.
Скоро можно было, хотя и неясно, различать старые следы лыж. Но Плутон бежал не по ним, а рядом, по своим и Диминым следам, которые они оставили еще тогда, когда преследовали убегавшие лыжи. Их запах был надежнее, он нес с собой напоминание о привычном, живом — о доме, куда приказал бежать маленький хозяин…
Туман разрежался, но в потрясенном мозгу Димы он все еще оставался темным и густым. Слабые мысли мелькали, как во сне:
"Что же это было? Что я, с ума сошел? Ведь я же видел… Что же это такое?.."
Все больше и больше светлело. Лыжи ровно и быстро шли за Плутоном, который уже совсем стал ясно виден.
Внезапно в воздухе прогремел выстрел. За ним другой. Дима встрепенулся и звонко крикнул:
— Вперед, Плутон! Вперед! Это наши!
Все было моментально забыто, все осталось позади.
— Вперед, Плутон! Наши! Наши! Ура!
С громовым лаем, распластываясь над льдом, словно на крыльях летел вперед Плутон.
И вдруг туман остался позади, как упавший занавес, и неожиданное солнце, и нежно-голубое небо с редкими светлыми облачками, и усыпанная сверкающими бриллиантами снежная равнина — все бросилось Диме в глаза и ослепило его.
А издали навстречу бежали две маленькие черные фигурки, резко очерченные на фоне этого светлого, радостного мира, и стреляли, непрерывно, оглушительно, по-праздничному стреляли.
ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ
ВЕЧНОЕ, НЕПОВТОРИМОЕ…
Вездеход, словно корабль в бурю, то проваливался между застывшими ледяными волнами, то тяжело поднимался на них.
Под ярким солнцем сверканье снега и льда резало глаза, но через поляризованные стекла окон, рассеивающие ослепительные отблески лучей, в кабину проникал мягкий, приятный свет.
По лицу Ивана Павловича видно было, как он устал от непрерывного напряжения.
"Да и волнения из-за мальчика немало стоили ему здоровья, — думал Комаров, поглядывая на Диму, крепко спавшего на верхней койке. — А сколько пришлось пережить самому мальчику!"
Майор усмехнулся и покачал головой. Теперь даже Иван Павлович завидует Диме. Шутка ли — видеть бой медведя с моржом! Столько лет работать в Арктике и ни разу не быть свидетелем такой редкой схватки. Мальчик показал сметку при поисках следов, пропавших в тумане. Это очень приятно. Молодец!
Майор встал и, держась за петли, подвешенные под крышей кабины, подошел к креслу водителя.
— Будет вам, Иван Павлович, — сказал он. — Вы скоро совсем из сил выбьетесь. Или остановите на часок — другой машину и отдохните, или пустите меня в кресло и извольте учить.
Иван Павлович устало улыбнулся.
— Нет, Дмитрий Александрович, здесь не место для ученья. Я думаю, торосы сейчас кончатся, и мы выйдем либо к морю, либо на ровное поле. Там остановимся, и я покажу вам, как управлять машиной. И в самом деле, вам следует научиться этому… Мало ли что может случиться!..
Иван Павлович оказался прав. Через полчаса с высокого перевала они увидели за широкой снежной равниной темную полосу воды с играющими в ней яркими солнечными бликами и голубовато-белыми комками. Это было долгожданное море с плавающими льдинами.
Вездеход, выбравшись из торосистых теснин, вышел на ровное поле и вскоре приблизился к кромке льда.
Проснувшись, зевнул и сладко потянулся Дима. В ответ послышался протяжный зевок Плутона, спавшего у выходной двери, возле скафандров, стоящих там, как рыцари на страже. Иван Павлович решил, что скафандры должны быть именно здесь, у выхода, в собранном виде, готовые к употреблению в случае экстренной надобности.
— Проснулся, герой? — спросил Иван Павлович, выключив моторы и вставая. — Отдохнул? Хорошо поспал?
— Отлично, Иван Павлович! — бодро ответил Дима. — Почему мы остановились? Приехали?
— Приехали к самому синему морю. Пойдем смотреть его.
Майор открыл выходную дверь и первым ступил на лед.
— Какая красота! — проговорил он.
— Ой, как красиво! — восхищенно воскликнул Дима, спускаясь со ступенек. — Что это, Дмитрии Александрович? Иван Павлович?.. Сколько радуг, сколько солнц… А! Вспомнил! Вспомнил! Это гало87, правда?
Солнце стояло еще довольно высоко над горизонтом, но уже заметно склонялось к западу. Но настоящее солнце не сразу можно было найти среди хоровода его радужных подобий, блиставших на небосклоне. Настоящее солнце концентрически окружали два радужных кольца: одно, поуже, — внутреннее, другое, более широкое, — внешнее. Обращенные к солнцу стороны колец были окрашены в густой красный цвет, который постепенно и нежно сменялся всеми красками спектра до голубоватого, незаметно сливавшегося с небом. Две белые полосы крестом пересекали и солнце и радужные кольца вокруг него: одна, с запада, поднималась через солнце к зениту, теряясь в синем небе, другая тоже шла через солнце, параллельно горизонту. Шесть нежно окрашенных во все цвета радуги ложных солнц стояли в точках пересечения белых полос с окружающими настоящее солнце радужными кругами. От каждого ложного солнца тоже отходили небольшие яркорадужные дуги.
Радуги, радуги, радуги… Всюду, куда ни бросишь взгляд, видишь перед собой геометрическое сплетение радуг — больших и маленьких, широких, как флаги, и узких, как ленты…
Вся западная половина неба была полна такого великолепия и богатства красок, что даже видавший виды Иван Павлович стоял, пораженный этим зрелищем.
— Такое гало не часто увидишь, — сказал наконец моряк. — Чаще всего бывает по одному бледному радужному кольцу вокруг солнца да по одному ложному солнцу с боков. Фу, даже шея онемела!.. Во всяком случае, дорогие товарищи, поздравить нам себя не с чем.
— Почему так? — спросил майор.
— Примета такая. Гало почти всегда предшествуют циклонам88 или антициклонам89. Ждите шторма.
— М-да… Приятного мало, — проговорил майор.
— А отчего они появляются, Эти гало? — спросил Дима.
— А очень просто, товарищ полярник. Мороз крепчает, день ясный, и солнце стоит невысоко над горизонтом. Стало быть, солнечные лучи проходят на пути к нашему глазу сквозь нижние слои воздуха, где больше всего мельчайших кристалликов льда. А каждый ледяной кристаллик — это призма, которая преломляет белый солнечный луч, разлагает его на все составные цвета и образует радугу.
— Да, да! — живо подхватил Дима. — Это как всякая треугольная стеклянная призма. И на стене и на полу получается радуга, если перехватить призмой солнечный лучик между щелкой в закрытом окне и стенкой.
— Вот-вот… Ну что же, Дмитрий Александрович, — обратился Иван Павлович к майору, — давайте решать: останемся здесь на ночь или пойдем дальше?
— Что? — не сразу пришел в себя майор. — Ах, да… Ну что же… Как хотите. Мне только кажется, что вам следовало бы отдохнуть.
— Пустяки, — махнул рукой Иван Павлович. — Мне нужно было только размяться после неподвижного сиденья в кресле. Поедем! Используем погоду. Завтра кто знает, какая будет… Солнышко еще часа три посветит, а в сумерки остановимся на ночлег.
Вездеход быстро пошел на юг. Справа шумело море, а слева тянулись торосистые поля. Путешественников долго сопровождало роскошное гало, пока наконец машина не повернула на юго-восток, и гало скрылось за высокими хребтами торосов.
В кресле водителя сидел Комаров, а Иван Павлович показывал ему, как и в каких случаях пользоваться кнопками и рычажками доски управления.
— Все это очень просто, Дмитрий Александрович. Надо только запомнить, для чего предназначены каждая кнопка и рычажок, и потренироваться, чтобы быстро находить их.
— Да, — улыбнулся Комаров. — Боюсь только, что потренироваться-то я не успею. Дела ждут, Иван Павлович. Дела, не терпящие отлагательства. Хочу надеяться, что нас быстро разыщут и мы вырвемся отсюда.
— Понимаю, понимаю, Дмитрий Александрович, — почему-то понизив голос, проговорил Иван Павлович. — От всей души желаю этого. А теперь позвольте сменить вас. А то мы слишком медленно идем, и время уходит.
— Вот и тренируйся с вами! — рассмеялся майор, уступая место Ивану Павловичу. — Очень вы жадный…
Дима играл с Плутоном, поглядывая на Ивана Павловича. Когда Комаров оставил моряка одного и направился в "кухню" готовить ужин, Дима подошел к креслу, оглянулся и, наклонившись к Ивану Павловичу, тихо и горячо заговорил:
— Иван Павлович… Вы мне правду скажите… Вы, наверное, думаете, что это мне со страху показалось. Ну, честное пионерское, я видел медведя, как вас сейчас вижу! А вы говорите — мираж90…
Иван Павлович с чуть заметной усмешкой посмотрел искоса на Диму.
— Ну, что ты, братец, за чудак такой! — тоже тихо ответил он. — Зачем мне тебе неправду говорить? Честное слово полярника — это был мираж. Такая же примерно история, как сейчас вот с этим гало. Только здесь причина в ледяных кристалликах, а там — в мельчайших капельках воды, плавающих в воздухе и образующих туман. Такое же преломление лучей. Этих случаев бывает много в Арктике. Простой камень превращается в избушку. Идешь-идешь в тумане к такой избушке и ничего, кроме камня, не находишь. А то, бывает, плывешь на шлюпке среди льдов, и вдруг вырастает перед тобой ледяная отвесная стена. Шапка валится с головы, когда хочешь посмотреть, какой она высоты. Подъедешь поближе — оказывается, просто отвесный край ледяного поля. И всего-то он в метр высоты над водой. А тебе вот чайка показалась медведем. Все это — миражи, обманы зрения. А ну-ка, погоди… Здесь, пожалуй, трудновато будет пройти машине, торосы почти к самому краю льда подошли. Неужели возвращаться придется?
Иван Павлович застопорил вездеход.
Все трое в сопровождении Плутона вышли из кабины. Иван Павлович стал вымерять шагами узкую полосу, отделявшую торос от края льда.
— Попробуем! — закричал он, стоя на мыске, который выдавался в море. — Авось, пройдем. Места, кажется, хватит.
Вездеход, сильно кренясь, тронулся в путь.
В непрерывной качке, продвигаясь по торосистому полю, машина вышла на ровную площадку, окаймленную со всех сторон торосами. Уже в густых сумерках остановились на ночлег.
У майора к этому времени был готов ужин. Под мягким светом лампы все сели за стол. Дима предварительно накормил Плутона. Об этом он никогда не забывал, как бы ни был голоден сам.
За столом не было обычных разговоров и оживления. Все чувствовали себя очень утомленными долгим, полным треволнений и работы днем и мечтали о койке, отдыхе и сне.
Со слипающимися глазами, выключив ток в своем костюме, Дима собирался раздеться, когда Иван Павлович, готовясь запереть дверь, выглянул наружу и вдруг крикнул:
— Дима! Скорее сюда! Гляди!
Дима в два прыжка был у двери и просунул голову наружу:
— Что? Где?
Иван Павлович молча протянул руку к югу.
Там, в темном небе, усеянном крупными звездами, сверкали пучки бледных тонких, как нити, лучей, а на самом горизонте спокойно лежала узкая световая полоса, на которую Дима сначала не обратил внимания.
Вдруг эта полоса взвилась вверх и приплюснутой дугой разостлалась по небосводу, соединяя восток с западом. Сквозь нее начали проскакивать волны света, отдельные лучи доходили до самого зенита. На мгновение картина застыла, потом с востока на запад быстро понеслись световые волны, края ленты загорелись ярким зеленым и красным светом и заплясали вверх и вниз. Все стремительней выскакивали вверх лучи, все ближе подбирались к магнитному полюсу, в юго-западной стороне небосклона. Все пришло в движение: лучи, скрещиваясь, обгоняли, перекрывали друг друга. Это были уже не отдельные лучи, а целые пучки. Загоревшись одновременно, они в дикой гонке неслись по небосводу. Вот они уже достигли полюса, и все вокруг него заиграло. Со всех сторон посыпались тысячи лучей. Где они возникли? Откуда бегут? Сверху или снизу? Кто сможет отгадать, уловить это!
Мороз пробирался под давно остывший костюм Димы. Его голые руки окоченели, и он бессознательно спрятал их себе под мышки. Мальчик ничего не слышал, не чувствовал, он только смотрел и смотрел. Он даже не почувствовал, как кто-то надел на его голову шлем и сунул ему перчатки.
Все стояли в молчании, невольно прислушиваясь. Казалось немыслимым, что такое зрелище может протекать беззвучно, без хотя бы отдаленного грохота столкновений, взрыва разрядов.
Но кругом стояла мертвая тишина. Вся ледяная равнина окрасилась каким-то волшебным светом. На снегу отражались радужные лучи, точно по нему были рассыпаны алмазы, рубины, изумруды.
Но вот все поблекло. Сияние исчезло с такой же быстротой, как появилось. Только на севере еще сохранилась тусклая лента, по которой медленно проскакивали волны света. Надо льдом расстилалось темное покрывало ночи, и исчезнувшие было звезды вновь бледно и робко сверкали на небе.
— Ну, вот и все! — послышался голос Ивана Павловича. — Представление окончилось. Спать пора.
Комаров, до сих пор не проронивший ни слова, потрепал заиндевевшее плечо Димы и молча повлек его к вездеходу.
— Что же это, Дима? — воскликнул он вдруг. — Да ведь в твоем костюме тока нет! Что же ты стоишь? Замерзнуть можно!
И, подхватив мальчика под мышки, он с размаху поставил его на ступеньки и втолкнул в кабину.
ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ НА ЛЬДИНЕ
Ночью ветер усилился, и к утру шторм разыгрался не на шутку. Иван Павлович несколько раз просыпался, подходил к окну и тревожно прислушивался к свисту и вою бури, к грохоту моря, скрытого за торосами, к глухим ударам, доносившимся из-подо льда. Каждый раз вместе с ним поднимался со своего места Плутон. Опираясь передними лапами на диван, он стоял рядом с Иваном Павловичем и то всматривался в темную ночь за окном, то вопросительно поглядывал на моряка. Иван Павлович гладил Плутона по могучей шее и тихо спрашивал:
— Что, брат, и тебе не спится? Ничего, авось обойдется.
Плутон тихонько шевелил хвостом и спускался на пол, словно успокоенный.
Утро возникло серое, безрадостное. Едва позавтракав, Иван Павлович принялся осматривать скафандры. Он тщательно проверял аккумуляторы, запасы пищи, патроны с жидким кислородом и поглотители углекислоты.
— Что это вы заинтересовались скафандрами, Иван Павлович? — спросил майор: скафандры, по уговору, были на его ответственности, и он следил за их состоянием. — Вас беспокоит шторм?
— Надо быть наготове, Дмитрий Александрович, — ответил Иван Павлович. — Такие штормы редко проходят благополучно для больших ледяных полей…
Он раскрыл шкаф с продовольствием и вместе с Комаровым вытащил из него большой ящик в чехле из плотной ткани. На верхней стороне ящика виднелась белая головка, навинченная на маленькую трубку. Иван Павлович отвинтил головку и, укрепив на конце трубки небольшой воздушный насос, начал нагнетать воздух под ткань. Ткань быстро вздувалась, и вскоре ящик оказался в круглом воздушном шаре, похожем на большой мяч.
— Ну, теперь мы, насколько возможно, готовы, — сказал Иван Павлович, снимая насос с трубки и сейчас же завинчивая головку. — Значит, уговорились, Дмитрий Александрович? По первому моему сигналу тревоги…
— Хорошо, хорошо, Иван Павлович, будьте спокойны. Мы с Димой твердо знаем свои обязанности на случай аврала.
— Надо бы Диму разбудить, да жаль. Очень уж крепко спит.
— Вы хотите увести машину отсюда?
— Да, это необходимо. Нельзя оставлять ее слишком близко к морю. Кроме того, при такой погоде хотелось бы быть поближе к нашему складу…
— Ну, тогда делать нечего. Садитесь в кресло, а я разбужу Диму.
Через несколько минут вездеход тронулся в путь, а Дима был одет и сел завтракать.
Машина, покачиваясь, медленно и осторожно пробиралась по неровному полю на северо-восток. Ветер иногда словно подгонял ее, потом вдруг нападал сбоку, грозя свалить со склона, ревел и свистел, поднимая с торосистых вершин облака снежной пыли.
Вскоре вездеход вышел на ровное поле. Стали попадаться трещины во льду, то едва заметные, вьющиеся черными змейками, то пошире, с открывавшейся внизу водой. Машина легко переходила через них, все более ускоряя ход.
Одна из трещин неожиданно, на глазах у Ивана Павловича, начала быстро расширяться, и когда машина на полном ходу приблизилась к ней, трещина достигла уже более двух метров в ширину.
Не замедляя хода, Иван Павлович нажал кнопку на доске управления.
Стоявший на своем посту, у двери возле скафандров, Комаров увидел через заднее окно кабины, что две широкие толстые лыжи, обычно поднятые кверху по обеим сторонам двери, вдруг с громким пощелкиванием опустились верхними концами вниз и легли на лед, далеко простираясь позади вездехода.
Передняя часть машины уже нависла над водой, но кормовая, более тяжелая часть, перевешивая, не давала передней упасть носом в воду.
Трещина продолжала расширяться, и ее противоположный край довольно быстро отходил, однако вездеход двигался быстрей. Выровняв горизонтально носовую часть цепей, машина настигла наконец край льда и вцепилась в него, работая острыми ребрами пластин.
Вдруг корма вездехода сорвалась с края льда и скользнула вниз, к воде. В следующее мгновение она грузно колыхнулась и повисла над пустотой, задержавшись на мощных упругих лыжах. Они были так надежно закреплены на задней оси, что, лишь слегка пружиня и сгибаясь, отлично выдержали тяжесть машины.
Носовые части гусениц, все дальше выходя на лед, вскоре быстро вынесли на него вездеход по ту сторону трещины, хотя концы лыж еще тащились далеко позади, а ширина трещины за время перехода значительно увеличилась.
Выйдя на лед и подняв лыжи на место, вездеход устремился в прежнем направлении по ровному полю.
Вскоре пошел густой снег. Ветер с ревом кружил его, бросал в окна; все впереди затянулось белой мятущейся мглой, дорога стала едва различимой.
Началась пурга.
Иван Павлович убавил ход машины. Вездеход, словно ощупью, осторожно продвигался вперед. Трещины встречались все чаще. Некоторые, уже широко разошедшиеся, вдруг начинали быстро смыкаться, и Иван Павлович, немного подождав, переводил через них машину, не прибегая к помощи лыж.
Моряк становился все озабоченнее.
Остановив вездеход перед одной из таких смыкающихся трещин, Иван Павлович минуту словно прислушивался к чему-то сквозь свист и вой пурги, потом повернулся и движением головы подозвал к себе майора. Тот быстро подошел, обеспокоенный тревожным выражением лица Ивана Павловича.
— Прислушайтесь внимательно, Дмитрий Александрович! — почти прокричал Иван Павлович сквозь рев ветра. — Вы ничего не чувствуете под ногами?
— Под ногами? — переспросил Комаров и, сосредоточенно помолчав, воскликнул: — Машина качается!
Иван Павлович кивнул головой.
— Дела неважные, — сказал он. — Морская зыбь уже докатилась сюда. Шторм быстро разбивает ледяное поле на части. Не знаю, доберемся ли мы до нашей базы… А если и доберемся — благополучно ли там…
Трещина тем временем почти сомкнулась, и Иван Павлович поспешил перевести через нее машину. Но едва вездеход очутился по ту сторону трещины, как лед под ним круто накренился, и машина медленно поползла назад, к трещине.
Комаров схватился за кресло.
— Ой, что это? — громко вскрикнул Дима, цепляясь за диван, на котором занимался упаковкой боевых припасов и подвязыванием их к ружьям и пистолетам.
— Видите? — сказал Иван Павлович, давая полный ход вперед и сбрасывая задние лыжи на лед. — Уже мелкие льдины встречаются. Впереди, вероятно, открылось широкое разводье.
Льдина выровнялась под быстро удаляющимся от трещины вездеходом. Теперь уже явственно чувствовалось ее равномерное покачивание под машиной. Но еще через минуту, когда вездеход, очевидно, перешел середину льдины, она опять стала крениться под ним, и Иван Павлович вынужден был вновь уменьшить обороты моторов. Вездеход медленно подползал к невидимому за снежным ураганом краю льдины.
Наконец перед вездеходом открылось широкое разводье. Его противоположный ледяной берег нельзя было различить. На темной свинцовой поверхности воды беспорядочно толкалась высокая зыбь. В снежной мгле то и дело показывались и исчезали, качаясь на взволнованной воде, небольшие обломки льда.
— Придется переплывать, — сказал Иван Павлович, пристально всматриваясь вперед и готовясь включить моторы.
— Не лучше ли обойти разводье? — спросил майор, которому тоже, видимо, не улыбалось плыть в такое волнение по каналу неведомой ширины.
— Неизвестно, сколько времени придется обходить его. Судя по ширине, и длина разводья очень велика. А за ним, на севере, наш склад. Надо спешить. Ну, пошли… Проверьте, Дмитрий Александрович, хорошо ли задраена дверь.
Удостоверившись, что все в порядке, Иван Павлович осторожно повел машину к краю льдины, опускающемуся все ниже. Вездеход почти незаметно сошел в полынью. Заработал гребной винт, и машина понеслась по воде.
Волны начали хлестать в окна, заволакивая их светло-зеленой кисеей. Носовая часть кабины то и дело зарывалась в воду.
Только что оставленная льдина скрылась из виду за крутящейся стеной снега. Ветер яростно выл, словно преследуя машину. Высокая волна вдруг поднялась перед правыми окнами, остервенело бросилась на вездеход и с злобным шипением перекатилась через крышу.
Еще через минуту совершенно неожиданно перед кабиной возникла из снежной мглы высокая ледяная стена из торосов, почти отвесно спускавшаяся к воде. Очевидно, льдина отделилась от ледяного поля непосредственно по линии торосистой гряды. Взобраться на нее прямо из воды было совершенно немыслимо.
Едва успев избежать столкновения, Иван Павлович круто повернул вездеход налево и повел его вдоль ледяной стены, выискивая в ней мало-мальски подходящий пологий подъем. Шторм шел с запада, приходилось идти против ветра.
Различить что-нибудь впереди было необычайно трудно, но Иван Павлович все же заметил, что ледяная стена непрерывно и настойчиво налезает на вездеход справа. Уже несколько раз Иван Павлович отводил машину от стены до предела видимости, но через несколько минут льдина неизменно приближалась.
"Что бы это значило? — с беспокойством думал Иван Павлович, вновь отводя вездеход в сторону. — Ветер нас прижимает или разводье опять смыкается?"
Он все чаще вглядывался через смотровое окно налево, на юг, опасаясь увидеть сквозь мглу оставленную вездеходом льдину, и вдруг заметил, что машину стало меньше качать, а волны и брызги перестали заливать смотровое окно.
"Смыкается!.. — с упавшим сердцем заключил Иван Павлович. — Что же делать? Пройду еще немного. Ясно, льдину кружит…"
Оставалась крохотная надежда на то, что все же удастся найти в этой проклятой стене какую-нибудь лазейку и взобраться на лед с северной стороны разводья. На севере склад — пища, одежда, аккумуляторы… Страшно остаться отрезанными от всего, без запасов на голой пустынной льдине!
Пурга продолжала неистовствовать над кабиной, проносясь вверху; внизу, между льдинами, было как будто тише. Вездеход медленно шел против ветра и волны.
Сосредоточенно наблюдая за краем правой льдины, напрасно выискивая в ее безнадежной и неприступной высоте место для подъема, Иван Павлович на короткое время забыл о южной стороне разводья.
— Внимание! — раздался вдруг голос майора. — Торосы слева!
Один быстрый взгляд раскрыл Ивану Павловичу всю опасность положения. Сквозь снежную крутящуюся мглу он увидел совсем близко южный край быстро смыкающегося разводья и высокую, такую же неприступную кайму торосов, круто спускающихся к воде.
"Попался!.. — мелькнуло у Ивана Павловича в голове. — Успеть бы только развернуться…"
Он резко повернул вездеход налево, но машина при встречном и боковом сносившем ветре плохо слушалась руля.
Через минуту вездеход уткнулся носовыми частями гусениц в южный ледяной берег разводья. Высоко поднятые носовые пластины гусениц отчаянно царапали почти отвесную стену льда, гребной винт, пущенный на максимальное число оборотов, гнал их из воды на лед.
Все напрасно. Это была непосильная для машины задача.
— Льдина напирает сзади! — опять послышался спокойный голос майора.
Недовольно морщась, он погладил шершавый подбородок (отточенный нож Ивана Павловича приносил одни страдания) и тихо сказал стоявшему рядом Диме:
— Приготовься к выгрузке… Проверь свой костюм… Живей, живей… поторапливайся… — И, бросив взгляд через окно, повернулся к Ивану Павловичу: — Льдина над кормой!
Раздался громкий треск, немедленно перешедший в пронзительный скрежет, визг и стоны. Гусеницы беспомощно замерли на ледяной стене впереди, заглох винт, выключенный Иваном Павловичем.
Тотчас же из носовой части кабины послышалась команда:
— На лед! Выгружаться!
Одно нажатие кнопки, и дверь распахнулась. Ветер с тучей снега ворвался в кабину.
Буроватая стена торосов на северной льдине поднималась в двух — трех метрах от края, освобождая небольшую площадку. Кормовая часть гусениц упиралась в лед ниже ее.
Дверь от шкафа с продовольствием, быстро снятая Комаровым, легла на лед.
— Дима, выходи с Плутоном!
Дима был уже наготове. Со связкой легких ружей, взволнованный, немного испуганный, он быстро перешел на крохотную площадку под торосом. За ним последовал Плутон, навьюченный пакетами с боевыми припасами и портативной палаткой.
Вездеход еще держался, стиснутый льдинами. Он весь дрожал под их напором, жалобный визг и скрежет больно отдавались в сердцах его пассажиров. Сминались гусеницы, лед приблизился почти вплотную к выходной двери кабины.
Майор уже выбросил на ледяную площадку скафандры, лыжи, утварь, ящик с аккумуляторами, поданный ему Иваном Павловичем.
Пользуясь лишними минутами, которые дарила им стойкость машины, Иван Павлович и Комаров перебросили на лед груду меховых одежд и два ящика с продовольствием.
Сзади послышался угрожающий треск. Смотровое окно, вогнутое чудовищным натиском ледяного бугра, разлетелось в куски. Вслед за ним носовая стена кабины упала.
Вездеход начал оседать кормой в воду.
— На лед, Дмитрий Александрович! — крикнул Иван Павлович.
Они едва успели вскочить на площадку, как машина, царапая лед ребрами пластин, начала медленно погружаться в воду. Еще мучительно долгая минута — и вода хлынула потоком в раскрытую дверь кабины.
Все круче оседая на корму, вездеход скользнул вниз и исчез в пучине.
Его бывшие пассажиры, сбившись в тесную кучку, молча стояли на краю площадки, провожая его взором.
Пурга с воем налетала, словно пытаясь и их сбросить в пучину, густой снег заметал разбросанные на льду вещи…
* * *
Потерпевшим аварию удалось разбить палатку. В ней было очень тесно. Ярко горела висевшая под крышей электрическая лампочка. Против входа сидел на грузе мехов Дима и допивал кофе. Возле него справа от входа, опираясь на локоть, полулежал на разостланной меховой одежде Иван Павлович. В середине палатки излучала тепло электроплитка. Небольшое свободное пространство слева от завешенного входа было местом Комарова; сейчас оно пустовало.
Плутон свернулся у входа, у приподнятой, как порог, полосы материи, выстилавшей пол палатки. Ноги Ивана Павловича касались собаки, и, очевидно, беспокоили ее. Кроме того, из под входного полога дуло, и Плутон с недовольным видом встал, направляясь к свободному месту майора. Повертевшись, он улегся, свернулся калачом и вновь задремал.
Снаружи, за крохотным оконцем, кружился снег и робко проглядывал мутный рассвет. Ветер яростно сотрясал палатку, словно силясь сорвать ее с места и унести с собой. Иногда его порывы были настолько сильны, что Дима невольно хватался за петли на стальных ребрах палатки.
Под входное полотнище просунулась рука в перчатке и изнутри отстегнула его. Полотнище открылось, и, стряхивая с себя на ходу снег, низко согнувшись, в палатку вошел майор.
— Ну что, Дмитрий Александрович? — живо спросил Иван Павлович.
— Ничего не видно, — застегивая полотнище, ответил Комаров. — С трудом дополз до перевала. Снег, снег и снег… Сколько он еще будет валить? Знаете, Иван Павлович не знаю, верить себе или нет, но временами, когда ветер на минуту стихал, мне слышался с севера какой-то ровный, грохочущий гул. Не открытое ли море там?
Комаров присел на корточки перед плиткой и налил из кофейника горячего кофе.
Иван Павлович, сосредоточенно глядя на майора, спросил:
— Значит, и вы это расслышали? Меня всю ночь тревожил этот гул. Если там, на севере, действительно открытое море, то дело плохо. Это значило бы, что к нашему главному складу нам уже не пробраться, если даже он еще существует…
— Вы хотите сказать, что он затонул? — спросил майор.
— Или его унесло вместе с отделившейся частью ледяного поля… — ответил Иван Павлович. — Для нас это, в сущности, безразлично.
Уже трое суток пурга держала в плену на обломке ледяного поля небольшой отряд с потерпевшего крушение вездехода. Медленно тянулись часы, пурга не унималась, и, казалось, ярость ее все возрастала, грозя разрушить и это последнее ледяное убежище маленького отряда.
Майор и Иван Павлович долго молчали.
Наконец Комаров встряхнулся и сделал глоток из стакана.
— Что же, по-вашему, надо теперь делать, Иван Павлович?
— Думаю, что ждать, пока затихнет шторм, — это напрасная трата времени. Часы нашей льдины, очевидно, тоже сочтены. Того и гляди, она развалится под нами, и именно тогда, когда мы этого ожидать не будем. Предлагаю немедленно отчаливать отсюда.
Майор поставил возле себя недопитый стакан, минуту помолчал и тихо спросил:
— Куда, Иван Павлович?
— К Северной Земле. В пролив Шокальского, к поселку Мыс Оловянный.
— Как? Каким путем?
— Под водой.
— В скафандрах?
— Да. Надо решиться! — твердо заявил Иван Павлович. — Все равно в такую пургу никакой самолет нас не отыщет, если и начались розыски. А пурга, вероятно, не скоро прекратится. В полдень посветлеет. Я постараюсь определить наши координаты и еще раз проверить, что делается на севере. Если там действительно открытое море, то сейчас же начнем готовиться в путь. Через восемь — девять часов мы будем на земле.
— На Северной Земле?! — воскликнул вдруг Дима. — На острове Комсомолец?..
И замолчал, в замешательстве прикусив губу.
Иван Павлович и Комаров удивленно взглянули на мальчика.
— Да, на острове Комсомолец, — сказал Иван Павлович. — А что?
— Нет… я так… — не поднимая глаз, пробормотал Дима. — Их же там три больших острова.
— Да, да, — подтвердил Иван Павлович и, занятый своими мыслями, продолжал, обращаясь к майору: — Так вот мое мнение, Дмитрий Александрович. А вы что скажете?
Комаров как-то нехотя отвел пристальный взгляд от Димы и медленно проговорил:
— Тем же путем, под водой, мы могли бы добраться к шахте номер шесть?
Иван Павлович не сразу ответил. Он внимательно посмотрел на майора и сказал:
— Можно. Но это потребует втрое больше времени, учитывая и несколько остановок на льду для отдыха и необходимость астрономических наблюдений. Тяжеленько будет для мальчика.
— Та-ак… — протянул майор и провел несколько раз рукой по подбородку. — Не забывайте, дорогой Иван Павлович, что на шахте меня, если можно так выразиться, ждет не дождется Коновалов. Боюсь, долго ждать он не будет и что-нибудь натворит. И еще имейте в виду, что Диму там ждет, в беспокойстве и, может быть, в отчаянии, его отец…
Но Дима вдруг побледнел, потом вспыхнул и закричал:
— Нет, нет! Это неправда! Это я так… Мне сказали Березин и Георгий Николаевич, что если я не буду так говорить, то меня вернут в Москву… Я хотел в Арктику… Мне было очень нужно в Арктику. Здесь, где-то на острове Комсомолец, пропал мой брат Валя… Я хотел искать его на острове… А они велели мне назваться другим именем и даже удостоверение дали.
Майор и Иван Павлович изумленно переглянулись.
— Постой… Постой… — проговорил, растерявшись, Иван Павлович. — Какое удостоверение? Какой тут Валя пропал?
— Так я же вам говорю, что это мой брат Валя… Валерий.
— Ничего не понимаю… — начал было Иван Павлович, но его перебил Комаров.
— Это удостоверение сохранилось у тебя, Дима? — спросил он.
— Да. Вот. — Дима торопливо порылся в карманах своей куртки, нашел там сложенную бумажку и подал ее майору. — Вот.
Майор развернул бумагу и быстро пробежал ее глазами.
— Твоя фамилия Антонов?
— Нет, Денисов.
Иван Павлович вдруг хлопнул себя по лбу и закричал:
— Ах, чёрт побери! Так это ты о конструкторе Валерии Денисове говоришь? Это твой брат? Скажите пожалуйста! Вот так история! А почему ты думаешь, что он на острове Комсомолец? Разве его уже нашли?
— Подождите, подождите, Иван Павлович, — спокойно сказал Комаров. — Мы и в этом разберемся. А пока скажи мне, Дима, кто тебе дал эту бумажку?
— Коновалов… Георгий Николаевич.
— А ему кто дал?
— Не знаю…
Майор опять бросил взгляд на бумажку.
— Удостоверение выдано ВАРом… — медленно и задумчиво произнес он — Министерством Великих Арктических Работ.
— А! Ну конечно! — обрадованно сказал Дима. — Это, вероятно, сделал Березин, Николай Антонович… Он же там работает.
— Березин? — удивленно воскликнул майор.
— Николай Антонович? — одновременно изумился Иван Павлович. — Ведь это мое прямое начальство!
— Ну да! Он на арктических работах, — объяснял, как мог, Дима. — Он там работает вместе с Сергеем Петровичем Лавровым.
С минуту майор и Иван Павлович, пораженные, молча смотрели друг на друга. Потом Комаров так же молча сложил бумажку, спрятал ее во внутренний карман своей куртки и наконец произнес:
— Хорошо, мой мальчик! Мы отправимся все вместе к шахте номер шесть. Так, Иван Павлович?
— Есть, Дмитрий Александрович! — твердо ответил Иван Павлович, многозначительно глядя майору в глаза.
— А сейчас, Дима, — продолжал Комаров, вынимая записную книжку и искоса бросая взгляд на моряка, — мне нужно с тобой о многом поговорить.
Иван Павлович посмотрел в крохотное, трепетавшее под порывами ветра оконце палатки и, кряхтя, поднялся с места.
— Совсем рассвело, — сказал он. — Пойду посмотрю, что делается на льдине. Вернусь, и начнем собираться в путь.
Иван Павлович отстегнул полотнище и вышел, оставив майора и Диму наедине.
ЧАСТЬ IV
ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ
ПУТЕШЕСТВИЕ ПОД ВОДОЙ
Вокруг простиралась мутная зеленоватая полутьма — спокойная, неподвижная, переходящая внизу в черноту ночи. По сторонам беззвучно проносились смутные гибкие тени. Сердце тревожно билось в ожидании чего-то неожиданного, может быть опасного и грозного… Но тени, быстро мелькнув, растворялись вдали, а настороженное ожидание вновь заставляло беспокойно озираться и прислушиваться.
Лишь впереди ничто не внушало тревоги: длинные серебристые лучи фонарей расплывались туманными пятнами света. И гибкие тени, случайно прорезая световые полосы и пятна, превращались в упругих серебристых рыб, и тогда все становилось простым и даже интересным.
Если представить себе, что наверху — небо, кажется, что оно покрыто светло-серыми тучами, как в раннее-раннее утро зимнего дня. На небе непрерывно, без отдыха, пляшут какие-то плоские тени; порою их сменяет темная туча, она спокойно проплывает над головой, и вновь начинается беспокойная, безмолвная пляска теней.
"Волны пляшут на поверхности моря, а это льдины проплывают", — вспоминает Дима объяснения Ивана Павловича.
Все-таки скучно, когда такая мертвая тишина вокруг. Тихое монотонное гудение мотора и винта за спиной не нарушает этой тишины, а, скорее, сливается с ней. Все молчит… А так хочется услышать чей-нибудь голос, когда все в тебе напряжено, сердце замирает при появлении какой-нибудь тени и весь ты натянут, словно струна!
Вытянув сомкнутые ноги, лежа на груди, Дима направил на соседний скафандр луч своего фонаря.
— Плутон! А, Плутон! — тихо позвал Дима. — Ну, что же ты молчишь?
Послышалось слабое повизгивание. Сквозь прозрачный шлем растерянно и скорбно глядели преданные глаза собаки, словно она жаловалась и искала помощи у друга. Бедному Плутону было очень неудобно в огромном скафандре. Он то вытягивал передние лапы, стараясь просунуть их в воротник, чтобы подложить под морду, то поджимал их под грудь. От этих движений скафандр вертелся с боку на бок, вместе с ним вертелась и собака, и Дима должен был крепко прижимать его к себе, чтобы Плутон не измучился вконец.
— Тебе нехорошо, Плутоня моя? — касаясь своим шлемом шлема собаки, говорил Дима, и слабое ответное подвывание раздавалось теперь громким гудящим шумом в ушах мальчика. — Потерпи, потерпи…
Иван Павлович внимательно следил за курсом, за изменчивым рельефом дна мелководного в этих областях Карского моря. Отряд плыл, то поднимаясь, над мелями и подводными плато, то выравниваясь над глубинами.
Комаров был молчалив и задумчив.
Мысль о Коновалове не оставляла майора. Где он? Что делает? Кто знает, какие, может быть, еще более ужасные преступления он готовит сейчас! Скорее, скорее к шахте…
— Смотрите! Смотрите — раздался вдруг крик Димы.
Сверху широким веером навстречу путникам метнулось множество довольно крупных рыб. Следом за ними черной молнией мелькнула узкая тень с круглой головой и длинным телом.
— Тюлень на охоте, — сказал Иван Павлович.
С удивительной быстротой тюлень догнал рыбу. Раскрытая пасть со множеством мелких острых зубов схватила и мгновенно проглотила ее, словно втянув в себя.
В стороне, среди рассыпавшейся стаи рыб, виднелось еще несколько тюленей. Быстрота, ловкость и гибкость их движений были поразительны. Они извивались, как змеи, и почти без промаха настигали добычу. Стая рыб была очень велика, и, очевидно, совершала один из обычных переходов в поисках новых пастбищ. Чем дальше, тем гуще делалась она и, наконец, совершенно затемнила поверхность моря. Множество тюленей сопровождало стаю. Добыча шла так густо, что можно сказать, сама лезла в пасть охотнику. Часто тюлени, увлеченные преследованием, так близко подплывали к людям, что неожиданно оказывались в луче фонаря. И тогда Дима успевал рассмотреть их круглые, гладкие, словно прилизанные головы, осмысленное выражение больших глаз с необычайным зрачком в виде четырехконечной звезды, их запертые клапанами ноздри, подвижные, послушные ласты и все их гибкое тело, способное к самым необыкновенным акробатические упражнениям в воде. Ослепленные и растерянные, они кружились и метались в световом луче и через некоторое время, придя в себя и выпустив в испуге добычу, устремлялись вверх.
— Какие они ловкие! — воскликнул Дима. — Какие быстрые! Не то что на льду!
Его слова то и дело заглушал лай Плутона, наблюдавшего эту охоту и пришедшего в необычайное возбуждение.
— Родная стихия, — сказал Иван Павлович. — Вода для них значит больше, чем земля. Вода — это пища, а значит — жизнь.
Через несколько минут, когда люди пересекли уже путь стаи и поднялись ближе к поверхности, новое зрелище представилось их глазам.
Среди рыб начали быстро мелькать небольшие вытянутые фигурки с длинными гибкими шеями и крыльями, работающими, как весла.
— А это кто, Иван Павлович? — с недоумением спросил Дима. — Неужели птицы?
— Совершенно верно. Чайки на охоте.
Чайки с раскрытыми крючковатыми клювами преследовали рыб, пожалуй, так же ловко и быстро, как тюлени. Но справляться с добычей под водой им, несомненно, было трудней. Тюлень тут же проглатывал захваченную рыбу, не опасаясь благодаря особому строению горла проникновения воды в легкие. А чайка должна была извлечь свою извивающуюся и бьющеюся добычу из воды на воздух, чтобы полакомиться ею. Но чайки справлялись и с этой трудной задачей.
Вскоре стая и ее преследователи остались позади. Опять потянулась однообразная дорога в мутно-зеленой мгле. Время от времени вдали мелькала то одинокая рыба, то куча рачков-креветок, быстро сновавших во все стороны, то студенистая медуза, равномерно сжимавшая края своего прозрачного, как стекло, розового колокола. Порой величественно проплывала, испуская слабый зеленоватый свет, замечательная обитательница полярных морей, красно-бурая "северная цианея" — гигантская медуза с колоколом до двух метров в поперечнике и щупальцами, достигающими в длину часто тридцати метров. Они тянулись из-под колокола, как пучок бесконечно длинных, извивающихся водорослей.
Встречавшиеся на пути айсберги91 Иван Павлович со своими спутниками большей частью огибал снизу. Иногда айсберги сидели так глубоко, что приходилось плыть под их изъеденными водой основаниями, совсем близко от дна. Тогда под лучами фонарей были видны ползающие по коричневому илу разноцветные морские звезды с длинными, раскинутыми по дну лучами-шупальцами, некоторые из них — с тельцами не больше крупной сливы и щупальцами длиной с человеческий палец. Они сплошь покрывали отдельные участки дна, и когда над ними проносились струи взволнованной винтами воды, они вспыхивали и сверкали фосфорическими искорками желтовато-зеленого цвета. Тогда по дну за проплывающими людьми тянулся длинный, переливающийся цветными огоньками хвост.
Попадались и знаменитые "головы горгоны" — большие офиуры92 терракотового цвета с длинными ветвистыми лучами, сплетающимися вокруг в кружевную корзинку или шевелящимися на грунте, словно змеи в поисках добычи.
Подводные камни были покрыты похожими на мох бесцветными серовато-белыми мшанками, или асцидиями93, напоминавшими то лимоны, то помидоры — иногда прозрачные, как слеза, иногда словно заросшие давно не чесанной бородой.
На камнях, как красивые кубки и вазы из длинных, тесно прижавшихся друг к другу волнистых перьев, сидели морские лилии. Диму приводили в восторг придонные цветы морей — прекрасные "северные кисти" — колонии полипов94, похожие на настоящие растения с тонким, как карандаш, стеблем высотой до двух метров и гроздью склонявшихся на его вершине крупных цветов с длинными живыми, извивающимися, как змейки, лепестками. Раздражаемые струями воды, они зажигались разноцветными слабыми искорками и, долго не успокаиваясь, мерцали в подводной темноте.
Встречались бледно-лиловые голотурии95, или морские огурцы, наполовину зарывшиеся в ил, которым они питались. Камни бывали покрыты букетами из пестро окрашенных "морских роз" — актиний96 с распущенными лепестками, колебавшимися в струях воды, словно от ветра.
Попадались и заросли водорослей, особенно морской капусты, широкие вырезанные листья которой напоминали зеленые лопухи. Дно было усеяно множеством моллюсков97 в ракушках, полузарытых в ил.
Иван Павлович едва успевал отвечать на беспрерывные вопросы Димы и даже майора, которого эти картины молчаливой подводной жизни нередко отвлекали от тревожных мыслей.
Но большая часть пути проходила в средних глубинах, где можно было более или менее безопасно развивать наибольшую скорость.
Темнота все больше сгущалась, все реже и реже встречались просветы наверху. Иван Павлович объяснил, что, вероятно, на поверхности простирается сплошной лед. На короткие минуты слабый свет пробивался на ту небольшую глубину, которой держались путешественники. То были просветы небольших разводьев и трещин или просто тюленьих лунок.
Иван Павлович решил выбраться на лед через одну из таких лунок, чтобы еще при дневном свете определиться.
Первые лунки были слишком узки. Лед был сравнительно тонок, и Ивану Павловичу удавалось высунуть руку на поверхность, но плечи, несмотря на все усилия, не пролезали. После долгих поисков удалось наконец найти более широкую лунку, которую, вероятно, проделал крупный тюлень.
— Ну, здесь, наверное, пройду, — сказал Иван Павлович, осмотрев нижнее отверстие лунки. — В крайнем случае, подрубим лед топориком.
Помогая себе вращающимся винтом, он выбросил свою закованную в гибкую сталь руку на лед.
В тот же момент что-то очень тяжелое придавило его руку ко льду. Правда, Иван Павлович не почувствовал боли, но глухой и мягкий удар по металлу скафандра достиг его слуха.
Он рванул руку назад, но освободиться не удалось: что-то крепко держало ее на поверхности льда. Иван Павлович дернул еще раз, уже изо всех сил, но результат был тот же.
— Что за черт! — в недоумении произнес Иван Павлович, вися на руке. — Глыба свалилась на руку, что ли?
Раскачавшись слегка, он выбросил на лед вторую руку и, вцепившись в край лунки, одним усилием подтянулся кверху. Но едва его шлем показался у края отверстия, как на Ивана Павловича вдруг обрушился такой удар, что подбородок его стукнулся о стальной воротник скафандра, зубы лязгнули и Иван Павлович больно прикусил язык. Оглушенный, он висел некоторое время на придавленной руке и, лишь придя немного в себя, посмотрел наверх.
Он увидел над собой голову белого медведя.
Вероятно, зверь сам был озадачен не менее Ивана Павловича. Однако он не снимал своей лапы с руки Ивана Павловича — потому ли, что просто забыл о ней, или надеялся овладеть этим странным тюленем, которого он так долго и терпеливо поджидал у лунки. Так или иначе, но Ивану Павловичу приходилось ожидать, пока владыка ледяных пустынь смилостивится и отпустит его.
Майор и Дима, наблюдая странные упражнения Ивана Павловича, сопровождаемые глухими стонами, наперебой забрасывали его вопросами:
— Что там случилось?
— Что с вами, Иван Павлович?
— Дьяво-о-ол!.. Че-орт!.. — неистово закричал вдруг каким-то плачущим голосом Иван Павлович, обретя наконец дар речи. — Отпусти, каналья!
Он шарил по бедру свободной рукой, но, как назло, кобура со световым пистолетом висела на другом бедре, и бедный Иван Павлович, извиваясь в тесной лунке, напрасно старался достать его.
— Да что с вами, Иван Павлович? — ничего не понимая, спрашивал майор.
— Медведь меня держит! — в отчаянии крикнул Иван Павлович, удивляясь недогадливости своих товарищей! — Ага! Вот, получай!.. — торжествующе закричал он.
Блеснул яркий свет, раздался короткий рев, и Иван Павлович рухнул на майора, увлекая его в глубину. Веревка, связывавшая обоих, запуталась вокруг них, работавшие винты то гнали их в разные стороны, то прижимали друг к другу, а Дима с Плутоном, оказавшиеся между ними, увеличивали суматоху и неразбериху. Испуганные крики, недоумевающие вопросы, советы, лай Плутона — все смешалось в их ушах в невообразимый галдеж.
Лишь остановив винты, люди понемногу стали приходить в себя и распутываться. Когда минут через пять Иван Павлович получил свободу действии, он мигом кинулся к лунке и в два приема очутился на льду.
Медведь лежал мертвый, опрокинувшись на спину, словно пораженный молнией. Из простреленного горла текла тонкая струйка крови. Пуля, вероятно, снизу прошла в мозг, и смерть была моментальной.
Шторм продолжался, но снег падал не так густо, как раньше. Видимость все же была скверная. Кругом тянулась бесконечная ледяная равнина. Судя по быстро замерзающим капелькам и струйкам воды на скафандре, по прилипающим ко льду подошвам, мороз был сильный. Быстро определившись с помощью захваченных с вездехода инструментов и взглянув еще раз на убитого медведя, Иван Павлович скользнул в лунку и скрылся подо льдом.
— Ну, как там ваш медведь? — спросил Комаров.
— Лежит… целехонек… — ответил Иван Павлович, обвязывая себя концом веревки и становясь на свое место, впереди цепи. — Жаль, шкуру нельзя взять. Замечательный мех! Ну, плывем, товарищи.
ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ
В ШАХТЕ № 6
До параллели пролива Шокальского плыли без особых приключений.
За проливом Иван Павлович лег на новый курс — прямо на северо-запад, к центру северной части Карского моря, к шахте.
Глубины здесь были сравнительно большие для такого мелководного моря — примерно от пятидесяти до двухсот метров. Иван Павлович старался держаться подводного желоба, тянувшегося по дну между прибрежным мелководьем Северной Земли и огромной банкой, лежащей к западу.
Непосредственно подо льдом стояли густые сумерки. Вероятно, большие ледяные поля покрывали море, и более или менее значительные просветы попадались редко. Поэтому Иван Павлович вел свой небольшой отряд поближе ко дну, чтобы незаметно для себя не потерять желоб и не очутиться на мелководье.
Время приближалось к полудню, когда Иван Павлович со своими спутниками взобрался на край большого ледяного поля. Надо было определиться, проверить правильность пути, пообедать и отдохнуть.
Погода была морозная, тихая, облачная. На черной спокойной воде плавали голубоватые, словно фарфоровые, льдины. На облаках вплоть до горизонта лежал светло-стальной отблеск ледяных полей. Лишь изредка то там, то сям по "ледяному небу" проходили узкие темные полосы "водяного неба", указывавшие на присутствие пока еще свободных пространств чистой воды.
Зима уверенно вступала в свои права.
На лед втащили ящик с аварийными запасами, сняли скафандры. Плутона выпустили на свободу, чтобы дать ему размяться. Привыкнув к подводному путешествию, он уже не так страдал под водой, но все же радость его была безмерна, когда он очутился на снегу.
Иван Павлович вынул из оболочки ящика свои портативные инструменты и готовил их для определения координат. Майор и Дима достали продукты, электроплитку и утварь. Пакет-палатку развернули и поставили на лед в виде чума. Через десять минут в ее уютной тесноте шипели поджариваемые на электросковороде ломтики медвежьего мяса, в кофейнике попискивала начинавшая закипать вода из растопленного снега, электроплитка распространяла приятную теплоту.
Ровно в двенадцать часов Иван Павлович определил координаты льдины. Сделав короткие вычисления, он вернулся в палатку, сел на свое место и с удовлетворением сказал:
— Чуть уклонились к западу. А вообще идем правильно. К вечеру будем на траверзе острова Домашний.
— Хорошо было бы там остановиться минут на десять, — сказал Комаров, всыпая кофе в кофейник, — послать оттуда радиограмму в Москву.
— Ну, ничего, — ответил Иван Павлович, — часов через восемь после острова сделаем это из шахтного поселка.
С аппетитом пообедав и накормив Плутона, путники вздремнули на непромокаемом полу палатки и снова двинулись вперед.
Часов в восемнадцать, сделав подсчет, Иван Павлович объявил, что скоро будет параллель на которой находится остров Домашний.
— А вот опять сайки! — заметил Дима.
Маленькие рыбки сначала в одиночку, потом все гуще неслись с севера. Огромная стая, как черная туча, скоро совершенно закрыла слабый свет, проникавший сверху. Стая шла так густо, что казалось, если бы проткнуть ее толщу, палка так стоймя и пошла бы вместе с рыбой.
Неожиданно среди скопища саек мелькнуло несколько огромных белых тел. Это были животные желтовато белого или голубовато серого цвета, длиной около четырех-пяти метров, с тонким сравнительно туловищем и круглой головой. Очень выпуклый лоб почти отвесно спускался к короткой и тупой морде. Широкая пасть с мелкими конусовидными зубами раскрывалась, захватывая сразу массу саек, которые тут же и заглатывались. Сайкам, в сущности, невозможно было спасаться: они шли так плотно, что податься им было некуда.
— Иван Павлович, а это что за охотники? — спросил Дима.
— Белухи. Киты такие, из той же породы, что кашалот, дельфин, касатка.
— Значит, опасные?
— Нет, смирные. Охотятся вот за такой мелочью.
— Можно к ним поближе? Интересно посмотреть, как они охотятся.
— Ну, немножко поднимемся. Только надо глядеть в оба, чтобы не попасть в самую гущу саек Иван Павлович, а за ним и остальные, повернув горизонтальные рули на крагах скафандров, поднялись повыше.
Белухи спокойно двигались вместе со стаей, изредка удаляясь в сторону и исчезая в зеленоватой полутьме.
— Уходят наверх подышать свежим воздухом, — говорил Иван Павлович. — Ну, подойдем к краю стаи. Гам, наверное, еще больше белух работает. Они всегда ходят стадами.
Метров на сто пришлось отплыть в сторону, чтобы заметить некоторое разрежение саек Здесь было просторней, и сайки сплоченной массой то бросались в сторону, то погружались вниз, спасаясь от белух.
Белухи держались вместе, их было не менее ста пятидесяти голов. Они молниеносно врезались в гущу саек, набивали пасть добычей, взмывали кверху, спускались оттуда вниз и вновь принимались за пиршество.
Путники плыли под ними на замедленном ходу, и даже свет фонарей, по видимому, не пугал пришедших в азарт охотников.
Вдруг в зеленоватой тьме глубин, словно торпеды, пронеслись какие то широкие белые полосы. Еще миг — и над этими полосами возникли черные длинные круглые спины с высокими треугольными лезвиями спинных плавников. Лезвия высоко торчали, как широкие косы или сабли, посреди спин.
Иван Павлович встревоженно крикнул:
— Касатки! Вот это уже будет поопаснее. А ну-ка, товарищи, отойдем в сторону. Здесь сейчас такая бойня начнется…
Между тем среди белух началось дикое смятение. Забыв об охоте, они в панике бросились врассыпную. Но отовсюду из темноты с быстротой молнии возникали огромные шести — семиметровые тела, широкие короткие морды с раскрытыми пастями, в которых торчали острые конусовидные зубы.
Уже пролилась первая кровь. Одна касатка, пронесясь словно тень под своей жертвой, острым плавником прошлась по ее брюху и разрезала белуху почти до позвоночного столба. Как будто уверенная, что эта добыча теперь не уйдет от нее, изогнувшись дугой, касатка набросилась на другую белуху и мгновенно растерзала ее в куски.
Отрезанные от свободного моря, белухи в панике бросились в самую гущу стаи саек, словно ища среди них спасения. Но напрасно. Разбойницы морей преследовали и настигали их всюду.
Да и где было белухам устоять против этих смелых хищников, вооруженных такими страшными зубами! Касатки наводят ужас на все живое в обитаемых водах. Они нападают даже на кита, затравливая его, словно стая собак оленя. Моржи и медведи остерегаются входить воду, если заметят поблизости устрашающие лезвия плавников, режущих поверхность моря. Разве лишь один кашалот не боится этих "убийц китов", как с ненавистью зовут касаток китоловы. Люди знают: там, где замечены в море касатки, распуганных китов не найдешь на огромном расстоянии.
Майор со своими спутниками находились в стороне от стаи саек, которая продолжала дефилировать перед ними бесконечной скученной массой.
Избиение белух уже заканчивалось. Лишь немногим удалось прорвать кольцо касаток и спастись в открытом море.
— Ну, пойдемте, товарищи, — сказал Иван Павлович. — Хватит! Средним ходом вперед, за мной!
Все, что произошло через минуту, можно объяснить лишь догадками и только приблизительно.
Пока люди наблюдали избиение белух касатками, яркие лучи фонарей освещали участников битвы, скрывая в то же время наблюдателей за собой в глубокой тьме. Но как только фонари после команды Ивана Павловича повернулись в другую сторону, силуэты людей стали, вероятно, достаточно заметны в слабо освещенной сверху зеленоватой мгле.
Одна из касаток, свернувшись почти в кольцо, стремительно развернулась и с неуловимой для глаза быстротой бросилась на уходившую цепочку людей.
Майор никак не мог потом объяснить ни себе, ни другим, каким образом он заметил какую-то смутную черно-белую полосу, несущуюся к нему из темноты. Может быть, он ничего и не заметил, просто почувствовал какую-то опасность, но, не размышляя — потому что и времени не было для этого, — он выхватил из кобуры световой пистолет. И в тот самый момент, когда раздался отчаянный скрежет его скафандра в страшных челюстях, майор ткнул пистолетом в скользкую впадину и нажал кнопку. Короткий ослепительный блеск — и, не разжимая челюстей, не выпуская из них майора, касатка завертелась словно в конвульсиях, свертываясь и развертываясь, как чудовищная пружина, хлеща хвостом по шару с аварийным ящиком, вертя с собой майора и всех связанных с ним общей веревкой. Беззвучные вспышки выстрелов следовали одна за другой, сопровождаемые отрывистыми словами майора:
— Не подпускайте других касаток… Боли не чувствую… Дайте полный ход винтам… Старайтесь не запутаться… Дима, держи крепче Плутона… Ну, вот…
Последняя вспышка, и касатка, разжав челюсти, медленно стала опускаться на дно, извиваясь в последних судорогах.
Иван Павлович и Дима пустили винты на всю мощность моторов и увлекли за собой майора. Через минуту в прозрачной мгле исчезли место кровавой бойни, бесконечная туча саек и зловеще рыскающие черно-белые тени подводных страшилищ.
Прошло некоторое время, пока люди восстановили строй и пришли окончательно в себя.
— А знаете, — говорил майор, отвечая на вопросы, — в первый момент я даже забыл, что на мне скафандр. Мне показалось, что я совершенно гол, беззащитен и что через секунду кости мои захрустят в этой ужасной пасти. Бр-р… И вспоминать неприятно… Мороз по коже подирает.
— Ну, и так-таки никакой боли? — спросил с любопытством Иван Павлович.
— Абсолютно! Я это объясняю тем, что она схватила меня за бедро. Если бы в ее пасть попала ступня, касатка могла бы, дернув, вывихнуть мне ногу.
— Ну-ну… — покачал головой Иван Павлович. — По правде сказать, я ни разу в такой переделке не бывал. И все с опаской подумывал: а что если на зубы кашалоту или акуле попасть — выдержит скафандр или нет? Конечно, все теоретические расчеты относительно его выносливости и огромное давление воды, которое он выдерживает, я знал и сам на практике испытал. Но на себе, честно говоря, не хотелось бы устраивать первый опыт с таким чудовищем.
Разговоры о касатках, белухах, об их повадках продолжались долго. Уже давно с поверхности перестал достигать хотя бы слабый свет. Сплошной лед тянулся теперь над головами путников. Лишь изредка поднимаясь кверху, люди обнаруживали полынью, разводье и канал…
Около девятнадцати часов все вылезли на лед. Солнце еще не зашло, хотя стояло на юге, у самого горизонта. Впрочем, Иван Павлович узнал это только по приборам, когда определял координаты ледового лагеря.
Все небо было затянуто тучами, жестокая пурга свирепствовала вокруг. Было почти совсем темно, и наснятых скафандрах зажгли фонари, чтобы легче было разбить палатку.
Под сбивающим с ног ветром, с трудом укрепив палатку, втащили туда ящик с продовольствием, уложили и прикрыли от снега скафандры. Вспыхнула электролампочка, загорелась электроплитка.
Отдыхали не больше часа. Майора охватывало все большее нетерпение и беспокойство. Он несколько раз выходил из палатки, быстро возвращался, заснеженный, молчаливый, односложно отвечал на вопросы и наконец попросил ускорить отплытие.
Никто не возражал. Быстро собрались, надели скафандры и ушли под воду.
Ивану Павловичу, видимо, передалось настроение майора. Он вел отряд с максимальной быстротой. Никто не разговаривал, все стремились скорей достичь шахты. Там закончится наконец миссия майора. Там должны разрешиться его сомнения, опасения, беспокойства. Что там произойдет? Найдет ли майор Коновалова? Задержит ли он его? Не будет ли Коновалов сопротивляться? Может быть, и там суждено разыграться какой-нибудь трагедии? Коновалов, по-видимому, опасный враг, он не сдастся покорно.
Эти мысли волновали всех участников отряда, долгие часы плывших в молчании.
Наконец Дима не выдержал.
— Иван Павлович, — нерешительно спросил он, — далеко еще?
— Минут через сорок будем на месте.
У Димы сильнее забилось сердце. Страх перед встречей с Коноваловым смешивался с радостью при мысли, что через сорок минут он станет ногой на первую ступеньку лестницы, а по ней — к Вале, к Вале! Что с ним?.. Все время шторм… Наверное, не смогли начать поиски… Бедный Валя! Скорее бы!
Лучи фонарей, словно серебряные мечи с расширяющимися и тающими в темноте клинками, резали воду. Все как будто спало вокруг, тени одиноких рыб или медуз мелькали изредка во тьме и бесшумно исчезали. Сердца людей трепетали от нетерпения и ожидания, которое казалось бесконечным.
— Не понимаю, — после долгого молчания донеслось вдруг во все шлемы бормотание Ивана Павловича. — По-моему, давно уже должно было появиться зарево поселочных огней…
В голосе Ивана Павловича звучали нотки тревоги.
— Неужели я сбился с курса? — неуверенно спрашивал он сам себя, вглядываясь в свой маленький компас. — Да нет, не может быть… Не впервой, кажется. Знаете, Дмитрий Александрович, — обратился он к майору, — пожалуй, надо идти медленней, а то еще проскочим, если уклонились в сторону. Малый ход, товарищи!
Отряд быстро разрезал воду, жадно всматриваясь в тьму.
— А скоро покажется зарево? — нетерпеливо спросил Дима.
— Да, конечно, скоро, — заторопился Иван Павлович. — Собственно, оно должно было уже давно появиться. Не понимаю…
Время уходило, но зарево не появлялось.
ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ
ДОЛГОЖДАННЫЕ ВСТРЕЧИ
Беспокойство Ивана Павловича возрастало. Он поминутно подносил компас к глазам, пристально всматривался в его синевато поблескивающий язычок, разворачивал непромокаемую карту и, наклонив над ней шлем с фонарем, изучал ее сквозь мутную пелену воды.
— В чем дело, Иван Павлович? — спросил наконец майор, обеспокоенный поведением моряка. — Не сбились ли мы в самом деле с пути?
— Да, все не видно поселка. И банки вроде подводного порога все нет и нет… Сам начинаю думать, что сбились. Магнитное склонение98 в этом районе Карского моря огромное, и стрелка компаса вертится, словно голову потеряла…
— Может быть, пойти зигзагами? Все же больше шансов наткнуться на поселок.
— Еще больше времени потеряем, если действительно уклонились от истинного пути, — возразил Иван Павлович и вздохнул: — Придется, видно, вылезать на лед и определяться… Этак вернее будет.
Наверх выбрались через первое встретившееся разводье, пробивая шлемами тонкий ледок, успевший за ночь покрыть воду.
Сняв скафандры и вытащив на лед ящик с аварийными запасами, живо распаковали его и вынули необходимые моряку астрономические инструменты.
На юго-востоке, за тучами, покрывавшими весь небосклон, алела полоска зари. Ветра не было. Кругом, по обе стороны извилистого, не очень широкого разводья, громоздились в диком беспорядке торосы. Все было покрыто кроваво-красным снегом, искрившимся под первыми багровыми лучами еще не видимого солнца.
— Пользуйтесь случаем! — провозгласил Иван Павлович, к которому вернулось хорошее расположение духа. — Даю полчаса на завтрак и отдых.
Искаженное рефракцией солнце выглянуло из-за горизонта, когда Комаров и Дима, усевшись вокруг вскипавшего кофейника, ожидали к завтраку Ивана Павловича. Покончив с наблюдениями и расчетами, моряк объявил:
— Ну конечно! Уклонились к востоку на два градуса. Эх, горе-штурман у вас, дорогие товарищи! Дайте стаканчик горячего кофе в наказание…
Уже кончили завтракать, когда с севера, из-за торосов, подул легкий ветерок.
— Если усилится, — сказал Иван Павлович, укладывая инструменты и посуду в ящик, — как бы не привел в движение лед. Разводье сойдется… Надо торопиться.
Смирно лежавший после сытного завтрака Плутон внезапно встрепенулся и вскочил, повернув голову к северу и усиленно поводя носом.
— Что ты, Плутон? — спросил его Дима.
— Не медведя ли почуял наш медвежатник? — отозвался майор.
— Новую профессию, видно, себе нашел, — пошутил Иван Павлович, завязывая ящик сложным морским узлом.
— А все-таки, — сказал майор, — пойду проверю.
Он быстро и легко вскарабкался на ближайший торос, посмотрел на север и вскрикнул:
— Лагерь! Лагерь с геликоптером! Иван Павлович, сюда скорей!
Иван Павлович буквально взлетел на торос. За ним неслись Дима, кричавший "ура", и Плутон.
На ровном поле, за торосами, чернела большая палатка, несколько человек суетились возле высокого геликоптера с тихо гудящим ротором. Вдруг люди отбежали от машины, ротор взревел, геликоптер высоко подскочил над площадкой и сразу взмыл на сотню метров, сверкая пропеллерами на солнце.
— Знаков, знаков на фюзеляже нет! — крикнул Иван Павлович, указывая на поднимавшуюся машину.
— Странно… — проговорил майор, не сводя глаз с нее. — Кто бы мог залететь сюда?
— А чего проще? Сходим и посмотрим, — предложил Иван Павлович.
— Посмотреть, конечно, надо, но будем осторожны. Не следует обнаруживать себя раньше времени, — говорил майор, спускаясь с тороса вслед за моряком.
Через торосы перебирались скрытно, прячась за обломками льда и придерживая рвавшегося вперед Плутона. На последней гряде, по предложению майора, залегли, наблюдая за людьми, быстро разбиравшими палатку, складывавшими в ящики и мешки предметы, разбросанные на снегу.
Неожиданно, в разгаре суеты, люди прекратили работу и, словно по команде, повернулись к торосам, на которых скрывались наши друзья.
— Неужели мы обнаружили себя? — с беспокойством спросил Комаров.
— Кажется, нет, — ответил Иван Павлович, — Лежим, как припечатанные…
Люди у палатки — их было пятеро — начали суетиться. Они разбежались по лагерю, что-то хватали, затем бросились бегом к торосам.
— Что за диковина? — удивился Иван Павлович. — Бегут, словно в атаку. И ружья у них в руках…
Плутон, лежавший с Димой позади, вдруг зарычал.
Дима взглянул в его сторону и тихо вскрикнул:
— Смотрите, смотрите… И с той стороны люди!
Майор обернулся. На востоке среди нагроможденного льда мелькали, то появляясь, то исчезая, три человеческие фигуры, тоже, по-видимому, спешившие к месту, где скрывался отряд.
— Понятно! — сказал майор. — Нас заметили с геликоптера и по радио дали знать людям на льду.
Со стороны бежавших по ровному полю донеслась отрывистая команда, и люди разбежались в цепь, словно стремясь окружить отряд майора.
— Вы слышали? — быстро спросил майор, повернувшись к Ивану Павловичу. — Они говорят не по-русски.
— Мне тоже так показалось, — ответил моряк.
Уже не больше полукилометра отделяло бегущих от гряды торосов. Люди, пробиравшиеся среди льдов справа, были еще ближе.
— Назад! — скомандовал майор. — К скафандрам! Скрытно, не обнаруживая себя!
Когда, усталые и запыхавшиеся, они прибежали к разводью, на торосах, только что покинутых ими, появились фигуры людей. Трое, бежавшие с востока, тоже приблизились: очевидно, с геликоптера им велели изменить направление и бежать наперерез отступающему отряду.
— Пожалуй, успеем, — сказал Иван Павлович, помогая Диме надеть скафандр.
Майор тем временем сшивал электроиглой скафандр на Плутоне, который, по приказанию Димы, сразу, без обычных проволочек, влез туда.
Раздалось несколько выстрелов. Пули взрыли лед, его осколки звякнули о скафандр Димы. Вокруг возникло несколько струек дыма. Гонимые ветерком, вырастая и ширясь, они неслись на майора и его друзей. В воздухе разлился сладкий запах, глаза заслезились.
— Скорее в скафандр, Иван Павлович! — приказал майор. — Газовые пули!
Сам он, окончив работу над скафандром Плутона и выхватив из кобуры световой пистолет, выбежал за газовую полосу, припал на колено за глыбой льда и прицелился.
— Надо немного умерить их пыл… — говорил он, нажимая кнопку на рукоятке пистолета.
Послышался резкий свист. Один человек из ближайшей группы упал и исчез среди нагромождения торосов.
— Ото! — воскликнул Иван Павлович, скрепляя на себе иглой стальные, брюки и обувь. — Недурно для дистанции в триста метров! Дима, подтащи Плутона к разводью и сам будь готов.
Послышался новый свист пистолета. Люди моментально скрылись, словно провалившись. Над дальними торосами, где была первая группа, взвилось и заискрилось в лучах солнца облачко снежной пыли.
Сверху послышались тихое жужжание и одновременно несколько выстрелов. Дымок на льду сгустился. Майор поднял голову. На высоте пятисот метров в воздухе висел геликоптер.
— Кончайте одеваться, Иван Павлович, — сказал майор, не повышая голоса. — Что же вы стоите, голубчик, как на параде? Недолго и пулю получить или отравиться. Не забывайте, что нам еще в поселок надо попасть…
Иван Павлович поспешно заканчивал одевание. Все же время от времени он успевал посылать выстрелы то в одну, то в другую сторону.
— Готово! — откликнулся через минуту бравый моряк и закашлялся.
Но кашель резко оборвался под шлемом, который в это мгновение он надел на голову.
— Дима, стреляй в белый свет, — сказал майор. — Попадешь не попадешь — лишь бы головы не поднимали или ползком ползли. Иван Павлович, поддерживайте огонь! Я одеваться буду.
Он выпустил еще несколько пуль по геликоптеру. Дима и Иван Павлович продолжали стрельбу. Очевидно, одна из пуль майора попала в самолет, так как тот резко взмыл кверху, посылая вниз выстрел за выстрелом. С торосов тоже усилилась стрельба, хотя людей не было видно. Вокруг маленького отряда и лед и вода в разводье словно кипели, но усилившийся ветер быстро разгонял ядовитые дымки. Осколки льда летели со всех сторон. Пули свистели: две ударили в Диму, стоявшего на виду, одна угодила в скафандр Плутона, но все отскочили, не причинив никому вреда.
Пригнувшись и не дыша, майор бросился сквозь сизый дымок, закрывавший разводье, вытащил свой скафандр и вновь скрылся за торосом. Под неумолчный свист пистолетов Ивана Павловича и Димы он, по своей обычной манере, не торопясь оделся и отдал команду:
— Дима с Плутоном — в воду! Иван Павлович — в воду. Я буду прикрывать отступление.
Он возобновил стрельбу, теперь уже почти не скрываясь. Несколько пуль защелкало по его скафандру, прозрачные струйки дыма окружили его.
— Живей, Иван Павлович! — повторил майор, заметив какое-то движение среди нападающих. — Сейчас бросятся в атаку…
— Пошли в воду, — ответил голос Ивана Павловича, прерываемый легким кашлем.
Послышались звон и хруст молодого ледка и три сильных всплеска воды. Одновременно донеслись громкие крики со стороны торосов. Метрах в двухстах от разводья во весь рост поднялись люди. Крича и стреляя, оступаясь и падая, они начали быстро скатываться с торосов. Две пули одновременно щелкнули о скафандр майора. Майор покачнулся от этого двойного удара, но, выпрямившись, послал ответные две пули и успел заметить, как еще один человек, схватившись за грудь, упал на снег. Майор повернулся к разводью и вдруг остановился, окаменев: в стороне, метрах в пятнадцати, полускрытая ропаками и мелкими торосами, медленно и тяжело вылезала из воды на лед фигура в скафандре, точь-в-точь таком же, как на майоре и его друзьях.
Крики атакующих приближались, и долго думать не приходилось. Было ясно: кто-то из шахты номер шесть приплыл сюда за каким-то делом, не зная, что здесь враги. И, не медля ни минуты, со всей быстротой, какую допускал скафандр, майор заковылял к неожиданному гостю. Он уже почти вплотную приблизился к неизвестному, когда тот наконец встал на ноги у самого края льда и выпрямился.
В то же мгновение, схватив незнакомца в свои стальные объятия, майор бросился в воду, увлекая его за собой.
— Что случилось? — встревоженно воскликнул Иван Павлович, запуская винт и бросаясь к месту, где в зеленоватой тьме, сплетаясь и вертясь, опускались все ниже два скафандра.
— Вяжите ему ноги… — услышал Иван Павлович хриплый, задыхающийся голос Комарова.
Ошеломленный, ничего не понимая, но привыкший в экстренных случаях, не раздумывая, выполнять распоряжения своего командира, Иван Павлович сорвал с пояса веревку и… остановился: в темноте он не мог разобрать, на какую пару из четырех энергично работающих ног накинуть петлю. Привычным движением он зажег фонарь на своем шлеме. Яркий луч скользнул по синеватым скафандрам, по прозрачному шлему, сквозь который виднелось побагровевшее от напряжения лицо майора, и задержался на знакомом смуглом лице с горбатым носом и небольшим розовым шрамом на лбу.
— Коновалов! — вскрикнул Иван Павлович.
Даже когда его ноги были крепко стянуты веревкой, Коновалов продолжал биться и извиваться, пытаясь вырваться из объятий майора.
— Вы не имеете права… — хрипел он, отбиваясь ногами. — Вы ответите… Пустите… Я со срочным поручением Лаврова на лед… Отпустите сейчас же… Я опоздаю туда… Вы ответите…
— Спокойно… спокойно… — уговаривал его Комаров, выворачивая руки Коновалова за спину. — Ваши друзья на льду подождут… Вяжите, Иван Павлович… Я придержу… Дима, подай веревку…
Еще через минуту Коновалов со связанными руками и ногами беспомощно висел в воде между майором и Иваном Павловичем.
— Это вам не пройдет, — продолжал хрипеть Коновалов. — Вы за это ответите…
— Ответим, ответим! — подхватил уже пришедший в себя Иван Павлович. Ответим и за появление иностранного самолета на территории Союза и за стрельбу в советских граждан… Будьте спокойны…
Он уже закончил приготовление двух больших петель на концах веревки, связывавшей Коновалова, и надевая одну из них себе через плечо, обратился к майору:
— Ну-с, Дмитрий Александрович, начнем буксировать этот мертвый груз к поселку? Надевайте вторую петлю…
— К поселку… — хрипло засмеялся вдруг Коновалов. — К поселку?! Плывем, плывем… Если вы его еще найдете…
— Там посмотрим, — после минуты молчания сдавленным голосом отозвался майор, запуская одновременно с Иваном Павловичем винт. — И горе вам…
Горло его что-то перехватило, и слова оборвались…
В полном молчании отряд понесся на запад, увлекая за собой Коновалова.
Море было пустынно. Лишь тени каких-то неразличимых рыб изредка мелькали по сторонам да одинокие тюлени появлялись и тут же исчезали, взмывая к поверхности. Через десять минут стремительного и молчаливого плавания далеко впереди показалось слабое сияние, похожее на пятнышко светящегося тумана.
— Поселок впереди по правому борту! — радостно закричал Иван Павлович.
Это прозвучало так неожиданно, что в первое мгновение ни майор, ни Дима не смогли проронить ни звука. Неужели конец всем лишениям, тревогам и опасностям?
Звонкий, радостный голос Димы переплелся со сдержанным густым голосом майора:
— Где? Где?
— А вон направо чуть виднеется светлое пятнышко…
Оно медленно росло, светлело, это пятнышко, постепенно распространяясь все шире и выше по темному подводному горизонту.
И вдруг посреди этого туманного сияния сверкнула ослепительная молния, вспыхнуло огромное багровое зарево, сейчас же потухшее, раздался громовой удар. Грохочущее эхо, многократно отраженное дном океана и льдами на поверхности, прокатилось и заглохло. Что-то мягкое, но непреодолимо мощное толкнуло оглушенных и ослепленных людей, потащило их назад, несмотря на работу винтов. Спокойное туманное сияние, заполнившее было почти четверть подводного неба, исчезло, и перед глазами ослепших на мгновение людей опустилась тьма, еще более черная и непроницаемая, чем обычная ночь морских глубин.
— Что это? Что случилось? — спрашивал Дима.
— Катастрофа… — дрогнувшим голосом произнес майор. — Катастрофа в шахте…
— Гибель!.. Гибель поселка!.. — не своим голосом закричал Иван Павлович.
— Вперед! Вперед! Там люди гибнут… — раздалась команда майора. — Горе вам, Коновалов…
Не докончив, он выхватил из ножен кортик, одним ударом рассек веревку, связывавшую Диму с аварийным ящиком, и устремился вперед на все десять десятых хода, увлекая за собой Коновалова и Диму с Плутоном. Теперь, без груза, двигаться было легче.
Вновь из тьмы, далеко-далеко впереди, начало возникать широкое туманное сияние. Первым его заметил Иван Павлович. Робко, едва слышно он прошептал:
— Поселок, кажется, живет… Живет… Живет, Дмитрий Александрович!
Последние слова он уже кричал уверенно и радостно. Но голос его вдруг смешался с каким-то гулом, непонятным шумом, сквозь которые прорывались едва различимые голоса и крики.
Тревога опять возвратилась в сердце майора и Ивана Павловича.
— Что там такое? — бормотал Иван Павлович. — Что делается в поселке?
Дима плыл позади, прижимая к себе Плутона, не имея сил собрать мысли, подумать, представить себе ясно, в какой вихрь событий он попал. Он чувствовал себя жалкой соломинкой в яростной толчее каких-то могучих волн.
Сияние вдруг как-то сразу выросло, охватило половину горизонта, сделалось ярким и сильным.
И под все шлемы ворвались звонки, уханье подводных клаксонов99, зазвучали ясные, возбужденные, перебивающие друг друга голоса:
— Листы подавай!..
— Цемент! Цемент сюда!
— Дорогу! Дорогу!..
Световое пятно росло и ширилось, превращаясь в светящееся желтое облако, отсветы которого ложились солнечными бликами на шлемы и скафандры мчащегося вперед отряда.
— Ура! Поселок живет! — неистово закричал Иван Павлович. — Мы слышим их!
— Осторожней, Арсеньев! — переплетаясь с голосом Ивана Павловича, ясно прозвучал чей-то тревожный голос. — Подальше! Подальше от края…
— Лавров! Лавров! — словно безумный, закричал вдруг Дима. — Сергей Петрович! Милый… родной… Это я! Это Дима! Сергей Петрович!.. Сергей Петрович!
Голос его затерялся в отчаянном многоголосом крике:
— Держи! Держи! Арсеньев! Арсеньев!..
ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ
ДОЛГОЖДАННЫЕ ВСТРЕЧИ
(Продолжение)
Вот что произошло в поселке после гибели Грабина.
Двери всех секторов были раскрыты, и клубы пара неслись из них, заполняя весь тоннель едва проницаемым для глаз туманом. Если бы не эскалаторы, добраться до щита было бы трудной задачей.
Кундин догнал Лаврова недалеко от входа в тоннель, и они вместе, став на движущуюся ленту эскалатора, понеслись к щиту.
— Туман стал как будто реже, Григорий Семенович, — сказал Лавров. — Вы не замечаете?
— Определенно реже, — ответил Кундин. — Еще рано утром, когда я после совещания спустился сюда, в двух шагах ничего нельзя было разобрать…
— Кажется, дело идет к концу. Могло быть хуже. Это будет для нас хорошим уроком. Какая бы ни была на пути горная порода, надо проходить ее обязательно с глубокой разведкой. Все равно, встретится ли мягкая осадочная порода или интрузивная.
— Да, Сергей Петрович… — согласился Кундин, и его голос сразу потускнел. — Это все упущение… Моя вина. И я дорого заплатил за этот урок… Человеческой жизнью заплатил…
В нарастающем гуле воды работающих вентиляторов и насосов оба замолчали.
— Где тело Грабина? — спросил через некоторое время Лавров.
— В его комнате…
— Врачи уже дали заключение?
— Да. Он умер от удара о щит во время падения с этой огромной высоты.
— Скафандр был цел?
— Да. Тело совершенно не пострадало от высокой температуры.
Эскалатор то всползал на крыши галерей, то спускался с них на дно тоннеля. На встречной ленте показывались время от времени расплывчатые силуэты людей, ящиков, машин.
Сквозь туман стало понемногу пробиваться оранжевое пятно.
— Цвет лавы изменился, — заметил Лавров.
— Да, да! — встрепенулся Кундин. — Влияние холодильных машин сказывается.
— А мощность потока лавы?
— Сильно уменьшилась. Вязкость увеличилась. Выход газов почти прекратился. Внутреннее давление упало на три четверти.
— Хорошо. Думаю, ничего ужасного не будет, — говорил Лавров. — Вероятно, дня через два все будет ликвидировано, и мы сможем возобновить проходку. Вы слушали статью Герасимова? Перед сном я пропустил тонленту с этой статьей через аппарат. И эта авария и гибель Грабина произвели тяжелое впечатление на некоторых участников строительства.
— Ничего, — сказал Кундин. — Строительство будет доведено до конца. Никакое великое дело не проходит без потерь.
У самого щита, где было множество мощных вентиляторов, туман стал реже и прозрачнее. Лава лилась откуда-то сверху, из облаков пара, несколькими тягучими струями красноватого цвета и расползалась внизу, за щитом. Количество брандспойтов здесь было увеличено, вода растворяла лаву, а насосы выкачивали горячую пульпу из-за щита и выбрасывали наверх.
Людей почти не было видно. Под шлемами скафандров лишь изредка звучали человеческие голоса. Было незаметно, что здесь происходит напряженная борьба с могучей стихией, идет поединок между волей человека и взбунтовавшимися силами природы. Люди спокойно, без суеты работали у своих аппаратов и механизмов.
За щитом сквозь пелену оранжево-красного тумана едва видна была стена породы, усеянная мерцающими основаниями проникших в нее сверл. К ним сквозь двери в щите тянулись черные змеи переплетавшихся шлангов. Еще выше темнело несколько выдвинутых площадок, откуда со свистом и жужжанием входили в породу новые сверла, ведя наступление на магмовую жилу.
Средний горизонтальный эскалатор высоко вверху переносил Лаврова и Кундина из бокового сектора щита на его центральную площадку, к одинокой фигуре гидромониторщика у пульта, когда какой-то мощный глухой гул мягко ворвался в тоннель и проник под шлемы людей. Лавров почувствовал, как внезапно дрогнул под его ногами гигантский щит. На одно мгновение ему показалось, будто щит качнулся вперед, потом назад, готовый рухнуть вместе с людьми и сотнями машин.
Сердце Лаврова замерло, он схватился рукой за бегущие перила эскалатора.
И в тот же миг все необъятное пространство тоннеля наполнил ужасный, леденящий душу вой сирены, и среди множества ламп и прожекторов, звездным роем освещавших тоннель, внезапно засветились, как раскаленные метеоры, огромные кроваво-красные шары.
И сирена и шары, казалось, кричали и звали на помощь: "Все наверх!.. Смертельная опасность!.. Спасайтесь!.."
Зловещие сигналы были понятны без слов. И внезапно отовсюду показались тени бегущих людей — из галерей, с площадок щита, со дна тоннеля. Все спешили к центральному эскалатору.
Меньше минуты длились вопли сирены, потом они сразу оборвались, и гул продолжавших работу брандспойтов и машин показался людям сладостной тишиной. Но кровавые круглые глаза ламп продолжали изливать свой тревожный свет, окрашивая туман в зловещий оттенок.
В наступившей тишине под всеми шлемами прозвучал твердый голос:
— Молчание! Говорит дежурный диспетчер шахты. Ищу Лаврова и Кундина.
— Я и Кундин в тоннеле, — ответил Лавров, подбегая вместе с Кундиным к центральному эскалатору. — Что случилось?
— Огромной силы взрыв, — отчетливо докладывал диспетчер, — разрушил нижнюю часть поселкового свода возле главного склада материалов. Механизм заградительного щита на своде не действует. Предполагаю, что сотрясение от взрыва повредило его. Предохранительный слой выдержал удар, но парабола быстро приближается к острому углу склада. Грозят осложнения. Необходимо присутствие Кундина на месте аварии.
— Я перехожу в скоростной лифт… — срывающимся голосом ответил Кундин. — Скоро будем на месте…
— Ваши распоряжения, товарищ Кундин? — настойчиво требовал диспетчер.
— Нужно вызвать людей… принимайте скорее меры… Сейчас буду…
Кровь ударила Лаврову в голову, и, резко отодвинув Кундина в сторону, словно от невидимого микрофона, он почти прокричал:
— Товарищ диспетчер, говорит Лавров! С этого момента слушать только меня!
— Есть, товарищ Лавров! — с живостью, словно обрадованный, ответил диспетчер.
— Всем из поселка перейти в порт-тоннель и одеться в подводные скафандры. Ворота порт-тоннеля закрыть, оставив лишь калитку. Вышлите на дно к пролому аварийную команду с ремонтными материалами и механизмами…
— Курилин не отзывается, — сказал диспетчер. — Не могу найти его. Прикажу взломать склад.
— Курилин исчез? — воскликнул Лавров.
Страшная догадка, смутное подозрение мелькнуло в его мозгу, но останавливаться на нем не было времени.
— Взламывайте склад! Сейчас буду у пролома. Прекращаю разговор.
Не дожидаясь приближения кабины лифта к остановке и не обращая внимания на Кундина, Лавров лихорадочно стаскивал с себя подземный скафандр.
— Откуда взрыв? — бормотал Кундин, дрожащими руками снимая свой скафандр. — Нас затопит… Мы погибнем…
— Замолчите! — возмущенно крикнул Лавров. — Сейчас же из кабины вы отправитесь со всеми детьми и свободными людьми в порт-тоннель! Слышите? И не выходите оттуда!
— Сергей Петрович… — продолжал бормотать Кундин, словно не слыша Лаврова. — Мне нужно в порт-тоннель… Там мой подводный скафандр… Я сбегаю за ним, Сергей Петрович…
Лавров ничего не ответил. Он презирал, он ненавидел сейчас этого человека.
Едва кабина лифта остановилась, Лавров, не оглядываясь, выскочил из нее и устремился из башни в поселок.
Поселок напоминал встревоженный жужжащий улей. Люди бежали в разных направлениях: одни — к закрытым воротам порт-тоннеля, другие — в противоположную сторону, к главному складу.
Голос диспетчера громко и внятно разносился под сводом поселка:
— Распоряжения заместителя министра Лаврова обязательны для всех…
У разбитых ворот склада несколько человек при помощи выдвижной стрелы электрокрана быстро и почти безмолвно нагружали большие электрокары пластинами прозрачного металла, мешками из черного непромокаемого материала, пузатыми баллонами с какой то зеленоватой жидкостью разными аппаратами и механизмами. Лавров заметил знакомое полное лицо под высоким "философским" лбом.
"Арсеньев… — подумал на бегу Лавров. — В аварийной команде… Хорошо…"
Молодая женщина в спортивном костюме неслась впереди Лаврова большими легкими прыжками. Ее черные подстриженные волосы развевались на бегу. Она оглянулась показала на мгновение смуглое лицо с горящими черными глазами, и Лавров машинально отметил про себя: "Сеславина… Молодец…"
Из-за здания склада стремительно выбежал человек и резко остановился перед Лавровым Это был Садухин.
— Товарищ Лавров! — запыхавшись, произнесен. — Хорошо, что пришли… Парабола своей вершиной уже уткнулась в угол склада… Деформируется под огромным давлением воды…
Лавров молча кивнул головой и быстро обогнул здание. Необычная картина, до сих пор знакомая ему только по лабораторным опытам, предстала его глазам.
Огромная рваная пробоина зияла в своде, начинаясь от его подножия. От краев пробоины выпячивалась внутрь поселка прозрачная парабола, закругленная вершина которой достигла задней стены склада и упиралась в его острый угол.
Тревога диспетчера и Садухина сразу стала понятной Лаврову и передалась ему.
Вся чудовищная сила взрыва израсходовалась на разрушение мощного материала свода. Свод был разрешен, но его внутренний предохранительный слой из искусственного прозрачного каучука, как податливый пластырь, принял на себя огромное давление наружной воды и, медленно уступая ему, стягивая к себе на помощь прозрачный каучук с соседних, не пострадавших участков свода, выпячивался огромным тупым конусом внутрь поселка. Но растяжимость каучукового пластыря, по-видимому, уже достигла предела. Аварийная команда должна была сейчас же после взрыва поставить на пути параболы горизонтальный домкрат с раздвижной параболической "шапкой" для встречного давления на параболу, пока другая аварийная команда снаружи заделает пробоину свода. Это не было сделано.
Парабола, выдерживая огромное наружное давление, растянулась уже в длину по шести метров и, очевидно, скоро должна была лопнуть. Угрозу усиливало и то обстоятельство, что парабола, соприкасаясь своей закругленной вершиной с углом склада, начала деформироваться. В то же время здание склада под огромным давлением начало подозрительно скрипеть.
Человек десять аварийной команды, очевидно плохо инструктированных Кундиным, беспомощно топтались на месте, не зная, что делать.
Надо было поскорее принять меры, чтобы предотвратить катастрофу. Домкрат с параболической "шапкой" был уже бесполезен.
— Садухин, — приказал Лавров, — возьмите несколько человек и разрушьте, чем можете, угол склада!
— Егоров и Анохин, за мной! — крикнул Садухин. — В склад за ломами и кирками!
По микротелефону Лавров на всякий случай приказал диспетчеру открыть восточный котлован под поселком, наглухо закрыть шахту, выключить все ее механизмы, кроме света, и уйти с поста.
Но едва он успел закончить приказ, как здание склада со скрипом, похожим на стон, пошатнулось и стало крениться набок. Одна сторона вершины параболы расползалась по стене склада, другая выпятилась за его углом.
Разрыв был неизбежен…
— Садухин, вон из склада! — закричал во весь голос Лавров. — Все в порт-тоннель!
В то же мгновение раздался грохот, покрывший последние слова Лаврова. Угол склада отделился и полетел вниз, словно пушинка, подхваченная ветром. Верхняя часть стены обвалилась и рассыпалась градом пустотелых кирпичей. Мощная струя воды, толщиной больше метра, с воем ударила в стену здания, окружив его облаком водяной пыли и брызг.
Здание рухнуло, словно карточный домик.
Грохот падающих стен, шум воды, крики людей смешались.
Лавров и все находившиеся возле него бросились вправо, по улице поселка. Выбежав из-за склада, Лавров успел заметить, как перед воротами здания, позади бегущих людей, медленно раскрывалось стекло мостовой, обнаруживая черную пустоту. Садухин последним успел перескочить через длинную расходящуюся трещину, в которую, пенясь и бурля, уже падал нарастающий поток воды. Еще дальше, ближе к порт-тоннелю, катилась вереница нагруженных электрокаров, сопровождаемая бригадой Арсеньева.
Уже почти достигнув раскрывшихся перед электрокарами ворот порт-тоннеля, Лавров остановился. Внезапная мысль, словно обухом, ударила его. Он побледнел и, выхватив из кармана свой микротелефон, крикнул:
— Диспетчер! Диспетчер!
— Диспетчер слушает, — прозвучал спокойный ответ.
Ярость охватила Лаврова.
— Что же вы там торчите? — закричал он вне себя. — Я приказал уходить! Вон из башни немедленно!
— Прошу прощения, товарищ Лавров, — ответил с некоторым смущением диспетчер. — Гидромониторщик Георгиевский упал с эскалатора, получил сильный ушиб и задержался. Теперь поднимается в лифте. Жду его, кабина подходит.
— Простите… — пробормотал Лавров. — Вы управитесь с ним? Я пошлю на помощь…
— Спасибо, товарищ Лавров. Не беспокойтесь. Он свободно передвигается. Кабина подошла. Выключаю лифт… Задраиваю шахту… Прекращаю разговор…
Лавров оглянулся. Вдали, между центральной башней поселка и развалинами склада, зиял огромный квадратный котлован. Гигантская, уже во всю ширь пролома, струя воды, с ревом проносясь над грудой развалин, почти достигла краев котлована. Мощный, белый от пены водопад с грохотом низвергался в его черную пустоту.
"Наполнится минут через восемь… — быстро подумал Лавров. — Успею… Что за чудесный народ!.. А я орал на диспетчера".
Через маленькую калитку Лавров вошел в уже закрытый порт-тоннель.
Все население поселка, человек сто вместе с детьми, собралось здесь. Люди разместились на причалах для подводных лодок, на грудах нераспакованного груза, на штабелях ящиков, тюков, мешков. Мужские, женские и детские голоса тревожно перекликались, слышался детский плач. Большинство людей было уже в подводных скафандрах, но пока без шлемов, остальные поспешно заканчивали одевание. Возле ворот порт-тоннеля несколько человек в обычной одежде быстро нагружали электрокары, пользуясь малыми электрокранами. Бригада Садухина в полном подводном снаряжении, с нагруженными электрокарами стояла у наглухо запертых дверей выходной камеры. Из камеры доносился глухой гул наполняющей ее воды.
— Сюда, сюда, товарищ Лавров! — послышался знакомый голос из гардеробной. — Здесь скафандры…
Это был Садухин.
— Вызовите ко мне портового коменданта, товарищ Садухин, — проговорил Лавров, надевая скафандр.
— Вызываю коменданта, — ответил Садухин, нажимая на стене одну из кнопок, и произнес в невидимый микрофон, скрытый в стене: — Коменданта порт-тоннеля к заместителю министра товарищу Лаврову в гардеробную!
Слова его прокатились под сводом тоннеля, покрывая разноголосый шум.
— Где бригада Арсеньева? — сшивая брюки электроиглой, спросил Лавров.
— В выходной камере, — быстро ответил Садухин. — Отправилась к пролому.
— Передайте главному автоматчику шахты Егорову, — продолжал Лавров, обращаясь к Садухину, — чтобы он немедленно по выходе из поселка всплыл над сводом и принялся за исправление механизмов аварийного щита. И скажите своей бригаде, товарищ Садухин, чтобы захватила с собой несколько малых электрокранов…
В гардеробную донесся шум насосов: бригада Арсеньева вышла на дно, камера освобождалась от воды.
— Есть захватить с собой малые электрокраны! — ответил Садухин. — Иду к бригаде…
— В гардеробную вбежал комендант порт-тоннеля.
— По вашему вызову, товарищ Лавров…
— Лично следите за калиткой в воротах порт-тоннеля, — прервал его Лавров, поднимая шлем над головой. — В центральной башне задержались диспетчер и гидромониторщик. Если через три минуты они не появятся, вызовите охотников для оказания им помощи…
Завинчивая на ходу воротник шлема, Лавров вслед за комендантом поспешно заковылял из гардеробной.
Дверь в опустевшую выходную камеру была уже открыта. В камеру входила бригада Садухина с гружеными электрокарами и электрокранами. Лавров присоединился к ней.
— Всем настроить телефоны на общую волну, — сказал он.
— Готово! Настроены! — послышались под шлемом Лаврова разноголосые ответы, перепутавшиеся с другими возникшими откуда-то голосами и шумом.
Вода уже заливала пол камеры.
— Товарищ Арсеньев! — вызвал Лавров.
— Здесь! — ответил знакомый голос.
— Что делаете на дне?
— Подходим к пролому. Ил очень вязкий, электрокары идут с трудом…
— Листы с вами?
— Со мной.
— Они значительно меньше пролома. Начинайте закладывать и приваривать их снизу на рваных углах. Постепенно наращивайте листы к центру, с противоположных сторон пролома.
— Будет сделано, товарищ Лавров… Пришли…
— Будьте осторожны… Держитесь в стороне от пролома… Струя захватит…
— Не беспокойтесь…
— Товарищ Садухин!
— Здесь…
— Ту же работу ваша бригада будет делать в верхней части пролома…
— Есть, товарищ Лавров!
— Товарищ Егоров!
— Здесь! — отозвался густой рокочущий бас.
— Вам к механизмам заграждения на вершине свода…
— Знаю, товарищ Лавров…
Вода заполнила камеру. Лавров нажал кнопку у выходных дверей, двери медленно вползли в стены. Все устремились на дно. Одна человеческая фигура тотчас взвилась и через минуту исчезла где-то над сводом поселка.
У пролома в облаке взмученного ила суетились люди Арсеньева, с треском и шипением горели синеватые огни, гудели электрокраны, поднимая с электрических тележек и подавая к пролому большие толстые листы прозрачного металла. Люди, стараясь держаться подальше от пролома, подхватывали висевшие над дном пластины, подтягивали их к своду и накладывали на рваные края пролома, уже залитые горящей цементирующей жидкостью. Иногда приподнятая над дном тяжелая плита вдруг взлетала, словно лист бумаги, подхваченный бурей, и, вертясь в воде, рвалась на тросе к пролому, притягиваемая к нему силой потока. Крановщик с трудом отводил подпрыгивающий тяжелый кран в сторону, и успокоенный лист ложился в разлившееся пламя на другой лист, высунувшись за его край к центру пролома.
Бригада Садухина приступила к установке своих электрокранов. Два человека поднялись над дном, держа в руках баллоны с вязким полужидким цементом и пытаясь приблизиться к верхнему краю пролома. Но мощная струя чуть не увлекла их с собой. Они едва успели вырваться, быстро переведя винты на полную мощность.
— Засасывает, товарищ Лавров! — послышался крик.
— Обвязаться металлическим тросом! — приказал Лавров. — Свободный конец приварить к своду! Товарищ Садухин, без этого не допускать людей к работе!
Работа внизу, в бригаде Арсеньева, уже наладилась.
— Листы подавай! — крикнул Арсеньев замешкавшемуся крановщику.
— Цемент! Цемент сюда!..
— Дорогу! Дорогу! — кричал крановщик.
В глухом гуле рвущейся сквозь пролом воды, в шуме перекликающихся голосов, гудения электрокаров и кранов, шипения и треска горящего цемента под всеми шлемами вдруг прозвучал чей-то крик:
— Ура! Поселок живет!
"Кто это? — подумал Лавров. — Слишком рано…"
И вдруг громко с внезапной тревогой закричал:
— Осторожней, Арсеньев! Подальше! Подальше от края!..
Но Арсеньев как-то странно подпрыгнул вверх и в сторону и неуловимо быстро, вертясь с раскинутыми руками, понесся прямо в пролом.
Раздались полные отчаяния крики:
— Держи! Держи! Арсеньев! Арсеньев!
Арсеньев мелькнул в последний раз и пропал в зеленоватой струе воды за проломом.
На мгновение все застыли от ужаса. А в ушах у всех звенел детский ликующий голос:
— …Это я! Это Дима! Сергей Петрович!..
"Я с ума сошел… — пронеслось в голове Лаврова. — Откуда Дима?"
И тут же, перекрывая шум и гул, сверху донесся мощный бас Егорова:
— Все прочь от свода! Пускаю аварийный щит! Все прочь от свода!.. Щит пошел!..
Все отхлынули в сторону.
Сверху, по прозрачному своду, с нарастающей быстротой скользнула широкая прозрачная тень. Сорвав только что приваренные листы и взметнув облако ила, щит врезался в дно. Закрыв пролом, он только прилип к своду под огромным давлением океана.
И сразу, словно отрезанный ударом ножа, оборвался страшный рев воды и наступила тишина.
За проломом, сквозь прозрачное вещество спасительного щита, среди груды залитых водой развалин склада, в спокойном свете солнечных фонарей виднелась сверкающая синеватой сталью фигура Арсеньева с раскинутыми в сторону руками…
— Люди!.. Люди!.. — раздался чей-то радостный голос.
Все растерянно оглянулись, словно пробуждаясь от сна.
Из тьмы глубин к поселку стремительно неслась странная процессия в скафандрах: два человека влекли за собой третьего, связанного по рукам и ногам, за ним следовали еще две тесно прижавшиеся друг к другу фигуры…
— Сергей Петрович! — звенел детский голос. — Где вы? Это я! Дима…
— Дима! — закричал Лавров, запуская винт и стрелой летя навстречу. — Дима!.. Голубчик!..
ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ
ПЕРВЫЕ РАЗГОВОРЫ
Казалось, прошла вечность с того момента, когда впервые под ногами вздрогнул эскалатор и щит устрашающе покачнулся. События пронеслись с такой быстротой, что Лавров не поверил своим глазам, когда, случайно посмотрев на часы, увидел, что прошло всего лишь час тридцать минут. Но Дима, радостный, возбужденный, с блестящими глазами, немного похудевший — тут, рядом. Как он похож сейчас на Ирину!.. Плутон трется у ног, размахивая тяжелым пушистым хвостом и стараясь просунуть огромную голову между Лавровым и Димой.
Крепко обняв Диму, Лавров входит с ним в свою комнату, и комната кажется какой-то новой и радостной, наполняясь звуками детского голоса. Дима и Лавров, торопясь и перебивая друг друга, говорят вместе.
— Как же ты дорогу нашел?
— Я Плутона запряг в лыжи… Он меня повел… А Дмитрий Александрович такой добрый… и Иван Павлович…
— А страшно было, когда льдины раздавили вездеход?
— Ой, как страшно!.. Но я не думал об этом… Надо было спасать оружие, палатку… А Плутон ни за что сначала не лез в скафандр… А потом сам…
— Бедная Ира… Она так боялась за тебя… Что, Плутонушка? Что, мой хороший?
— Ира очень сердится?.. Знаешь, Плутон научился медведей ловить! Он настоящий медвежатник!.. Иван Павлович говорил… Иван Павлович все знает…
— Кто? Как ловить? А Ира все плакала… Она хотела лететь с Порскуновым искать вас…
— С Порскуновым? С Юрием Сергеевичем? Он опять будет драть меня за уши…
— И следует… Как ты очутился здесь? Почему ты удрал из дому? Мало горя было из-за Вали, так ты еще и от себя добавил!
Дима нахмурился, поджал губы, и его ребяческое лицо стало вдруг замкнутым и далеким:
— Я ради Вали и уехал. Я буду искать его на Северной Земле… И ты мне должен помочь, а не бранить меня.
Лавров не узнавал Диму. Эти поджатые губы, это решительное лицо… Совсем как у Иры, когда она заявила, что полетит с Порскуновым.
Впервые видя превращение ребенка в юношу, Лавров даже немного растерялся. Не зная, что сказать на категорическое заявление Димы, он инстинктивно увильнул от ответа:
— Надо же поскорее радиограмму Ирине послать… И Хинскому… И в министерство… Но ты, наверное, голоден! И устал, спать хочешь… Раздевайся и ложись. Я закажу поесть что-нибудь… А сам сяду писать радиограммы…
Лавров укладывал Диму в постель, заказывал завтрак, убегал в кабинет писать радиограммы и вновь возвращался в комнату — оживленный, радостный, безмерно счастливый. Как будто гроза прошла: обрушилась, загремела, напугала, и вот в какие-нибудь полтора часа все так счастливо кончилось… И пролом заделан, и Арсеньев жив, и Дима здесь…
"Ирине Денисовой. Дима с друзьями только что прибыл в поселок шахты номер шесть. Все здоровы. Дима лег спать. Плутон тоже. Все благополучно. Отмени полет. Сережа".
Уже подписывая радиограмму, Лавров мельком подумал было: "То есть как "Плутон тоже"? Но останавливаться было некогда. "Ира разберет…" И нетерпеливая рука уже набрасывала другую радиограмму:
"Лейтенанту Хинскому; В отмену моей предыдущей 188. Коновалов, он же Курилин, задержан майором Комаровым, после попытки взрыва поселка шахты номер шесть. Все благополучно. Комаров, Карцев и Дима Денисов у меня, в поселке шахты. Коновалова доставлю в Москву в ближайшее время. Замминистра ВАРа Лавров 189".
Дальше следовало подробное радио министру ВАРа. Вызванный по телефону радист вошел в кабинет, получил депеши и исчез с ними, как бесплотный дух. Непрерывно гудел телевизефон. Садухин сообщил из тоннеля, что поток лавы багровеет и густеет, брандспойты работают и удаляют все, что накопилось у щита, холодильные машины продолжают действовать.
Егоров, сменивший Арсеньева, докладывал, что аварийная команда начала уже заделывать пролом изнутри поселка. Необходимо предварительно выровнять пламенем термита его рваные края, но склад разрушен, среди развалин невозможно отыскать термитно-паяльные аппараты. Что делать?
— Требуйте их у коменданта порт-тоннеля, — ответил Лавров. — Я привез с собой в подлодке новую партию этих аппаратов. Котлованы осмотрели?
— Оба котлована — восточный и северный — уже закрыты. Они полны почти доверху…
— Спасибо Карелину, — весело засмеялся Лавров. — Это его идея, котлованы-то: выгадать время на случай прорыва воды в поселок…
— И выгадали, товарищ Лавров…
— Как держится щит на проломе?
— Отлично. Стоит, словно припаянный…
— Ну, очень хорошо. Действуйте быстро. Щит надо поскорей вернуть на место…
Лавров выключил телевизефон, глубоко передохнул и вызвал к экрану телевизора госпитального врача. На экране появился врачебный кабинет. В кресле сидел Арсеньев, которому врач массировал обнаженное плечо. Врач обернулся и вопросительно посмотрел на Лаврова.
— Как здоровье Арсеньева? — спросил Лавров.
— Здоров, здоров, Сергей Петрович… — ответил Арсеньев, широко улыбаясь. — Не беспокойтесь…
— Очень рад за вас, дорогой, — тепло сказал Лавров. — Я хотел бы попозднее зайти к вам поговорить, как со старым горняком.
— Пожалуйста, Сергей Петрович, всегда готов. Хоть сейчас.
— Нет, уж вы полежите, отдохните. Вы знаете, Кундин уезжает со мной. Я увожу его.
— Разве? — недоуменно наморщил свой высокий лоб Арсеньев. — Что это вдруг такая спешка?
— Он вел себя позорно в эти критические часы, оказался трусом. Кроме того, полная неподготовленность аварийных команд… Одним словом, я хочу поговорить с вами о многом… Ну, не буду пока мешать… До свиданья. Часов в семнадцать зайду.
Лавров выключил экран, откинулся на спинку кресла и задумался.
Да, Арсеньев, кажется, самая подходящая кандидатура. Смелый, решительный человек. Работает с самого начала строительства. Что толку от более опытного Кундина, если в ответственный момент он теряется, нервничает, боится за себя?
А других Кундиных не может оказаться на трассе?..
Быстрой чередой промелькнули в памяти знакомые лица — Красницкий, Грабин, Егоров, Садухин, Гуревич, Калганов, Сибирский, Малинин и еще и еще…
Одни уже испытаны на деле, в трудную минуту, другие показали себя на прежней работе. За них можно быть спокойным. Вот только Сибирский… Сибирский с шестнадцатой шахты бис. Все спрашивает, по каждому пустяку, по каждой мелочи просит совета, ни на что сам не решается. Не сдаст ли и он, как Кундин, в момент опасности? Надо крепко подумать о нем…
Лавров вздохнул.
Да, нелегко нести эту огромную ответственность за жизнь людей, за великое дело, дело всей страны.
Он провел рукой по глазам и оглянулся.
У дверей стоял Дима в длинной ночной сорочке Лаврова и с беспокойством смотрел на него.
— Димочка, ты? — улыбнулся ему Лавров. — Что же ты не спишь?
— Ты чем-то расстроен, дядя Сергей? — тихо спросил Дима.
— Нет, нет, голубчик, — поспешно ответил Лавров, опускаясь в кресло. — Заботы… Поди ко мне. Садись на колени. Помнишь, как бывало дома? Усядешься, а я что-нибудь рассказываю.
— Хорошо тогда было, дядя Сергей… Только я сяду рядом. Кресло широкое, — говорил Дима, втискиваясь в глубокое кресло Лаврова и поджимая под себя босые ноги. — А какие у тебя заботы? Тоже о других думаешь?..
"Совсем как Ира, — с согревшимся сердцем подумал Лавров. — Эти задумчивые глаза… И манера ноги поджимать… Как он переменился, милый мой мальчик!.."
Он крепко прижал к себе Диму и сказал:
— Почему "тоже"? Ты про кого?
— Иван Павлович все время заботился о нас… О Дмитрии Александровиче, и обо мне, и о Плутоне. Если бы не он, плохо бы нам пришлось! А Дмитрий Александрович все думал о вас, о шахтах. Очень беспокоился, что Коновалов как-нибудь навредит. А ты о чем думаешь?
— Я? — машинально переспросил Лавров, всматриваясь в похудевшее лицо мальчика. — Что же я?.. И я думаю… Так и должно быть, Димочка. Иван Павлович, милый человек, думал о вас, Дмитрий Александрович думал и беспокоился о нас. Все должны думать и беспокоиться о других. Тогда всем будет хорошо. Вот Красницкий… Помнишь, Красницкого?
— Помню, — серьезно кивнул головой Дима. — Он разбился тогда на шахте. Ира часто вспоминала его.
— Помни и ты о нем, не забывай его. И он тогда думал о других. И, может быть, всех, кто был тогда в шахте, спас. А нынче Арсеньев бросился мне на помощь. Могло и так случиться, что мы вместе погибли бы…
— Дядя Сережа! — с испугом закричал Дима.
— Но это его не остановило… Да, Димочка, нужно думать о других. И нельзя бояться ответственности за них. Надо о них заботиться. Другие, может быть, заботятся в это время о тебе.
Лавров уже не видел внимательных глаз Димы. Он смотрел куда-то вдаль, в огромный родной мир, пославший сюда Красницких и Арсеньевых, Садухиных и Сеславиных, Комаровых и моряков Карцевых и многих других. И все, что говорил сейчас Лавров, он говорил не столько Диме, сколько себе, и на душе у него становилось яснее, светлее. Все тяжелое и горестное таяло в этом свете, как утренний туман перед восходящим солнцем. Этим солнцем была великая родина, полная неисчерпаемых сил, могущественная и непобедимая любовью своих детей.
Тихая радиомузыка, незаметно наполнившая комнату, замолкла. Из радиоаппарата послышалось неразборчивое бормотанье. Но Дима вдруг побледнел, сорвался с кресла и, подбежав к аппарату, усилил звук. Голос диктора загремел:
"…Крушение произошло на острове Октябрьской Революции, на двадцать шестом, самом южном его квадрате, недалеко от пролива Шокальского. Лишенные радиосвязи и не получая помощи, люди решили самостоятельно пробираться к поселку Мыс Оловянный в проливе Шокальского. Свирепствовавшая пурга не остановила их. Они уже успели пройти на электролыжах с гружеными электросанями около трети расстояния до поселка, когда были замечены спасательным геликоптером (пилот Красавин), бесстрашно вылетевшим в пургу для обследования своего квадрата. Пилот Александров легко ранен, конструктор Денисов здоров".
— Валя! — отчаянно закричал Дима и с сияющими глазами бросился Лаврову на грудь.
* * *
Словно черная лилия на длинном стебле, стоял на столе диктофон. Казалось, что раскрытый цветок рупора и широкий глаз окуляра внимательно и настороженно глядели на Курилина, сидевшего в кресле, у стола. В ящике с тихим непрерывным шуршанием разворачивалась визетонлента.
В другом кресле сидел майор Комаров. Два человека из комендатуры поселка со световыми пистолетами в руках стояли за спиной майора, не сводя глаз с Курилина.
Из-за стены глухо доносился могучий храп Ивана Павловича.
Спокойный голос майора звучал в комнате:
— …Предупреждаю вас, что все ваши ответы и все поведение ваше во время допроса будут точно зафиксированы этим аппаратом на визетонленте, которая впоследствии может быть, в случае надобности, воспроизведена в ходе судебного следствия и на суде. Заявлений по этому поводу у вас нет никаких?
Курилин, тяжело дыша, с опущенными глазами, помолчал, потом хрипло произнес:
— Я протестую против этого незаконного задержания…
Майор тем же спокойным, ровным тоном ответил:
— Ответственность перед законом за это задержание мне известна. Итак, прошу назвать вашу фамилию, имя, отчество.
Короткое молчание, потом Курилин кашлянул и поднял воспаленные глаза:
— Вам известно…
— Все-таки?
— Курилин… Степан Матвеевич.
— А раньше?
Курилин злобно сверкнул глазами, помолчал, потом крикнул:
— Да что вы комедию ломаете! Не знаете?
— Все-таки?
— Коновалов… Коновалов Георгий Николаевич, если это вам доставляет удовольствие!
— Это все? — спокойно и настойчиво продолжал майор. — Других фамилий не было?
— Н-нет… — ответил Курилин, бросив быстрый подозрительный взгляд на майора.
— Ваша национальность?
— Русский.
— Ваше подданство?
Молчание. Потом медленный отпет:
— Советского Союза…
Из дальнейших ответов Курилин а выходило, что он уроженец города Саратова, инженер-электрик по образованию, работал в разных городах Советского Союза, что ему сорок пять лет, что прибыл он сюда на "Полтаве", куда перешел с "Чапаева" после его гибели. К взрыву на "Чапаеве" он никакого отношения не имеет, и то, что взрыв произошел именно в трюме, где он работал, вероятно объясняется тем, что в трюме находились взрывчатые вещества, о которых он, Курилин, ничего не знал и которые могли взорваться от самовозгорания. Причины взрыва поселка он тоже не знает, но, направляясь на дно океана для работы по уборке грузов, услыхал страшный грохот и в страхе, потеряв голову, старался уйти подальше от места катастрофы. От майора же и Ивана Павловича он пытался скрыться, сам не зная почему — вероятно, все в том же страхе, будучи почти без памяти… Он вообще человек нервный и подвержен припадкам… О лагере иностранцев? О самолете на льду? Нет, об этом он ничего не знает… Что касается перемены фамилии, вместо Коновалова — Курилин, то документы на имя Курилина он нашел на палубе "Чапаева" в момент его гибели. Их, вероятно, обронили в панике, и он с радостью взял их себе. Зачем это ему нужно было? Это объясняется тяжелой личной историей, тяжелыми личными переживаниями. Он хотел покончить со старым, забыть о нем, постараться, чтобы и другие о нем забыли, и зажить новой жизнью в Арктике, участвуя в великом строительстве. Почему? Неприятно вспоминать… Но если это необходимо… что же, он может сказать, что недавно от него ушла горячо любимая женщина, и он сам в этом виноват: ему показалось, что она полюбила его старого друга, и в припадке ревности он чуть не убил ее и его. Вот… Ее имя?.. Жаль, конечно… Не хотелось бы вмешивать любимого человека, тем более женщину, в эту неприятную историю… Но, видно, ничего не поделаешь: ее зовут Антонина Васильевна Лебедева. Она живет в Ростове-на-Дону, на Средней улице, дом № 87.
Голос Курилина, по мере того как он давал показания, делался все тверже, спокойнее, даже предупредительней, Под конец в нем уже звучали, правда сдержанно, нотки чуть интимной откровенности. Он свободно держал себя, откинулся на спинку кресла, перебросил ногу на ногу.
Майор с любопытством присматривался к Курилину и к перемене, происшедшей с ним. Все ожесточение, все волчьи повадки, которыми так злобно бравировал Курилин в начале допроса, исчезли. Перед майором сидел вежливый, доверчивый человек, которому нечего скрывать, жертва недоразумения.
"Зачем этот поток лжи? — думал майор. — Ведь отлично знает, что все будет проверено. Время хочет выгадать. Пока приедем, пока проверим… Так, так…"
Майор почувствовал, что наступил момент для удара.
— Назовите, пожалуйста, места, где вы работали последние пять лет.
— Их немного, Дмитрий Александрович…
— С вами говорит не Дмитрий Александрович, а майор государственной безопасности…
— Простите, майор, — поспешно и как бы смущенно поправился Курилин. — За последние пять лет я работал в Казани на генераторном заводе, потом… в этом… в Воронеже на электромашиностроительном и, наконец, до последнего времени — в Ростове-на-Дону на аккумуляторном.
— Приходилось разъезжать по Советскому Союзу в эти годы?
— Нет… немного… Бывал в Москве, в Ленинграде, в Риге, в Энгельсе… больше нигде.
— А в этом году?
— Нет. Вот только недавно в Москве, проездом в Архангельск…
— В Вишневске или в его районе не бывали?
— В Вишневске? — По лицу Курилина пробежала тень, глаза с испугом метнулись в сторону майора и скрылись под веками. — Нет, в Вишневске никогда не был.
— Может быть, если не в самом городе, то в его районе?
— Нет… и в районе не был…
— Где вы были в августе этого года?
Восковая бледность медленно разливалась по лицу Курилина; тяжело дыша, он машинально провел рукой по несуществующим усам.
— В августе? — переспросил он чуть охрипшим голосом. — В августе я был там же… то есть в Ростове-на-Дону…
— Фамилия Кардан вам известна?
Курилин вздрогнул и поднял на майора глаза, в которых отразились растерянность и ужас. Губы его беззвучно шевелились, но так ничего и не произнесли.
— Ваша рана на бедре уже не беспокоит вас, гражданин Кардан?
Оцепенелое молчание было ответом майору.
— Не лучше ли прекратить эту комедию, гражданин Кардан? — продолжал майор. — Вы должны знать, что чистосердечное признание дает вам возможность надеяться на снисхождение суда. Расскажите откровенно, кто вы в действительности, откуда, зачем, в чье распоряжение прибыли в Советский Союз. Нам многое уже известно, но лучше будет, если вы сами все расскажете. У нас есть основание предполагать, что вы являетесь лишь простым орудием в чужих руках. И поэтому…
Майор внезапно оборвал фразу. Случилось нечто совершенно неожиданное. Курилин закрыл лицо руками и затрясся в глухих судорожных рыданиях. Зубы его стучали о стакан с водой, поданный майором, вода расплескивалась и заливала подбородок, руки, одежду…
— Все равно, — бормотал Курилин, — если вы уже знаете… Я — Коновалов… Я действительно Коновалов… Георгий Николаевич… Я все расскажу… Я — германский подданный… Я сын когда-то богатого русского помещика… Во время Октябрьской революции он убежал из России в Германию. Там я и родился незадолго до прихода фашистов к власти. Семья была разорена, она постепенно опустилась, стала жить в бедности… нищенствовать… И я тоже. Рассказы родителей, близких и других эмигрантов разжигали во мне злобу против Советского Союза… С молоком матери я впитал в себя ненависть к этой стране, где я мог бы жить счастливо и весело. И мы жили мечтой о возвращении… мечтой о мести… Я учился в немецкой, уже фашистской школе, но дома мы хранили русскую речь.
Торопливо и сбивчиво, словно опасаясь, что его остановят, Курилин продолжал свою исповедь.
Майор молча сидел в своем кресле, время от времени делал короткие заметки на листке бумаги, лежавшем перед ним. Диктофон бесстрастно и тихо шуршал, словно пристально всматриваясь в искаженное страхом и отчаянием лицо Курилина, внимательно и чутко вслушиваясь в его почти истерический рассказ.
ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ
СОВЕЩАНИЕ ТРЕХ
"Никаких известий… Все поиски безрезультатны. Проклятая погода! Или пурга, или туманы. Неужели Дмитрий Александрович мог погибнуть? И он и Дима… Бедная Ирина Васильевна… И у меня ничего, дело замерло…"
Хинский придвинул к себе папку и вновь — в который раз! — принялся ее перелистывать. Вот последнее донесение из Клязьмы: к Иокишу ночью кто-то прилетел. Сегодня Иокиш впервые за долгий срок напомнил о себе. Утром он сообщил Акимову по телевизефону о получении какой-то посылки. Об этом доносит сержант Гаврилов из коммутатора завода. Хорошо, что и там установлен пост! Но что из этого? Какой вывод? Что можно сделать?
Хинский ясно представил себе, как майор задумчиво поглаживает чистый, до лоска выбритый подбородок и медленно говорит: "Подведем итог, постараемся сделать логические выводы из него. У нас есть уже немало фактов, подтверждающих наши прежние догадки. Это самое ценное. Какие же факты?"
"Да, да… — оживившись, мысленно рассуждал Хинский. — Кардан — не Кардан уже, а Коновалов. Здесь, в Советском Союзе, его ждали другие люди. Кто же они? Иокиш — мелкая, очевидно, пешка, передаточный пункт. Акимов — крупный зверь. Конечно, это он, воспользовавшись отсутствием Кантора, выпустил четыре бракованных поршня, из которых один вызвал катастрофу на шахте номер три. А его подозрительное вмешательство при задержании Ириной Васильевной брака…
Может быть, арестовать Акимова и Гюнтера? Но что это даст? Прекратит выпуск брака, устранит угрозы несчастий на шахтах… Но есть ведь еще Березин и другие… Высокий, с лицом, спрятанным под воротник. Арест Акимова всполошит всех, начнут заметать следы, может быть скроются… Арестовать и Березина? Но за что? С какими обвинениями? Увез Диму? Ведь больше ничего против него не имеется. А это пустяк по сравнению с тем, что еще пока неизвестно. И если арестовать одного Акимова с его подручными на заводе — на суде будет только сравнительно маленькая часть большого, может быть огромного дела. Относительно Березина известно только, что он был у Иокиша и виделся с Коноваловым. Какую роль играет этот человек в организации? Как узнать? Как добраться до него?.. Один-единственный раз за эти дни у Акимова был разговор с ним по телевизефону о посылке…"
Хинский перелистывал папку, лежавшую перед ним, нашел донесение сержанта Гаврилова, внимательно и медленно перечитал его:
"…Акимов произнес:
— Здравствуйте, Николай Антонович… Только что Цезарь сообщил, что получил долгожданную посылку. Спрашивает, что делать с ней.
Голос Березина:
— Ага… Что же вы ему ответили?
Голос Акимова:
— Сказал ему, что нужно подождать. Нам необходимо увидеться, Николай Антонович, поговорить.
Голос Березина (как-то неуверенно):
— Да, пожалуй, но Ивана Ивановича нет в городе. Будет через три дня. Тогда увидимся… Если это спешно нужно…
Голос Акимова:
— Да, да, обязательно.
Голос Березина:
— Хорошо, я сообщу вам, где встретимся… Как ваше здоровье? Все благополучно?
Голос Акимова (неуверенно):
— Да как сказать? Нервы… Нервы что-то пошаливают…
Голос Березина (точно с легким испугом):
— Что? Не может быть! (Торопливо). Прощайте… Будьте здоровы".
Вот и все. Немного нескладно, но, видимо, точно.
Кто этот Иван Иванович?.. Не тот ли, с поднятым воротником? И что за разговор о здоровье? Обычная вежливость? Но тогда почему Березин так испугался? А может быть, это лишь показалось сержанту? Через три дня у них будет свидание, все трое соберутся… Надо будет проследить.
"Будьте терпеливы и настойчивы, друг мой", — прозвучал знакомый голос и оборвался.
Короткий свист, тупой стеклянный звон, сухой щелчок. Хинский мгновенно вскочил на ноги. Подлокотник кресла разлетелся вдребезги, кусочки искусственного дерева впились в лицо и руки. Хинский взглянул в окно. В наступивших сумерках в воздухе носились на разных высотах и разных направлениях геликоптеры с яркими ночными фарами и красно-зелеными бортовыми огнями. Хинский стоял неподвижно. Сердце билось оглушительно и часто, крохотные капельки крови выступали и медленно скатывались по лицу и рукам.
Сентябрьская ночь смотрела в комнату сквозь маленькое круглое отверстие в стекле окна.
За окном приглушенно шумела Москва, вспыхивая гирляндами уличных огней, окутываясь серебристым облаком ночного света…
* * *
У телевизефона был странный вид. Над экраном поднималась круглая черная пасть репродуктора, от аппарата к внутренней коридорной стене кабинета тянулись провисавшие в воздухе провода. Прямо против репродуктора извивалась лебединая шея диктофона. Окуляр телевизеприемного аппарата глядел в упор на экран телевизефона, а рупор приник к репродуктору, словно боясь проронить еще не произнесенные слова.
— Четырнадцать пятьдесят… — произнес капитан Светлов, взглянув на часы.
— Акимов уже давно выехал, — громко сказал Хинский, стараясь скрыть волнение.
Но ему это плохо удавалось. Смуглая бледность покрытого царапинами лица, лихорадочно горящие черные глаза, нервное перелистывание бумаг в папке — все выдавало состояние молодого лейтенанта.
— Его сопровождают? — после короткого молчания спросил капитан.
— Конечно, — быстро ответил Хинский и коротко рассмеялся. — Сержанты Киселев и Харитонов берегут его, как любимого ребенка.
Короткий тихий гудок прервал его. Хинский сорвал трубку одного из аппаратов, приложил к уху.
— Слушаю.
— Кабель.
— Лопасть.
— Говорит сержант Артемин.
— У аппарата лейтенант Хинский.
— Приехал Киселев, Харитонов и третий… Третий прошел в кабинет.
— Хорошо. Где Синицын?
— В приемной. Я отлучился только для донесения.
— Хорошо. Не забывайте, что вы только для второго. Он тоже скоро должен приехать и пройти в кабинет. Не выпускайте его из виду, пока не узнаете о нем все что можно. Поняли?
— Понял, товарищ лейтенант. Все?
— Все.
Хинский положил трубку на место и протянул руку к телевизефону.
— Внимание! — произнес он срывающимся шепотом. — Включаю…
Экран мягко вспыхнул и засветился розоватым светом. Показалась половина какого-то большого кабинета. Перед письменным столом сидел лицом к зрителям Березин, торопливо пробегая, подписывая и откладывая какие-то бумаги. Против Березина сидел плотный человек с седой головой. Капитан Светлов и Хинский видели только его широкую спину и серебристый затылок.
Не поднимая головы и продолжая работу, Березин закончил фразу:
— …Сейчас придет. У вас ничего нового?
Рупор диктофона в кабинете Хинского подхватил эти слова и голос, в ящичке аппарата что-то тихо зашипело и запечатлело их.
Собеседник Березина достал портсигар и, закуривая папиросу, уселся поудобнее, в профиль к зрителям.
— Это Акимов, — тихо произнес Хинский, не сводя глаз с экрана телевизефона.
Капитан молча кивнул головой.
Помолчав, Акимов ответил:
— Сегодня я узнал, что продукция нашего завода отправляется не в гавань, а на московскую базу, несмотря на наличие точного адреса. Там продукция сплошь проверяется.
Березин с застывшим в руках карандашом испуганно вскинул глаза на Акимова:
— Что вы говорите! Нашли брак?
Послышался стук в дверь, в кабинет вошел высокий человек с полным, одутловатым лицом, с синеватыми мешочками под глазами.
— Гоберти! — тихо воскликнул пораженный капитан Светлов. — Корреспондент Гоберти!
— Это Гоберти? — переспросил Хинский, стремительно наклонившись к экрану. — Я его никогда не видел.
Акимов и Березин привстали, пожимая руку Гоберти.
— Что нового, друзья мои? Как дела? — оживленно спросил корреспондент, бросаясь в кресло против Акимова и вытирая платком морщинистый розовый лоб. — Денек замечательный, даже жарко. Что это вы? — обратился он к Березину. — Как будто взволнованы чем-то…
— Константин Михайлович говорит, что вся продукция его завода отправляется не в гавань, а на городскую базу и там сплошь проверяется, — торопливо проговорил все еще бледный Березин и повторил свой вопрос Акимову: — И что же, нашли там брак? Говорите же!
Рука Гоберти с зажатым в кулаке платком остановилась. Выжидающе смотрели на Акимова маленькие острые глазки.
Акимов отрицательно покачал головой.
— После случая с Денисовой, когда она вмешалась в контроль… помните?.. ни один дефектный болт не выпускается с завода. Да и сами операторы стали придирчивыми.
— Фу, слава богу! — облегченно вздохнул Березин, поправляя очки. — Это очень умно с вашей стороны, Константин Михайлович.
— Просто это опасно, — угрюмо поправил Акимов.
— Да, надо на время воздержаться, — задумчиво сказал Гоберти. — Но самое важное не в этом. Кто распорядился произвести проверку? Это делается без ведома директора? Он ничего об этом не знает?
— По-моему, нет… не знает, — ответил Акимов.
— А вы как узнали?
— Гюнтер случайно услышал разговор двух водителей грузовых машин. Потом проследил.
— Кто же это все-таки распорядился? — продолжал Гоберти. — Это не ВАР, Николай Антонович?
— Не знаю, — пожал плечами Березин. — Я ведь теперь не имею отношения к снабжению. Но все это очень подозрительно. И надо прекратить брак на заводах. Надо сообщить об этом Саратову… Консервы с "Красноармейца" свое дело сделают, хотя и получится много неприятного шума… И довольно, пока довольно. Это очень опасно.
Березин был бледен, глаза просительно смотрели то на Гоберти, то на Акимова, голос срывался.
— Так и надо сделать, — внимательно посмотрев на Березина, проговорил Гоберти. — Вы только не волнуйтесь, Николай Антонович. Я думаю, что эта проверка есть простая предосторожность после случаев на шахтах номер три и номер одиннадцать. Мы попросим Константина Михайловича следить, чтобы больше не было брака на его заводе. А вы, Николай Антонович, сообщите об этом решении Саратову… Все равно его консервы из Арктики уже не вернешь. И узнайте, пожалуйста, в ВАРе, не оттуда ли был приказ о проверке. Хорошо? И на транспорте пусть все идет благополучно. Это вы тоже сделайте, пожалуйста, Николай Антонович. Ну и хорошо. А теперь Иокиш…
— Вы знаете, Эрик Вильямович, что к нему явился новый?.. — спросил Акимов.
— Да Я знаю. Я его, как Коновалова, хотел на шахту отправить… Какую-нибудь из первых, почти готовых. На шахту номер шесть поехал Коновалов, а теперь на какую, Николай Антонович?
— Шахта номер три, Эрик Вильямович, — ответил Березин. — Она почти в такой же стадии готовности, как и шахта номер шесть. Они соревнуются…
— Ну, значит, на шахту номер три. Только как его доставить туда? Можно каким-нибудь ледоколом?
— Трудно будет. Зима ранняя. С острова Рудольфа сообщают, что кругом сплошной лед. Ледокол уходит на днях, и, вероятно, это будет последний рейс. А потом навигация перейдет под воду. Надо подготовить поездку этою человека с первой грузовой подводной лодкой.
— А это когда будет? Нельзя долго держать человека у Иокиша.
— Конечно… Я думаю, лодка пойдет дней через девять.
— Не раньше? Ну, ничего не поделаешь. Теперь о Коновалове. От него никаких известий?
— Он уже на шахте, — ответил Березин.
— Вот молодец! — восхищенно сказал Гоберти. — Значит, он благополучно спасся с "Чапаева"? Что он пишет?
— О себе ничего. Он только прислал мне радиограмму с просьбой ускорить отправку некоторых материалов, в которых очень нуждается шахта. Радиограмму подписали начальник строительства шахты Кундин и заведующий складом Курилин. Для работы на шахте я ему выдал бумаги с этой фамилией.
— Замечательно! А Лавров уехал туда? Вы говорили мне, что после гибели "Чапаева" он собирался на шахту номер шесть?
— Уехал… — с какой-то странной улыбкой сказал Березин. — Три дня назад. А час назад пришла от него радиограмма на имя министра. В шахте катастрофа расплавленная лава прорвалась в тоннель. Один человек уже погиб в ней.
— Не может быть! — с необычайной живостью повернулся Акимов к Березину.
— Ну, это совсем замечательно! — воскликнул Гоберти. — Может быть, шахта провалится ко всем чертям и без Коновалова. Замечательная новость! Ее надо отдать в печать, в радио… Ведь это фурор! Настоящая сенсация!..
— Я уже сообщил Герасимову, редактору "Радиогазеты".
— Я тоже кое-кому расскажу. Если дело может обойтись без Коновалова, то, может быть, сообщить кому надо, чтобы отозвали со льдов геликоптер, который послали за ним? Как вы думаете? Подождем? Хорошо. Ну, мне надо уходить. Я спешу на выставку искусств. Кажется, обо всем поговорили? А?
— Еще не все, Эрик Вильямович, — сказал Акимов, почти все время молчавший. — Иокиш просит денег. Говорит, что давно не получал.
— Да, пожалуй, — произнес Гоберти, вынимая бумажник и отсчитывая бумажки. — Довольно?
— Вполне.
— А вам, Константин Михайлович, не нужно? Пожалуйста, не стесняйтесь.
— Н-нет. Не стоит. А впрочем, если вас не затруднит, дайте сотни две… Мне надо послать кое-кому за границу. А менять советские деньги в Госбанке не хочется.
— О, конечно! — сказал Гоберти, передавая Акимову хрустящие бумажки. — Этого не надо делать…
Акимов сжал деньги в комок и неловко сунул их в карман.
— Теперь еще одно, — продолжал он. — Я все-таки считаю нужным сказать вам, хотя думаю, что это пустяк. Наш завод с неделю назад несколько раз посещал какой-то молодой человек. Обо всем расспрашивал, интересовался центробежно-литейными машинами и теми бракованными поршнями. Разговаривал два — три раза с Денисовой. Откровенно говоря, мне это не понравилось. Я проследил его. Оказалось, что это лейтенант государственной безопасности Хинский. Это мне еще больше не понравилось. Конечно, мальчишка, щенок… (Хинский густо покраснел, нахмурил брови и искоса бросил смущенный взгляд на капитана Светлова. Капитан сидел неподвижно, с каменным лицом, не сводя глаз с экрана). И, кроме того, две комиссии ничего тогда не поняли и не разобрались. Так что опасаться нечего… Концы хорошо спрятаны. Но все-таки я велел Гюнтеру убрать щенка. Он пытался это сделать, но неудачно. Только легко ранил. Больше Хинский пока не появлялся на заводе.
Акимов замолчал, сцепив на животе руки. Глаза Березина, полные неподдельного ужаса, неподвижно глядели на Акимова. На лице Гоберти отразились смущение и тревога. Хотя в комнате было прохладно, лицо и лоб его порозовели. Он вынул платок и несколько раз обмахнулся им.
Первым прервал молчание Березин.
— Это ужасно… — прохрипел он. — Это могло кончиться убийством! В нашей стране это самое ужасное преступление. За него карают беспощадно!..
— Да… это очень серьезно, — произнес Гоберти, задумчиво раскладывая и складывая на коленях платок.
Акимов иронически посмотрел на Березина:
— Неужели? Вы только теперь об этом вспомнили? А разорвавшийся насос в шахте номер три? Разве не он убил Красницкого и мог бы повлечь гибель многих других? А при взрыве "Чапаева" не погибли четыре человека? А что еще наделает Коновалов, если лава поможет ему? Тут нечего прятать, как страус, голову под крыло. Кто сказал "А", тот говорит "Б". Я и сказал это "Б".
— Но ведь это предумышленное убийство, — почти взвизгнул Березин. — А там все можно было бы объяснить случайностью, несчастным стечением обстоятельств.
— Во всяком случае, — недовольно сказал Гоберти, — вы должны были, Константин Михайлович, раньше поговорить с нами или хотя бы со мной. Я не собираюсь мешать вашей инициативе, но…
— Вас не было в городе, — насупившись, ответил Акимов. — А Николай Антонович, конечно, истерику устроил бы… как сейчас. Да и времени не было, нужно было торопиться.
— А я все-таки протестую! — говорил Березин, ударяя ладонью по столу. — Протестую… Нельзя бессмысленно увеличивать ответственность. Тем более безрезультатно…
— Ответственность нисколько не увеличилась, — раздраженно возразил Акимов. — Покушение было произведено с геликоптера в сумерках, на лету, и никаких следов теперь не найти. И, наконец, я должен вам заявить, что мне надоело все время приспосабливаться к вашей трусости и постоянно оглядываться на нее. Я пошел с вами потому, что мне нужно было поле активной деятельности, активной борьбы. А вы что? Властвовать вы любите, но вы хотели бы добиться власти без риска для своей драгоценной особы. Не пройдет, Николай Антонович!
— Вы не смеете! — вспыхнул Березин. — И, пожалуйста, не забывайте, что я никогда не искал вашей волчьей стаи! Вам это может подтвердить и Эрик Вильямович. Я с ним иду, а не с вами.
— Ну, довольно, дорогие друзья, — произнес, вставая с кресла, Гоберти. — Дело сделано, и ссориться поздно. По каким бы дорожкам мы все ни шли, но цель у нас одна. Как говорится в одной замечательной русской пословице: "Как бы ни болела, лишь бы умерла". Хе-хе! Только прошу вас, дорогой Константин Михайлович, в будущем таких вещей не делать без консультации со мной.
Акимов угрюмо наклонил голову.
— Ну, я спешу, — продолжал Гоберти. — Я выйду один. Константин Михайлович потом.
Он дружелюбно, с широкой улыбкой потряс руку своим собеседникам и вышел из кабинета.
Воцарилось короткое молчание — недовольное, почти враждебное. Березин, не поднимая глаз, нервно перекладывал с места на место какие-то бумаги. Акимов, вытянув короткие ноги, играл большими пальцами сцепленных рук. Потом, все так же молча, он встал, подал руку Березину и вышел.
Едва дверь закрылась за ним, Березин откинулся на спинку кресла, прерывисто и шумно вздохнул, закрыл глаза.
Через минуту послышался стук. В кабинет вошел секретарь.
— Можно выключить? — обратился Хинский к капитана Светлову.
На побледневшем лице молодого лейтенанта, в его глазах стояло с трудом сдерживаемое торжество.
Капитан молча кивнул головой, встал и потянулся.
Хинский нажал кнопку на аппарате, экран потух, и кабинет Березина исчез.
— Ну, поздравляю вас, лейтенант, — произнес капитан. — Операция проведена блестяще. Объясните, как это вы все устроили?
— Очень просто, товарищ капитан. Из донесений сержанта Гаврилова о перехваченных разговорах Акимова с Березиным я узнал, что совещание должно произойти именно у Березина, в его служебном кабинете. Лучшего места им бы, конечно, и не найти. В министерстве постоянно много народу, в кабинете Березина часто происходят совещания. Но и я лучшего места не мог бы ожидать. У меня было три дня сроку. Через министра ВАРа я добился представления мне на последнюю перед совещанием ночь комнаты, соседней с кабинетом Березина. Конечно, никто не знал ни моих целей, ни намерений. Нашему радиоинженеру я своевременно дал задание, и он успел подготовить схему установки и аппаратуру. В ночь перед совещанием в пустой соседней комнате мы пробуравили стену в кабинет Березина, ввели в отверстие трубку звуко- и светоприемного аппарата, сделали скрытую проводку и присоединили ее к домовой радиосети. Остальное, я думаю, понятно… В общем, тут ничего нового нет. Принцип тот же, что в установках для скрытого наблюдения за жизнью животных в их норах, берлогах и логовищах. Я применил его лишь для наблюдения за зверями двуногими. Вот и все.
— Очень остроумно, лейтенант. Еще раз поздравляю вас. Министр и майор будут очень довольны. С таким документом, — капитан кивнул на диктофон, — можно, пожалуй, приступить к активным действиям.
— Я думаю, капитан, прежде всего повторить радио на шахту номер шесть, но уже с приказом об аресте Курилина, — сказал Хинский вставая.
— Совершенно правильно, — одобрил капитан. — И как можно скорее. — Он заложил руки за спину, прошелся по кабинету и продолжал: — Потом перенесите на бумагу всю звукозапись диктофона, изучите материал и доложите мне ваши предложения о необходимых мерах. Сегодня в двадцать ноль-ноль я жду вас у себя.
Один из аппаратов на столе издал короткое гудение. Хинский нажал кнопку под столом. Дверь раскрылась, и секретарь министра быстро вошел, размахивая небольшой бумажкой.
— Лейтенант, вам… Срочно от министра…
Хинский бросился навстречу.
— Разрешите, капитан? — пробормотал он, пробегая глазами бумагу, и вдруг вскрикнул с радостью и изумлением в голосе: — От майора! Он жив! Коновалов арестован… Капитан, смотрите, читайте!..
У капитана дрогнули поднятые брови. Он взял бумагу из рук Хинского и вполголоса прочел:
— "Москва. Министру госбез. Лейтенанту Хинскому. В отмену моей предыдущей 188. Коновалов, он же Курилин, задержан майором Комаровым после попытки взрыва поселка шахты номер шесть. Все благополучно. Комаров, Карцев и Дима Денисов у меня, в поселке шахты. Коновалова доставлю в Москву в ближайшее время. Замминистра ВАРа Лавров. 189".
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ
СМЕРТЬ НА ПОСТУ
Первые утренние сообщения о катастрофе в шахте номер шесть — о прорыве лавы в тоннель, о гибели Грабина — произвели тягостное впечатление в стране, особенно в Москве. Это впечатление еще более усилилось после появления статьи профессора Герасимова в "Радиогазете". Герасимов с горечью вспоминал все предостережения — о риске, об опасностях, которые ожидали строителей в неизведанных недрах земли. И вот новое доказательство правоты этих предостережений: гибель еще одного человека, возможная гибель всей шахты. "Надо остановиться, пока не поздно! — восклицал профессор. — Лишь головные шахты гольфстримовской трассы более или менее готовы, остальные находятся пока в первых стадиях строительства. Еще не поздно прекратить дальнейшую растрату драгоценных человеческих жизней и богатств страны!"
Еще несколько радиогазет выступили почти с такими же выводами, но большинство ограничилось выпуском экстренных сообщений о печальных событиях, выжидая известий о результатах борьбы со стихией.
Уже ночью стало известно, что мощность магмовой жилы не слишком велика, что есть надежда на быстрое замораживание лавы.
Утром следующего дня газеты были полны сообщений о героической борьбе коллектива шахты во главе с Лавровым, который все время находится в самых опасных местах. Выступления почти всех газет были полны веры и бодрости. Одна из них закончила статью словами: "Проект Лаврова — это будущее нашей страны. Мы всегда готовы драться за нее на любых фронтах, с радостью отдавая свою жизнь за ее счастье. Так почему же мы будем бояться жертв на фронте борьбы с природой?! Слава героям, павшим в этой борьбе! Вечная слава Грабину и Красницкому, отдавшим жизнь за процветание родины! Светлая память о них будет вечно жить в наших сердцах".
Портреты и биографии Лаврова, Садухина, Арсеньева, Сеславиной заполнили страницы журналов, демонстрировались на экранах телевизефонных газет, в кино, общественных местах, на площадях, даже на небе и облаках…
Общая радость еще более усилилась, когда вместе с сообщением о том, что лавовый поток ослабел, из шахты пришла весть о появлении в поселке трех человек, оставшихся на льду после гибели "Чапаева" и считавшихся погибшими…
С возрастающим нетерпением все ждали приезда Лаврова. В министерство ВАРа непрерывно обращались с запросами о дне и часе возвращения Лаврова в Москву. Ответ был точный и краткий: двадцать первого сентября, четырнадцать часов, Центральный московский аэровокзал.
Обширная площадь перед вокзалом была уже заполнена народом, когда Ирина вышла из своей машины у тихого бокового подъезда. На лестнице, как условились еще накануне, ее ожидал Хинский.
Ирину нельзя было узнать. За два дня она расцвела, словно воскреснув к новой жизни. Румянец покрывал ее похудевшее лицо, чуть выпуклые серые глаза лучились счастьем. С губ не сходила улыбка.
— Какой вы милый, Хинский! — говорила Ирина, поднимаясь с лейтенантом по лестнице. — Если бы вы вчера не указали мне на этот подъезд, я не пробилась бы к вокзалу.
— Это один из служебных подъездов, — ответил Хинский. — Мы им иногда пользуемся, и я провожу вас…
— Смотрите, Хинский! — засмеялась Ирина. — Вы, кажется, используете свое служебное положение для посторонних людей…
— Что вы, Ирина Васильевна! — смущенно пробормотал молодой лейтенант. — Вы сегодня здесь не посторонняя и имеете особые права…
— Я сегодня всю ночь глаз не могла сомкнуть, — говорила Ирина. — Сразу две такие огромные радости… Две жизни возвращаются ко мне…
"Какие две?" — подумал Хинский. — Ах, да… Дима и… Лавров".
На просторном ровном поле аэродрома пестрели разноцветные летательные машины. Перрон был полон народу, слышался гул громкого говора.
— А вон Березин, — сказала Ирина.
Вдали, среди работников министерства ВАРа, стоял Березин. Он издали сдержанно поклонился Ирине и получил короткий кивок в ответ.
— У вас почти совсем прошли следы царапин на лице, — заботливо вглядываясь в Хинского, сказала Ирина. — А на руке? Покажите руку. Как можно так беззаботно производить опыты со взрывчатыми веществами!
— Право, это чистая случайность. Не стоит внимания…
— Нет, нет, Хинский, вы беспечны, как ребенок. Я так испугалась за вас, когда увидела следы этого взрыва на вашем лице! Обещайте мне, что вы будете более осторожны с такими веществами.
— Спасибо за внимание, Ирина Васильевна. Обещаю.
— За что спасибо? Вы сами проявили столько теплого участия ко мне, когда у меня было горе. Я никогда не забуду этого. Лев Маркович…
Ирина подняла на Хинского глаза, полные теплоты и благодарности.
Прозвучал удар гонга. Голос из репродуктора торжественно и громко объявил:
"Специальный геликоптер-экспресс Мурманск — Москва пролетел Фили, через две минуты приземлится у главного перрона".
Едва замолк голос диспетчера, как из притихшей на минуту толпы послышались крики:
— Летит! Летит!
Ирина побледнела и схватила за локоть Хинского.
— Дима!.. Димочка!.. Мальчик мой… — почти беззвучно шептала она. — Сережа…
Вдали в ясном небе сверкнула точка; она быстро росла, принимала знакомые формы, и вот уже огромный геликоптер, блистая стеклом и металлом, величаво парит над полем и под гром приветственных криков медленно и мягко опускается у края перрона.
Раскрылись бортовые двери. Мелькнули, как в тумане, родные лица, воздух прорезал ликующий детский крик:
— Ира!.. Ирочка!.. Я здесь!..
Смеясь и плача, Ирина сжимала в своих объятиях брата, что-то лепеча, спрашивая и вновь, не слыша ответов, прижимая Диму к груди.
Плутон метался вокруг них, стараясь обратить, на себя внимание. Наконец, не выдержав, рыча и жалобно визжа, он вскинул могучие лапы на плечи Димы и Ирины и просунул огромную голову между их лицами.
— Плутон! Мой славный Плутон!
Отойдя в сторону, Хинский стоял, вытянувшись, не сводя глаз с открытых дверей геликоптера.
Быстрой походкой прошел бледный Лавров и сразу утонул в толпе встречающих, в гуле приветствий и оваций.
За ним в дверях возникла высокая плотная фигура, мужественное, такое знакомое, родное, спокойное и сейчас лицо. Словно подхваченный ветром, как на крыльях, Хинский сделал несколько шагов и остановился, приложив два пальца к фуражке.
— Здравствуйте, товарищ лейтенант! — тепло и задушевно прозвучал, чуть дрогнув, родной голос.
— Здравствуйте, товарищ майор! Разрешите доложить.
Едва закончив срывающимся голосом краткий и быстрый рапорт о том, что все обстоит благополучно и задание майора выполнено, Хинский утонул в крепких отцовских объятиях.
— Дмитрий Александрович… Дмитрий Александрович… дорогой… — бормотал он. — Ну как вы?.. Ну, что с вами?..
— Все хорошо, мой друг… Все в порядке… Пойдемте… пойдемте в кабину… там обо всем поговорим…
Майор увлек Хинского обратно в геликоптер. Там, в одной из кабин, они заперлись. После первых беспорядочных вопросов и ответов разговор стал деловым.
— Где Коновалов, Дмитрий Александрович? — спросил Хинский.
— Здесь, в геликоптере, под крепкой охраной. А что у вас? Что значит ваш рапорт о выполнении задания?
— Мы с капитаном Светловым пришли к убеждению, что центр организации раскрыт. Решили, что можно приступить к ее ликвидации. Ждали только вас.
— Вот как! Превосходно! Поздравляю… Кто в центре?
— Акимов, начальник производства на Московском гидротехническом заводе. Березин, начальник морского управления ВАРа. Корреспондент Гоберти…
С каждой фамилией брови майора поднимались все выше. С минуту он радостно и немного удивленно смотрел на Хинского.
— Лев Маркович, голубчик… Как вы это узнали? Какие у вас доказательства?
— Документальные, Дмитрий Александрович. Бесспорные.
— Ну, тогда… поздравляю, от души поздравляю вас. В показаниях Коновалова фигурируют те же лица. Значит, ваши и мои материалы подтверждают друг друга. Дело окончено, и можно будет приступить к активным операциям. Ну-с, — добавил майор, вставая и бросая взгляд в окно кабины, — публика расходится, Лаврова увозят. И Кундин бочком пробирается к выходу… Только Иван Павлович, Дима и какая-то девушка еще ждут… должно быть, нас… Выйдем. Это, вероятно, сестра Димы?
Счастливый Дима, крепко держа за руку Ирину и Ивана Павловича, захлебываясь, рассказывал Ивану Павловичу о сестре, а Ирине — об Иване Павловиче, о моржах, о медведях, о плавании под водой.
— Дмитрий Александрович! — вырываясь из рук сестры, бросился Дима навстречу майору. — Дмитрий Александрович! Это моя сестра… Это Ира… Это моя сестра Ира…
Горячая благодарность — в словах, глазах, голосе Ирины — тронули майора. Даже обычная выдержка не помогла ему: он был, видимо, чуть ли не впервые в жизни смущен…
Условились, что Иван Павлович едет с Ириной и Димой и будет жить у них, а послезавтра вечером (раньше никак, при всем желании, никак нельзя, — твердо заявили майор и Хинский) все соберутся у Денисовых, где будет и Лавров, и проведут вечер вместе.
Когда перрон опустел, геликоптер отрулил в дальний конец аэродрома, к его грузовым воротам. Там из геликоптера, окруженный стражей, вышел Коновалов. Его подвели к огромному электромобилю, в котором уже сидели майор и Хинский.
* * *
Большая комната погружена во мрак, лишь яркая настольная лампа из-под абажура заливает светом большой чернильный прибор, бумаги, тяжелую статуэтку из золотистого металла, фарфоровую вазу с цветами, изящный чернильный аппарат с экраном, стопку книг и книфонов на краю стола.
Со стен смутно глядят картины в рамах, из темноты мерцают лак мебели, стекло, металл и фарфор. Небольшая скульптурная фигура на тумбочке белеет в углу.
У человека, сидящего за столом, большая розовая лысина, морщинистый лоб. Мясистые ладони козырьком прикрыли от света глаза и затенили лицо.
Перед человеком на столе небольшой листок алюминиевой матовой бумаги, покрытый бисерным женским почерком. Человек внимательно читает письмо. Дойдя до конца, минуту он сидит неподвижно, потом вздыхает и, сняв руки, открывает лицо. Это Гоберти.
В квартире тихо и пустынно. Жена улетела на неделю за границу, и Гоберти уже четыре дня живет одиноко. Он откладывает в сторону письмо матери и задумывается.
В его памяти всплывает гордая голова с львиной гривой седеющих волос… Барон Раммери… Председатель Международной компании Суэцкого канала.
Двадцать лет назад, когда барон впервые появился на международной бирже, никто не знал, кто он, откуда у него такое богатство, такой размах и уверенная дерзость в самых рискованных операциях. Но биржевые соперники вскоре разузнали, что источник его финансового могущества — в некоторых "нейтральных" банках. Много лет назад, в разгар второй мировой войны, в эти банки были вложены капиталы германских фашистских главарей и промышленных магнатов. Фашистские бандиты погибли, но их ценности, умело скрытые за подставными именами, прилипли к родственным рукам…
Говорили, что холеные и ловкие руки барона Раммери орудуют этими капиталами не только на бирже… Говорили, что на его заводах, кораблях и предприятиях слышится почти одна немецкая речь, что даже не всякий немец может туда попасть, что там почему-то царят воинская иерархия и дисциплина… Когда же интернациональным друзьям барона удалось поставить его во главе Международной компании Суэцкого канала, среди ее штата замелькали новые немецкие фамилии.
В памяти возникает роскошный кабинет барона Раммери. Звучит в ушах, как будто это было только вчера, бархатный голос:
"Советский Союз своим проектом реконструкции Северного морского пути грозит подорвать все значение наших старых вековых путей на Дальний Восток. Вы должны помочь нам…"
"Но чем?.. Чем я могу быть полезным?" — растерянно, со страхом и тяжелыми предчувствиями спросил Гоберти.
"Нам важно заставить Советский Союз отказаться от этого проекта реконструкции Северного морского пути. Если это не удастся, то хотя бы затормозить работы, задержать их, чтобы отдалить их окончание, дать нам время для реорганизации и приспособления к новым условиям…
Для этого мы готовы затратить неограниченные средства, предоставив их в ваше распоряжение. Ваше положение в Советском Союзе, доверие, которым вы там пользуетесь…
Поверьте, что мы сумеем отблагодарить вас. Старость вы проведете спокойно".
В квартире стояла мертвая тишина. Темнота в кабинете, сгущаясь в углах и за мебелью, показалась вдруг беспокойной, полной зловещих теней и смутных угроз. Зачем Хинский приходил на завод?.. Холодок внезапно пробежал по спине, необъяснимый страх сжал сердце.
"Глупости, — встряхнул головой Гоберти, — на время притихнем. Потом быстро наверстаем… Еще три акта — и свобода. Вернусь домой, к старикам, заживу тихо, с детьми. Теперь не надо заботиться о завтрашнем дне. Семья обеспечена".
Он встал, подошел к выключателю, зажег верхнюю люстру и настенные бра. Мягкий, успокаивающий свет залил комнату, прогнал тени из углов. Картины со стен глядели дружелюбно, скульптурный мальчик уютно, по-домашнему расположился в углу и озабоченно вытаскивал занозу из ноги.
"Вот так лучше", — облегченно подумал Гоберти, взглянув на свой оживленный кабинет, сделал два шага обратно к столу и внезапно замер на месте.
Настольный аппарат телевизефона издал короткий и тихий гудок, экран засветился, показал ободок дверного экрана и чье-то незнакомое лицо.
"Кто это? — подумал Гоберти. — Так поздно… Пустить? Нет, не стоит… Никого не хочу видеть. Пусть думают, что никого нет дома".
Он прошелся два раза по комнате, заложив руки в карманы и поминутно взглядывая с досадой на экран.
"Стоит упорно… Черт с ним! Пусть входит. Вот некстати…"
Гоберти выключил экран, нажал под ним кнопку от наружной двери и вышел навстречу нежданному гостю.
Едва он прошел в гостиную, как услышал из передней тихий шорох ног и вдруг остановился — перед глазами поплыл туман.
Из тумана ослепительно засверкали знакомые значки в петлицах и на рукавах, суровые лица, фигуры людей в формах. Оглушительно прозвучал в ушах тихий голос:
— Гражданин Гоберти Эрик? Ознакомьтесь с ордером министра государственной безопасности. Я имею приказ произвести обыск в вашей квартире и задержать вас… Прошу вручить ключи от всех помещений.
Дрожит бумажка в отяжелевших руках, мелькают и пляшут буквы и слова:
"Поручается майору Комарову Дмитрию Александровичу… тщательный обыск… задержать… Гоберти Эрика… обнаруженные документы…"
Чужой дрожащий голос доносится откуда-то издалека, произносит явно ненужные, пустые слова:
— Протестую… иностранный подданный… явное недоразумение… ошибка…
И опять кабинет… В нем нет уже мирной тишины, улетело спокойствие, все чуждо, холодно, и скульптурный мальчик равнодушно отвернулся, занятый своей занозой… Чужие люди быстро и уверенно снуют по комнате, выдвигают ящики из стола, просматривают и откладывают бумаги, письма, документы…
А в затуманенной голове возникают и пропадают обрывки мыслей, слова…
"Все погибло… Что это за связка писем?.. Ах, да… Коновалов, наверное… Нет, это из-за Акимова… Все равно… Все равно позор… И тут и там… Барон Раммери заступится… Нет, все откажутся… Попавшийся шпион и диверсант… Откажется… Что делать? Покорно ждать суда? Нет! Покамест этот порошок в жилетном кармане… Потом будет поздно… обыщут, отнимут… Сейчас! Скорее, пока человек отвернулся и никто не смотрит…"
Быстрое движение руки: в карман — ко рту… Грохот отброшенного стула, шум падающего, словно пораженного молнией тела…
— Афонин, что же вы смотрели? — воскликнул с отчаянием майор, бросаясь на колени перед неподвижно распростертым на полу Гоберти.
Он перевернул тяжелое тело на спину, приложил ухо к груди, посмотрел на быстро синеющее лицо и, не поднимаясь с колен, глухо произнес:
— Мертв… Цианистый калий…
Майор медленно встал, не сводя глаз с лица самоубийцы, и глубоко вздохнул.
— Сержант Басов, поднимите с Афониным тело, перенесите на диван. Вызовите врача. Потом продолжайте обыск. У тела пусть остается Афонин…
Со стесненным сердцем майор вернулся к столу и продолжал работу. С трудом вникал в смысл бумаг. Мысль беспокойно уносилась к капитану Светлову, к Хинскому, к лейтенанту Ганичу. Такая неудача… Может быть, с жизнью Гоберти оборвались какие-то нити — важное, необходимое, чтобы выяснить дело во всех подробностях, до конца… Не случится ли то же и у других? У Акимова — Хинский… Он горяч, порывист, мои Хинский… Эх, не надо было давать ему Акимова!.. Именно потому, что он добивался, просил этого. Как будто у него с ним какие то особые, личные счеты… Не из за "мальчишки" ли? Из за "щенка"? Скорее кончить здесь с обыском… Может быть, еще можно поспеть туда, к Акимову. Да, так и надо сделать.
Внимание майора обострилось, зоркие глаза успевали следить за всем.
— Скорее, скорее, товарищи, — торопил он других. — Внимательнее и скорее.
Приехал врач, констатировал мгновенную смерть Гоберти, составил акт и увез тело…
Беспокойство майора нарастало. Он не выдержал и вызвал по телевизефону квартиру Березина.
На экране появился капитан Светлов. Он сообщил, что все в порядке. Было много возни с Березиным он два раза падал в обморок, уверял, что ни в чем не виноват.
Из квартиры Акимова никто не отвечал.
"Неужели кончили? Не верится…"
На столе вырастали связки бумаг, сержант быстро составлял акты… Наконец поставлена последняя подпись.
Майор поднялся, с облегчением вздохнул и сделал последние распоряжения.
И вот он уже мчится в машине по тихим предрассветным улицам Москвы.
— Скорее, товарищ Савицкий, скорее…
Водитель бросает быстрый взгляд на необычно взволнованное лицо майора, и трубный звук сирены оглашает улицы. Все машины впереди сворачивают в сторону, очищая путь бешено летящему электромобилю…
Вот наконец и этот дом. Он как будто спит безмятежно. У подъезда три словно заснувшие машины… На эскалатор!.. Нет, здесь лифт… Это скорее…
Летят вниз этажи… Восьмой… девятый… десятый… одиннадцатый. Стоп!
Глухой шум из квартиры, топот ног, резкие свистящие звуки, возбужденный голос Хинского:
— Сдавайтесь, Акимов! Антонов, Серебрянский — дверь!
Под свист выстрелов майор летит сквозь ряд комнат… Еще не поздно…
На его глазах под напором двух богатырей с треском срывается с петель и рушится дверь. На миг показался ковер на полу, на нем — лежащий ничком, облитый кровью человек с пистолетом в откинутой руке. Хинский врывается в комнату. За ним стремительно, с разбегу, как тяжелый артиллерийский снаряд, который невозможно остановить, вбегает майор. Еще миг — шевельнулся пистолет в руке человека, приподнялась над ковром голова…
— Хинский, прочь!..
Тяжелый кулак майора обрушился сзади на Хинского, и молодой лейтенант отлетел в сторону.
Но пистолет уже поднят с пола, страшный кровавый глаз взметнулся со злобой и ненавистью. Раздался пронзительный свист…
Прикрыв лицо вскинутыми вверх руками и словно споткнувшись на бегу обо что-то невидимое, майор рухнул на пол, стремительно перевернулся, вздрогнул, вытянулся и замер…
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ
ОТКРЫТИЕ ТРАССЫ
"Котовский" радировал, что погода стоит прекрасная, что он уходит и сердечно поздравляет с предстоящим торжеством.
Выключив аппарат и разгладив седые усы, Гуревич, начальник строительства шахты номер три, подвинул к себе стопку газет, привезенных тем же "Котовским" еще два дня назад. В хлопотах погрузки некогда было заняться ими. Теперь можно спокойно сесть в удобное, глубокое кресло, подтянуться так, чтобы захрустели старые косточки, закурить трубку и развернуть первый лист.
Гуревич погрузился в чтение. За два года, пробежавшие после известных нам событий, он мало изменился. Все та же плотная фигура, круглая седая борода, прокуренные жгуты седых усов, черные костистые брови над молодыми глазами.
Вместо прежних уютных комнат в коттедже подводного поселка в распоряжении начальника строительства шахты осталась лишь крохотная комнатушка в порт-тоннеле. Она теперь служила Гуревичу и кабинетом и спальней, а иногда и столовой. Небольшое число оставшихся работников шахты также размещалось в порт-тоннеле — либо в таких же клетушках, либо просто на нарах в общежитии.
За прозрачной стеной порт-тоннеля, раньше выходившей в поселок, простиралось изрытое морское дно. В неподвижной светло-зеленой, как будто стеклянной толще воды, пронизанной светом фонарей, поднимался высокий каркас свода да кое-где остатки его стен. Ни коттеджей, ни надшахтных зданий, ни центральной башни уже не было. Виднелся лишь огромный плоский круг из квадратных плит. От него во все стороны лучеобразно расходились сверкающие полосы рельсов. У остатков свода светились люди в скафандрах, горели, угасали и вновь вспыхивали огни. Высокие краны приподнимали отдельные стенные пластины, отводили их в сторону и складывали в штабели. Между ребрами каркаса люди укладывали теперь поперечные перекладины, образующие нечто вроде гигантской сетчатой шапки над кругом из плит. По протянутым тросам со дна то и дело поднимались со связками этих перекладин воздушные грузовые шары.
Строительство шахты номер три было закончено, шли последние приготовления к пуску воды в готовую шахту. Первая шахта советской гольфстримовской трассы готовилась вступить в строй.
Старый Гуревич начал ее строительство и довел до конца. Он был рад, даже счастлив, прощаясь с грузовым судном "Котовский", который увозил с шахты последние материалы, машины, механизмы.
Но сейчас, насупив мохнатые брови, Гуревич недовольно, ворчал, читая газету.
В дверь постучали.
В комнату вошел Субботин, заместитель Гуревича и начальник строительства шахты номер три бис, человек лет тридцати.
— А! Андрей Игнатьевич! — воскликнул Гуревич. — Вот кстати! Садитесь, где хотите или где можете.
— Устроюсь как-нибудь, Самуил Лазаревич, не беспокойтесь, — говорил Субботин, протискиваясь между книжным шкафом и креслом и опускаясь на диван.
— Ну как, свертываетесь? — спросил Гуревич.
— Да уже, можно сказать, свернулся. Решетка готова. С площадки почти все убрано.
— Вчера на опробовании у вас одну плиту перекрытия в секторе Дельта заело, плохо шла…
— Уже исправлена. Сегодня к ночи все закончим.
— Значит, сутки до прихода "Майора Комарова" будете бездельничать… Ну ладно! Газеты просмотрели?
— Нет еще…
— Вот почитайте-ка, что пишут. Мы-то с вами впереди плана идем, раньше срока кончили Нам повезло… Да ведь коллектив какой у нас замечательный, да близко к базам, да мягкое Баренцево море с большим сроком навигации. А каково остальным? Особенно тем, кто в восточном секторе трассы, — Калганову, Малинину и другим.
— Что и говорить! — сочувственно произнес Субботин. — Нелегко, конечно… Зато у них и флот лучше и ледоколов больше, да каких!
— Значит, это еще не все… Посмотрите сводку. Некоторые шахты готовы только на сорок процентов! На две трети плана. А тундровики, думаете, ждать будут? Провалимся мы в соревновании с ними… Они же там землю роют — в буквальном и переносном смысле!
— Тундровики! — У Субботина разгорелись глаза, лицо осветилось улыбкой. — Да, там, батенька, действительно работают. Во время отпуска я облетел чуть не всю тундру — от Оби и Енисея до Колымы… Что они там только делают! Горы взлетают на воздух, для того чтобы проложить дорогу новой реке или завалить долины для образования внутренних озер и морей! Они уже спрямили Лену. Помните ее гигантскую дугу в среднем течении? Скоро закончат выпрямлять Обь через Таз. О более мелких реках я не говорю… Теперь, когда будет оттаивать подпочвенная мерзлота, избытки воды пойдут по двум руслам… А на низких берегах рек воздвигают валы… Они тянутся порою на сотни километров.
— Ну, что же вы замолчали, — нетерпеливо спросил Гуревич.
— Там есть машины, — мечтательно, закрыв глаза, продолжал Субботин, — которые за сутки прорывают глубокий и широкий канал длиной в десятки километров. Они ведут за собой по целине поезда гигантских самоходных дисковых ножей и вращающихся плугов. Ни болото, ни лес не могут их остановить… Там есть машины, которые с невиданной быстротой пронизывают в десятках мест гору для закладки в нее петровидола. В одну ночь гора поднимается на воздух, открывается новое ущелье для стока будущих вод… Они проделывает длиннейшие тоннели, размывают горы, вот как мы, при помощи гидромониторов и георастворителя. В хребте Черского при этом неожиданно вскрыли богатейшие золотые жилы, на берегах Лены — золотые россыпи и належи великолепных коксующихся углей… В других местах — залежи графита, железные, медные и полиметаллические100 руды… А тысячи геликоптеров летают над тундрой, окуривают, опрыскивают, опыливают ее, чтобы укрепить и ускорить рост покрывающих землю мхов. Это одеяло из мхов замедлит и будет регулировать таяние подпочвенного льда, чтобы не было бурного появления подпочвенных вод на поверхности. До того мне там понравилось, что я готов был остаться!..
— Ну-ну-ну! Дезертир! — погрозил пальцем Гуревич. — Вот и в газете пишут, что работы в тундре идут точно, по плану. Нехорошо будет, если наша трасса отстанет… Не знаю, как вы, Андрей Игнатьевич, а я про себя решил: буду проситься на какую-нибудь из отстающих шахт. Кем угодно — помощником начальника строительства, гидромониторщиком, начальником склада… А вы как?
Субботин развел руками.
— Еще не решил. Хотелось бы в тундру… А может быть, действительно здесь нужнее…
Гудок телевизефона прервал Субботина. Гуревич включил аппарат. На экране появилось лицо начальника охраны.
— Товарищ начальник строительства, — сказал он, — в магнитном поле заграждения появилось небольшое надводное судно. Шло малым ходом, волочило на глубине ста метров рыболовный трал. Я пустил направленный ток и остановил машину судна. Послал к нему наряд для проверки документов.
— Странно, — произнес Гуревич. — Какой тут сейчас промысел?.. Сообщите мне о результатах проверки немедленно!
— Есть!
— Не из компании ли барона Раммери эти незваные гости? — усмехнулся Субботин. — Я думаю, что после того международного скандала, который получился на процессе Березина, руки у барона сейчас парализованы.
— Кто знает? — с сомнением покачал головой Гуревич. — Во всяком случае, процесс Березина нас многому научил. И прежде всего потому, что нельзя походить на старинных лошадей в шорах…
— Что вы хотите этим сказать, Самуил Лазаревич?
— А то, — с каким-то раздражением ответил Гуревич, — что надо уметь не только строить, но охранять и сохранять построенное. Ведь все мы видели, что на строительстве происходят какие-то ненормальности, перебои. И я сам видел! Но я скользил глазами по поверхности, не старался взглянуть глубже, подумать серьезнее. Мое, дескать, дело строить, а об остальном пусть думают другие — майор Комаров, лейтенант Хинский, капитан Светлов… Но что толку из того, что я построю самую чудесную вещь, если, пользуясь моей слепотой и глухотой, к этой вещи подберется враг и разрушит ее?.. Чем не лошадь в шорах!
— Да… — задумчиво сказал Субботин. — Самое обидное в ваших словах то, что это правда.
Опять прозвучал гудок телевизефона, и на экране снова появился Тарновский, начальник охраны.
— Командир наряда только что по радио доложил мне, что задержанное судно является китобойцем и тралером "Скот Янсен" из Фольштадта. При осмотре ничего подозрительного не замечено. По объяснениям капитана, не найдя в этих широтах китов, он занялся тралением… Как прикажете поступить?
— Вызовите по радио ближайший патрульный геликоптер, поручите ему вывести этого "Скота" из наших вод и, по закону, оштрафовать.
— Есть, товарищ начальник…
* * *
Кремлевские куранты пробили полночь, и репродукторы разнесли по всей стране торжественные звуки народного гимна. Великолепное летнее солнце сияло в светло-голубом чистом небе. Сонное море тихо дышало, легкий, едва ощутимый ветерок покрывал морщинками его спокойною поверхность. Короткое северное лето было в полном разгаре.
Огромный, сверкающий стеклом и металлом электроход "Майор Комаров", вздымая форштевнем высокие седые буруны, несся на север. Все палубы корабля были открыты, толпы празднично одетых пассажиров заполняли их. Люди бродили по палубам, сидели в легких креслах, беседуя или любуясь безбрежными морскими просторами.
Все это были гости, спешившие на открытие первой вступавшей в строй шахты гольфстримовской трассы.
На самой верхней палубе, под прозрачной крышей, разместились наши давние знакомые — Лавров, Ирина, Хинский, Иван Павлович и Дима. Изредка перебрасываясь короткими тихими фразами, они смотрели на широкую гладь моря, на крикливых чаек, неотступно сопровождавших корабль, на далекий дымчатый горизонт…
За два года Дима вытянулся и стал почти неузнаваем. Тонкое, покрытое загаром лицо, высокая стройная фигура, спокойные, немного задумчивые темные глаза. Лишь черные вьющиеся волосы, буйно вырывавшиеся из-под фуражки, напоминали прежнего Диму. На груди у мальчика висел на ремнях большой футляр с биноклем. Его мечта — стать полярным моряком — месяц назад начала осуществляться: он поступил в морское училище в Архангельске. Осенью, к началу учебного года, он переедет туда, поселится в общежитии училища или в семье Ивана Павловича.
Сейчас, проездом через Архангельск, Дима с сестрой и ее мужем (уже год, как Ирина и Лавров поженились) побывали в чудесном, полном света и воздуха здании училища. Особенно понравились Диме навигационный кабинет, небольшие удобные спальни и зал для работ с кабинками для каждого ученика.
Потом все обедали у Ивана Павловича. Диме очень понравилась и веселая, дружная семья Карцевых и уютная их квартира. У Ивана Павловича дочь Надя и сын Толя, одногодок с Димой. Зимой Иван Павлович привозил Толю в Москву к Денисовым, и ребята сразу подружились. Толя — художник и поступил в Архангельское художественное училище. Как Дима ни убеждал его, что лучше жизни моряка, да еще полярного, ничего на свете быть не может, что они будут вместе плавать, делать открытия, бороться с ураганами и льдами, — Толя все-таки сделал по-своему. Уж очень он хорошо рисует! В один присест набросал замечательный портрет Димы. И Дима простил другу эту "измену".
"Пожалуй, лучше жить у Ивана Павловича, — думал сейчас Дима, следя за акробатическим полетом чайки впереди корабля. — Будем всегда с Толей… и Надя славная девочка. Озорная только. Иван Павлович — совсем как родной… И Мария Ивановна, жена его, — добрая, милая… Нет, лучше у них…"
Дима встал с кресла, пристально всмотрелся в темное пятнышко на горизонте.
— А вот и мыс Флора открывается, — произнес он ломающимся голосом. — Правда, Иван Павлович?
— Правильно! — подтвердил Иван Павлович, — Мыс Флора и есть.
— Где, Дима? — спросила Ирина, подходя к брату. — Покажи.
— Вон, прямо по носу… Да нет же, Ира! Куда ты смотришь? Возьми на десять румбов к весту…
Все рассмеялись.
— Помилосердствуй, Дима! — произнес Хинский. — Скоро мы, сухопутные люди, понимать тебя перестанем. Что это значит — "на десять румбов к весту"?
Не поворачиваясь, Дима медленно поднял руку, погладил подбородок и вдумчиво ответил:
— Это значит: на десять делений картушки компаса к западу… А на картушке тридцать два деления, указывающие на все стороны света и промежутки между ними… Вон куда Ира смотрела — на десять румбов в сторону! Кто же так смотрит?
Он извлек огромный морской бинокль из футляра и с достоинством направился к носовой части палубы.
Иван Павлович тихонько подтолкнул локтем Хинского и наклонился к нему, движением бровей указывая на Диму.
— Каков жест? А? — тихо сказал на ухо Хинскому. — Обратили внимание? Совсем как у покойного Дмитрия Александровича…
Хинский молча кивнул головой.
— Оно и понятно, — продолжал Иван Павлович. — Привязался к нему мальчик тогда… На "Чапаеве" и потом, во время наших скитаний… Все в глаза ему смотрел, каждое слово ловил…
— А кто не любил его? — прошептал Хинский. — Он мне вместо отца был. И тогда, в последний момент, отбросил меня в сторону, перехватил пулю, предназначенную мне…
— Да… — вздохнул Иван Павлович. — Что за человек был! Уж я много видел смертей, сам не раз бывал на волосок от гибели, а когда узнал о катастрофе, мне показалось, что пуля негодяя Акимова поразила не только майора, но и меня заодно.
— Он вел меня вперед при жизни… Ведет и сейчас на торжество того дела, за которое отдал жизнь, — тихо произнес Хинский.
— Электроход "Майор Комаров"… — медленно произнес Иван Павлович. — Знатный электроход! Уж я — то в этом деле кое-что понимаю. Он пронесет это имя по всем морям и океанам мира.
— Кстати, — сказал Лавров, бросив взгляд на тяжело задумавшегося Хинского, — вы слышали, что шахте номер три правительство постановило присвоить имя Андрея Красницкого?
Ирина отошла от борта и села в свое кресло рядом с Лавровым.
— Свежеет что-то, — сказала она, зябко поеживаясь и прижимаясь к плечу Лаврова.
— Накинь пальто, Иринушка, — произнес Лавров, заботливо укутывая жену. — Арктика — пока еще Арктика, со всеми ее капризами.
— Это ледники Франца-Иосифа дают себя знать, — сказал Иван Павлович. — Да и в проливах там, наверное, держится еще лед. Лето хотя и на редкость прекрасное и год не ледовый, но "Красин" не зря, видно, ждет нас в бухте Тихой… Придется ему поработать, пока проведет он "Майора Комарова" Британским каналом до острова Рудольфа.
Ирина задумчиво смотрела в морскую даль, на выраставшее вдали пятно острова Нордбрук с его знаменитым мысом Флора, местом встречи Нансена с английской экспедицией Джексона. Лицо Ирины заметно похудело, взгляд выпуклых серых глаз стал тверже и решительнее, но нежный румянец на щеках и доброе выражение остались прежними.
— Знаешь, Сережа… — мягко сказала она мужу, — как только ты произнес имя Красницкого, я вспомнила Грабина. Наверное, шестая шахта будет носить его имя?
— Думаю, да…
Ирина помолчала, уютно поежилась под теплым пальто, с ногами забравшись в широкое кресло, потом вдруг спросила:
— Ты не слыхал, Сережа, ничего о Березине? Где он сейчас?
— Месяца два назад, — не сразу ответил Лавров, — начальник Управления реконструкции тундры говорил мне, что видел Березина в отдаленном районе Якутской республики. Он работает над реконструкцией рек и озер этого района. Он ведь потамолог, большой специалист по рекам.
— Вот как! — удивилась Ирина. — Ведь он был осужден как социально опасный человек…
— Я не расспрашивал о подробностях, — поморщился Лавров, видимо не очень довольный новой темой разговора. — Я еще до сих пор не оправился от раны, которую нанес нам этот человек…
— Я знаю эту историю, — вмешался Хинский.
— Расскажите, Лев Маркович, — попросила Ирина. — Пожалуйста.
— Да стоит ли, право, интересоваться этой личностью? — ворчливо произнес Иван Павлович. — Как будто больше не о чем разговаривать…
— Ну, если Ирина Васильевна просит… — сказал Хинский, улыбаясь и дружелюбно глядя на молодую женщину. — История вот какая. Березин писал какой-то труд по своей специальности. Через год после его осуждения он стал просить об отправке его на работу по реконструкции тундры. Такие же заявления поступили от других осужденных. Им отвели глухой, отдаленный участок тундры, где они и работают. Говорят, что Березин усердно трудится…
Рассказ Хинского продолжала Ирина:
— Ревность и зависть к успехам Сережи толкнули Березина на этот ужасный путь. И я не постеснялась открыто сказать на процессе, что именно эти отвратительные чувства отдали его во власть Гоберти. Но все же, если Акимов был последышем фашизма, непримиримым врагом, то Березин, может быть, еще сделается человеком…
— Не верю, что он когда-нибудь будет человеком, — проворчал, насупившись, Иван Павлович. — Трусы и завистники — самые поганые люди и навсегда такими останутся…
— Вы правы, Иван Павлович, — сказал Лавров. — Пока эти низкие чувства владеют человеком, доверяться ему нельзя. Ну, будет об этом! Не забывайте, что уже два часа пополуночи, а солнце здесь не пересидишь. Спать пора, Иринушка! Пойдем в каюту, ты уже и теперь озябла, а дальше холоднее будет.
— Дима! — позвала Ирина поднимаясь. — Пойдем вниз!
— Ну, Ирочка… — отозвался мальчик, опуская свой огромный бинокль и приближаясь к сестре. — Сейчас самое интересное начинается, а ты уходишь! Скоро бухта Тихая покажется…
— Правда, Ирина Васильевна, — присоединился к Диме Иван Павлович, — пусть посмотрит, успеет еще отоспаться. Я с ним тут побуду. Да и Лев Маркович останется. Холодок будущему полярнику не вреден.
Ирина не возражала и, наказав Диме, если холод усилится, сойти вниз и одеться потеплее, ушла с палубы вместе с Лавровым.
С земли потянул холодный ветер. Вскоре на зеленой воде океана появились сначала в одиночку, потом редкими стаями гладкие, обмытые морем льдины.
Все ясней и ясней становилась земля — пустынная, безлюдная. Черные скалы хранили еще кое-где в своих морщинах и впадинах белые пятна снега. Отвесными стенами, у самой воды, обрывались высокие голубые ледники. Тысячи птиц ютились на карнизах и уступах высоких прибрежных утесов и тучами взлетали с них, пронзительно крича.
Оставив мыс Флора справа, "Майор Комаров" углубился в проливы и каналы ледяного архипелага. Из воды поднимались высокие, гладкие, словно отшлифованные стены ледников. Солнце отражалось в них миллиардами радужных блесток, слепило глаза. Неумолчный прибой прогрыз глубокие черные пещеры в этих стенах.
Стало холодно. С подветренных островов начал спускаться редкий туман. Сильнее задул ветер, солнце стало похоже на тусклый яичный желток, пошел сухой, словно песок, снег. У Димы посинели руки.
Иван Павлович погнал его переодеться. Когда мальчик опять появился на палубе, туман уже исчез, опять сияло солнце, сверкали горы, покрытые бриллиантовыми шапками снега. На южных склонах холмов, на лужайках и впадинах между холмами расстилались темные ковры из мхов, пестрели яркие полярные цветы.
"Майор Комаров" сбавил ход, пробираясь между льдинами.
Приближалась бухта Тихая, место одной из старейших советских зимовок в Арктике. Отсюда когда-то давно, еще в 1913 году, Георгий Седов, уже смертельно больной, отправился пешком к Северному полюсу. Он ушел недалеко и умер на руках своих верных спутников-матросов.
За поворотом внезапно возникла гигантская черная базальтовая скала Рубин-Рок. За скалой открылась бухта. По ее спокойной глади плыли причудливые айсберги, переливавшиеся всеми цветами радуги. В глубине бухты чернели огромный дредноут, ледокол "Красин" и несколько других судов, приветствовавшие "Майора Комарова" протяжным ревом гудков. Многократное эхо наполнило бухту и долину между прибрежными горами. На берегу сверкал прозрачным металлом поселок с радиомачтой и ветряком. Вокруг поселка и за ним, в долинах между горами, холмами и ледниками, по обрывам раскинулись полосы лишайников, разноцветные ковры из красного болотного мха, желтых полярных маков, голубых незабудок. На черных базальтовых скалах лежали сугробы снега, со склонов сбегали сверкающие ленты ручьев.
В бухте "Майор Комаров" сдал почту и срочные грузы. Вскоре он опять вышел в Британский канал и, следуя за "Красиным", взял курс на север.
Подул западный ветер, и небо затянули свинцовые тучи с косым дождем и снегом. Все померкло вокруг, сделалось унылым и серым. Прозрачные стены поднялись из бортов корабля и укрыли его палубы.
Усталый и сонный Дима вместе с Иваном Павловичем и Хинским спустился в каюту, разделся, с наслаждением завернулся в одеяло и через минуту крепко заснул.
* * *
Ветер с востока нагнал много битого льда, и высадка пассажиров с "Майора Комарова" на морское дно проходила медленно и хлопотливо. "Красину" приходилось несколько раз окалывать электроход, отгонять лед, чтобы освободить небольшое пространство чистой воды для спуска кабины с пассажирами, одетыми в скафандры.
Многие впервые в жизни облачались в эту одежда, чувствовали себя неуверенно и с трудом одолевали даже по гладким дорогам, проложенным на дне, короткое расстояние до порт-тоннеля. Специальные команды из работников шахты и экипажа кораблей сопровождали пассажиров под водой.
В порт-тоннеле гостей встретили яркий свет, радостно-возбужденный шум толпы и звуки оркестра. Позади стола президиума тускло поблескивал огромный серебристый экран телевизефона дальнего действия.
В полдень, когда высадка закончилась, взволнованный Гуревич включил переполненный народом зал Дворца Советов в Москве и открыл торжественный митинг. Старого строителя встретили и проводили громом оваций. И в московском зале и здесь один за другим поднимались на трибуны представители партии, министр ВАРа, делегаты предприятии и научных учреждении. Говорили о мировом значении гигантского строительства, предпринятого Советским Союзом, о возрождении Советской Арктики, о скором перевороте в климатических условиях страны, об изгнании навсегда из пределов Союза владыки Арктики — холода. Министр тепло и задушевно приветствовал коллектив работников, закончивший с успехом раньше назначенного срока строительство шахты, остановился на роли начальника строительства Гуревича, со скорбью напомнил о молодом энтузиасте Андрее Красннцком и сообщил о присвоении шахте его имени. Тысячи людей в Москве и в порт-тоннеле молча почтили вставанием память погибшего.
Академик Карелин посвятил свою речь специально Лаврову — огромной работе, проделанной им, опасностям, которым он, не щадя своей жизни, подвергался.
Митинг закончился торжественными звуками гимна. Гимн великого народа гремел под сводами Дворца Советов в далекой Москве и под толщами холодных вод Ледовитого океана.
После митинга зрителям, отдаленным друг от друга тысячами километров, на особом экране была показана вся огромная работа строителей, вся жизнь подводных и подземных работников, их победы и неудачи, радости и печали, опасности, окружавшие их, и препятствия, преодоленные ими.
Началась шумная, веселая суматоха: люди спешили вновь облачиться в металлические одежды, готовясь к выходу из порт-тоннеля и заключительному акту торжества.
У выходной камеры выстраивались длинные очереди. Снаружи, под решетчатыми сводами, на подмостках из прозрачной стали, вокруг закрытой еще шахты собиралась толпа. Для безопасности подмостки были ограждены высоким барьером и разделены на узкие участки тросами.
У барьера на высокой кафедре стоял овальный экран телевизефона, на котором видны были перекрытая шахта номер три бис, ее работники во главе с Субботиным и часть гостей, собравшихся там на подмостках. Перед экраном на кафедре лежал большой чертеж перекрытий обеих шахт с перенумерованными секторами и плитами.
Яркие фонари освещали водные толщи, изредка над головой людей мелькали гибкие сверкающие тела рыб, привлеченных необычайным светом.
Наконец на кафедре появился Лавров, и под всеми шлемами прозвучал голос:
— Внимание! Внимание! Товарищ Гуревич, вы у агрегатов в порт-тоннеле?
— Гуревич у агрегатов в порт-тоннеле! — ответил знакомый голос.
— Товарищ Субботин, вы у агрегатов шахты бис?
— Субботин у агрегатов шахты бис.
— Все в порядке?
— Все в порядке!
— Открыть первые трубы наполнения! — звенящим от волнения голосом отдал команду Лавров и отметил на чертеже эти трубы.
— Открываю первую трубу наполнения! — ответили Гуревич и Субботин.
Одна из огромных крайних плит надшахтного перекрытия шевельнулась, с усилием, словно преодолевая невидимое сопротивление, тронулась с места и на своих скрытых колесах медленно, потом все быстрее покатилась по рельсам под подмостки.
Все расширяющаяся щель открыла черное пространство под плитой. В пронизанной светом воде над зияющим зевом огромной трубы прошло завихрение, какое то чуть заметное, дрожащее, как марево в жаркий, солнечный день, движение. Вода под чудовищным давлением устремилась в трубу без шума, без рева и грохота, к которым готовились замершие в напряженном ожидании зрители. Первую воду, пошедшую в шахты, приветствовали оглушительным "ура". Плита между тем скрылась под подмостками, устремившись к порт-тоннелю.
— Открыть вторую трубу наполнения! — скомандовал Лавров, когда шум утих.
— Открываю вторую трубу наполнения! — прозвучали голоса Гуревича и Субботина.
На некотором расстоянии от первой медленно двинулась по рельсам к порт-тоннелю вторая плита перекрытия, и вода так же тихо все расширяющимся потоком устремилась вниз.
Одна за другой открывались огромные трубы по окружности шахты, и вскоре зрители начали чувствовать едва ощутимое дрожание стеклянной площадки под ногами, сопровождаемое глухим гулом. Шум мощных потоков воды, неслышный в каждой из труб в отдельности, теперь, с увеличением их числа, нарастал, усиливался, и когда открылась последняя, двадцать четвертая труба, люди перестали слышать друг друга, и в скафандрам пришлось пустить в ход усилители.
Дно шахт, отделенное барьером от дна тоннеля, по расчетам, уже покрылось достаточно толстым защитным слоем воды, и можно было приступить к пуску ее основной массы.
— Внимание! — звучал голос Лаврова, перекрывая глухой гул двадцати четырех водопадов — Внимание! Прошу присутствующих держаться за барьеры и тросы! Приступаем к уборке плит перекрытия. У агрегатов — внимание! Первый ряд сектора Альфа — вперед!
Крайние плиты одного из секторов перекрытия вдруг сдвинулись с мест и с неуловимой быстротой ринулись по рельсам под стеклянную площадку, окружающую шахту. В тот же момент огромный молочно белый пузырь из горячего воздуха и пара с оглушительным воем вырвался из шахты сквозь решетку перекрытия, взвился кверху и в несколько мгновений исчез из глаз ошеломленных зрителей. И тотчас могучая невидимая волна мягко, но сильно толкнула людей, окружавших шахту. Толпа со вздохом испуга колыхнулась сначала назад, потом вперед, словно пшеничное поле под внезапным ударом шквала. Некоторых все же оторвало — кого от барьера, кого от троса, за которые они держались — и понесло в сторону от шахты. Но люди из охраны, запустив винты своих скафандров, быстро настигли унесенных и привели обратно на их места.
Экипажи "Красина" и "Майора Комарова" потом рассказывали, как они были поражены, когда неожиданно в стороне от кораблей из-под льдов со свистом и грохотом, напоминающим залп орудий, вырвался гигантский столб белого пара и воды. Огромные льдины взлетали на воздух, и весь лед вокруг пришел в бурное движение, напугав моряков. Лишь теперь на кораблях поняли смысл предостережений Лаврова, который не разрешил капитанам "Красина" и "Майора Комарова" выгружать пассажиров прямо над шахтой, а приказал стать в отдалении от нее.
Облако из мельчайших пузырьков пара, как молочный туман, стояло теперь над шахтой, и сквозь него смутно виднелись быстро несущиеся по решетке перекрытия толстые плиты — один ряд за другим.
Непрерывно звучала команда Лаврова:
— Второй ряд сектора Альфа — вперед!
— Третий ряд сектора Альфа — вперед!
— Первый ряд сектора Бета…
— Второй ряд сектора Бета…
Взвод за взводом, волнами, словно танки в атаку, стремительно катились на подводный берег плиты, окруженные паром, пробиваясь сквозь толщу вод, сквозь все нарастающий гул и рев.
Голос Лаврова неутомимо гремел:
— Пятый ряд сектора Гамма — вперед!
— Шестой ряд сектора Дельта…
— Восьмой ряд сектора Альфа…
Над морем и льдами густой пеленой стлался туман, словно пыль оседая на открытых палубах кораблей. Ветер доносил до них теплое дыхание первой шахты гольфстримовской трассы…
ЭПИЛОГ
Полярная ночь была ясна и спокойна. Сквозь прозрачную пелену, застилавшую небо, просвечивали крупные звезды. Гладкое чернильное море вспыхивало отблесками пожара. Казалось, что спрятанное за горбом океана войско титанов безмолвно и непрерывно мечет в небо огненные копья и стрелы. Языки холодного пламени в мертвой тишине мчались по небосклону. Беззвучно вспыхнув в зените, лучи бежали вниз по своду, играя нежнейшими цветами спектра.
Внезапно упал черный полог ночи и скрыл все это великолепие. На черной лакированной поверхности моря тускло искрились только слабые отражения звезд, и ровный шум бурунов у носа корабля сливался с невозмутимой тишиной ночи.
Опоясанный ожерельями света, электроход "Майор Комаров" подходил к Диксону. Скоро должны были показаться огни города и порта. Когда далеко впереди мигнул белый глаз маяка, небо затянулось тучами, звезды скрылись и пошел мелкий, словно просеянный сквозь сито дождь. В стороне, с юга показались огни, направлявшиеся наперерез "Майору Комарову".
Штурман-практикант Вадим Денисов уже знал из донесений по радио, что это идет к Диксону электроход "Академик Карелин" с грузом графита. В порту "Академик Карелин" должен был присоединиться к каравану судов, который формировался там, чтобы в эту полярную ночь пройти первым сквозным рейсом из Архангельска во Владивосток.
Этот рейс должен был войти в историю советского и мирового мореплавания.
На электроходе "Майор Комаров" держал свой флаг начальник экспедиции, уполномоченный правительства Лавров.
Через три года после вступления в строй шахты имени Красницкого была пущена вода в последнюю шахту гольфстримовской трассы — на крайнем востоке, за островом Врангеля. Гигантская невидимая стена теплого воздуха отделила Центральный бассейн Ледовитого океана от цепи его южных морей и встала неодолимой преградой на пути ветров и льдов с севера.
В разгар полярной зимы советские корабли с каждым годом проникали все дальше на восток — в Русскую Гавань, к острову Диксон, к мысу Челюскина, в бухту Тикси. Лед отступал на восток, упорно сопротивляясь, и лишь тогда очищал свои позиции, когда в его тылу вступал в строй новый отряд тепловых шахт. Труднее всего проходило наступление на крайнем восточном участке Северного морского пути — в Чукотском море. Открытое действию восточных ветров, дувших с огромных ледяных просторов "полюса недоступности", это море постоянно заполнялось новыми полчищами льдов. Правда, льды приходили сюда изъеденные туманами, подточенные заметно потеплевшими водами трассы. Но все же преодолевать их даже во вторую полярную ночь после пуска последней, врангелевской, шахты обыкновенные грузовые суда могли лишь с помощью мощных ледоколов.
Лишь на пятый год после вступления в строй шахты имени Красницкого и на второй — после окончания строительства всей трассы могло наконец состояться торжественное открытие ночного, а следовательно и круглогодового, движения по всему Великому Северному морскому пути.
* * *
Рев корабельных сирен приветствовал "Майора Комарова", когда он тихо входил в обширный порт Диксона. Полукруглая бухта была ярко освещена, за ней вздымались ряды городских кварталов, накрытых гигантскими шапками из прозрачного металла. Всюду пламенели и трепетали освещенные прожекторами флаги, гремела музыка у причалов, тысячи обитателей полярного города собрались на набережной, чтобы проводить первый ночной караван, отправляющийся в далекий путь — до Владивостока.
В порту кипела напряженная деловая жизнь. Маленькие юркие буксиры суетились возле огромных неповоротливых электроходов, выводя их из порта на внешний рейд.
За последние три года Диксон привык уже к оживленной ночной жизни и деятельности, но такого скопления кораблей в порту и такой напряженной работы здесь еще не бывало.
В черное тусклое небо высоко взвивались разноцветные ракеты, гремели музыка и разноголосые гудки кораблей, далеко разносились "ура" и прощальные крики толпы на набережной, когда залитый светом "Майор Комаров" тихо отваливал от набережной и выходил в море, чтобы стать во главе каравана.
Сдав вахту, штурман-практикант флагманского корабля Вадим Денисов спустился к себе в каюту. Ему уже исполнилось девятнадцать лет. Он был высок и широкоплеч; густые черные волосы курчавились под околышем его фуражки.
Входя в каюту, Вадим заметил под отверстием трубы пневматической почты белые квадратики радиотелеграмм. Однако он сначала не торопясь умылся, сменил форменною куртку на свободную домашнюю, привел себя в порядок и лишь после этого вскрыл телеграммы. Пробежав глазами их ровные строчки, он улыбнулся и, потирая рукой подбородок, на минуту задумался. Затем, спрятав телеграммы в карман, он вышел из каюты и, пройдя мягко освещенный, устланный ковровой дорожкой коридор, поднялся по внутреннему трапу на следующую палубу. Он подошел к двери, на которой была прибита золотистая дощечка с синей эмалевой надписью: "Начальник экспедиции".
Вадим постучал, дверь отодвинулась в сторону и скрылась в переборке. Из просторной приемной каюты он прошел в соседнюю — кабинет. Там за рабочим столом сидел Лавров, разбирая радиотелеграммы.
— А! Вадим, здравствуй! — произнес он, бросив быстрый взгляд на юношу и продолжая работу. — Садись. Ну, как дела? Мы с тобой больше суток не видались.
— С самой Амдермы, — ответил Вадим усаживаясь. — То я на вахте, то ты занят. А знаешь, Сергей, я привел корабль в Диксон без единого замечания или поправки со стороны штурмана. Прямо к маяку. Когда показались огни, Степан Васильевич только кивнул и сказал: "Хорошо!" Он ведь неразговорчив и довольно скуп на похвалы…
Легкая краска показалась на лице Вадима, его черные глаза заблестели, губы тронула счастливая улыбка.
— Молодец! Рад за тебя, — сказал Лавров и подал Вадиму несколько развернутых листков радиотелеграмм. — Поздравительные от Иры, Хинского и Ивана Павловича…
— Ну, это официальные, торжественные, — сказал, усмехаясь, Вадим, быстро прочитав радиотелеграммы и вынимая свои из кармана. — А вот у меня потеплей и интереснее… Ира сообщает, что семнадцатого декабря — значит, через семь дней — она вылетает с Митюшкой из Москвы во Владивосток. Она хочет воспользоваться отпуском и встретить Новый год с нами. Вот, читай…
Синие глаза Лаврова засветились радостью.
— Ах, плутовка! — засмеялся он, вырывая листок у Вадима. — А мне об этом ни слова! И малыша привезет! Ну какая славная, милая сестра у тебя, Вадим!..
Вадим звонко расхохотался.
— Да, во всяком случае не хуже твоей жены! Нелегко мне было воспитать такую… Принимаю благодарность…
— Есть, товарищ штурман дальнего плавания! Благодарность за мной. Получай задаток… — Лавров выдвинул ящик стола и начал рыться в нем. — Хотел тебе все вручить во Владивостоке, но вынужден часть отдать раньше… В благодарность за приятный сюрприз… Вот!
Он вынул из ящика футляр из пластмассы прекрасной работы и открыл его. В футляре покоилась темная курительная трубка.
— Вот, будущий морской волк, — сказал Лавров, подавая Вадиму подарок, — грей нос и вспоминай мороз. И еще, для начала карьеры, пачка ароматнейшего безникотинного табака. Не одобряю твоей привычки, но, как видишь, мирюсь. Тем более что теперь, с появлением новых табаков, ни себе, ни окружающим вреда не приносишь. Ну, а остальное — во Владивостоке…
— Спасибо, Сергей. Очень скучно на вахте без трубки. А Иру я попрошу почаще доставлять тебе сюрпризы, но только через меня…
Оба рассмеялись.
— Ишь ты! Разохотился, — сказал Лавров.
— А что — остальное? — с любопытством спросил Вадим.
— Остальное — только во Владивостоке, по окончании рейса. И не приставай, пожалуйста…
— Есть не приставать, товарищ начальник!.. А наш безопасный капитан опять, значит, в Баку. Что-то он зачастил туда.
— Ну, капитан государственной безопасности Лев Маркович Хинский безопасен далеко не для всех… Кое-кто должен с ним держать ухо востро…
— Ой, боюсь, привезет он из Баку третий орден… — сказал Вадим.
— Да, — улыбаясь, продолжал Лавров, — на этот раз наш Лев Маркович привезет из Баку особую награду…
— Какую же это? — недоумевал Вадим.
— Жену привезет! — расхохотался Лавров. — Он мне уже давно говорил, что встретил замечательную девушку в Баку и что она, вероятно, самая милая девушка в мире… Впрочем, он при этом оговорился: если, конечно, не считать Ирину Васильевну. Но я ему не верю. В глазах любящего любимая женщина всегда самая лучшая и единственная во всем мире… У тебя есть на этот счет какое-либо мнение?
Вадим густо покраснел и отвел глаза в сторону: перед ним вдруг возникла русая головка Нади, дочери Ивана Павловича…
— Не знаю… — пробормотал он. — Мне кажется, что ты прав.
— Тем лучше. А еще лучше, когда такими же глазами человек смотрит на свою жену в течение долгих-долгих лет совместной жизни. Ну, Димочка, иди к себе, Я с тобой заговорился, а у меня еще уйма работы.
— Ухожу, ухожу, Сергей, — вскочил с кресла Вадим. — Одно только слово. Ты будешь отвечать Ивану Павловичу?
— Я с ним сегодня говорил по телевизефону. Он нас ожидает на своем ледоколе в Амбарчике, у входа в Чукотское море. Там увидимся с ним и поговорим подробнее.
— Ну, прощай. Спокойной ночи…
* * *
Караван шел на восток. Длинной цепочкой огней он растянулся на несколько километров. Спокойная ясная погода сменялась бурями, дожди и туманы — снегопадами. Иногда суровый норд приносил с собой колючий мороз, но не надолго. Он уже ничего не мог изменить случайными вспышками своей ярости.
Изредка встречались небольшие айсберги, оторвавшиеся от ледников Северной Земли, не везде еще отступивших от моря в глубь острова под действием общего потепления. Встречались и ледяные поля, случайно прорвавшиеся через пояс Гольфстрима из Центрального бассейна Ледовитого океана. Но чувствительные радиолокаторы обнаруживали заранее эти огромные массы льда, и суда обходили их.
На мелководьях, среди подводных скал и рифов, в узких проливах архипелагов, путь указывал двойной ряд мощных подводных прожекторов, укрепленных якорями на дне. Корабли шли словно по световой дороге, и казалось, что они парят подобно легким дирижаблям над прозрачными глубинами вод. Однажды на обширном мелководье караван встретил айсберг, севший рядом с прожектором на мель. Айсберг был пронизан красными лучами и сиял в темноте, как гигантский рубин.
Задев подводный прожектор, айсберг выключил в нем белую лампу и включил красную. Одновременно из нижней части прожектора автоматически вырвался рои воздушных шаров с горящими внутри красными лампочками. Шары облепили айсберг со всех сторон, а один из них, самый большой и на самом длинном тросе, высоко парил в воздухе.
Таким образом, айсберг превратился в огромный, далеко заметный маяк, предупреждавший о своем присутствии и предостерегавший от приближения к себе.
Навстречу кораблям то и дело попадались суда, идущие на запад. Они дружески гудели, приветствуя караван, каждый корабль отвечал им, и долго в темноте звучала эта перекличка невидимых и незнакомых друзей, пока не замирала, словно растворившись в ночи.
После Диксона караван должен был зайти в три пункта, расположенные на побережье: порт Челюскин, Тикси-порт и Амбарчик, чтобы взять срочные грузы и пассажиров.
Многотысячное население этих заполярных городов торжественно встречало караван, открывавший великий путь в будущее всему Советскому Заполярью.
Новые пассажиры заполняли каюты электроходов, звонкие голоса, оживленные разговоры и споры не умолкали в столовых и кают-компаниях.
Все свободное от вахт время Вадим проводил среди этих людей — жителей городов и портов, работников морей и рек, тундры и тайги. Он был молчаливым, но усердным слушателем их рассказов.
Потамологи и гидрологи рассказывали, как возрос за последние три года уровень воды в реках, какими они стали полноводными, какие огромные пространства они затопили бы, если бы заранее не была подготовлена сеть каналов, дающих выход водам в море или в расширенные внутренние озера.
Гидрологи моря подтверждали это, указывая, что соленость морских прибрежных вод значительно понизилась из-за увеличения количества пресной воды, изливаемой реками в море. Гидробиологи101 сообщали о появлении из Атлантики и Тихого океана огромных стай новых теплолюбивых видов рыб, избегавших раньше холодных вод северных морей. Теперь эти рыбы постепенно продвигаются все дальше на север и идут навстречу друг другу с запада и востока.
Тундровики рассказывали о медленном оседании почвы в различных местах тундры вследствие таяния подпочвенного льда. Кое-где, как и предвиделось, уже образовались провальные озера, в которых скопившаяся вода ускоряет процесс таяния льда.
У лесоводов-таежников дело обстояло иначе. По их словам, опасения за тайгу оказались пока напрасными. Там, под покровом многолетних наслоений опавшей хвои и листвы, процесс оттаивания мерзлоты происходил гораздо медленнее, чем в открытой тундре. Обычно слабые, характерные для мерзлотной полосы горизонтальные корни деревьев укрепляются, внедряются все глубже в почву, следуя за отступающей вниз мерзлотой. Тайга уже начала наступление на тундру, выдвигая все дальше к северу свою молодую поросль.
С приближением к Амбарчику заметно похолодало. Воздушная разведка доносила, что восточные ветры нагнали в Чукотское море много льда, попадаются большие ледяные поля, но лед слабый, всюду видны многочисленные каналы, широкие разводья и полыньи, и проходимость обеспечена, особенно с помощью ледоколов, даже маломощных.
Честь проводки первого сквозного каравана была предоставлена флагману восточного отряда ледоколов — мощному ледоколу-дредноуту.
На дредноуте работал главным электриком Иван Павлович, и в Амбарчике он посетил "Майора Комарова", чтобы повидать Лаврова и Вадима. Годы прошли над Иваном Павловичем, не оставив на нем своих разрушительных следов. Все такой же живой, словоохотливый, с теми же черными, без признаков седины, приглаженными на пробор волосами, с той же подвижной сеточкой морщин на сухом лице.
Он горячо обнял Вадима, своего любимца и воспитанника, жившего у него в семье в течение последних пяти лет, дружески жал руки Лаврову, по-отцовски ревниво допрашивал Вадима, как идет его практическая работа на "Майоре Комарове", хотя уже все отлично знал об этом от капитана и старшего штурмана электрохода, своих старых друзей-полярников.
Встреча была недолгой, и, с радостью узнав, что Ирина с сыном Дмитрием будет встречать всех во Владивостоке, Иван Павлович поспешил на свой дредноут. Разросшийся в пути караван, задержавшись в Амбарчике всего на несколько часов, готовился уже к выходу в море.
Последний этап перехода оказался довольно трудным. Восточный ветер усиливался, лед сплачивался и был в непрестанном движении, полыньи и разводья закрывались и открывались с невероятной быстротой, и могучему ледоколу пришлось немало поработать. Но льды пришли сюда рыхлые, полуизъеденные туманами и потеплевшей водой. Ледокол-дредноут крошил их, словно подтаявший сахар, прокладывая судам широкий канал. Все же не раз ему приходилось останавливаться, возвращаться к концу каравана, чтобы освободить его от напиравших льдов и прочистить забитый ими канал.
— Ничего, — говорил Лавров Вадиму, стоя с ним на капитанском мостике под прозрачным колпаком и наблюдая за трудной работой ледокола. — Ничего… В будущую зиму этого не будет. Усилится влияние действующих шахт, и войдет в строй шахта номер двадцать три…
— Последняя? — спросил Вадим.
— По старому плану — последняя, но по новому проекту густота шахт на гольфстримовской трассе удваивается. В будущем году между действующими шахтами начнется проходка новых, и первой из них теперь будет шахта у Берингова пролива. Тогда и перед Чукотским морем встанет такая стена, которую никакой ветер с востока не одолеет…
— И плавать по Великому Северному пути можно будет так же спокойно, как в домашней ванне, — почти с огорчением добавил Вадим. — И, стало быть, напрасно я проходил в мореходном училище курс ледовой навигации…
— Бедняжка, — рассмеялся Лавров. — Мне тебя очень жаль. Но история мало считается с отдельными романтиками, если их стремления идут вразрез с романтикой великого народа… В нашу эпоху его романтической идеей было окончательное покорение Арктики, изгнание холода из его владений. Эта идея увлекла миллионы людей, и народ победил природу еще в одной ее крепости.
— Ты просто скромничаешь, Сергей, — заметил Вадим. — Это твоя идея. Ведь все так и говорят: "Проект Лаврова", "Идея Лаврова"… Народ подхватил твою идею, сделал своей и этим обеспечил ее осуществление.
Лавров медленно и задумчиво покачал головой:
— Это ошибка, Дима… Народ никогда не увлечется, не подхватит идею, которая ему чужда, непонятна, не задевает каких-то его прежних дум, надежд, часто не осознанных еще, но постоянно в нем живущих. Идея Северного морского пути давно жила в нашем народе. Еще Ломоносов смело и уверенно говорил об этой мечте своей. Брусилов и Георгий Седов уже боролись за нее. А армия большевиков-полярников частично даже решила проблему. Оставалось лишь сказать последнее слово. Это я сделал. Если бы не я — это сделал бы какой-нибудь другой советский человек. Идея уже носилась в воздухе. Оставалось только подхватить ее…
— Что говорить! — вздохнул Вадим, — Правильно, конечно… Но многие из полярников в душе посетуют на тебя за то, что исчезнет теперь своеобразная, неповторимая красота борьбы со свирепой Арктикой… Уходит в прошлое героическая страница истории…
— Ну, мой дорогой, — усмехнулся Лавров, — тоска одиночек по милому их сердцу прошлому, по красоте героической борьбы со льдами напоминает мне сожаление любителей путешествий о старинных омнибусах, вытесненных в свое время железными дорогами. Впрочем, если тебе нравится быть пленником льда, ты сможешь испытать это сомнительное удовольствие, участвуя в научно-исследовательских экспедициях. Мы их, вероятно, ежегодно будем отправлять в загольфстримовскую арктическую область, в Центральный бассейн Ледовитого океана… Ну вот, ледокол "Сталин" вернулся на свое место, и караван пойдет дальше. Скоро будем на траверзе мыса Шмидта…
На черном экране ночи, далеко на юге, вдруг вспыхнуло зарево далеких огней, и через минуту воздух потряс громовой гул орудий. Залп следовал за залпом. Это мощные форты береговой охраны приветствовали караван.
Долго сверкали в ночи далекие вспышки огней, гремели могучие залпы…
Через сутки караван проходил по Берингову проливу, мимо мыса Дежнева, который устроил ему такую же встречу, как и мыс Шмидта.
Теперь перед караваном лежал открытый путь вплоть до Владивостока.
Задолго до появления родных берегов караван встретила многочисленная эскадра боевых кораблей Советского Тихоокеанского военно-морского флота.
Эскадра эскортировала караван до Владивостока, где его ожидала радостная встреча.
Когда прошли первые взволнованные часы торжеств, Ирина, веселая и цветущая, взошла со своим маленьким сыном Дмитрием на палубу "Майора Комарова" и горячо обняла мужа и брата.
В первый же вечер на электроходе, в празднично убранной кают-компании, состоялось маленькое "семейное" торжество: экипаж корабля принимал в свою среду нового штурмана. Капитан поздравил Вадима Денисова с благополучной сдачей его практической работы и торжественно вручил ему диплом штурмана дальнего полярного плавания. Лавров тут же передал своему юному шурину полную штурманскую форму — подарок, обещанный ему еще в порту Диксон.
Веселый пир продолжался до рассвета…
1938–1942 гг.
1
См. примечание 35
2
Электромобиль — экипаж, приводимый в движение несколькими электрическими моторами, получающими энергию от электрических аккумуляторов.
3
Электроцикл — мотоцикл, снабженный электромотором.
4
Микрорадио — карманная радиопередающая и радиопринимающая установка. Применение ее стало возможным после изобретения весьма компактных электрических аккумуляторов, питающих электрическим током передатчик. Установка микрорадио смонтирована в виде складывающейся микрофонной (телефонной) трубки, сбоку ее прикреплен стержень, который выдвигается (телескопически) вверх, образуя излучающую антенну. Внутри трубки находится аккумулятор; снаружи — диск с поворачивающейся стрелкой, с помощью которой можно менять длину излучаемой и принимаемой радиоволны.
5
Инфракрасный бинокль — За красным концом спектра находятся невидимые глазом инфракрасные лучи с длиной волны от 1 мм до 0,76 микрона. Обнаруживаются они главным образом по тепловому действию. Инфракрасный бинокль улавливает эти лучи, преобразуя их в видимые; с помощью этого бинокля можно наблюдать отдаленные предметы ночью.
6
Кондиционирование воздуха — получение и подача воздуха определенной температуры, влажности и чистоты. Установки по кондиционированию воздуха снабжаются регуляторами для охлаждения или подогрева, увлажнения или осушения, очистки его и проч. Благодаря этим установкам можно зимой и летом поддерживать в любом помещении равномерную, умеренную температуру.
7
Брасс — стиль плавания, при котором руки выбрасываются одновременно вперед и раздвигаются в обе стороны.
8
Хедер — жатвенный аппарат комбайна.
9
Геликоптер — летательный аппарат, снабженный пропеллером на вертикальной оси. Геликоптер может подниматься и садиться по вертикали, не требуя взлетной и посадочной площадки. В отличие от обычного самолета, геликоптер может неподвижно висеть в воздухе над одним и тем же местом, а в городах — перелетать с крыши одного дома на крышу другого и производить посадку прямо на улицу.
10
Ротор — вращающаяся часть машины; в геликоптерах — приспособление, вращающее пропеллер на вертикальной оси.
11
Фюзеляж — корпус самолета, внутри которого размещаются пассажиры, экипаж и грузы.
12
"Пер Гюнт" — сюита норвежского композитора Грига.
13
Электроход — речной или морской корабль, приводимый в движение электромоторами, питаемыми мощными электрическими аккумуляторами.
14
Аэромобиль — небольшой одноместный или двухместный экипаж, приводимый в движение электромоторами; приспособлен для передвижения по суше, по воде и в воздухе.
15
Орнитоптер — летательный аппарат с машущим крылом, основанный на принципе полета птиц. Держится в воздухе, как планер, восходящими токами воздуха. Приводится в движение небольшими моторами. Опытные орнитоптеры рассчитаны на приведение в движение силами самого летчика.
16
Эскалатор — самодвижущаяся лестница.
17
Книфон — свето-звуковой аппарат в виде небольшого ящика, в котором печатный текст превращается в звук, иллюстрацию, звуковое кино. Читатель может читать текст, а на откинутой крышке книфона, на небольшом экране, видеть кадры иллюстраций. В других книфонах книга в виде непрерывной визетонленты целиком переходит на экран, на котором демонстрируются и печатный текст ее и зрительно-звуковые сцены.
18
Потамология — учение о реках, составляет часть гидрологии. Гидрология — наука, изучающая водные ресурсы на земле и круговорот воды в природе.
19
Гидрогеология — наука, изучающая происхождение и движение грунтовых вод.
20
Астрофизика — наука о составе и строении небесных тел, об их физических и химических свойствах.
21
Электрифицированная одежда (или одеяло) представляет собой обычную одежду, внутри которой проложена изолированная проволока. Через проволоку пропускается по мере необходимости электрический ток, согревающий ее до определенной температуры. Благодаря этому электрифицированная одежда равномерно и хорошо обогревает.
22
Стратоплан — самолет для полета в стратосфере, на высоте свыше 11 километров, где может быть развита скорость полета свыше 1000 километров в час. Кабина стратоплана герметически закрывается, и в нее подается кондиционированный воздух.
23
Космический — мировой.
24
См. научно-фантастический роман Г.Адамова "Победители недр".
25
Ньюфаундленд — порода крупных собак (по названию полуострова Ньюфаундленд).
26
Кинология — наука о собаках и методах разведения их.
27
Метеорология — наука о физическом состоянии атмосферы и совершающихся в ней явлениях; изучает изменения погоды и ее элементы: температуру, давление, влажность и электрическое состояние, солнечное сияние, облачность, осадки, ветер.
28
Трос — стальной канат, сплетенный или скрученный из стальных проволок, иногда с пеньковой сердцевиной внутри.
29
Гласиология — наука о льдах, их свойствах, движении.
30
Телевизефонная сеть — система проволочной и беспроволочной (радио) передачи с радиовещательной и телевизионной станции изображений движущихся предметов и звуков (речь, пение, музыка).
31
Климатология — наука, изучающая среднее состояние метеорологических элементов (климата) в различных частях земного шара.
32
Телевизефон — аппарат для приема на особом экране движущихся предметов, а также звуков. Передача производится по радио, а с радиузлов — по проводам.
33
Хронометр — особо точные часы, применяемые при астрономических наблюдениях, а также для установления географической широты и долготы и во всех случаях, когда требуется особая точность определения времени.
34
Секстан — инструмент для определения углов при астрономических и навигационных наблюдениях. Представляет собой шестую часть круга (60°), разделенную на градусы и снабженную зеркальцем и небольшой трубой.
35
Катаклизм — грандиозная катастрофа, резкий переворот в природе, потоп.
36
Инфракрасный сторож — прибор, автоматически открывающий и закрывающий двери. Работа прибора основана на использовании невидимого инфракрасного луча, который проходят перед дверью так, что человек при приближении к ней обязательно пересекает луч и тем самым приводит в действие электрический механизм, открывающий и закрывающий дверь или посылающий предупредительный звонок.
37
Поляризованное стекло — стекло, преломляющее и отражающее под определенным углом световые лучи.
38
Амфибия — в данном случае экипаж, снабженный приспособлением для передвижения по воде и по суше.
39
Гидромонитор — аппарат, выбрасывающий под большим давлением струю воды. Эта струя отрывает часть породы от общей массы, размельчает породу и транспортирует ее в размытом и разжиженном состоянии к погрузочному пункту. Гидромеханизация с помощью гидромониторов находит широкое применение на крупных строительствах при производстве земляных работ, а также при добыче полезных ископаемых — каменного и бурого угля, торфа, руд, черных и цветных металлов.
40
Скафандр — специальный костюм с приспособлением для дыхания водолазов во время подводных работ, а также летчиков-стратонавтов, поднимающихся в высокие слои атмосферы с разреженным воздухом. Антирадиевые скафандры предохраняют водолаза от действия вредных для здоровья, а иногда и опасных для жизни радиевых лучей.
41
Шихта — совокупность материалов, перерабатываемых в металлургическом процессе. В мартеновскую печь для выплавки стали загружают шихту, состоящую из железного лома, чугуна, железной руды, известняка, ферросплавов. Все эти материалы подаются в определенней последовательности в точных количествах.
42
Пирометр — прибор для измерения высоких температур (выше 600°).
43
Фотоэлемент — прибор, обладающий свойством изменять свое сопротивление электрическому току при изменении интенсивности его освещения.
44
Нюанс — оттенок.
45
Реле — чувствительный электромагнитный прибор, служащий для включения или выключения какого либо приспособления или машины.
46
Дефектоскоп — прибор для обнаружения дефектов в металлических изделиях, вызываемых наличием в них скрытых пороков — раковин, трещин, инородных включений. В дефектоскопах используются законы изменения магнитного поля или сопротивления токам Фуко — при наличии в металле дефектов; кроме того, применяется рентгеновский анализ, состоящий из просвечивания исследуемых металлических конструкций рентгеновскими лучами.
47
Электрокар — тележка, приводимая в движение электромотором, питаемым током от аккумулятора или от подвешенного провода с помощью дуги и троллея (ролика в конце дуги для поддержания контакта с проводом, по которому подается электроэнергия).
48
Вакуум — разрежение воздуха.
49
Ропак — высокая, массивная ледяная глыба в виде скалы или утеса.
50
Георадиограмма — диаграмма, показывающая радиоактивность отдельных слоев земли на исследуемых участках.
51
Мензурка — высокий стакан с делениями для определения объема жидкости.
52
Георадиограф — самопишущий прибор, показывающий радиоактивность отдельных слоев земли.
53
Батолит — огромная, неправильной формы масса породы определенного состава, залегающая глубоко внутри земли.
54
Магма — расплавленная масса, находящаяся в глубоких слоях земной коры; представляет собой сложный расплав силикатов с тяжелыми металлами. При остывании магмы происходит сложный процесс ее распада на магматические горные породы.
55
Электрополотенце — трубка, подающая воздух, нагретый с помощью спирали, по которой пропускают электрический ток.
56
См. научно-фантастический роман Гр. Адамова "Тайна двух океанов". Детгиз, 1941 год.
57
Синтетическая химия — наука и технология получения сложных химических соединений из более простых или получение соединений непосредственно из элементов.
58
Озон (видоизменение кислорода) газ, являющийся окислителем. Применяется для очистки воды и воздуха. Озонированный воздух — очищенный, обеззараженный, лишенный дурного запаха.
59
Газгольдер — резервуар для хранения газа.
60
Брандспойт — металлический наконечник шланга (гибкой трубы из прорезиненной водонепроницаемой ткани).
61
Базальт — плотная темная стеклообразная вулканическая порода сложного состава.
62
Диорит — горная, весьма прочная порода, состоящая из полевого шпата, роговой обманки, магнезии и слюды.
63
Диспетчерская система — управление транспортными операциями, производственным процессом и отдельными механизмами из одного центра. Применяется на железных дорогах (руководство движением поездов на участке, железнодорожном узле), на крупных промышленных предприятиях, электросетях.
64
Метаморфизация — преобразование минерального вещества (породы) с сохранением его прежнего химического состава; метаморфизация происходит под действием высокой температуры, либо высокого давления, или, наконец, вследствие химического воздействия.
65
Форштевень — массивная часть судна, является продолжением киля (четырехгранного бруса, идущего вдоль нижней части судна от кормы до носа), образует носовую оконечность корабля.
66
Агрегат — соединение двух или нескольких машин.
67
Интрузия — внедрение магмы в осадочные и метаморфизированные породы. Интрузивные горные породы образуются при медленном застывании магмы в глубинах земной коры, к ним относятся гранит, диорит, сиенит и другие.
68
Сейсмическая карта — нанесенная на географическую карту запись колебаний земной коры на отдельных участках.
69
Эпицентр — точка, линия или площадь на поверхности земли, соответствующая при землетрясении направлению подземного удара.
70
Электробус — автобус, приводимый в движение электромотором, получающим электроэнергию от аккумулятора.
71
Теплоход — судно, приводимое в движение двигателем внутреннего сгорания.
72
Радиопеленгатор — прибор для определения местонахождения передающей радиостанции; радиопеленгатором устанавливается точный курс корабля, самолета, стратоплана.
73
Эхолот — электрический прибор для измерения глубины воды в море; в этом приборе измеряется время, за которое звук доходит до морского дна и возвращается обратно в виде эха.
74
Ультразвуковой прожектор — установка для согласованной работы звукоуловителя и прожектора (прибора для получения направленного весьма яркого пучка свита). Ультразвуковой прожектор позволяет установить местонахождение самолета в воздухе, судна на воде или подводной лодки и автоматически (с помощью электромоторов) направить на приближающийся объект луч прожектора.
75
Радиолокация — способ определения с помощью направленного пучка радиоволн предметов, находящихся в атмосфере, на поверхности земли, на воде и под водой. Действие приборов радиолокации основано на принципе отражения радиоволн от встречного на их пути препятствия и улавливания отраженных волн на экране наблюдательного пункта. Ночью, в тумане наблюдатель имеет возможность задолго определять приближение судна, самолета, подводной лодки, а также берега, горы, подводных камней и т. п.
76
Ватерлиния — черта вдоль борта судна, показывающая линию нормальной осадки судна в воде.
77
Бургомистр — большая полярная чайка.
78
Ванты — пеньковые или стальные тросы, служащие для крепленая мачты к борту судна.
79
Термит — смесь порошкообразного алюминия с окислами некоторых металлов (железа, меди), применяется для сварки и отливки металлических изделий, а также в производстве зажигательных бомб; термит горит с температурой около 3500 градусов.
80
Адская машина — начиненный взрывчатым материалом снаряд, снабженный часовым механизмом. Взрыв происходит в заранее назначенный момент.
81
Петровидол, или петривидол, — сильное взрывчатое вещество, применяется для подрывных работ в самых твердых породах.
82
Магмоманометр — прибор показывающий давление магмы — расплавленной массы, находящейся внутри земного шара, между слоем коры и центральным ядром Земли.
83
Экспресс-анализ — определение элементов или групп элементов, входящих в состав различных сложных веществ, ускоренным методом, дающим немедленный результат. Поляриметричеслий экспресс-анализ производится с помощью особого прибора — поляриметра измеряющего степень отражения и преломления луча света при его прохождении через раствор исследуемого вещества. Поляриметр показывает содержание каждого элемента.
84
Долготомер — прибор для определения географической долготы.
85
Рефракция — преломление световых лучей при переходе их из одной среды в другую. При преломлении лучей от светил в земной атмосфере светила кажется выше своего действительного положения.
86
Амортизатор — приспособление для смягчения толчков, получаемых автомобилем при езде по неровной дороге, самолетом — при посадке.
87
Гало — круги около небесных светил, наблюдаемые, когда между светилом и наблюдателем находится облако из ледяных кристалликов.
88
Циклон — область слабого давления воздуха и вихревого движения атмосферы, вызывает большею облачность и осадки, иногда бури и ураганы.
89
Антициклон — область высокого барометрического давления, в центре ее наблюдаются нисходящие токи воздуха, вызывающие тихую погоду при безоблачном небе.
90
Мираж — оптическое явление, состоящее в том, что скрытые за горизонтов предметы становятся видимыми, отражаясь в воздухе.
91
Айсберг — ледяная гора.
92
Офиура, или змеехвостка, — морское иглокожее животное, близкое по типу к морским звездам; отличается тонкими членистыми и подвижными лучами.
93
Асцидия — мягкотелое морское животное; имеет вид мешка со студенистой оболочкой.
94
Полип — морское животное с телом в виде длинного мешка, неподвижно прикрепленного одним концом ко дну; на другом конце мешка расположен рот с венчиком щупалец.
95
Голотурия — морское иглокожее животное.
96
Актиния — морское животное; имеет форму мешка с отверстием, окруженным щупальцами в виде лучей.
97
Моллюски — мягкотелые животные, большей частью покрытые раковинами, водятся в воде и на суше.
98
Магнитное склонение — угол между географическим меридианом и направлением магнитной стрелки компаса.
99
Клаксон — механический или электрический звуковой сигнал.
100
Полиметаллические руды — руды, содержащие несколько металлов, например: серебро-свинцово-цинковые или железо-хромо-никелевые.
101
Гидробиология — наука, изучающая жизнь организмов в водной среде.
|