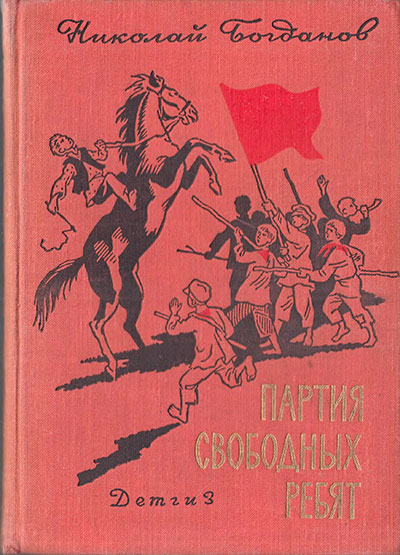Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
СОДЕРЖАНИЕ
Выстрел в ночном 3
Немного о прозвищах 6
Серёжка-урван коня угнал 9
Как встретились Иван да Марья 13
По следам Кочеткова 15
После драки 18
Необыкновенное собрание 21
Что такое ПСР? 24
Кому медку, кому деготьку 27
Так страшней 30
Неожиданный подарок 34
Грозный Помгол 39
Гнев Тимофея Шпагина 42
Битва на колосковом поле 45
Под Красным знаменем 52
Долг платежом красен 55
Есть такая партия! 56
Даёшь вожатого! 61
Вожатый в юбке 63
Учительница в штанах 66
Пионерский костёр 73
Сказка про стального коня 76
Обед у кулака 78
Обед у бедняка 81
Когда кулаку смешно 89
Зима — как не зима 91
Когда кулаку тошно 95
Тайна синего клубка 97
Бриллиантовый сбор 103
Всадники стального коня 109
Споры-разговоры 114
Тайная стража 117
Паруса над половодьем 120
Опасные гости 124
Лети, спеши, красная эстафета! 129
Ещё одна тайна 133
Пешком, верхом, на велосипеде 139
А тем временем в Метёлкине 145
Велосипед, что может быть лучше! 152
В когтях Орла 154
Труби, горнист! 161
Нас много — таких мальчишек! 164
Перочинный ножик и щепка 168
Кулацкое притворство 173
О барском богатстве и волчьем братстве 176
Запомним, ребята, как бил барабан 182
ВЫСТРЕЛ В НОЧНОМ
Пионерское движение никто не выдумывал, не придумывал, — оно возникло естественно из горячего стремления рабочих-подростков принять участие в революции, в борьбе за лучшую жизнь, из желания помочь своим отцам и старшим братьям утвердить советскую власть. Так говорила когда-то Надежда Константиновна Крупская.
В этой книге живо и увлекательно рассказывается о тех днях, когда и в деревне возникали детские революционные организации, ставшие затем пионерскими отрядами.
Так возникла и «Партия свободных ребят» — организация, совершившая немало смелых подви-гов и наивных ошибок и много добрых дел в борьбе за новую жизнь, за лучшее будущее.
Современные пионеры узнают, читая книгу, много интересного о овоих предшественниках — первых пионерах. Её написал свидетель и участник пионерской истории, один из первых вожатых, писатель Николай Владимирович Богданов, известный читателям по книгам: «О смелых и умелых», «Один из первых», «Когда я был вожатым».
Однажды на свет костра, зажжённого на берегу реки метёлкинскими ребятами, приехавшими в ночное, вышел неизвестный человек в солдатской шинели внакидку, с тощим вещевым мешком за плечами. Он слегка прихрамывал, опираясь на тросточку, вырезанную из прибрежного тальника. Стоптанные сапоги были в пыли: по-видимому, шёл издалека.
Но ни одна собака не брехнула на незнакомца, не почуяв в нём чужого человека.
Он полюбовался на тени ребят, отражавшиеся в реке, послушал, как вкусно хрустят кони сочную траву, пригляделся к деду-табунщику, восседавшему среди ребят. Огромная белая борода его казалась розовой при огне. Заломив шапку, дед с упоением рассказывал старую-престарую побаску про солдата-ловкача и обманутых купчих:
— Идёт-бредёт солдат, призадумался. Денег нет табак весь, а есть хотца. Видит — под мостом ворона дохлая. Взял её на всякий случай, ощипал. Синяя, тощая, а бросать жалко... трофей! Вошёл в город, подошёл к богатым домам и давай под окошком выпевать:
«А вот пава заморская, синяя, как слива угорская! Кто паву с приправой не едал, тот заграничного вкуса не видал. Отменно райская птица, цена — не подступиться!»
Заслышав такое, купчихи окошки открывают и друг перед дружкой цену набивают, зазывают солдата:
«Зайди-ка, зайди, служивый».
Послушал путник, покачал головой и усмехнулся: во все времена хитрые старики табунщики, чтобы самим не заснуть да ребят потешить, рассказывали в ночном такие сказки-побаски. Две революции прошли, гражданская война недавно отгремела, и мальчишка вон в будёновке сидит, — а дед рассказывает по-прежнему такую чепуху, что слушать тошно.
Не успел солдат подумать это, как в ночи раздался разбойничий посвист, топот коней, щёлканье кнутов, и все сидевшие у костра мальчишки вскочили с криком «Алдохины!» и бросились к своим лошадям. Только один, в будёновке, замешкался у костра. Он тоже порывался бежать, но наступал босыми ногами на полы длинной свиты, волочившейся по земле, и топтался на месте.
И тут его настигли всадники. Это были тоже мальчишки на неосёдланных конях. Наехав на костёр, от которого никак не мог отбежать паренёк в длиннополой свите, они стали крутиться вокруг и доставать его кнутами.
Паренёк отбивался уздечкой, закрывая глаза рукавом.
— Не уйдёшь, Мама-каши, попробуй нашей! — кричали всадники, стараясь пронять паренька через свиту.
— Вы что, конями давить? — всхлипнул вдруг паренёк и, выхватив из костра головню, стал тыкать в морды лошадей.
Кони шарахнулись в стороны. Один поднялся на дыбы, и всадник скатился с него, как с горы.
Мама-каши насел на него сверху и стал колотить головешкой.
На помощь свалившемуся прискакали сразу двое и ударами кнутов сбили с паренька будёновку. И при скупом свете костра путник разглядел, что, освобождённые из-под головного убора, на плечи Мама-каши вывалились две косы.
Один из всадников сразу воспользовался этим и, перегнувшись с коня, ухватил девчонку за косы и потащил за конём, как какой-нибудь дикий половец полонянку.
Тут незнакомец, несколько растерявшийся при виде внезапной мальчишеской драки, выхватил из кармана наган, крикнул страшным голосом:
— Кончай базар! — и выпалил в воздух.
И крик, и выстрел ошеломили дерущихся, как гром среди ясного неба.
Всадники повернули прочь и скрылись так же внезапно, как появились.
А хозяева костра стали собираться к огню кто на коне, кто пеший. Кто утирая нос, кто прихрамывая.
— Это что ж такое? — сказал солдат, убирая в карман револьвер. — Это что же у вас делается, на пятом году советской власти?
Никто не ответил. Все ребята шумно дышали.
— Кабы не косы, я бы им показала, — отозвалась баском Мама-каши, заправляя волосы под будёновку.
— Кабы они лошадей в болото не загнали, мы бы им не поддались...
— А то мы спешенные, а они на конях.
— Я одного стащил за ногу, а это Макарка... батрак — у него кулаки мужицкие... Годами-то мал, а силой велик. Кабы он за нас был, мы бы кулачью показали... — сказал лобастый мальчишка, отирая пот драки.
Все словно застеснялись, что незнакомцу пришлось за них вступиться и прекратить драку своим вооружённым вмешательством.
НЕМНОГО О ПРОЗВИЩАХ
— А ну давай все к костру. Да огня поярче. Поговорим толком, что к чему! — скомандовал солдат и, сбросив с плеч шинель, уселся на нее и стал закуривать трубку, достав красный уголёк.
Ребята подкинули хворосту, и костёр разгорелся.
— Что, заехали на чужой выпас, что ли? В чужие луга? Это лощинка не вашей деревни?
— Наши это луга, — ответил лобастый, — и на той, и на этой стороне Мокши — это всё наше, метёл-кинское.
— Вы из Метёлкина, значит. А эти откуда же, свистуны?
— Это не свистуны, это Алдохины. Они нас вот уж с которого лужка сгоняют. Для наших, говорят, коней — где трава поровней, а по вашим, говорят, клячам — вся полынь плачет!..
— И вы не можете справиться с захватчиками? Да много ли их?
— Не так много. Да больно уж они дружные, кулачьё, — как волчья стая.
— Значит, вы беднота, сиротство?
— То-то вот, у нас, почитай, у половины отцов нет. Кто на германской, кто на гражданской войне пропал. Вот Антошка-лутошка — он даже отца не знает.
— Я мамкин, — улыбнулся мальчик, длинный, тонкий и белый, как ободранная липка-лутошка.
— А вот у Мамы-каши отец безногим с войны вернулся — не работник, ребят вовсе нету, одни девчонки.., Вот и приходится ей с нами в ночное ездить.
— Странное у тебя прозвище, — удивился прохожий.
При этих словах девчонка надвинула поглубже на лоб отцовскую будёновку, прикрывавшую косы.
— А это у неё с детства. Ребятишек в дому было много, а каши на них было мало, вот она всё и ревела: «Мама, каши» да «мама, каши». Так её и прозвали. Настоящее-то у неё имя — Даша.
— У нас всякие прозвища есть: вон Серёжка, а зовут его Урван. А по какой причине? Было такое дело. Во время пожара курица обгорела, он её лаптем стукнул, а из неё яичко выкатилось. Серёжка
подобрал да и говорит: «Ого — печёное, тёпленькое», — да тут же и съел! Увидел это богатый мужик Алдохин и посмеялся: «Да ты, говорит, урван, у горелой курицы яйцо урвал». Вот с тех пор и пошло.
Выяснилось, что лобастого паренька зовут Стёп-ка-чурбан за бесчувственность: сколько его ни бьют, никогда не плачет. Одного мальчишку Данилка-бо-лилка — за его болезность. Ещё одного Ванюшка — без штан: ему до семи лет штанов не покупали, в рубашонке бегал.
Прохожий слушал и хмурился.
— Значит, вся беднота у вас с уличными кличками, а богатенькие с чистенькими именами?
Выяснилось, что у Алдохиных есть Гришки, Ни-кишки, Петьки и Федьки, без всяких прозвищ. А если и прозвища, то ласковые, не насмешливые. Есть Манечка-беляночка, Танечка-красавочка, Ванёк-го-голёк.
— Что ж это, ваши богатенькие не только травы — хорошие прозвища присвоили? — Солдат выбил о каблук пепел из трубки... — Не годится, — сказал он, помолчав, — так не годится. Не за то мы боролись... Коммунисты у вас есть, комсомольцы?
— Есть один партийный. Председатель сельского Совета Шпагин. А комсомольцев в нашей деревне нету. Были двое, да ушли на польский фронт и не вернулись.
— А для мальчишков-то партии нету? — вздохнул Антошка-лутошка. — Не слыхали вы, дядя?
Солдат затруднился с ответом.
— Чего-нибудь должно быть, — сказал он. — Нельзя же ребят без организации оставить. Плохо без партии. Кабы не было у нас партии большевиков, мы бы власть буржуев не свергли. Партия нас орга-
низовала. От четырнадцати держав отбились... Не то что от алдохинцев.
Потом огляделся и спросил, смотря почему-то в сторону:
— А что, ребята, цела изба на краю села? Собой невеличка, с петухами на коньке?
— С петухами? Мы их из озорства давно камнями посшибали, — выпалил простодушный Антошка-лутошка, который никогда ни в чём не мог соврать и схитрить.
— А изба цела, цела! — радостно сказал Степан-чурбан.
— Только окна забиты, — опять выскочил вперёд Антошка.
— Ну, а чего же не забить их было, когда тётя Маша в совхоз работать ушла. Ей без мужика да без лошади нельзя было прокормиться. Наши её видали. Коров доит и песни поёт.
— Поёт? — Солдат почему-то вдруг поперхнулся. — Это хорошо, когда человек поёт!
Он быстро встал, накинул на плечи видавшую виды шинель, поправил на спине мешок:
— Ну, спасибо за компанию, бывайте здоровень-ки, хлопцы.
И, сказав эти нездешние слова, так же нечаянно ушёл, как появился.
СЕРЕЖКА-УРВАН КОНЯ УГНАЛ
Оставшись одни, ребята стали гадать, кто же это мог быть? Никого из них он не знает. И они такого не помнят. Может, чужой какой-нибудь? Почему же тогда Марьину избушку спрашивал? Уж не Иван ли это
Кочетков, муж тёти Маши, пропавший без вести ещё в царскую войну? Его сразу после свадьбы, говорят, забрали, и с тех пор как сгинул.
Ребята знали ход в заколоченную избу и много раз, пробравшись в неё, тайком играли в «больших». Девчата хозяйничали как бабы: топили печь, пекли хлебы, собирали на стол, а ребята вели себя как мужики: садились на лавку в передний угол, стучали кулаком по столу, командовали: «Что есть в печи, всё на стол мечи!» Представляли разное... Даже свадьбы играли, понарошку, конечно.
И в этой пустой холодной избе, при скупом свете, пробивавшемся сквозь заколоченные досками окна, разглядели они однажды на карточке и Марьиного мужа. Сидел он на громадном коне, лихо заломив картуз, и в обеих руках держал по сабле.
Похоже, что он. Как из нагана-то стрельнул! Да каким громким голосом крикнул.
Долго судили-рядили ребята, И все сошлись на том, что им первым удалось повидать пропавшего без вести Иванам
И долго досадовали, что они ему о своих делах рассказали, а у него-то так ничего и не расспросили. Вот чудаки! Упустили случай послушать ещё раз про гражданскую войну!
Неужели человек этот ушёл и не вернётся? И никогда больше они его не увидят?
— Наш, — успокаивал их дед Кирьян, — Ванюшка Кочетков, я его сразу узнал, только сделал вид, что не угадываю, нарочно...
Тревожились ребята напрасно. Иван Кочетков дальше Метёлкина не ушёл. Возвращаясь утром из ночного, увидели они, что все окошки пустовавшей избы на краю села растворены, а из избы вьётся
дымок. А на улице бабы толпятся и на разные голоса судачат про необыкновенный случай!
— Иван-пропавший вернулся!
И чего только по этому поводу, не придумывают, только слушай?
— С немцем воевал, панов бил, японцев гнал, до края земли дошёл. Теперь с Дальнего Востока вернулся. Четырнадцать ран на нём! С четырнадцатью державами воевал! И всё нипочём. Бравый такой, хоть сейчас жениться. В избе порядок наводит, а за Машей своей в совхоз не послал. Знать, обиделся. Покинула, мол, дом, ну и ладно. Была бы хата, а хозяйка найдётся.,. А чего же, за этим дело не станет. Мало ли вдов молодых да девок холостых. Вон Алдо-хина младшая сестра, до чего глазами востра. Хоть рябовата, да таровата. Дом под железной крышей, пара коней, стадо свиней, к кому и посвататься, как не к ней!
Услышал такой разговор Серёжка-урван, и тревожно забилось его сердце... Неужели Иван покинет свою Марью? Да женится на рябой Дарье? У которой лицо тёмное, как гречневый блин с дырочками...
Пробрался он поближе к раскрытым окошкам избы. Под ними в лопухах и крапиве чуть ли не вся сельская детвора уже битком набилась.
В тесноте, да не в обиде. Даже вчерашние распри на время забылись. Рядом с Антошкой-лутошкой, с Мама-каши Алдохины Гришки и Федьки теснотятся. Всем любопытно: чего солдат делает?
А он сел за стол и бреется. Бритва у него не простая, а золотая. А зеркало круглое и на ножках. Туда-сюда вертится, в обе стороны можно смотреться. Как повернёт его Иван, так во все стороны зайчики!
Смотрит Серёжка и вспоминает, как в этой избе жила одна-одинёшенька тётя Маша. Как она его, Серёжку, когда ещё маленьким был, к себе жить звала. Портки ему чинила, кашей кормила, вместо матери была... И жалко ему тётю Машу становится так, что терпения нет...
Неужели же променяет её Иван на Дарью, от которой Серёжка немало бед потерпел? Забрался как-то в кулацкий сад, да невпопад. Сцапала его злая девка, сняла штаны, настегала крапивой и в одной рубашке на улицу пустила. Бежал он с отчаянным рёвом, а Алдохины дети вдогонку кричали:
— Серёжка-урван, без штанов удрал!
Оглянулся Сергей на своих насмешников — вот
они все тут! И вдруг мелькнула у него озорная мысль...
Выполз он из лопухов потихонечку, огляделся и дал ходу мимо плетней к Алдохиным дворам. Смотрит — все их кони в загородке, весь табун. Алдохины бабы у Солдатовой избы, все ребята под окнами, а мужикам не до коней.
Подлез под загородку Серёжка, снял с вороного жеребца путы, захлестнул вместо
уздечки, вскочил верхом, приударил пятками. Взвился конь на дыбы. Махнул через загородку, сломал жердину, перескочил канаву и пошёл в чисто поле!
КАК ВСТРЕТИЛИСЬ ИВАН ДА МАРЬЯ
Мчится Серёжка, вцепившись в гриву. Рубаха пузырём. Ветер в ушах свистит. Сердце ликует: «Ай да Урван, у Алдохиных коня угнал!»
А конь резвый, машистый. До совхоза быстро домчал.
Маша с доярками как раз к водопою шла, на полдневную дойку.
Все доярки с полотенцами, в руках вёдра гремят. Марья поёт, девчата подхватывают.
Завидели Серёжку:
— Гляди-ка — верховой к нам!
— Ой, кому-то вести!
И не знала Маша, не ждала не гадала, что вести к ней. Лишь только вымолвил Сергей:
— Иван...
Так и опустилась наземь. И вёдра с бугорка в речку покатились...
Хотела бегом в Метёлкино бежать. Да сам директор дрожки велел ей дать. В дрожки совхозного рысака запрягли. А Алдохиного коня — на пристяжку.
И помчались...
Вот так тётя Маша дома и очутилась. И ничего Серёжке за коня не было. Бабы его удальству дивились. Мужики одобряли — молодец! Силантий хотя и
злился, а тронуть не посмел. А ребята потом долго слушали, как Иван и Марья разговаривали:
— Как же ты, Маша, без меня жила?
— Всё тебя, Ваня, ждала.
— Чего ж ты, Маша, из дому ушла?
— На одинокой полоске прокормиться не могла.
— Как же ты, Маша, с землёй поступила, кото^ рую нам советская власть дала?
— Силантий Алдохин в аренду взял. За половину урожая.
— Значит, нет у нас с тобой, Маша, ни скота, ни пашни... Одна изба и та гола. Ни кола, ни двора...
Молчит Маша.
Примолкли и ребята. Задумались. Как же теперь Иван да Марья жить будут?
Землю Ивану дадут. А где коня взять? А где плуг? Семена опять же нужны. Комитет бедноты, конечно, поможет. А всё-таки трудно ему будет хозяйством обзаводиться. Не иначе, как с Машей в совхоз уйдёт. Или на какую-нибудь должность поступит.
Так решили за Ивана ребята.
Но Кочетков поступил по-своему:
— Крестьянином я был, Маша, крестьянином и останусь. Землю буду пахать. Вот мой сказ!
И Маша ему не перечила.
Через недельку принесла она в дом поросёнка, а потом привела телёнка. В совхозе ей на обзаведение дали. Так завелась у них скотинка. Задымилась по утрам труба ожившей избы. Запахло свежим хлебом. Затеплился по вечерам огонёк в окошках. Началась жизнь. И ребята вокруг избы вились, как комары.
Интересовала их, конечно, не изба, а её хозяин Иван Кочетков. Куда он — туда и они. Где он — тут и они.
Зайдет Иван к кузнецу Агею у огонька погреться, у наковальни поразмяться — ребята в щели кузни все глаза уставят.
Агей одной рукой мех тянет, горн раздувает, другой рукой, захватив клещами раскалённую железину на наковальне, её поворачивает. А Иван молотом бьёт. Ж-жах! Ж-дах! Искры летят. Красная железина малиновой становится, фиолетовой и, пока мягкая, в лемех превращается. Или в сошник, узкий и острый, как коровий рог.
— Ишь ты, не разучился! — дивится Агей.
— Чего смолоду узнаешь — век не забудешь, — отвечает Иван.
— Ни пахать, ни косить не забыл, вояка?
— Нет, дядя Агей. Соскучился по крестьянству. Терпенья нет... Где бы ни был, на горах, на морях, а всё родные нивы снились...
— Ну что же, вот скоро, осенью, выделим тебе земли, паши да сей, сколько твоей душеньке будет угодно.
— Душеньке моей много угодно. Сколько глаз видит, пахать хочется. На одинокой полоске не разгуляешься!
— Это верно, — говорит Агей. — Мы вот со старухой как были бедняки, так и осталися. Землицей-то нас революция вроде всех ровно наделила. Да ведь на двоих не то что на семерых. Вон у Силана Алдохина девять душ. И раньше кулаком был, а теперь ему земли ещё больше привалило...
— Значит, побогатели у вас многосемейные?
— Да нет, какое там! Иные многосемейные ещё бедней стали. Возьми Кузьму-инвалида, возьми
Авдотью-беду, детей полны закрома, а в амбаре ни зерна.
— Это почему же так?
Серёжка-урван и Даша Мама-каши ещё плотнен к щелям кузни прижимаются. Про их семьи речь идёт.
— Земли-то им тоже от новой власти ещё больше Алдохина привалило, да не та у них сила. Силан и прежде был крепок. А как помещика громили — ещё подкрепился. Вы-то, солдаты, за родину воевали, а кулаки здесь не зевали. Силан пару коней с барского двора свёл, да плуг в придачу, да жнейку, да веялку... А Авдотье-беде дал слабосильную клячу. Авдотья с малыми ребятами никак с землёй не управится. А он не только свой надел, ещё мой поддел, да у твоей Маши подцепил. Да у сельсовета неделённый клин, который для новорождённых и новоприбывших бережётся, в аренду берёт да засевает. Вот как кулак округлился!
Всё верно. Знают это ребята. Не врёт кузнец.
Хмурится Иван Кочетков, слушая такие вести, и из кузни идёт в сельсовет.
Сядет рядом с Тимофеем Шпагиным, председателем, и скажет:
— Ты чего же, Тимофей, смотришь, партийный ты человек? У тебя кулак брюхо округляет, а бедняк тощает?
Слыша эти слова, Серёжка даже поясок на рубахе подтягивает, словно о нём речь идёт.
— Не так просто, Иван Федотович, не так просто... Боремся по мере своих сил. Комитет бедноты, вот...
— А чего же ты общественную землю не комитету бедноты, а Силантию Алдохину сдаёшь?
— Ах ты, мил человек! Так ведь они, комитетчики, со своей-то землёй кое-как управляются. Где им лишнюю поднять? Тягла ж нет!
Не врёт Тимофей, тягла у бедноты действительно нехватка. Ребята по себе знают. Один конь плуга не тянет, а соха мелко пашет. Не тот урожай.
— Что ж, Силан — он на то и силан... Что ему власть не даёт, то силой берёт. Не пустовать же общественной земле. Мужики уж так решили: сдавай её, Тимофей, кулачью в аренду. Пусть они хоть канцелярию твою оплачивают.
— Ловко это вы придумали, кулаки вам копейку, а вы им рубль!
— Что поделаешь, другого выхода нету. Вот поживёшь — сам поймёшь. Придёшь — мне скажешь, когда свою полоску Силану сдашь!
— Нет, не сдам! Уж если я Антанте не поддался, кулакам и подавно! Не за то я кровь проливал, чтобы родную нашу землю кулакам отдать! Врёшь ты, Тимофей, чего-то! А что партия говорит по этому вопросу?
— Партия говорит вот что: организуйтесь, бедняки, в товарищества по совместной обработке земли. В ТОЗы...
— Ну, так что же?
— Не идёт у нас это дело... Не дружны мы... Партийный я тут один. А один в поле...
— Вот и опять врёшь, не один ты, нас двое! Подберём третьего — будет ячейка партии!
И при эти словах видят ребята, как показывает Иван Кочетков Тимофею заветный красный билет.
И радостно ребятам, они первые, ещё в ночном, догадались, что солдат-то был не простой, а партийный!
Слова о партии, сказанные в ночном Иваном Кочетковым, крепко запали в сердца ребят. Но, как семена, попавшие в землю, взошли не сразу, а после обильного полива. Да не просто полива, а слезами горючими и обильными.
Случилось это вскоре после драки в ночном, про которую не забыли Алдохины ребята. Затаили злобу на бедноту, которую не удалось с хорошего травного места согнать.
Пошёл Степан утречком в речку окунуться. Только рубашку через голову стал стягивать — откуда ни возьмись, Алдохин Мишка:
— Эй ты, чурбан, с утра воду не погань!
— А ты спи, да не просыпай, пораньше ныряй!
— Ну-ну, не учи. Это наша купальня.
— Почему это ваша?
— Тут хороший песок, а напротив лесок.
— Нашёлся побасник, река не заказник. Она вами не куплена. Забором не огорожена.
— Значит, огорожена, если моими шагами охо-жена!
Мишка прошёлся петухом, провёл по берегу палкой черту и стал дразниться:
— Вот попробуй перелезть! А ну перешагни. Вот увидишь, чего тебе будет.
— И перешагну.
— Ан не перешагнёшь.
Только Степан перешагнул — Мишка хвать его по уху. Стёпа — сдачи.
Не успел оглянуться — за Мишку заступился Гришка, за Гришку — Никишка. И вот уже на месте драки вся Алдохина родня.
Да так отделали Степана, что вместо купания кинулся он бежать прочь от реки, обливаясь слезами. Чтобы не стыдно было реветь, бежал не по улице, а по огородам, бахчами да конопляниками.
И тут чуть не столкнулся с Серёжкой. Навстречу ему Урван. Бежит, слёзы роняет, здоровенный синяк под глазом ладонью прикрывает.
Смахнул рукавом Степан свои слёзы и сразу к другу:
— Кто это тебя разукрасил?
— «Кто, кто», сам знаешь кто, — всхлипнул Серёжа, размазывая по пыльным щекам обильные потоки слёз.
— Как это у них сил хватает! — удивился Степан, только что сражавшийся чуть не со всеми Алдохи-ными.
— Как? Очень просто: ихние мужики на меня Макарку натравили... А у него кулаки знаешь какие, батрацкие.
— Вот вражья сила, — возмутился Степан, — чужими кулаками нас бьют! Нет, вот что, Урван, нужна нам своя партия. Без партии худо нам будет! Биты будем, пока не организуемся... Слыхал, что Кочетков про партию сказал: в ней вся сила!
Урван сразу всхлипывать перестал.
— Мы им отпор дадим, подожди, вот организуемся только!
— А чего ждать, хоть сейчас соберём собрание, откроем заседание, — быстро согласился скорый на дела Урван.
— Ты постой, не егози. Это дело не шуточное. Тут надо всё обдумать. Зря не трепаться. Ребят самых стоящих подобрать.
— Подберём! Двое уже есть! Ты да я... Твои братья да мои сватья!
— Нет, брат, это у кулаков так, по родству да по кумовству; у большаков так не бывает.
— У большевиков.
— Ну да... у большаков родня по мысли, когда все заодно.
— Ну вот, и у нас будет партия маленьких большевиков! — выпалил Серёжка, и глаза у него засверкали от удовольствия, что он так складно придумал.
— Маленькие большаки? Чудно что-то, — усмехнулся Степан.
— Тогда давай комсомолами назовёмся!
— Комсомолу мы по годам не подходим.
— Ну, просто: партия ребят.
— Каких ребят? Ребята бывают и кулацкие...
— Бедняцких ребят!
Но упрямый Степан и с этим не согласился:
— Почему только бедняцких, возьмём и середняцких. Нам без Павлухи Балакарева Тольку-попо-вича не одолеть.
— Да. Тольку ни с какого боку не возьмёшь. Через себя не перекинешь: тяжёл. Подножкой не собьёшь: у него ноги как тумбы. И кулака под бока не боится: салом зарос, блинами да пирогами откормлен. Один Павлуха его сдюжит. Тринадцать лет, а у него плечи мужичьи... Порода!
— Значит, назовёмся вот как: партия против кулацких ребят.
— Лучше: партия красных ребят!
— Нет, носы нам расквасят, да и будут дразнить: эй вы, красные-прекрасные!
— Я так смекаю: давай назовёмся — партия сло-бодных ребят!
— Не слободных, а свободных, — поправил Степана Серёжка.
На этот раз Степан согласился, и они вместе проговорили несколько раз подряд:
— Партия свободных ребят! Партия свободных ребят!
НЕОБЫКНОВЕННОЕ СОБРАНИЕ
Так впервые среди конопляников, на земле, политой слезами, было произнесено название новой партии двумя босоногими мальчишками в одно июньское утро тысяча девятьсот двадцать второго года.
И название это не исчезло, не забылось в вихре
мальчишеских дел и забав: не таков был парень Степан, чтобы бросать слова на ветер. Он молчалив, не говорлив, но уж если скажет — как свяжет. Крепко его слово, потому что вдумчиво.
В полдни, когда взрослые мужики спали, забравшись от жары под телеги, когда бабы ушли доить коров на стойла, Степан собрал первое собрание новой партии.
В пустой омшаник, на краю пчельника, где в зиму хранились ульи, а теперь валялось лишь несколько стар.ых пустых колод, затащил Серёжка-урван всех, на кого указал Стёпа. Был здесь и Антошка-лу-тошка, и Иван — без штан, и Тараска-голяк. А Даша Мама-каши сама, незванкой пришла.
— А ты куда? Ты ж знаешь, что у нас будет партия ребят, а не девчат, — накинулся на неё Серёжка.
Но Степан остановил его:
— Не трожь. Раз в ихней семье нет парней, пусть она и в партии будет за мальчишку.
— А что я хуже вас, что ль, на коне езжу? Иль дерусь слабей? Кабы косы не помешали, я бы...
— А ты остриги их!
— Мамка не велит, больно хорошие, — не согласилась Даша. — Она мои косы гладит и говорит: «Ах ты, моя золотая...» И мне любо.
Ребята не стали спорить. Затворили дверь омшаника. Зажгли свечку в фонаре. Уселись все на старых пчелиных колодах, и Степан постучал по стеклу фонаря карандашом. Так постукивал по графину с водой председатель сельсовета Тимофей, когда проводил собрания и говорил длинные речи.
Речь Степана была коротка:
— Товарищи, собрание партии свободных ребят открыто. Добавлений никаких?
Добавлений не было, все собравшиеся от словоохотливого Серёжки давно уже знали, что это за партия и для чего она организуется.
Стоило Степану сказать первые слова, как все заговорили, не слушая друг друга. И все утверждали, что без партии ребятам хорошей жизни не видать. Что партия — первейшее дело. Каждому сознательному обязательно в партию записаться надо!
Хотели завести протокол, но Степан сказал, что можно записывать в уме, у него на канцелярию денег нет. Согласились и так. Но все потребовали, чтобы каждый, кто вступает в партию, давал клятву на верность ей. Перебрали все известные клятвы: «Пусть мне отца-мать не видать, если я задумаю партию предать», «Пусть обращусь я в лягушку, в ящерку, в поганую змею, если я партии изменю», «Ослепи меня молния, расщепи меня гром, напади все напасти: язва, чума, холера, семь сестёр лихорадок, трясучка, гнетучка, огнянка...»
И другие, самые страшные.
Степан сказал, что ничего этого не надо, тут надо бить на сознательность. Но ребята не согласились. И пошёл такой спор и галдёж, что на шум явился хозяин пчельника дед Антип.
Раскрыл вдруг дверь да как крикнет:
— Это что за представление?!
Ребята — кто куда. Хорошо, что в омшанике соломенная крыша прогнила. Так все сквозь неё и повыскакивали. И бросились наутёк, стряхивая с волос соломенную труху.
Но такое неожиданное окончание первого собрания дела не меняло: партия была создана и скоро это почувствовало всё население села Метёл-кина.
Первые понятия о новой партии получил метёл-кинский кулак — богатей Никифор Салин. Как-то его батрачонок Гараська — мальчишка из соседней деревни Луковки — попросился на праздник сбегать домой.
Хотелось ему повидаться с матерью и кстати бельишко сменить: обносился.
— Ничего, потерпишь. В поле не в церкви, на работе и так сойдёт.
Кулак заставил его в праздник пары бороновать, а то земля вишь пересыхает. Батрачонок заупрямился:
— В праздник я не работник. Не то теперь право! Не старый режим.
— Это какое те право? Нанялся — продался, хозяин — барин. Велю налево — иди налево. Скажу направо — беги направо. А не то... вот тебе управа!
И Никифор отвесил батрачонку тяжёлую затрещину. Такую, что сбила его с ног и бросила на борону. Гараська об её зубья чуть не убился.
Всплакнул парень, а пожаловаться некому. Сбегал он разок в сельсовет, а дядя Тимофей и разговаривать не стал:
— Все вы, мальчишки, озорники, если вас не учить, чего тогда с вами делать.
По дороге на пашню только и пожаловался теперь Гараська сельским мальчишкам Степашке да Серёжке, которые его всегда жалели.
Кулацкие ребята его дразнили: «Гарась — дохлый карась», потому что он от недокорма всегда тощ и вяловат был. Двигался едва-едва, как опоенный конь, загребая ногами, за что и получал постоянные
оплеухи. У него от затрещин уши болели и в голове был постоянный шум.
— Забьёт, заколотит Никишка батрачонка-то, — жалостливо вздыхали соседки.
И только. А помочь ничем не могли.
И теперь Гараська пожаловался ребятам бедняцким, которые его жалели, только так, на всякий случай. Потому бедняки батракам — родня. И услышал в ответ непонятные слова:
— Ладно, не трусь, вынесем постановление — будет тебе облегчение. Так и скажи своему хозяину, что есть такое партийное решение — тебя больше не трогать. Понятно?
Гараська, конечно, хозяину об этом сказать постеснялся и в тот же день получил ещё пару затрещин — не так быстро пошёл, да не так скоро что-то сделал.
И вдруг наутро Никифор Салин получил бумажку, вручённую курьером сельсовета Тимошкой Тук-тук, который разносил все повестки и стучал по окнам, созывая на собрания. Надел кулак очки в медной оправе, воздел нос повыше к свету и прочёл:
На основании состоявшегося решения отныне запрещается вам рукоприкладываться к личности вашего служащего батрака Герасима-Карасёва. За неисполнение сего штраф.
Председатель ПСР.
Секретарь.
Подписи, как всегда, под бумажками были неразборчивыми, но Никифор разобрал приписку:
За каждую Гараськину шишку будет у твоих двояшек по две с лишком.
У Никишки было двое любимчиков, младшенькие .Яшка и Сашка, которых звали «двояшки», потому что они родились сразу двое в один день.
Кулак их до того любил-обожал, что даже в будни наряжал во всё новое и так кормил, что у них щёки чуть не лопались.
Почесал Никифор затылок, посмеялся. Думал, и впрямь важная бумажка — налог там какой или гужевая повинность, а тут пустая зубоскалка.
Подозвал Гараську и ни с того ни с сего так щёлкнул его по затылку, что у мальчишки вскочил среди стриженых волос ёжик.
А на другой день прибежали с рёвом его двояшки, и у каждого на маковке по два ёжика!
— Это вы откуда достали?
— В лесу это, тятька, — пожаловались ребята, а уж как они добыли эти украшения, так и не сказали, сколько отец ни допытывал.
На следующий день, не меняя привычки, Никифор трахнул Гараську по щеке, так что припухла.
И тут же к вечеру у его двояшек обе щеки раздулись!
Ручьями слёзы мальчишки лили, а по какой такой причине и отчего на них отразились побои, нанесённые их отцом Гараське, так ведь и не признались.
«Тут дело нечисто», — встревожился кулак и опыты прекратил. Иной раз замахнётся сгоряча, хочет по привычке дать затрещину батрачонку, да сам себя за руку удержит. Своих детей жалко.
«Ф-фу ты, чертовщина какая... Ни тебе воли, ни тебе удовольствия... Что это за ПСР такая? Были когда-то эсеры, да, видать, не то... та партия за богатых мужиков стояла, а эта за батрачонка моим ребятам шишки бьёт!»
Долго чесал в загривке кулак и решил — лучше не связываться.
— Ну ты, дохлый карась! — крикнул он во всё горло на Гараську. — Ты мне больше под руку не попадайся! Рук я об тебя марать не могу! Себе дороже. Понял?
И с тех пор Гараське стало чуть-чуть легче. Голова перестала болеть, и в ушах меньше шумело. А то беда была, спать не мог. Ну будто муравьи в уши забрались и точат и точат. Повеселел немножко Гараська.
И его дружки — жалелыцики Серёжка и Степан, встречая его, радостно улыбались:
— Ничего, Гарась, ничего. Лучше заживём. Дай срок!
КОМУ МЕДКУ, КОМУ ДЕГОТЬКУ
Вскоре многие познакомились с новой партией.
Сидел как-то Иван Кочетков в сельсовете, всё толковали они с Тимофеем, как им объединить бедноту, и вдруг приходит с жалобой поп Акакий.
— Як вам, власть придержащие. Извольте почитать, чья прокламация?
И предъявляет написанный на какой-то картонке плакат:
РЕЛИГИЯ-ДУРМАН ДЛЯ НАРОДА.
НЕ ЖАЛЕЙ, РЕБЯТА, ПОПОВСКОГО САДА И ОГОРОДА!
— Гм! — сказал, покрутив усы, Тимофей. — Лозунг правильный, а вывод странный.
— Более чем странный, — взвизгнул поп, — морковь повыдергана, вишни оборваны!
— Ребячье баловство, — пожал плечами Тимофей. — Какое же баловство, самая настоящая экспроприация! С угрозами. Вот, полюбуйтесь, какое я требование накануне получил.
И поп Акакий предъявил бумажку, на которой печатными буквами было написано:
ПОЖАДНИЧАЛ ДЛЯ БОЛЬНОЙ МЁДА — ПЕНЯЙ НА СЕБЯ, ДОЛЕОЕРИВАЯ ПОРОДА!
— Гм, — смутился Тимофей и ещё покрутил усы, — весьма невежливо... конечно. А кому это вы, батюшка, не дали медку?
— Старушке одной, хворой Агафье, вы её знаете, — ответил поп, — была когда-то у меня в услужении. Чего её мёдом раскармливать? Всё равно нынче-завтра преставится... Сами понимаете — не в коня корм...
— Кто же это за неё заступается? — покрутил ус Тимофей. — Кругом одинокая старушка, сильной родни нет. Один только и есть внучонок Данилка, да и тот слабосилен... Не велик застой!
— Так ведь это же не один кто-то, а партия! Вы полюбуйтесь, вот выписка из постановления.
Поп Акакий предъявил третий документ:
Решили и постановили — запросить у попа Акакия немного мёду для хворой бабушки Агафьи, очень ей перед смертью медку отведать хочется. Обязательно, говорит, с батюшкиной пасеки, духовитого. Поручить получить Данилу Фокину.
Председатель партии свободных ребят.
Секретарь.
Подписи ОПЯТЬ неразборчиво.
— Та-ак! — удивился Тимофей. —
Новая партия у нас объявилась, ты слыхал, товарищ Кочетков?
Иван Кочетков только покачал головой и отвернулся, чтобы скрыть усмешку.
— А может быть, Агафье-то всё-таки стоило бы вам послать медку? Столько лет на вашу семью проработала, — сказал он негромко.
А поп Акакий так и вскинулся, так и завопил:
— Я насилию не уступлю! Я террору не поддамся! Прошли времена «грабь награбленное»! Я вас к порядку призову! Нет правды на местах, но есть она повыше.
И ещё что-то кричал.
— Да вы успокойтесь, батюшка, — сказал ему вежливо Тимофей, — мы самоуправства не поощряем. Оставьте документики, мы в этом деле разберёмся.
И, когда обозлённый поп ушёл, Тимофей обратился к Кочеткову:
— Ну что скажешь, Иван? Это что ещё у нас за подпольная организация появилась такая вредная?
— Не знаю, дружище, но если она Агафье медку, попу деготку — значит, для пролетариата не очень вредная.
— Председатель у них есть, секретарь... Заседания... Вот так штука. Я здесь советская власть, и меня на заседания не зовут и в президиум не сажают. Дожил!
Кочетков рассмеялся и ничего не ответил Тимофею.
ТАК СТРАШНЕЙ
А рассмеялся Иван Кочетков потому, что вспомнил, как недавно, сам того не ведая наверное, побывал на заседании этой таинственной партии.
Как-то раз сидели они с Машей на завалинке вечерком и было им грустно.
— Скушно мне с тобой, Иванушка, — говорила Маша тихим голосом. — Повидавши нового, не могу я жить по-старому. Своего телёночка поить. Своего поросёночка кормить. Свою полоску хлебца жать... Тесно мне, душно мне в такой жизни.
— Уж куда тесней, — вздыхал Кочетков.
— Отпусти ты меня в совхоз, Иванушка, на большие дела.
— Повремени, Маша, — отвечал Кочетков, — начнутся и у нас большие дела.
— Да откуда ты знаешь, что они начнутся?
— Партия об этом говорит нам, Маша.
И вот, когда сказал он о партии, тут из зарослей лопухов появился вдруг лобастый мальчишка и сказал:
— Дядя Иван, расскажите вы нам, мальчишкам, про партию, очень этим делом ребята интересуются. Откуда она взялась?
Встрепенулся Иван, слетела с него грусть. Погля-дел он в глаза ребят, широко раскрытые, и потеплело у него на сердце.
И рассказал он про партию так, что и Маша заслушалась. Рассказал он о том, как из маленькой-ма-ленькой группки, в которой было всего несколько рабочих, образовалась вокруг молодого Ленина партийная организация первых коммунистов.
Как было им трудно, как было им тяжело! Боролись они против власти царя, помещиков и буржуев тайно в подполье, мало-помалу создавая ячейки партии на фабриках и заводах, организуя для борьбы рабочий класс.
Как издавали подпольную газету «Искру», потом «Правду». Боролись против предателей. Против нытиков, маловеров. Не страшились ни тюрем, ни пыток, ни смерти за рабочее дело.
Сидел на троне царь — словно Кощей Бессмертный. Вокруг стража, вокруг войско. Графы, князья, буржуи его трон золотом подпирают. Деньги ведь тоже сила.
А на стороне большевиков одна-единственная народная правда. Но в ней-то и скрывалась великая сила.
Как грянула в октябре семнадцатого года революция, так и рассыпалось всё царство Кощея Бессмертного, как в сказке!
И очутились графы, князья, буржуи — все внизу, а рабочий с крестьянином — наверху!
Ребята слушали затаив дыхание.
— Вот за то народ партию-то и любит! — воскликнул Степан. — Она ему помогла верх взять!
— И ведь какая же малая вначале-то была! — сказал Серёжка. — Небольшая кучка! А царь-то её уже боялся. И жандармы трусили. Если действовать втайне, подпольно, — врагам будет страшней!
Тогда Кочетков не обратил внимания на эти слова мальчишки, но теперь догадался, что они были неспроста!
Действия таинственной партии вскоре привели семейство жадного попа в великий страх и трепет. Что бы ни делал поп, попадья, все его чады и домочадцы — всё время случались в доме и в хозяйстве ужасные происшествия.
Поп охранял свой дом и имущество с дубинкой, попадья с кочергой, церковный служка с метлой, сын Анатолий с двуствольным ружьём, поповна Ангелина с электрическим фонарём. Ложась спать, обследовали все закоулки, чуланы, заглядывали и в подпечье, и под кровать.
Жившая в поповском доме старая барыня, последняя владелица сожжённого имения, и та вооружилась зонтиком — во все тёмные углы тыкала и крепче прижимала к груди клубок синей шерсти, единственное имущество, с которым она выбежала когда-то из горевшего дома.
Девчонка на побегушках Дуняшка от страху металась без толку и всем мешала, всем попадалась под ноги.
Каждый день, каждую ночь приключались какие-нибудь беды.
То самовар утром распаялся. Загудел, засвистел вдруг как сумасшедший, пар из него пошёл и потекло олово. И весь он скорёжился, как бес на картинке страшного суда.
То коровы с пастбища как бешеные прибежали, хвосты вверх, рогами трясут, бьют копытами, ревут, вокруг двора носятся, через заборы перепрыгивают, капусту топчут...
То вдруг пчёлы с утра не вылетали. Самый взяток — липа зацвела. А они гудят в ульях, а в воздухе над пчельником ни одной. Бросился поп-пчеловод и вместо божьего слова пустил такое ругательство, что попова дочка, бежавшая за ним, споткнулась и об дымарь нос расквасила.
Оказалось, у всех пчелиных домиков метки глиной замазаны!
Когда попадья побежала в сельсовет жаловаться, Тимофей только руками развёл.
— Ну, — говорит, — матушка, это не иначе — в вашем быту завелись бесовские штуки!
Не выдержало поповское семейство такой осады и выслало Дуняшку парламентёром с наказом найти этого скверного Данилку: пусть получит для своей болезной бабки Агафьи злополучного мёду.
Данилка пришёл как ни в чём не бывало, такой же, как всегда, вялый, робкий, бледный, но чашку для мёда принёс большую, деревянную, из каких в деревне квас хлебают.
И, пока её мёдом не наполнили, с места не стронулся. А когда ушёл своей валкой походочкой — все бесовские проделки как рукой сняло.
Все в поповском доме успокоились, и даже самая трусливая Дуняшка больше не взвизгивала, напуганной кошкой не металась и не попадалась под ноги.
НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК
— Ну и как же вам удалось устроить попу такую катавасию? — спросил Иван Кочетков, встретив спешащего куда-то лобастого мальчишку.
Степан посмотрел на него серьёзно и ответил:
— Это, дядя Ваня, партийная тайна.
— Ну, мне-то можно сказать!
— Не могу. Вы же сами говорили, что некоторые люди сочувствовали большевикам, помогали им чем могли, хотя и принадлежали к другому классу... А ведь наша сочувствующая — она из бедной среды, у попа за одни харчи на побегушках...
И, спохватившись, что сказал лишнего, осекся.
— Не бойся, — сказал Иван Кочетков, — я умею хранить партийные тайны. Так, значит, если действовать из подполья, тогда врагам страшней?
— Ого, ещё как! — засмеялся Степан.
— А ты знаешь, что в Москве уже есть такая ребячья партия, которая действует открыто, никого не боится, даже издаёт свой журнал. Смотри, вот какой!
Иван Кочетков вынул из кармана журнал с красн-
вой обложкой, на которой был изображён босой мальчишка в красном галстуке, с барабаном на ремне. Назывался он необыкновенно; «Барабан».
— Это я в Сасове по делам нашего комбеда был, узнавал насчёт организации артели и нечаянно на станции купил, — пояснил Иван.
— Так вот всем, кому хочешь, и продают? — подивился Степан, не в силах оторваться от красивой обложки.
— Да ты почитай, что там про ребячью партию написано, — улыбнулся Иван Кочетков. — Это же просто чудеса! Возьми вот.
Забыв даже поблагодарить, Степан, взмахнув журналом, помчался собирать свою партию на экстренное собрание.
Собрались в старом овине, на краю села, за оврагом. Читали, по старой привычке, тайно, чтобы кулацкие дети не подсмотрели.
Каждую статью перечитывали по нескольку раз. И разными глазами, разными голосами. Прочтёт Степан — мало, шумят; «Дай Павлушке-побаснику, у него получается с выражением». Прочтёт Павлушка — опять мало, у него вроде сказки выходит. Иван — без штан засучивает рукава; «А ну давайте-ка я прочту, у меня голос громкий». И начинает бубнить, как из бочки. «Непонятно, отдай Данилке — у него голос ясней». Читает Данилка. Уж так читали, так читали — журнал в двух местах порвали. И на всех его страницах отпечатались все пальцы партии свободных ребят.
И, когда насытились чтением, как голодные хлебом, начали рассуждать.
— Теперь к нам не подступись! — сказал Серёжка-урван. — Поднимем знамя и выйдем на улицу
открыто — теперь нас не тронь, мы под Красным знаменем!
— Если мы в пионерскую партию вступим, — расхрабрился даже робкий Антошка-лутошка, — чуть что — за нас все пионеры заступятся, а их вон смотри-ка, что пишут, — тыщи!
— За нас и коммунисты будут заступаться: читай, какая это организация — детская коммунистическая! — указал Данилка.
Он хоть и болезный был, зато сильно грамотный. Это его бабушка образовала, старуха грамотная была.
— И комсомольцы в обиду не дадут: ведь пионеры комсомолу смена! — добавил Иван — без штан.
— Да мы и сами за себя постоим! — заявил Степан важно. — Мы, сельская пролетария!
— Главное, чтоб у нас было знамя!
— Поскорей надо красные галстуки навязать, чтобы все видели, какая у нас сила!
— Ну так что же, ребята, подходящая это для нас партия? Голоснём. Кто за то, чтобы вступить в пионеры?
— Мы-то хоть сейчас, да что толку? — сказал осторожный Антошка-лутошка. — Наверно, не так просто в эту партию вступить. Видали, у пионеров все какие чистенькие, как на картинке.
— Да это и мы такие будем, когда с мылом умоемся.
— Они все в красных галстуках, а где их взять?
— Достанем и такие: у моей бабушки в сундуке широченная старинная юбка — ну как пожар красная. И вся так чудно переливается, потому что, говорит, мумуаровая. Сумасшедшая старая барыня ей подарила, когда возненавидела красный цвет.
— Большущая юбка-то? Глядишь, и на знамя хватит.
— А где мы возьмём барабан?
— Возьмём да из старого ведра сделаем!
— Опять же горн полагается, сигналы подавать.
— А это обыкновенная дудка. Только медная... У пастуха рожок возьмём да отберём, а ему для коров в деревянную дудку велим играть.
— Ладно.
— А смотри-ка — все пионеры в коротких штанах!
— Вот таких у нас нету.
— Да это ничего, не по одёжке там встречают, а по делу. Ты смотри, чего здесь написано, какие правила жизни у пионеров. Какой закон!
— Закон вроде подходящий. Вот написано: «Пионер трудолюбив». А мы все трудовики. У нас мозоли — во!
Все ребята протянули руки и посмотрели, у кого какие мозоли.
— Первый закон у них: пионер верен делу Ильича! Вот что главное-то.
— Да мы тут все за Ильича, ведь он же за бедноту, значит, мы за него.
— А вот что это такое: пионер испол-ни-тельник! В исполкоме, что ли, заседает?
— Ну, а чего ж, добьёмся — и нас выберут, и мы заседать будем, эка невидаль какая...
— Нет, тут написано «исполнителен», — прочитал Данилка.
— А это чего?
— Исполнителен? А это значит: за что взялся, всё исполнит!
Ну, так это как раз по-нашему: мы разве чего не исполнили? Взялись за каждую шишку Гараськи
наставить Никиткиным двояшкам по две — наставили! Взялись добыть у попа для бабки Агафьи мёд — добыли!
Все законы разобрали — и все подошли. Стали разбирать пионерские обычаи. И тут дело оказалось сложней. Как это — каждый день чистить зубы, когда ни зубных щёток, ни порошка в деревне и в помине нет! И для чего это такое правило?
— А чтобы зубы сверкали, — сказал Данилка.
— Да у нас и без того сверкают, ну-ка, ребята, ощерь зубы! — скомандовал Степан.
Все мальчишки показали зубы, и у всех они засверкали, как снег на солнце.
— А у кого чёрные, гнилые, того не принимать в партию — вот и всё! — решил Степан.
— Тебе хорошо так говорить-то, — пробормотал, чуть не плача, Урван.
Он единственный, кто не открыл рта. И все ребята вспомнили, что зубы у него черноваты... Вот так штука! Неужели зубы помешают такого лихого парня в пионерскую партию принять?
Заволновались, заспорили. Ни к чему не пришли, оставили вопрос открытым.
И ещё поднялся спор по поводу девчат. Партия пионерская, судя по всему, очень боевая, но зачем же в ней девчонки наравне с мальчишками?
— А разве Мама-каши не наравне с нами против Алдохиных дралась?
— Так ведь это она одна такая, а все девчонки — разве они вояки? На картинке-то вот мальчишка в красном галстуке нарисован, а девчонок в красных галстуках нет. Значит, им не полагается.
— Как же это — разве мою сестру Дуняшу не примем? — огорчился Данилка. — Ведь без неё не достали бы для моей бабушки поповского медку. Она по прозвищу хоть и Смирняша, а девчонка стоящая!
— Ладно, пусть побудет пока в подполье, сочувствующей, а то мы её примем, обнаружим в своих рядах — попадья её и выгонит. Службы лишится, останется без пропитания, — сказал Степан.
Ребята с ним согласились.
После собрания они сразу занялись добычей горна, барабана, галстуков и знамени.
ГРОЗНЫЙ ПОМГОЛ
Настоящий горн, конечно, ребята не достали, но коровий рог отдал им пастух Лукаша охотно.
— Мне он ни к чему. Губы натёр, Да и бабы ругаются: «Больно громко, говорят, трубишь, словно мёртвых пробуждаешь». Просят играть поласковей. Буду наигрывать на деревянной дудочке, на жалейке.
Звонкий рог этот принадлежал Степанову отцу. Тот был знаменитым рожечником и научил Стёпу играть сбор и тревогу. Отец когда-то в кавалерии служил. И военные сигналы мог играть даже на коровьем рожке.
И барабан раздобыли. Выручил дед Кирьян. Как узнал, на что он им нужен, т<ш рбрадовался даже, свою молодость вспомнил, как он ещё в турецкую войну барабанщиком был. Впереди всего полка в атаку шёл. Старик прослезился и стих прочёл!
Барабанщик, бей тревогу,
Живо на ноги, солдат!
Валят турки по дороге,
Дико таборы галдят.
И не только сделал барабан, натянув на старое ведро сыромятную кожу, — даже научил барабанить выструганными из берёзы палочками.
Галстуки нарезали ребята из знаменитой «мумуа-ровой» юбки. Пожертвовала её бабушка Агафья своим защитникам. Сама из сундука достала, сама на куски разрезала и любовалась, как красиво переливается шёлк муар на груди у ребят, топорщится немного, жестковат. Ну ничего, зато ярок цвет!
А вот с красной материей для знамени оказалось не так просто. Где её взять? У Агафьи больше не было. В бабушкиных сундуках многие ребята видели красные домотканые юбки. Но попробуй-ка сделать знамя из бабьей юбки. Узнают кулацкие дети — засмеют.
Догадка пришла скорому на дела Урвану. Он первый сообразил, где взять знамя.
— Поручите мне, ребята, я такую материю достану, как пожар, а где — не спрашивайте.
Ребята поручили.
И в первую же ночь Урван, прихватив с собой смелого Павлушу, отправился добывать красную материю не куда-нибудь, а прямо в сельсовет.
Над сельсоветом висел небольшой красный флажок, но он давно выцвел и не привлекал Серёжку, его соблазнила красная скатерть, которой накрывал свой стол председатель сельсовета Тимофей Шпагин в торжественных случаях, когда собрания проводил, когда регистрировал красную свадьбу, когда записывал новорождённых.
Урван решил, что пионерскому отряду эта материя нужнее. Чтобы Тимофей не обижался, Серёжка сообразил, где ему достать замену для скатерти.
Вначале Урван и Павлушка забрались в церков-
ную часовенку. Среди гробов, крестов и всякого церковного старья нашли кусок ризы красного цвета, очень подходящий для скатерти: серебром, золотом вышитый, завернули его — и в сельсовет. Проникнуть в окошко сельсовета было совсем нетрудно; оно ведь не запиралось. А вот шкафчик, где хранил Тимофей бумаги, плакаты, книжки, чернила с пером и скатерть, запирался на замок. Впрочем, Урван уже доставал оттуда тетрадки, книжки на раскурку в ночном и знал способ: нужно было вынуть фанерку из дверцы и вставить обратно. Только и всего.
Так он и сделал. Павлушка сторожил, а Серёжка доставал завёрнутую в старый плакат скатерть. Достал, завернул вместо неё кусок ризы и только хотел дать дёру, как вдруг взошла луна и при её свете Урван увидел, что ему грозит кулаками страшный, худющий мужик.
Серёжка так и присел.
Зашла луна за облачко — мужик исчез. Показалась луна — и он снова возник над столом сельсовета.
— Ой, Павлушка, - — прошептал Серёжка, — кто это?
— Да это Помгол, — фыркнул Павлушка.
— Какой такой? Чего-то незнакомый!
— Так он же нарисованный. Видишь, под ним написано: «Помгол». Это мужик такой голодающий с Поволжья. Засуха там у них второй год. Слыхал, как там люди бедствуют?
— Слыхал. А чего же он нам грозится?
— Он не грозится, он хлеба требует.
— За скатерть-то?
— Ну ладно тебе, бежим, пока не хватились! Чудной ты какой, а ещё храбрый... Плаката напугался! Мужик-то картинный, а не живой.
— Мне чего-то совестно стало. Ишь как он гля-дит-то, как будто мы его грабим, — пробормотал Урван.
Ребята вылезли в окно и удалились в некотором смятении чувств. Урвану всё чудился страшный мужик, грозящий ему высоко поднятыми руками.
И становилось не по себе при мысли, что ему будет, когда Тимофей хватится скатерти.
Но у Серёжки всегда так: сначала сделает, потом думает.
— Ребятам соврём: скажем, что скатерть выпросили, — предупредил он Павлушку
Так и уговорились.
Утром сами вырезали древко для знамени, прибили скатерть гвоздиками к древку
Полюбовались. Хорошо. Поднимешь над головой, так и пылает.
Хорошо, да не очень. Чего-то не хватает. Ясно чего — надписи нет: не сказано, чьё это знамя и к чему зовёт. Вышить бы на нём золотыми буквами такие слова: «Будь готов бить кулаков, попов и всех буржуев до полной победы». Или ещё что, похлеще. Вот тогда бы оно веселей засверкало. Ну — это ещё сделается, главное, знамя есть, вот что здорово!
ГНЕВ ТИМОФЕЯ ШПАГИНА
Однако совесть Серёжку мучила. Его так и тянуло на место преступления. Чуть что — завернёт к сельсовету и посмотрит, как там председатель, не хватился ли своей пропажи. Не гневается? Может, и не заметит подмены? А глядишь, кусок ризы ему понравится, он вроде поплотней и с украшениями...
Давненько не стелил своей красной скатерти Тимофей Шпагин, не было подходящего случая. Но вот накануне жнитва получил председатель Метёлкин-ского сельсовета от председателя Совнаркома товарища Ленина письмо с просьбой помочь голодающим деревням Поволжья семенами.
Переговорил Тимофей с беднотой, посочувствовали комбедчики, а помочь не могли: сочувствие-то у них, а хлеб-то у кулаков да у зажиточных.
Решил Тимофей постелить скатерть, поставить чернильницу, разложить листы бумаги, вызвать всех имущих мужиков и под плакатом, с которого кричал о помощи голодающий крестьянин, взять обязательство и записать, кто сколько внесёт хлеба из нового урожая.
В помощники себе пригласил Ивана Кочеткова, как человека грамотного.
Послал он Тимошку Тук-тук собирать граждан, достал из шкафчика всё, что нужно, развернул скатерть, расстелил и ахнул, увидев вышитые на малиновом бархате золотые цветы, серебряные кресты и прочие узоры. Тимофея от удивления пот прошиб. Вначале он подумал, что кто-то подшутил, так разукрасив его скатерть, но, разглядев, что узоры были сильно потёрты, а бархат трачен молью, понял, что её подменили.
В ярости он стукнул кулаком по столу:
— Издевательство! Кто посмел? Кто поднял руку на государственное имущество?
Притаившийся в сенях Серёжка об стенку стукнулся. Однако не убежал. Что дальше — ему любопытно.
— Не иначе — кулацкая издёвка! Недаром они меня обзывали красным попом. Нарочно церковную
мерехлюндию какую-то подложили! — кричал Тимофей.
— Это кусок старой ризы, — определил Иван Кочетков, поглаживая рукой цветы и кресты. И, покачав головой, усмехнулся.
В это время начали подходить зажиточные мужики. Пришлось принимать их за этой удивительной скатертью. Разговор у Тимофея был краток. Каждому он говорил:
— Знаешь, какая засуха постигла Поволжье, какой там голод? Нет хлеба, нет семян. Сознаёшь такие обстоятельства?
— Сознаю, — отвечал зажиточный.
— Сколько от своего нонешнего урожая в погашение народного горя отвалишь?
Зажиточный мялся, чесался, гладил бороду, и тогда Тимофей с горечью говорил:
— Это обращается к тебе не я, а советская власть, Ленин.
— Ленин-то не к нам обращается, а к вам, к бедноте, вот вы его и выручайте!
— Кабы Ленин стоял за зажиточных, а не за гольтепу, мы бы ему много хлебца дали с нашим удовольствием! А так... ну что же, много не могим, а мало не подадим, как нищей шатии, неудобно: власть всё-таки!
— Эх, вы, — сжимал кулаки Тимофей и бормотал непонятно обидное слово, — троглодиты!
Но Иван Кочетков удерживал его от ругани и говорил зажиточным:
— Мы вас не насилуем, но придёт время, и это горе народное вам зачтётся.
Не удалось Тимофею выпросить у богачей хлеба.
Оставшись вдвоём с Иваном Кочетковым, он стукнул кулаком по столу и заругался:
— Вот дьяволы безрогие, хоть бы за украденную скатерть мешок зерна принесли, я бы им простил, хра-поидолам. Отвёз бы первый мешок Помголу, легче бы мне было перед товарищем Лениным!
— Да, — сказал Иван Кочетков, — хотя бы на почин... И то бы хорошо.
Серёжка, словно и ждал этих слов, сорвался и, уронив в сенях метлу, споткнувшись о старое ведро, вихрем умчался прочь.
Теперь он знал, как ему выкрутиться перед Тимофеем, перед ребятами и успокоить свою совесть.
Всё будет отлично, если достать мешок зерна Помголу.
БИТВА НА КОЛОСКОВОМ ПОЛЕ
Урожай в этом году был хорош. Вовремя прошли дожди. Рожь выросла высока соломой и тяжела колосом. Яровая пшеница стояла стеной. Овсы налились тугие, зернистые.
Обидно было безлошадным, маломощным бедняцким семьям отдавать кулакам за пахоту, сев и уборку конными жатками половину такого обильного урожая.
Собрался комитет бедноты и, по предложению Ивана Кочеткова, принял постановление, утверждённое сельсоветом: каждый крестьянин — хозяин своему урожаю. Если пожелает, может убрать хлеб сам, когда осилит. А кулакам и богатеям должен оплатить только за проделанные ими работы, по справедливости.
И, кроме того, комитет бедноты организовал отряд бедняцкой взаимопомощи под командой Ивана Кочеткова для помощи беднякам в уборке урожая Оплата за это будет вноситься зерном в помощь голодающим Поволжья.
Ох и обозлились кулаки! Зубами скрипели от злости, видя, как дружно вышла беднота с серпами, с косами на уборочную страду, как работают стар и мал от зари до зари, лишь бы убрать урожайный хлебушек.
Наблюдая этот труд, кулачьё утоляло злобу насмешками:
— Старайтесь на Ивана-голого!
— Быть вам голым с вашим Помголом!
А Кочеткову то грозили, то льстили. Зачем, дескать, ему, мастеровому человеку, косой махать, на рубахе соль выпаривать? Шёл бы кулацкие жатки да молотилки налаживать — заработал бы вдесятеро больше!
Но Иван Кочетков знай своё! утром чуть свет уже косит, в полдень косу отбивает, и снова дотемна, во главе целой артели таких же, как он, над бедняцкими загонами косой машет, А его Маша от зари до зари не расставалась с серпом.
Сжала свой загон, стала жать чужие, помогая бедноте.
Вскоре выехали на свои тучные поля и кулаки. Заржали их сытые кони, застрекотали жатки, которые натащили они когда-то из помещичьих имений. Заскрипели телеги под высокими возами, полными тяжёлых снопов. Загрохотали молотилки, наполняя воздух золотистой пылью и запахом свежей ржи.
А на убранных полях появилась детвора, собирающая колоски.
Это был старинный обычай, древнее право бедноты. Бедные люди, после того как свезены снопы, могли ходить по любым полям и подбирать упавшие колоски с зерном.
Это зерно считалось ничьим, его могли клевать птицы, могли подбирать бедняки.
Но на этот раз кулачьё обратило внимание, что по полям бродят не одинокие, робкие фигурки, с торбами, подвязанными на грудь, а целая партия ребят, стройными рядами. Послали в разведку своих мальчишек. И вскоре выяснилось: это бедняцкая детвора собирает зерно на семена для Помгола.
— А ну пугните-ка их, чтобы неповадно было, — приказало кулачьё своим сыновьям и батракам.
Резвые, мордатые, задиристые Гришки, Федьки, Мишки, Нйкишки вскочили на коней и помчались в предвкушении хорошей драки. Рассыпались лавой, как какие-нибудь казаки.
Однако, завидев их, бедняцкая детвора не бросилась кто куда, а стала сбегаться в кучу, на призывные звуки коровьего рога.
Играл в рожок Стёпа.
От мешков с колосками, собранных у межи с высокой полынью, поднялся вдруг дед Кирьян. Приложив ладонь козырьком и обозрев конную лаву, прокричал хрипло и повелительно:
— В каре стройся! Супротив басурманской конницы — ряды вздвой!
По-видимому, ребята были уже обучены дедом Кирьяном этому воинскому манёвру. Среди жнивья вдруг возник Плотный квадрат, ощетинившийся палками и кольями.
При приближении кулацкой лавы глухо, упорно забил барабан-
— На картечь! Залпами крой! — вскричал дед Кирьян, воинственно размахивая клюкой.
Встреченные дружным «ура», щетиной кольев и твёрдыми комьями земли, кулацкие всадники осадили коней, смешались и отхлынули.
Оправившись от неожиданности и разглядев, что под красным знаменем сплотились не какие-нибудь герои, а много раз битые ими бедняцкие мальчишки, повязавшие почему-то красные платки на шеи, кулачьё решило не спускать им дерзости.
— Макарку надо позвать! Макарку-орла. Пускай на Злого садится. Он им устроит всех-давишь.
— Пустим его передом, а мы за ним навалимся!
Макарку отыскали на молотьбе: он гонял коней по кругу, лихо посвистывая. Его хозяин Силантий Алдо-хин сам стоял у лотка и запускал в барабан тяжёлые снопы пшеницы.
Силантий-то и прозвал батрачонка Орлом за лихость и бесстрашие. Что за парень ему попался! И ло-
вок, и силен. Во время конских праздников на неосёдланном Злом всех мальчишек обскакал. А этого коня сам хозяин побаивался.
Хитрый кулак льстил батрачонку. Сажал его обедать за один стол с собой. Ничем не отличал от сыновей: если им новые рубашки, то и Макарке, если им новые сапоги, то и Орлу.
— Вот так-то батраков приручать надо, — говорил он Никифору Салину, избивавшему Гараську. — Их кормить да холить надо. Да почаще похваливать, тогда они за нас в огонь и в воду!
И, надо сказать, в этой хитрой политике преуспел. Макарка, взятый в его дом таким же сиротой, как Гараська, раздобрел на кулацких жирных харчах, осмелел и, как верный слуга, готов был выполнить любое его приказание не только с охотой, а с каким-то удальством.
Отец его был бедняком. Боролся против богатеев, даже руководил комитетом бедноты. Добровольно пошёл на фронт защищать землю и волю от белогвардейцев и погиб как герой. Мать повесила на стену его фотографию, где снят он с саблей в руке, вместе с товарищами, под Красным знаменем с надписью: «Даёшь Перекоп!»
А вот сын его изменил бедноте. Пошёл в батраки из нужды, за кусок хлеба. Но, обласканный хитрым богатеем, стал ему верным слугой.
Замечая, что презирает он бедных, служа богатым, мать стыдила его, а Макарка отвечал:
— Нанялся — продался, чего уж тут.
— Продала я, сынок, твои рученьки, да не продавала твоей душеньки.
— Что же мне — хозяйские харчи есть и больше ни во что не лезть?
— Нет, ты, сынок, хозяйскую работу честно исполняй, только совесть свою за харчи не продавай. Не будет тебе счастья.
— Ладно, мать, сам знаю, как счастье искать, на каком коне за ним скакать.
— Ох, Макарушка, не ошибись, на чужом коне далеко не уедешь, выбирай скакуна из своего табуна!
Но Макарка не слушался матери, кулацкие харчи отрабатывал с лихвой не только в поле, но и на воле.
И, как только крикнули ему кулачата: «Наших бьют!» — тут же бросил он молотьбу, вскочил на Злого и помчался на помощь.
И Силантий, остановив барабан, посмотрел ему вслед с довольной усмешкой. Уж если Орёл налетит — никакой бедняцкой шатии не устоять.
Завидев Макарку, кулачата приободрили друг друга свистом, гиканьем и, приударив коней пятками, помчались в атаку, размахивая кнутами и уздечками.
Где тут пешим мальчишкам устоять, когда поднимутся над ними со всего разгона вздыбленные кони, проломит их строй идущий передом Макарка.
— Поднимай знамя! — закричал Степан. — Отряд, сплотись!
Крепче сомкнулись ребята, выше подняли знамя — стоять так до конца! Бежать ещё хуже: потопчут. С какой-то надеждой на его неведомую силу слились они в единую кучку под красным стягом.
Казалось, спасти их может только чудо.
И чудо произошло!
Мчавшийся впереди всех Макарка вдруг отвернул коня на полном скаку. Поставил его поперёк и загородил дорогу остальным. Самого его чуть не сшибли разогнавшие коней кулачата. Что случилось? Или
Злой испугался красного полотнища, раздутого ветром? Или сам Макарка чего-то оплошал?
Почему отъехал он в сторону, понурив голову? Что случилось с ним? Где прежняя удаль Орла, не боявшегося никакой драки?
Удаль-то была при нём, да вот в сердце что-то повернулось, когда увидел он, что мчит его злой конь прямо на Красное знамя. На знамя, под которым погиб, сражаясь с белой гвардией, его отец. Нет, не смог Макар отцовское знамя кулацким конём потоптать. Потому и отвернул Злого на всём скаку.
Ряды конных смешались, кое-кому всё же удалось, подняв лошадей на дыбы, проломить строй ребят. Раздались крики ушибленных копытами, но мальчишки не дрогнули, не оплошали. Кольями и палками так отбросили одного коня, что он завалился и чуть не придавил азартного драчуна Мишку Алдохина. А Федьку Салина пропустили внутрь строя и за ноги стащили с лошади.
Ему на помощь бросилась вся его родня.
Но в это время на дрожках подкатили директор совхоза и Тимофей Шпагин. Они вдвоём объезжали загоны бедноты, которые пообещал убрать директор совхозными жатками.
При виде местной советской власти кулачата стушевались, разъехались врозь и только скулили:
— А зачем они Федьку бьют?
— Отпустите Федьку!
Не меньше кулацких ребят при виде Тимофея смутился Урван, который успел больше всех получить синяков и шишек. Он крикнул:
— Свёртывай знамя!
Но ребята не исполнили приказ: они размахивали знаменем, радуясь, что победили.
— В чём дело? — обратился Тимофей к деду Кирьяну. — Что за шум?
— Так что в некотором роде турецкая баталия! — весело закричал, ковыляя к нему, Кирьян.
Но его обогнал Степан и, унимая кровь из рассечённой щеки, сказал:
— Мы колоски собирали для Помгола. Под Красным знаменем! А они на нас напали, кулачьё!
И тут Тимофей увидел свою скатерть, поднятую на древке.
— Стой! Откуда у вас моя скатерть? — закричал Тимофей. — Кто посмел? Вот я вас!
Тогда сообразительный Урван решил взять удальством. Подскочил к дрожкам и, больно ударившись о деревянную ногу Тимофея, всё же не оплошал и с весёлым видом отрапортовал по-военному:
— Разрешите отдать вам за скатерть мешок зерна, дядя Тимофей!
Это он, Урван, уговорил ребят собирать колоски, чтобы расплатиться с сельсоветом за знамя.
— Какой мешок? Что за цена такая казённому добру?
— А вы же сами назначили, помните, в сельсовете, при дяде Иване говорили.
— Было такое, действительно говорил, — удивился Тимофей, — но ведь скатерть-то мне подменили раньше, не зная цены? Нет, этот номер не пройдёт! Подать сюда мою вещь! Разбойники!
— Дядя Тимофей, оно нам нужнее, не отдадим!
— Мы под Красным знаменем дружнее!
— Нет, ни за что. Я таким делам не потатчик. Сегодня они скатерть в сельсовете стащили, завтра
украдут печать. Так они всю советскую власть разворуют!
Эти слова хлестали ребят словно кнуты.
— Дядя Тимофей, это я всё наделал, — повинился Урван. — Я взял без спросу, но только на время, — схитрил он. — Колоски соберём — обратно принесём. И вместе с мешком зерна! Она бы у вас так лежала, а нам колоски собирать помогала... Это же не простая скатерть, а самобранка!
— Я тебе покажу самобранку! Ах ты, Урван, то яйцо из курицы урвал, то скатерть в сельсовете украл! Каким же разбойником ты вырастешь? Положи скатерть к моим ногам и проси прощения!
Урван, сдерживая слёзы, подал Тимофею знамя, не решаясь содрать его с древка.
— Почему скатерть вроде короче стала? Или вы её отрезали? — И, заметив на шеях ребят куски красной материи, хлопнул себя по лбу. — То-то я замечал, что у нас на селе появились ребята с красными повязками. Значит, это бегают куски моей скатерти! Что это за мода? Кто вы такие?
— Мы пионеры, — потупился Степан, — а галстуки — это не из скатерти. Хоть пощупайте... они из другой материи.
— Ах, вот оно что... А не вы ли назывались «Партия свободных ребят»?
— А это одно и то же!
— Ну, не совсем, — сказал директор совхоза. — У пионеров должен быть вожатый, а у вас просто вожаки.
— А какая разница?
— Вожатыми бывают комсомольцы, люди сознательные, а вожаками могут быть любые озорники. — И он покосился на Урвана.
— Значит, без вожатого не признают нас пионерами? — спросил Степан. — Не будет у нас отряда?
— Боюсь, что нет. Надо вам, ребята, добывать вожатого, который знает, что нужно делать, чего нельзя. А пока что и без вожатого приходите, собирайте и на совхозных полях колоски — это дело очень хорошее!
Поодаль, наблюдая всю эту историю, топтались на конях кулацкие ребята.
Когда Тимофей, забрав свою скатерть, тронулся прочь, они радостно загалдели. Сообразительный Урван бросился за дрожками.
— Дядя Тимофей, делай со мной что хочешь, хоть заарестуй, только отдай знамя. Без него нам нельзя... Без него нас кулачьё может одолеть!
Услышав такие слова, директор придержал коня и сказал:
— Отдай им, Тимофей Кузьмич, видишь, какие у них обстоятельства. А тебе я подарю кусок сукна, есть у меня настоящее, настольное...
Тимофей, удерживая на лице суровость, помахал рукой, призывая ребят поближе. Когда они подошли, он сказал:
— Ладно, соберите колоски, притащите Помголу мешок хлеба, будем квиты.
Затем встал с дрожек, высоко поднял над собой древко, прокричал:
— Слушай, бедняцкая детвора! От имени сельского Совета вручаю вам Красное знамя, чтобы вы росли под ним честными, смелыми, трудовыми ребятами, как велит партия, как желает товарищ Ленин, Всегда побеждали бы кулаков, буржуев. Грудью чтоб стояли за советскую власть! Ура!
И он замахал над собой кумачовым полотнищем, разгоняя плотный воздух, накалённый горячим солнцем.
Совхозный жеребец испугался, встал на дыбы и рванул дрожки. Тимофей едва не уронил знамя. Но Урван подхватил его, поднял над отрядом. Степан затрубил в рожок сбор. Павлушка забил в барабан.
И кулацкая кавалерия, потоптавшись в сторонке, уехала ни с чем восвояси, не решившись атаковать отряд. Задумчивым уехал Макарка.
Так в бою на колосковом поле партия свободных ребят получила Красное знамя.
ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Ну и попало Серёжке после того, как узнали ребята, что он стянул скатерть в сельсовете
— Из партии исключить!
— Нам воришек не надо!
Уж он и каялся и землю ел, что больше не будет. Ничего не помогало. Жалко Степану такого парня упускать — уж больно Урван смел да удал. Как быть? Вспомнил он про законы юных пионеров и предложил поступить с Серёжкой по закону.
— Да ведь их много, смотря по какому, — сказал Антошка.
— У пионеров есть такой: «Один за всех, все за одного». Соображаете? Серёжка не для себя скатерть стянул, а для знамени отряда, значит, он старался один за всех, и мы в ответе все за одного!
— Значит, через него мы перед сельсоветом все нечестными будем? — ехидно спросил Антошка-лутошка.
— Почему — нечестными? Дядя Тимофей согласен
помириться на мешке зерна. А принесём два — так ещё и спасибо скажет!
Это всех помирило.
И ребята с новой силой принялись собирать колоски. Собирали в торбы, сносили в школу. Сдвинув к стенке парты, тут же на полу молотили палками, скалками, вальками.
Нелёгкая это была работа. Чтобы собрать два мешка зерна колосками, пришлось всей партии трудиться с неделю. Ведь каждому колоску нужно поклониться, каждое зёрнышко из него выбить, отсеять, отвеять и тогда в мешок положить. Но зато и зерно собралось отборное. Известно, тяжёлый колос голову клонит, ветер ему соломку ломит, птица его на землю ронит.
— Вот это семена для бедняков Поволжья! — воскликнул Тимофей, взвесив на ладони это зерно. — Товарищу Ленину показать — доволен будет!
Два мешка он поставил в переднем углу сельсовета и всем хвалился, что собраны они руками детей.
На ребят он больше не сердился. Тем более, что отличную скатерть из хорошего красного сукна ему подарил директор совхоза.
ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!
А ребята, конечно, расхрабрились. Отбившись от кулацких атак на колосковом поле, они теперь искали драки в самом селе, чтобы все увидели их силу. И вот случай представился.
В воскресенье, после первого обмолота, всё село угощалось хлебами и пирогами из муки свежего помола.
Накануне Данилкиной бабушке ужасно захотелось ушицы поесть, ну так захотелось — беда. Взмолилась она: поймай да поймай рыбки. Либо, говорит, я должна, поев ушицы, совсем поправиться, либо это мне перед смертью так хочется.
Вот канительная старуха — то ей медку, то рыбки. Обсудили этот вопрос ребята. Некоторые говорили:
— Зачем нам со старой возиться, всё равно она хворая,бесполезная.
Накануне спрашивали они Ивана Кочеткова, чем должна заниматься пионерская партия, и он сказал:
— Делайте всё, что полезно советской власти.
Ну какая же польза может быть от больной старушки, которая весь век господам да попам прислуживала?
— Брось ты её, Данилка, переходи в сельсовет, будешь в сторожах жить, каморку тебе дадут.
А Данилка не согласился.
— Нет, — говорит, — хотя она вроде и бесполезная бабушка, а мне её чего-то жалко. Брошу — совесть замучает. Пойду я всё-таки наловлю ей рыбки. Подумаешь — велико дело поймать на уху десяток окуней. Сесть на хорошее место — и на заре в одночасье наловишь.
Настроив удочки, решил он пойти обловить заказное место Алдохиных — омуток под большой ветлой. И попросил:
— Если меня будут бить, вы, ребята, не оставьте.
Ребята насторожились: разозлятся Алдохнны, если застанут Данилку на своём рыболовном местечке и, конечно, попытаются отлупить. Вот тут и можно будет дать им отпор. Велели Данилке повязать красный галстук. И, как только нападёт кулачьё, подать
сигнал свистом. Данилка так и сделал. Уселся рыбачить под старинной ветлой, на самом любимом месте Алдохиных, повязав красный галстук. Думал: он принесёт счастье.
Окуни ловились как нанятые. Так наживку и хватали, так на крючок и лезли. Заря кончилась, солнце взошло, пригрело — не унимается клёв. Данилка в тени ветлы притаился и всё таскает одного за другим, что ни окунь, всё толще, всё больше.
И в это время, заспавшись после пирогов, пришёл побаловаться удочкой попович Толька. Один он не ходил — с ним его дружок Алдохин Мишка.
— Ну ты, больной, с нашего места долой!
А Данилка так разошёлся, таскает рыбку за рыбкой и приговаривает, дразнясь:
— Окунёк ли плотвица, всё моей бабке ушица!
Попович рот разинул! откуда такая храбрость?
А Мишка, слова не говоря, вырвал у Данилки удилище, трах его через коленку, Переломил — и в воду. Хвать с Данилки шапчонку и её в омут. И ждёт, что он сейчас заревёт и, размазывая слёзы, прочь побежит.
Но Данилка и не подумал плакать, даже не напугался, нет. Он заложил два пальца в рот, да как свистнет!
И тут же отозвалось глухой дробью то самое ведро, которое видел Мишка на колосковом поле. Заиграл коровий рожок тревогу, и кулачонок, почуяв недоброе, заорал: «Наших бьют!» — призывая родню на помощь.
Сбежалась со всех сторон кулацкая шатия, побросав свои забавы. Смотрят кулачата — выступает из-за высокого конопляника партия ребят в красных повязках и под знаменем. Ну, как войско! Степан в коровий рожок трубит, Павлушка в старое ведро дубасит.
Урван красным знаменем размахивает. А дед Кирьян, любитель мальчишеских драк, вдоль плетней за ними поспешает, несмотря на хромоту. И командует: «Ать-два! Левой, правой!»
Подошли к старинной ветле, стали строем. Степан-чурбан выходит вперёд и говорит:
— Кто нашего товарища обидел? А ну живо — отдать ему удочку! Вернуть ему шапку!
Обидчики заупрямились. А Степан как скомандует:
— Кто шапку бросал — тот за ней и плавай! Раз, два, взяли!
Не успели кулачата оглянуться, как Мишка, подхваченный множеством рук, взлетел над берегом и хлопнулся в речку. Хотели за ним Тольку-поповича, но он взмолился:
— Ребята, не кидайте! Я же во всём новом! Я Данилке свою удочку отдам.
Посмеялись босоногие мальчишки, глядя на его глаженые брючки, фасонные башмачки. Им терять нечего — явились, как и всегда ходили, кто в чём. А кулацкие мальчишки разрядились ради праздника. Когда Миша вылез из-под берега, смешной, как мокрый кот, его защитники, пожалев портить свои сатиновые пиджаки, новые суконные картузы, лаковые сапожки, в драку не сунулись.
Стыдно им побеждёнными уходить — кричат:
— Чур, по праздникам не драться, чистую одёжу не рвать!
— Ладно, — смеётся Степан, — чур так чур. С этого дня ребят в красных галстуках не смей трогать! А кто нас затронет, тому и в будни всыплем!
— Кто это «мы»?
— Пионеры.
— Это кто такие?
— Есть такая партия! — крикнул Степан и затрубил в коровий рог «Слушайте все!».
Гордые своей победой, зашагали по селу взад-вперёд. Шумит над ними Красное знамя, гремит под палками старое ведро, играет рожок. Степан надул щёки, даже красные стали.
Малыши за строем бегут, собаки брешут. Старухи на завалинках крестятся; молодые бабы смеются:
— Ишь красные чертенята!
А ребята ходят по селу и не знают, куда применить свою силу, чего бы ещё такое выдающееся сделать.
Остановились передохнуть. Урван и говорит:
— Пошли старую барыню пугать!
Это было излюбленное занятие озорных ребятишек. Подкрадутся, бывало, к поповскому саду и высматривают через ограду, где старая барыня таится... Ага, вот она, на скамеечке под рябиной. Сидит и вяжет одну и ту же варежку. Свяжет — распустит, снова свяжет. И никогда не кончается её синий шерстяной клубок. Бережёт она его больше всего на свете. Это всё, что осталось у барыни от всех её богатств. Говорят, когда она из пожара с одним этим клубком выскочила, так с досады сумасшедшей стала. С тех пор неразменным клубком и тешится.
Забавно ребятам, как она закричит, заругается, затрясётся, заплюётся, если сделать вид, что хотят у неё клубок похитить, концом удочки его подцепить.
Но разве это занятие для такой силы, какая появилась у партии? Нет, надо что-нибудь по плечу, по размаху.
Подумали ребята, подумали и отправили в Москву в журнал «Барабан» такое письмо:
Пионерскую партию организовали. Шагать под барабан научились, галстуки повязали, колосков много собрали, кулачат крепко вздули, а чего дальше делать, не знаем. Нет у нас вожатого, И потому требуем — даёшь!
И подписались все подряд.
ДАЁШЬ ВОЖАТОГО!
Такое же письмо вскоре полетело в Москву не только от партии свободных ребят, но и от сельских коммунистов.
Вначале Иван Кочетков над проделками ребят только шутил да посмеивался. К тому же и некогда ему было, главным делом занимался — хлеб убирал. А теперь после праздничной драки задумался и сказал Тимофею Шпагину:
— Надо с нашими ребятами что-то делать. Дальше им одним действовать нельзя: не то получается направление. Надо добиваться для них вожатого.
— Какого там вожатого — у нас учительницы-то нет! Время к осени, а школа пустым ульем стоит, сердце томит. Ребят много, а учить их некому, просто беда! — сокрушался Тимофей.
Да, не везло метёлк.чнской школе с учительницами.
Приезжали в село на эту должность всё больше поповны. Вот и последняя, Калерия Валерьяновна, тоже поповой дочкой была. Привередливая такая, ребят не любила. Брезговала. Бывало, войдёт в класс и давай из шипучего пузырька с резинкой на учеников духами прыскать.
— Ах, ах, — говорит, — от вас деревенские запахи. Я не могу, у меня голова кружится.
Ну и как только посватал её молодой поп из дальнего прихода, так она за него замуж выскочила и удрала из школы в другое село. Да мало того, стёкла для своего нового дома из школьных окошек повынимала и увезла.
— Я их за свой счёт вставляла, — говорит. — Все казённые стёкла ребятишки давно перебили, а это все мои!
И это уж не первая такая. Как появится молоденькая учительница — так либо за поповского сына, либо за кулацкого замуж выскакивает, и опять школа сирота.
Рассердились метёлкинские мужики, составили приговор, чтобы не посылали им больше учителей в юбках, потребовали учителя в штанах!
Над сельским приговором в уезде посмеялись.
— Подождите, пока выйдет мода носить барышням штаны, у нас молодые учительницы и те в другие школы отданы.
И вот решил выправить это дело Иван Кочетков.
Зашёл он в школу, посвистал в её пустых стенах, посвистал да такое письмо в Москву жене Ленина, самой Крупской, написал, что едва в конверт уместилось.
— Ну, — говорит, — была не была, а уж я всё откровенно Крупской объяснил. Она ведь школьными делами ведает. Я в выражениях не стеснялся.., насчёт поповых дочек. Подписался полностью и указал номер партбилета. Сердитесь, говорю, не сердитесь, Надежда Константиновна, но барышень нам не присылайте. Описал всё про наших свободных ребят, которые не знают, что делать без вожатого.
Всё-всё написал. Даже про хороший урожай. И про то, что село наше хлебное, мы учителя сами прокормим.
Не прошло и несколько дней — из Москвы в сельсовет две телеграммы. Одна Кочеткову, другая пионерам: «Встречайте учителя и вожатого».
Телеграммы разные, а слова одни.
Иван Кочетков тут же одолжил в совхозе выездную лошадь, сел в лёгкую тележку и погнал на станцию.
А Маша одну комнатку в школе прибрала для учителя, а для вожатого у вдовы Алёны чистую горницу сняла.
ВОЖАТЫЙ В ЮБКЕ
Ребята до позднего вечера всё за околицу бегали, глазели, не едут ли. Но так и не дождались: приехал Иван только ночью, когда все спали. А наутро велел Степану:
— Собирай живо твою гвардию, смотр устрою. Не напугали бы вы своим деревенским драным видом городского вожатого!
— А каков он из себя?
— Где он спит? В школе или у тёти Алёны?
— Начальство спит, солдат не дремлет, — отвечает, смеясь, Кочетков, а сам, прищурив глаз, оглядывает ребят, выстроившихся за омшаником. — Лу-тоня, не горбись! Урван, пузо не убрал! Данилка, смотри веселей..f Эх, товарищи, товарищи, всем вы молодцы ребята, а штаны, как у шпаны!
Посмотрели на свои штаны ребята — ничего особенного: обыкновенные деревенские портки.
А Иван Кочетков своё:
— Это же не воинский строй, а выставка огородных чучел! У одного портки до пят, у другого мосо-лыжки торчат. У иного дырка на коленках, у другого продых на заду! А у тебя, Иван — без штан, почему одна штанина длинней, другая короче?
— У мамки холста не хватило, эка важность, — ответил басовито Иван.
Ребята засмеялись, а Кочеткову не до смеха.
— И как я вас в таком виде вожатому покажу! Разве такие пионеры на картинке? Ну ладно, — махнул рукой и пошёл. — Ждите здесь, сейчас приведу.
Остались ребята одни. Смотрят друг на друга, осматривают, какие у кого штаны. Прежде как-то внимания не обращали, а теперь действительно видят, что неказистые.
Стёпка-чурбан стоит бледный, лоб трёт, соображает. А потом как крикнет:
— Постой, ребята, не трусь!
Бросился к ближайшему двору, выдернул топор из чурбана, несётся обратно, размахивает и кричит:
— Становись в очередь, сейчас всех под картинку обтяпаю!
Ребята отшатнулись.
А он выкатил из омшаника старую пчелиную колоду, засучил рукава, встал, как палач Стеньки Разина у плахи, и командует:
— А ну снимай портки, по одному подходи, не задерживай!
Какое тут не задерживай, топчутся ребята, а подойти не решаются.
— Ишь вы, чего оробели, как молодые кони перед ковкой? Хорошо, начнём обтяпывать с меня!
С этими словами Степан стащил с себя штаны, длиннющие, с бахромкой, положил на плаху, примерился — трах топором. И отлетели в одну сторону два конца с бахромками, а конец с гашником в руке остался. Надел Стёпка укороченные штаны, заправил рубашку под ремешок и красуется:
— Ну, чем не пионер? Рукава засучены, штаны до колен. Ловко?
— Даёшь! — закричали ребята и ну стаскивать с себя портки-порчонки и бросать на колоду. — Рубай!
А Степан рубал, только концы летели... А маль-чишки взвизгивали от восторга, подобрав укороченные штаны, становились в строй.
В конце этого занятия и появился Кочетков в сопровождении вожатого.
— Это что такое?! — воскликнул он.
Стёпка тяпнул напоследок неловко оттого, что под руку сказали, и топор увяз в портках Ивана — без штан.
Дёргает Ванюшка свои штаны, никак вытащить не может. Хочет оборвать — не рвутся. Домотканые, крепкие портки на разрыв — никак, хоть удавися.
Стёпка поднял голову, увидел рядом с Кочетковым незнакомца в кепке, в кожаной куртке, обрадовался городскому обличию вожатого и как гаркнет:
— Все в строй! Смирно!
Ванюшка, бросив штаны, встал на своё место в одной рубахе и замер.
И никто не заметил, что Иван-то и впрямь без штанов. Все воззрились на вожатого.
А парень что надо: настоящий городской, лицо бледное, глаза чёрные, пронзительные. На одной щеке — шрам. Видать, бывал на войне. Из-под кепки лихой чуб... На плечах кожаная куртка. И как крикнет звонким голосом:
— Здравствуйте, пионеры!
И отдал пионерский салют.
Ребята тоже. Все враз руки вверх. Только один выше, другой ниже, а Иван две сразу.
Засмеялся вожатый, взглянул на него и говорит:
— Ого, да среди вас не все в штанах, а мне говорили, будто вы решили девочек не принимать. Очень приятно видеть в пионерском строю девчонку!
Красный стал Иван — без штан, оправил свою длинную рубаху и как рявкнет басом:
— Я ещё парень. Сам ты девчонка!
А вожатый как рассмеётся:
— Ты не ошибся...
При этих удивительных словах взглянули ребята попристальней на фигуру вожатого и чуть не упали там, где стояли, разглядев, что у вожатого из-под кожаной куртки виднеется суконная юбка. Да, самая настоящая юбка.
Рассмеявшись, вожатый вдруг сорвал с себя кепку, и по плечам его рассыпались волосы — волнистые и чёрные, как смоль.
— Ну, здравствуйте ещё раз, меня зовут Аня!
Так появился в Метёлкине вожатый в юбке.
УЧИТЕЛЬНИЦА В ШТАНАХ
— На сход! На сход! — застучали по окошкам пионеры, созывая народ. — Новая учительница приехала! Будет говорить о школе!
— Ну вот, — почёсывая затылки, собирались нехотя мужики, — ещё одну барышню посмотрим.
— Поглядим, какову невесту прислали, — посмеивались кулаки, — говорят, аж из самой Москвы!
Собрались метёлкинцы у пожарного сарая, где отшлифованные задами давным-давно лежали брёвна, заготовленные на новую школу. Расселись на них, ждут. Вдруг выходит из школы незнакомец. В кепке, в кожаной куртке, в ловких сапожках и в синих галифе.
Все деревенские женихи мечтали иметь такой комиссарский наряд.
Подходит незнакомец к собранию, снимает с себя кепку, кланяется и говорит звонким голосом:
— Здравствуйте, граждане! Вы просили прислать вам учителя обязательно в штанах. Надежда Константиновна вашу просьбу исполнила.
Смотрят метёлкинцы на вороные кудри, смотрят в весёлые глаза и диву даются: вот так учительница — комиссар! Таких ещё здесь не видали.
Девка — в штанах!
Матвей, старший сын Силана Алдохина, Дак воззрился, что рот разинул.
— А слабо тебе за такую посвататься, — толкнул его в бок насмешливый дед Кирьян.
— Так вот, — продолжала учительница, — явилась я к вам в штанах, чтобы о деле поговорить по-мужски! Почему у вас школа без стёкол?
Где дрова на зиму? Кто позаботился о тетрадках, о книжках? Или думаете ребят без грамоты оставить? Слепыми?
— Так их, так, — улыбается Иван Кочетков.
— Я предлагаю сейчас же вынести всем сходом решение: отремонтировать школу и подготовить к учебному году своими средствами. Кто за это, поднимите руки.
Мужики подняли руки как зачарованные. Даже Кирьян, любитель по любому вопросу поспорить, и тот молча потянул ладонь к небу.
— Ну, а теперь для проведения в жизнь нашего решения предлагаю избрать школьный совет, в который включить меня, как учительницу, двух представителей от школьников и четверых граждан.
Избрали.
Затем по предложению Тимофея постановили: кормить учительницу всем селом по очереди, нынче в одном доме, завтра в другом.
— Так же, как пастухов? Что ж, это мне нравится, — засмеялась учительница, — у каждого ученика побываю в гостях!
— Стоп, граждане, уточним, как учительницу кормить будем: по ученикам или по достаткам? — вскинулся неугомонный спорщик дед Кирьян.
— По ученикам! У кого двое в школу ходят — у того пущай два дня ест, у кого трое — у того нехай три дня кормится.
— Неправильно, зачем многодетную бедноту объедать, пущай богатеньких объест! — заверещал Кирьян.
— А нас не объест! — подбоченился всегда молчаливый мордатый Матвей Алдохин. — Ходи к нам обедать три дня!
Отец на него хотел цыкнуть, да не успел.
— Ну вот, граждане, приветствую сознательность Алдохиных! — крикнул Тимофей. — У них стол бога-
тый, а нам учительницу подкормить надо. Анна Ивановна, как видите, худа, бледна... Недавно из дальневосточного подполья... У белых японцев в тюрьме была...
Учительница остановила его:
— Это к делу не относится, товарищ...
— И к попу её приговорить на три дня! — не унимался Кирьян. — Неспособна его поповна к ученью, балована, за неё и трёх дней столоваться мало!
Приговорили: попу Акакию кормить учительницу три дня.
— А бедняков освободить!
— Это почему освободить?! — закричал возмущённый Данилка-болилка. — Я хочу, чтобы и у нас с бабушкой учительница побывала!
— И ко мне, и ко мне на один денёк в месячишко, граждане, приговорите, хотя у нас со старухой учеников нету, а пообедать ей найдётся! — сняв шапку, попросил у сельского мира дед Кирьян.
— А что, вы со старухой, как дети, в школу собираетесь? — крикнул кто-то, и под общий хохот приговорили и Кирьяну кормить учительницу один раз в год.
— Ну вот, — сказал Иван Кочетков, провожая учительницу со сходки, — пожелание Надежды Константиновны подкормить вас в нашей сытой местности после всех ваших переживаний народ наш готов выполнить весьма единодушно и с удовольствием...
— Но мне совсем не хочется обедать у кулаков, у попов. Мне противно дышать с ними одной атмосферой! Я просто не знаю, как мне быть... Я сегодня же напишу Надежде Константиновне! — возмущалась учительница.
Ничего, ничего, как народ решил, так и правильно. Народ мудр, подчинитесь его желанию, — уговаривал Кочетков. — А я тоже повоевал на Дальнем Востоке, — сказал он, переводя разговор, — в ноге привёз японскую пулю... А у вас это что, от шрапнели? — указал он на шрам, подобно молнии рассекший левую сторону лица.
— Нет, это след самурайского хлыста, — нахмурилась учительница. И шрам её побагровел.
— Простите, — смутился Кочетков, — я забыл... Надежда Константиновна надеется, что в нашей тихой глуши поправитесь, наберётесь сил... Так в её записке сказано.
— Оставьте, — резко сказала Анна Ивановна и, ускорив шаги, захлопнула за собой дверь школы.
Расходясь со сходки, мужики шутили, смеялись. Даже кулаки и те были веселы. Всем понравилась боевая учительница.
— Эта в попадьи не сбежит!
— У этой ребята не разбалуются!
— По характеру видать — комиссар девка!
А некоторые даже ласково:
— Комиссарочка.
Но через какое-то время некоторым пришлось почесать затылки. Является учительница сама лично к Силану Алдохину и говорит, посверкивая глазами:
— Отпусти-ка, Силантий Игнатьич, стекло для школы.
— Это какое такое? — вскидывается Силан.
— Да вот то самое, что вы из барского флигеля
повынимали. Там есть и цветное. Ничего, мы его по низам вставим...
— Это на каком основании? — мнётся кулак, а сам думает: «И откуда она, ведьма в штанах, проведала про это стекло?»
— На основании вашего собственного решения по поводу ремонта школы, — сыплет учительница.
— Да вроде побилось оно.., давно дело-то было... От пожара я его хотел спасти...
— Да не побилось оно, батя, я его вчера ещё подальше прибирал, — говорит Матвей, а у самого при взгляде на комиссарочку рот растягивается до самых ушей.
— Очень мило с вашей стороны, — говорит Матвею учительница, а отец кажет ему из-за спины волосатый кулак.
Так и пришлось кулаку отдать для школы стекло.
А у Никишки Салина вот так же добыла учительница листы железа для кожуха круглой печки.
А у попа семь банок белил, про которые он и сам-то забыл. Давным-давно в сарае завалялись, как ещё в церкви окошки белили накануне германской войны. И откуда она узнала? Даже место указала, где эти белила лежат!
И вскоре невзрачная прежде изба, в которой помещалась школа, засверкала, как картинка. Особенно её веселили цветные стёкла.
Вставлял их дед Кирьян, ходивший когда-то по городам стекольщиком.
Кулаки при взгляде на повеселевшую школу покрякивали: оно бы и хорошо, хозяйственная учительница, как настоящий мужик, да вот не нравится, что за их счёт школу устраивает!
Беднота глядела радостно.
А у завистников душу жгло. Особенно у поповых дочек, учительствовавших по соседним деревням. Полетели от них в уездный город доносы.
И такого они там понаписали, что у школьного начальства очки на лоб полезли.
Не учительница, а сплошной ужас. Будто и курит, и пьёт, и ругается, как матрос. Является в класс в штанах. Отбирает у частных граждан разные предметы обихода, комиссарствует!
Может, не всё тут и правда, но ведь нет дыма без огня.
Собрался в уездном комитете просвещения экстренный совет и решил послать на проверку фактов честнейшего человека — преподавателя литературы и словесности Илью Николаевича Туровского.
Не без трепета перешагнул он порог метёлкин-ской школы. Явился неожиданно, чтобы застать врасплох.
Входит крадучись в дверь, переступает по половицам, как кот по росе, аккуратно, чтобы не скрипнули. Заглядывает в класс и видит — стоит у доски прехорошенькая учительница в белой кофточке. Волнистые волосы цвета воронова крыла падают на плечи. Длинная юбка широким лаковым поясом подпоясана. Ну, точно такая, какими были учительницы в дни его молодости.
Увидев такой идеальный тип учительницы прошлого века, Илья Николаевич даже пенсне снял, протёр и ещё раз посмотрел.
— Мальчик, — шёпотом спросил Илья Николаевич у дежурного по коридору, — это метёлкинская школа, да? Сюда ли я попал? Не ошибся?
Нет, он не ошибся.
Метёлкинская учительница встретила его вежли-
во, почтительно. Вместе с инспектором пошла обедать к попу, ну точь-в-точь как в дореволюционные времена. И так там играла на пианино, и так была скромна, что Илья Николаевич весь кипел в негодовании на доносчиков. Не вытерпел и признался Анне Ивановне, какая миссия на него возложена.
— Вы понимаете, какие врали? И чего только не написали! Будто вы являетесь на уроки в брюках. Будто терроризируете граждан... У вас даже наган есть... И всю эту чушь я должен был проверять! А вы — обыкновенная учительница в юбке, без всяких чудес... да!
Анна Ивановна рассмеялась. И пригласила Илью Николаевича вечером на пионерский костёр.
ПИОНЕРСКИЙ КОСТЁР
И тут честнейший Илья Николаевич насмотрелся чудес. Пионерский костёр был посвящён сожжению уличных кличек. Есть такая дурная привычка в деревнях: называть друг друга не именами, а прозвищами. Так вот, местные пионеры решили положить этому конец — все клички истребить. Как? На огне!
Разожгли ребята на берегу реки большущий костёр. За его багровым заревом виден далёкий лес, высокие звёзды. Кони на огонь из-за реки ржут. Встревоженные птицы летят. А у костра происходит нечто таинственное, похожее на колдовство.
Выходит тоненький мальчик и писклявым голоском говорит, поднимая вверх тонкую ободранную липку:
— Как меня звать?
Хор детских голосов отвечает:
— Антоша!
— А что у меня в руках?
— Лутошка!
— Так пусть сгорит моё прозвище! — Бросает мальчишка лутошку в костёр, и огонь корёжит её, крутит и пожирает с треском.
А мальчишка начинает прыгать через костёр, приговаривая:
— Отстань, моё прозвище Лутошка, останусь я на свете Антоша!
Дети хлопают в ладоши и под каждый его прыжок повторяют:
— Сгинь! Сгинь! Сгинь!
Потом выходит другой мальчишка с аптечным пузырьком и разбитой клистирной трубкой в руках и бросает всё это в огонь.
Оказывается, он сжигает своё прозвище Болилка и, «очистившись» при помощи прыганья через огонь, остаётся с одним именем — Данилка. Потом какая-то девчонка бросает в костёр глиняный горшок, а какой-то мальчишка — старые штаны.
Девчонке кричат:
— Гори-гори, каша, оставайся Даша!
А мальчишке орут:
— Сгинь, сгинь, без штан, оставайся Иван!
— Позвольте, — обращается Илья Николаевич к учительнице. — Но мне кажется, это непедагогично?.. Это, простите, шаманство какое-то!
Но нет никакой учительницы — у костра сидит комсомольского вида паренёк, в кепке, в кожаной куртке, в штанах-галифе. По виду, по чёрным кудрям родственник Анны Ивановны и говорит её голосом, ставшим вдруг грубей и резче:
— При чём же тут педагогика, Илья Николаевич?
Это не школа, а пионерский сбор... И не шаманство, а символика... От этих липких прозвищ так просто не отделаться! Нужно что-то впечатляющее, яркое. Ребята это любят.
— А у вас и наган всё-таки есть? — протирает пенсне Илья Николаевич, узнавая в пареньке переодетую учительницу.
— Да. Только не наган, а маузер, именной, — говорит милейшая барышня-учительница, превратившаяся вдруг в вооружённого комиссара с огненным взглядом, и показывает воронёной стали пистолет, с пластинкой, на которой острым преподавательским взглядом Илья Николаевич различает надпись:
Анечке О прытко от боевых товарищей за храбрость.
И теперь замечает он шрам на белой щеке.
— Так вы, значит, не просто учительница... — смущённо бормочет он.
— Да, я здесь и учительница, и вожатая. Одна в двух лицах. А что, выстрелим, Илья Николаевич? Попугаем местную тьму!
Трах! И звонкий выстрел пронизывает костёр.
Илья Николаевич явился в уездный отдел народного образования в таком смятении чувств, что в докладе своём допустил весьма странные противоречия.
— Все доносы — чепуха! — сказал он. — И тут же добавил: — А наган есть, и штаны носит, и вообще оригинал и пребольшая озорница!
Многое изменилось в жизни ребят, как одели они красные галстуки. Даже в ночном другие сказки стали рассказывать. Обучая ребят военной маршировке, перестроился даже дед Кирьян. Попросили его как-то ребята рассказать сказку почудней, а он и говорит:
— Довольно глупых, расскажу умную — про стального коня. Послушайте, её мне мужики на брёвнах у пожарного сарая рассказывали.
Ребята охотно расселись вокруг.
— Я в ту пору привёл своего коня на пожарке дежурить. Привязал его к пожарной бочке и залёг подремать. И такое услышал, что заснуть не мог.
Есть, говорят, на свете такой конь, не простой, а стальной. Пьёт, говорят, он не воду, а керосин. Жрёт, говорят, он не овёс, не траву, а масло. А сила, говорят, в нём такая, что, если его запрячь, все наши деревенские телеги один допрёт. Все наши сохи-бороны один потянет.
— Любят поврать мужики на брёвнах, — махнул рукой Серёжка.
— Да постой, а может, не врут? — заинтересовался Степан.
— Не одни старики, с ними Иван Кочетков сидел, — пояснил Кирьян. — Иван соврать не даст!
Так вот, значит, есть такой конь, в брюхе у него огонь. Кто сядет на такого коня — тот в богатыря обратится. Прослышал про этого коня Ленин. Собрал вкруг себя всех самых главных комиссаров всей России и говорит: обмозгуем, дорогие мои товарищи, как нам стать самой сильной страной на свете? На чём, говорит, держится наша держава? С одной стороны, держит её богатырь — наш рабочий, с другой сторо-
ны — богатырский мужик. Ну, говорит, рабочий у нас подкован, а мужик? Ведь это, говорит, колосс на глиняных ногах. По силе, говорит, своей — мужик землю качает, а по слабости своей — от любой беды былинкой гнётся...
Вообразили ребята ржаной колос на глиняной ножке и головой покачали: в дождь его размоет, в жару растрескается.
— «Так вот, — говорит Ленин своим товарищам, — надо нам пересадить русского мужика с его старой, древней клячи на коня стального. И тогда не будет на земле богатыря сильней нашего пахаря-хле-бороба!»
— Да, уж тогда кулакам не поклонимся, сами свою землю спашем-засеем, — не вытерпел Серёжка.
— А вот где его взять-то, этого коня? Тут и призадумались все наши самые главные народные комиссары, которые в Кремле. Есть такие кони за морями, за горами в американской стране, у тамошних буржуев. Есть-то они есть, да не про нашу честь — неукуп-ные кони. Каждый — на вес золота. Сколько весит конь — столько за него золота и положь! Тогда его американский буржуй и продаст.
«Они, — говорит Ленин, — жадные. Они за золото всё продадут, не то что стального коня».
«Да где же нам взять столько золота, Владимир Ильич?» — говорят самые главные комиссары-товарищи.
А Ленин на них смотрит хитрым глазом и надоумливает:
«А вы, говорит, поскребите, пометите, как-нибудь на одного коня наберите и у буржуев его откупите... для образчика. А уж там мы сами таких выкуем. Нам хотя бы одного на развод достать!»
— У кулаков надо золото поскрести! — сказал бывший Иван — без штан, глаза его разгорелись, сонный вид как рукой сняло
И пошёл у ребят разговор о стальном коне. О том, как достать его на развод у жадных буржуев. Не смогли заснуть всю ночь.
А деду Кирьяну того и надо. Ему одному коней стеречь скучно. Веселей, когда ребятишки вокруг не спят. Скорей ночь пролетает.
ОБЕД У КУЛАКА
К столованью учительницы у Алдохиных готовились заранее, чтобы перед людьми похвалиться. Резали барашка. Ставили тесто из белой муки. Варили брагу на меду.
Матвей с утра приглаживал сапожной щёткой рыжие вихры, сдабривая их деревянным маслом. Чистил конскую сбрую. А в полдни запряг в дрожки коня, надел сапоги, на них новые калоши. Поверх рубахи натянул жилетку, протянул золотую цепочку от часов поперёк брюха и, заломив картуз, лихо подъехал к школе.
Пусть учительница к ним не пешком идёт, а на дрожках едет. Не у гольтяпы какой-нибудь обедает, а в богатом доме. И, чтобы весь народ видел, поехал Матвей не ближней дорогой, а вкруговик, по всему селу.
Анна Ивановна надела перчатки, взяла в руки зонтик и сидела на дрожках, кусая губы, чтобы не рассмеяться.
Когда она ела щи с бараниной, пироги с капустой и запивала квасом, в новой горнице Алдохиных было
темновато. Все окошки были залеплены лицами любопытных соседей.
Конь у крыльца стоял, помахивая торбой, и жевал овёс, будто готовился в дальнюю дорогу. А Матвей, как жених, сидел рядом с учительницей и то и дело вытирал полотенцем катившиеся по лбу крупные капли пота.
Сам Силантий резал на деревянном блюде мясо и крошил учительнице в чашку, приговаривая:
— Ешь, пока посинеешь, рукой мотнёшь — вытащим!
Сама Силантиха с поклоном подносила брагу и говорила:
— Мы образованность чувствуем. Мы для учёности ничего не пожалеем. Кушайте на здоровьице.
Их младшие дети, ученики Анны Ивановны, сидели за столом все в новых рубашках и носы вытирали вышитым полотенцем, постеленным у всех по коленям.
Учительница гордости никакой не показывала, пила-ела безотказно.
— Какое вы рассуждение имеете по вашей обра-
зованности насчёт дальнейшего хода политики? — спрашивал Силан важно. — Будет ли в чём преимущество нам, сильным хозяевам, или же политика будет склоняться к поддержанию несамостоятельной бедноты?
— Как я рассуждаю, согласно моей образованности, — отвечала вежливо учительница, — политика будет склоняться к поддержанию бедноты.
— Угу, — соображал кулак и задавал новый вопрос: — А как вы мыслите, ежели взять в расчёт недостачу тяговой силы? Может ли наше правительство закупить у заграничных государств всевозможные машины для перепродажи их лицам, имеющим возможность платить наличными, включая золотую единицу царского образца? То есть имеющиеся на руках у некоторых граждан николаевские деньги, не бумажные, а золотые... Или же, согласно политике поддержки неимущих слоёв деревни, предпочтёт советская власть вручать оные машины задарма всевозможным артелям и прочим там коммунам?
Он даже вспотел, произнеся такую речь.
— Я так соображаю, — отвечала учительница, — что советское правительство не соблазнится никаким золотом, запрятанным в кубышках, а будет вручать машины артелям и коммунам сельской бедноты.
После обеда Матвей снова усадил учительницу на дрожки и сказал:
— Прокачу до мельницы, Анна Ивановна, покажу, как у неё крылья машут, а у нас колёса вертятся!
— Что ж, валяйте, — улыбнулась учительница.
Мотька припустил коня, и они помчались.
А Силан посмотрел вслед, как пыль клубится, пожевал конец бороды и прогудел:
— Умна, честна, чего думает, то и говорит... И чего это такие с беднотой дружат, а не с нами?
И так шумно вздохнул, что с испугу кошка с печки свалилась.
ОБЕД У БЕДНЯКА
А вот как проходил обед учительницы у бедняка. Пригласил Анну Ивановну не кто иной, как Данилка, теперь уж не «болилка», а просто Данил.
Жили они вместе с бабушкой в старой бане. Была у его родителей когда-то неплохая изба, но померли они в одночасье от сыпного тифа. Бабушка в ту пору ещё у попа жила, и богатые соседи растащили избу по брёвнышку. Сказали, что за долги. Оставили сироте одну закопчённую баньку.
Вот тут и поселились они с бабушкой Агафьей, когда выгнали её из поповского дома.
В эту осень дела у них поправились. Хлеб с их полосок убирал не Силан Алдохин исполу, а Иван Кочетков и ничего с них не взял, как с бедняков.
Поэтому у Данилы с бабушкой и оказалось и каши на всю зиму, и муки столько, что хоть каждый день пироги пеки. То ли с поповского мёду, добытого партией свободных ребят, то ли с ушицы из окуней бабушка встала с постели, стала потихоньку на ногах топтаться и строить планы хорошей жизни.
Купили они тёлочку, чтобы к тому времени, когда Даниле придётся жениться, у них корова была. Мечтала купить жеребёнка, чтобы Данила на своём коне в дом невесту привёз.
Бабушка Агафья вместе с учительницей решила пригласить и своего благодетеля Ивана Кочеткова.
И он не заставил себя долго упрашивать. Явился
ещё накануне и спрашивает: чем учительницу угощать будут? Не надо ли чего? Может, какие нехватки?
Бабушка засмеялась, руками замахала: какие нехватки, угостим, мол, учительницу хоть и не жирней, чем у богатеев, зато деликатней. Ведь бабушка — она недаром в господских да поповских домах жила.
— Уж чего-чего, — говорит, — а курочка молодая и у нас найдётся. А как её приготовить повкусней, я, сынок, умею...
И главное, у бабушки есть сюрприз, до которого никаким Алдохиным не додуматься.
Тут старушка стала на колени перед сундуком и из-под самого низу, перебрав все старинные платья, достала мешочек, от которого по всей баньке пошёл удивительно приятный запах.
— Кофей у меня припасён на такой случай, Иванушка, кофей натуральный, эфиопский.
И дала понюхать мешочек Кочеткову, потом Данилке.
Данилка был в полной уверенности, что обед его учительнице понравится. И после уроков шёл впереди неё по селу гоголем, одетый в новую рубашку, в новые штаны, отглаженные бабушкой. И вихры его лоснились от деревянного масла не хуже, чем у Мотьки Алдохина.
Правда, он вёл учительницу пешком, ну да ведь тут недалеко и, главное, не пыльно. По зелёным тропинкам шёл.
И учительница действительно удивилась, когда в тесной баньке, приспособленной под жильё, отведала она куриного бульона с кореньями, съела куриные котлеты, обжаренные в яйце, с грибным гарниром.
А на третье кисель ягодный. И, наконец, совершенно была поражена чашечкой пахучего кофе.
— Да откуда это у вас, бабушка?
— А это всё крохи-крошечки от моей прежней жизни, — вздохнула бабушка Агаша. И, подперев щёку рукой, залюбовалась учительницей. — В молодости-то я вроде вас бойкая да пригожая была, смелая да умненькая. И за это взяли меня в господский дом горничной. Получили за меня родители несколько рублей денег и справили свадьбу старшей сестрёнке моей, его родной бабушке, — указала она на Данилку, — а я ему двоюродная.
И прожила я весь век у чужих людей в услужении. Только и делала, что за бездельницами ходила, бездельникам угождала, на бездельников работала. Сначала у господ Крутолобовых, а потом у попа Акакия. А как извела на них все силы, непригодной стала, так и выгнали меня, как старую собаку. Вот и сказка моя вся!
А ведь могла я, девонька, вроде тебя учёной быть, малых детей уму-разуму учить. Грамота мне давалась легко. Я и теперь что письма писать, что книжки читать очень горазда. Даже в очках.
Улыбнулась учительница. А самой стало грустно. Жалко прожитую бесполезно Агафьину жизнь.
— Теперь вот хоть перед смертью хочу полезное дело сделать: креплюсь, не помираю, чтобы Данилуш-ку в люди вывести. Помогу ему на ноги стать, избу поставить, коня завести, невесту в дом привести, ну тогда и умру!
Денёк осенний выдался тёплый, вышли хозяева и гости на вольный воздух, сели на крыльце баньки, кофей пьют, рассуждают.
— Поможем вашей мечте, бабушка, — говорит
Иван Кочетков, — возьмём вашего внука в артель, посадим его не на коня простого, а на копя стального. И всё он себе добудет: и хату, и жинку, и лучшую долю!
— Для себя? Ведь этого мало, — говорит учительница. — Бабушка ведь жалеет свою бесполезно прожитую жизнь! А что это значит? Это значит, что ничего хорошего не сделала она для добрых людей, для человечества!
— Понятно, Данил должен жить не только для себя, на то ваше воспитание, — говорит Кочетков.- — Действуйте, воспитывайте.
— Одна я не воспитаю — школы для этого мало! Такие, как вы, помогать должны. Своим примером!
— А как это? — спрашивает Кочетков.
— Так, чтобы помочь ребятам правильно выбрать мечту. Правильно понять, как они должны изменить жизнь людей к лучшему. Мало своей хаты, мало своего коня, мало этого, мало!
Сидит Данилка, слушает и не понимает: как это хаты мало, коня мало, когда он в бане живёт и вся живность у него телёнок... Эх, ему бы коня, да ему бы дом свой!
А после обеда идут прогуляться к мельницам. Весело они машут крыльями, шумно. Мелют хлебушко нового урожая. Поэтому и глядеть на них весело Данилке. И его хлеб на этих мельницах мололи. Своими руками он зерно в грохот засыпал, слушал, как жернова гудят, и вышел с мельницы сам не свой. В ушах шум, весь белый. На бровях мучная бахрома, и на губах сладкий вкус мучной пыли.
Идёт Данилка мимо мельницы к барским развалинам и, вспоминая это, облизывается.
А Иван Кочетков и Анна Ивановна ведут разговор.
Речь уже о самом Кочеткове. О его мечте.
— Ну хорошо, бедняков вы на ноги поставите, а дальше что? Совместно обработаете землю, разделите по справедливости урожай, каждый заберёт его себе, утащит, как суслик в свою норку... А дальше что, мечта, мечта какая?
— Укротим кулаков! Ограничим эксплуататоров, — говорит Иван Кочетков. — Заживёт беднота хорошо!
— Что значит хорошо, своим домком, своей коровкой, своей лошадкой? Но ведь это же мелко! Это нищенская мечта!
— А что же, по-вашему, всех мужиков в пролетариев переделать? — обижается Иван Кочетков.
— Зачем, давайте помечтаем, как сделать их господами.
— Господами-помещиками, ха-ха-ха! — смеётся-заливаетея Иван.
И Данилка смеётся, хотя не понимает над чем: разве господами быть плохо? Бабушка рассказывала, что господа жили ничего, подходяще.
— Ну конечно же, — вместе посмеявшись, говорит учительница, — беднякам надо стать настоящими господами над этими лугами, полями, лесами. И жить не в убогих хатках, а. вот в этом дворце на холме, над рекой... Господа понимали толк в красоте, знали, где построить поместье.
Иван Кочетков, прищурившись, смотрит на развалины.
— Значит, зря барское поместье мужики сожгли?
— Конечно, напрасно. Надо было сохранить, улучшить, украсить, побросать свои убогие хатки, да
и поселиться всем селом в этом дворце! Коммуной!
— А ведь разместились бы, — улыбается Иван. — В до-ме-то было сорок комнат да две залы. Да во флигелях комнат двадцать... А что, вот бы отремонтировать! Но где ж такие средства?.. Ведь это уму непостижимо, сколько должно всё стоить... Стекло. Железо. Цемент... Нет, Анна Ивановна, не жизненна эта мечта!
— А как бы хорошо — и детвора вся вместе... Тут бы и настоящее коллективное воспитание... И мне бы комнатка, вон там, в мезонине! Обожаю мезонины, знаете...
— А что ж, — говорит Иван, — если сильно захотеть... всё возможно!
И долго они смотрят на барские развалины. На зияющие провалами окон каменные стены. На круглые колонны, тронутые дымом пожара. На статуи с отколотыми головами. На чаши бывших фонтанов, набитые бурьяном.
— Жили-пожили тут господа действительно как в раю. Всё имели, чего только душа желала. Получали по потребностям, веселились по способностям, вот это счастье!
— Только это было счастье бездельников. И вот чем это кончилось! — указала учительница на развалины. — А вот если бы такие же условия создать трудовым людям — не было бы этому счастью конца!
— И вам — мезонин? — улыбается Иван.
— Согласна! — смеётся Анна Ивановна.
Они весело смотрят друг на друга. Глаза их сверкают.
На обратном пути идут мимо кладбища. Красиво оно возвышается над обрывом реки, окаймлённое вековыми ивами и кудрявыми липами. Среди могил рябины растут. Тихо тут, редко кто бывает.
Грустно разглядывает Анна Ивановна кресты над покойниками и говорит:
— Жалко мне всех тех, кто не дожил до свободы.
— И мне тоже, — говорит Иван, — только не всех. Вот посмотрите на эту могилу: того, кто здесь зарыт, мне не жалко.
Анна Ивановна посмотрела. И прочла надпись, высеченную на тяжёлой каменной плите:
Здесь спит известный егерь,
Кулюшкин Родион,
Не потревожьте, люди,
Его блаженный сон.
— Интересная надпись, — сказала она, — видимо, его любили какие-то поэтические души. Почему же вам его не жалко? Чем вам насолил этот Кулюшкин?
— Да уж насолил. И не мне одному. Бывало, пойдём мы, ребятишки, в лес по грибы, девчонки по ягоды, так он застанет да кнутом так нахлещет, все рубашки иссечёт. Зверь был. Барский прихвостень. Ненавидел его народ. Не помри он в самом начале революции, пришибли бы его осиновым колом...
— Отчего же он умер?
— Не знаю, меня здесь не было. Во Франции за союзничков воевал, проданный царём на пушечное мясо. Говорят, помер Родион от какой-то заразной болезни. Хоронили его помещики в закрытом гробу, чуть ли не ночью.
— О, как таинственно! Может быть, в этой могиле скрыта какая-то тайна?
— А всё может быть, — пожал плечами Иван, — в народе болтали, будто выходил из гроба Родион, бродил вокруг, как медведь-шатун. И сейчас ещё иные матери детей стращают: «Тише, не плачь, а то Ку-люшкин придёт!»
— Да, бывает и так, — сказала Анна Ивановна, — хорошего человека народная память веками чтит и злого не забывает.
Так за разговором прошли они сельское кладбище и вышли из-под тёмных деревьев на солнечные поляны. И загляделись на далёкие просторы.
— Ах, как прекрасна жизнь! — воскликнула Анна Ивановна. — И так коротка. И как хочется прожить её так, чтобы оставить по себе добрую память!
— Очень хочется, — отозвался Иван Кочетков, — да вот боишься: успеешь ли? Мне иной раз кажется, будто и дни слишком коротки, и ночи слишком длинны.
Анна Ивановна засмеялась:
— И мне так кажется! И это очень хорошо.
КОГДА КУЛАКУ СМЕШНО
— Ну и выдумщица эта учительница! Ну и чудачка, ха-ха-ха, — веселился Никифор Салин. — Из-за одного батрачонка всю школу мне в полон отдала! Вон, посмотрите, как у меня пионеры корм коням несут, как у меня пионеры телят пасут!
Поглядят соседи — и верно. Серёжка сено коням задаёт. Поить ведёт. На другой день Стёпка телят выпасает. А на третий Иван свиньям картошки варёной из кухни несёт.
— Да что они, в честь чего? — удивляется народ.
— А в счёт образования Гараськи, дохлого карася. Пока он в школе занимается, азы-буки учит, они за него отдежуривают. Должность его батрацкую справляют, — говорит Никишка и снова: — Ха-ха-ха!
— Ну и как, стараются?
— Не нахвалюсь, удалые работнички!
Рассказали об этом учительнице. Она пожала плечами и сказала,словно про себя:
— Ну и пусть, посмотрим, кто будет смеяться последним.
Ведь это не сами по себе ребята на кулака батрачат, а по решению пионерского отряда.
Положение сложилось очень затруднительное. Когда Гараську в пионеры принимали, об этом как-то и не подумали. Ну, приняли — и ладно. Выберет батрачонок свободную минутку и прибежит. Со всеми вместе под барабан пошагает, в дудку подудит. И снова — красный галстук в карман и на кулака батрачить.
А вожатая говорит: так нельзя. Пусть Герасим всегда галстук носит, пусть кулак знает, что он пионер, и тронуть его не смеет!
Ладно, с этим согласились. И кулак не возражал} пускай на шее у батрачонка красная полоска болтается, ежели не боится, что быка раздразнит. Ему-то что, лишь бы работал, не ленился.
Но, когда все пионеры в школу пошли, тут встал вопрос: а как же с Гараськой? Кулак его не пускает.
«Мне,- — говорит, — такой батрак не нужен. Я, что ли, за него буду его должность справлять? Или работа, или ученье, что-нибудь одно. Желаете сироту учить, пожалуйста, забирайте его совсем. Только вот кто его будет кормить?»
А не учиться Гараське тоже неправильно. Если все пионеры учатся, ни один не должен оставаться за бортом! Не годится: по-пионерски — один за всех, все за одного.
Долго обсуждали этот вопрос на сборе отряда и наконец догадались, как нужно сделать. Распределить батрацкие обязанности на всех пионеров. Каждому исполнять его должность по очереди, пока Га-рась в школе.
Ведь если каждый пропустит в месяц один день, это не страшно: наверстает. А зато Гарась будет учиться без пропусков. Как — учительница на это согласится?
Усмехнулась Анна Ивановна, выслушав такое предложение, и сказала:
— Я как ваша вожатая уговорю вашу учительницу.
Вот так и начали батрачить всем отрядом на кулака. Конечно, обидно, когда он смеётся. Гараське даже перед товарищами неловко.
— Стыдно мне, Анна Ивановна: я тут за партой сижу, чистое писание вывожу, а ребята за меня мучаются.
— Ничего — хорошо учись, это главное, и тогда тебе ни перед кем не будет стыдно.
И Гарась старался изо всех сил. Ведь он знал: потому-то и учится, что другие за него работают.
И ребята не обижались. А когда учительница хвалила его за успехи, они очень гордились. И сознавали, что их партия сильна: захотела батрачонка учить и учит!
ЗИМА — КАК НЕ ЗИМА
Ну и зима в этом году наступила в Метёлкине, всем зимушкам зима. Закрутила, завертела такими метелями, каких и не видывали.
Прежде бывало, как завалит избушки сугробами, как переметёт все стёжки-дорожки, так и замрёт вся жизнь на селе. Лишь кое-где огоньки светятся. Девки-бабы лён прядут, из кудели нитки сучат. В иных домах постукивают деревянные станки, на которых холстины ткут.
От скуки парни по посиделкам шатаются, в картёж играют, самогон пьют, дурные песни поют. А ребятишкам податься некуда. Тоска-тощища. С посиделок их гонят, в карты играть не принимают: у них денег нет.
Единственное удовольствие на салазках покататься да нырки, выструганные из палок, по санным колеям пускать — вот и всё.
А в эту зиму зажили ребята веселей всех. Чуть выпал снег, давай из него громадные шары катать, крепости строить. А потом воевать — снежные крепости брать. И не только в пешем строю, даже в конном. Должен разогнаться богатырь и на полном скаку через снежную стенку в крепость влететь.
А стража должна его не пропускать, снежками забрасывать.
Никогда не знали в Метёлкине такой игры. Анна Ивановна подсказала. Она в Сибири за Байкалом такую видывала.
Тут даже взрослые парни мальчишкам позавидовали и штурмовали крепость в каждый праздник. Всё село собиралось посмотреть: какой же богатырь сверзится, какой влетит? Оказалось, это не так просто. Ну кто ни нацелится — всё не получается. Серёжка однажды в крепость влетел, только без коня. Конь упёрся, а он через гриву, через голову — вверх тормашками. Вот смеху было!
— А всё-таки Урван наш удал, хоть без коня, а в крепость попал! — говорили соседи.
Попытался Матвей Алдохин похвалиться. Засел на жеребца, разогнался — конь на дыбки и как махнёт через снежную стену. А Матвей Алдохин с него да в девичью толпу — ух!
И тогда Анна Ивановна поймала его коня, оседлала да с разбегу и послала ешё раз на снежную стенку. От удивления, что девка на коне, в неё даже позабыли снежки бросать. И всем на диво — конь перелетел снежную стенку, как птица. Только вершинку задними копытами сшиб. Да шапка с учительницы прочь слетела. А сама она на коне в крепость перенеслась и смеётся, рассыпав по плечам кудри.
— Ну чисто Иван-царевич! — восхитились бабы.
— Вот какова наша вожатая! — возгордились ребята.
И всюду за ней. Только бровью поведёт, они уже знают, что делать.
К Новому году оборудовали на пруду у кузницы круглый каток. Понаделали деревянные коньки с под-
резами из железок и давай крутить вензеля. И вожатая с ними. У неё коньки — снегурочки. Сами фигурки на льду выделывают. Явился на таких же Толька-по-пович. И ничего, не прогнала его. Даже под ручку с ним прокатилась. Только фигурять он не мог. Зад его перетягивал. Как шлёпнется, так на льду пятно, и мальчишки кричат:
— Смотри-ка, сало! Поповское сало отпечаталось!
— Давай сковороду — жарь блиньй
Ну, толстяк застыдится и уйдёт.
А на масленицу вморозили в середине пруда столб, на него надели старое колесо, а к колесу привязали две длинные жерди, крест-накрест. И к концу каждой жердины — салазки. Устроили бешеную
карусель. Ну давай, садись, держись, кто дольше удержится!
И почему-то на десятом круге обязательно слетишь. Как впрягутся ребята в колесо, как раскрутят, так тебя словно какая колдовская сила поднимет, свернёт в охапку и в сугроб закинет.
А учительница смеётся и объясняет:
— Это центробежная сила действует.
Однажды она с Кочетковым поспорила, кто дольше удержится. И как ни держался Иван — первым слетел. А она на двенадцатом кругу — за ним. И в один сугроб. Ничего. Шапка с неё прочь, валенки прочь.
Ребятишки её валенки разыскивают. Иван на руках несёт в кузницу погреться. Там пламя так и пышет, в её глазах отсвечивает. Кузнец Агей по красному железу бьёт и приговаривает:
Ох ты — пламенна душа,
Озорна да хороша!
А парни-женихи с посиделок ушли, вокруг вьются:
— Анна Ивановна, прокатись со мной!
— Анна Ивановна, обучи на коньках фигурять!
Некогда стало в карты играть. Не к чему стало самогон пить, и без того весело.
— Ну, братцы, — нынешняя зима — как и не зима!
— И откуда к нам такую ласточку занесло?
— Из южных краёв, говорят. Ишь чёрная, как цыганка.
А завистливые бабёнки свою песню поют:
— Ой, погодите, она вам зимой весну сделает! Околдует, как дураков, да улетит!
КОГДА КУЛАКУ ТОШНО
И вот наступила масленица. Весёлое время — когда в деревнях блины едят, брагой запивают. И солнце в небе сияет, как блин. И снега белые оседают, тают, как сметана. И дороги темнеют, маслятся, как подмазанные масляным помазком.
Шум, гомон на улицах. Допоздна не расходится народ. Запрягают коней, сажают детвору, баб, девок в пёстрых платках и катаются вперегонки по улицам. Колокольчики звенят, бубенчики гремят. Гармошки наигрывают. Любуется на катающихся народ, допоздна не расходится.
А закатится красное солнце за белые снега, зажигают люди костры — масленицу провожать.
Жгут соломенные чучела на перекрёстках дорог. Выходят со смоляными факелами за околицу — «оттаивать» её, соскучилась за зиму под сугробами, давно не отворялась.
И учительница везде с народом. Не отказывается, когда на блины позовут. Шутит, смеётся, чудные слова говорит:
— А знаете, что мы с вами делаем, отправляя блин в рот? Пожираем солнце! Ведь блин — это древнеязыческий символ солнца. И славяне его пожирали, чтобы набраться к весне солнечных сил, а не просто так!
И вот однажды зазвали её Алдохины. Блины у них замечательные. На пшённой каше с толоконной приправкой. И толсты, и прозрачны, как кружево.
Такому блину душа радуется.
Ест учительница блины, а сама всё в окошко поглядывает. И вдруг на улице шум, гам, вбегают в избу Гришка, Васька, Мишка с рёвом:
— Батяня, тебя ребята жгут!
За ними соседка:
— Силан, тебя пионеры палят!
Выскочил Силан из-за стола, как вихрем поднятый, подумал, что его сараи горят или его амбары подожгли. Огляделся с крыльца и видит: впрягшись в сани, пионеры волокут его чучело. Обрядили соломенную фигуру пузатую, ну точь-в-точь как он, усы, бороду из пакли приделали, нахлобучили старую шапку, подожгли и мчат по селу, к околице. Ветер пламя раздувает. Горит, чадит кулацкое чучело, народ смешит.
Хотел крикнуть Силан что-то грозное, а во рту блин непрожёванный застрял. Взревел он не своим голосом, как медведь на рогатине. Сорвался с крыльца и вдогонку за санками.
Разлетелись ребятишки в разные стороны, как воробьи от ястреба. А кулачина подбежал и давай огонь снегом закидывать. Топчет солому валенками. Хлещет чучело полами пиджака. Бьёт под соломенные бока кулаками.
Сбежался народ:
— Смотри, кулак сам себя бьёт!
— Гляди, Силан солому ломит!
Потеха да и только.
Вернулся Силан домой, управившись со своим «портретом», сам не свой. Волосы дыбом, борода припалена, щёки красные, нос в саже.
При виде такого чучела родные дети не выдержали, фыркнули.и.покатились со смеху под лавки.
А учительница выскочила из-за стола и, выбежав, упала в снежный сугроб.
Всё село хохотало, от мала до велика.
Долго потом вспоминали метёлкинцы, как повеселили пионеры масленицу.
ТАЙНА СИНЕГО КЛУБКА
После проводов масленицы случилось в Метёлки-не ещё одно событие, о котором много судачили. Умерла жившая у попа Акакия старая барыня. Та самая сумасшедшая старуха, которая только и делала, что вязала синюю варежку и, связав, снова распускала. И чуть что — хватала под мышку клубок синей шерсти и, спасая его как драгоценность, убегала от людей подальше.
Посмеивались над старухой. Вот ведь до чего дошла. А до революции какими богатствами владела! Что дом, что усадьба, что экипажи выездные, что рысаки племенные — всем на зависть, Поля её — . глазом не окинешь, леса её — на коне не объедешь Все жители вокруг на неё работали.
А сколько в доме золота, серебра! А сколько на самой бриллиантов: бывало, как наденет их да как явится в церковь, так народ и зажмурится от их ужасного блеска.
И вот — всё исчезло. Нажитое не своим трудом всё прахом пошло. И осталась у барыни облезлая кошка да синих ниток клубок. И приютил её поп Акакий из милости, помня её старые подачки.
Ну, а может быть, ещё надеялся, что сыновья её вернутся либо дочери. Одна, по слухам, в Америку убежала и там нашла себе в мужья заграничного буржуя. Другая будто с царским генералом в Париж закатилась. А сыновья... Ну про тех рассказывали, что порублены где-то в степях — в пустынях красной конницей, как бывшие гусары, служившие в белой гвардии.
Однако барыня верила почему-то, что любимый её сынок Аполлинарий, бывший уездным предводителем дворянства, всё-таки жив. И должен к родному пепелищу объявиться.
И вот перед смертью старая барыня потребовала вдруг перо, бумагу и ясным, твёрдым почерком написала, что старого кота завещает попу Акакию, спицы для вязанья — бывшей горничной Агаше, Данилкиной бабушке, а клубок синей шерсти — сыну своему Аполлинарию Андреевичу Крутолобову. Пусть сохранит его вышеназванная Агафья и передаст ему в собственные руки.
Вот над этим-то завещанием и посмеивались в селе все кумушки. Пошучивали и мужики. Да и пионеры шутили над Данилкой, который с важным видом принёс своей бабушке Агафье клубок синей шерсти и четыре железные спицы.
— Получай наследство за долгую службу!
Посмеялась и бабушка; зачем это хранить для барина клубок шерстяных ниток? Свяжу-ка я из них варежки учительнице в подарок, а то всё бегает руки в рукава. А если хватит шерсти, и тёплые носки свяжу в её хромовые сапожки. Пусть носит на здоровье.
Определила на глазок, что рука учительницы неширока, нога невелика. Наверное, хватит. Прикинула,; петли набрала на спицу и давай вязать.
Бабушка вяжет, а котёнок клубком играет.
Сядет Данилка уроки учить, а котёнок своей игрой ему мешает. Кажется ему, что в клубке что-то звенит. А может, это у него в ушах звон?
— Бабушка, кончай ты его скорее, а то зима пройдёт: зачем тогда чулки-варежки.
И вот однажды возвра-щается Данилка из школы и видит: сидит его бабушка нарядная, как в церковь собралась. Лицо у неё строгое. Очки сняла.
Значит, вязанье кончила.
Перебирает в руках готовые варежки и говорит:
— Чую я, внучек, скоро мне помирать пора. Хочу имуществом своим распорядиться.
Не раз бабушка про смерть говорила, не удивило это Данилку, не испугало. Он даже усмехнулся: какое такое имущество?. Закопчённую баньку? Старьё в сундуке? Но смолчал.
— Награжу тебя за то, что жалел меня. Медку носил, рыбки ловил.
— Это я не один, бабушка. Это мы всей пионерской партией.
— Всех награжу, кто заслужил. Позови, внучек, учительницу.
Данилка позвал.
Подарила ей бабушка своё вязанье. Анна Ивановна обрадовалась, поблагодарила.
И вдруг бабушка спрашивает
— А скажите, Анна Ивановна, хороший ли ученик мой Данилушка, выйдет ли из него толк в жизни? Станет ли он учёным человеком?
— Хороший ученик, — отвечает Анна Ивановна, — будет дальше учиться — может стать учёным человеком. Теперь всем ребятам дорога открыта. Было бы его желание.
— А какое твоё желанье, Данилушка?
Удивился Данилка: чего бабушка спрашивает?
Ведь давно они обговорили, что построят новую избу, заведут коня, вырастят корову. Приведут в дом невесту. И заживут не хуже богатых мужиков.
Правда, в последнее время что-то думать об этом стало ему скучно.
Теперь уж мечтал он вместе с ребятами поселиться всей пионерской партией в барском доме, пахать землю тракторами, жить вместе, как братья-богатыри. И вожатая у них будет жить в сказочном тереме, в самой верхней комнате под названием «мезонин».
Всё это получалось удивительно складно, когда обговаривали ребята между собой. Но бабушке рассказывать об этом он не решался, чтоб её не расстраивать... Да и боялся, что бабушка над этим посмеётся.
И теперь замолчал он, потупившись. И врать не хотел, и открывать партийную тайну не решался.
— Ну что же ты примолк, Данилушка, скажи, как бы ты зажил, если бы вдруг стал богатым? — спрашивает бабушка.
— Каким богатым? — спросил Данилка.
— Ну шибко богатым, богаче всех наших богатеев.
— Как барин Крутолобов! — рассмеялась Анна Ивановна.
Засмеялся и Данилка:
— Тогда бы я свой барский дом остеклил, оборудовал, всех бы своих товарищей там поселил, на каждого завёл бы стального коня, и стали бы мы жить в коммунии!
— В коммунии? А меня, старушку, куда же?
— А тебе твою старую светёлочку, бабушка, о которой ты скучала. Только жила бы ты у нас не угнетённая. Мы бы за тобой ходили, ублажали. Вот как!
— Значит, пожалел бы ты бабушку, став богатым? А то ведь иные, разбогатев, звереют! Так-так, — задумалась бабушка. — Значит, в коммунию... А учиться на учёного как же?
— А для этого не нужно быть богатым, — сказала учительница, — у нас теперь студентам из бедноты все преимущества! Государство у нас рабоче-крестьянское, об этом нельзя забывать, бабушка!
— И мне, значит, светёлку мою прежнюю оборудовать... Так-так. Выйду я из неё и буду с антресолей смотреть, как вы в нижнем зале танцы будете танцевать?.. Ну, где уж! — засмеялась старушка. — Лапотникам на паркетах, хи-хи-хн!
— И ничего тут смешного. В Москве уже есть балетная студия, в которой учат танцам пролетарских детей! Настанет день, и в деревне такое заведём!
— Да ну уж! — замахала бабушка руками. — Не смешите!
— Да вы только подольше поживите, бабушка. Вы сами увидите, какая будет чудесная жизнь!
— Ну, а ты бы с нами вместе поселилась в барском доме-то?
— А чего же, с удовольствием!
— Ну хорошо, ну ладно. — Бабушка утёрла кончиком платка смешные слезинки, поджала губы, стала вдруг строгой и важной. Молча достала из-за пазухи кисетик из кожи и вытрясла его содержимое на деревянное блюдо, стоявшее на столе.
Несмотря на сумерки, в избе вдруг стало светлей. Что-то засверкало, заискрилось, заблистало необыкновенно!
— Откуда это у вас? — отшатнулась учительница. — Это же настоящие бриллианты, они светятся в темноте!
— А это хранила старая барыня в шерстяном клубке, — сказала бабушка, любуясь блеском драгоценных камней. — Завещала она мне старые спицы, клубок шерсти своему сыну, Аполлинарию, а про эти блескучие камешки ничего в завещании не сказала. Спицы мне пригодились — варежки вам связала. Клубочек в чулочки перегнала, чтобы шёрстку моль не поела. А если сынок барыни за ним явится, что ж, я ему такой же клубочек из свежей шерсти отдам... А уж эти штучки-блескучки, не прогневись, не получишь, барин!
Усмехнулась бабушка и стала перебирать сверкающие камешки морщинистыми пальцами.
— Не простые они, волшебные. Сверкает в них, переливается огнями драгоценными кровь народная, пот крестьянский, слёзы... Скопила их человеческая жадность, жестокость, себялюбство. Служили они весь век свой, как вот и я, людскому злу, а надо бы послужить добру, — приговаривала бабушка.
— Да, конечно... — Глаза учительницы не могли оторваться от сверкающих драгоценных камней, в её чёрных зрачках они мерцали, отражаясь, как звёзды.
— Теперь не злая барыня, а я над ними хозяйка! — С этими словами бабушка Агаша взяла драгоценности в пригоршню и озорно тряхнула. — Хочу — выброшу, хочу — добрых людей награжу!
Бриллианты в руках её зазвенели и заиграли на чёрном потолке, на лакированных сажей брёвнах баньки, на тёмном лице бабушки разноцветными зайчиками.
— Ну что ж, учительница, зови всех, кто меня выхаживал, кто поил-кормил, кто от смерти спасал, кто на ноги подымал.
— Партия свободных ребят, — тихо сказала Анна Ивановна.
— Ну вот и хорошо. Всех зови, которые в красных галстуках.
— Трубите общий сбор, не простой он будет, бриллиантовый, — шепнула Анна Ивановна Данилке.
Он выбежал и помчался что есть духу к Степану.
— Детские сердца не алчные, дети по справедливости решат, куда эти богатства девать несметные... — говорила старуха, перебирая драгоценные камни. — Достались мне эти сокровища, когда они уже не нужны, как в сказке... Ну что ж, принесу людям пользу хотя бы в конце жизни. Пусть ими распорядятся те, у кого вся жизнь впереди. Верно, девушка?
Анна Ивановна не успела ответить: на улице громко заиграл Степан в коровий рог. Послышался топот ног, банька заполнилась детворой. Ребята расселись на скамьях, на полу, шумно дыша. Любопытство так и играло на всех лицах.
— Ребята, — сказала Анна Ивановна, — я позвала вас на сказочный сбор. Смотрите, в моих руках сверкает волшебное богатство! — Она пересыпала из горсти в горсть бриллианты, и ребятам показалось, что вожатая пересыпает попавшиеся в её руки звёзды. — Вы спасли от смерти, выходили брошенную злыми людьми больную старушку. Она оказалась доброй волшебницей и решила наградить вас, как в сказке, таким огромным богатством, которое вам и не снилось.
— Вот этими стекляшками? — засмеялся Серёжка, бывший Урван.
— Какие весёленькие, хороши для серёжек! — обрадовалась Даша, бывшая Мама-каши.
Им показалось, что это какая-то игра.
— Это бриллианты, ребята, — улыбнулась Анна Ивановна, — они дороже золота.
Ребята примолкли.
— Вот за один такой камешек можно купить коня... нет, что я, тройку коней с упряжкой! А в старое время — и с кучером. А может быть, и даже больше.
— Ей-богу? — не вытерпел Серёжка.
— Честное пионерское. А вот за этот, покрупней, — Анна Ивановна показала камень, от которого и в темноте во все стороны брызнули синеватые лучи, — можно было купить целое поместье, с домом, с садом.
— Волшебный! — воскликнул Павлушка.
— Да, стоимость этих драгоценных камней волшебная.
— Значит, ежели эту кучу по одному камешку на всех разделить, каждый из нас может стать богачом! — воскликнул Серёжка.
— Были пионеры — превратимся в буржуев, вот так волшебство! — поёжился Антошка, бывший Лутошка.
— Ну уж вы скажете ещё! — попятилась от камней прильнувшая было к ним Даша.
— Ну зачем же в буржуев, — сказал рассудительно Иван, бывший без штан, — просто купим мы по паре коней, построим по новой избе, станем самостоятельными мужиками.
— И Гараську Карасёва из батраков в самостоятельного мужика обратим! — поддержал Серёжка. — Хватит ему на чужих конях гонять.
Притихла бабушка, слушая спор ребят. Поскучнела как-то Анна Ивановна.
— Нет, не годится так, — заявил Степан. — Люди скажут: вот хапуги, захватили барское богатство для себя. Новыми кулаками стали, а притворялись: мы пионеры!
— А верно ведь! = — стукнул кулаком по столу Серёжка, скорый на решения.
— Уж если мы настоящие пионеры — давайте на эти богатства устроим настоящую коммуну. Мы же говорили: вот бы нам да отстроить заново господский дом. Да поселиться в нём, да зажить всем вместе... Так давайте! Хватит тут на такое дело, да, товарищ Аня?
— Даже с излишком, — улыбнулась Анна Ивановна то ли тому, что Степан назвал её по имени как вожатую, то ли ей понравилось его предложение.
— А ведь опять люди скажут: ну вот, пионеры по-богатели, забрались в барский дом, стали новыми господами, устроили хорошую жизню для себя одних... — усомнилась Даша.
— Опять плохо! — ударил по столу кулаком Серёжка.
— Уж лучше бы не морочили вы нас этим богатством, — в сердцах сказал Иван, бывший без штан. — Жили без него и проживём.
— Может, проголосовать, кто за то? — предложил Степан.
— Чего же голосовать, когда неясно? — возразил Павлушка.
Совсем расстроились ребята.
— Вот тебе и сказка, — усмехнулся Павлушка. — Выходит, мы вроде дураков, которые горшок с золотом нашли и так из-за него передрались, что прохожему отдали, лишь бы помириться!
— Эх, ребята, а мы забыли про стального коня сказку. Вот бы стальных коней накупить!
— Так ведь за них буржуи берут чистым золотом.
— А за бриллианты продадут нам тракторы, как думаешь, товарищ Аня? — спросил приободрённый Степан.
— Наверное, продадут.
— А вы знаете, что Ленин-то говорил: нам нужно русского мужика пересадить с деревенской клячи на коня стального?
— Постой, постой, Степан, — подняла руку Даша, — уж если мы про Ленина вспомнили, тут надо подумать, как бы сам он в таком деле поступил. Верно, тётя Аня?
— Да не тётя — вожатая! — поправил Степан.
— Не мешай, — отстранила его Даша. — Скажите, тётя Аня, а как бы Ленин поступил, если бы у него были богатства?
— У него были.
— Да? И как же он распорядился?
— У Владимира Ильича была одна ценная вещь — серебряный позолоченный портсигар. У Надежды Константиновны часики золотые и кулон, оставшиеся от матери. И вот, когда случился в Поволжье голод и Владимир Ильич обратился ко всем
людям, ко всем странам за помощью голодающим, они с Надеждой Константиновной собрали все эти свои небольшие драгоценности и отнесли в комиссию по сбору средств в пользу голодающих.
— В Помгол?
— Да, в Помгол.
Перед глазами ребят встал плакат в сельсовете, на котором бежал по пустому полю страшный голодный мужик, призывая людей на помощь.
Все притихли, даже стало слышно, как шепчутся в щелях бани тараканы.
— Тётя Аня, — сказала Даша тихим голосом, — а что, если и нам поступить вот так же? Много на эти камешки хлеба можно купить?
— Думаю, что несколько пароходов, несколько поездов.
— На эти вот безделушки? — воскликнул Серёжка. — Так отдать их за хлеб поскорей!
— Верно! — хлопнул ладонью по столу Иван. — Мы всей артелью сколько работали — всего два мешка колосками набрали, а тут за какие-то камешки — гору хлеба! Отдать!
— Других предложений нету? — медленно спросил Степан, ещё не прогнавший мечту о жизни в барском доме коммуной.
Других предложений не было.
— Ставлю на голосование: кто за то? — И сам первый поднял руку. А за ним все ребята.
— Ну вот и хорошо. И никому не обидно, — сказала Даша, оглядывая поднятые над головами ладони, — а в уши я и простые серёжки воткну, подумаешь! Верно, тётя Аня?
Вместо ответа Анна Ивановна вдруг подняла её и расцеловала, чего никогда прежде не делала.
Вначале хотели отвезти бриллианты в Москву, прямо самому Ленину. Потом рассудили, что ведь и Ленин-то свой портсигар в комиссию сдал, которая на ценности хлеб покупает. Решили отвезти в уездный государственный банк, оттуда переправят в Москву под охраной вместе с другими пожертвованиями.
И вот по мартовским почерневшим дорогам помчались в город сани, запряжённые добрым конём. Правил им Степан, а Иван Кочетков сидел рядом, завернувшись в тулуп. На груди держал он бриллианты, а в кармане — верный наган. А кроме того, вёз он в город драгоценную бумагу — протокол о создании в Метёлкине артели по совместной обработке земли и просьбу о продаже артели в кредит трактора. Дошёл слух, что добыли всё-таки наши в Америке целую партию стальных коней.
Драгоценности в банке приняли, сложили в особую шкатулку, затем в брезентовый мешок. Запечатали его сургучными печатями и отправили в Москву под надёжной вооружённой охраной, с сопроводительной бумагой. А Степану с Иваном Кочетковым выдали форменную справку.
Не так просто оказалось с трактором. Тут пришлось побывать и в уездном исполкоме, и в укоме партии. Поспорили, позаседали уездные начальники и наконец решили: доверить метёлкинской артели стального коня.
Большую роль сыграло тут умение Кочеткова обращаться с машинами. Во всём городе никто, кроме него, с трактором не был знаком. А Иван — бывший солдат автомобильной роты — ещё на войне, когда был во Франции, тракторы видел Когда об этом узнали — обрадовались. Ведь несведущему дай машину — поломает. А этот наверняка в дело произведёт.
Во дворе товарной станции, где хранился трактор, собралось немало народу. Всем было любопытно, как оседлает человек стального коня. У Степана холодок по спине шёл, страшновато было, не опозорился бы Иван Кочетков перед всем честным народом. Не сбросил бы его заморский конь... Шут его знает, заграничный, буржуйский. Не заупрямится ли?
Когда выкатили трактор из пакгауза, Степан даже несколько разочаровался: телега как телега. На четырёх колёсах, вся железная, и из неё торчит труба, как из железной печки.
Но, когда Иван проверил машину, заправил, подмазал, чего-то продул, где-то прочистил да крутанул вставленную ей в нос железную кочерёжку, конь как вздрогнул, да фыркнул, да задрожал, да земля затряслась, — Степан даже засмеялся. И страшно, и радостно стало. Чувствовалась в коне большая сила.
Вскочил на него Иван, без кнута, без понукания дал ходу и поехал. Дал круг по двору, дал другой, синего дыму напустил, так что любопытные чихнули. И заявил:
— Отворяй ворота, своим ходом пойдём!
Раскрыли ворота, и он поехал. А следом Степан на подводе, нагруженной бочками с керосином и бидонами со смазочным маслом.
Вскоре любопытный народ отстал, а мальчишки неотстанно бежали за ними почти до первого села, до Темгенёва.
Там встретили трактор темгенёвские мальчишки и
проводили до Городка, у них приняли эстафету гляд-ковские, дальше устьинские.
Так катился трактор от села до села, обрастая народом, как ком снега.
Не только детвора — старики с печки слезали поглазеть на такое чудо. Едет телега без лошади, а верхом на ней человек!
Пыхтит, бурчит, как живая. Уж не колдовство ли какое? Дым пускает, как Змей Горыныч.
В одном селе собрались старухи с ухватами, с кочергами — не пустим нечистую силу, она нам деревню спалит!
Так и пришлось Ивану Кочеткову, чтобы не дразнить старух, объехать эту деревню стороной. Чего
доброго, трахнет какая ведьма кочергой по радиатору — ну и сдавай стального коня в починку.
Смеётся Иван, смеётся Стёпка. А признаться, вначале самому стало страшно, когда дёрнулся стальной конь, весь задрожав, и выпустил клубы дыма.
Бегал Степан за водой для коня, сторожил его, пока Иван отдыхал на постоялом дворе. Словом, был у Кочеткова за помощника. Очень ему хотелось самому проехаться. Но кто же будет подводой править? Догадался — подсаживал к себе мальчишек от села до села. И, отдав им вожжи, пересаживался на коня стального.
И какой же он авторитет приобрёл среди ребят, когда явился в Метёлкино на тракторе! Ведь это был первый мальчишка, прокатившийся на стальном коне. Где до него Серёжке, где до него Макарке-орлу! Выпачканный в машинном масле, пыльный, чумазый, он казался ребятам необыкновенным героем. Его не только щупали — его даже нюхали. И запах у него был необыкновенный — бензиновый.
Даже кошка от него прочь прыснула, а пёс Шарик чихнул и как на чужого заворчал.
Вот каким парнем Степан, бывший Чурбан, после поездки в город стал выдающимся, не подступись!
А ведь верно, значит, говорилось в сказке-то про стального коня: кто сядет на него, приобретает необыкновенную силу.
Всем захотелось набраться сказочных сил. И вот решили: пусть Иван Кочетков берёт с собой на трактор всех пионеров — по очереди.
Ну что ж, Иван согласен — мальчишки ему помощники. Поехали из барских скотных дворов залежавшийся навоз на поля артельщиков возить — пионеров
с собой. Поехал в луга за стогами сена — опять же красногалстучников с собой. Всех прокатил, и у всех задору прибавилось.
Решили ребята прокатить и Гараську, добавить слабосильному батрачонку новых сил.
До чего же был рад Гараська! Как вцепился в баранку трактора, так и не выпускает. Пальцы посинели, губы сжал, а сам шепчет:
— Дядя Ваня, дай я сам поправлю.
Смеётся Кочетков, даёт ему править, прижимая его тонкую руку своей, налитой железной силой, жёсткой рукой.
И счастлив батрачонок, так счастлив, как будто едет не по земле, а по небу катит, по облакам.
Не обошлось и без происшествий. Позавидовав ребятам, захотела проехаться на тракторе и Даша, бывшая Мама-каши. А ребята говорят:
— Зачем это девчонке?
— Так я же в ночное вместе с вами за мальчишку ездила?
— Мало ли что, на простом коне можно, а на стальном опасливо. Вдруг он твои косы в колёса замнёт? Ну и готово дело, погибнешь!
— Ах, так, — говорит Даша, — мои косы мешают, ну ладно!
Зашла в сарай, схватила овечьи ножницы — раз-раз, чик-чик! — и является, помахивая отрезанными косами.
Иван Кочетков даже отшатнулся:
— Что ты, озорница, наделала?!
Однако пришлось и её на трактор пустить, дать и девчонке силу стального коня почувствовать.
Завидовали пионерам все мальчишки. Но в особенности Макарка. Исподтишка, таясь за сараями, за стогами, за овинами, подолгу смотрел он завистливым взглядом, как разъезжали ребята на тракторе.
И, заметив его, пионеры кричали насмешливо:
— Эй, кулацкий холуй, на дороге не балуй!
— Не гляди орлом, катись решкой!
Посмотрит, посмотрит Макарка на трактор, вздохнёт и пойдёт прочь, как побитая собака.
СПОРЫ-РАЗГОВОРЫ
На ночь Иван Кочетков заводил стального коня в пожарный сарай и сдавал под охрану дежурных пожарников. Там стоял Он спокойно рядом с пожарной машиной, с водовозными бочками. Да неспокойно было в селе. День и ночь только и разговоров, что о тракторе.
Беднота не налюбуется ка стального коня, не нарадуется. Говорит о нём весело:
— Ну, теперь сами свою землицу вспашем-за-сеем.
— Теперь к Алдохиным, к Салиным в кабалу не пойдём!
— Довольно, хватит кулачью в ножки кланяться, своё добро с поклонами отдавать!
А богатеи гудят злобно:
— От него хлебушко керосином пропахнет!
— Трактор землю опоганит, перестанет земля родить!
Да ещё и грозятся своим испольщикам:
— Хуже вам будет, вот увидите!
— Понадеетесь на Ивашку, жевать вам сухую корку.
— Смотрите, отскочит у него гайка али какой винтик, вот тебе и тарарахтор — стоп машина! И провороните весенний сев.
И нарочно выводили на прогулку своих сытых коней, подкормленных овсом к весенней пахоте.
— Вот они, кони-то живые, не железные, да любезные, у них гайки не отскочат, винты не сорвутся!, Тьфу нам на ваш трактор-тарарахтор!
Но бедняки-то знают: это кулаки от зависти. Со-^ всем бы другое говорили, если бы к ним в хозяйство попал стальной конь. Хвалят же они молотилки, сеялки, веялки, попавшие в их загребущие руки.
Озорные девчата на светлые закаты уже частушки-насмешки звонкими голосами кричат:
Ой, подруженьки-подружки,
Какие новости слыхать?
Бедняки у нас собрались Землю трактором пахать!
Ой, подруженьки-подружки,
Эта новость хороша!
Кулакам она — нет хуже,
А всем бедным по душам!
Под эти песенки-припевки веселей и звон из кузницы. Там Иван с Агеем к четырёхлемешному плугу лемеха куют. Железные бороны клепают. Ремонтируют сеялки, которые притащили кулаки во время разгрома барского поместья да бросили за неисправностью. С машинами-то они обращаться были не горазды.
Подходят кулаки, заглядывают в кузню, щурясь на пламя кузнечного горна. Допрашивают:
— Неужто такой плужнще ён потянет?
— Потянет!
— И ежели бороны сзади прицепить, потянет?
— А чего же ему сделается!..
Покряхтят кулаки, побурчат и восвояси пойдут под смешки парней и ребятишек, снующих вокруг кузницы.
Однажды подкараулил Макарка-батрак, когда Иван Кочетков был возле трактора один. Подбежал и взмолился:
— Посади ты меня с собой, дядя Иван, дай поправить... Век тебе этого не забуду!
— Ну ладно, — сказал Кочетков, — садись, проедемся, ежели тебе так не терпится.
Проехался он с ним до гумен, дал руль подержать, похвалил, какие у него руки крепкие. И спросил:
— Ну как, убедился, какая в стальном коне сила?
— Эх, мне бы его в руки! Уж я бы его любил да холил! — даже зажмурился, вообразив себя хозяином такого чуда, Макарка.
— За чем же дело стало?
— Так ведь у Алдохина такого коня нет!
— И не будет!
— А на вашего коня пионеры не пустят!
— Вот то-то, парень, нельзя и нашим и вашим. Смотри, сядешь ты в лужу между двух коней!
Задумчивым ушёл Макарка, коснувшись стального коня, что-то не веселило его больше гарцеванье на сытых кулацких лошадях.
Странные и непонятные перемены в своей судьбе стал замечать и Гараська. Словно действительно трактор прибавил ему каких-то неведомых сил. Грозный его хозяин Никифор Салин вдруг смягчился, стал с ним ласков, и вот диво — даже уважителен. Не то
что прежде: за каждую провинку — затрещину, по каждой прихоти — щелчок; теперь пальцем даже не грозился.
За обедом сажает поближе, за общий стол. Не все лучшие куски своим двояшкам, теперь наравне с ними и Гараську оделяет. И, растянув в улыбку губы, говаривает жене: «Подбавь-ка на Гараськнну долю щец понаварней!» или: «Подлей-ка Гараське в кашу молочка топлёного».
А однажды, заметив, что Гараська ласково чистит, холит жеребёнка со звёздочкой на лбу, вдруг такое сказанул, что у Гараськн под сердцем засосало:
— А что, вот вырастет Звёздочка, отдам я её тебе за труды... Не всё тебе, парень, в батраках ходить, будешь сам хозяином!
Не поверил Гараська своим ушам, взглянул в глаза хозяину и видит в них какое-то лукавство. Играют в карих Никишкиных глазах волчьи огоньки.
— Ну что, не веришь, думаешь — я плутатор какой? Я за твою верную службу могу и наградить. Я в своём хозяйстве царь: захочу одарить конём — и одарю!
Молчит Гараська, сдерживает громкое биение сердца, ждёт, что скажет кулак дальше. А он ничего больше не говорит. Треплет по холке жеребёнка, хвалит его красоту, резвость. Разжигает у батрачонка аппетит.
ТАЙНАЯ СТРАЖА
А весна всё ближе. Сверкает март — аж глазам больно. Капели с крыш с рассвета дотемна поют. И слышно, как ручьи роют сугробы и ночью. И вот уже взгорбился лёд на реке. Засинели в лугах озёра
талой воды. В одно весёлое воскресенье деревенские бабушки напекли ребятам жаворонков с глазами из брусники. И ребята не стали их есть, а только попробовали и, надкусив, выставили на коньках крыш, на скворечницах.
И, словно на приманку, прилетели вдруг настоящие жаворонки. Ребята их услышали сразу. Жаворонки не таятся: как только появились, сразу подымаются вверх над проталинками и звенят, звенят, словно принесли с собой колокольчики. — весну-крас-ну будить.
Красна будет эта весна для бедноты Метёлкина. Спаялись люди вокруг Ивана Кочеткова и его стального коня. Уговорились артелью сеяться, артелью хлеб убирать и весь урожай делить по справедливости. Никто чтобы обиженным не был. Кончится кулацкая кабала этой весной. Как не радоваться!
Радовались и мальчишки в красных галстуках. Всем не терпелось поскорей увидеть, как выйдет стальной конь на поле, как вспашет первую борозду. Широкая эта будет борозда — в ширину четырёхлемешного плуга. Так в Метёлкине ещё не пахали.
И радостно, и неспокойно как-то бедноте. К пожарному сараю, где ночует трактор, стали наряжать на дежурство не всех мужиков, а самых надёжных. Мало ли что... Прежде чем спать пойти, Иван Кочетков сам дежурных поверяет. Придёт, осмотрит пожарный сарай. Если охапки сена, брошенные дежурным лошадям на ночь, слишком близко к сараю брошены — отодвинет. Курящим сторожам велит дымить подальше от сарая, над бочонком с водой.
Но пионерам и этого мало — решили учредить
сбою тайную стражу. А мужикам и невдомёк, почему это с ними увязывается ночевать у пожарки обязательно какой-нибудь мальчишка.
И не ошиблись ребята. Однажды прибегает в школу Гараська и весь дрожит. И прямо к учительнице, забыл, что звать её надо либо Анна Ивановна, либо товарищ Аня, — прильнул к ней и шепчет:
— Тётенька Анна, беда!
— Что с тобой, Гарасик, откуда беда, какая?
И тут прошептал ей Гараська на ухо такое, что она собрала совет отряда и, взяв слово молчать и хранить всё в тайне, сказала:
— Ребята, нам надо усилить бдительность. Кулаки подговаривали Герасима поджечь пожарный сарай.
— Коня мне за это обещали... «А тебе, говорят, проще простого, ваши мальчишки там с дежурными всё время вертятся, на тебя никто и внимания не обратит. Не подумает. Тем более, говорят, ты в красном галстуке. Вот, говорят, и пойдёт тебе пионерство на пользу — коня получишь!»
Говорит это Гараська, а у самого губы трясутся.
— Ну, а ты что же, в глаза им плюнул? — так и вскочил горячий Серёжка.
— Нет...
— Эх ты, рохля!
— Постой, Серёжа, так нельзя ему было — ему надо быть хитрей: он в кулацком окружении, — остановила вожатая.
— Я сказал только одно — боюся... Ну и заплакал ещё.
— И правильно: чтоб отвязались, гады, — сказал Степан.
— Ага, это лучше: чтобы подумали, что ты просто
глупый, трусливый, для них безопасный! — догадался скорый в мыслях Серёжка.
— Они этого дела не оставят, уж если задумали. Надо за ними следить зорче, — пробасил Иван, бывший без штан.
И поручено было Гараське притворяться трусливым и глупым и следить, что затевают кулаки против стального коня.
Ивану Кочеткову об этом случае не докладывали, но почему-то он стал ночевать в пожарном сарае, устроив себе постель рядом с трактором.
ПАРУСА НАД ПОЛОВОДЬЕМ
Вот и грянул разлив. Цна и Мокша в нижнем течении вскрываются с громом, с треском. Текут они с юга на север. Их талые воды с верховьев, где весна наступает раньше и солнышко пригревает горячей, — набегают буйно, радостно и взламывают лёд в какую-нибудь одну ночь. Вчера ещё по горбатому льду можно было перебегать с берега на берег, перескакивая через закраины, а в ночь вдруг подует тёплый сырой ветер, на реке раздадутся пушечные удары, звон, скрежет, произойдёт какая-то сказочная битва — и расколется ледяной панцирь. Река выльется из берегов и пойдёт затоплять луга, леса, выгонять из нор лис, пугать зайцев, загонять на острова злых волков.
И тут начинается для метёлкинских ребят удалое веселье.
Ну как не прокатиться на льдине! Ну как не погнаться на лодке за лисой, сидящей на унесённом водой дереве! Ну как не заплыть в лес и не помочь, по древнему обычаю деда Мазая, зайчишкам, застигнутым половодьем.
Ещё накануне по селу веет чудесным, бодрящим запахом смолы, которую варят на кострах, чтобы осмолить проконопаченные лодки.
Здесь и маленькие — рыбацкие, и большие — базарные, ладьи, и громадный дощаник для перевозки людей и лошадей вместе с телегами на ту сторону разлива, размахнувшегося здесь километров на пятнадцать.
В эту весну раньше других принялись уделывать свои базарные ладьи кулаки Салины, Алдохины и другие богатеи. Им есть чего на базар повезти. Нарочно до весны свой товар берегут, чтобы продать подороже.
Пока бабы ставили заплаты на домотканые холщовые паруса, а старики конопатили и смолили лодки, кулацкие сынки вместе с батраками выкатывали к берегу бочонки с солёными огурцами, которые хранились подо льдом пруда, бочки с рубленой капустой, корыта с посоленными в них свиными окороками. И всё это с песнями, с шутками. С каким-то вызовом, словно желая похвалиться перед бедняками тем, что не с пустыми руками поедут они на базар.
— Здорово нынче спекульнём, — подмигивая Ивану, говорил Силантий Алдохин, — по твоей милости. Прежде бы овёс, пшеницу своим соседям на семена взаймы дал, а теперь вот на базаре продам!
Он злился, что Кочетков достал семена для бедноты в совхозе. Там взаймы дали «так на так» — сколько возьмёшь, столько и отдашь. Государство не наживается. А кулакам надо было отдавать за мешок семян два мешка из нового урожая.
Силантий только виду не подаёт, что он злится, зубоскальством старается досаду скрыть.
— Ух, весна ныне ранняя, грязюгу такую разве-ло, что на базар, кроме нас, никто ничего и не подвезёт. Мы будем на базаре цари. Приплывём в лодках, под парусами, как варяги. И будем ценой владеть!
— Ворюги вы, а не варяги!
Кулаки только похохатывают.
— Чего-то они сегодня уж очень откровенно на базар собираются? — удивлялся дед Кирьян. — И все дочиста, всем гамузом, будто нарочно сговорились!
— А пусть плывут с попутным ветром, без них в селе воздух чище, — попыхивая трубкой, отвечал Иван Кочетков, а сам тоже задумывался.
Собирались базарничать и Салины.
— И тебя возьмём, доставим удовольствие, — сказал Никифор, похлопывая Гараську по плечу тяжёлой рукой, — собирайся, точи зубы орехи грызть, востри язык на конфеты!
Словно и забыл, что отказался батрачонок погубить коня стального ради коня живого.
И не напоминает, не корит за- робость.
Удивительно это Гараське и страшно. Уж очень опасно улыбается ему кулак. На губах-то ласка, да в глазах опаска... Так и ходят в зрачках волчьи огоньки.
Но его дело батрацкое, подневольное. Сказано собирайся на базар — надо собираться. Пиджачок на подкладке из пакли Гараська почистил, сапоги великоватые, от покойного отца оставшиеся, дёгтем смазал.
— Молодец, — хвалит его кулак, — не босиком же по базару гулять... Обязательно надевай сапоги да наверни поболе портянок, чтобы с ног не свалились!
Вместе со всеми таскал Гараська свиные окорока, катал бочонки с огурцами, отвозил на подводе мешки овса и пшеницы.
И вот настал час отправки. Ветер немного переменился и стал почти попутным. С «Дубинушкой», весело столкнули на воду длинные чёрные лодки, выдолбленные из громадных вётел. Подняли холщовые паруса, разукрашенные заплатами. Захлопали они, ловя ветер, а поймав, надулись важно и потянули длинные лодки на стрежень, резать носами пенные барашки.
Весело стало Гараське при виде простора и всё же страшновато, что-то холодило под сердцем, что-то держало в тревоге.
— Ну, — сказал, осклабившись, Никишка Салин, уставив весло, как руль, и устраиваясь поудобней. — Вот, слава богу, и поехали! Пущай впереди у нас море, нехай позади у нас горе!
Жена отчего-то вздрогнула и обернулась на село тревожно.
— Ну-ну, — прикрикнул на неё Никифор, — чего мечешься? Сиди тихо, под нами бездна... — и добавил тише, для неё одной: — Если чего и случится — пущай без нас! Мы на базаре были — всей семьёй.
Лукерья закутала голову полушалком и притихла.
Ветер дул всё крепче, паруса надували щёки всё важней, и ладья всё шибче бежала встречь течению, сшибая белые гребешки задорных волн.
— Эгей, кум, в обгонки, что ли! — кричал Никишка Салин, настигая лодки Алдохиных.
— А что ж, где наша не пропадала, авось кривая вывезет!.. Тарарахнем, сват! Ха-ха-ха!
Услыхав слово «тарарахнем», Гараська чуть не выпрыгнул из лодки.
Накануне он услышал его возле бани Алдохиных в устах таких подозрительных людей, при одном взгляде на которых жуть берёт. Один кривой, другой облезлый, третий чёрный, как опалённый. И все — нездешние.
ОПАСНЫЕ ГОСТИ
Недаром встревожился Гараська, и неспроста повеселели кулаки. Тёмной ночью вместе с разливом привалила к ним подмога. От далёких синих лесов по бурному разливу приплыла небольшая рыбацкая лодка, и, таясь от людей, из неё высадилось три человека. Один кривой, в ватнике, другой сутулый, в брезентовом плаще, третий в ободранной кожаной куртке и в охотничьих сапогах.
Пристав напротив бани Алдохиных, по земляным ступенькам прокрались в баню. Отсюда сутулый, в брезенте, оставив товарищей, пошёл в дом Алдохиных, не боясь злых кулацких собак. Ни одна не брехнула на него.
В рукаве он скрывал длинный нож: такими охотники резали медведей, а мужики кололи свиней. А на плече нёс мешок, но не простой, а из сыромятной кожи.
Он заглянул в окна, тихо, без звука, прошёл по сеням и открыл дверь без стука прямо в горницу.
Силан Алдохин, стоя перед образами в одной рубахе, босиком, молился Николаю-угоднику о ниспослании ему тёплой весны, а Ивану Кочеткову — гололёду под трактор.
— Здорово, хозяин! — проговорил ночной гость, откидывая капюшон плаща.
Силан удивился, словно увидел ожившего Нико-лая-угодника.
— С нами крестная сила, никак покойный Родион?
— Он самый, — усмехнулся гость и поправил редкую бородку, словно приклеенную к худым, тёмным щекам.
— А кто же в твоей могиле лежит, если ты бродишь по свету, Родион?
— А разве меня похоронили?
— По всей форме: с попами, с кадилами... Правда, в закрытом гробу, ввиду смерти твоей от заразного тифа или там оспы... теперь уж не помню.
— Так, — процедил сквозь зубы Родион, — уж не знаю, зачем меня господа Крутолобовы похоронили, своего любимого егеря. Только, значит, поэтому меня и пуля не брала. Сколько в меня красные и белые ни стреляли, ну Хоть бы одна коснулась. А я бил,
колол без промаха.,, и кадетов, и товарищей комиссаров.
— За кого же ты воевал, Родион?
— Сам за себя! С тех пор как во время революции купил у меня молодой барин Крутолобов моё имя-звание вместе с паспортом, а мне отвалил кучу золотых монет, понесло меня туда, где деньгам цену знают. В белогвардейское царство. Был я в Крыму у белых, потом у зелёных, последний мой пир был у Антонова. Хотел за границу убежать, да места на пароходе не хватило. Не взяли меня с собой господа офицеры...
— А зачем же ты ко мне-то пришёл? — покосился Силан на кожаный мешок в руках бывшего егеря.
— За продовольствием, по старой памяти. Охотились когда-то вместе, помогал тебе браконьерить в барских угодьях. Не так ли?
— Было дело, — пробормотал Силан.
— Я не один, с двумя товарищами. Скрывались мы в темниковских лесах, а теперь с разливом решили вниз, на Волгу, уплыть. Без харчей и без гроша в кармане нам пропадать.. Выручай, Силантий.., Не то — сожжём!
— Что ты, — перекрестился Силан, — больно скорый сразу грозиться!
— А нам это недолго.
— Любите вы жечь да палить — знаю антонов-цев... — И тут Силан запнулся, его озарила лукавая мысль. — Слушай, Родион, уж если вам желательно чего-либо сжечь, сожгите вы у нас в Метёлкине один немудрящий сарай. И получите вы за это на дорожку и хлеб, и сало, и денег жменю.
— Ну что ж, сожжём сарай, — охотно отозвался Родион.
— Вот хорошо, вот и слава богу. Вот и договорились, спасибо Николаю-угоднику, — торопливо закрестился Силан и стал одеваться.
— Пойдём к твоим товарищам. Я вам расскажу, чего от вас требуется. Какой нам сарай надо поджечь, какого нам медведя надо убить...
— Медведя? Про то уговора не было!
— Будет, будет, и на медведя будет уговор, — ласково лепетал Силан. — Ты же известный был медвежатник. Вон я вижу: у тебя и кожаный мешок-наки-дыш сохранился, в который ты живьём медвежат-пе-стунов ловил, волчат сажал. Ох, славилась когда-то твоя хватка!
— Я и взрослого медведя однажды им накрыл, — усмехнулся Родион.
— А на войне-то человеков в него ловил?
— Бывало, — нехотя сказал Родион, — накидывал на часовых... Подкрадываться-то я могу без звука... Голос в мешке глушится... А когда нюхательного табаку на дно сыпанёшь да нахлобучишь на человека — тут любой богатырь дохнёт разок и повалится...
— Гм-да, мешочек, — опасливо покосился кулак, открывая дверь бывшему охотнику, которого похоронили как егеря, а он воскрес как бандит.
В бане Алдохиных долго сговаривались бандиты с кулаками, а редкие ночные прохожие думали, глядя на огонёк, что Силанова старуха, мастерица по этой части, гонит самогон к празднику.
Перед рассветом, когда ночная тьма напоследок ещё больше сгущается, двое бандитов тихо, бесшумно прокрались к своей лодке и затопили её, завалив
камнями. Чтобы никто не полюбопытствовал: чья она, откуда взялась.
Никто их не видел, кроме Гараськи. Он как раз водил к берегу коней попоить. Забавно ему показалось — зачем это какие-то дядьки топят лодку, словно рассохшуюся бочку?
В темноте не угадал, кто такие. Подумал — не почтари ли? Да зачем бы им лодку топить? Послушал, о чём переговариваются они негромко. И pacслышал, как один сказал: «Тарарахнем!» А другой потихоньку засмеялся.
Встретив Макарку, который тоже перед рассветом вывел коней поить, Гарась сказал ему:
— Видать, к вам какие-то пьянчуги за самогоном приехали, а он не готов?
— Давно готов, — ответил Макарка.
— А чего же они лодку-то схоронили? Наверное, мало им, новой заварки будут дожидаться.
— А может быть, — ответил Макарка, лениво зевая.
Вот и всё. Тогда Гарась не придал этому значения. Но теперь, услышав смешное слово из уст Никифора, вспомнил, что кулаки-то звали трактор тарарахтором.
ЛЕТИ, СПЕШИ, КРАСНАЯ ЭСТАФЕТА!
Шумит-гремит весенний базар в Сасове. Хоть и развезло пути-дороги, хоть и непролазна чёрная грязь на немощёных улицах уездного городка, всё же набрался, понаехал народ со всех сторон. Кто по речке, по разливу, кто поездом, а кто и на телегах, запряжённых парой коней: на одном из грязи не вылезешь.
И все базарники собрались на главной улице, где поверх грязи постелены сосновые доски. На этой дощатой мостовой идёт праздничное гулянье. По обеим сторонам «дощечек,, выстроены деревянные балаганчики, и в них, как в скворечниках, сидят продавцы игрушек, свистулек, пряников, орехов, изюма, урюка и всякой всячины.
Мимо них тесной толпой прохаживаются городские и деревенские покупатели.
Деревенские всё больше к балаганчикам льнут, а городские — к возам. Деревенским интересно послушать, как играют в балаганчиках граммофоны, а городских больше прельщает поросячий визг, доносящийся из корзинок, накрытых рядном.
Торговля у метёлкинских богатеев шла бойко. Капусту, огурцы закупали местные торговки бочками. Свиные окорока и сало тоже норовили перекупить для продажи вразнос. Крик, шум. Торгуются, перебивают, чуть не в драку.
Мёд, воск, свежие яйца — всё в хорошей цене. Покупателей явно больше, чем продавцов. Со многих станций железной дороги рабочий люд понаехал.
Всё берут. И овёс, и пшеница ходом идёт.
Радуются Алдохины, радуются Салины, не радуется только Гараська. Тоска-змея под сердцем сосёт. Как домой весточку дать, как предупредить ребят о возможной беде? Телеграмму отстукать — в половодье почта совсем не работает, река все телеграфные столбы валит. Да и нельзя никак отлучиться. Заставляет его хозяин караулить мешки, бочонки, весь товар. Эко всего сколько! Нанимали подводы, местных грузчиков, чтобы весь товар с лодок к базару подвезти.
Прикован он к кулацкому добру, словно цепью.
Вот к полудню наполовину распродали свой товар богатеи, а остальное придержали: цена растёт, выгодней подольше поторговать. Весенний базар — почти ярмарка, растягивается дня на два, а то и на три.
Свернули торговлю метёлкинские кулаки и пошли сами добра накупать. И чего только не покупали! И конфет, и пряников, и шалей, и полушалков, а рябая Дарька Алдохина даже граммофон с розовой трубой. Как завела его, поставив поверх мешков и бочек, так в живном ряду поросята примолкли, а петухи запели.
Смешно даже. Но не смеётся Гараська, весь он в тоске, в тревоге.
Оглядывается по сторонам: найти бы хоть какого начальника, комиссара в кожаной куртке, коммуниста, кому можно тревогу доверить.
И вдруг — вот счастье! — заметил среди мальчишек, снующих на базаре, паренька в красном галстуке. Не раздумывая, не спрашиваясь, сорвался — и к нему. Схватил за руку:
— Дело есть, будь готов!
— Всегда готов! — ответил паренёк немного удивлённо.
Увлёк его Гараська за балаганы, отвернул пиджачишко, стёганный на пакле, и показал свой красный галстук.
— Я тоже пионер. Из села Метёлкина.
— Из Метёлкина? — обрадовался мальчишка. — Как же, знаю, про вас весь город говорил, в газетах писали, как вы ценности-то, бриллианты...
— Да, да, это дело прошлое. Ты слушай, чего я скажу про беду нынешнюю!
— А мы к вам в поход собираемся, вот как только окончатся занятия в нашей железнодорожной школе...
— Тогда будет поздно, надо сейчас! — воскликнул Гараська.
— А что случилось?
Они затаились за деревянным балаганчиком, в котором продавались свистульки, пищалки, и под шум этого весёлого товара Гараська поведал городскому пионеру свою тревогу. Когда мальчишка узнал, что кулаки возненавидели стального коня и, наверное, хотят его истребить чужими руками,, призвав каких-то таинственных разбойников, тайно
приплывших неизвестно откуда, — весь он затрепетал.
— Ох, хитры, все на базар уехали, чтобы на них не подумали, а сами покушение подстроили! Чего же нам делать-то? Из-за разлива не пройти, не проехать... Телеграф? Телефон?
— В разлив не работают. Туда бегом бежать надо, по высокому берегу... Я бы побежал, прямо разувшись. Снял бы сапоги и дал ходу.
— Столько километров разве пробежишь?
— Хотя бы до первого села, а там попросить других мальчишек, конечно, из бедноты.
— Правильная идея! — воскликнул мальчишка. — Надо доставить эстафету.
— А это что такое?
— Срочное донесение.
— Ага, ну давай доставляй. И знаешь как: в моём галстуке. Его наши сразу признают и поверят. Таких, как у нас, больше ни у кого нет.
— Вот здорово! Давай пиши.
— Карандаш есть, бумаги нет...
— Вот на щепке!
Ребята, присев на корточки, быстро написали на щепке донесение и завернули его в Гараськин галстук.
— А ты не подведёшь? — спросил Гараська.
— Не веришь? — огорчился пионер. — Ну хочешь залог — на, возьми вот мой складной ножик. Четыре лезвия, шило, ножницы, штопор. Гляди! — и, вынув из кармана, развернул на своей ладони чудесный ножик.
— Вот, если не доставлю эстафету, возьмёшь себе. Доставлю — отдашь. Это в залог!
— Ну, будь готов! — сказал Гараська, забирая ножик.
— Всегда готов! — поднял руку пионер и исчез в толпе.
Гараська бросился к своему базарному месту и наткнулся на Никифора.
— Ты где это был? — грозно вопросил его хозяин, схватив по старой привычке за вихры.
— До ветру бегал, — пролепетал Гараська, засовывая поглубже в карман перочинный ножик.
Кулак рассмеялся и сунул ему горсть пряников. Он был доволен торговлей, слегка пьян и потому добр.
ЕЩЕ ОДНА ТАЙНА
Ночевали метёлкинские базарники у знакомых сасовских торговок. После базара долго распивали чаи, закусывали. Женщины пили наливки и настойки, мужчины — самогон. Шумно судачили про базар, про торговлю, про городские новости и про политику.
У Гараськи заболела голова, ему дроглось. Никифор велел залезать на печку да спать. Так он и сделал. Угрелся на тёплой русской печке и заснул. Но среди ночи проснулся, словно кто-то толкнул его в бок. Это был складной ножик. Он больно вонзился в тело.
Положив ножик поаккуратней, Гараська хотел было снова на боковую, но его внимание привлёк свет в горнице и приглушённые голоса.
Он слегка приподнялся на локтях и заглянул.-И что же он увидел?! За самоваром сидел его хозяин Никифор Салин, Силан Алдохин и неизвестный человек в городском пиджаке. Неизвестный был гладко брит, стрижен ёжиком, скуласт, кожа на его щеках
свешивалась складками, как бруды у собаки. И вот что услышал Гараська:
— Так... Значит, и склеп разграблен, где наши предки были похоронены. И имение растащено. И цела только могила любимого друга детства моего егеря Родиона, — сказал бритый.
— Могилка цела. И плита медная с надписью вашей в стихах цела... А вот то, что в синем клубочке матушка ваша берегла... — проговорил Салин, испытующе глядя на бывшего барина.
— Знаю, в газетах читал, голодное мужичьё съело наши фамильные драгоценности!
— Да, так-то вот, барин: пошли в Помгол.
— Значит, судьба им такая, — донёсся до Гараськи отрывок разговора.
И он, забыв про сон, подтянулся к краю печки.
Этот незнакомец не иначе, как бывший барин Крутолобое. Говорят, они все были широкомордые, головастые...
— Значит, не прокутили товарищи комиссары ваши бриллиантики, а мужикам хлеб закупили? — усмехнулся Силан Алдохин.
Он ведь сам немало награбил из крутолобовского имения и не очень жалел помещичье добро.
— Закупили в Америке... И я сам этому помогал, чёрт меня дери!
— Это как же так, барин? — с притворным сокрушением воскликнул Никифор Салин.
— А вот так. Я теперь работник советского торгпредства... Я ведь знаю несколько иностранных языков не хуже русского... Ну и оказался нужен теперь как специалист.
— Спец, как теперь говорят.
— Да, советский спец, Аполлинарий Андреевич, товарищ Крутолобое, прошу любить и жаловать! — Барин насмешливо раскланялся.
Кулаки расхохотались. Одежда на барине висела как на огородном чучеле.
— Как же вы похудели, Аполлинарий Андреевич! Я помню, были вы поперёк себя шире. Бывало, как вам в коляску садиться, так её с другой стороны трое работников осаживали, чтобы не перевернулась, когда вы на подножку своей барской ногой ступите...
— Да, а я помню, — сказал Никифор, — вы всё, бывало, по заграницам ездили от толщины лечиться, водичку там какую-то пили... Смотри-ка, видать, вас революция от толщины враз вылечила. И бесплатно!
Кулаки снова расхохотались.
— Не бесплатно, — буркнул барин, — ценой последнего имения и прочего...
— Ну, зато вы теперь на государственной службе.
— По заграницам не на свои деньги ездите, а на советские!
— Не вы ли тракторы там закупаете и прочие машины?
— Я! Я! Я! — произносил с досадой барин, ударяя себя кулаком по лбу.
— А для нас вы там не закупите по одному хотя бы?
— Да, видите ли, — сказал Крутолобов, — есть такая возможность. Некоторые работники Нарком-зема отстояли существование так называемых культурных хозяйств. Вы это знаете?
— Знаем, читали.
— Так вот — главное, попасть в число культурных хозяев. Получить такие справки от местных властей. Ну и тогда я смогу вам посодействовать в приобретении для ваших хозяйств некоторых импортных машин.
— Это вы всурьёз, барин? — сразу перестали смеяться кулаки.
— Крутолобовы слов на ветер не бросают.
— Так, так... И что же с нас за это?
— А ничего... Ничего, кроме небольшого содействия.
— Какого же?
Наступила тишина. Барин молчал, обдумывая. Кулаки насторожённо посапывали.
— Содействие самое пустяковое. Я прибуду к вам с одним местным товарищем из земельного отдела для определения: являются ли ваши хозяйства культурными. Для нарезки вам земли, как полагается
таким хозяйствам, до двадцати пяти гектаров... Ну, а вы поможете мне выкопать из могилы гроб любимого егеря моего Родиона и доставить его в лодку.
— Да зачем он вам, барин? — притворно-испуганно сказал Никифор.
— Что, трусите? — усмехнулся Крутолобов.
— Помнится мне, помер ваш забулдыга охотник от заразы какой-то; когда его хоронили, гроб был закрыт... опасно его коснуться. А так, нам что ж, выкопаем, ежели такая ваша барская фантазия, — пожал широкими круглыми плечами Силан.
— Родион умер от пьянства, — сказал Крутолобов, — и любоваться я на его череп и кости не собираюсь. Он похоронен вместе со своей собакой, как древний князь с конём, в лесу.
— В одной могиле с собакой? Ох, грех, прости господи! — перекрестился Никифор.
— Да, такова была его последняя воля, — чтобы над ним шумел лес, в котором он всю жизнь охотился, и с ним в ногах его лежала собака — единственное любимое существо...
— Так, так, — забарабанил Силан пальцами по самовару, любуясь своим отражением, — а не положено ли в этот гроб и что-либо поценней собачки? Серебряная посуда, разные золотые вещи и прочие громоздкие ценности, которые вы не смогли унести с собой?
Барин насторожился.
— При разгроме вашего имения ни одной серебряной тарелки, ни одной позолоченной чарки мы не нашли... А ведь запомнились они мне. Бывало, выносили ваши лакеи золотую чарочку на серебряном блюдечке, когда являлись мы поздравлять господ с большими праздниками... И вот не пришло
мне в голову, дураку, что всё это вы так хитро угробили!
— Не угробил, а сохранил! — сердито сказал барин.
— Ловко, — усмехнулся Силан Алдохин, — золото в гроб схоронили, а покойничка на волю пустили! И вы не боитесь теперь доверить нам такую тайну?
— Нет, не боюсь. Я сейчас для вас ценней, чем эта куча серебряного и позолоченного старья... Вам выгодней моё содействие.
— Это верно, — сказал Никифор. — Забирайте свой гроб с серебряной посудой, мы из простых чашек поедим!
— Правильно, — подтвердил Алдохин, — нам главное по двадцать пять десятин землицы, да пожирней, почерней, уж мы на ней разведём культурные хозяйства!
— По рукам? — сказал барин.
И в это время неловко повернувшийся Гараська задел дёжку с блинами, поставленную хозяйкой на печке. С неё слетел половник и, загрохотав по ступенькам, скатился на пол.
— Кто там?! — крикнул Крутолобое.
Все трое вскочили.
Никифор быстро направился к печке. Подняв половник, заглянул. Гараська притворился спящим.
— Батрачонок мой чего-то расхворался, заснул и во сне мечется, — сказал он и отодвинул дёжку с блинами подальше.
И больше Гараська ничего не слыхал. Все трое вышли на крыльцо, будто покурить. Наверное, сговаривались там, как выкопать гроб с серебряной посудой и золотыми чарками.
«Что делать? Что делать? — думал Гараська, так что голова кружилась. — Летит ли моя весточка ребятам, не подвёл ли меня городской в красном галстуке?»
ПЕШКОМ, ВЕРХОМ, НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Нет, городской мальчишка не подвёл. Это был Петя Цыганов, сын машиниста, погибшего в крушении, подстроенном кулацкими бандами разбойника Антонова. Петя ненавидел кулаков. Он недавно вступил в пионеры и изо всех сил хотел совершить какой-нибудь подвиг. Эстафета Гараськи попалась ему в руки, как перо жар-птицы.
Никому даже не говоря, боясь, как бы другие не перехватили, Петя заскочил только домой, схватил кусок хлеба, посолил, сунул в карман и, сказав сестрёнке: «Пусть мама не беспокоится, вернусь поздно», — бросился бежать к темгенёвской дороге. С собой захватил он ещё дружка своего Володю Банщикова, которого не приняли в пионеры, как самого отчаянного озорника и драчуна изо всех ребят железнодорожного посёлка.
Петя решил представить ему возможность отличиться. Володя был товарищеский парень.
И, главное, вдвоём будет бежать веселей. Вперегонки всегда лучше бегается.
Так они вдвоём и помчались.
Вначале очень резво. Петя даже забыл, что ботинки его немного тесноваты. Потом слегка сбавили ход. Потом Петя натёр ногу, и ему пришлось разуться. Земля была ещё холодная, и вскоре ноги у него задеревенели. Поменялись обувью с Володей.
Вскоре оба натёрли мозоли до крови. Побежали босиком.
Словом, когда завидели темгенёвскую церковь, они уже шли шагом и вид у Пети был такой несчастный, что Володя, который был покрепче, предлагал ему:
— Садись на закорки, давай понесу.
— Ничего, я сам, только бы до Темгенёва, там мы сразу к Павлику! Мы ведь с ним на одной парте сидим.
Павлик Генерозов, уехавший домой на весенние каникулы, был сыном темгенёвского попа. Поэтому его не принимали в пионеры, как он ни напрашивался. И у Пети возникла мысль, что лучше его никто не постарается доставить пионерскую эстафету, чтобы доказать свою преданность.
— А всё-таки он попович! — усомнился Володя. — Как в его руки такое доверять? Риск!
— Пожалуй, какого-нибудь надёжного бедняка послать с ним в паре.
— Да, одного нельзя.
Так рассуждая, они добрались кое-как до Темге-нёва и, ковыляя, побрели к поповскому дому, стоявшему рядом с церковным кладбищем. Здесь всё было тихо, мирно. Поповский конь ощипывал травку с могил. Попадья сушила бельё, протянув верёвки над крестами. Завидев знакомого мальчишку, с которым учился и дружил её сын, она так и всплеснула руками:
— Что такое, Петя, на тебе лица нет? Что у вас там, пожар, вражье нашествие? Отчего вы убежали?
— Мы так... мы по Павлику соскучились, — пытался врать Петя.
Но тут появился испуганный Павлик, и они, забежав в дальний край кладбища, где в часовне хранились гробы для покойников, быстро обговорили все обстоятельства.
Пухлые щёки Павлика запламенели.
— Ты не бойся, я не изменник, я живо эстафету домчу... Вскочу на коня и пошёл!
— Нет, одному не доверим, не то у тебя происхождение, — упирался Володька.
— А мы вдвоём усядемся! — охотно предложил Павлик.
И не успела попадья оглянуться, как Петя с её Павликом, забравшись на неосёдланного коня, уже мчались по большаку от Темгенёва на Глядково.
В залог ей остался долговязый Володька, на которого она обрушила и все свои ахи-охи, и всё своё лекарское искусство. Володька взвыл, дуя на ссадины, смазанные йодом.
Павлик отлично ездил без седла, погоняя коня резво и весело. Но Петьке быстрая верховая езда показалась ещё хуже бега в тесных ботинках. Его так
и мотало из стороны в сторону. Его так и тянуло свалиться. Павлик не раз хватал его за шиворот и едва удерживал от падения.
Обеими руками схватился Петя за гриву коня, зажав эстафету в зубах. Но грива не спасла его, когда конь на спуске с горы поскользнулся. Оба всадника кубарем скатились в овраг.
Пока они опомнились, пока поднялись на ноги, конь не стал ждать. Повернулся, радостно заржал и махнул обратно, отделавшись от седоков.
Что делать? У коня четыре ноги, разве его догонишь! Павлик вытер нос, разбитый при падении, и сказал:
— Бог не выдаст — свинья не съест, пойдём коней воровать.
— А где они?
— Вот здесь в каменоломне есть пара кляч... Сегодня праздник, каменоломщики в Темгенёве гуляют, а коней в сарае оставили... Я знаю, они прямо из церкви к самогонщице направились.
— Попадёт нам!
— Ничего, я на себя беру... Они верующие, а я сын попа, глядишь, бить не станут.
Друзья прокрались к каменоломне и вывели из сарая каких-то невзрачных кляч с боками, вымазанными в известняковой пыли.
Взнуздали их верёвочными уздечками и поехали. Клячи, привычные возить камень, шли не спеша, И сколько бы ребята ни били их пятками по бокам,, сколько ни понукали, ничего не помогло. Лошади, помаргивая белёсыми ресницами, только иной раз оглядывались на своих седоков удивлённо и не прибавляли шагу.
— Да вы понимаете, из-за вас мы опоздаем!!
Беда может произойти! — возмущался Петя на ухо коню.
Павлик юлой вертелся на спине клячи и утешал его:
— Нам только бы до Глядкова добраться. Там в третьем доме с краю живёт комсомолец Митя Рябов. Знаменитый человек, потому что у него есть велосипед. И он ездит на нём в Устье к тамошней учительнице на свидания. Всех собак с ума сводит... Как засверкает спицами!
Теперь вся надежда была на знаменитый велосипед комсомольца Рябова. А вдруг его нет дома?
Когда клячи добрели наконец до дома, третьего с краю, всадники чуть не свалились с них.
— Мити нет дома, он в Сасове, — сказала его мать.
Она сидела на крылечке и грызла семечки, давно наблюдая двух всадников, едущих на
таких страшных клячах, на которых давно никто не ездил.
Петя онемел. Но хитрый попович не растерялся. Позади хозяйки в сенях виднелся знаменитый велосипед. И у Павлика мелькнула дерзкая мысль:
— Так ведь я же сказал: мы от Мити! Это вам послышалось, будто мы спрашиваем, где Митя. Я говорю: где велосипед Митин?
— А что? Зачем вам? — переспросила глуховатая мать Мити.
— Он послал нас к учительнице. До вас на конях, а дальше на велосипеде.
— Это ещё почему?
Тут опомнился Петя и, поняв, о чём идёт речь, поднял руку с красным свёртком и закричал:
— Подарок шлёт невесте! Срочный!
На лице женщины отразилась какая-то догадка.
— А я вас знаю: вы сынок батюшки темгенёвско-го? — улыбнулась она Павлику.
— Ну да, — вдохновился вдруг Павлик, — отец их повенчает тайно. Чтобы комсомольцы не узнали. Мы везём ей обручальное кольцо!
— Обручальное кольцо? — Глуховатая Митина мамаша так и подскочила. Она с необыкновенной расторопностью свела с крыльца велосипед и, торопливо крестясь, сказала: — Слава богу, слава богу, послушался наконец родную мать, женится по христианскому обычаю! Ну, поспешайте, хлопчики, поспешайте! Передайте Клавочке моё родительское благословение...
Павлик слышал, что Митина мать настаивает на церковной свадьбе, а он желает отпраздновать красную, по-комсомольски. И ловко сыграл на этом, сочинив тут же басню про обручальное кольцо.
Ребята схватили велосипед и, боясь оглядываться, побежали рядом с ним прочь от Митиного дома, бросив у его забора ненужных больше лошадей из каменоломни.
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В МЕТЁЛКИНЕ...
А тем временем в Метёлкине всё было безмятежно спокойно. Село словно заснуло под звон жаворонков, окруживших его со всех сторон. Кузница в праздники не работала. Парни с девушками на улицах не шумели: на гулянье выходят вечером. На завалинках мирно сидели старики и старухи, греясь в лучах весеннего солнца. Только иногда этот покой нарушали какие-то тревожные, резкие звуки.
Это Степан обучал Серёжку играть на коровьем рожке сигналы тревоги.
У Серёжки не получалось. Почему-то, когда брал в рот рожок, щекотно было губам, и он смеялся, а играть не мог.
— Ну какой же из тебя дежурный, если ты не можешь тревоги проиграть! — сердился Степан.
Серёжке как раз сегодня выпало дежурить у пожарного сарая, оберегать трактор.
Зажав крепкими губами рожок и надув губы, Степан показывал, как издать резкие, тревожные, призывные звуки.
Серёжка пытался подражать ему, но ничего не выходило, кроме какого-то смешного писка.
Ребята, толпившиеся тут же за околицей, так и падали на землю от смеха.
— Если ты не научишься, я тебя отставлю от дежурства, — грозился Степан, — другого пошлю!
— Да нынче ничего не случится: всё кулачьё на базаре, — говорил Серёжка, — вот когда они вернутся — другое дело.
Так же думал в эти дни и Иван Кочетков. Вместе с учительницей они вышли к мельнице полюбоваться разливом. Анна Ивановна была почему-то задумчива, а он весел.
— Посмотрите, какая красота у нас, какой простор! И дышится как легко. Может быть, потому, что кулачьё, словно вороньё, на базар отлетело и воздух стал чище, ха-ха-ха!
Анна Ивановна не смеялась.
— А когда станем здесь полными хозяевами — красиво заживём, вот увидите! Вот только не уезжайте, не покидайте нас.
Она молчала.
— Конечно, вас ничем и не удержишь, вы перелётная птица, мысли ваши где-то от нас далеко, Я знаю. Где-нибудь за Днестром сердце оставили... А к нам так залетели, на время...
— Оставьте, у меня за Днестром родина. Милая Бессарабия моя под сапогом румынских бояр! Вам это известно. Снова идти на подпольную работу — это ведь не на веселье...
— Значит, отогрелись у нас немного, набрались сил, перелётная птица, и снова в южные края? Конечно, если позовут, это ваш долг... Но зачем же самой так рваться, как же ребята наши без вас? Разобьёте вы многие сердца!
— Сердца эти принадлежат не только мне, но и вам. Смотрите вы не разбейте!
И она круто поворачивается к селу, прислушиваясь, как играет тревогу неугомонный Степан.
А затем наступил вечер. Девушки и парни вышли на берег. Заиграла гармонь, послышались песни, припевки. Маша покормила своего Ивана ужином, и он задумчиво спросил её:
— Может, поночую нынче дома; вроде спокойно, можно поспать...
— Как знаешь, Ваня, — сказала Маша, — только ведь немного осталось до пахоты, земля на ветру да на солнце сохнет, как на сковородке. Я бы уж на твоём месте эти дни особо трактор поберегла. Уж очень на него кулаки ненавиствуют... Словно горло каждому из них твой трактор грозится перепахать.
— Хорошо, будь по-твоему, подежурю и нынче. .Трактор для нас дороже всего... В нём вся наша бу^ дущая жизнь, все надежды.
И, набросив на плечи полушубок, он ушёл к пожарному сараю.
Проходя мимо Алдохиных, Иван заметил мать Силана, нырнувшую в баню с ведром.
«Что это они в праздник баню, что ли, задумали топить? Или самогон гнать? Нет, самогон они до праздника гнали, с собой на базар готовили... И зачем это лазит не вовремя по баням старуха?»
Так подумал Иван и прошёл своим путём.
Дежурили в эту ночь надёжные мужики. Дед Кирьян, исконный бедняк, и кузнец Агей. В праздник он не работал в кузнице и решил в эту ночь испол нить свою очередь.
«Кремни, этих железом не возьмёшь! — довольно усмехнулся Кочетков. — От таких дежурных можно и отлучиться».
Ему очень захотелось ещё поговорить по душам с учительницей. Неужели она задумала после оконч
чания школьных занятий покинуть Метёлкино? По-видимому, так. Что-то стала очень задумчива. Наверное, зовут её товарищи помочь им в подпольной борьбе против румынских бояр, захвативших Бессарабию... А может быть, другие причины? Как было бы хорошо уговорить её остаться.
Но хорошо ли в тёмную ночь идти под её окно?
Так он раздумывал, обходя пожарный сарай, заглядывая внутрь, где темнел стальной громадный трактор.
А ночь становилась всё темней. И всё теплей. С юга незаметно привалили сырые, густые облака. Слились с тёмной, оттаявшей землёй. Закрыли звёзды. Окутали село чернотой. Лишь кое-где в овражках чуть белелись остатки снежных сугробов.
Заметил Иван мальчишку, притаившегося в телеге под мордами лошадей, жующих овсяную солому. И на сердце стало теплей: тоже караулит — жизнь за трактор не пожалеет. Ну и правильно: здесь их будущее. Кто же это? А не всё ли равно — у нас таких мальчишек много!
Походил Иван, побродил, совсем было собрался пойти к учительнице, да вдруг огонёк в её окне погас. Кочетков вздохнул, зашёл в сарай и, улёгшись на деревянный ларь, в котором хранилось разное пожарное имущество, накрылся с головой полушубком.
Наган, как всегда, положил в головах, по старой военной привычке.
Он не знал, и никто не знал, кроме старухи Алдо-хиной, что в этот час трое незнакомых ему людей уговаривались, как отправить на тот свет его душу.
Кривой человек в полушубке, усатый человек в драной кожаной куртке и егерь Родион, которого дав-
но считали покойником, сидели наготове в бане, ступеньки от которой вели к реке.
Старуха с ведром, таясь в темноте, потихоньку откачала воду из затопленной лодки, в которой они приплыли откуда-то из лесных краёв. И теперь им нужно было сделать своё дело и уплыть на ней по тёмной реке, в чёрную ночь.
При свете коптилки они проверили оружие. У одного был наган, у другого — кавалерийский карабин с обрезанным .стволом, у Родиона — кожаный мешок и нож, каким колют свиней.
— Керосин-то не забудь, принеси. Да в чём-нибудь, чтобы не звенел, — потребовал Родион.
Старуха пошла в конюшню и взяла деревянную бадейку, в которой батрак обычно размешивал мучное пойло для лошадей.
Макарка не обратил бы внимания, возьми она бадейку открыто, но старуха действовала воровато, с оглядкой. И это его заинтересовало. Макарка затаился за дверью, ожидая, что будет дальше.
И вдруг старуха прошмыгнула мимо него к баньке.
«Ага, — подумал Макарка, — самогон потихоньку ото всех каким-то дальним людям продаёт. Вот хитрюга!»
Но вдруг до него донёсся едкий запах керосина.
«Керосин тащит? Что это она, сдурела? Бадейку изгадит, а мне попадёт!»
И Макарка орлом налетел на старуху, догнав её у баньки. Но только хотел отнять, как был схвачен чьей-то железной рукой.
— Пошёл прочь, не мешайся! — приказал ему чей-то хриплый голос.
— Иди, иди к лошадям, не суйся, когда не надо! — зашипела старуха.
А хриплый так его толкнул, поддав пинка, что Макарка очутился на четвереньках. И отлетел прочь не орлом, а мокрой курицей.
От стыда и досады он сжал кулаки, испачканные в грязи, хотел броситься на обидчика и отнять хозяйское добро, но услышал нечто такое, что его остановило.
— Когда выплеснете, и её бросьте в огонь или в воду! — сказала старуха.
— Знаем, — ответил из темноты хриплый, — а ты за мальчишкой присмотри... Кабы чего не вытворил, » дурак, — и прислушался.
Макарка стоял затаив дыхание.
— Ну, зажигалку, спички... Ничего не забыли? Так выпьем. Посошок, на дорожку!
В темноте было слышно, как булькал самогон, как хриплый и его подручные, закусывая, хрустели огурцами.
— Пошли! До свиданьица, бабка, на том свете встретимся, — мрачно сказал другой голос.
И три пары ног зашлёпали по грязи.
Старуха постояла у баньки. Послушала, как тихо спит село. И пошла к дому. Было так темно, что она чуть не наступила Макарке на носки и не заметила его.
Она шла и торопливо крестила себя мелкими крестами.
— Макар! Макарушка! — стараясь придать голосу ласковость, позвала она.
Но Макарка не отозвался: он был не дурак. Услышав про огонь и керосин, сразу догадался, что дело идёт о поджоге. Но о каком? У него сердце, как кипятком, обожгло, когда вспомнил всю ненависть своих хозяев к Ивану Кочеткову и его стальному коню.
Спит теперь Иван, дремлют караульщики у пожарного сарая, беды не ведая... А к ним крадутся в ночной темноте три бандита с бадейкой керосина, с обрезами и кинжалами.
Что делать? Предупредить? Опередить? Перехватят бандиты, убьют, зарежут — и пикнуть не успеешь...
Страх приковал его к месту. Лучше бы ничего не знать, не ведать! Макарка весь сжался, чтобы унять дрожь, и пристыдил себя: «Эх, ты, трясёшься мокрой курицей, а ещё Орлом звался!»
Обида, горькая обида на пионеров, которые за человека его не считали, вдруг подступила к сердцу: «Ну, я вам покажу, я вам докажу!»
Макарка крепко стиснул кулаки, словно готовясь ‘К драке, и бросился не к пожарному сараю, а к церкви.
А где же была пионерская эстафета, заветная говорящая щепка, завёрнутая в муаровый галстук и доверенная Гараськой Пете Цыганову? Чтобы узнать её судьбу, возвратимся к тому, что произошло несколько ранее, в светлое время дня, предшествующее тёмной, бандитской ночи. В село Глядково, где мы оставили двух друзей, добывших хитростью велосипед.
Ухватив велосипед, ребята даже засмеялись от радости. Вот так повезло! Что может быть лучше велосипеда? Они видели, как проносился на нём Митя Рябов, когда приезжал в Сасово. Как вихрь сверкающий. Даже собаки отставали.
Правда, самим ребятам ездить на велосипеде как-то ещё не приходилось. Но чего же тут хитрого? Сел на него, закрутил педалями — и катись! Главное, конечно, сесть и стронуться с места, а там сам пойдёт, ведь недаром его зовут в деревне самокатом.
Некоторое время ребята бежали рядом с велосипедом, ведя его, как коня под уздцы.
И он бежал послушно, словно учёный. Неплохо знал дорогу к устьинской учительнице. Наверное, совсем недавно Митя туда ездил. Местами на просыхающих тропинках был виден следок от его полосатых шин.
— Подсади-ка меня, — попросил Петя, — да поддержи слегка.
Павлик подсадил, поддержал и подтолкнул. Петя поехал резво, но тут заметил вдалеке столб и почуял, что велосипед нарочно к нему сворачивает, желая трахнуть его об этот столб.
— Павлик, держи!
Павлик, догнав, поддержал. Но стоило отпустить, как, сделав какой-то странный виток, велосипед бросался к первому попавшемуся столбу, колодцу, забору, углу сарая и трескался о все предметы с озорным звоном.
Конечно, это привлекло внимание собак. И вскоре сбежались все глядковские дворняги, желая вырвать спицы ненавистной им машине, которая прежде проносилась быстро, не даваясь им в зубы, а теперь что-то оплошала.
— Павлик, держи! Держи, а я буду ехать! — заорал в ужасе Петя.
— Крути быстрей, чтобы не догнали!
Петя старался, крутил педали, Павлик поддерживал велосипед сзади, а зловредные псы гонялись за велосипедом, по ошибке хватали не за колёса, а Павлика за штаны.
Он героически отбивался, брыкался, оберегая велосипед. От его праздничных штанов и куртки летели клочья. И, когда стало невтерпёж, он крикнул:
— Стоп, Петя, теперь ты поддерживай, а я поеду! Чур, по переменкам.
— Ладно, — согласился Петя и вскоре пожалел, почуяв, как остры зубы у глядковских собак.
Пришлось оставить быструю езду и пройти по селу рядом с велосипедом, отбиваясь от тучи яростных псов хворостинами.
Глядково — село длинное, и, пока выбрались за околицу, прошло много времени; солнце быстро побежало к закату.
Дорога на Устье шла по высокому берегу Цны. Колеи её были песчаны, без грязи. Тут бы велосипеду, казалось, только катись. Но машина попалась на редкость упрямая. Она совершенно не желала
ехать прямо. Только зигзагами. И только от столба к столбу.
Так всю дорогу и пришлось одному ехать, а другому поддерживать велосипед сзади. Пока добрались таким способом до Устья, ребята много раз испытали соблазн бросить упрямца и удрать от него подальше.
Словом, входили они в Устье едва живые, таща ве лосипед на себе. Эта упрямая скотина совсем не желала не только их везти — сама не хотела ехать. Скрючила почему-то колёса восьмёрками и насмешливо позванивала в звоночек.
Дотащив велосипед до школы, ребята прислонили капризника под окном учительницы. Сказали удивлённой сторожихе, что это Митя прислал, чтобы Клава сама к нему приехала. И удрали от своего мучителя, показав ему фиги.
— Теперь нам никаких коней, велосипедов, ничего не надо, — сказал Павлушка, — теперь нам засесть в лодку — и пошёл до самого Метёлкина, и никакие собаки не догонят: по воде собаки не бегают!
В КОГТЯХ ОРЛА
Выйдя на берег, ребята невольно залюбовались разливом. Вода под закатным солнцем казалась расплавленным золотом. Синие леса виднелись вдали, И вот оно — казалось, рукой подать, на высоком холме, как на блюде, село Метёлкино.
Лодку, скорей лодку! Достали велосипед, неужели не сумеют достать какую-нибудь лодчонку?
Завидели ребята кучу людей на берегу вокруг кожаных мешков и скорее к ним. Вот счастье — это
почта! Её нужно тоже в Метёлкино везти. И лодка большая готова, и кормчий на корме, да вот беда: гребцы сомневаются, не поздновато ли? Зачем плыть на ночь глядя, когда можно утречком спозаранку. Тем более, что дело праздничное.
Старый почтарь почёсывал бородку, поглядывая поверх очков на разлив, на солнце, склоняющееся к западу. А молодые парни, назначенные гребцами, изо всех сил уговаривали его остаться. Парням не хотелось в праздник уплывать в чужое село. Молчал только кормчий — суровый старик, который знал, что лучше плыть сейчас, пока ветер стих, а завтра ещё неизвестно, какая погодка будет. С разливом не шути. В сторонке стоял какой-то странный человек, явно нездешний, в кожаной куртке, в картузе с ушами, на ногах ботинки с крагами. Он смотрел вдаль, ни во что не вмешиваясь.
Но ребята вмешались.
Они с жаром стали доказывать, что плыть надо сейчас, немедленно, чтобы попасть в Метёлкино дотемна.
— Да вам-то что? — спросил почтальон, поднимая на лоб очки.
— А мы тоже почтальоны, везём эстафету — ме-тёлкинским пионерам, срочно!
Эти слова произвели какое-то магическое впечатление. Почтальон поправил форменную фуражку и важно сказал:
— И у меня посылка метёлкинским пионерам! И тоже срочная. Видать, надо плыть да быть...
— Плыть да быть! Плыть да быть! — запрыгали от радости ребята.
Стали помогать почтарям стаскивать в лодку тяжёлые кожаные мешки. Но в самую последнюю мину-
ту — новая беда. Почтари предложили им сдать эстафету к ним в почтовые отправления, а самих взять отказались. Мест нет в лодке. И так тесно. Гребцы вон да почта. И лодка уже перегружена.
— А мы за гребцов! Мы всю дорогу грести согласны! — закричали ребята.
Кормчий оглядел их зорким взглядом и проворчал:
— Не дотянете... пожалуй. Силёнок не хватит.
Но гребцы вдруг поднялись со своих мест и радостно заговорили:
— Дотянут, дядя Илья, ещё как дотянут. Сразу видать — боевые ребята. Для них погрести — это ж удовольствие. Отпусти нас, благодарны будем! Тебе всё равно, а нам вечером на гулянку!
— Ступайте! — сказал вдруг нездешний. — Обойдёмся без вас!
Парни так быстро выскочили из лодки и ребята так скоро заняли их места, что и дядя Илья не успел оглянуться, как лодка уже плыла, оттолкнутая обрадованными парнями от берега.
Незнакомец, отпустивший гребцов, сидел на кожа ных мешках, повернув лицо к Метёлкину.
Течение несло лодку довольно быстро, и ребята действительно получали удовольствие, шлёпая вёслами без всякого напряжения.
Почтарь, усевшись рядом с незнакомцем на кожаные мешки, полюбовался разливом, покурил, а потом стал интересоваться, что за срочный пакет везут ме-тёлкинским пионерам их молодые попутчики. Не желая выдавать тайны, ребята отговорились, будто не знают: не заглядывали.
— Вот и я тоже не знаю, — не без огорчения сказал почтарь, — и догадаться не могу, чего это им
шлют в ящике из самой Москвы. По размеру велик, а по весу очень лёгок.
На ребят напало такое любопытство, что они уговорили почтаря показать им хотя бы только сам ящик, может быть, они догадаются, что в нём.
Кормчему тоже было любопытно. Достали ящик, расстегнув проволочные шнуры кожаного мешка. Фанерный ящик оказался действительно очень лёгким. Чересчур лёгким для своего размера.
— Чудная посылка. Ни разу такой не видывал, сколько почту вожу, — сказал старый почтарь, поднимая ящик и прослушивая его, как доктор больного. — Чересчур легка, один воздух!
— Не посылают же в Метёлкино из Москвы воздух!
— Ха-ха-ха! Воздух в посылке, — рассмеялся кормчий дядя Илья, — такого не бывает.
— Бывало! Говорят, один чудак посылал по почте звук! — улыбнулся вдруг нездешний.
— Это не чудак, это барон Мюнхаузен, — поправил его Павлик.
— И ведь что любопытно — на посылке наклейка: срочная, с доставкой... А ничем скоропортящимся не пахнет, — обнюхав посылку, заключил многоопытный почтальон. — Не пойму, что в ней такое.
— Давайте отгадывать! — предложил Петя.
Все согласились.
— Книги! — выпалил Павлик.
— Ноль! — показал ему на пальцах старик. — Самое тяжёлое в посылках — книги!
— Пионерское знамя, плакаты, лозунги, — сказал Петя.
— Ноль! — крикнул почтарь. — Материя и бумага — вещи тяжёлые, в них мало воздуху.
— Вата! — крикнул с кормы дядя Илья. — Пух, перо!
Все переглянулись. Но Петя решительно заявил:
— Не нужна пионерам вата. Зачем им пух, перо?
— Ноль! — сказал нездешний. — Никто не угадает, а вот я знаю...
Но тут лодка вошла во встречное течение, валившее с Оки, и гребцам стало не до угадок.
— А ну навались! — командовал кормчий. — Разом-раз, дружней бей!
Петя и Павлик навалились, стали ударять вёслами чаще, но при всех их усилиях лодка не ускоряла хода.
— Ещё сильней! Ещё дружней! — командовал кормчий.
Пот прошиб ребят, плечи заныли, заболели животы, а лодка, казалось, влипла в золотистую воду, как в мёд, и стояла на одном месте, напротив Метёл-кина.
Хоть бы ветерок подул, хоть бы он помог подогнать лодку к желанному берегу.
— Это мы Орлу попались! Орёл нас ухватил! — сказал старый почтарь. — Я не первый раз на этом самом месте у него в когтях!
— Какой орёл? — с трудом произнёс Петя, изо всех сил налегая на весло.
— Река Орёл под нами бежит, её вода к нам пришла и переборола Цну-голубку, — объяснил чудесное явление старик.
— Ударь Орла! Ударь Орла! — командовал кормчий.
Ребята яростно ударяли вёслами воду Орла, потные, красные от напряжения удивительной битвы. Ладони их горели. Приходилось обмакивать в воду.
И вскоре волдыри на них полопались, кожа содралась, и они почувствовали, как шершавы и жгучи вёсла, когда держишь их ободранными до крови ладонями.
Вскоре лица ребят заливал не только пот, но и слёзы. Они не плакали, нет, слёзы выжимало напряжение всех сил. Они с досадой поглядывали на старого почтаря и на нездешнего: почему они не придут на помощь?
И тут кормчий крикнул:
— Гребцов сменяй!
Почтарь и незнакомец сели на вёсла. Но у нездешнего оказалась только одна рука, другая в чёрной перчатке была у него деревянной. Она только постукивала, лёжа на весле.
А старик после первых же гребков закашлялся и сказал виновато:
— У него одна рука... У меня одно лёгкое... Вот какое дело, ребятки!
— А ну бей! Ещё чуть-чуть! — командовал кормчий, с трудом направляя лодку вразрез встречному течению.
Павлик обмотал руки носовым платком, разорвав его пополам. У Пети платка не было. Он обмотал ладони сорванным с шеи галстуком и, соединив их, снова положил на весло.
И снова они начали грести, наваливаясь на вёсла телами.
Им показалось, что это началось давно и продолжается бесконечно: глаза слипались от пота, они уже не видели ни красот разлива, ни пролетающих над ними белых лебедей, ни сверкающих разноцветным оперением уток, — тьма обволакивала их, и ничего не оставалось в глазах, кроме тьмы.
— Навались! Навались! Дружней бей! — слышался им хриплый голос кормчего.
И вдруг они почувствовали какое-то облегчение.
В ту же минуту старик радостно прокричал:
— Мокша! Поплывём лёгша!
Лодка пробилась в стремительные струи реки Мокши, спорящие с водами далёкого Орла, донесёнными сюда Окой.
Но ребятам было не до размышлений над удивительными течениями полых вод множества рек, сливающихся в междуречье Оки, Цны и Мокши. Они испытывали блаженство от облегчения и едва шлёпали вёслами. Когда они пришли немного в себя, им показалось, будто они куда-то провалились вместе с лодкой, такая стояла вокруг чёрная тьма.
Бывают весной такие тёмные ночи. И падают они внезапно, как чёрный занавес, лишь только зайдёт солнце. В густой, душной тьме даже голоса пропадали и глохли, как в мокрой вате. И, когда ребята услышали слова кормчего: «Ну, вот и он — берег!» — им показалось, что донеслись они откуда-то издалека.
— Что, хлопчики, сморились, — ласковым голосом сказал старый почтарь, — уже и встать нет сил И руки разжать не можете, ишь прикипели к вёслам®
— А не хотите узнать, что в посылке? — крикнул откуда-то, словно издалека, незнакомец, — поспешим в школу, это в школе огонёк!
И эти слова пробудили ребят от какого-то оцепенения. Они вскочили со скамьи, отлепили от рук приклеенные их кровью вёсла и очутились на берегу.
Они увидели огонёк в единственном окне школы, который послужил кормчему маяком, и, качаясь, словно их шатали невидимые волны, полезли в гору на огонёк этого маяка.
— Скорей, скорей, пока не погас!
Незнакомец тащил за ними загадочный лёгкий
ящик, в котором, судя по легчайшему весу, мог быть только воздух да звук.
Он обогнал ребят, добрался до крыльца школы первым и постучал в дверь деревянной рукой. Нечасто, недробно, необыкновенно: тук, тук, тук — как стучат телеграфисты, выбивая азбуку Морзе.
Услышав необыкновенный стук деревянной руки, Анна Ивановна, схватив лампу, пробежала по коридору в сени и спросила испуганным голосом:
— Кто там?
Однорукий вместо ответа снова постучал телеграфно.
Прислушавшись, Анна Ивановна вскрикнула:
— Адриан? Это ты?! — и лампа закачалась у неё в руке.
— Я, на огонёк в школе, о котором ты так хорошо писала! — ответил Адриан и поддержал лампу своей единственной рукой.
ТРУБИ, ГОРНИСТ!
А в это время Иван Кочетков, увидев, что свет в окне учительницы пропал, со вздохом вошёл в пожарный сарай и, завернувшись в полушубок, залёг спать.
Ему и в голову не пришло, что жизнь в школе не замерла, а, наоборот, началась, и весьма шумно Только шум этот скрывали бревенчатые стены.
— Ну вот, наконец-то! — обрадованно воскликнула Анна Ивановна, придя несколько в себя и завидев посылку. — Я её давно жду!
— А что в ней? Что такое? — наперебой заговорили ребята, забыв даже про свою сверхсрочную эстафету.
— Мы всю дорогу спорили и не могли отгадать, — утирая пот левой рукой, сказал Адриан. — Не то воздух тут, не то звук... Но мне кажется...
— Тут и гадать долго нечего, всё так ясно, — улыбнулась Анна Ивановна, — конечно, здесь и воздух, и звук! Сейчас вскроем!
Проснулся Степан, спавший на лавке в коридоре и, ещё не соображая, в чём дело, подал учительнице топор. Анна Ивановна быстро вскрыла ящик и, сунув руку, сразу извлекла оттуда звук. Да, самый настоящий звук барабана.
Затем рука её извлекла завёрнутый, в шуршащую бумагу длинный предмет, и тут, ещё не видя его, Петя и Павлик крикнули:
— Пионерский горн!
— И ты не угадал такой родной тебе предмет? Хорош бывший трубач эскадрона! — засмеялась Анна Ивановна, взглянув на Адриана.
— Вы угадали, — сказали ребята, — в посылке пересылали из Москвы в Метёлкино не воздух, а звуки, скрытые в горне и барабане. Вам премия!
Анна Ивановна ловкими руками развёртывала горн, сверкающий медью, а Степан, бывший при ней дежурным пионером, бережно развёртывал бумагу, скрывающую барабан.
Руки его дрожали.
— Товарищ Аня, товарищ вожатая, надо сейчас же созвать ребят... Они плакать будут, если узнают, что проспали такое... Сейчас дам побудку! — И он потянулся к горну.
— Ну, нельзя же всё село среди ночи подни-
мать! — засмеялась Анна Ивановна. — Все люди уже крепко спят.
— Спят, да не все, враги не спят!.. — крикнул Петя, вспомнив про эстафету.
— Да, вот здесь — тревога, скорей! — Стряхнув с себя очарование, Павлик подал щепку, завёрнутую в красный муар.
— Откуда у вас муаровый галстук? — поразился Степан. — Такие только у нас!
— Это вашего батрачонка.
— Гараськин? А что с ним?!
— Тут всё сказано. — Петя развернул муар, и говорящая щепка выскочила и попала в руки Анны Ивановны.
— Вы читайте, читайте! — крикнул Петя, испугавшись и задрожав при виде исказившегося лица учительницы, вдруг засветившегося красным отсветом.
— Поздно! — крикнула она, распахивая дверь на крыльцо. — Пожар!
Ребята зажмурились, увидев ярко-красное пламя, с треском раздирающее чёрную ночь.
— Горнист, труби! — крикнула Анна Ивановна Степану, выхватившему у неё из рук горн.
Степан, надув щёки, хотел послать призывные звуки тревоги, но губы его, привычные к коровьему рожку, сумели извлечь из настоящего пионерского горна только жалкий писк.
— А ну дай сюда! — крикнул Адриан. — Я ещё не разучился трубить. Панская пуля отстрелила мне правую руку, когда я трубил атаку под Бродами, но у меня осталась левая!
И, выхватив горн у растерянного Степана, прижал его левой рукой к своим тонким губам.
Что же произошло тем временем у пожарного сарая, к которому направились три злобных бандита с бадейкой керосина, с зажигалкой, спичками и оружием в руках?
А там произошло вот что.
Иван Кочетков задремал на ларе с пожарным инструментом. Дед Кирьян, пригревшись на телеге с сеном, заснул ещё крепче, завернувшись в тулуп.
Серёжка, назначенный в пионерский караул, залез под телегу, где он чувствовал себя как в секрете на войне: его никто не замечает, а ему всё видно, всё слышно.
В руке сжимал он самодельный пистолет из пустой гильзы, заряжавшийся с дула. Вместо курка у него было запальное отверстие. Стоило в него насыпать пороху да прижечь, как мог раздаться выстрел. Только надо было держать его подальше от себя, над головой, чтобы самого стрелка не задело. Оружие было сложное, зато сами изобрели.
В кармане у Серёжки был спрятан коровий рог, — чтобы в случае чего трубить тревогу.
Правда, Серёжка никак не мог приловчиться к нему, его разбирал смех, потому что при попытке трубить было щекотно губам. Но он уверил ребят, что в случае опасности, когда будет не до смеха, небось затрубит.
Так он лежал под телегой, борясь с дремотой. Вокруг было так тихо, что подступила скука. Лошади, стоявшие у пожарной бочки в хомутах и сбруе, так мерно и так мирно жевали сено, что от этого ещё больше клонило ко сну.
По-настоящему бодрствовал один сторож — куз-
нец Агей. Крепко подпоясавшись, с топором за поясом, с дубинкой на плече, он расхаживал перед пожарным сараем как часовой. Взад-вперёд. Взад-вперёд. И, стараясь проникнуть в тьму, зорко посматривал по сторонам.
Богатырь, весь налитой силой, он чувствовал себя способным в одиночку отбиться своей громадной дубиной от всех метёлкинских кулаков и подкулачников. За таким стражем можно было бы ничего не бояться. Но имелся у кузнеца один недостаток — он был несколько глуховат. А это для сторожа беда.
Стоял он, беды не чуя, бандитской напасти не ведая. А в это время бандиты быстро, сноровисто крались к пожарному сараю. Лодка, поднятая из воды и откачанная, уже ждала их за баней Алдохиных. Старуха караулила её, притащив кошель, полный хлеба и сала. В руке сжимала узелок с пачкой денег — плату за жизнь Кочеткова, за гибель стального коня.
Дело оставалось за небольшим...
Агей не расслышал, как подкрались бандиты. Увидев чёрную фигуру, метнувшуюся к нему из темноты, он спросил негромко, неиспутанно, как человек, уверенный в своей силе:
— Кто здесь?
— Твой кум! — ответил хриплый голос, отвлекая внимание.
А в это время Родион Кулюшкин ловко накинул на голову Агея кожаный мешок.
Кузнец хотел крикнуть, но задохнулся ядовитой табачной пылью, насыпанной на дно мешка.
Хотел расправить могучие руки, но кожаный мешок спеленал его, как ребёнка. Он вскочил и тут же упал, оттого что ноги его захлестнула ремённая петля.
И больше кузнец ничего не помнил.
Ещё быстрей управились бандиты с дедом Кирья-ном. Лишь только старик поднял голову с телеги, на которой он дремал, как получил страшный удар чем-то тяжёлым и рухнул на овсяную солому, заливая её кровью.
Бандиты быстро подкатили к дверям пожарного сарая телегу с соломой и, облив керосином старика вместе с его тулупом, подожгли.
Отскочив в тень, они притаились. Если из сарая покажется Кочетков, расстреляют его при свете пожара.
Испуганно заржали кони.
Вдруг что-то живое выскочило из-под телеги и метнулось во тьму над землёй. Бандиты подумали, что это собака. Но это был Серёжка. Храбрец, удалец, никогда не терявшийся Серёжка так напугался, что удирал на четвереньках. В ужас привела его телега, которая вдруг ожила и двинулась сама собой. Чуть не придавила его колёсами. Спросонья это было так страшно...
Опомнился Сергей только у колодца, в который уткнулся лбом.
Ничего ещё не понимая, он привстал, держась за сруб колодца, и увидел вначале, как вспыхнула телега, облитая керосином, затем услышал крики Кочеткова:
— Горим!
Иван, проснувшийся от вспышки огня, подскочил к дверям сарая и, обнаружив, что они кем-то заперты снаружи, заколотил в них ногами и руками.
Вспомнив свои обязанности, Серёжка приложил к губам рожок, пытаясь затрубить тревогу, но тщетно.
Ничего не получалось. Теперь он уже не смеялся от щекотки, а плакал с досады. Слёзы мешали
его дрожащим губам плотно захватить рожок и издать могучий, звонкий призыв тревоги.
Увидев при свете огня, что Кочетков не может открыть дверей сарая, в котором он сгорит вместе со стальным конём, Серёжка забыл страх и бросился на помощь.
Он сорвал щеколду, которую наложили на дверь бандиты, и, упершись ногами и руками, старался хоть немного сдвинуть телегу. Пламя лизало его лицо, полушубок на нём загорелся. Но Серёжка с закрытыми глазами продолжал делать своё дело. Телега немного стронулась, дверь сарая подалась. Кочетков стал вылезать, расширяя узкую щель.
В это время раздались выстрелы. Пули щёлкнули по железной щеколде, расщепили дверь.
— Дядя Иван, это в тебя, прячься! — крикнул
Серёжка и, обернувшись к не видимым во тьме бандитам, закрыл собой Кочеткова, распахнув полушубок. Пламя осветило на его груди красный галстук.
— Ложись, тебя убьют! — крикнул Кочетков, доставая наган и пытаясь отстранить Серёжку.
— Всех не убьют, нас, мальчишек, много! — азартно крикнул Серёжка и, приложив к губам рожок, пытался ещё раз затрубить.
Но в это время что-то с силой толкнуло его в грудь, в глазах вспыхнул огонь, а в ушах его вдруг зазвучали призывные звуки горна, которые перекрыли удары набата: бум-бам, бум-бам!
«Сейчас набегут все ребята, наша возьмёт! Это я играю, это я сумел», — блаженно подумал Серёжка, удивляясь, что рожок звучит как колокол. И упал во тьму.
ПЕРОЧИННЫЙ НОЖИК И ЩЕПКА
Прежде чем рассказать о дальнейших событиях в Метёлкине, вернёмся к Гараське, которому не спалось в эту ночь. На рассвете после тёмной, пасмурной ночи подул южный ветер и к утру разогнал облака. Пользуясь попутным ветром, кулацкая флотилия, подняв паруса, отправилась восвояси. Все базарники были довольны удачной торговлей и покупками. Алдохины парни играли кто во что. Матвей — на новой гармонии, Гришка и Федька по очереди на губных гармошках, а маленький Витька дул в глиняные свистульки.
Невесело было только на ладье Никифора Салина, на которой плыл Гараська.
Хозяин был мрачен, батрачонок тих, только новый пассажир, в кожаном пальто, с портфелем, был весел и, оглядывая простор разлива, всё восхищался красотами природы.
— Какие синие дали! Какие зелёные озими! Какое голубое небо! Какая золотая вода!
— Да брось ты, барин, жёлтая она от глины, а не золотая! — проворчал зло Никифор.
Из-за этого барина и злится он на весь белый свет, а пуще всего на Гараську. Притих мальчишка, понял, что сплоховал, да поздно. Слишком неожиданно появился на берегу этот кожаный барин, слишком неожиданно спросил хозяин, увидев, как вздрогнул батрак:
— Что, Карась, угадал знакомого?
Гараська смутился, не сразу отказался, и Никифор, криво усмехнувшись, сказал:
— Тот самый, которого ты ночью с печки увидал!
От этих слов у Гараськи как-то похолодело в
груди.
«Ну ничего, — подумал он, — нас, мальчишек, много, мою весточку, наверное, доставили!»
И почему-то немного прошла его робость. Он только не мог выдерживать колючего, режущего ножом взгляда хозяина. Устроившись на пустых мешках в тени паруса, Гараська потихоньку достал из кармана оставленный ему в залог перочинный ножик и стал строгать какую-то щепочку, вспоминая лицо мальчишки в красном галстуке и стараясь вообразить, где он теперь, что делает, как доставлял он его весть на говорящей щепке метёлкинским пионерам.
Перед Гараськой проносились какие-то неясные воображаемые картины, в которых участвовали ребята в красных галстуках. Иван Кочетков с наганом, кривой незнакомец, притаившийся в бане.
Машинально он всё строгал щепочку и выстругал
её так гладко, что она превратилась в аккуратную пластинку, умещавшуюся в ладони. Любуясь её медовым цветом, Гараська стал вспоминать, что говорилось вчера за самоваром этим вот кожаным барином, который так любуется синим лесом и зеленями.
«Утопят они меня с Никишкой, — вдруг ясно подумал Гараська, — обязательно утопят, чтобы я никому не рассказал про гроб с серебром и золотом».
И стал он острым ножичком вырезать по памяти егерскую могилу, — ведь не раз с ребятами они читали надпись на медной доске:
Здесь спит известный егерь,
Кулюшкин Родион,
Не потревожьте, люди,
Его блаженный сон.
Надпись действовала: могилу эту никто не тревожил. Зелёная трава густо на ней росла. И вот, оказывается, не Родион в ней спит, а барские золотые чарки и серебряные тарелки. «Чего буржуи не придумают», — усмехается Гараська и вырезает маленькими буковками свою надпись на щепке:
А меня похороните возле матушки родной —
Неохота и в могиле лежать горьким сиротой.
Прочёл, подумал, посмотрел на разлив, сверкающий под солнцем, и вырезал, стараясь, чтобы получалось поскладней :-
В смерти моей вы реку не вините,
Салина с барином строже спросите.
Эти строчки вызвали у него такую грусть, что он чуть не заплакал. И, чтобы не оплошать, он вырезал насмешливые слова на обороте щепки:
Знайте — барин в этот гроб Всё своё богатство сгрёб!
Эта надпись заставила его усмехнуться и прогнать тоску. Он поднял голову, оглядел тучных, здоровенных врагов своих задорно, как бы желая сказать: «Вы меня не троньте, не замайте, не то сами наплачетесь!»
— Ты что глядишь волчонком? — заметив его взгляд, прикрикнул Никифор Салин, не придавший значения тому, что батрачонок строгает какую-то щепку. От скуки чего же ему делать?
«Пожалуй, надо мне разуть сапоги», — подумал Гараська, ничего не ответив, и убрал ножик и щепку за голенище.
— Тебе что, мало нового картуза?
Гараська потрогал картуз, совсем забыв про базарную обновку на своей голове. Да, ему подарили новый картуз, сделанный из старых диагоналевых офицерских брюк. К нему был пришит нарядный лаковый козырёк.
По течению, подгоняемая попутным ветром, лодка летела, оставляя позади пенный след. При слиянии Цны и Мокши её затрясло на крутых бурунах, и Гараська вздрогнул. Вот в такую кипень попадёшь, тут и без сапог не выплывешь! Недаром место это называется Рассыпуха.
Вскоре показалось Метёлкино, и сердце его тревожно забилось. Что там? Дошла ли красная эстафета? Жив ли Иван Кочетков, цел ли стальной конь, дающий бедноте силу?
Ничего не заметно издали. Стоит, как стояло, село, красуется над разливом, машет пролётным птицам вётлами, усеянными грачиными гнёздами.
Ближе к дому оживились все базарники, снова послышалась игра притихших было губных гармоник, зазвучал какой-то нарочитый смех.
Вот уже видны люди, кони, даже белые куры и петухи. Люди почему-то спешат к берегу, и вот уже встречает лодку целая толпа: похоже, что всё село высыпало.
— Кум, а ведь это нас встречают! — крикнул Ни-кишка в соседнюю лодку Алдохину, приложив ладонь козырьком. — Что-то народу много?
— Значит, большие новости у нас в селе! — отозвался Силан.
Течение и ветер мчали их теперь мимо села и, чтобы попасть в Метёлкино, надо было убрать паруса и сделать крутой разворот. Вся флотилия стала делать этот ловкий манёвр. Лодки одна за другой убирали паруса и, развернувшись, с ходу причаливали к берегу. Все, кроме одной. Никифор Салин засмотрелся, как его жена ловко управилась с парусом, налегла на кормовое весло — правило и загнала длинную ладью в тихую заводь, как корову в стойло. А сам Никифор, плывший на другой лодке, сделав поворот, наверное, забыл убрать парус, и ветер с шумом завалил его на воду, лихо опрокинув лодку.
Гараська, кожаный барин, поклажа и сам хозяин — все очутились в воде. Место здесь было неглубокое, взрослым всего по грудь, а Гараське — с головой. До берега совсем близко, но не доплыть, потянут на дно отцовские сапоги.
Гараська сумел схватиться за борт и ещё старался придержать хозяйские мешки, чтобы не унесло водой.
В это время Никифор ударил его веслом по паль-щам, оттолкнул на глубину. Гараська успел схватиться за его пиджак, Никифор стал его отцеплять.
— Что ты делаешь, мерзавец? — завопил увидев-ший это Крутолобое. — Мальчишка утонет!
— Если он не утонет, мы не выплывем! — прохрипел кулак, отцепляя посиневшие пальцы Тара ськи.
— Негодяй, скотина! — завопил барин, хотел было помочь утопающему, но оступился и, попав на глубокое место, сам начал тонуть.
А Никифор Салин, управившись с батрачонком, от которого остался на воде один лишь картуз с лаковым козырьком, не только не пришёл на помощь Кру-толобову, но ещё успел его подтолкнуть веслом подальше на глубину.
С берега уже спешили на помощь рыбацкие челноки, большая почтарская лодка. Встревоженные люди кричали:
— Держись! Держись! Поможем!
Но, как они ни торопились, спасти удалось одного лишь Никифора Салина.
Крутолобов и Гараська утонули.
КУЛАЦКОЕ ПРИТВОРСТВО
— Ой, беда! Ой, горе-несчастье! — кричал, мечась по берегу, Никишка Салин. — Пустите меня, пустите! — И лез в воду, словно обезумевший. — Всё пропало! Деньги! Имущество!
Жена удерживала его, оттаскивая от воды, и вопила:
— Помогите, спасите, очумел мужик! Держите его, люди добрые!
Кулацкая родня бросалась ей на помощь, а тем временем рыбаки на двух лодках вымётывали сети, пытаясь выхватить из бурной стремнины разлива утонувших людей.
В одной лодке командовал незнакомый Салину человек в кожаной куртке, одна рука его в чёрной перчатке висела как неживая.
Отплёвываясь, выливая воду из сапог, Никишка Салин исподлобья взглядывал на рыбаков, стараясь угадать, что это за незнакомец, не комиссар ли какой? Откуда он взялся? Ему было нестерпимо любопытно, что произошло в селе этой ночью? Но он не мог спросить, он должен был изо всех сил притворяться, будто вне себя от несчастья.
— Пустите, легче и мне потонуть, чем горе такое! — кричал он, снова бежал к воде и, нарочно споткнувшись, падал в грязь на берегу.
В сети рыбаков попадались ящики, тюки, корзинки и другие вещи из кулацкого имущества, а люди как канули в воду, так и остались где-то в глубине.
Растерзанного, всклокоченного, похожего на сумасшедшего Никишку Салина повели домой его родственники. А его жена, оставшись на берегу, всё причитала:
— Спасите, помогите, люди добрые! Постарайтесь, родимые... Не жалко добра-товара — жалко мне сиротку Гараську! Не жалко денег-имущества — жалко мне живые душеньки! Ох!
Рыбаки зацепили за коряги и порвали одни сети, порвали вторые. Ни Гараськи, ни бывшего барина Крутолобова вытащить не удалось.
Пионеры, вместе с учительницей бывшие тут же, ушли вниз по течению и растянулись далеко по берегу, высматривая каждый кустик, каждую коряжку: не выплывет ли где Гараська, не вынесет ли его бурным течением?
Никифор Салин, идучи по селу, всё оглядывался на разлив, на рыбацкие лодки, на ребят, ушедших далеко по берегу, и вскрикивал:
— Ой, горе! Ой, бросьте меня в воду полую! Ой, легче утопиться мне!
А сам думал: «Вот ловко получилось. Никто не догадается, что я сам лодку завалил. Вода тайны не выдаст... Утопленники промолчат».
В душе его так и клокотала радость, когда он представлял себе, каким богатствам он теперь хозяин! Про могилу-то Родиона Кулюшкина теперь знают только они с Силантием Алдохиным, вдвоём... Вот бы и его утопить. Вот было бы счастье так счастье!
И в глазах Никишкн играли волчьи огоньки.
Проходя мимо пожарного сарая, Никифор увидел на месте его обгорелые столбы, изуродованную пожарную машину да груды углей.
Он чуть не подпрыгнул от радости: ага, значит, и тут наша взяла! И чуть было не спросил: сгорел ли трактор? Но, продолжая притворяться, закричал:
— А это ещё какое горе! Что это? Как это? Откуда напасть такая?!
Оглянулся и увидел на крыльце сельсовета толпу мужиков-комбедчиков, вооружённых чем попало.
Они вели связанного Силантия Алдохина.
Рядом с арестованным кулаком шёл Иван Кочетков. Голова его была забинтована, одежда порвана и опалена пожаром, глаза ввалились. Но он шагал твёрдо, держа в руках наган.
— Ты жив? Кочетков?! — вырвалось у Никишки.
— Пока жив, твоими молитвами, — усмехнулся Кочетков, поигрывая наганом. — Пошли в амбар, там ждут тебя все ваши кулацкие дружки.
— Какие дружки, ничего я не знаю! — подскочил Никишка.
— Кривой не вывез! Трактор не тарарахнули! Вы нас не перехитрили!
При этих многозначительных словах мужики-комбедчики расхохотались. А Никишка Салин, опустив голову, заскрипел зубами, сжал кулаки, и вид у него стал такой яростный, что кто-то из комбедчиков крикнул:
— Накинуть на него кожаный мешок! Как на волка!
И, вскинув голову, Никифор увидел тот самый кожаный мешок, которым когда-то барский егерь Родион Кулюшкин ловил живьём лисят, медвежат, волчат, а потом, став бандитом, — людей.
Его затрясло, как в лихорадке. Никифор издал какой-то звериный вой, хотел кинуться к речке, но мужики схватили его, связали и отвели в амбар, где на семенном овсе и пшенице валялись, как кули с зерном, связанные бандиты.
Теперь к ним пожаловал их наниматель и хозяин Силантий Алдохин. И его приятель и соучастник Никифор Салин.
О БАРСКОМ БОГАТСТВЕ И ВОЛЧЬЕМ БРАТСТВЕ
Не сразу пришёл в себя Никифор Салин, очутившись в амбаре вместе с бандитами. Только что радовался и торжествовал, показывая притворное горе, а теперь вдруг умолк.
— Это как же так получилось? — спросил он, освоившись в темноте.
— А вот так! — зло ответил ему, сверкнув един-
ственным глазом, кривой бандит и встал на четвереньки по-волчьи. — Уговорили вы нас полезть в овчарню, а попали мы, как в басне, на псарню!
— Будя врать-то! Скажи проще: перетрусили, мошенники! В самый важный момент оплошали!
— Мы бы не оплошали, если бы вы нас не подвели. Зачем не сказали, что у этого чёртова трактора двойная стража? Пионеры какие-то! А их набежала туча, орут, в дудки дудят... Мы про таких сроду и не слыхали. Тут бы на вас, чертей, на самих напала медвежья болезнь! — отругивались бандиты.
— Бабы вы, ежели детишек напугались. А чего же вы не застрелили Кочеткова, стрелять разучились, что ли? Продырявили бы его в этой суматохе. Ай промахнулись спьяну?
— Я не промахнулся бы, — сказал бандит в облезлой кожаной куртке. — Мне набат под руку
ударил... Не терплю набатов с тех пор, как под набатный звон мужики пришли имение громить... И как это вдруг раздалось: бум-бам... рука у меня дрогнула. Целился в лоб, попал чуть-чуть выше... ну и вскользь по черепу пуля прошла!
— А я попал! — сказал кривой. — Только не в Кочеткова, а в какого-то парнишку: выскочил вдруг, как чертёнок из бутылки, и загородил собой Кочеткова.
— Эх вы, тетери, и поджечь сарая как следует не смогли!
— Да мы подожгли. Сарай сгорел, разве ты не видел, обгорелые столбы торчат.
— А какой из этого толк, ежели трактор не сгорел?
— Его ребятишки успели выкатить. Кочетков командовал, они катили, вихорные...
— А чего же вы их не постреляли?
— Народ набежал! Они ведь не втихую работали, барабан какой-то во всю мочь бил, труба тревогу играла. Аж мороз по коже, — поёжился кривой бандит. — Ну и вспомнил я, как, бывало, нас конница Котовского под такие трели рубила... Спасу нет... Бежали от неё лучшие полки конной гвардии Антонова.
— Ну, а чего же вы не убежали, вы на это мастера, бывшие антоновцы?!
— Мы бы убежали, твоя старуха нас подвела! Ведьма!
— Как это старуха подвела?
— А так, дожидалась она на берегу, караулила лодку. И тут вдруг ночью, в темноте, откуда-то черти вынесли почтарей из Устья. Ткнулись рядом с нашей лодкой. Гребцы какую-то посылку в школу понесли. А главный почтарь остался с кожаными баулами. Ста
руха стала его прогонять, а он старик сердитый, не отплывает. Старуха и ну отталкивать его лодку. А он в ответ — оттолкнул её лодку. Так они заспорили, чуть не в драку, а лодки-то у них и отплыли. Подбежали мы — туда-сюда, вёсла на берегу, а лодок нету... Ну, заметались по берегу. А набат гудит, а народ так и бежит. Кто с оглоблей, кто с вилами, кто с топором...
— И переловили вас, дураков!
— И опять из-за вас: твой батрачонок, говорят, в набат бил!
— Мало чего болтают! Нечего ему за голытьбу стараться. Он мной обласкан и прикормлен.
— Ой, сват, вспомнишь своего батрака! — проговорил Никишка. — Слыхал я, что с Кочетковым на тракторе Макарка-то раскатывал. Плохая на них надёжа. — Салин только крякнул с досады и заявил: — А вы бы живыми в руки не давались. А то ишь, переловили, как перепёлок, и без кожаного мешка!
При словах о кожаном мешйе кузнец, слушавший перебранку, бухнул кулаком в дверь амбара!
— Да перестаньте вы собачиться, надоели!
Агей не мог равнодушно вспомнить, как его засунули в кожаный мешок, в котором он чуть не задохнулся. Он был так зол на бандитов, что взялся их караулить, вооружившись тяжёлым молотком.
— Второй раз меня не обманут! — кричал он. — Я их живьём не выпущу!
С ним вместе караулил и дед Кирьян, с забинтованной мокрым полотенцем головой. От его роскошной бороды остался один жалкий кусок, от которого пахло палёным. Борода сгорела. Он тоже не мог простить бандитам, как они его, сонного, оглушили.
— Ну, ты напади честно, сцепись грудь с грудью, тут бы я ещё показал старую солдатскую хватку. А сонного бить — это же последняя на свете пакость с их стороны!
А ещё больше огорчала его спалённая борода:
— Вот анчутки — живого человека вздумали огнём опалить. Это надо же!
Караулили арестантов и ещё человек десять вооружённых чем попало мужиков.
Все негодовали на бандитов, в особенности за тяжкое ранение Серёжки.
— Да нетто можно в малых детей из обрезов палить? Это что же, так они оставят нас без ребят! А без детей какое житьё? В них наша надежда! Расстрелять бандитов!
Все сходились на том, что кулацкую шайку нужно уничтожить до конца.
Бандиты понимали, что дело их кончено. А Силантий Алдохин всё ругал их, как наниматель-хозяин нерадивых батраков.
— Да ладно тебе, замолчи, — обозлился Родион Кулюшкин, — чего теперь собачиться, всем нам решка!
— Как это — всем? — тихо сказал Никишка Са-лин, в уме которого за время спора возник хитрый план. — Мне, например, может ещё выпасть орёл. Я же ни в чём не замешан, а взят по подозрению. И только! Доставят нас властям, начнут творить суд, и меня первого прокурор выпустит... Да, из арестантов в свидетели переведёт. И я даже могу за вас похлопотать...
Бандиты к его тихим словам прислушались.
— Да, могу даже адвоката нанять... Только бы вы меня к своему бандитству не припутывали. Я ведь вас ни на что не подговаривал. Это всё Силантий. За что же меня судить? Если вы меня не оговорите, я вам пригожусь. Поразмыслите!
— Поразмыслим, — тихо ответил Родион Кулюшкин.
— И Силантию не следует меня припутывать. Разговор у нас был наедине, я к нему в компаньоны не напрашивался. И какая ему польза меня вместе с собой на дно тянуть? На воле я буду полезней. Смогу достать средства на подкуп судей, на плату адвокатам... Меня выгородить надо. Изо всех сил. Тогда всем польза! Так ведь, Силан? — вкрадчиво спросил Ни-кишка?
— Так! — коротко сказал Силантий.
У Никишки словно гора с плеч свалилась и на сердце даже стало горячо от радости. Уж если Силан сказал, его слово крепко!
Теперь можно будет выкрутиться, а уж там он знает, что делать! Чёрта с два поможет он Силантию и его бандитам! Всё сделает, чтобы поскорей их расстреляли да закопали.
И тогда он один, для себя, отроет гроб с барским серебром и золотом из могилы Кулюшкина Родиона.
А самого бандита — под каменную плиту с надписью: «Здесь спит известный егерь...»
Давно по нём его могила плачет1
От таких сладких мечтаний Никишка даже улыбнулся исподтишка и прикрыл глаза, желая вздремнуть. Он был теперь уверен, что всё обойдётся. Всё к лучшему, даже то, что .бандиты попались и с ними Силантий Алдохин.
Теперь он один хозяином будет!
Барин Крутолобов и Гараська его не выдадут, уста им запечатала холодная вода, а бандиты и Силан промолчат, потому что уста им сковала его хитрость.
Он повернулся с боку на бок и заснул в амбаре, на семенном овсе, как дома на перине.
Но забыл хитрый кулак, что правда людская и в огне не горит, и в воде не тонет.
ЗАПОМНИМ, РЕБЯТА, КАК БИЛ БАРАБАН
Прошло несколько дней. Разлив пошёл на убыль, быстро просыхала земля. На поля выехал трактор, весело попыхивая синим дымком, и при радостных криках народа проложил первую широкую борозду артельной пашни.
На Ивана Кочеткова любовалось всё село: так уверенно вёл он стального коня, лихо заломив военную фуражку. Забинтованная голова придавала ему вид смелого бойца, несмотря на ранение не покинувшего боя.
Любовалась Маша, любовалась учительница Анна Ивановна вместе со своим другом Адрианом, умевшим хорошо трубить в горн.
А после праздника первой борозды они уехали. Куда? Не сказали. Наверное, туда, где их родина Бессарабия стонет под сапогом румынских бояр. Так объяснил Иван Кочетков своей Маше.
— Это жених её, я сразу догадалась, — сказала Маша.
— Я тоже, — сказал Иван. — Как она на него взглянет, так вся и озарится, словно солнце взошло.
— Любят друг друга, — радостно сказала Маша, — вот как мы с тобой!
— А может быть, и покрепче, — сказал Иван.
Маша задумалась. Посмотрела в небо, на караваны гусей, летящих с юга на север, и сказала:
— Мы с тобой счастливей. У нас своё гнездо есть, а они как перелётные птицы... Так мне их, Ваня, жалко. Вот взяла бы я их прямо под крыло... Живите, мол, с нами, хорошие вы мои. Будьте счастливы!
— Ну что ты, — сказал Иван, — не будет им жизни, счастья, пока родина их не свободна...
— И ничем нельзя им помочь, Ваня? И никогда мы их не увидим больше?
— Настанет час — поможем, — сказал Кочетков, — придёт время — и увидимся!
— Так мне тревожно, Ваня, за них. Мы вот у себя дома, пашем, сеем, вокруг вольная волюшка, а ведь их там могут и в кандалы взять, и в тюрьмы засадить... И едут они на такие страхи сами, по своей воле. Что это за люди такие?
— Революционеры, — сказал Иван, — коммунисты.
— И ты с ними в одной партии. Гордишься ты этим, Ваня?
— Горжусь, — сказал Иван.
После этого разговора, после проводов учительницы и её жениха Иван долго ещё ходил грустным, а Маша погрустила немного, а потом ничего, обошлось, повеселела и даже снова запела, как бывало. Какую работу ни делает, всё поёт, всё поёт.
На той же лодке, на которой отправлялись по разливу Анна Ивановна и Адриан, отвозили в городскую больницу и тяжело раненного Серёжку. Провожали их не только всем отрядом — всем селом провожали.
Трудно было расставаться. И, хотя пообещала Анна Ивановна прислать взамен себя новую учительницу — нового вожатого, ребята были безутешны. Ведь второй такой не сыщешь! Так она им
полюбилась. Вот прямо снялись бы всей стайкой с берега да за ней полетели.
Уж на что Серёжка ослабел от потери крови: две пули из кулацкого обреза пронзили его грудь навылет, и тот улыбнулся, когда Анна Ивановна, усевшись в лодку, положила его голову к себе на колени. С ней не пропадёшь.
— Ничего, Серёжа, ты крепкий. Поправишься, — сказала она. — Вот Адриан: три раза ранен был, а жив, готов к борьбе и в горн трубить ещё может отлично!
— Я тоже научусь, — прошептал Серёжка.
Лодка отошла от берега под прощальные крики, ветер туго надул парус, и волны заплескались за бортом.
На другой лодке в тот же день увозили на суд
кулаков и бандитов. Провожали их вооружённые комбедчики. Кормчим сидел кузнец Агей. Мужик надёжный.
Силантий Алдохин уплыл с опущенной головой, даже не взглянув на плачущих родственников. А Никифор Салин озирался вокруг хитровато, по-лисьему. Он ещё надеялся вернуться.
Но напрасно. На другой день метёлкинские пионеры, в который раз обегающие берега в поисках Гараськи, нашли его. Первыми увидели городские ребята Павлик Генерозов и Петя Цыганов. Они остались не просто погостить у своих новых друзей до окончания школьных каникул, — у Пети жила надежда, что батрачонок найдётся. Душа горела, хотелось увидеть его ещё раз и сказать, что обещание своё он выполнил. Эстафету в муаровом галстуке доставил.
Встреча состоялась. Печальная встреча. Нем был Гараська. Бережно выкатила вода его тело на отмель, ниже по течению, километрах в трёх от Метёлкина. Лежал он как живой. Словно заснул.
Люди боятся покойников, утопленников. А метёлкинские ребята, завидев товарища, бросились к нему как к живому. Им хотелось спросить его: как ты погиб? Нечаянно или погублен злодейски?
Не мог ответить Гараська. Но всё же ответ нашёлся.
— Мой ножик! — воскликнул Петя Цыганов, увидев, как выскользнуло из-за голенища Гараськиного сапога что-то блестящее.
Как только подняли тело батрачонка и понесли, так ножик-то и выпал.
Петя побледнел. Ему стало даже как-то страшно, что Гараська и после смерти сдержал уговор: отдал
ножик другу, честно доставившему его срочное донесение.
— Может, там ещё что есть за голенищем?
Посмотрели ребята и обнаружили щепку. Обыкновенную, сосновую, да картинку-то на ней увидели необыкновенную. Разглядели вырезанную острым ножом могилу и завещание Гараськи.
Заговорил его голосом волшебный кусочек дерева и сказал всю правду о барском богатстве и о кулацком злодействе.
Приговор народа Силантию Алдохину и Никифору Салину был произнесён и исполнен.
Исполняя последнюю волю сироты, решили похоронить его в одной могиле с матерью, покоящейся на сельском кладбище, что возвышается над селом, на холме с кудрявыми липами.
На кладбище в тот день раскапывали две могилы — из одной вынули тяжеленный дубовый гроб, набитый барским золотом и серебром, в другую могилу опустили лёгкий гроб погубленного кулаками батрачонка.
Несли его пионеры на полотенцах с красной каймой. Ветер развевал красные галстуки. Шумело Красное знамя, на котором золотом была вышита фамилия славного батрачонка. Отряд решил назваться его именем.
Всё Метёлкино провожало Гараську в последний путь.
Только кулацкие дети и родственники не вышли. У них своя печаль — прошло их счастье, прошло их время, с полой водой уплыло. Но один человек, когда-то верно служивший им, провожал в последний путь батрачонка — это был Макарка.
Жалостно пели жаворонки, поднимаясь с каждой
встречной проталинки, с высоты полёта разглядывая скорбное лицо мёртвого мальчика.
Не только женщины плакали — мужики смахивали скупые слёзы.
А пионеры шли, и каждый думал: «Почему не я? Почему погиб бедный Гараська, не видевший в жизни ни радости, ни счастья? Только-только начал на ноги становиться, только потянулся к новой жизни — и вот...»
Нас, мальчишек, много, мы ничего не боимся, всех нас победить нельзя, мы всё равно победим. Но почему судьба выбрала именно Гараську? Так хотелось всем, чтобы он дожил до победы, до большого счастья, чтобы сел на стального коня, который ему так полюбился.
Когда настал момент прощания, перед тем как опустить гроб в могилу, из толпы вдруг выскочил Макарка и закричал:
— Прости меня, Гарась, когда я тебя в чём обидел!
Потом повернулся к ребятам, встал на колени и сказал:
— Примите меня, ребята, в свою красную партию! Дайте заступить на место Гараськи. Уж я вам буду таким товарищем, таким товарищем... Я за него всем мировым кулакам-буржуям весь век буду мстить!
Ребята заколебались, не решаясь, что ответить. Хотя знали, что это он в набат ударил, недолюбливали они его за прошлое.
А Иван Кочетков, увидев такое, крикнул:
— Встань, Макар, разве в партию на коленях просятся?! Встань и становись в наши ряды, как велит тебе пролетарская совесть!
И Макарка, поднявшись с колен и смахнув с глаз слёзы, встал в ряды пионеров.
Жалость к Гараське так терзала сердца, что ребята не спали всю ночь накануне и всем отрядом сочинили ему прощальный стих, который прочёл Павлушка самым звонким в отряде голосом. Читал он под грустный рокот барабана, когда могилу засыпали землёй.
Печально играл горн, глухо бил барабан, стоял народ, обнажив голову перед могилой сироты-батрачонка, который для всех стал роднее сына.
А Павлушка читал:
Запомним, ребята, как бил барабан,
Когда мы бойца хоронили,
Он умер за счастье рабочих всех стран,
И прах его в тёмной могиле.
Но дух его смелый средь нас не умрёт,
Мы будем с врагами суровы,
И золотом вышьем мы имя его
На знамени нашем багровом!
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) — студия БК-МТГК. |