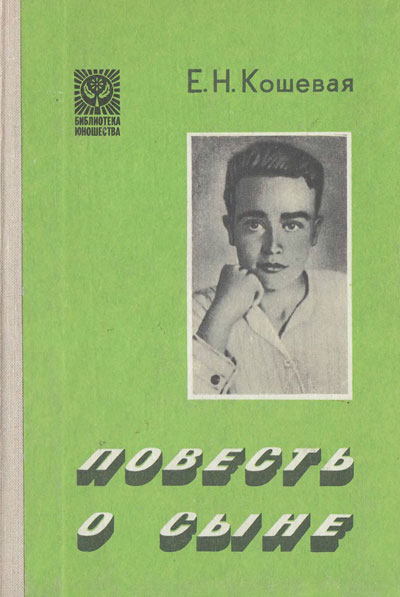Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
Е. Н. Кошевая
Повесть о сыне
В книге матери Олега Кошевого рассказывается о детских и юношеских годах легендарного героя, о его кристальной честности, принципиальности и бесстрашии, становлении его как вожака молодёжи и руководителя комсомольского подполья Краснодона в грозные годы Великой Отечественной войны.
Содержание
Первый день
Сам нашёлся
Матроска
В библиотеке
Два огородника
«Слышу, сынку!
Растёт мой мальчик
Там, где властвовал Кочубей
Первое сентября
«Крепись, сынок!»
«Днепр»
«Расскажи, как ты была маленькой»
«Я, юный пионер...»
Случай в бурю
За грибами
Отчизна
«У реки живёте — плавать не умеете!»
Весна
В Киеве
Перечитывая письма
Звезда путеводная
Канев
За товарища
В Краснодоне
Любимый герой
Первый заработок
Краснодонские друзья
Война
«Отпусти меня!
Зоя
Госпиталь
Боевое крещение
Беспокойные дни
В путь
Враги
Поединок
«Теперь я знаю, что мне делать»
Листовки
Кашук
«Молодая гвардия»
Клятва
Оружия!
«Таинственные удочки»
Красные флаги
Боевые дела
Дело с приёмником
За колючей проволокой
Самые юные
Пароль «Якорь»
Приказ — закон
«Победители» отступают
«Разве можно таких ребят не любить?»
Серёжа выходит из «окружения»
Новый год
«Путь твой опасен»
«Олег, где ты?»
Десять дней
«Приду с Красной Армией!»
Палачи
Пришли!
Это был он
Последний день
Снова весна
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Цвела сирень. Белые гроздья заглядывали в открытое окно моей комнаты. Это было 8 июня 1926 года в Прилуках, на Черниговщине. В этот день у меня родился сын...
Прилуки — шумный и весёлый украинский город. Он стоит на берегу извилистой и живописной речки Удай. На картах эта река не помечена, но моя память сохранила её навсегда.
Не раз мы бродили с сыном по шёлковым травам левад Удая, перебирались на другой берег, заглядывали в зеркальную воду, смотрели, как играли рыбы, собирали на лугах цветы, сплетали из них венки...
Как сейчас, помню день рождения моего сына. Солнечный свет весело переливался на листьях деревьев, тени мелькали на потолке и стенах комнаты. Громко щебетали птицы. Я не сводила глаз со своего первенца.
Мне очень хотелось, чтобы у меня родился мальчик, чтоб он был красивый, чтоб у него были длинные, мягкие волосы. Я даже заранее приготовила гребешок...
Так и случилось. У сына оказались пушистые, как лён, длинные волосы.
С мужем мы решили: родится мальчик — назовём Алексеем, а если девочка — Светланой. Родился сын, да ещё такой большущий.
Старенький врач спросил:
— Как назовёте сына?
— Алексей, — ответила я.
— О нет, — шутливо запротестовал врач, — не подходит! Такому бутузу и имя нужно богатырское!
Я стала вспоминать всяческих богатырей и остановилась на одном из нашей истории — на Олеге. Отцу понравилось это имя. Зато дедушка и бабушка никак не могли к нему привыкнуть.
Им казалось, что Олегом зовут только взрослого человека, а как же называть внучонка? И они придумали для него имя: Олежек.
«САМ НАШЁЛСЯ»
Сын рос чубатеньким и здоровым. Я не помню случая, чтоб когда-нибудь ночью он разбудил меня своим плачем. Не раз говорил мне дедушка Олега — Федосий Осипович Кошевой:
— Четырнадцать детей у меня было, но такого спокойного, как твой Олег, — ни одного.
Посторонний человек, приходя к нам в дом, и не догадывался, что у нас есть маленький.
К концу года Олег начал ходить. Не волновал он нас и болезнями. Воспитывать его было легко, весело и радостно, и в семье были счастье и покой.
Крепкий и порывистый, мальчик рано начал пробовать делать всё сам. Я не мешала. Когда Олег стал ходить, он, как всякий ребёнок, поначалу спотыкался и падал. Но я не бросалась поднимать его. Пусть встанет на ноги и сам идёт дальше.
Сына никогда не пугали ни волками, ни другими страшными зверями, он не чувствовал беспричинного страха и охотно оставался один в квартире.
Бывало, я нарочно пошлю его в тёмную комнату за игрушкой. Он доверчиво и смело идёт туда, шарит ручками по полу и обязательно найдёт игрушку.
Часто и много гуляли мы с сыном летом в поле. Вот мостик через ручей. Я говорю:
— Иди, Олег!
Сама не спускаю глаз и иду сзади. Жидкий мостик покачивается над водой. А Олег, спокойно и не оглядываясь, шагает один.
Как-то, возвращаясь из лесу, шли мы с Олегом берегом реки. Олег нёс корзиночку с ягодами и всё посматривал под ноги — не найдётся ли ещё ягодка. Вот он что-то увидел, побежал, споткнулся и упал. Ягоды рассыпались, а корзинка откатилась в грязную лужицу. Я вымыла корзинку в реке, собрала в неё ягоды и вернула Олегу.
— Придёшь домой, поставишь корзинку на солнышко, — оказала я.
Дома Олег долго бродил, растерянно ища, куда бы поставить корзинку. Потом подошёл ко мне и расплакался:
— А как я на солнышко её поставлю?
Мы, взрослые, привыкли и не замечаем, до чего же удивительна и неожиданна порой наша речь, а сыну это открывалось впервые. Я посмеялась и объяснила, как могла. Кажется, он понял, что можно посушить вещь на солнце, не пользуясь им как подставкой.
Когда Олегу не было ещё и трёх лет, он как-то просил дедушку Федосия Осиповича:
— Почему мама не пускает меня одного в сад?
— Да ты ещё маленький. Сад далеко. Вдруг заблудишься?
— Вот я и хочу заблудиться.
— А что делать станешь, если заблудишься?
— Дом наш искать, — ответил Олег.
— Ну, тогда иди, если уж ты такой храбрый.
Торопясь, Олег ушёл, но за ним на расстоянии последовал дедушка.
В саду, в песке, играли ребятишки. Олег — к ним. Так прошёл час. Тут Олег, наверно, вспомнил, что он один, и побежал домой. Бежал, бежал, а дома всё нет. Тогда он остановился и заплакал. К нему подошла женщина:
— Почему ты плачешь? Ты чей?
— Я немножко заблудился, — глотая слёзы, ответил сын, — маму зовут Елена Николаевна, бабушку — Вера Васильевна, дедушку — Федосий Осипович, папу — Василий Федосьевич, а я сам — Олег Кошевой.
— Ну, пойдём домой. Я знаю Кошевых, — ответила женщина.
Тут дедушка вышел из своего укрытия. Олег бросился к нему.
— Ну как, заблудился? — улыбнулся дед.
— Я сначала заблудился, а потом нашёлся. — ответил сын. — Дедушка, я сам нашёлся! Ты видел, да?
МАТРОСКА
Олег рос послушным, сговорчивым мальчиком, но детские капризы были свойственны и ему. Иногда он пытался настаивать на своём, но никто из нас не уступал ему. Казалось бы, ребёнок маленький, ничего не понимает — как же можно ему не уступить? Лишь бы только не плакал. Но мы позволяли Олегу только то, что считали нужным, полезным для него.
С первого же дня, как Олег стал держать ложку и вилку, я старалась приучить его правильно пользоваться ими. Учила его, как нужно сидеть, как вообще вести себя за столом.
Но более всего я старалась внушить Олегу быть правдивым и честным, сознательно относиться к правде и к неправде. Я говорила сыну:
— Ошибку я тебе всегда прощу, неправду — никогда.
С малых лет Олег был правдивым во всём. Он не обманывал нас в мелочах, не обманул никого и в большом, когда пришлось ему в страшной борьбе с врагом отдать свою жизнь за Родину...
Мне хотелось, чтоб сын мой был отзывчивым ко всему хорошему, что есть в человеке, чутким к добру и правде, чтобы он внимательно относился к своим товарищам. С самых малых лет старались мы приучить Олега ценить дружбу, быть в обращении с товарищами скромным и сердечным.
Однажды я сшила сыну к Первому мая два новых костюма: простой и матроску. Матроска Олегу очень понравилась. Вдруг он подошёл ко мне, потянул за рукав и тихо сказал:
— У меня два костюма, а у Гриши — ни одного. Мама, давай подарим Грише... матроску!
С Гришей Олег целыми днями играл в саду. У Гриши не было отца, мать болела. Жилось им трудно.
Я молча завернула матроску в бумагу, и Олег, счастливый, побежал к своему маленькому товарищу. За костюмом последовали ботинки, альбомы, карандаши и всё то, что так дорого ребятам. Однажды Олегу пришлось видеть, как мальчишки разоряли птичьи гнёзда. Выбрав яички и побросав птенцов, они разбежались, а встревоженные птицы долго ещё кружили над гнёздами. Помню, как Олег нёс двух голых галчат и робко спросил: — А можно, мамочка, птичек оставить? Будем их кормить, а когда вырастут, полетят папу и маму искать. Вот будут рады, когда найдут, правда? Олег с любовью ухаживал за птенцами, а когда выросли, отпустил их на волю.
В БИБЛИОТЕКЕ
Верными моими помощниками были книги. Слушать чтение Олег мог без конца. Игрушками он не увлекался, зато книжками — до самозабвения.
Мне часто приходилось ездить с маленьким Олегом в поезде. На вокзале он обычно брал меня за руку и подводил к книжному киоску:
— Ты посмотри, сколько тут книжек! А у нас таких нет. Купи, мамочка!
Как радовался он, как, счастливый, размахивал новой книжкой! Потом, конечно, добивался, чтоб я ему читала. Если это были стихи, он повторял за мной:
Вот свалились санки,
И я на бок — хлоп!
Кубарем качусь я
Под гору в сугроб... —
и радостно хлопал в ладоши.
Стихи Олег очень любил, учил их наизусть, охотно декламировал.
Не задумываясь и не жалея, он мог отдать товарищам свои игрушки, но книжку — никому.
Помню, как-то я зашла с Олегом в районную библиотеку в Прилуках. Увидев на полках много книг, Олег спросил громко:
— Мамочка, а за сколько дней можно прочитать все эти книжки?
Когда мы возвращались домой, он под впечатлением виденного в библиотеке всю дорогу расспрашивал меня о людях, которые написали так много книжек, допытываясь, нельзя ли писать стихи самому.
— Как мне хочется увидеть живого писателя! — сказал он взволнованно. — Он, наверно, очень высокий. А голова и глаза у него — вот такие большие!
— Почему же так? — спросила я.
— Ну, как почему, — отвечал Олег, — он должен очень много думать и всё видеть. А рост большой — это чтоб дальше видеть.
ДВА ОГОРОДНИКА
Наш двор был полон зелени и цветов, веранда домика густо увита диким виноградом, в саду фруктовые деревья, кусты смородины и малины. В нашем цветнике росли левкои, гвоздики, резеда, астры. Дорожка от калитки в глубь двора была засажена пионами, георгинами и флоксами.
Хорошо тут бывало и днём, когда пчёлы носились с цветка на цветок, и вечером, когда сад благоухал и становился ещё красивей под вечерними лучами солнца.
Я всегда старалась вовлечь в работу и Олега, когда сама работала в саду. С деловитым видом, раскрасневшийся, он охотно подносил мне рассаду, семена, а при разбивке клумб важно держал шнурок.
За садом ухаживал дедушка Кошевой. Он хотя и не был суровым, но порядок любил. Без его разрешения Олег ничего не брал с грядок или в саду.
Припоминаю случай, который всех нас очень рассмешил.
Вижу я как-то — залез Олег в кусты малины и, поднимаясь на цыпочках, срывает ягоды ртом, не дотрагиваясь до них руками. Но пока ему, маленькому, удавалось схватить ртом одну ягоду, он несколько раз падал, теряя равновесие.
— Что это ты тут делаешь? — спросила я.
— Ягоды ем, — ответил мальчик. — Дедушка сказал: руками срывать нельзя. А про губы он ничего не сказал.
Дедушка Кошевой и Олег — это были неразлучные задушевные друзья. Сойдутся вместе — водой их не разольёшь, сказки, рассказы, вопросы без конца.
— Дедусь, а почему пшеничный колосок такой большой, а ржаной — меньше?
— Почему ласточки на провода садятся? Думают, длинные ветки, да?
— А почему у лягушки четыре ноги, а у курицы — две?
— Дедусь, расскажи: гром — это откуда?
Дедушка только в усы улыбается и рассказывает — рассказывает о цветах и хлебах, о том, как произрастают всяческие травы, о далёких землях и птицах. И заставил дедушка полюбить Олега нашу красавицу Украину, и весь свет и всё живое.
Только раз у закадычных друзей вышло что-то вроде ссоры. Был у Олега дружок Грида. Ему тогда было шесть лет — на два года больше, чем сыну.
Дело случилось осенью. Ребята копались в саду. Грида сказал:
— Олег, а давай всю клубнику из грядок повыдёргиваем?
— А зачем? — спросил Олежек.
— Просто так.
— Дедушка рассердится.
Грида внёс некоторую поправку:
— Тогда давай просто из одних грядок во все другие понасадим.
— А зачем?
— Вот чудак, небось тогда больше будет клубники! Знаешь, как расти начнёт везде? Только собирай!
— Ну, тогда давай. Дедушке понравится.
Недолго раздумывая, Олег принёс из сарая корзинку.
— Дедушка говорит: пересаживать клубнику надо умеючи. Её надо вместе с землёй выкапывать — чтоб земля с корней не обтрусилась.
И друзья с жаром принялись за работу.
Детскими лопатками и руками они выкапывали клубнику и складывали её в корзинку. Скоро они перемазались с головы до ног, пот катил с них градом. Олег даже пальто снял, повесил его на сучок. Вот уж и весь костюм его в земле, на красных щеках — отпечатки грязных ладошек.
Работа была в самом разгаре, когда дед увидел их за этим занятием.
— Это что же вы натворили? — удивился дед. — А говоришь, что дедушку любишь! — обратился он к Олегу, — Какая же это любовь? Дедушка трудится, трудился, а ты всё разрушил! Была бы у нас ягода, а теперь ничего не будет! Эх!
Олег расплакался.
— Дедушка, дедушка, я тебя и сейчас люблю, — отчаянно убеждал он, больше всего боясь, что ему не поверят. — А это я хотел, чтоб больше ягод было, чтоб на всех грядках. Только собирай...
Федосий Осипович никогда и голоса не повышена Олега. Сдержался он и на этот раз, но строго разъяснил внуку его ошибку. Всё кончилось миром. К тому же клубника не погибла. Она была высажена аккуратно, с землёй на корнях.
На следующее лето грядки опять были полны душистых, сладких ягод. Но Олег уже не занимался без разрешения деда «самостоятельным огородничеством», пока не подрос. А дедушка ещё долго говорил, посмеиваясь в свои чумацкие усы:
— Наш хлопец — вылитый батька мой Осип Кошевой! Такой же дотошный!
«СЛЫШУ, СЫНКУ!»
Отец часто рассказывал Олегу о Запорожской Сечи, о нашествии татар на Украину, о разгроме шведов под Полтавой. У Олега тогда загорались его карие глаза. Затаив дыхание, жадно слушал он рассказы старины, а с чудесной повестью Гоголя «Тарас Бульба» впервые познакомился в пересказе отца.
— Вот повели Остапа на плаху, на казнь, — рассказывал отец притихшему Олегу, — и подошёл к казаку палач. И так он Остапа пытал и мучил, что все, кто стоял на площади, не в силах были смотреть, отворачивались и закрывали глаза. Но ни одним стоном не показал Остап врагам, как трудно ему было да больно. А Тарас Бульба видел всё: как терзают его сына и какой гордый стоял он перед врагом. И говорил Бульба тихо: «Добре, сынку, добре!» Но палач ещё злее стал мучить Остапа, и тут дрогнула казацкая душа. И сказал Остап, глядя на врагов:
«Всё чужие, неведомые мне лица! Где ты, батько? Слышишь ли ты меня?»
«Слышу, сынку!» — вдруг громко ответил Тарас Бульба.
Вздрогнули паны, бросились искать Тараса, но его и счед простыл!..
Наслушается, бывало, Олег таких рассказов, выстрогает себе саблю, подбежит ко мне:
— Мамочка, прощай! Я сейчас воевать иду!
Он собирал своих боевых друзей — мальчишек, они спешно седлали своих коней — палки и прутья — и с гиком и воем кидались на врага — придорожную крапиву и бурьян.
С войны возвращались в царапинах, ожогах от крапивы, а нередко и в синяках. Они выстраивались в очередь, с гордостью подставляя мне свои боевые раны для перевязки.
А однажды Олегу вздумалось напасть на соседского петуха. Петух отличался лютым нравом и особенно не любил почему-то детей, и эта «боевая операция» Олега кончилась очень плачевно... Услышав отчаянный вопль, я бросилась в соседний двор и увидела несчастного воина распростёртым на земле. Петух наскакивал на него, колотил его лапами и клювом, а воин вопил самым бесстыдным образом.
— Как же ты поддался петуху? — спросила я с возмущением.
— А у меня сабли с собой не было, — оправдывался он, вытирая слёзы, — а то бы я показал ему, как нападать на людей!
Петух исцарапал его в кровь, пришлось перевязать сыну его первые настоящие раны. Он мужественно терпел и даже не поморщился, когда я заливала их йодом.
После он рассказывал отцу, что петух напал на него, как паны на Остапа, но только Остапа Тарас выручить не мог, а вот мама отбила его у злого петуха.
— Но вёл ты себя далеко не как Остап, — добавила я.
И Олег промолчал. Задумался.
РАСТЁТ МОЙ МАЛЬЧИК
В четыре года Олег умел уже читать и писать. Я сфотографировала сына. Он подарил фотографию бабушке и дедушке и с моей помощью вывел на ней:
«Дорогим дедушке и бабушке на память от вашего единственного внучика, здесь мне четыре года».
Он охотно писал письма своей тёте Тасе и бабушке. Адрес на конверте, на горе почтальонам, надписывал тоже сам.
Как подсолнух поворачивается к солнцу, так и мой Олег тянулся к людям.
Его большие карие глаза были жадно открыты на всё. Музыка или песня шла прямо к его сердцу, и особенно любил он наши украинские песни, то грустные, то буйные, то радостные и всегда мелодичные.
Как сейчас вижу: вечер, сыну пора спать, но он никак не может угомониться. Его дядя, Павел Кошевой, тоже большой друг Олега, носит племянника на руках по комнате и задумчиво поёт:
Ой, братику — соколеньку,
Пусти диток на зимоньку...
В песне рассказывается о детях, у которых умер отец. Матери трудно стало растить детей, и она попросила брата взять к себе ребятишек на зиму. Но злая невестка отказала.
Это была, кажется, любимая песня маленького Олега. Каждый раз, когда дядя Павел смолкал, Олег, бывало, скажет с горечью:
«Почему их не хотела пустить тётя? Какая она злая...»
Когда Олегу исполнилось четыре года, я подарила ему металлический конструктор. Мальчик быстро научился складывать разные модели: самолёт, ветряную мельницу и многое другое. Это была кропотливая работа, но у Олега терпения хватало.
Пяти лет Олег уже катался на коньках. Иногда и я надевала коньки, и мы шли кататься вместе. По дороге на каток сын вышагивал рядом со мной, гордо поглядывая по сторонам. На щеках его рдел румянец.
Катался он легко; то забегал вперёд, то снова возвращался ко мне — крепкий и ловкий. С самого дня рождения Олега приучали не обращать внимания на погоду, и он не боялся ни жары, ни мороза.
Так вот и рос мой мальчик, славный малыш мой, давший изведать мне всю полноту материнского счастья.
ТАМ, ГДЕ ВЛАСТВОВАЛ КОЧУБЕЙ
Мы жили в Прилуках до 1932 года, когда мужа перевали на работу в Полтаву.
Олегу тогда было шесть лет. В Полтаве мы поселились на Октябрьской улице, недалеко от Корпусного сада. Помню, как Олег замер перед памятником, поставленным Петром I в честь победы русских войск над шведами.
Побывали мы и на шведской могиле, в краеведческом музее и в других исторических местах, которыми так богата красавица Полтава.
Частенько ездили мы с Олегом к моим родным — Коростылёвым, жившим недалеко от Полтавы, в селе Згуровка. В этой дружной и гостеприимной семье Олег чувствовал себя вольготно, быстро сошёлся с дядей Колей, тогда ещё пионером, дедушкой Николаем Николаевичем, моим отцом.
У дедушки была интересная и большая жизнь, к тому же он был хорошим рассказчиком, и это сразу привязало к нему любознательного внука. А рассказать деду действительно было о чём: токарь по специальности, до революции он работал в мастерских князя Кочубея; призванный в армию в 1915 году, он был направлен как токарь в Петроград, на Путиловский завод, участвовал в Октябрьском перевороте, а при штурме Зимнего дворца был тяжело ранен. Красочные рассказы деда настолько захватывали Олега, что даже отражались на его играх и увлечениях.
Но особенную привязанность Олег питал к моей маме, Вере Васильевне, бабушке Вере, как он её называл. Крепкая любовь и дружба бабушки и внука началась с первой их встречи и продолжалась до последних дней Олега.
Моя мама — член партии — была в глазах Олега необыкновенным человеком. Как и дедушка, умелый рассказчик, она знакомила его с тем, что испытала сама: с тяжёлой жизнью крестьян до революции; рассказывала о своей батрацкой жизни, о том, как много ей приходилось работать на богатеев за гроши.
Маленький Олег прямо-таки не отходил от бабушки. Стоило ей прийти с работы — он уже тут как тут.
Бабушка сама была родом из Згуровки, где находилось когда-то богатое поместье пана Кочубея, и часто водила внука по разным памятным ей местам. В памяти бабушки крепко хранились подробности прошлой жизни, и её рассказы во время прогулок приводили мальчика в сильнейшее волнение. Парк с могучими деревьями, речка, богатая рыбой, и белый дворец над ней, сахарный завод и разные мастерские, дремучие леса вокруг и неоглядные пшеничные поля — всё это принадлежало когда-то одному Кочубею, на которого трудились тысячи людей.
— Бабушка, а зачтём одному человеку столько? — недоумевал Олег. — Разве ему жалко было с бедными поделиться?
— А вот он как с ними делился... — отвечала бабушка и показывала Олегу, где пороли и истязали когда-то людей за малейшую провинность, где батраки работали, не разгибаясь, с утра до ночи, за кусок хлеба.
Особенно действовали на Олега рассказы бабушки о том, как не давали бедным учиться, читать книги, держали их в темноте.
— У, поганые буржуи, жаднюги! — возмущался Олег. — Ненавижу их! — И с тревогой спрашивал: — А буржуи и Кочубей больше не вернутся? Большевики их не пустят?
— Не пустят, милый, не пустят, — успокаивала бабушка.
Так получил Олег первые уроки политического воспитания, и они крепко запали в его юную, впечатлительную душу.
Кто мог знать тогда, что придётся бабушке Вере помогать её внучку, комиссару «Молодой гвардии», в смертельной борьбе с «буржуями», прятать оружие юных храбрецов, охранять их тайные встречи, падать под ударами немецких фашистов на допросах, перенести мученическую смерть внука и увидеть победу дела Олега и миллионов таких, как её любимый внук...
ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ
В Полтаве Олег впервые пошёл в школу. К этому времени он мог уже свободно читать, писать и решать задачи, а таблицу умножения знал наизусть.
Разговоры о школе начались задолго до первого сентября. Олег был полон ожидания и деятельно готовился к поступлению.
Навеки запомнится мне первое сентября 1934 года. Как сейчас, вижу ясное, погожее утро, ласковое солнце, по-осеннему прозрачные улицы прибранного города и первую позолоту на ещё пышных от зелени деревьях, сонно застывших в тёплом безветрии.
Не знаю почему, но волнение Олега передалось и мне, и я беспокоилась, как маленькая, словно не только Олегу, но и мне самой предстояло в этот день пойти в первый класс. Мой мальчик пойдёт в школу... Он как-то сразу вырос в моих глазах, и это незнакомое чувство радовало, но и тревожило меня: всё-таки теперь я уже мать школьника, а это была новая ответственность. Окажусь ли я на высоте?
Олег в тот день проснулся рано. Он долго чистил зубы, рьяно намыливал лицо, затем надел свой новый костюмчик, причесал волосы и прибежал ко мне.
— Мамочка, я готов! — отрапортовал он, стукнув каблуками. — Можно уже идти.
Он был неузнаваем: подтянутый и очень хорошенький, а воодушевление так и переполняло его. Я полюбовалась им, похвалила, но заставила сесть за стол и позавтракать — времени было ещё много.
Возле школы было шумно и празднично, все дети были с цветами, и Олег прижимал букетик. Ребята начали заходить в классы. Зашёл и мой сын, бросив на прощанье взгляд, полный гордости и какой-то смешной озабоченности: ведь он отныне ученик. «Не подведу тебя», — казалось, говорил этот взгляд, и я как-то сразу успокоилась. Я верила, что мой мальчик не подведёт меня.
И вот прозвенел звонок, первый в жизни Олега школьный звонок. Закрылись классные двери, в школе сразу установилась рабочая тишина, а я ещё долго стояла у выхода, думая о том, какие радости и трудности ожидают сына в новой для него жизни.
На третий день занятий, вернувшись из школы, Олег с гордостью сообщил мне, что его перевели во второй класс. Сразу попасть во второй класс! Этого я не ожидала — ведь сыну было всего только семь лет, — и я, признаться, серьёзно обеспокоилась: справится ли он с такой нагрузкой?
— Справлюсь! — весело заверил Олег. — У нас знаешь какая учительница Ольга Васильевна! А потом я ростом как все, у нас даже ниже меня есть. Я, мамочка, буду стараться, вот увидишь!
Олег не обманул меня. Он всегда добросовестно и внимательно готовил уроки, и мне не приходилось даже следить за ним. Тетради его были без помарок, учебники завёрнуты в чистую бумагу, на столе всегда порядок. Книги — стопочкой, карандаши и ручки в стаканчике.
Олег был очень организован и на всё находил время — и на учёбу, и на помощь по дому, и на игры.
Первые отзывы о нём учительницы были самые хорошие: со взрослыми был вежлив, с ребятами дружен и отзывчив, в учёбе успевал. В общем, школьником своим я была вполне довольна.
«КРЕПИСЬ, СЫНОК!»
Но вдруг неожиданная болезнь прервала его ученье. Как-то на уроке у него случился приступ аппендицита, и я должна была отвезти его в больницу. Боли у Олега, оказывается, были и прежде, но он терпел. Операция предстояла трудная. Это всех нас встревожило.
Мне разрешили быть около сына. Врач предупредил меня, чтобы я подготовила сына к тому, что после операции под наркозом ему захочется пить, но пить нельзя будет часа четыре.
Одели моего Олега в белый халат, в нём он вошёл в операционную. Как всегда, медперсонал был в масках. Эта необычная обстановка вначале поразила Олега, и он растерялся, но профессор, приветливо улыбаясь, подбодрил его:
— Ну, Олег, видишь, тут все женщины, и только мы с тобой двое — мужчины. Крепись, сынок! Смотри не заплачь, чтоб потом над нами не смеялись.
— А я и не думаю плакать, — ответил подбодрённый этими словами Олег. — Вы думаете, мне сейчас страшно? Совсем нет! Я не плакал даже тогда, когда был совсем маленький и разбил бровь о ведро.
— А сколько тебе лет теперь? — спросил профессор.
— Семь с половиной.
— Ого! — удивился профессор. — Ты, пожалуй, в школе уже учишься?
— А как же — во втором классе! — ответил Олег.
— Ну, тогда понятно, почему ты не боишься...
Олега положили на операционный стол, он начал считать за ассистентом, но заснул только на сорок пятой секунде. Я вышла.
Когда после операции Олега принесли в палату, он был мертвенно-бледным. Плотно закрытые губы запеклись.
— Воды, — прошептал он еле слышно.
Забыв о предупреждении врача, я поднесла Олегу ложечку холодной воды, но он спросил слабым голосом:
— А разве уже прошло четыре часа?
Олег пролежал в больнице десять дней, и всё время или я, или бабушка Вера неотступно дежурили около него.
Помню, как Олег просил её не рассказывать ему смешных сказок:
— Ой, не надо, бабуся, не смеши меня! А то у меня шов разойдётся, и его снова надо будет зашивать.
Профессор — солидный, добродушный человек с пышными усами — полюбил Олега. Подойдёт к нему, сядет около кровати и долго говорит с ним о том, что больше всего интересовало тогда Олега: о путешествиях.
Когда сына выписывали из больницы, профессор подарил ему книжку «Робинзон Крузо».
— Вот тебе, Олег, книга о настойчивом человеке, — сказал профессор. — Его корабль потопила буря — он доплыл до берега. Ему негде было жить — он сам построил себе крепость. Сам сшил себе одежду, выдолбил из бревна лодку. На него напали враги — он разбил их и прогнал. И всё это он сделал один. А теперь скажи, Олег: что же можем сделать мы все вместе, да когда нас так много и когда мы дружить будем? Ну-ка? Отвечай...
После операции Олег почти месяц не ходил в школу. Но его проведывали товарищи, помогали ему, чтобы он не отстал от класса. Олег рано почувствовал близость школьного коллектива и цену дружбы...
Но учиться в полтавской школе ему уже не пришлось. Мы переехали в Ржищев, Киевской области.
ДНЕПР
В Ржищев мы прибыли после Октябрьских торжеств.
Часть дороги проехали на пароходе. Первое путешествие по Днепру произвело на Олега глубокое впечатление.
Наш Днепр осенью хотя и не так прекрасен, как летом, но по-своему красив.
Правый, высокий берег стоит задумавшись, весь в багряном золоте осенней листвы. По левому берегу, чередуясь с песчаными отмелями, тянутся бесконечные заросли лозы, а дальше к горизонту высится густой лес, полный грибов и ягод, а сейчас по-осеннему притихший и тоже весь в золоте, как богатырь в доспехах.
Уже не носятся над Днепром, как летом, крикливые стаи серебристых чаек и множество других птиц.
Всё полно тихой, торжественней красоты. Только ветер свободно гуляет по днепровской синей воде, кидая белую пену с гребня на гребень. Глухо шумит тёмная вода под колёсами. Эхо далеко-далеко разносит протяжные гудки парохода...
Олега невозможно было увести с верхней палубы, с осеннего ветра, вниз, в тепло.
Он быстро и легко познакомился с матросами, с седоусым важным капитаном и не переставая сыпал вопросами: почему пароход не тонет, если он железный, да ещё с таким грузом? Каким образом он устроен. Почему гудок гудит? Если пароход утонет, можно ли здесь жить на берегу, как Робинзон Крузо?
Читал матросам стихи, и те его охотно слушали, собравшись в кружок и покуривая.
Ночью на каждой пристани Олег просыпался, просил меня и бабушку сойти с ним на берег посмотреть, что там такое делается, и, конечно, добивался своего. Так мы и не спали из-за него всю ночь...
После приезда в Ржищев Олег сразу же пошёл в школу. Двухмесячный перерыв не отразился на его занятиях, и он быстро освоился с новой для него школой и новыми товарищами.
Как полюбил Олег Днепр! Уже девяти лет он мог переплывать его от берега до берега — расстояние в триста метров. Мальчик мечтал о лодке, чтобы самому грести и ловить рыбу.
— Будешь хорошо учиться, — пообещала я, — исполню твоё желание.
Настало лето. Олег закончил учебный год с похвальной грамотой, и я выполнила обещание. Видимо, сын был уверен в себе, потому что к этому времени заготовил массу крючков, удилищ, всяких сеток и перемётов.
Со счастливым, сияющим лицом сел он за вёсла в свою лодку. Началась дружба со старыми рыбаками 0 уроки рыбной ловли, сказки, разные истории по вечерам у костров.
Олег весь пропах дымом, запахом рыбы и осоки. Руки у него огрубели, были в ссадинах. Грудь стала шире.
Иногда ему удавалось подбить старого рыбака дедушку Герасименко и товарищей поехать на левый берег Днепра, провести ночь в лесу, у костра, а на рассвете начать ловить рыбу.
Получив разрешение на такое «далёкое путешествие», Олег приходил в восторг, тормошил меня и бабушку:
— Мама, если бы ты знала, как мне хочется поймать огромного сома для твоего детского сада! Знаешь, как твои малыши обрадуются!
В Ржищеве я работала заведующей детским садом, и желание Олега поймать сома для ребят я поддержала. Олег был частым гостем в детском саду, ребята любили его, и он охотно отдавал себя в полное распоряжение «чижиков»: возился с ними, боролся, но и умел следить за ними, как опытная нянька.
И Олег сдержал слово: поймал сома и отнёс его ребятам. Потом он часто приносил в детский сад разных рыбёшек и, ко всеобщей радости, пускал их в аквариум.
Обычно после путешествия на реку сын возвращался с богатым уловом рыбы, с рассказами дедушки Герасименко, где быль путалась с небылицей, на что такие мастера днепровские рыбаки.
— Знаешь, мама, — рассказывал Олег с горящими глазами, — дедушка говорит, что прежде в Днепре русалок было больше, чем рыбы. Правда это? А сома не так-то просто поймать, ты не думай! Его, как только вытащишь из воды, надо сразу по голове глушить чем-нибудь, а не то беда! Убить может... Дедушка раз поймал сома в десять пудов, прямо чудовище, да и не оглушил его сразу — сом как засопит, как ударит дедушку хвостом, чуть-чуть до смерти не убил! Тот сом, что я для твоего детского сада поймал, — он, правда, хоть килограмма на три был, а тоже как хлестнёт меня хвостом по ноге, будто саблей! Ну, я удержался, конечно...
Нравился Олегу и Ржищев, похожий на огромнейший парк над Днепром, его аккуратные домики с покрашенными крышами и белыми рядами заборов, Улица, на которой мы поселились, называлась Соловьиной. Весной здесь появилось такое множество соловьёв, что вечерний воздух буквально звенел от их трелей.
Олегу к этому времени было десять лет. Он начал увлекаться стихами. Да и нельзя было не писать их среди такой чудесной природы. Вот одно из его стихотворений тех счастливых дней:
Я Ржищев крепко полюбил
За то, что дивно он красив,
За то, что в нём впервые я
Увидел красоту Днепра.
Его я полюбил разлив
Весною многоводной,
И день и ночь на лодке б плыл
В его простор свободный!
И рыбу я люблю ловить
Со школьными друзьями,
На берегу уху варить
С картошкой, с карасями...
С этого года все свои впечатления о природе, отдельные случаи и происшествия дома и на улице, фразы из любимых книг сын начал записывать в толстую тетрадь с чёрной клеёнчатой обложкой. Туда же он записывал и свои стихи. Так сложился его дневник.
Начал его Олег рано. На первых порах всё там было по-детски наивно; с годами записи в дневнике стали для него необходимостью, как беседа с верным другом и неизменным помощником.
С детства у Олега были свой столик и этажерка, полная книг, разные папки, «секретные» тетради; всё это он берёг пуще глаза и никому не позволял нарушать порядок.
Таких записей и стихов накопилось у сына немало. Когда начались аресты молодогвардейцев, Олег был вынужден всё это сжечь.
По его приказу долго бросали мы с бабушкой в печку тетрадки со стихами, папки, записи — всё, что Олег собирал с такой любовью. Всё это было бесконечно дорого и нам.
«РАССКАЖИ, КАК ТЫ БЫЛА МАЛЕНЬКОЙ»
Олег любил всё весёлое, красивое, праздничное, Под Новый год мы вместе с ним украшали ёлку. Когда к нему приходили товарищи, я тоже принимала участие в их играх: переодевалась в Деда Мороза, декламировала стихи, рассказывала сказки.
Как — то раз на одной из таких шумных ёлок, когда товарищи сына ушли, я присела на диван отдохнуть.
Было очень поздно. Догорая, потрескивали на ёлке свечки. Глаза слипались...
Олег тихо сел на диван, прижался ко мне:
— Мамочка, расскажи мне, как ты была маленькой, всё расскажи! Как было...
Он просил ласково и настойчиво. Я начала рассказывать, забыла про усталость и увлеклась сама.
— Ну, слушай! Маленькой я скорей была похожа на сорванца-мальчишку, чем на девочку. Ничего не боялась. Мне хотелось самой до всего дотронуться, всё узнать, сделать то, что нелегко: поглубже в лес забраться, залезть на самую верхушку дерева...
Вот как-то раз ношусь я с криком по улице и вижу: на бугре пасутся лошади. И сразу один конь мне больше всех понравился: гнедой, хвост белый. Подбежала нему, развязала путы на передних ногах. Можно садиться. Но как? До спины коня даже рукой не достать. Нарвала я травы, подманила коня к заборчику, сама — на забор, с забора — на коня. Готово! Из пут сделала уздечку, ударила босыми ногами по бокам и коня, как шпорами. Наверно, и конь был такой сорванец, как я. Помчались мы с ним в степь, только ветер в ушах засвистел! Хорошо! Земля убегает из-под ног, ветер бьёт в лицо, дорога свободна...
Ну и поносил же меня конь по степи — сам устал! Сбросил меня со спины, как мешок, — и в стадо. А я как свалилась с него, так и встать не могу. Хорошо ещё, что не попала под копыта. Папа очень рассердился: конь-то оказался с норовом. И запретил мне папа раз и навсегда кататься на конях.
«Не послушаешься, говорит, целое лето в комнате просидишь».
Я послушалась. Но только раз вижу — ходит по двору здоровенный такой кабан.
Подошла я тихонько к кабану. Почесала у него за ухом, а потом, когда он расчувствовался, я — прыг к нему на спину и вцепилась в щетину. Кабан сначала ничего не понял, а потом сам испугался, захрюкал, да как давай меня носить да мотать по двору, только в глазах у меня замелькало. Всё было бы ничего, да вижу — несёт меня кабан к крыльцу, а на крыльце папа сидит...
Потом я узнала, что кабан этот был очень злой, на людей бросался. Клыки у него были как ножи.
Кабан, брызгая пеной изо рта, сделал какой-то особенный скачок, я почувствовала, что лечу по воздуху, и шлёпнулась в грязь прямо перед папой...
Олег смеялся вместе со мной...
— Ну, мамочка, ну ещё расскажи! Пожалуйста!
Отказать в таких случаях ему было невозможно. Мы уселись поудобнее, обнялись покрепче, и я продолжала:
— А когда мне восемь лет было, я, Олежек, чуть было в колодец вниз головой не влетела...
Дело вот как было. Играла я со своими подружками около глубокого колодца. Возле него скот поили. Воду доставали при помощи деревянного журавля. От верхушки журавля шла длинная, толстая палка, а на конце её была деревянная кадушка ведра на четыре. На другом конце журавля — тяжесть, кусок железа. Вроде весов получалось. Кадушка наполнится водой, вес сравняется, и её легко поднимают наверх — палку руками быстро так перебирают...
Вот я и говорю ребятам:
«А ну, кто сумеет полную кадушку поднять, тот и самый сильный!»
Не нашлось такого силача. Тогда я сама изо всея сил ухватила палку с кадушкой — и давай толкать колодец. Но руки у меня скоро устали, зачерпнуть воды я не могла, выпустила палку из рук и не успела опомниться, как вдруг очутилась под небесами.
А получилось вот что. Кадушка понеслась вверх! журавль и зацепил меня за платье. Болтаюсь я в воздухе, ничего не понимаю, только слышу, как подружки визжат и ревут со страху.
В это время железная тяжесть как ударится землю, встряхнула меня хорошенько над колодцем, бадья опять понеслась вниз, а вместе с ней и я. Дошла она до воды, и опять тяжесть потянула её вверх, и я снова в небе ногами болтаю...
Так меня раза два подняло и опустило. Наконец раздался треск — платье разорвалось, и я, как лягушка, на всех четырёх лапах очутилась на земле. И больно-то мне было и стыдно! А тут ещё ребята надо мной смеются: «Самая сильная, самая сильная!..»
— Мама, ну а ты? — шевельнулся Олег.
— Ну, и я вместе с ними. При них не плакала. А когда в степь убежала, там уж и дала волю слезам...
Что больше всего на свете, если не рассказы и сказки, любят ребята? Не помню случая, чтоб я отказала Олегу, когда он просил меня рассказать что-нибудь о себе, об Украине, о нашей прежней тяжёлой жизни мастеровых людей, о дедушке Олега, Коростылёве, и о многом другом, что так интересует всякого ребёнка.
И Олег мне платил тем же. Так росли наша дружба и доверие друг к другу...
«Я, ЮНЫЙ ПИОНЕР...»
Скоро и бабушка Вера переехала к нам из Згуровки. Она начала работать в совхозе парторгом, а жила вместе с нами.
Радости Олега не было конца. И чем дальше крепла дружба бабушки и внука, тем всё больше узнавал Олег о жизни нашего народа, о его борьбе за счастье и вольную жизнь и всё глубже любил свою Отчизну.
Бабушка Вера — вечно весёлая хлопотунья, минуты, бывало, не посидит без дела, жизнерадостная, чуткая к людскому горю, готовая помочь людям — была для Олега примером большевика.
Вспоминаю день вступления Олега в пионерскую организацию.
Это было 7 сентября 1935 года. Олег проснулся на рассвете и начал быстро одеваться. Вскоре я услышала из смежной комнаты:
— «Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, обещаю перед лицом своих товарищей...»
Голос у Олега был взволнованный, но слова он выговаривал твёрдо.
Из школы он возвратился с сияющими глазами, в новеньком красном галстуке на шее. Бросился ко мне, расцеловал.
Потом сказал тоном взрослого:
— У нас теперь в доме два члена партии.
— Кто ж это?
— Бабушка и я, — ответил Олег.
Я рассмеялась. С моим объяснением, что пионер ещё не член партии, что нужно сначала в комсомол вступить, а потом уже в партию, Олег хотя и согласился, но остался при своём мнении:
— Ну что ж? Пионер тоже немножечко партийный...
С этого времени Олег стал особенно подтянут и собран. Он как бы стал взрослее, и красный галстук на груди, всегда разглаженный и чистый, казалось, сдерживал его теперь от многих мальчишеских порывов.
Пионером он чувствовал себя всегда, не только в школе и на сборах.
Помню, пригласили Олега в детский сад, где я работала, на праздник Первого мая.
Начался утренник. В зале не оставалось ни одного свободного места. Олег так увлечённо смотрел на сцену, что, казалось, ничего не замечал вокруг. Но тут в зал вошла воспитательница младшей группы Ксения Прохоровна. Олег обеспокоенно огляделся и, не увидев в зале свободного места, быстро поднялся, подошёл к Ксении Прохоровне и почти силком заставил её сесть на его место.
Теперь Олег следил за своей внешностью с особым тщанием. Костюм у него всегда был как новый, без пятен, хорошо вычищен, выглажен его собственными руками.
Ложась спать, Олег аккуратно складывал свои вещи около себя на стуле. Его никогда нельзя было увидеть неподстриженным или непричёсанным.
Как-то я уехала из дому. Олег остался один. Встал он рано утром и попросил у соседки утюг.
— Зачем тебе?
— В школу пора, а костюм помятый. Неудобно в таком за парту сесть. Я — живо!
И он ловко и быстро выгладил свой костюм и только тогда пошёл в школу.
С тех пор как Олег стал пионером, он всё чаще задерживался в школе. Различная общественная работа, новые обязанности и нагрузки вошли в его жизнь, появились новые увлечения, которым он отдавался с большим рвением, вкладывая в них весь свой пыл и азарт.
СЛУЧАЙ В БУРЮ
Жадно любил Олег природу. Особое чувство вызывали у него буря, гроза, зимой — буран.
Однажды стоял душный, но ясный и тихий день. Мы все ушли на работу. Олега оставили дома с моей сестрой. К вечеру погода изменилась. Всё небо покрылось густыми чёрными тучами. Поднялся резкий ветер. Вскоре он перешёл в настоящую бурю. Деревья гнулись и трещали. Солома вихрем взлетала с крыш, густые тучи поднимались, кажется, до самого неба. А потом грянул ливень. К Днепру потекли шумные потоки...
Когда дождь утих, я поспешила домой. Прихожу — сына нет.
— Где Олег? — спросила я у сестры.
— А я не знаю, — ответила она, — сама волнуюсь.
Когда началась буря, он к дружку своему Грише Задорожному побежал. Я немного подождала и пошла к Грише. Олега не было и там. Гриша сказал, что Олег прибежал, когда буря только ещё начиналась, и стал звать кататься по Днепру. Спешил очень сесть в лодку, выехать на середину Днепра, в бурю побороться с волнами. Кроме того, после бурной погоды, как потом уверял меня Олег, славно ловится рыба — клюёт без наживки, только успевай вытаскивать.
Гриша колебался.
Тогда Олег махнул рукой, захватил свои крючки, перемёты и помчался к реке.
Не помню, как я прибежала домой. Выслушав меня бабушка тоже переполошилась, и мы вдвоём кинулись к Днепру.
Когда мы добрались до реки, уже совсем стемнело. Буря утихла, и только мутные ручьи после недавнего разлива шумно падали с высокого берега в Днепр. Я всматривалась в зловещую ночную темноту, вслушивалась, не послышится ли плеск вёсел.
— Олег! Оле-же-ек! — без конца кричала я.
Никто не отзывался. Мне казалось, что моего Олега уже нет на свете...
— Мама, что же делать?
Что могла ответить бабушка Вера? Мы бегали по берегу, снова и снова звали Олега. Ответа не было. И не могло быть...
Олег ждал нас дома.
Я тогда так рассердилась на него, что и говорить с ним не могла. Только и сказала:
— Две недели не пойдёшь в кино!
Большие влажные глаза сына посмотрели на меня, с тихим укором.
На другой день, когда я уже успокоилась, Олег покаялся мне во всём:
— Понимаешь, я ведь и Гришу звал на Днепр, да он не захотел. Что было делать? Пошёл я один. Сел в лодку, а тут буря разыгралась. Ух, и бросало лодку с волны на волну! Будто я со всем Днепром боролся один на один. А когда начался дождь, я вытащил лодку на остров, опрокинул её и уселся под ней. А потом... — Олег прижался ко мне, хитро играя глазами. — Ты ж, мамуня, не знаешь, как рыба ловится после бури!
Но как он ни ласкался ко мне, каким хорошим был он в то утро, я не изменила своего решения и ещё раз серьёзно повторила, что ему придётся понести наказание.
Это очень смутило Олега. Он пошёл к бабушке и повёл с ней такой разговор:
— Бабуся, я хочу с тобой поговорить, как партиец с партийцем...
После этого «партийного разговора» бабушка, конечно, взялась хлопотать за внука, но и это не помогло: Олег две недели не ходил в кино.
К концу такого тяжкого для всякого мальчика наказания Олег, вздохнув глубоко, сказал мне:
— Лучше бы уж ты меня ремнём выстегала! Поболело бы немножко и прошло. И я бы сразу в кино пошёл...
ЗА ГРИБАМИ
Каждый приезд на летние каникулы брата Николая бывал для Олега праздником. Дом наш превращался в гудящий улей. Сюда, как на огонёк, тянулись школьные товарищи Олега, и шумные разговоры, споры, игра в шахматы, сборы на рыбалки и в походы не прекращались ни на минуту.
Дядя Коля был уже студентом третьего курса Горного института и, как человек другого, взрослого, мира, вызывал у ребят тайную зависть и открытое обожание, но сам он в глубине души оставался мальчишкой и нередко «откалывал номера» вполне под стать своим младшим друзьям. Именно это особенно располагало к нему ребят.
Однажды, ещё до восхода солнца, собрались у нас друзья Олега, чтобы вместе пойти в лес и встретить в дороге зарю. Все ещё были заспанные и продрогшие от утренней прохлады, но не могли скрыть радостного оживления — пританцовывали и толкались.
Я тоже присоединилась к «честной компании», и, когда всё было готово, мы вышли из дому шумной гурьбой, нарушая тишину спящего посёлка.
Шли мы по накатанному, сырому от ночной росы шляху, и по обеим сторонам в предутренней дымке необозримо тянулись уже слегка желтеющие хлебные поля. Над горизонтом выплыл рубиновый краешек солнца — и это было похоже на чудо. Вдруг разом загорелись травы, по хлебному полю побежали, исчезая, ночные тени, и каждый колосок заискрился алмазной росой, склонившись маленькой гирляндой.
Ребята затихли и даже не глядели друг на друга, словно боялись потревожить торжественное рождение дня. И только спустя несколько минут, когда солнце уже заметно поднялось над горизонтом, стали взволнованно делиться впечатлениями. Но Олег держался в стороне и долго ещё хранил молчание, задумчиво поглядывая в поле.
— Ты чего зажурился? — спросил Николай и положил руку ему на плечо.
И Олег вдруг светло блеснул глазами, пригладил волосы и как-то застенчиво начал декламировать:
Полем идёшь — все цветы да цветы.
В небо глядишь — с голубой высоты
Солнце смеётся... Ликует природа!
Всюду приволье, покой и свобода.
...Дорого-любо, кормилица — нива,
Видеть, как ты колосишься красиво,
Как ты, янтарным зерном налита,
Гордо стоишь, высока и густа!
— Вот это сочинил! — изумлённо воскликнул кто-то.
И вдруг раздался весёлый хохот.
— Смерть невеждам! — вскричал Николай, бросившись разыскивать человека, посмевшего не знать, что это были строки из поэмы Некрасова «Саша», но «невежда» улепётывал со всех ног к лесу.
— В погоню!
И ребята, загоготав, как застоявшиеся кони, шумно бросились наперегонки, а впереди, взбрыкивая ногами, мчался Николай. И долго ещё продолжалась весёлая суматоха, и вспугнутые жаворонки взмывали над степью, серебристым звоном возвещая утреннюю побудку.
И вот мы в лесу. Сразу исчезли куда-то степные ветерки, нас окружила тёплая и мягкая лесная тишина — таинственная и пронизывающая до звона в ушах. Мы стоим, слушая тишину, и кто-то тихо и задумчиво стал читать из Некрасова:
Мне лепетал любимый лес:
Верь, нет милей родных небес!
Нигде не дышится вольней
Родных лугов, родных полей.
Вскоре мы нашли красивую, уютную полянку, расстелила скатерть на траве и стала готовить завтрак. Аппетит у ребят после прогулки волчий, и мне никого не пришлось упрашивать — только подавай!
После завтрака ребята разбрелись в разные стороны, и только слышно было отовсюду далёкое «ау»
Домой мы возвращались нагруженные корзинками грибов и огромными букетами лесных цветов.
ОТЧИЗНА
Общественная работа забирала у Олега много времени и энергии, но не мешала ни учёбе, ни разным увлечениям.
Начиная со второго года в школе, он был старостой класса, потом — редактором школьной газеты.
Уже в пятом классе сын прикрепил к куртке значок «БГТО».
Вот он кропотливо рисует плакат к праздникам. Вот весь в краске и клее, строит с товарищами модель самоходного танка и «настоящего» самолёта.
На праздничной демонстрации в его руках — школьное знамя.
Вот он с криком и смехом, раскрасневшийся на морозе, лепит с ребятами снежную бабу. Команда — и полетели снежки.
— Атака! Ура!
Любил он послушать, как снег свистит под лыжами, до самозабвения увлекался футболом, вертелся на турнике, не последним был и в волейболе.
И с одинаковым увлечением садился за уроки, бежал в школу.
Трудно было понять, что же больше всего любил мои сын и чем глубже всего увлекался?
Он любил всё: небо, шахматы, Днепр, химию, звёзды, школу, товарищей, географию, родной дом, цветы и футбольный мяч, книги и кино, историю и математику, возню с ребятами и стрельбу в цель, животных, рыб, птиц, лопату и молоток в своих руках...
Любил всё настоящее и интересное, дружное и красивое. Наслаждался учением и трудом, теплом от костра, песней и музыкой.
Он жил свободно, как птица, как сотни тысяч советских ребят.
Я думаю сейчас: когда настал последний час моего сына около зловещего рва, когда измучен он был пытками и ослабел телом, не улыбнулось ли тогда Олегу его счастливое детство? Не легче ли ему было принять пулю убийц и смерть, зная, что никто и никогда не отнимет счастливого детства у советских ребят?
Мой юный читатель! Береги и люби всё, что завоевали для тебя отцы и старшие товарищи в тяжёлых боях своей кровью. Люби свою родную землю и каждую травинку на ней. Береги и дорожи всем — великим и малым: советом старшего товарища и усталыми от труда руками матери и отца, вещами, которыми пользуешься и особенно дорожи людьми, которые их делают, люби всё, что охватывается большим и красивым словом — Отчизна, люби её больше, чем себя, учись и трудись во славу её, ибо в её славе — твоя слава. Пусть жизнь и борьба Олега и его друзей помогут тебе...
«У РЕКИ ЖИВЁТЕ — ПЛАВАТЬ НЕ УМЕЕТЕ!»
Там же, в Ржищеве, Олег записался в ОСВОД, стал наблюдать за правильным ловом рыбы и за катающимися на лодках. Казалось, он только и ждал того, чтоб кто-нибудь упал из лодки в воду, чтобы броситься на помощь и спасти. Плавал Олег, как рыба...
Кстати говоря, такой случай представился Олегу двумя годами позже, во время летних каникул у тёти Таси, в Коростышёве, где служил в частях её муж Терентий Кузьмич Данильченко.
Олег любил своих двоюродных сестричек Светлану и Лену и целыми днями пропадал с ними в лесу и на реке.
Река под Коростышёвом быстрая. Несколько километров тянется она среди леса, красивая и живописная, как все наши лесные реки.
Как-то ранним утром Олег скомандовал сестрёнкам:!
— Скорее на реку, в лодку! Прокачу, рыбу половим. .Живей, живей!
Когда они выгребли на середину реки, Олег попросил Лену сесть на вёсла, чтобы самому приготовить! удочки. Девочки расшалились. Переходя к вёслам, Лена споткнулась, вцепилась руками в борт лодки.»Секунда — и лодка опрокинулась.
Девочки плавать не умели, Лена ухватилась за лодку, Светлана захлёбывалась, и её уносило течением. Видя, что Лена держится сама, Олег крикнул ей:
— Молодец! Держись крепче!
И саженками поплыл к Светлане.
По всем осводовским правилам спасения утопающих он подхватил сестрёнку в воде и поплыл с нею к берегу. Усадил её на песок, нырнул — и за Леной. Тем же порядком доставил на берег и её.
Потом, у костра, прыгая на одной ноге, вытряхивая воду из ушей, Олег сердито выговаривал сестрёнкам:
— У реки живёте — плавать не умеете! Стыдно!
И в течение месяца он научил девочек плавать.
В Коростышёве Олег обучился верховой езде. Терентий Кузьмич Данильченко прекрасно владел оружием и отлично ездил верхом. В его твёрдых руках! любая норовистая лошадь становилась послушной и покорно выполняла всё, что требовал наездник. Данильченко подолгу и терпеливо обучал Олега трудному мастерству верховой езды.
Бывало, возьмут верховых лошадей и уедут в поле один раз кубарем слетал Олег с мчавшейся лошади, не раз больно ушибался, но желание и упорство оказывались сильнее боли.
Олег добился своего. Легко вскакивал на коня, управлял в езде и вскоре приобрёл выправку настоящего наездника, даже ходил с развальцей. Если бы его воля, он, кажется, не слезал бы с коня.
ВЕСНА
В Ржищеве у Олега было много товарищей, а самыми близкими из них были Володя Петренко, Ваня Лещинский, Гриша Задорожный, Зина Бонзик и Рада Власенко.
Вспоминается мне один из счастливых дней моей жизни.
Это было летом, под вечер. Солнце ещё не зашло, и я решила погулять над Днепром. Не успела я подойти к берегу, как услышала с днепровских просторов звучное пение. Пели хором — так чудесно и с таким вдохновением, что невозможно было не пойти той песне навстречу. Я вбежала на высокий берег...
И мне вдруг почудилось, что по синему вечернему Днепру плывут живые букеты цветов. Это была лодка полная девушек, одетых в разноцветные украинские костюмы, с развевающимися лентами и венками на головах.
И вдруг из самой гущи этих живых букетов раздался звонкий голос:
— Мама, иди к нам!
Узнать сына было трудно, но вот он замахал мне рукой. На голове у Олега был такой же, как у девочек, венок из живых цветов.
— Садитесь с нами, Елена Николаевна! — стали звать меня и девочки. — Мы — к пристани, пароход встречать. Увидите, как волны будут качать лодку!
Я узнала потом, что Олег, катаясь в своей лодке, повстречал на берегу Раду с её подругами, ученицами шестых и седьмых классов ржищевской школы, и позвал их покататься по Днепру. Девочки охотно согласились, а в благодарность сплели Олегу на голову венок из цветов.
Я вошла в лодку, села рядом с Олегом. Для меня у девочек тоже нашёлся венок.
Торжественно, с пением «Веснянки», они надели его мне на голову, и я уже не отличалась от них, вместе с ними пела хвалу весне...
В КИЕВЕ
Ржищев — недалеко от Киева, пароходом часа три езды. Не успеешь наглядеться на днепровские берега как ты уже в столице Украины — городе, которого не красивее на свете, с его многолюдным, праздничным Крещатиком, с Владимирской горкой, высоко поднявшейся над рекой, с густыми каштанами и тополям, в тени которых сумрачно и прохладно даже в самые жаркие дни.
В Киев мы с Олегом ездили не раз, ездили в гости к родным и просто так и часто до полной устали бродили по его улицам и паркам, любовались Днепром, знакомились с памятниками старины.
Однажды поехали мы вместе с Феодосией Харитоновной Довгалюк, тётей Рады Власенко, заменившей девочке рано умершую мать. Ребят захватили с собой. На пароходе Олег и Рада отделились от нас, бегали по палубе, спускались в трюм, смотрели на уходящие берега, оживлённо обменивались впечатлениями и смеялись.
Остановились мы в Киеве в гостинице — не хотелось стеснять родных. Погода была солнечная, жаркая. Прямо с утра пошли в Киево-Печерскую лавру. Долго любовались мы видами города с колокольни, уходившей в небо чуть не на сто метров. Восторги ребят и нам передавались; любо было смотреть на их румяные лица, разгоревшиеся глаза, и ещё краше от того казался Киев, его узенькие сверху улочки, золотые маковки соборов, зелёные купы деревьев. Рада то и дело вскрикивала и ахала. Олег же рядом с ней старался казаться солидней, держался по-мужски, важно бросал полюбившиеся ему слова:
— Мелочи жизни!
Наблюдая эту дружную пару, а в Киеве Олег и Рада не расставались, мы с Феодосией Харитоновной только переглядывались и незаметно улыбались — до чего же захвачены они были своей детской дружбой, до чего же смешны и милы покровительственные нотки Олега, застенчивые взгляды, которые бросала на него Рада.
То и дело ребята покидали нас, бегали по Киеву, а однажды, вернувшись, как-то таинственно перемигивались и Олег называл Раду сестрёнкой. Но долго они не могли прятать своей тайны. Перебивая друг друга, рассказали что были в кондитерской и там накупили столько сладостей и так жадно набросились на них, что продавщица жалостливо посмотрела на них и сказала:
— Наверное, брат и сестра только что из провинции, не правда ли?
Ребята, слегка смущённые, согласились, что действительно брат и сестра, но от «провинции» решительно отказались. Доев пирожные, они побежали в гостиницу, очень довольные этим внезапно выявившимся родством. Меня же после Киево-Печерской лавры Олег, любивший придумывать разные клички и прозвища, долго называл «святой Еленой».
ПЕРЕЧИТЫВАЯ ПИСЬМА
Много лет прошло с тех пор, перезабылись подробности, но и сейчас идут ко мне письма людей, знавших Олега. Это учителя, его школьные товарищи, друзья, вместе с ним делившие радости учёбы, отдыха, весёлых игр и увлечений.
Я люблю перечитывать эти письма. Вечерами, вместе бабушкой Верой, старенькой моей мамой, перебираем мы пожелтевшие листки. Я читаю, бабушка слушает, задумавшись. Иногда письмо напомнит ей что-то новое, она вся просияет, остановит меня и начинает рассказывать. Много и цепко хранит её свежая, как и в молодости, память, И встают перед нами сценки — далёкие и в то же время близкие, словно всё это было недавно...
Летом 1938 года Олег приезжал в приднепровское село Ходорово — там в школе был пионерский лагерь, в котором работала бабушка Вера. Он был прирождённый затейник, Олег, быстро и легко сходился с ребятами, не терпел возле себя скучающих, изнывающих от безделья. В лагере появилось вскоре много шахматистов — любителей и болельщиков. Не только в ненастную погоду, но и в хорошие дни можно было видеть ребят, даже девочек, поглощённых шахматное игрой — делом, может быть, и не очень подходящим для лагерного отдыха. Так уж устроен был, наверное, Олег — чем бы он ни увлекался, это сразу передавалось другим ребятам. Он просто не мог жить и радоваться в одиночку...
Друзей у Олега было много, он умел дружить как — то весь отдаваясь друзьям, прямо-таки влюбляясь в них, с радостью открывая в них замечательные качества. Дружил он с ребятами разного возраста, очень тянулся к старшеклассникам, у которых можно было набраться опыта и знаний.
Я не помню, чтобы Олег с кем-нибудь дрался, но конечно, не обходилось, как и в жизни любого мальчика, без огорчений.
Однажды — это было в школе, на перемене, Олег и девятиклассник, с которым он часто встречался, о чём-то спорили, стоя на лестничной клетке. Вдруг Олег взмахнул руками, отлетел в сторону, скривился от боли. Со звоном выпали из кармана пиджака часы, первые в жизни Олега часы, подаренные бабушкой в день его рождения. Какой-то верзила, скатившийся по перилам и сваливший Олега, с хохотом удрал. Олег не бросился на него с кулаками, не стал кричать. Он побледнел, поднял часы, прикуси; губу и ушёл в пустой класс. Там он оставался до тех пор, пока не успокоился. Он отличался выдержкой, которую не часто встретишь даже у взрослых.
ЗВЕЗДА ПУТЕВОДНАЯ
Читал Олег, как почти все ребята в его возрасте, много, с героями прочитанных книг радовался, горевал, путешествовал, шёл на битву с врагом и побеждал!
Он без конца перечитывал «Овода» Войнич, рассказы Джека Лондона, читал Горького, Пушкина, Некрасова, Котляревского, «В дурном обществе» Короленко, «Разве ревут волы, когда кормушки полны?», Панаса Мирного, Шевченко, «Тараса Бульбу» Гоголя, увлекалсяя его рассказами про Украину. Из «Евгения Онегина» он многое знал наизусть.
Николай Островский, этот писатель, любимый всей, молодёжью, стал Олегу особенно дорог и близок. «Как закалялась сталь» и «Рождённые бурей» Олег прочитал на украинском языке, когда ещё был учеником шестого класса.
Он принёс книжку и сразу засел за неё. Все уже спали. Вдруг из комнаты сына долетел до меня громкий разговор.
«С кем это он? — подумала я. — Что бы это могло быть. Ведь уже третий час ночи!»
Я пошла к сыну. Смотрю — лежит мой Олег на кровати, размахивает руками и повторяет с жаром:
— Вот так Павка, вот это молодец!
— Сын, с кем ты здесь говоришь? — спросила я потихоньку. — Скоро утро, а ты не спишь. Олег поднял на меня утомлённые глаза:
— Знаешь, я такую книжку читаю, такую интересную, никак не могу оторваться! Я сейчас засну. Завтра, когда я пойду в школу, почитай и ты эту книгу, но только вот до этого места, хорошо? А потом мы будем читать вслух. Только дай мне честное слово, что дальше без меня ты ни одной строчки не прочтёшь!
И он показал на седьмую главу.
Я взяла книжку, пообещала исполнить его просьбу ушла. У себя я только на минуту заглянула в книгу и уж не могла оторваться.
Когда Олег возвратился из школы, я в книге зашла далеко вперёд. Но об этом ему не сказала, чтоб не огорчать. Остальное мы читали с ним вместе.
Закрыв книгу, Олег спросил:
— Скажи, а вот можно ли стать таким же выносливым, как Павка, таким терпеливым и закалённым, как сталь?
Я не знала, что ответить ему, собиралась с мыслями. Он продолжал:
— Ты знаешь, мама, я хотел бы во всём быть похожим на Павку. Делать то, что он делал, мне уже, наверно, не придётся. Он с буржуями дрался и с немцами! Мы о такой жизни можем только в книжках читать.
После Олег не раз возвращался к этой волновавшей его теме. И когда в школе устроили диспут по книге «Как закалялась сталь», Олег был докладчиком. Во второй раз Олег прочитал книги Никола Островского учеником девятого класса, уже будучи комсомольцем.
Книги эти стали его звездой путеводной. Он и мыслях не разлучался с их героями. С ними, наверно, и на смерть пошёл...
КАНЕВ
Моего мужа перевели на работу в Канев, и нам пpишлось покинуть Ржищев.
Жаль было Олегу разлучаться с родным местом, где он провёл столько счастливых лет своего детства, где его любили и где его юное сердце впервые потянулось к другому юному сердцу: Рада Власенко оставалась в Ржищеве...
Кроме того, Днепр, лодки, ОСВОД — всё это стало так дорого и близко его душе.
Перед отъездом Олег очень волновался.
Он хотел, никого не обидев, оставить на память товарищам какие-нибудь вещи из своего «рыболовецкой хозяйства»: удочки, коллекцию крючков, сеть, сачок, свою любимую лодку. И всё было роздано без обиды.
В день отъезда к Олегу пришли все его товарищи. Их собралось довольно много. С одними он подружился в школе, с другими был в ОСВОДе, ловил рыбу, ас Ваней Лещинским и Володей Петренко — сколько он с ними мечтал о далёких путешествиях по морям и океана!
Грустно ребятам было разлучаться, и разговор у них не клеился. Стоят друг против друга, а нужных слов не находят.
Гриша Задорожный махнул рукой:
— Эх, Олег, собрались мы, чтобы поговорить с тобой в последний раз да пожелать тебе счастливого пути, а оно, видишь, — как будто языки прилипли... молчи.
У Рады Власенко вдруг вспыхнули щёки, и от этого она стала ещё миловиднее.
— Олежек... шесть лет мы учились все вместе, в одной школе. Ты был для нас хорошим товарищем... другом верным. С тобой можно было делиться всем.
Мы никогда не забудем тебя, Олежек, дорогой! На вот, прими на память от нас...
И Рада протянула Олегу книгу Максима Горького. Олег, взволнованный, бросился к Раде. Они обнялись. Ребята, вы же сами все такие... такие... Ну, да разве я могу вас позабыть? Спасибо за всё... Давайте споём, а?
И сразу все повеселели, заговорили громко, перебивая друг друга. Шумной ватагой выбежали во двор, и началась песня за песней...
Наконец мы переехали мы в Канев. Канев — тихий городок над Днепром, расположенный среди глубоких балок. Здесь, на днепровских кручах, похоронен Тарас Шевченко. А сейчас здесь и могила Аркадия Гайдара.
Мы с Олегом были на празднике, когда народ со всех концов страны съехался к Днепру — на открытие памятника Тарасу Шевченко.
Олег в этот день проснулся ни свет ни заря. Быстро умылся, надел свой лучший костюм, торопливо позавтракал. Конечно, нас он не стал дожидаться и побежал на пристань, куда должен был прийти из Киева пароход с гостями и членами украинского правительства. Немного погодя и мы пошли туда с мужем.
Был чудесный солнечный день.
Могила Тараса Шевченко находится на высоком берегу Днепра. Отсюда на много километров видна наша родная река с её золотыми песчаными берегами и тихими заводями. Так без конца и стояла бы здесь, подставив лицо ласковому ветру, любуясь синим Днепром, вспоминая слова Шевченко:
У всякого своя доля
И свой путь широкий...
Вокруг могилы разросся фруктовый сад — весной здесь всё как в снегу от цветения яблонь, груш, вишен, слив. Есть ли уголок на нашей Родине краше!
Гулянье состоялось на зелёной густой поляне, полной цветов, похожей на вышитый украинский ковёр. И среди всей этой красоты, оживляя и усиливая её, мелькали нарядные костюмы девушек, синие шаровары, вышитые рубахи и красные кушаки юношей. Смех, шутки, пляски! Шумя, развевались разноцветные ленты девушек, звенели бандуры — радость народная! А надо всем этим — голубое ласковое небо Украины.
И вот наступила волнующая минута открытия памятника. Потянули шнур — полотнище опустилось, и под торжественные звуки оркестра перед народом появился вылитый из бронзы великий Шевченко.
Праздник не затихал до позднего вечера. Сколько у нас с Олегом разговоров было потом!
ЗА ТОВАРИЩА
В конце июля 1939 года Олег поехал в Донбасс, в Краснодон, погостить у своего старого друга — дяди Коли, теперь уже работавшего в Донбассе инженером — геологом. Много он рассказал Олегу о тяжёлом и почётном труде шахтёра, опускался с Олегом в шахту.
— Мама, — рассказывал Олег мне потом, — это какие-то совсем особые люди — шахтёры! Работают глубоко-глубоко под землёй. Но ведь без угля все заводы и паровозы станут. А какие они дружные, мама! Один за всех, и все за одного.
К началу учебного года Олег возвратился в Канев. Он хорошо отдохнул, был полон впечатлений и охотно рассказывал о том, что видел в Краснодоне.
Теперь он уже был учеником седьмого класса. Прибавилось ответственности, учёба требовала больше времени и сил.
Как и в Ржищеве, он весь ушёл в школьные занятия и общественную работу и вскоре стал одним из лучших учеников класса. Его полюбили — доброго и справедливого товарища.
В каневской школе подобрался на редкость удачный коллектив учителей. Каждый день я видела, как растёт мой Олег духовно, шире смотрит на мир — это были результаты влияния учителей.
Но однажды в школе произошёл досадный случай.
Олег сидел на одной парте с Юрой Коляденко и подружился с ним. Как-то, возвратившись из школы, Олег возбуждённо сказал мне:
— Юра учится на «хорошо» и даже на «отлично», а учитель химии ставит ему «плохо»! А Юра знает химию не хуже меня.
Я была уверена, что ребята ошибаются. Но Олег настаивал на своём. Как-то он даже позвал Юру к нам, чтобы в моём присутствии проверить его знания, Олег не ошибся: Юра знал химию отлично.
Я посоветовала ребятам обратиться к классному руководителю, к директору школы и, наконец, к заведующему отделом народного образования.
К сожалению, в школе этому факту не придали особого значения. Тогда Олег написал в Киев.
Вскоре приехала комиссия областного отдела народного образования. Разумеется, дело уладилось. Олег торжествовал.
С той поры я заметила: какая — то суровая непримиримость к несправедливым поступкам товарищей и даже людей старше его родилась и стала крепнуть в мягком и добром сердце сына.
Школа встречала 1940 год.
Организаторы праздника поручили школьным поэтам написать новогодние стихи. Тот, кто напишет лучше всех, прочтёт стихи на вечере.
Олег готовился к празднику с увлечением. Да и всем ученикам была дана полная возможность проявить свою изобретательность и творческую выдумку.
И вот весело засветились огни школы. Высокая, до потолка, ёлка заиграла всеми цветами радуги. Её окружили сказочные фигуры Деда-Мороза, Снегурочки, днепровских русалок, ветра, луны, солнца...
Появились лётчики, танкисты, кавалеристы с бряцающими шпорами. «Джигит Кавказских гор» легко станцевал лезгинку. Зашумели лентами украинские девушки. Их приглашают танцевать парни в широких синих, как Днепр, шароварах. Смех, радость!
И вдруг тишина...
С обушком в руках, с фонарём на груди вошёл полнолицый шахтёр. На голове у него — шахтёрский чёрный шлем. Шахтёр медленно подходит к ёлке, снимает с груди фонарик и, подняв его над головой, как это делают в тёмной шахте, присматривается к публике:
— Хотите послушать новые стихи?
В зале закричали:
— Хотим, Олег, хотим!
Олег с воодушевлением прочёл свои стихи.
За костюм и новогодние стихи Олег получил премию: «Войну и мир» Льва Толстого. Очень он был рад этому подарку!
После Нового года мой муж тяжело заболел. Его отвезли в Киев, в больницу, и больше домой он уже не вернулся...
В КРАСНОДОНЕ
Теперь нам незачем было оставаться в Каневе, и мы согласились на приглашение моего брата переехать в знакомый уже Олегу город Краснодон.
Приехали мы туда 15 января 1940 года. Брат принял нас очень тепло, и мы поселились с ним в одной квартире. Дом был одноэтажный, крупного камня, стандартной постройки, на две квартиры, каких было много по Садовой улице. На улицу выходило шесть окон наших — три. Перед изгородью росли белая акация и тополя. Дворик небольшой — там стояли сарайчик и летняя кухня. Зелени во дворе в первое время не было. Потом мы развели цветы.
В нашей квартире было три комнаты и кухня. Вход один — со двора, через кухоньку, где было владение нашей хлопотуньи — бабушки; тут всё сияло чистотой и порядком и всегда пахло чем-нибудь вкусным. Из кухни входили в столовую. Здесь — диван, где спал Олег, его этажерка с книгами, стол, буфет. Стены покрашены в светло-голубую краску. На них висели картины: «Первый снег» и «Ночь в Крыму»; натюрморт — фрукты и зелень — работы моей приятельницы Елены Петровны Соколан. Летом на столе всегда стояли живые цветы: сирень, тюльпаны, розы — всё из нашего сада; на подоконниках — комнатные цветы: филодендрон с широкими красивыми листьями и фикусы. Пол был устлан цветными украинскими дорожками. Комната была солнечная, весёлая, из неё не хотелось уходить. На тумбочке стоял патефон, и он редко бывал без работы. Музыку у нас любили все, начиная с маленького Валерика, сына дяди Николая, и кончая бабушкой Верой.
Из столовой налево была комната дяди Николая, направо — моя и бабушкина, маленькая, но тоже весёлая и уютная. Олег любил здесь готовить уроки, писать стихи. У входа висела плотная портьера, скрывающая дверь.
Потом в этой комнате молодогвардейцы будут собираться на свои особо конспиративные заседания. Под этой же комнатой находился подвал. Крышка подвала была сделана аккуратно, пол покрыт плотным ковром. Зимой от сверкания снега под окнами в квартире становилось светло и празднично.
На Донбассе зима особая, постоянная даже в своих капризах. Сегодня мороз щедро размалюет косы и щёки шахтёрским ребятишкам, в чистом воздухе ясно просматриваются далёкие копры и терриконы, лёгкий ленивый дымок над ними; назавтра наплывут с юга тёплые волны воздуха, и вдруг, среди зимы, заморосит дождь, но снег и не подумает таять. На следующее утро взглянете в окно — опять на дворе трещит добрый русский мороз, снег под солнцем искрится, словно его приготовили для игрушек на ёлку.
Деревья стоят такие, какие и в сказках не бывают: все в бриллиантах, жемчуге и алмазах. Мороз потрудился над каждой веткой, над каждым не опавшим листом. Акации стали краше, чем в пору своего цветения. Всё щедро облито, разукрашено, запушено серебряным инеем, играет и переливается на солнышке колючими, голубыми огнями. Иней не осыпается даже при ветре, словно деревья так и выросли снежными. Зимой 1940 года мы редко бывали одни. Приходили шумной ватагой товарищи Олега, девушки, сослуживцы Николая, мои знакомые. Шум, споры, смех, песни и танцы без конца. Бабушка угощала гостей радушно, по-украински. Из всех нас не танцевала только она одна, но обязательно присутствовала тут же.
До Октябрьской революции Донбасс был суровым, неприветливым краем. Шахтёры изнемогали от работы под землёй по четырнадцати часов в сутки, трудясь без машин, с одним обушком, гибли под обвалами в шахтах. Сироты шахтёров вставали на место отцов или шли по миру.
Шахтёру негде было отдохнуть в свободные часы. Люди жили в полутёмных, грязных землянках. О школе, клубе, театре, об электрическом освещении никто и не мечтал, зато грязных «питейных заведений» было достаточно. Свои последние деньги шахтёр нёс в кабак.
В Донбассе до революции никто не сажал деревьев; говорили, что в таком проклятом грунте ничего не может вырасти. Над голой степью высились только терриконы и копры. Нигде ни кустика, ни дерева.
В наше советское время в Донбассе на месте старых, сырых землянок с керосиновыми каганцами появились светлые, просторные дома; вместо грязных кабаков поднялись Дома культуры, школы, клубы, театры, библиотеки, детские сады.
Я работала в детском саду шахты № 12, Олег учился в седьмом классе школы № 1 имени Горького.
Дом детского сада был обставлен мягкой мебелью.
У малышей было много игрушек, работала показательная кухня. На лето детей увозили на дачу, к реке. После двухмесячного отдыха малыши возвращались загорелые, здоровые.
Для молодых рабочих были выстроены просторные общежития. Каждая шахта имела свой клуб, кино, библиотеку, спортивные и танцевальные площадки. У шахтёра широкая натура; он любит и умеет работать, но в отдыхе и в веселье тоже никому не уступит.
Олег мигом обегал все новые места.
На нас с ним вначале Донбасс произвёл не очень отрадное впечатление. Его природа была куда беднее тех мест, где мы жили раньше. Мы привыкли к широкому Днепру, к зелёным садам и паркам. Краснодон показался нам совсем неинтересным. Олег скучал по родным местам. Перед глазами так и стояли живописный Ржищев с его Соловьиной улицей над Днепром, кручи Канева, могучая река...
А потом свыкся мой Олег, как он всегда быстро свыкался со всем новым. В Краснодоне нет Днепра, но за семь километров есть речка Каменка, есть молодой, на девять гектаров, парк, посаженный комсомольцами в 1932 году. Парк разросся и к 1940 году стал роскошным садом. Там фонтан распространял вокруг себя прохладу, там танцевальные площадки, стадион, летний театр, кинотеатр, библиотека, и в самом центре парка стояла школа имени Горького.
Она была очень красива — просторная, светлая, уютная, как вообще все школы в Донбассе. Деревья смотрели прямо в широкие окна. Солнце, пока не заходило, заливало белые классы. Окон было так много, что школа казалась стеклянной. Особенно красив был спортивный зал — полукруглый, почти весь из стекла, прекрасно оборудованный спортивными принадлежностями, инвентарём.
Мог ли думать Олег, сидя в классе, что именно эту красавицу школу придётся готовить к взрыву, закладывать взрывчатку под любимый спортивный зал! Понемногу мы начали привыкать к Донбассу и его природе.
Этот внешне суровый край имеет свою, только ему присущую красоту. Поверхность Донбасса неровная и волнообразная; тут несчётное количество оврагов и степных могил, а над ними — чёрные терриконы и башни копров.
Я работала в детском саду шахты, в пяти километрах от Краснодона. Дорога туда шла степью. Чтобы доставить мне удовольствие и увидеть восход солнца, Олег почти каждое утро ходил провожать меня на работу. Иногда с ним шёл и дядя Николай. Бывало, ещё с вечера Олег уславливался со мной:
— Мама, разбудишь меня до восхода солнца?
— А что ж, разбужу.
На следующий день мы отправляемся в дорогу. Заспанный мальчик старался быть бодрым и не обращать внимания на утренний холод.
Когда всходило солнце, мы уже были за. селением, в степи.
С первыми лучами солнца на землю падал густой белый туман. Этот донецкий туман никак не был похож на туман полтавских или киевских степей. Тот серый и тяжёлый, оставляющий после себя густую росу; а здесь туман был белый, даже слегка голубой, сухой, без единой росинки.
Казалось, будто перед тобой безграничное море с валами белых волн, набегающих одна на другую, — море, из которого высятся вершины терриконов и копров, похожие на плавающие корабли. Олег не отрывал глаз от необыкновенного зрелища.
Когда солнце поднималось, туман оседал ниже, стлался только по оврагам и низинам, а затем пропадал совершенно.
Тогда перед нами открывался пышный степной простор с бесчисленным количеством полевых цветов, каких я даже и не знала.
В такие минуты Олег забывал, что он уже большой мальчик, и бегал от цветка к цветку, рвал их, собирал в огромные букеты: один — для детского сада, другой — для бабушки.
Уже в первый год нашей жизни в Краснодоне мы начали озеленять и приводить в порядок наш двор.
Весной, рано утром, мы выходили копать грядки для огорода и цветочных клумб. Бабушка сеяла нефорощь — весёлое декоративное растение. Олег с дядей Николаем посадили фруктовые деревья, кусты сирени и роз. Сын с увлечением копал ямы, разрыхлял землю, удобрял её навозом. Вытирая пот со лба, он кричал Николаю:
— Готово!
Николай приносил деревце, ставил его так, что оно было на одной линии с другими деревцами, командовал:
— Сыпь!
От одной ямы переходили к другой, к третьей, десятой. Пот градом катился с лица Олега, но он шутил с дядей и вслух мечтал о первом яблоке со своей яблони под окном.
Под вечер Олег помогал нам рассаживать цветы, а на огороде — капусту и помидоры. Рассаду он без напоминаний поливал каждый день утром и вечером, днём накрывал от солнца лопухами.
На нашем огороде росли огурцы, редис, лук, помидоры и картофель; двор украшали большие шапки подсолнухов.
Среди цветов и подсолнухов наш дом был как в венке.
А чтобы над нашими головами распевали птицы, чтобы было кому собирать на огороде вредных мошек и гусениц, Олег ранней весной прикрепил высокую жердь со скворечней, где вскоре и поселились хлопотливые скворцы.
ЛЮБИМЫЙ ГЕРОЙ
Так прошло шесть месяцев.
В июне 1940 года Олег закончил семь классов. За отличные успехи он был премирован бесплатной туристской путёвкой в Крым. Это было первое в жизни Олега большое путешествие. — Сколько было восторженных рассказов потом!
За три недели они объездили почти весь Крым, и, кажется, не было ни одного примечательного места, о котором Олег не мог бы дать исчерпывающей справки. Многое увидел он своими глазами, но ещё больше, пожалуй, прочёл о Крыме.
Олег закончил всего семь классов, но мог поддержать разговор на любую тему и с любым собеседником, будь то десятиклассник, студент или инженер.
Чтобы разрешить какой-нибудь спорный вопрос, он приучил себя обращаться к книге, или словарю, или — к своей толстой тетради с цитатами. Когда же и этого недоставало, он не стеснялся обратиться к кому-нибудь из старших.
Олег всегда казался старше своих лет. В пятнадцать лет, довольно высокий, крепкий, хорошо сложенный, он был похож на семнадцатилетнего юношу.
Широкий, спокойный лоб, светло-шатеновые волосы, зачёсанные набок, длинные брови, большие карие глаза о продолговатым разрезом и густыми чёрными ресницами, полные, постоянно улыбающиеся губы — вот портрет сына тех лет.
Олег был жизнерадостен, умел и любил хорошо говорить, ценил остроумное слово, смеялся искренне и весело, заражая других.
Он очень увлекался музыкой; особенно волновала его скрипка. У него был хороший слух, и достаточно ему было сходить в кино, как, возвращаясь домой, он уже во весь голос распевал или насвистывал песенку из нового кинофильма.
Кто из наших ребят не увлекается кино! Едва ли они и мыслят свою жизнь без новых кинокартин. И у каждого в этих картинах, конечно, свой любимый герой.
Олег не пропускал ни одной кинокартины. Те, что ему нравились больше других, надолго сохранялись в его впечатлительной душе.
Чапаев! Лихо несётся тачанка. Петька у пулемёта. Жаркая схватка! Победа! Мужество бойцов, их песни, дружба, любовь к народу и к своему Василию Ивановичу Чапаеву. И его горячее, честное сердце, бьющееся ответной любовью и безудержной отвагой. Мечты Чапая. Песня «Ты не вейся, чёрный ворон...». Ночь. Удар в спину. Петька встаёт грудью за своего командира и старшего товарища. Глубокий Урал. Круги на воде. И вот она — месть врагу...
Олег бредил Чапаевым, восторгался Петькой и Анкой, но ближе всех его сердцу и рассудку был комиссар Дмитрий Фурманов.
Часто — днём или в темноте, перед сном — разговаривали мы с Олегом о прямом, большевистском характере Фурманова, о его спокойствии и выдержке, презрении к панике и унынию. Я ощущала взволнованное дыхание сына, видела, как поблёскивают в темноте его широко открытые глаза.
Позже, при немцах, когда нервы были накалены, а смерть сторожила из-за каждого угла, бывало, кто-нибудь из «Молодой гвардии» потеряет выдержку и начнёт кричать, доказывать свою правоту, Олег, исхудавший, весь напрягшийся, блеснёт глазами и бросит с едва заметной усмешкой:
— Александр Македонский великий был полководец, но зачем же стулья ломать?
Случалось, и я не вынесу напряжения, разнервничаюсь, перестану на время мыслить ясно и спокойно —подойдёт тогда сын, обнимет меня за плечи и прошепчет на ухо всё ту же фразу об Александре Македонском, сказанную Фурмановым Чапаеву.
ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТОК
У Олега не было от нас ни секретов, ни тайн. Он делился со мной своими затаёнными мыслями, он был уверен, что я выслушаю внимательно и дам искренний совет. Я, помню, была сильно растрогана, когда однажды услышала, как сын сказал своим товарищам по школе:
— У меня мама — не только мама, но и товарищ мой.
Мне легко было растить сына. Жили мы с ним дружно, и он как-то особенно душевно ценил любую заботу и ласку, которыми я старалась окружить его, и платил мне тем же. Я не помню, чтобы мы когда-нибудь ссорились; я не бранила, не ворчала на него даже тогда, когда видела, что он сделал что-нибудь нехорошее.
Спокойно и терпеливо старалась я убедить его, как следовало бы поступить иначе. Не имела привычки обрывать мальчика на полуслове. Внимательно выслушивала его и тогда спокойно говорила сама. О том, чтобы я подняла руку на своего сына, не могло быть и речи.
Сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной встаёт картина прошлого. Немцы уже в Краснодоне. Вот они топают сапогами и по нашим чистым комнатам. И здоровый рыжий фашист с перекошенной от злобы физиономией бьёт кулаком Олега прямо в глаза...
Я гордилась своим сыном. Не раз ходили мы с ним, взявшись за руки. Я была переполнена материнской гордостью, мне хотелось останавливать людей и говорить им: «Смотрите, какой у меня сын!»
Олег, словно, чувствуя моё настроение, весело говорил:
— Правда, мама, я уже большой? Посмотри, я уже выше тебя.
В мечтах о будущем сын уже видел себя сначала студентом, потом инженером. Обещал мне помощь, отдых от работы, любовь и уважение в старости. Я смеялась и говорила ему, что ещё не устала жить и что моя старость так далеко.
— Да разве люди от работы устают? Устают от горя. А я, сынок, счастлива с тобой!
Крепко дружил Олег и со своим дядей Колей. Внешне они очень были похожи на братьев, и Олега, который был единственным у меня, это очень радовало.
Часто они вместе читали книги, говорили о прочитанном, без конца спорили, решали различные кроссворды, викторины, ребусы, увлекались фотографией.
Великое это слово: старший товарищ!
Не раз дядя Николай брал Олега с собой в шахту или ездил с ним в поле, на геологические работы. Рассказывал о строении Земли, о полезных ископаемых, о том, как образовался Донецкий угольный бассейн. Учил всему, что знал и умел делать сам.
Позднее знания, которые Олег приобрёл, пригодились ему: в период между двумя эвакуациями Олег больше месяца работал помощником бурильщика — об этом до сих пор помнят старые рабочие.
У дяди Коли было много работы над чертежами. Олег то и дело вертелся около чертёжного стола — и вот циркуль и рейсфедер уже в его руках. Ходил сын и в трест к дяде Коле и там не пропускал случая, чтоб не почертить самому на белом, блестящем как снег листе бумаги.
Однажды дядя сказал:
— Олег, а не хочешь ли ты узнать, что такое первый заработанный рубль? Есть платная работа. Только вот не знаю: справишься ли ты и с учёбой и с работой?
Олег так и вскинулся. Он знал, конечно, что после смерти мужа жить мне было трудновато.
— А я вперёд уроки выучу, а потом сяду чертить. Справлюсь, дядя Коля!
Я ничего не знала об этом разговоре. Но вот недели через три врывается Олег, глаза горят, улыбка во всё лицо. В руках — свёртки:
— Вот, мама, тебе! Это мой первый заработок. Вот и деньги.
И он протянул мне флакон духов, корзинку с пирожными и деньги.
Дороги были для меня те подарки и деньги. Очень дороги.
КРАСНОДОНСКИЕ ДРУЗЬЯ
В конце 1940 года Олег стал комсомольцем. Задолго готовясь к этому, он внимательно изучил комсомольский устав и прочёл множество всякой политической литературы.
Свой приём в комсомол ему пришлось пережить дважды: когда принимали в школьной первичной организации и второй раз, когда утверждали в райкоме комсомола.
Возвратился он домой после райкома возбуждённый и счастливый.
— Теперь ты уже почти совсем партийный, — сказала я, поздравляя.
В тот памятный вечер в нашей квартире было шумно и весело. В Краснодоне у Олега было много друзей: Сергей Квасников, Ваня Земнухов, Коля Шелупахин, Ульяна Громова, Нина Иванцова, Анатолий Лопухов и Лина Темникова.
Первой среди девушек была для Олега Лина. Этой красивой девушке, с тяжёлыми косами и выразительными чёрными глазами, в дневнике Олега было посвящено немало записей и стихов. Она была на год моложе Олега, хорошо училась, играла на пианино, легко танцевала и считалась хорошим товарищем.
Общительный по натуре, Олег повсюду быстро находил себе друзей и с девочками дружил так же легко, как и с мальчиками. Помню, большая и серьёзная дружба была у него с Ниной Иванцовой. Вместе они часто говорили о своих товарищах, говорили о жизни, о будущем, и вопросы — кем быть и каким быть? — занимали, наверно, немало места в их разговорах.
— Ты не знаешь, мама, какой это верный товарищ! — горячо говорил Олег. — Такой человек никогда не подведёт.
Почти каждый выходной день вся наша семья — а к нам частенько присоединялись и многие товарищи Олега — выезжала за двадцать километров, на Северный Донец. Сборы и хлопоты бывали ещё более оживлёнными, чем когда-то в Ржищеве. В поездку бралось различное снаряжение: волейбольный мяч и сетка, рыболовные снасти, кухонная утварь, фотоаппараты, «спасательные круги» — простые автомобильные камеры для слабо плавающих — «мелководных», как называл их Олег.
Сколько бывало шуму и песен, когда машина «с ветерком» мчалась донецкими степями, сколько весёлой суеты и оживления, когда наконец мы подъезжали к реке! И не такой уж бедной казалась нам природа этого края, когда, отдохнувшие и бодрые, возвращались мы домой. Немало хорошего и волнующего было в донбасских степях, суровых лишь на первый взгляд.
Были у Олега друзья также и среди учителей.
Тёплые отношения сложились у сына с учителями Петром Ивановичем Улизком, Саплиным и Марией Андреевной Борц.
С Улизком Олега сблизила игра в шахматы. Пётр Иванович много лет держал в районе первенство по шахматам и в Олеге нашёл достойного противника. У Петра Ивановича была одна обаятельная черта, которая очень привлекала к нему Олега, — искреннее стремление передать человеку свой опыт и знания. Проигранной Олегу партии в шахматы он, кажется, радовался больше, чем своему выигрышу, и с удовольствием разбирал потом причины своей неудачи.
Под Москвой, давно уже выйдя на пенсию, живёт Даниил Алексеевич Саплин, старый учитель Олега. Это о нём, слывшем в школе учителем строгим и требовательным, Олег говорил когда-то: «Если нам удастся десятилетку закончить у Даниила Алексеевича, то поступление в институт обеспечено».
Передо мной большое письмо старого учителя.
«Бросалась в глаза какая-то стремительная собранность Олега, — вспоминает Даниил Алексеевич.— Вот он, тщательно одетый, вымытый, в начищенных ботинках, идёт в школу, поторапливаясь, с непокрытой головой. Вошёл, улыбающийся, быстро оглядел объявления по стенам и влился в ребячью толпу. Присмотришься к ребятам и видишь: один весь взлохмаченный и раскрасневшийся от беготни, другой что-то суетливо ищет в портфеле, третий ущипнёт соседа и отвернётся с невинным видом. Олег же весь — готовность к учёбе, озабоченность, деликатность. Как хорошо при встречах он здоровался! Немного обязательно посторонится, глаза выкажут замечательную мягкость, а сам чуть-чуть приостановится... Помню, учительница физики как-то хорошо сказала про Олега: «Вот хлопчик, что за прелесть! На уроке весь — слух и внимание. Только объяснишь новое, рука Олега тянется: «А это можно понять так?»
Мы заметили у Олега маленькое заикание. Это случалось с ним, когда на уроке он сильно волновался. Чтобы успокоить его, бывало, вызовешь его к доске, дашь задание и словно забудешь о нём, а в это время спрашиваешь других учеников. Успокоится он, соберётся с мыслями, а потом отвечает уже уверенно, чётко, не заикаясь...
Олег очень старательно учился и преуспевал в учёбе. Любил он преимущественно гуманитарные дисциплины: историю, географию, русскую литературу. Тогда я вёл два литературных кружка: отдельно для восьмиклассников и отдельно для девятых и десятых классов. Занимались раз в неделю. Случалось, увидишь Олега в кружке старшеклассников и скажешь: «Олег, ваш кружок ведь будет в субботу», а он: «Позвольте побыть здесь и послушать». Что ж, не прогонишь ведь.
Тогда кружковцы-восьмиклассники собирали русский фольклор, и у меня и теперь хранится текст записанной Олегом сказки, рассказанной бабушкой Верой Васильевной. Много сказок собрали мы тогда для ученического альманаха «Юный литератор», проиллюстрированного рисунками моей дочери Азы, соклассницы Олега.
Оба они в девятом классе состояли в редколлегии школьной стенной газеты «Крокодил», выходившей еженедельно по понедельникам и являвшейся всякий раз большим событием в школьной жизни. Редактором газеты был Олег. Он умел организовывать вокруг себя самых живых корреспондентов. Газета изготовлялась у меня на квартире. За два-три дня до выпуска очерёдного номера он непременно придёт к нам и справится, как идут дела. Корректировал газету я, а рисунки к ней делала моя дочь и другая её соученица.
Однажды замечаю, Олег и девочки, склонившись над газетой, что-то уж очень хохочут. А Олег прямо-таки заливается (он чудесно смеялся, весь смеялся). Я подошёл к ним, и они показали мне карикатуру, изображавшую Олега среди других опоздавших на урок. Олег был нарисован просунувшим голову в дверь; очень похоже получилось. Нахохотавшись, Олег серьёзно сказал: «А что? Так и надо! Самокритика — большое дело». После уроков школьных Олег — в своём сарайчике...»
Впрочем, об этом я могла бы рассказать уже сама, без помощи Даниила Алексеевича. Олег действительно любил мастерить. Это у него от деда Кошевого, а ещё больше от бабушки Веры. Ей, рано овдовевшей, приходилось делать по дому всякую мужскую работу, с топором и молотком она управлялась не хуже, чем с кухонным ножом и мясорубкой. Вот и Олег, как только выдастся свободная минута, всё, бывало, что-то делает в сарайчике — стучит по жести, ладит скворечницу, орудует на верстаке рубанком, зубилом, молотком. Смотришь на него иногда и думаешь: до чего же красиво, радостно всё он делает!
В то время Олег много писал стихов по-украински и по-русски. В 1940 году на художественной олимпиаде он получил за свои стихи три книги: «Основы ленинизма», «Капитал» и «Кобзарь». Помню, как Олег мечтал о том времени, когда он сможет прочесть «Капитал».
Он жадно учился и много хотел знать.
ВОЙНА
В июне 1941 года закончились занятия в школе. Олег перешёл в девятый класс. Ему шёл шестнадцатый год. Летом он собирался проведать родные места и вместе с бабушкой прокатиться сначала в милые Прилуки, потом — в Бердичев, где жила моя сестра Наталья Николаевна.
Начали готовиться в дорогу. Укладывали чемоданы, изучали расписание поездов. Поездка обещала быть интересной. По дороге Олег мечтал заглянуть в Ржищев. Представлял себе, как встретится со своими друзьями, вспоминал свою лодку, гулянье по Днепру, костры по ночам, песни, Раду Власенко...
И вдруг всё изменилось. Вышло так, что брату Николаю необходим был чертёжник.
— Олег, хочешь поработать?
— Теперь? — удивился сын. — Дядя Коля, право же, не могу. В дорогу собираюсь.
Николай обнял своего племянника и заглянул ему в глаза:
— А может быть, ты меня выручишь, Олег? Работа, понимаешь, спешная. И всего — на неделю. Сам я никак не справлюсь. Поможешь?
Олег растерялся. Да не шутит ли дядя Николай? Оставаться, когда уже билеты куплены!
— А как же бабушка? Она же не захочет меня ждать.
— Ничего. Бабуся доедет и одна. Не маленькая.
Олег заколебался:
— Ох, дядя Коля, и задал ты мне задачу!
— А я и не принуждаю, Олег. Хочешь — поезжай. Буду искать себе другого чертёжника. Может быть, и найду. Наверное, найду.
И Олег не поехал. Условились, что бабушка поедет одна, а немного погодя приедет в Бердичев и Олег.
Двадцать второго июня было воскресенье. В этот день, как всегда в выходной, у Олега собрались товарищи.
Разговаривали, перебивая друг друга, завели патефон. Кто-то включил радио...
Я работала на грядках во дворе. Слышу, в комнате стало необычно тихо. Чей-то смех резко оборвали:
— Замолчи!
Вдруг из комнаты выбежал бледный Олег:
— Мама, война! Немцы напали на нас!
Мне показалось, что сын дрожит всем телом, голос его срывался.
— Правда... правда ли это? Кто тебе сказал?
— Иди, послушай радио!
В тишине слушали мы Обращение правительства к народу.
— Что же теперь будет? — тревожно спросила я у Олега.
Он подошёл ко мне и крепко-крепко, как это делал маленьким, прильнул к моей мокрой от слёз щеке.
«ОТПУСТИ МЕНЯ!»
Вскоре многие школьники были направлены в колхоз, на полевые работы, и Олег был с ними.
Он очень волновался за бабушку, за мою сестру Наталью, за сестричек Лену и Светлану. Всех он в письмах просил как можно скорее приезжать к нам. Наконец они приехали, и Олег успокоился.
Краснодон жил напряжённой жизнью. Рабочие записывались в народное ополчение, формировали истребительные батальоны, на фронт шло пополнение.
Через некоторое время над Краснодоном начали появляться фашистские самолёты, на головы мирных людей посыпались бомбы. Налёты всё учащались.
Под обвалами умирали дети, горели дома, на смену счастью и благополучию шло великое горе.
В свободные минуты Олег не отходил от репродуктора. Фашизм скинул маску, и его настоящее лицо было омерзительно.
У Олега сжимались кулаки. Бездействие угнетало его. От репродуктора он бросался к бумаге и под голос диктора, сообщавшего о зверствах фашистов, о пожарах и горе, волнуясь, писал стихи.
Некоторые из них сохранились, остальные пропали.
На милую и горделивую,
На наш родимый мирный край,
На нашу Родину счастливую
Напал фашистский негодяй.
Все, как один, возьмём винтовки,
В бою не дрогнем никогда!
За нашу кровь, за наши слёзы
Мы отомстим врагу сполна!
Голосом, полным гнева, тоски и боли, Олег читал мне эти стихи.
Враг приближался к Краснодону. Всё тревожнее становилось в городе и на его окраинах. Начали готовиться к эвакуации. Моя сестра Наталья с детьми выехала далеко на восток. С шахт увозили оборудование.
Пока трест «Краснодонуголь» вывозил своё имущество, рабочие и служащие выехали в Верхне-Курмоярскую станицу — строить оборонительные рубежи. Выехал туда и мой брат Николай. Немцы были уже у Ростова.
Дома у нас собирались к отъезду; с минуты на минуту ждали эшелона.
Олег был единственным мужчиной в нашем доме, и на его плечи легли все заботы, связанные с эвакуацией.
Проходили дни. Эшелонов для населения не хватало: они шли на запад с войсками, на восток — с ранеными. Иногда проносились через станцию эшелоны с оборудованием шахт и заводов. Олег ходил на станцию, расспрашивал, нервничал, видя немецкие эскадрильи, сбрасывающие бомбы на мирные дома. В конце концов, бездействие измучило его. Когда-то ещё будет эшелон, а он, здоровый парень, должен сидеть сложа руки!
Он начал просить меня отпустить его в Верхне-Курмоярскую станицу.
— Мамочка, пойми меня! Не могу же я в такие дни сидеть дома без дела. Там, вместе со всеми, я хоть какую-нибудь пользу принесу. Каждая минута дорога, а я ничего не делаю... отпусти меня, мама!
А я боялась за него. С каждым днём усиливалась бомбардировка нашего города и особенно — железных дорог. Я старалась уверить сына, что нужно подождать эшелон, ехать вместе, но он и слушать не хотел:
— Я доеду, я не маленький. А там, вместе с дядей Николаем, буду работать на укреплениях. Пусти же, мама!
Я стала собирать сына в дорогу. Вместе с Олегом ехал и его товарищ Николай Шелупахин.
Мысль о том, что Олег едет «не один, подбадривала меня. Но всё же мы с бабушкой не могли удержаться, чтобы не заплакать.
Мы просили Олега беречься, слушать дядю Николая. Олег был очень нежен с нами, всё время шутил, просил не беспокоиться о нём.
— А вы, как только будет эшелон, сразу же выезжайте, — наказал он нам перед разлукой.
Тяжело было расставанье... Засвистел паровоз, ребята вскочили на подножки вагона. Олег снял кепку и махал нам до тех пор, пока поезд не скрылся за станционными домами.
Мы с бабушкой остались стоять на перроне.
Неизбывная печаль легла мне на сердце. Увидим ли мы его когда-нибудь? А тут ещё, как нарочно, в ту самую сторону, куда пошёл поезд, полетели фашистские самолёты. Вскоре мы услышали глухие разрывы бомб. Враг бомбил станцию Лихую.
Я горько расплакалась...
Дня через два после отъезда Олега крупные подкрепления наших войск пришли в Краснодон. Был дан приказ приостановить эвакуацию. Немцев отогнали от Ростова. Опасность миновала.
Через некоторое время все рабочие и служащие были отозваны с оборонительных рубежей в Краснодон на ремонт шахт.
Возобновили свою работу и детские сады. Я стала ждать возвращения своих.
В середине ноября отозвали Николая. Каков же был мой испуг, когда я увидела брата на пороге дома одного!
— Где же Олег?
— Разве ты не знаешь своего Олега? — устало улыбнулся брат. — Остался в Верхне-Курмоярской, он и Шелупахин. Без них, видишь ли, укрепление не закончат.
Только в конце ноября возвратились наконец Олег и Коля Шелупахин, возбуждённые, обветренные. Олег похудел, изменился, как будто бы сразу стал взрослым. Тревожные дни, какие переживала страна, резко отразились на сыне.
Это был уже не тот Олег — весёлый и жизнерадостный. Нет, передо мной стоял серьёзный, немного грустный юноша, уже познавший горе. Я видела, как он не находил себе места. Подолгу задумывался, разговаривал сам с собой.
Помню, как-то поздно вечером долго сидел он в углу дивана, подперев рукой подбородок, глядя куда-то далеко — далеко.
— Ты только, мама, подумай: нас, молодёжь, растили для большого дела. Все двери в науку для нас были открыты. Учись, путешествуй, работай! Всё для нас и ради нас. Понимаешь? И мы не знали ни капиталистов, ни помещиков вроде Кочубея, ни бедствий гражданской войны...
Вдруг он резко поднялся, начал быстро шагать по комнате, потом встал против меня:
— И вот, мама, я думаю сейчас о той нашей молодёжи... ну, о тех наших ребятах там, где уже немцы. Какая же у них, наверно, буря в душе! Школы закрыты, книги сжигаются. Иди в кабалу, в рабство, в тем ноту! Ну, нет! Не удастся это бандитам! Не станут наши люди на колени, никогда, ни за что! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Правда, мама, хорошие слова?
Через несколько дней Олег пошёл в школу. Буднично прошёл первый школьный день. Не было прежнего увлечения занятиями, не было радости.
Но скоро на свет опять появился «Крокодил». Только теперь от былой весёлости его мало что осталось. «Крокодил» выметал метлой тех, кто в тяжёлое для Родины время ленился, прогуливал, не учил уроков.
Но всё-таки жизнь как-то налаживалась и входила в свою, теперь уже военную колею.
ЗОЯ
У нас на квартире поселился комиссар, майор Василий Данилович Говорущенко. За несколько дней Олег близко с ним сошёлся. О многом они беседовали, но всегда заканчивали разговор о войне, о трудностях её, о неизбежной победе над врагами.
Как-то морозным днём Говорущенко принёс свежие газеты. Олег первый кинулся к ним. Перебирая их, сын увидел статью о геройском подвиге и смерти Зои Космодемьянской.
— Хотите, прочитаю вслух? — спросил он взволнованно.
Статья эта ударила Олега, кажется, в самое сердце. Как он ни старался закрыть глаза газетой, я заметила в них слёзы.
Кончив читать, он тихо сказал:
— Вот настоящая комсомолка!
Некоторое время он сидел, опустив голову, задумчивый. Может быть, в это мгновение он представлял себе мужественный путь Зои, а возможно, что именно тогда его сердце загорелось огнём мести, который уже никогда с тех пор не угасал в его груди.
Вдруг он поднял голову, взглянул на нас и сказал:
— Если бы и мне пришлось попасть в их руки, мама...
Он замолчал и молчал долго.
Помню, был обычный донбасский зимний день с морозом и резким ветром. За окнами лежал глубокий снег. Густой иней облепил сучья деревьев, окна в домах. Ветер тревожно высвистывал в трубе.
Долго в нашем доме говорили о Зое. Олег слушал, сосредоточенно думая о чём-то своём.
Когда пришли газеты с портретом Зои, Олег вырезал его, заботливо вставил в рамку и повесил над своей кроватью.
ГОСПИТАЛЬ
После уроков Олег с товарищами спешил в краснодонский госпиталь: читал раненым газеты и книги, для тяжелораненых писал письма родным и знакомым.
Комсомольцы объявили сбор посуды для госпиталя. Олег побывал во многих домах и в первую очередь, конечно, взял всё, что можно, из нашего дома.
В это время в квартире у нас жил военный врач — хирург Павел Петрович Кондратов. Это был спокойный, задумчивый человек, но, когда приходил Олег, он оживлялся и подолгу беседовал с ним; рассказывая об интересных операциях, о войне, о бойцах и командирах, лежавших в госпитале.
Помню, однажды Павел Петрович, всегда такой точный и аккуратный, пришёл домой с большим опозданием — в полночь, усталый, с запавшими глазами. Олег ещё не спал и спросил, что случилось. Павел Петрович рассказал, что он всё это время находился при молоденьком бойце, которому пришлось ампутировать обе ноги, иначе он бы умер от гангрены.
— А как он просил оставить хотя бы одну ногу! — болезненно морщась, сказал Павел Петрович. — До, чего же всё-таки слаба медицина...
Олег попросил разрешить ему навещать больного и через несколько дней, когда бойцу стало лучше, зашёл к нему и долго по душам разговаривал с ним, расспрашивал о родных, о войне. Боец — звали его Василий Нестерук — воевал в сапёрных частях; и хотя было ему всего двадцать лет, он мог о многом рассказать: немало фашистских танков, орудий и автомашин подорвалось на минах, которые он закладывал.
Олег дотошно расспрашивал его о технике минного дела, о тонкостях боевых операций, о враге...
У Василия Нестерука были родные — мать и сестрёнка, которым Олег под диктовку писал письма. Была у него и любимая девушка, но Василий никак не хотел признаться ей в своём несчастье.
— Что она, не советский человек? — возмущался Олег. — И как вы смеете думать только, что она вас разлюбит? Да вы посмотрите, какие письма она вам пишет! Это же трусость, честное слово!
Но красноречие Олега не действовало. Тогда Олег, запомнив адрес девушки, написал ей однажды письмо от себя.
— Пускай только не ответит! — грозился он, заклеивая письмо. — Впрочем, я уверен, что всё будет хорошо.
Помню, недели через две прибежал как-то Олег домой и прямо с порога радостно сообщил:
— Приехала! Сама приехала к Васе и заберёт его домой. Ты бы только видела, как они рады! Завтра пойду с ними прощаться. Может, и ты, мамочка, пойдёшь?
Я пойти не могла и попросила передать самые сердечные пожелания.
Вскоре военный госпиталь эвакуировался из Краснодона.
БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
Под новый, 1942 год в Краснодон прибыла с подарками для фронтовиков делегация трудящихся Цимлянского района. Узнав о том, что майор Говорущенко должен сопровождать делегацию на передовую, Олег упросил взять его с собой. Я и не догадывалась, что ожидает там Олега, и только потом, когда люди вернулись, узнала, что им пришлось побывать в условиях настоящего фронта. Олег с гордостью рассказывал, как они прибыли на передовую (оборону занимал кавалерийский казачий корпус генерал-лейтенанта Кириченко), как в глубоком снегу переползали от окопа к окопу, вручая бойцам подарки. Передав одному пожилому солдату подарок — жареную индейку и кисет с табаком, — Олег выпросил у него карабин и, пока тот занимался подарком, стрелял по немецким окопам, приговаривая:
— На тебе, гад, новогодний подарок!
Нет уже сейчас в живых майора Говорущенко, с которым так дружил Олег. Умер он в 1958 году. Незадолго до смерти Василий Данилович прислал мне большое письмо, в котором с любовью вспоминал Олега, дни, проведённые в нашем доме, совместную поездку на фронт. Добрым словом хочется помянуть Василия Даниловича, одного из многих хороших советских людей, которые помогали мне воспитывать сына.
БЕСПОКОЙНЫЕ ДНИ
Кончался учебный год, прошли испытания, и Олег перешёл в десятый класс.
Теперь у него стало больше свободного времени, и я советовала ему хоть немного отдохнуть. Он только отмахивался.
Лицо сына хмурилось всё более. Он стал ещё замкнутее. Какие планы созревали у него в голове? Какие думы вынашивал мой сын? Ясно мне было одно: сердцем он был там, на переднем крае войны, где решалась судьба всей нашей жизни. Передо мной был уже не мальчик. Руки моего сына просили оружия.
Позже я узнала про всё, и, как всегда, от самого Олега.
Сразу же после испытаний он стал советоваться с товарищами по школе, за какое дело им взяться, чтобы помочь фронту. Ребята уже тогда решили организовать отряд и идти в лес, к партизанам.
Не знаю, что бы получилось у ребят, если бы в это время Олег не познакомился с начальником политотдела одной сапёрной части, Вячеславом Ивановичем Грачёвым, и не стал часто бывать у сапёров. Грачёв и отговорил их от этой затеи.
Вячеслав Иванович устроил Олега воспитанником в дорожно-восстановительный батальон. Некоторое время Олег работал там писарем. Это была, правда, не совсем боевая работа, но он ревностно исполнял её, надеясь, что вместе с частью его возьмут на фронт. Грачёв поддерживал в нём эту надежду и уверял меня, что будет беречь Олега, как родного сына. А когда закончится война, шутил он, Олег возвратится домой с победой, живым и здоровым.
Я вначале колебалась, потом дала согласие. Невозможно описать радость Олега! Он обнял меня и начал кружить по комнате, как маленькую девочку. Каким сильным он стал к тому времени!
— Вот уж спасибо тебе, мама! Я знал, что ты! меня поймёшь, — повторял он, целуя меня в обе щеки.
А вскоре начались сборы. Но Вячеслав Иванович должен был сначала один выехать куда-то по важному делу и только после возвращения забрать Олега с собой.
Грачёв не возвратился ни на другой день, как мы условились, ни на третий, не возвратился и на десятый... А между тем сапёры ушли.
Взволнованный Олег не спал по ночам. Мы тоже волновались — вещи Грачёва остались в Краснодоне. Закралась мысль о несчастье.
Так оно и было. Грачёв попалил окружение и уже не мог пробиться к своим.
Стояли палящие июльские дни. Фашистские орды двигались на восток, а с ними — смерть и разрушение. Пылали цветущие украинские сёла и города.
Красная Армия с боями отходила на новые рубежи.
Краснодонские шахтёры, рабочие и служащие организовывали истребительные батальоны, до позднего вечера проходили боевую подготовку. Помещались они в просторных рабочих общежитиях, около базарной площади.
Олег эти дни почти не бывал дома. Он не пропускал ни одного события в Краснодоне. До всего ему было дело. Чтобы и ночью следить за налётами вражеских самолётов, он ложился спать во дворе, накрывшись простынёй.
С немецких самолётов падали ракеты, надрывно гудели паровозы, шахты, шарили по небу прожекторы, хлопали зенитные пушки. Враги бомбили окраины города, где скопились наши воинские части. Доносился яростный гул бомбёжки и со станции Лихой; там долго стояло яркое зарево. Ночью становилось светло как днём.
Я безотчётно боялась за Олега. Мне казалось, что его белую простыню среди зелени заметят немцы. Олег посмеивался:
— Что же ты, мама, думаешь, простыня — это тоже военный объект? Это же обыкновенная ткань, а под ней спит обыкновенный субъект!
В ПУТЬ
В Краснодоне вторично началась эвакуация. В нашем доме тоже готовились к отъезду. Хотя и верили мы, что настанет время, когда снова возвратимся в родные места, но на сердце было тяжело. Олег всячески старался успокоить тех, кто впадал в отчаяние; горячился, доказывая, что нас невозможно победить, ссылался на историю, и, правду сказать, нам становилось как-то спокойнее от его слов.
А по дорогам, по всем улицам Краснодона всё двигались и двигались бесконечные людские потоки. Хрипло мычал голодный скот, причитали женщины, а дети уже не могли и плакать.
На машинах, на телегах, на тачках, а то и на себе люди уносили свой скарб, уходили от немцев. Всё это, двигаясь на восток, перемешивалось с воинскими частями. Иногда весь этот шум, крики и плач перекрывал лязг гусениц танков. Шла кавалерия, двигалась пехота. Почерневшие лица у бойцов и командиров были угрюмы.
Поднятая тысячами ног и колёс, тяжёлая тёмно-красная донбасская пыль вставала плотной стеной, затемняла солнце, покрывала чёрным налётом лица людей, высушивала рот, слепила глаза, скрипела на зубах. Порой людей не было видно из-за неё.
Солнце жгло без жалости. Сердце разрывалось от боли при виде измученных ребятишек. Им было тяжелее всех. Наш домик стоял около дороги, и из окон всё было видно. Видел это и Олег, и мука застыла в его глазах.
— Мама, — жёстко твердил он, — мне надо уходить. Надо! Может случиться, что эшелонов не хватит на всех. Что тогда? Гитлеровцы нас, мужчин, в первую голову погонят строить для них укрепления, рыть окопы, подносить патроны и снаряды к их пушкам. А эти пушки будут стрелять по нашим, убивать их! Ты же знаешь, я никогда не пойду на это, и немцы убьют меня. Нет, надо уходить. Надо...
И вдруг — новое горе. Перед самым отъездом тяжело заболела бабушка. Она, правда, всё ещё хлопотала, работала за троих, но силы её оставляли. Выяснилось, что у неё брюшной тиф. Это разбило все наши планы. Как я могла оставить больную мать? Я заявила, что никуда без неё не поеду.
Оставалось одно: немедленно выезжать брату с семьёй и Олегом. Для них и для шести рабочих дали подводу. Договорились на подводу уложить все вещи, самим идти пешком. Как же не хотелось Олегу оставлять свою бабушку, да ещё больную! Раз десять на дню он умолял меня:
— Береги бабусю!.. Бабушка, — бросался он к ней, — где твой партбилет? Хорошо ли ты его спрятала? Немцы придут — сейчас же с обыском!
Бабушка слабо улыбалась:
— За меня не бойся. Я уже приготовила место для билета, да такое надёжное... Не взять его врагу. Руки коротки у ката. Ты сам, Олежек, будь осторожен. Дядю Колю слушайся...
Так они утешали друг друга.
Перед отъездом Олег, конечно, забежал попрощаться с Линой. Он просил её, если не удастся выехать, прятаться от немцев, быть стойкой, духом не падать и ждать возвращения своих.
А мне он сказал:
— Обо мне не беспокойся, мама. Будь уверена, я найду себе дело. Я думаю, что мне лучше всего пойти в армию или в партизаны. Недаром я выбивал сорок восемь из пятидесяти возможных. Теперь вот как пригодится!
— Сыночек мой, — пробовала я возражать ему, — это хорошо, что ты такой, но ведь тебе только шестнадцать лет!
— Соловей хоть и маленький, да голос у него большой, — отшучивался Олег. — Во всяком случае, за чужими спинами отсиживаться не стану. Нет уж!..
Я волновалась за Олега, знала: у него слово не разойдётся с делом. Но что я могла сделать? У птенца отросли крылья, и родное гнездо стало тесным ему.
Утром 16 июля я собирала в далёкий путь самых дорогих и близких моему сердцу людей. Вместе с ними уезжала моя приятельница, чертёжница геологического отдела Елена Петровна Соколан. Олег любил и уважал Елену Петровну, она была нашим другом.
Проводила я их за город. Там на окраине молча обняла сына, крепко его поцеловала.
— Делай всё так, как подскажет тебе твоя совесть, — сказала я ему на прощанье.
Долго ещё Олег оборачивался и махал кепкой.
Совсем разбитая, я вернулась домой. В нашем милом домике, где недавно было так шумно и уютно, полно радости и веселья, где не умолкал смех Олега, шутки дяди Коли и бабушки, стало пусто, глухо, одиноко. Всё было сдвинуто с привычного места, разбросано. И не было его, моего Олега...
В отчаянии я бросилась на пол и долго лежала так, немая, опустошённая...
ВРАГИ
Настали тревожные дни. Отступая, прошли через Краснодон последние воинские части. Город опустел; казалось, он вымер.
Все, кто не уехал, попрятались в домах и с тяжёлым предчувствием, как смерти, ожидали врага. Мы с мамой в доме остались одни, жили в тоскливом напряжении, стараясь не думать о страшном.
Но это страшное пришло. Утром 20 июля 1942 года двумя далёкими взрывами мы были разбужены от сна. Это на подступах к городу, как мы узнали потом, подорвались на минах два фашистских танка.
Вскоре я услышала нарастающий рокот, беспорядочную стрельбу, а затем в приоткрытые ставни окна увидела мчавшиеся по улице немецкие танки, стрелявшие на ходу куда попало. Следом за танками ворвались в город мотоциклисты, прочёсывая из автоматов пустые улицы.
Фашисты врывались в дома и, хватая перепуганных женщин и детей, крича и понукая автоматами, выгоняли их на улицу. Двое верзил, переодетые во всё русское, став во главе согнанной толпы, преподнесли своему офицеру, по русскому обычаю, «хлеб — соль», а другие щёлкали фотоаппаратами. Солдаты совали трясущимся от страха ребятишкам губные гармошки и вместе с ними фотографировались, улыбаясь в аппарат. Мотоциклисты глушили моторы и, угрожая пистолетами, сгоняли подростков, заставляя их тащить якобы заглохшие машины.
Было тяжело смотреть на этот отвратительный спектакль.
Они были похожи не на солдат, а на бандитов с большой дороги. Прежде всего, эти «освободители» кинулись по квартирам и курятникам. Каждый из них что-то тянул: курицу, какие-то мешки, всяческую одежду Они не брезговали ничем.
К нам в квартиру заскочили два ефрейтора, бегло осмотрели её и заявили, что здесь будет жить «большой офицер».
Увидев на дверях портьеру, один ефрейтор кинулся к ней, сорвал её и, скомкав, сунул в мешок. Другой увидел на стуле моё шёлковое платье, вытащил из кармана ножницы и тут же порезал платье на косынки. Потом они оба бросились к буфету, но мы предвидели грабёж и заранее попрятали всё ценное.
К вечеру Краснодон был переполнен немцами. В этот же день у нас поселился важный офицер. Чемоданов и сундуков у него было столько, что их некуда было ставить. Ими забили кладовую, коридор; в квартире стало тесно от них. Среди вещей были даже самовар и половая щётка. Одним словом, нашему квартиранту более подходило название большого грабителя, чем большого офицера.
С этих пор мой дом стал мне чужим. Меня только радовало одно: что нет здесь сейчас ни Олега, ни брата и что им не пришлось жить под одной крышей с врагами.
В первые же дни немцы стали вводить новые порядки. Были созданы немецкая комендатура, жандармерия, городская управа, дирекцион и биржа. По городу расклеены приказы и объявления. В каждом таком объявлении что-то запрещалось и за что-то полагался расстрел. За появление на улице после семи часов — расстрел, за неявку на отметочный пункт-расстрел, за уклон от регистрации на бирже — расстрел.
Учёту подлежало всё — не только население, но и домашнее хозяйство, скот и даже птица, случайно уцелевшая после грабежей. Коммунисты, не успевшие эвакуироваться, комсомольцы и даже пионеры брались под особый контроль.
В короткий срок город изменил свой облик. Красавица школа имени Горького, в светлых, оборудованных классах которой ещё недавно учились дети горняков, была превращена в дирекцион № 10 так называемого «Восточного акционерного общества». В помещении районных яслей расположилась городская управа, возглавляемая фашистским наёмником, бывшим кулаком, теперешним бургомистром Стаценко. Замечательное по своей архитектуре здание клуба ИТР зачем-то начали перестраивать, и, когда наконец оно было перестроено, трудно было понять, церковь это или мечеть. Городская больница, с её бесчисленными кабинетами и палатами, была превращена в наводившее ужас на всех жителей города фашистское учреждение — гестапо. Городской парк, излюбленное место отдыха детей и взрослых жителей Краснодона, был частично вырублен и превращён в оружейный арсенал.
Я только рада была, что с нами нет родных.
Но случилось такое, чего никто не мог ожидать: 25 июля, в четыре часа дня, возвратились шестеро рабочих, а с ними Олег и мой брат с семьёй. Они доехали до Новочеркасска — дальше на восток все пути были уже отрезаны.
Невесёлой вышла моя встреча с Олегом.
Он был хмурый, почерневший от горя. На лице его уже не появлялось улыбки, он ходил из угла в угол, угнетённый и молчаливый, не знал, к чему приложить руки. То, что делалось вокруг, уже не поражало, а страшным гнётом давило душу сына,
— Мама... если бы ты знала, мама! — горячо шептал он мне. — Это же не люди, а какие-то чудовища, настоящие людоеды! Если бы ты знала, чего я только не навидался в дороге!
Далеко за полночь рассказывал Олег о страшном пути. Ураганный ливень, разразившийся над раскалённой пыльной степью, валил потоками воды дорогу, по которой бесконечной вереницей шли беженцы, утопая в оплывающей хляби и с трудом толкая застревающие повозки.
После мучительной холодной ночи, проведённой при скудных кострах, утром двинулись дальше.
У села Николаевки был первый налёт. Отбомбившись по растянувшемуся шествию, «юнкерсы» развернулись и снова пошли вдоль дороги, расстреливая на бреющем полёте группы и одиночек. Олег, прижимая маленького Валерку, спасся в хлебах, которые в тот день многих спасли от смерти.
Похоронив убитых в братской могиле, выкопанной тут же, в степи, люди шли дальше. И ещё дважды потом налетали фашистские стервятники, сея смерть и горе.
Но однажды люди не стали разбегаться, когда появились «юнкерсы»: навстречу летели краснозвёздные ястребки, и завязалась горячая воздушная схватка. Люди словно ожили. Они кричали и плакали, восторженно подбрасывая в воздух шапки, когда фашистский стервятник, оставляя дымный хвост, стремительно падал вниз. Пятёрка советских ястребков не отставала до тех пор, пока фашистская эскадрилья, беспорядочно сбросив бомбы и потеряв несколько самолётов, позорно не обратилась вспять. Люди приободрились и дальше пошли уже веселее.
Но у города Шахты их настигли первые немецкие танки. Шрапнель рвалась над головами, оставляя на дороге всё новые и новые жертвы. Следом налетели мотоциклисты-автоматчики. Они метались, как бешеные собаки, обстреливая каждую рощицу, каждый кустик. Потом согнали всех в кучу, и началась «чистка». Хватали всё, что представляло какую-то ценность и что можно было увезти.
— Сколько буду жить, столько я буду помнить это! До самой смерти! — мрачно сказал Олег, закусив губу, чтобы сдержать закипающие слёзы.
Ночью, при тусклом свете каганца, он писал стихи.
Слышно было, как в соседней комнате храпел немецкий офицер на нашей постели, на нашей подушке. Свет от каганца озарял Олега снизу, и я не сводила глаз с решительного лица сына.
Стихи получились вот какие:
...И я решил, что жить так невозможно.
Смотреть на муки, самому страдать?
Скорей, пора! Пока ещё не поздно,
В тылу врага — врага уничтожать!
Я так решил, и это я исполню,
Всю жизнь отдам за Родину свою
За наш народ, за нашу дорогую,
Любимую Советскую страну!
А к Волге непрерывным потоком шли немцы, румыны, итальянцы. Без конца двигались их обозы, артиллерия, танки, легковые машины со штабными офицерами.
Шли и ехали враги — весёлые, сытые, самодовольные, рассчитывая на лёгкую победу.
Присутствие врага в нашем доме приводило сына в ярость. Я видела, как он напрягает все свои силы, чтобы не высказать гитлеровцам всей своей ненависти. «Большой офицер» вскоре уехал от нас, и теперь к нам на квартиру ставили солдат. Они ночевали одну-две ночи, не больше.
Однажды у нас остановились солдаты-эсэсовцы. Один из них, развалившись на диване после обеда, долго смотрел на Олега, потом спросил:
— Кто это?
Я ответила:
— Мой сын.
Немец, усмехаясь, сказал, что это здоровый и красивый юноша. Олег, понимавший по-немецки, нахмурился. Я молчала. Но немцу и не нужны были слушатели. Он продолжал самодовольно рассуждать вслух:
— Да, ваш сын очень красивый и сильный юноша. Такие солдаты нужны для Германии.
Олег с презрением покосился на фашиста.
Сын только что вернулся с улицы; он очень торопился домой, раскраснелся, чёрные брови на высоком лбу, глаза ясные, плечи широкие. Он был в синем костюме, в белой чистой рубахе, ловкий, молодой, высокий.
— Не нравится быть солдатом? — пристал к нему фашист. — О, ничего! У нас в Германии много этих... как их...
Тут солдат запнулся.
Подыскивая подходящие слова, он сморщил лоб, потом хлопнул себя по коленям:
— О да, он будет работать у этих... у куркулей. В нашей Германии много куркулей. Им нужны крепкие и здоровые работники.
Олег наконец не выдержал.
— Дурак ты, дурак! — сказал он по-русски громко. — Не знаешь ты, что куркуль — это, по-нашему, кулак. Мы их уже давным-давно прогнали, этих твоих куркулей! А скоро и вам будет крышка!
— Вас, вас? — важно спросил немец. — Что такое есть кулак?
— Кулак есть кулак, а ты есть дурак! — сказал Олег.
ПОЕДИНОК
Утром эсэсовцы ушли. Но наша чистая квартира опять понадобилась немцам для какого-то важного генерала. И он перебрался к нам со своими многочисленными чемоданами и денщиком.
Денщик — высокий, сытый, рыжий эсэсовец — неплохо говорил по-русски и с чисто фашистской злобой и пренебрежением отзывался обо всём русском, советском. Только и был слышен по дому его квакающий голос:
— Советские свиньи! Скоты!
Генерал восседал в столовой за столом, на котором постоянно стояли бутылки с шампанским, печенье, фрукты, всевозможные конфеты, шоколад. Для маленького Валерика, сына дяди Коли, было большим испытанием проходить мимо этого стола. Бабушка, видя, что денщик и на человека не похож, строго внушала Валерику даже и не оглядываться на стол.
Но мальчику было всего около трёх лет, и он не видел не только сладкого и фруктов, но и хлеба не ел вдоволь. Трудно было Валерику перебороть искушение.
Как-то раз Валерику надоело сидеть в угловой комнате, куда нас загнали немцы, к тому же мальчику очень захотелось есть.
Всем съестным у нас распоряжалась бабушка. Она была на кухне.
Валерик отворил дверь в столовую, и тут перед ним предстали на столе все богатства. Как потом мы выяснили, произошло следующее.
Валерик увидел на столе сладости и фрукты, но вспомнил, что бабушка строго запретила и глядеть на них. Однако пройти мимо и хотя бы не оглянуться на плитки шоколада было выше его сил. Валерик решил обмануть самого себя. Он повернулся и пошёл спиной вперёд. Но идти так, вслепую, было трудно, и Валерик затопал башмаками.
Генерала не было дома. Денщик сидел на диване. Он схватил винтовку и, толкая Валерика штыком в спину, закричал на весь дом:
— Русская свинья! Что ты здесь ходишь?
Мы услышали дикий крик Валерика. Бабушка подхватила его на руки. Он был весь в горячем поту, глазёнки его блуждали, он дрожал и заикался.
На кухне бабушка шёпотом утешала Валерика:
— Ну, не плачь, не дрожи, детка! Я тебе знаешь что скажу? Слушай-ка: скоро опять придут сюда дяди со звёздами, так они вот сколько принесут тебе и конфет, и шоколаду, и яблок с грушами...
Я благодарила случай, что в это время Олега не было дома. Но столкновения предотвратить не удалось.
Однажды денщик начал в нашем присутствии громко ругать русских:
— Вы некультурные свиньи, дикий народ! Вас всех нужно учить. Это взяла на себя наша культурная Германия. И мы добьёмся своего!
Олег стоял бледный и страшный. Я дрожала всем телом. Я видела: сын, сдерживаясь изо всех больно, закусил губу.
Денщик продолжал глумиться:
— Вы, русские, должны быть благодарны великой Германии!
Тут, забыв все наши предупреждения, Олег вспыхнул как порох:
— Неправда! Не мы, а вы — самые некультурные и дикие люди. Разве культурные люди пошли бы жечь и убивать мирных жителей? Вы напали на нас! Вы людоеды, убиваете беззащитных женщин и детей! Вы... вы...
Фашист, вначале опешивший от крика Олега,. вдруг подскочил к сыну и что было силы ударил его кулаком в лицо.
— Ты комсомолец? Я убью тебя! — кричал он, вынимая оружие.
Олег в ярости схватил немца за борт мундира и с силой потряс его так, что в его бесцветных глазах мелькнули страх и беспомощность.
Я кинулась к ним, загородив Олега.
— Сын ещё молод, неразумен, — умоляла я.
Насилу-то успокоила я разъярённое животное.
Олег выбежал из комнаты.
Я нашла его во дворе. Он сидел на лавочке, сжав голову руками и раскачиваясь словно от боли. На его лице горел след от удара. По бледным щекам катились крупные слёзы.
— Если бы не ты, мама, я разорвал бы ему горло, — сказал он чуть слышно. — Я бы ему показал, проклятому!
Как могла, я старалась утешить сына. Прижала его к себе, приласкала. Целовала в лицо, в глаза:
— Пока их сила, Олег... Надо терпеть. Скоро возвратятся наши.
Олег резко поднял голову и посмотрел вокруг недобрым взглядом:
— Терпеть меня, мама, не учи. Жить под одной крышей с фашистами я больше не могу! Пойду в партизаны, мстить буду за себя, за всех! А этому фашисту я ещё покажу!
К счастью, на второй день генерал, а с ним и его денщик выехали от нас.
«ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ»
Мы жили, как в большом концлагере. Не знали, что делается на фронте, в Москве, где наши войска.
В то, что писали продажные газетки, о чём изо дня в день кричало немецкое радио, мы не верили. Немецкая пропаганда уверяла, что один советский город за другим не выдерживают натиска немецких войск, что Красная Армия разбита. Олег только посмеивался:
— Врут! Живёт Красная Армия! Я сердцем чую.
Фашисты безжалостно грабили население, забирали хлеб и скот и вывозили в Германию. Огромные самолёты, набитые зерном, пролетали над Краснодоном, где люди страдали от голода. Потом и молодёжь стали угонять в фашистскую неволю. Плачем и стоном наполнилась украинская земля.
А в конце августа 1942 года в городском парке Краснодона враги закопали в землю группу арестованных шахтёров и служащих. Среди них были женщины и дети. Их заставили выкопать яму, стать в неё и, связав каждой пятёрке проволокой руки, живых начали засыпать землёй. Того, кто сопротивлялся, пристреливали на месте.
Выходить на улицу после семи часов вечера немцы запретили. Наступила душная, чёрная ночь. Душно и черно было и у нас на сердце. Спать я не могла, и мы сидели с Олегом в саду на лавочке.
Ясные звёзды смотрели на нас сверху. Глядя на них, я представляла, что сейчас на эти же звёзды смотрят наши люди по ту сторону фронта, смотрят красноармейцы из своих окопов, и что они всё знают о наших муках и скоро придут на выручку.
Не знаю, о чём думал Олег. В последнее время мы часто сидели с ним рядом молча. Потом проверяли, и оказывалось, что думали мы об одном и том же.
Вдруг откуда — то, из самой глубины чёрной ночи, донёсся какой-то странный звук, словно тонкая струна; лопнула. Занятая своими думами, я не обратила на это внимания. Но Олег вскочил с лавки, крепко стиснул мне плечо сильной рукой:
— Мама, слышишь?
Со стороны городского парка раздались два — три торопливых выстрела, а за ними такой отчаянный и тоскливый детский крик, что сердце, казалось, перестало биться. Ужас охватил меня. Я прижалась к сыну.
— Мама, — воскликнул он, — это их казнят!
Весь Краснодон знал об аресте коммуниста Валко, других большевиков и беспартийных рабочих-шахтёров и служащих. С первого же дня прихода немцев они наотрез отказались работать с ними и в лицо фашистам говорили о своей ненависти и презрении к ним.
Вместе с этими мужественными людьми арестовали женщин, забрали и детей. Мы видели, как их, голодных и измученных, фашисты под усиленным конвоем водили по улицам на работы.
Олегу дважды пришлось видеть их на работе. Проходя мимо железной дороги, проложенной от шахты к тресту, он наткнулся на знакомого товарища. Конвоира близко не было, они разговорились.
Знакомый Олега, оборванный, худой, как скелет, еле держась на ногах, перетаскивал шпалы.
— Олег, — слабым голосом сказал он, — мы все помираем с голоду. Ребятишек очень жалко...
И он начал рассказывать, как над ними издеваются в гестапо. В арестном помещении людей набито столько, что сесть негде, все стоят целыми ночами, спят стоя. В уборную не выпускают. Грязь, вонь, мухи. Иногда немцы бросают в камеры сырые кабачки, и арестованные делят их по семечкам.
— Бежим! — прошептал Олег.
Но товарищ покачал головой:
— Спасибо тебе, но, если я убегу, остальным хуже будет. Да и не дойду я, пожалуй. Сил совсем не осталось... Олег, вон в том огороде свекла растёт. Если я её сам сорву, меня изобьют до смерти, да и всем попадёт... Олега не нужно было просить дважды. Он пополз к огороду, вырвал из земли свеклу и отдал товарищу.
Потом со всех ног побежал домой, забрал весь хлеб, что у нас был, и принёс его арестованному.
— Олег, — сказал тот, — знай, скоро нас всех расстреляют...
Приближалась охрана. Надо было уходить...
Теперь их ночью живыми закапывали в землю. Донеслись ещё выстрелы, глухие крики, плач детей. Потом всё стихло.
— Мама, — услышала я страстный голос Олега, — больше терпеть нет моих сил! Знаешь, храбрый умирает один раз, а трус — много раз. Теперь я знаю, что мне делать...
Несколько дней спустя в книге «Как закалялась сталь» я нашла листок, исписанный рукой Олега:
Клянусь я тебе, дорогая Отчизна,
Что буду я грудью тебя защищать,
Что немца — тирана, захватчика, хама —
Где встречу — уничтожать!
Клянусь своему я народу родному:
Жестоко отмстить я сумею врагу...
Олег написал эти строки в ту страшную ночь. Теперь оставалось только одно — переходить к оружию.
ЛИСТОВКИ
Был солнечный, весёлый день. Часа четыре. Помню, я вошла в комнату. За столом сидели Олег, брат Николай, Ваня Земнухов и Толя Попов. Склонившись над какими-то бумагами, они что-то молча писали. При моём появлении они несколько смутились. Кто-то даже спрятал от меня свои бумажки под стол. Олег улыбнулся мне и сказал:
— Мамы не бойтесь, товарищи. Мама — свой человек. — И он показал мне одну из бумажек. — Вот. Прочти. Хотим раскрыть глаза людям.
В этих первых самописных листовках они призывали население не выполнять немецких распоряжений, сжигать хлеб, который немцы готовят вывезти в Германию, при удобных случаях убивать захватчиков полицейских и прятаться от угона в неволю.
— Хорошо? — спросил Олег.
— Хорошо-то хорошо, — сказала я, — только за это своими головами можете расплатиться. Разве можно так рисковать? .
Олег по-озорному присвистнул. Толя Попов блеснул глазами:
— Риск — благородное дело, Елена Николаевна.
Олег стал серьёзнее, задумался.
— Конечно, риск — благородное дело, только рисковать надо умно. Когда сильно любишь что-нибудь, то всегда добьёшься. — И опять заулыбался. — Помните кузнеца Вакулу? Как он в ночь под рождество самого чёрта перехитрил? А почему? Оксану свою крепко любил. И не стало для Вакулы ни страхов, ни преград, а если Вакула чёрта обманул, неужели мы гитлеровцев и полицейских не одурачим? Быть того не может!
Что я могла ему ответить?
В тот же вечер первые листовки, эти первые ласточки, разлетелись по городу. Их приклеивали в городском парке на скамейках, приклеили и на двери кинотеатра, в темноте зала бросали в народ. При выходе, в тесноте, две листовки засунули даже в карманы полицейских. С того вечера распространение листовок стало каждодневной работой молодых конспираторов. Ваня Земнухов предложил распространять листовки даже в церкви. Там обычно сидел старичок и продавал листки с текстами молитв. Старик был подслеповат, ребятам легко удалось взять листок с молитвой. По его формату изготовили листовки и незаметно подсунули старику целую стопу. Спрос на «молитвы», на радость старику, был в тот день очень велик. Но особенно радовались ребята — спасибо боженьке, который помог им в подпольных делах.
А в конце августа Олег достал у инженера Кистринова радиоприёмник. Наконец-то мы услышали нашу Москву! Стало так радостно, как будто после жестокой зимы пришла весна и мы выставили в окнах рамы. Ребята собирались, записывали радиопередачи, а потом размножали в десятках экземпляров и расклеивали по городу. Измученные неизвестностью, наши люди стали каждый день читать сообщения Информбюро. Большая земля протянула нам руку.
Зато для гестапо и полиции работы увеличилось. Немцы и полицаи бегали по городу, как собаки, сбившиеся со следа, и с руганью срывали листовки на центральных улицах.
Сорвать листовки им, конечно, удавалось, но как вырвешь правду из сердец людей?
КАШУК
Конспиративный кружок начал расти. В него вошли Серёжа Тюленин, Майя Пегливанова, Уля Громова, Сеня Остапенко, Коля Сумской, Стёпа Сафонов.
Из партизанского отряда, руководимого секретарём обкома партии И. М. Яковенко, вошёл в подпольную группу Виктор Третьякевич, который недавно прибыл в Краснодон, вошли почти все друзья Олега, кроме самого близкого — Лины.
Я осторожно спросила у Олега:
— Лине... ты не даёшь никаких поручений?
Олег ответил:
— Я ошибся в ней, мама.
Я стала уговаривать его не ссориться с Линой. Олег резко отмахнулся:
— Разве мало я с ней говорил? Ей, в конце концов, неплохо и при немцах!
— Что ты говоришь, Олег? Ты так дружил с Линой!
Олег мучительно покраснел. Наша откровенность с ним не заходила ещё так далеко. А может быть, ему стало стыдно за свой такой неудачный выбор.
Но вот он решительно встряхнул головой:
— Слушай же, мама! Позавчера немцы гнали наших арестованных. Избивали прикладами, издевались... ну, как всегда... Я побежал к Лине, хотел поделиться с ней, по душам поговорить, понимаешь? А она... у них патефон играл, а Лина... весёлая такая — танцевала с немецким офицером. Дверь была открыта, и я всё видел. — Он вздохнул, словно груз с себя снял.
— Я вот думаю, что Павка Корчагин, наверняка так же поступил бы на моём месте...
Павел Корчагин и теперь был любимым героем Олега. В тяжёлые минуты он брал с этажерки книгу «Как закалялась сталь» и снова перечитывал её. Бывало, кто-нибудь из его товарищей загрустит, повесит голову — Олег и ему протянет эту книгу.
Позже, когда кружок привлекал к себе всё больше и больше отважных ребят, Олег частенько читал своим! друзьям любимые места из книги Островского. И особенно любил он перечитывать слова, которые помнил наизусть;
«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое и; чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества...»
Бывало, после этих слов призадумаются ребята, лица у всех станут светлее, глаза заблестят, а Олег скажет за всех:
— Лучше смерть в бою, чем жизнь в неволе! Правда, ребята?
Как-то раз Олег возвратился домой очень взволнованный. Я старалась вызвать его на откровенность, но это мне не удалось. Его поведение удивило меня.
«Что случилось? — думала я. — До сих пор Олег не таился от меня».
Видно, произошло что — то, глубоко поразившее сердце сына.
Я решила спокойно ждать. Он сам, как всегда, расскажет мне обо всём.
Я понимала, что мой Олег уже не тот весёлый подросток, который ещё недавно мечтал о романтических подвигах. Перед ним встала суровая необходимость борьбы с врагом, и он бесстрашно вступил в эту смертельную борьбу.
Теперь он приходил домой поздно ночью, стал молчаливым, избегал откровенных разговоров со мной. Одним словом, он вёл себя как взрослый человек, у которого своя, мужская ответственность, своё горе и своя радость.
Я понимала, что затаённые мысли, полностью завладевшие его сердцем, высокой стеной отделили моего сына от меня.
А как мне хотелось опять заглянуть в его душу! Но мы привыкли уважать друг друга, и я не смела врываться в его мир, если он сам этого не хотел.
Но вот пришло время, и я снова стала его близким другом и советчиком.
Однажды, к ночи, сын пришёл домой по-особенному возбуждённый. Плотно закрыл за собой дверь, оглядел комнату. И я услышала его взволнованный голос: — Ну, мама, нас можно поздравить! Долго мы в тот вечер разговаривали с Олегом. Он рассказал мне о плане их боевой организации, о намеченной цели, о том, как они хотят бороться. Всё, всё... Я поняла: большое, светлое дело задумали ребята. Я знала: борьба будет беспощадной и жестокой.
Как умела, я раскрыла сыну свою душу, говорила, что на пути борьбы, на который он встал, его на каждом шагу будет подстерегать опасность. И что её нужно встретить мужественно.
Сын слушал притихший, не сводя с меня глаз. — Ну уж... если придётся умереть, тебе за меня стыдно не будет!
Мне стало и хорошо и страшно. И как ни тяжело мне было в этом самой себе признаться, как ни щемило моё сердце, я видела, что теперь жизнь моего сына принадлежит уже не мне и что смертельная опасность будет его спутником на каждом шагу.
Но я не остановила его. Не кинулась на грудь, чтобы слезами и просьбами заставить его сойти с выбранной дороги, не схватила за руку, чтобы не пустить в дом, спрятать его от товарищей, уберечь от борьбы, Я любила своего сына. В ту же ночь я решила всеми силами помогать ему.
Олег получил конспиративное имя «Кашук».
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
У самого гнезда фашистов, около гестапо, собрались; недавние школьники, готовые на борьбу и на муки. Когда-то они читали и им рассказывали в школе, что их; отцы-большевики вот так же собирались в подполье. Теперь ребята продолжали славное большевистское дело: организовывались на борьбу. Звезда правды ярко горела над ними.
В Краснодоне для подпольной работы остались, многие коммунисты. Помню, как уже в первые дни, когда на шахте № 12 были арестованы Валько, Зимин и другие, в Краснодоне упорно ходили слухи, что в городе имеется подпольная организация. Позднее молодым подпольщикам удалось связаться с коммунистами, и в доме у нас не раз бывали Филипп Петрович Лютиков — руководитель подполья, Мария Георгиевна Дымченко, Яковлев. Часто приходила к нам Налина Георгиевна Соколова, хорошо известная в прошлом как активная общественница — много лет она была председателем совета жён горняков.
Многие коммунисты, оставленные в подполье, были схвачены и арестованы уже в первые дни немецкой оккупации. Так, мученической смертью погибли, живыми закопанные в городском парке, коммунисты Валько, Зимин и другие не раз доверяли мне охрану собраний, когда конспиративные заседания проходили в нашем доме.
Смертельная борьба началась, и ребята активно включились в неё. Правда, она переплеталась у них с романтическим увлечением, но самое главное они видели ясно: ими двигала любовь к Отчизне. Они предпочли борьбу неволе.
Да и не умирать, а бороться и жить собирались они. Они верили в победу. Они и представить себе не могли, что среди них окажется негодяй с чёрным сердцем, который продаст врагу свою совесть и выдаст организацию.
От Олега я продолжала узнавать о планах организации и незаметно для себя втягивалась в подпольную борьбу.
Ребята не остерегались того, что я знакома с их планами, — они охотно пользовались моей помощью и не раз доверяли мне охрану собраний, когда конспиративные собрания проходили в нашем доме.
Первое собрание молодых подпольщиков состоялось в конце сентября 1942 года. На нём был создан штаб молодёжной организации, в который вошли Туркенич, Земнухов, Олег, Третьякевич, Левашов, а позднее — Люба Шевцова и Ульяна Громова. По предложению Серёжи Тюленина организация была названа «Молодой гвардией». Юные подпольщики не уронили славы своих предшественников, первых комсомольцев нашей страны, и делами оправдали своё крылатое славное название, овеянное романтикой ещё с первых лет Советской власти и хорошо известное по знаменитой песне Безыменского.
Боевой деятельностью краснодонских комсомольцев руководил Ваня Туркенич, фронтовик, уже имевший опыт участия в боях с фашистами, а несколько позднее, когда возникли условия для вооружённой борьбы, секретарём подпольной комсомольской организации — комиссаром «Молодой гвардии» — стал Олег.
Чтобы как можно меньше людей знало о штабе и его планах, вся организация была разбита на пятёрки. Только начальник пятёрки поддерживал связь со штабом.
КЛЯТВА
Вступая в «Молодую гвардию», юные подпольщики давали клятву. Вот он, текст этой клятвы:
«Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь:
Беспрекословно выполнять любое задание, данное мне старшим товарищем.
Хранить в глубочайшей тайне всё, что касается моей работы в «Молодой гвардии».
Я клянусь мстить беспощадно за сожжённые, разорённые города и сёла, за кровь наших людей, за мученическую смерть тридцати шахтёров-героев. И если для этой мести потребуется моя жизнь — я отдам её без минуты колебания.
Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть моё имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей.
Кровь за кровь! Смерть за смерть!»
Ребята сидели, тесно касаясь плечом друг друга, одна семья. Взволнованное дыхание, вдохновенные юношеские лица. Словно какая-то гордая птица пронеслась над ребятами и позвала их, и они были готов лететь за ней.
Никто не пошёл на попятный.
После первого же собрания молодогвардейцы начали энергично действовать. В конце октября организация выросла до семидесяти человек, в ноябре в рядах было более ста юных борцов за Родину. Прежде чем принять кого-нибудь в организацию члены штаба внимательно изучали новичка, пытливо беседовали с ним, подготавливая будущего молодо гвардейца к суровой борьбе.
Вот как потом Нина Иванцова рассказывала об этом:
«Однажды Олег мне сказал: «Нина, мы будем партизанами. Ты представляешь, что такое партизан? Дело партизанское нелёгкое, но очень интересное. Партизан убьёт одного врага, другого, убьёт сотого, а сто первый может убить его. Он выполнит одно, другое, десятое задание, но это требует самоотверженности. Партизан никогда не дорожит своей личной жизнью. Он никогда не ставит свою жизнь выше жизни Родины. А если требуется для выполнения долга перед Родиной, для сохранения многих жизней, он никогда не пожалеет своей жизни, никогда не продаст и не выдаст товарища. Таков наш партизан, Нина!»
Возглавляли пятёрки самые смелые и решительные ребята. Для связи со штабом каждая пятёрка имела связного.
Каждый, кто вступал в организацию, торжественно принимал присягу.
После Радик Юркин рассказывал:
«Олег Кошевой выстроил всех нас, будущих молодогвардейцев, и обратился к нам с коротким словом, вспомнил о боевых традициях Донбасса, о героических подвигах донбассовских полков, об обязанностях и чести комсомольцев. Слова его звучали негромко, но твёрдо и так воодушевляли, что каждый из нас готов был хоть сейчас идти в бой. «С молоком матери мы впитали в себя любовь к свободе, к счастью, и никогда немцам не поставить нас на колени! — говорил Кошевой. — Мы будем драться, как дрались наши отцы и деды, до последней капли крови, до последнего вздоха. Мы пойдём на муки и смерть, но с честью выполним свой долг перед Родиной». Потом он вызывал нас из строя по одному для принятия присяги. Когда Олег назвал мою фамилию, меня ещё сильнее охватило волнение. Я ступил два шага вперёд, повернулся лицом к товарищам и застыл на месте. Кошевой вполголоса, но очень чётко начал читать текст присяги. Я за ним повторял. Закончив, Олег подошёл ко мне, поздравил от имени штаба с принятием присяги и сказал: «Отныне твоя жизнь, Радик, принадлежит «Молодой гвардии» и её делу».
«Молодая гвардия» росла и крепла. Всё больше становилось у неё бойцов, и каждый требовал смелого дела. Недавние школьники после вступления в организацию как-то вдруг превращались в настоящих подпольщиков.
С самого начала борьбы — когда всё было закрыто тучами и казалось, что немца не остановить, — и до последнего часа ребят не покидала горячая вера в победу, в возвращение на Донбасс Красной Армии, — и это объединяло ребят, таких различных и непохожих.
А главное, как мне теперь ясно, что сделало «Молодую гвардию» близкой тысячам людей, — это была сила их организации.
Было похоже, как будто в кромешную ночь, среди воя ветра и пурги, когда гибель казалась неизбежной, вдруг впереди ярко засветил ясный огонёк маяка. Он указывал измученным людям единственно правильную дорогу.
Правда, это была всего небольшая группа обыкновенной краснодонской молодёжи, совсем ещё мальчики и девочки, но они были организованны и готовы к бою. И каждый, кто или дрогнул перед врагом, или решил тихонько ждать прихода своих, подумал, наверняка «Что же это получается? Люди взялись за оружие я-то что же сижу? Надо помогать!»
Отвага «Молодой гвардии» у многих в Краснодоне в те суровые дни пробудила гражданскую совесть.
И было очень хорошо, что в одном ряду со взрослыми вступили в борьбу с захватчиками и наши дети.
Когда-то, на заре своей борьбы за свободу, наш народ выдвигал только одиночек-героев. Теперь, при Советской власти, стоило только появиться опасности и на борьбу вставали сотни и сотни тысяч героев. Славная наша партия, комсомол, пионерские отряды, наши школы, наше искусство и наш труд сделали своё вели кое дело. Вчера самый обыкновенный школьник — сегодня становился героем. Много было таких героев, и враг был бессилен перед этим массовым героизмом, потому что на место одного погибшего вставали десятки.
Подымется мститель суровый,
И будет он нас посильней... —
часто вспоминались эти вещие строки.
По тому, какая бывает весна, легко догадаться, какое придёт лето. Если эта группа наших краснодонских ребят была так отлично организована и отважна, значит, за ними стояла сила несокрушимая. Вот что стало ясно в Краснодоне даже самому робкому человеку. И наша Красная Армия подтверждала это своими победами.
ОРУЖИЯ!
Ещё в те дни, когда враг всё шёл и шёл вперёд и мы своими глазами видели его военную технику, бесконечные потоки орудий, танков, бесчисленные самолёты у нас над головой, в сердце Ули Громовой закрались — казалось, совсем в то время лишние — опасения.
— Товарищи, — сказала Уля друзьям, — чего же мы ждём? Скоро наши придут, погонят немца. Бои, наверно, будут большие. Чем же мы тогда поможем нашим раненым? Где возьмём бинты, марлю, всякие медикаменты? Всё это нужно теперь же собирать. Пора!
Мальчики как-то не очень охотно пошли на это, зато девушки открыли тут всю свою душу. Подруги Ули — быстрая, смелая Шура Бондарева, полненькая шустрая хохотушка Аня Сопова, Лиля и Тоня Иванихины, на редкость дружные, неразлучные сёстры, начитанная, степенная, строгая девушка Шура Дубровина, — сколько изобретательности, риска, терпения, хитрости вложили они, собирая медикаменты! Вначале они их добывали по своим домам, потом у знакомых, затем — из немецких госпиталей и аптек.
Много накопили девушки бинтов и марли, пакетов и всяческих медикаментов, но не пришлось им помочь нашим раненым...
Постепенно и умело штаб превращал свою организацию из агитационной в организацию вооружённого сопротивления врагу.
Ещё до трагической гибели шахтёров в городском парке ребятам удалось побывать на больничном дворе, где работали заключённые, повидать Андрея Андреевича Валько и от него узнать, что у села Деревечка в одной из двух заброшенных шахт спрятано разное оружие.
Теперь настало время достать это оружие.
Прихватив противогазы — на тот случай, если в шахтах скопились ядовитые газы, — Олег и Ваня Земнухов однажды утром ушли на разведку. Быстро разыскали шахту и после недолгих поисков обнаружили в замаскированной нише тщательно смазанные и уложенные в ящики пистолеты, автоматы, гранаты-лимонки, динамит, запалы и бикфордов шнур.
О результатах разведки было доложено на заседании штаба. У ребят был настоящий праздник. Юре Виценовскому, Васе Пирожку, Анатолию Попову, Ване Земнухову и Олегу было поручено перенести оружие на базу «Молодой гвардии», созданную в подвалах разрушенной городской бани.
На склад «Молодой гвардии» стали в избытке поступать винтовки и гранаты, добытые у врага, взрывчатка и патроны.
В октябре Серёже Тюленину, Клаве Ковалёвой Жене Шепелёву и Олегу удалось довольно рискованное дело с оружием.
К вечеру, в сумерках, прибыла в Краснодон новая часть румын.
Солдаты разместились по домам, загнали свои шины во дворы, а сами отправились в парк, где для них шла немецкая кинокартина.
Острые глаза ребят подметили, что позади одного дома, между улицами Клубной и Садовой, стоит ней сколько машин с оружием. Охраны близко не было. Серёжа Тюленин вызвался проверить, так ли это. Вернулся он с сияющими глазами:
— Нету охраны! Кино смотрят. Вот дураки!
Напротив дворика стояло разбитое здание без окон и дверей.
План созрел быстро. Ребята вытащили из машин два больших ящика с гранатами, три винтовки и ползком переправили всё это богатство в разбитый дом. Потом как ни в чём не бывало они пошли в парк.
А через день оружие было благополучно перенесено в склад, под баню. Я, испуганная, сказала ребятам:
— Как же вы осмелились? Ведь ещё совсем светло было! Каждую минуту вы могли нарваться на румын.
Серёжа только прищурил свои и без того маленькие серые озорные глаза. Клава выглядела совсем пай-девочкой, возвращающейся из школы. А Олег, поглядывая на товарищей, посмеиваясь, ответил:
— Могли, да не нарвались!
Были случаи с приобретением оружия и комические.
Как-то раз к нам забрёл румынский солдат с винтовкой, принялся ныть и жаловаться:
— Нехорош война. Немец плохо. Кушать давай не ту. Худо, худо! Война нехорош! Винтовка нехорош!
У нас сидела Уля Громова. Я заметила, как Олег и Уля насторожились при словах «винтовка нехорош», но сделали самые равнодушные физиономии. Вдруг Олег взял кусок хлеба, почти последний у нас, и сказал как бы между прочим:
— Хлеба хорош. Винтовка нехорош. Хлеба мало. Винтовка много. Давай?
Голодный румын без лишних слов вырвал у Олега хлеб, отдал ему винтовку и, что-то бормоча, вышел вон. Наш склад пополнился ещё одной вражеской винтовкой.
«ТАИНСТВЕННЫЕ УДОЧКИ»
Помню, незадолго до Октябрьских праздников Олег и брат Николай затеяли в углу двора какую-то возню стаскивали туда доски, строгали шесты, вокруг валялся всякий плотницкий инструмент — пила, топор, молоток. Я их ни о чём не расспрашивала, но однажды, когда они долго не шли обедать, не вытерпела и спросила:
— Интересно, чем это вы так заняты, если вас да же обедать не дозовёшься?
— А вот видишь, — сказал Николай, указывая на длинный шест, сбитый из нескольких планок, — это мы с Олегом удилище мастерим. А вот это, — он указал на зачищенный электрический провод, — лески, чтобы рыба крупнее бралась. На конский волос мало что возьмёшь... Ты же сама жалуешься, что ничего сейчас не достанешь, вот мы и решили тебя побаловать.
Признаться, в первую минуту я поверила — так серьёзно говорил Николай и такой подкупающей показалась его забота о нашем столе, — но, когда Олег фыркнул, я поняла, что меня разыгрывают. Всё-таки толком так и не узнала тогда, что они мастерят.
— Нет, правда, мама, дядя Коля не шутит: будем действительно рыбу ловить, только не в воде, а ещё кое-где... — И Олег неопределённо помахал рукой в воздухе.
Обедать я их так и не дозвалась. Пришли, когда уже всё остыло, и, перемигиваясь, как заговорщики, стали аппетитно хлебать холодные щи.
Что это за удочки, мне стало ясно позднее. Однажды брат взял шест, перенёс его в угол двора и стал им ловить что-то в воздухе. Я всмотрелась и наконец догадалась. Рядом с нашим домом проходила немецкая электролиния, и Николай забрасывал «леску» на провода, идущие от столба.
— Готово, Олег, — сказал Николай, входя в дом. — Можно начинать...
Они вдвоём ушли в комнату брата, а минуты через две-три я услышала спокойный голос... Мне показалось сперва, что в доме появился незнакомый мужчина и о чём-то говорит с Николаем и Олегом, но потом ясно стало, что это голос радиодиктора, передававшего сводку Информбюро из Москвы. Стало как-то сразу тепло на душе, и на минуту показалось даже, что никаких немцев поблизости нет, что мы в кругу родных советских людей, на Большой земле.
Вот, оказывается, на каких «рыб» мастерили они удочки!
— Ну как, мамочка? — спросил сияющий Олег. — Ловко? Это всё дядя Коля придумал. Научная мысль. Пока у нас нет своей электростанции, ток приходится брать взаймы у немцев. Но ничего, мы долги вернём с лихвой.
Благодаря этим «удочкам» ещё живее пошло распространение листовок. Олег частенько надевал на рукав белую повязку полицейского и в запрещённые вечерние часы выходил на улицу расклеивать листовки. Вася Пирожок ухитрялся наклеивать на спины полицейским листовки даже среди бела дня. А Валерия Борц, Нина и Оля Иванцовы, Тося Мащенко, Майя Пегливанова и Женя Кийкова придумали и вовсе остроумную штуку: продавали торговкам на базаре листовки для завёртки в них блинов и пирожков. Женщины охотно скупали у них бумагу, расплачиваясь блинами, а потом целый день заворачивали свои кулинарные изделия в сводки Информбюро. Эти же девушки ловко и бесстрашно оклеивали листовками двери квартир и заборы.
Так доходила правдивая советская информация о войне до населения.
Слушать Москву ребята собирались к нам каждый вечер. Закрывали одеялами окна. Мы с бабушкой, как обычно, выходили во двор сторожить. Всякий подозрительный шорох бросал нас в пот.
Не раз и мне выпадало счастье слушать передачу из Москвы. Какие это были дорогие сердцу минуты! До войны эти передачи казались нам такими обыкновенными, а теперь они как будто шли к нам с другой планеты. Мы старались не пропустить ни одного слова, ни одной пропетой в Москве песни.
КРАСНЫЕ ФЛАГИ
Перед Октябрьскими торжествами Олег был очень занят.
Бывало, напомню ему о еде, об отдыхе — куда там, и слушать не хочет:
— Времени мало! Вот на праздник отдохну, а сейчас нужно спешить. Дай мне, мама, кусочек хлеба, я побегу.
Сунет в карман лепёшку — и на улицу.
К этому времени с продовольствием в Краснодоне стало совсем худо. Лишь иногда удавалось достать стакан пшена; его растягивали дня на три для супа. Чтобы достать хоть немного продуктов, приходилось уходить далеко от дома с тачкой.
Дяде Коле и Олегу невозможно было заниматься этим: немцы забирали всех мужчин и подростков с тачками, угоняли их куда-то, и они уже не возвращались. Придёшь, бывало, домой с четвертью пуда плохой муки, чёрная от степных ветров и солнца, совсем без сил, ноет каждая косточка.
Всё, что доставали, делили поровну. Порции были маленькие, прямо птичьи. Однажды я сварила жидкий пшённый суп. Олега не было дома, и я оставила ему его долю.
Сын пришёл вместе с Серёжей Тюлениным. По их глазам я сразу поняла, как они хотят есть. Олег отвёл меня в соседнюю комнату:
— Мама, есть что покушать?
— Я оставила тебе суп и лепёшку.
— Мамочка, — прошептал Олег, — знаешь что? Подели нам это с Серёжей, а? Он два дня дома не был.
Дело важное выполнял. Ничего за это время не ел.
И они по-братски поделили жалкую порцию. Я смотрела на них и думала: «Какие вы ещё дети!»
И вот пришли наконец Октябрьские праздники 1942 года. Молодогвардейцы, наперекор всему, решили встретить их по-советски. Шестого ноября ребята собрались у нас на квартире.
Вспомнились тут мне наши праздники на воле: веселье, смех, цветы, песни, музыка; улыбающиеся лица людей, подарки ребятам; вечера в кругу близких, родных, за столами, полными всякого добра; шутки, танцы...
Но, пожалуй, именно в тот день, б ноября, когда ребята стихли у приёмника, я с особой силой почувствовала, как же прекрасна была та наша жизнь! И никаких жертв не надо страшиться ради того, чтобы снова отвоевать наше счастье.
Ребята, сидя у приёмника, думали, наверно, то же самое, только каждый по-своему. Но вот они все пододвинулись друг к другу. В приёмнике послышался треск, и вдруг кто-то из ребят прошептал:
— Москва!..
Уже на следующий день с утра весь Краснодон знал, что передавали из Москвы. Люди, встречаясь, говорили друг другу:
— Слышали? Скоро и на нашей улице будет праздник.
И, как бы в подтверждение этих слов, в Краснодоне произошло то, о чём долго потом с гордостью и надеждой говорили в народе.
Серым, пасмурным утром на всех высоких зданиях, на шахтных трубах, терриконах и на самом высоком дереве в городском парке люди увидели красные флаги с яркими лозунгами:
«Да здравствует 25-летие Октябрьской революции!»
«Да здравствует Красная Армия!»
«Смерть немецким захватчикам!»
Подул ветерок, и флаги развернулись по ветру над домами полиции и жандармерии. Немцы буквально взбесились.
Увидела и я красные флаги и скорей побежала домой. Олег сидел на диване, читал книгу с самым невинным видом. Я бросилась к нему:
— Олежек! Кто же это сделал?
Олег только пальцами прищёлкнул:
— Есть такие, что не спят! А красиво, мама?
И с сияющими глазами рассказал, что задумали они это давно, вспомнив, как луганские рабочие ещё в 1903 году подняли флаг на трубе паровозостроительного завода.
Флаги шили девушки «Молодой гвардии» в Краснодоне и в посёлках по квартирам. Всякие кусочки собирали, сшивали, потом окрашивали материю в красный цвет.
Валя Борц и Серёжа Тюленин подняли флаг шахте № 1-бис. Люба, Уля, Коля Сумской, Толя Попов, Сеня Остапенко и другие — на других домах. Все оказались молодцами, все сделали своё смелое дело. Олег и Ваня Земнухов подняли флаг на крыше школы.
— А знаешь, мама, что ребята сделали? — сказал Олег. — Под тремя флагами пристроили пустые консервные банки, а внизу на здании написали: «Минировано».
Известие о флагах молнией облетело не только; Краснодон, но и близлежащие сёла и хутора.
Полицейские и гестаповцы бросились разгонять людей на улицах, ругались, угрожали расстрелами.
Флаги они сорвали, но народ теперь знал: есть в Краснодоне мужественные борцы и герои, и им не страшны ни оккупанты, ни их прихвостни — полицаи.
Целый день развевались по ветру три «минированных» флага. Немцы решились их снять только к вечеру.
В этот же день праздника, по заданию штаба, неугомонные ребята роздали подарки семьям фронтовиков.
Те из молодогвардейцев, которые не успели вступить в комсомол до войны, получили временные комсомольские удостоверения, действительные на всё время Отечественной войны. В «Молодую гвардию» мог войти всякий, кто хотел бороться с врагами, но принадлежность к комсомолу ребята считали превыше всего. Комсомольский билет получал тот, кто смело и отважно, не щадя своей жизни, успешно выполнил два-три боевых поручения штаба.
Таким образом, в «Молодой гвардии» комсомольцами были все, и все строго по уставу вносили членские взносы. Деньги организации необходимы были всегда, но взять их было неоткуда, кроме как из членских взносов. Поэтому взносы принимались в любом размере — можно было внести пять рублей и пятьдесят.
На эти средства и были закуплены подарки семьям фронтовиков. Оставалось раздать их. И вот в семью фронтовика неожиданно являлся неизвестный юноша или девушка. Они молча передавали штук десять картофелин, немного хлеба, деньги. Обрадованные люди спрашивали:
— Да откуда это?
Посланные говорили:
— Наши прислали.
И моментально исчезали.
Так никто и не узнал, что подарки семьям фронтовиков принесли бойцы «Молодой гвардии», рискуя жизнью и сами полуголодные.
Не забыла «Молодая гвардия» и своих старших товарищей — арестованных коммунистов.
Немцы иногда разрешали передачи арестованным в тюрьмы. Правда, полицейские всё хорошее отбирали себе, но всё же кое-что доставалось и арестованным. Ребята моментально воспользовались этим.
В тюрьму являлся молодогвардеец с передачей.
— Кому?
— Петрову.
Полицейский осматривал узелок, отбирал, что ему понравилось, а то, что осталось, нёс в камеру. Через час являлся другой молодогвардеец:
— Передача.
— Кому?
— Петрову.
Повторялась та же история, и полицай, ворча, передавал узелок. Но спустя некоторое время в тюрьму являлся третий молодогвардеец:
— Примите передачу Петрову.
— Что за чертовщина? — выходил из себя полицейский. — Петрову уже третий раз на дню приносят. Не приму!
Тогда молодогвардеец притворялся искренне возмущённым и даже обиженным.
— Не имеете права! — повышал он голос. — Пока что есть распоряжение принимать передачи, так вы и передавайте. А не то и к коменданту пойдём жаловаться!
И арестованный коммунист получал своё. Мало того, что у него крепла вера в свою силу, но и вся камера видела, что партия никогда в беде не оставит.
Так провели дни Великого Октября молодогвардейцы Краснодона.
БОЕВЫЕ ДЕЛА
Вера в свои силы росла у молодогвардейцев с каждым днём. Проезжие дороги стали опасными для немецких машин. Всполошились немецкие коменданты. Увеличился штат полиции, заволновались разные фюреры. Молодогвардейцы преследовали их днём и ночью. Донбасская земля начинала жечь пятки захватчикам.
Оккупанты готовились вывезти хлеб из нашего района. Штаб «Молодой гвардии» решил: хлеб сжечь И молодогвардейцы жгли хлеб: шесть скирд хлеба и четыре стога сена были превращены в дым. А на складах зерно было заражено клещом. Олег участвовал этих операциях и сжёг две скирды и стог.
С особым увлечением занимались молодогвардейцы порчей телеграфной и телефонной сети. Немцы буквально не успевали чинить повреждения. Особенно методически портилась линия между Краснодоном и Ровеньками, где находились окружные полиция, жандармерия, гестапо и комендатура. Сеть портилась очень искусно и ловко: не просто обрывались провода, а переламывались в нескольких местах, так, чтобы не нарушалась изоляционная оболочка кабеля. Немцы просто с ног сбивались, ища повреждённые места.
Помню, как ребята, перебивая друг друга, рассказывали, как на улице возле дирекциона немецкий комендант неистово распекал продажную шкуру Крутецкого, который не мог обеспечить ремонт повреждённой линии. Тот заискивающе улыбался, кланялся, обещал исправить, но кончилось всё тем, что разъярившийся комендант надавал ему пинков и подзатыльников.
— Этому гаду ещё не раз придётся подставлять свою рожу хозяину, — сказал кто-то из ребят. — Уж мы об этом позаботимся.
По распоряжению немецкого командования в Краснодоне и Изварине были построены мельницы, которые должны были обслуживать немецкие войска. Немцы мололи зерно и местным жителям, забирая за это половину. Штаб «Молодой гвардии» решил мельницы вывести из строя и поручил эти боевые дела в Краснодоне — Нине Иванцовой, а в Изварине — Борису Главану. На заседании были тщательно обсуждены подробности операции.
Через два дня Нина уже докладывала о выполнении задания. Захватив с собой мешок кукурузы, она прибыла на мельницу. Отвесив «немецкую» половину, она пошла оставшуюся кукурузу засыпать в жернова. Там обычно из немцев никого не было, поэтому она могла спокойно положить поверх зерна железный костыль и потихоньку «испариться». О последствиях она узнала позднее: один камень разлетелся в куски, другой был серьёзно повреждён.
Борис Главан операцию осуществил с помощью членов своей пятёрки — Васи Пирожка, Коли Жукова, Юры Виценовского, Жени Шепелева и Гени Лукашова. Сняв моториста, дремавшего в отдельном помещении, ребята повредили регулятор, отчего в мотор стало поступать больше горючего. После того как движок набрал бешеную скорость, они насыпали в цилиндры песок и едва успели разбежаться, как раздался взрыв. Головка цилиндра разлетелась, а поршень, пробил крышу.
Готовясь к этой операции, ребята в течение двух дней следили за мельницей. Двух полицаев, моловших для себя награбленное зерно, Борис Главан хорошо знал. На них-то ребята и написали анонимное письмо в гестапо, приписав им диверсию на мельнице. Расправы с полицаями долго ждать не пришлось. Они немедленно были арестованы, и таким образом население было избавлено от репрессий.
Редкой выдержкой отличалась Оля Иванцова. Она могла часами, даже целыми днями стоять где-нибудь в укрытии и наблюдать за движением на дорогах.
Однажды она увидела румын, гнавших скот на бойню в хутор Шевырёвку. Через полчаса об этом было уже известно штабу и немедленно принято решение: Оле и её пятёрке, когда начнётся убой скота, сделать мясо непригодным к употреблению.
Собрав своих девушек — Лилю и Тоню Иванихиных, Женю Кийкову и Шуру Бондареву, — она обсудила с ними план операции. Зная, что румыны любят кукурузу, они решили прийти на бойню и предложить её в обмен на мясные отходы. А Шура Бондарева раздобыла ещё где-то литр самогона. Пока трое из девушек торговались с румынами Оля занялась присыпкой разделанных туш нафталинном. Когда подвыпившие румыны (самогон тут же пошёл в ход) пошли доставать для девушек потроха, девушки потихоньку ушли. Вскоре они увидели, как из Краснодона мчалась в Шевырёвку машина с немецкими жандармами. Наверно, крепко досталось от немцев любителям кукурузы!
Каждая операция тщательно обсуждалась потом на заседании штаба. Молодогвардейцам — участникам операций торжественно выносилась благодарность. — Нашей Оксане (это была подпольная кличка Оли Иванцовой) можно любое поручение дать, и она выполнит его не хуже каждого из нас, — говорил Олег. Активную роль в боевой деятельности «Молодой гвардии» играл Ваня Туркенич — командир молодогвардейцев.
Как-то в конце сентября, узнав от ребят, что у шахты расстрелян человек и оставлен полузакопанным в земле, Туркенич, Вася Пирожок, Борисов и Григорьев сходили в парк. В расстрелянном они опознали начальника радиоузла коммуниста Дмитрошковского. — Это дело так оставлять нельзя! — сжимая кулаки, сказали ребята и тут же придумали, как отомстить. Выследив маршрут, которым обычно патрулировали полицейские, с наступлением темноты ребята пришли в парк, дождались патрулей. Двое из ребят — Туркенич и Борисов — спрятались за кустарниками, а Пирожок и Григорьев, оставшись на аллее, стали громко разговаривать, чтобы привлечь внимание патрулей. Долго ждать не пришлось. На шум подошли полицейские, скомандовали: «Руки вверх!» — и предложили следовать вперёд. Сопровождая арестованных, полицейские, конечно, уже не оглядывались по сторонам. Вот почему Туркеничу и Борисову удалось, незаметно выждать в засаде, а потом бесшумно наброситься на них. Четверо сильных ребят быстро управились с полицейскими: заткнули им рты, скрутили руки, оттащили в глубь парка и там повесили на поясных ремнях и телеграфном проводе, прицепив записку: «Такая участь ждёт каждого изменника Родины!»
Деятельность «Молодой гвардии» всё больше и больше расширялась. Вскоре наладилась связь с молодёжью ближайших к Краснодону посёлков — Первомайки, Изварина, Шевырёвки, Семейкина.
Слава организации дошла и до соседних районов области. Связь с районами молодогвардейцы налаживали с такой сообразительностью и так по-военному хитро заметали следы, что немцам никак не удавалось прекратить её.
В первых числах октября была создана небольшая подпольная типография. Удалось раздобыть немного шрифта, а чего не хватало, вырезали на резине Володя Осьмухин, Анатолий Попов и Жора Арутюнянц. Потому и печать на временных удостоверениях и листовках получалась неровной.
Штаб умело руководил «Молодой гвардией» потому, что в большинстве своём ребята долго и с душой поработали в комсомольских школьных организациях. У них был опыт.
За шесть месяцев «Молодая гвардия» приняла в комсомол тридцать шесть юношей и девушек Краснодона. В любое время и в любом месте, как только представлялась малейшая возможность — дома, в парке, во всех затаённых уголках, — не прекращалась эта работа.
Вот как вспоминает член «Молодой гвардии» Валерия Борц о своём вступлении в комсомол:
«Однажды Олег вызвал к себе меня и Сергея Тюленина и сказал нам, что решением организации мы приняты в комсомол. Потом Олег выдал нам комсомольские билеты: Сергею — № 2, а мне — № 3, и мы внесли наши первые комсомольские взносы. Олег нас обнял и крепко расцеловал, а мы так волновались, что даже ничего не могли ему сказать. А потом поклялись, что будем настоящими комсомольцами... Я всю жизнь буду помнить то время, когда вместе со всеми молодогвардейцами боролась против фашистов. И никогда не забуду того дня, когда мой милый товарищ Олег вручил мне комсомольский билет № 3».
В радости и в беде помнили ребята проверенный рабочий закон: все — за одного, один — за всех.
Однажды Олег возвратился домой чем-то сильно взволнованный. Из разговора с ним я узнала о его горе.
«Молодая гвардия» послала Оксану с боевым заданием в Каменск, и там полиция задержала её. Потом передали, что арестованную можно выкупить: полиция хочет за неё три тысячи рублей. Две с половиной имеются в кассе организации, пятьсот необходимо срочно собрать среди молодогвардейцев.
— Мама, прошу тебя, дай мне пятьдесят рублей, — попросил Олег.
Через несколько дней после этого разговора вхожу в комнату и вижу: Олег разговаривает с какой-то девушкой. Весело он сказал мне:
— Мама, это та самая Оксана! Выручили!
Девушка смутилась.
— Оля, ты не волнуйся, — поспешил успокоить её Олег .-Мама — тоже член нашей организации.
В тот же вечер штаб «Молодой гвардии» принял важное решение: послать молодогвардейцев работать на биржу труда, в полицию, в гараж, в больницу — одним словом, к немцам. Штаб решил вбуравиться в немецкие организации. Это было задумано смело. Ребята были устроены на нужные места, и там они «не ловили ворон».
Сергей Левашов нанялся работать в гараже и весьма старательно портил одну автомашину за другой. Уля Громова поступила на работу в немецкий госпиталь, и в скором времени с её помощью двадцать пленных красноармейцев вышли на свободу. Юра Виценовский стал на шахте «мастером аварий». Ковалёв и Вася Пирожок доставали из полиции чрезвычайно важные сведения.
Короче говоря, ребята подбирались к самому горлу врага.
Как-то утром бабушка вбежала с улицы взволнованная и радостная:
— Биржа горит!
Олег вскочил с дивана и бросился к окну:
— А управа?
Бабушка спросила:
— Олежек, что ты говоришь? Разве и управа должна гореть?
— Да, бабушка, непременно и управа!
— Про управу мне ничего не известно... — растерянно сказала бабушка.
Олег быстро оделся:
— Мама, пожалуйста, не волнуйся! Дела...
Он вышел, но скоро возвратился.
— Вот это молодцы ребята! — говорил он, возбуждённо шагая по комнате и потирая руки. — Чистая работа! Дотла сгорело...
Пожар «биржи смерти» был очередной работой молодогвардейцев.
Они узнали, что биржа труда заготовила списки и документы на тысячи граждан Краснодона для отправки их в немецкую неволю. Немедленно штаб решил: биржу сжечь!
На рассвете 6 декабря Люба Шевцова, Сергей Тюленин и Виктор Лукьянченко сумели пробраться в здание биржи. Они облили стены бензином, расставили по комнатам бутылки с горючим. Чиркнула спичка...
Сначала вспыхнули бумаги, потом запылали картотеки, и пошла полыхать вся «биржа смерти».
После неожиданного пожара немцы начали было снова готовить списки, но фронт уже приближался к Краснодону, и немцам стало не до списков.
Тысячи наших людей были спасены от фашистской каторги.
Всё жарче разгоралась борьба.
К началу декабря ребята добыли за счёт немцев 15 автоматов, 80 винтовок, 300 гранат, 10 пистолетов, 15 тысяч патронов, 65 килограммов взрывчатки и несколько сот метров бикфордова шнура.
На этом не остановились.
Штаб терпеливо разрабатывал дерзкий план захвата и уничтожения в Краснодоне всех немцев и предателей и с этой целью накапливал оружие.
Этот последний удар должен был быть нанесён при подходе Красной Армии к городу. План держали в особом секрете.
Диву даёшься, с каким умением и военной мудростью был разработан недавними школьниками этот последний удар по врагу!
По сигналу штаба Должны были взлететь на воздух дома, занятые немцами, и перед ними, как из-под земли, выросли неумолимые мстители. Все они уже знали свои места.
Как только оружие попадало ребятам в руки, оно; сейчас же начинало действовать. Анатолий Попов и Виктор Петров на дороге Гундеровка — Герасимовка уничтожили гранатами машину с тремя офицерами. Потом нашли свой конец на дорогах ещё две легковушки и три грузовые машины с оккупантами.
Как-то запоздно мне потребовался карманный фонарик. Он всегда лежал в пальто Олега, в левом кармане. Олег, усталый, спал на диване. Он так хорошо спал, забыв во сне об опасности, о проклятых фашистах! Лицо его было такое спокойное, тихое, что у меня руки не поднялись разбудить сына.
Я подошла к вешалке, нащупала в кармане пальто; Олега фонарик. Но вынула я оттуда что-то совсем другое. Какой-то кирпичик, размером с фонарик, довольно веский.
— Николай, что это такое? Я думала, что фонарик в кармане у Олега. Что это?
— Тол, — коротко ответил брат.
— Не понимаю...
— Понимать тут особенно нечего. Не очень-то уж много нужно таких фонариков, чтобы взорвать любой дом.
Я поторопилась положить на место то, что взяла. Подошла к Олегу. Он спал безмятежно, полуоткрыв свои пухлые губы, и вдруг совсем по-мальчишески чему-то улыбнулся во сне.
Позже я узнала и о том, что ребята разминировали немецкое минное поле, а мины запрятали к себе в склад.
Развалины бани были для молодогвардейцев центральным складом оружия: оно хранилось в погребе, под полом. Прятали оружие и в нашей квартире, только в меньшем количестве.
Олег часто приносил оружие и поручал мне, бабушке или дяде Николаю спрятать его на несколько дней.
Как-то Сергей Тюленин принёс нам полмешка гранат. Их нужно было получше и понадёжнее запрятать. Олег попросил об этом бабушку. Бабушка молча кивнула головой. Она закопала гранаты в землю, запалы завернула в промасленную тряпку, опустила их в шерстяной носок и заложила отдельно, в сухом месте. Это растрогало Олега. Он бросился обнимать свою бабушку. Та ему ответила просто:
— Твоё дело — моё дело. Ты знай приказывай!
ДЕЛО С ПРИЁМНИКОМ
В ноябре 1942 года Олег сказал как-то, что молодогвардейцы смонтировали два радиоприёмника и что вечером их должны принести к нам Ваня Земнухов и Борис Главан.
Мы прождали до позднего вечера. На следующее утро Олег хотел пойти узнать, почему ребята не пришли вчера, но бабушка уговорила его сначала позавтракать. В это время стукнули в окно. Олег вышел. А когда возвратился, то сказал, что приходила из полиции уборщица, спрашивала об Олеге Кошевом.
— Ну, и что ты ей сказал? — спросила я, предчувствуя беду.
— Сказал, что Олег Кошевой живёт здесь.
По словам уборщицы выходило, что её будто бы прислал Олег Кошевой: его вчера вечером задержала полиция, и он просит прислать что-нибудь поесть.
Получалась странная история. Ошибка? Провокация? Вдруг Олег отодвинул тарелку с едой и встал:
— Мама, мне всё ясно. Бориса, когда он вчера нёс радиоприёмник, задержала полиция. Желая оповестить нас об этом, он решил схитрить. Передать об аресте другим способом, чтобы не вызвать подозрения у полиции, видимо, ему невозможно. И Олег заспешил из дому. Часа через два он возвратился, и мы узнали от него, что оба — Ваня Земнухов и Боря Главан — сидят в полиции. На всякий случай некоторым молодогвардейцам на несколько дней пришлось изменить место своего пребывания.
— Мама, придётся и мне куда-нибудь спрятаться.
Всё это меня страшно взволновало, хотя я и старалась не показать этого сыну.
Начали вместе думать, где бы пожить Олегу несколько дней. Олег сказал:
— Далеко мне уходить нельзя. Моё место — с ребятами.
Я пошла к моей знакомой, Лидии Макаровне Поповой. Конечно, я не открыла ей настоящую причину, а сказала, что полиция ищет сына, чтобы угнать его в Германию.
Попова охотно приняла к себе Олега, и он пробыл у неё три дня.
Работа штаба продолжалась и на новой квартире Нина Иванцова и Валерия Борц были связными у Олега и по нескольку раз в день забегали к нему. Не знаю, в чём дело, Лидия Макаровна сказала мне, смеясь.
— Как девушки-то дружат с нашим Олегом, И потом, уже без шуток, предупредила меня: — Пусть он сам-то не выходит по вечерам из дому.
Как-то Попова завела с Олегом откровенный разговор:
— Скажи, Олег, ты, может быть, слышал: скоро ли прогонят фашистов с нашей земли?
Олег ответил сразу:
— Лидия Макаровна, чтобы как можно скорее прогнать фашистов, надо нам всем помогать Красной Армии. Есть такое изречение: кто, если не ты и когда, если не теперь?
— Помогать, Олег, надо, да нечем — нет оружия. Голыми-то руками не очень доймёшь фрица.
— Помогать можно и без оружия, — помолчав, ответил Олег и спросил в упор: — Скажите, а вот вы... смогли бы помочь партизанам?
— А что ж! С охотой. Но как?
— О, Лидия Макаровна, способов много, лишь бы была охота! Например, представьте себе такой случай. За партизаном гонятся немцы, они напали на его след, вот-вот поймают. А спрятаться партизану негде. И вдруг он вбегает в ваш дом. Признаётся, кто он. Просит спрятать его. Скажите, Лидия Макаровна... вы бы помогли ему?
— Обязательно!
— Зная, что фашисты вешают партизан?
— Да, Олег.
Много они говорили в тот вечер об оккупантах, о борьбе с ними, об успехах Красной Армии, о том, что немцам придётся скоро бежать не только из Краснодона, но и со всей советской земли.
На четвёртый день полиция выпустила Ваню, и Бориса. Им посчастливилось выкрутиться, и даже легко. Выручили ребят их смётка и выдержка.
Вышло это так. В тот вечер, когда они несли радиоприёмник, их случайно встретил начальник полиции Соликовский. Узнав, что они несут, Соликовский повёл ребят в полицию. На допросе Борис Главан представился наивным простачком и понёс всякую небылицу:
— Аппарат этот? Да он у меня и при Советской власти был. Я его не отдал тогда, а взял да запрятал. Я же не знал, что при немецкой власти нельзя радио слушать. Нельзя? Запрещено?.. Ну что ж, пожалуйста, берите себе приёмник. Вообще-то он мне надоел. Таскайся с ним! Неприятности всякие...
Бориса спросили о Ване Земнухове. Борис махнул на Ваню рукой и усмехнулся:
— Этот-то? Да я его случайно встретил на улице. Он какой-то чудной парень, в радиоаппаратуре вовсе ничего не понимает.
Борис отлично разыграл роль наивного простака. Полиция попалась на удочку. Приёмник оставили, а ребят на всякий случай продержали три дня, но потом отпустили.
ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ
Стало известно, что немцы собираются вывезти в Германию крупную партию скота, отнятого у нашего населения. Штаб «Молодой гвардии» решил не дать немцам вывезти скот.
Разработали план действий, расставили людей, и, когда скот гнали на станцию, молодогвардейцы набросились на охрану, перебили её, а пятьсот голов скота разогнали по степи. Лишь несколько коров погибло во время перестрелки с охраной.
На окраине Краснодона был лагерь смерти, в несколько рядов обнесённый колючей проволокой. Сколько там было наших людей — не знаю. Голод, стужа, болезни валили их с ног.
Больных и слабых оккупанты гоняли на тяжёлые работы. Горе было тому, кто терял силы и падал, — его тут же добивали прикладом.
Однажды пришла я в станицу Морозовскую выменять хлеба. В Морозовской тоже был лагерь. Проходя мимо него, я увидела группу женщин. Они стояли недалеко от проволоки и на что-то смотрели.
Подошла и я к ним.
— Что тут случилось? — спросила я у женщин.
Мне никто не ответил, да и невозможно было рассказать человеческими словами то, что происходило за колючей проволокой.
Больной красноармеец попросил у часового напиться. К удивлению, фашист не отказал, быстро сбегал хату и вынес оттуда раскалённую кочергу.
— Рус, рус, пей! — засмеялся он и сунул кочергу красноармейцу в рот.
В ужасе мы отшатнулись. Но ещё долго в yшах стояли стон больного красноармейца и хриплый хохот фашиста.
У Олега вся кровь отхлынула с лица, когда я, плача рассказала ему, что видела в Морозовской.
И вот штабу «Молодой гвардии» стало известно, что на хуторе Волчаноком есть ещё один лагерь военнопленных.
Молодогвардейцам Грише Щербакову, Коле Сумскому и ещё нескольким, во главе с Анатолием Поповым и Женей Шепелевым, было поручено напасть на лагерь.
Тёмной ночью ребята неслышно подползли к воротам лагеря и накинули часовому мешок на голову.
Пленные начали разбегаться. Убежало не меньше ста человек. Могли бы разбежаться и все, если бы не немец, который случайно проходил мимо лагеря. На его выстрелы прибежали полицейские и замкнули ворота.
САМЫЕ ЮНЫЕ
Как-то — это было в декабре — Олег собрался вечером в кино.
За все восемь месяцев оккупации немцы показали кинокартины для населения не более десяти раз. Это были удивительно бессодержательные картины, герои которых, откормленные немцы и немки, только и делами, что объедались да купались в ваннах.
Молодогвардейцы ходили в кино главным образом для своих целей.
— Ты, мамочка, — Олег посмотрел на меня ласково, — не волнуйся, если я после кино задержусь немного. Хорошо?
Через час пришёл Сергей Тюленин с запиской от Олега.
Сын писал мне, чтобы я достала из матраца револьвер и патроны и передала их Сергею. В конце записки Олег в шутливом тоне ещё раз просил меня не волноваться: он быстро возвратится домой.
Дома, кроме меня, не было никого. Мне стало не по себе, и я пошла к соседке, а когда возвратилась, Олег и Серёжа были уже дома.
— Мама, гляди! — с торжеством сказал Олег, вынул какой-то свёрток и развернул передо мной огромное шёлковое фашистское знамя.
— Где ж ты взял это? — удивилась я.
— Где взял; там его уже нет. Такие-то дела! — засмеялся Олег.
В бедовых глазах Серёжи играли весёлые огоньки. На бледных его щеках теплился румянец.
Ребята рассказали мне, что знамя это принадлежало шефу жандармерии, а выкрали они его из кинотеатра, где знамя висело на почётном месте.
— Да как же вы это сделали? — всплеснула я руками, глядя на двух удальцов.
— А очень просто, — сказал Олег. — Сергей сначала посмотрел, как немцы в ваннах купаются, потом спрятался под лавку. Публика ушла. Сторож запер дверь. Серёжа снял флаг и выбрался из помещения. Ты же сама знаешь: Сергей куда угодно заберётся и уйдёт, когда нужно... — И Олег обнял Серёжу за плечи. —Ну и устроил ты скандал для шефа, Сергей! Лишиться знамени — всё равно что потерпеть поражение на поле боя. Какие же они победители, если у них из-под носа знамя унесли! Шеф теперь лопнет от злости, особенно если увидит выколотые глаза на портрете Гитлера!
Я ахнула:
— Серёжа, и это ты сделал?
Серёжа молча переминался с ноги на ногу и смущённо краснел.
Серёжа Тюленин и Радик Юркин! Это были маленькие солдаты с большим сердцем, до конца преданные «Молодой гвардии», её барабанщики.
Как только я вспоминаю о них, невольно приходит на память песня:
Средь нас был юный барабанщик.
В атаках он шёл впереди
С весёлым другом барабаном,
С огнём большевистским в груди...
У Серёжи и Радика было удивительное свойство, помогавшее им водить немцев за нос. Храбрость и мужество бойцов сочетались у них с совершенно мальчишеским внешним видом — им обоим было двадцать девять лет.
Оба небольшого роста (Радик совсем маленький); худенькие, охочие до всяких уличных зрелищ, они оба для немцев были самыми обыкновенными подростками и до конца не вызывали у врага никаких подозрений. Как раз именно этим-то Серёжа и Радик не переставали хитро и храбро пользоваться.
Однажды штабу стало известно, что в посёлке Изварино сосредоточились большие скопления румынских и итальянских войск. Это были проверенные «поставщики» оружия для «Молодой гвардии». Володя Жданов, Александр Шищенко и Анатолий Орлов были посланы в Изварино с приказанием добыть гранаты и патроны.
Как и ожидал штаб, ребята поручение выполнили, и в Изварино послали Серёжу и Радика, с тем чтобы доставить гранаты в Краснодон, на базу.
Радик и Серёжа уложили гранаты в корзинки, а сверху прикрыли их картошкой. До Краснодона они добрались благополучно. Было одиннадцать часов ночи — время для хождения по улицам запрещённое. Ребята, конечно, знали об этом, но то ли они решили окончательно не обращать внимания на полицейских, то ли устали и шли напролом.
— Кто идёт? — И перед ребятами вырос полицейский. — Вы что, фулиганьё, так поздно ходите? Приказа не знаете по домам сидеть? Что тут у вас в кошёлках?
Радик состроил самую невинную физиономию:
— Мы из Изварина идём, дяденька полицейский. К дедушке ходили. За картошкой. Вот и несём.
— Я покажу вам сейчас дедушку с картошкой! — ругался полицейский. — А ну, пошли за мной! Оштрафуют отцов рублей по пятьдесят, тогда будете знать!
Радик начал хныкать. Подталкивая ребят в спины, дюжий полицейский погнал их в полицию.
Там Серёжу и Радика ещё раз выругали, наградили подзатыльниками и как малолетних нарушителей немецкого порядка оставили в полиции до утра.
Ребята переглянулись, поставили свои корзины около стола ночного дежурного полицейского и уселись на них. Серёжа подмигнул Радику, и началось второе отделение программы. Радик стал разыгрывать из себя совершенно напуганного, мальчика. Он хныкал, потом пустился в рёв:
— Дяденька, отпусти домой! Мамка выпорет. Она картошку ждёт. Дяденька, отпусти!
Ему надавали затрещин и приказали молчать. Радик покорно замолчал. Дело было сделано: полиция поверила и опять осталась в дураках.
Так и просидели ребята с самым невинным видом всю ночь на корзинах с гранатами рядом с полицейским, под его охраной. Утром им вручили две квитанции для передачи родителям со штрафом по пятьдесят рублей и вытолкали на улицу. Две корзины гранат встали штабу «Молодой гвардии» в сто рублей — цена вполне подходящая.
Когда доставили гранаты в баню, сколько тут было смеха, шуток, веселья и острых словечек по адресу немцев и полиции! Серёжа и Радик были героями дня.
ПАРОЛЬ «ЯКОРЬ»
Как-то Олег сказал мне:
— Вечером у нас соберётся штаб. Мама, пускать в дом только тех, кто скажет пароль: «Якорь».
Штаб собрался в моей комнате, хорошо изолированной.
Пришли Ваня Туркенич, Нина и Оля Иванцовы, задумчивая Уля Громова, непоседа Серёжа Тюленин, весельчак и остряк Толя Попов, легко смущающийся Ваня Земнухов.
Был десятый час, но ребята знали тайные дорожки к нашему дому — полиция там не ходила. Я была занята своими делами, но ни на минуту не забывала об охране собрания и время от времени выглядывала в окно и прислушивалась к шуму со двора. Бабушка на этот раз не дежурила. Её не было дома.
Вдруг громко постучали в дверь. Я кинулась к окну и замерла. Полиция! Я быстро предупредила ребят, заперла их в комнате, ключ спрятала и открыла двери в сени. Вошли полицейские. Один грубо спросил:
— Что делаешь?
— Топлю печь, — ответила я.
— Мы поставим к тебе на ночь румын. Слышишь!
— Хорошо. Пожалуйста.
Один из полицейских подошёл к дверям моей комнаты, приказал мне:
— Открой.
Я обомлела, голос у меня отнялся. Я подумала: пропало всё! Усилием воли взяла себя в руки и ответила:
— Там живёт одна женщина, она вышла куда-то, а ключ унесла с собой. Пусть румыны, — продолжал я, понемногу успокаиваясь, — занимают вот эту комнату, а я у соседки переночую.
Полицейский что-то пробурчал, и они ушли. Румыны стали размещаться на отдых. Я пробралась к ребятам и попросила их как можно быстрее закончить заседание и разойтись. Олег ответил:
— Нам ещё минут двадцать необходимо. Важные вопросы.
Я снова закрыла их на ключ.
Прошло полчаса, но ребята и не думали уходить.
Более того: зная, что полицейские ушли, а с румынами можно было не очень церемониться, ребята так увлеклись своими важными вопросами, что начали разговаривать во весь голос.
Вдруг полицейские пришли снова. Я прислонилась спиной к дверям, за которыми сидели ребята, и почти закричала:
— Пан полицейский! А где бы это соломы достать для солдат?
Кричу, а у самой потемнело в глазах, голова пошла кругом, сердце вот-вот разорвётся.
К счастью, догадливые ребята услышали мой голос, поняли, в чём дело, и сразу же притихли. Вскоре все важные вопросы были благополучно решены, и штаб разошёлся. Румыны храпели на разные голоса. Олег прижался к моему уху губами:
— Спасибо, золотая моя!
ПРИКАЗ — ЗАКОН
В конце сентября к нам на квартиру поместили немца, полковника фон Вельзена.
У него был радиоприёмник, и он каждый день слушал передачи из Берлина. Всякий раз, выходя из дому, фон Вельзен обязательно поводит пальцем по шее, показывая этим, что будет Олегу, если он только попробует включить Москву.
— Москва — капут! — таращил глаза фон Вельзен, ещё раз показывая себе на шею и вверх на потолок.
— Гут-гут, — послушно отвечал Олег.
Но только фон Вельзен выходил со двора, Олег тут же включал аппарат, слушал Москву и записывал сводки Информбюро. Наш радиоприёмник тем временем «отдыхал»: Олег выкопал для него яму под полом в летней кухне.
Партия направляла смелые шаги «Молодой гвардии».
Была налажена связь с подпольными организациями других районов, а среди них — с представителем партизанского отряда области «товарищем Антоном», с которым молодогвардейцы ещё в декабре 1942 года наладили связь через Любу Шевцову.
«Товарищ Антон» даже собирался проведать краснодонцев, но своего обещания ему не удалось выполнить.
Как-то Люба Шевцова привезла от «товарища Антона» письмо, которое подняло на ноги всю организацию.
Чтобы общими усилиями ещё крепче бить врага, «товарищ Антон» предлагал молодогвардейцам влиться в партизанский отряд. Для этого следовало поделить ребят на две группы.
Первой группе пробраться к месту встречи 17 декабря, остальным — несколько позже.
Действовать в Краснодоне становилось всё труднее и опаснее. Гестапо и разветвлённая сеть его агентуры начинали сковывать действия молодогвардейцев. Подпольная организация разрослась, она не могла держаться в узких рамках подполья и требовала активной и открытой борьбы с оружием в руках.
Вот почему предложение «товарища Антона» для молодогвардейцев было очень кстати. Молодёжь рвалась в бой.
В первую группу вошли: Олег, Ваня Туркенич, Люба Шевцова, Сергей Тюленин и ещё двадцать человек.
Земнухов и Громова должны были вести остальных ребят.
Но прежде чем тронуться в опасный путь, штаб на радостях решил обеспечить углём и дровами семья всех молодогвардейцев. По полтонне угля и понемногу дров из старых шахт, как рассудили ребята, должно было вполне хватить не меньше чем на месяц, а там придёт Красная Армия. По радио из Москвы они знали, что немецкий фронт трещит по всем направлениям;
Но получить уголь при немцах было не так-то легко. При отходе наши взорвали все крупные действующие шахты. Не успевшие эвакуироваться шахтёры всячески саботировали добычу; немцы так и не дотянулись до донбасского угля.
Олег куда-то бегал, хлопотал, хитрил и выдумывал, пока не добился наряда на уголь.
Как живого, вижу я сейчас перед собой своего Олега. На щеках-румянец, глаза, как звёзды, горят. Он везёт тачку с углём и распевает на всю улицу:
Кто весел, тот смеётся,
Кто хочет, тот добьётся,
Кто ищет, тот всегда найдёт...
Возили уголь все вместе, помогая один другому, по трои на тачку. С Олегом были Сергей Тюленин и Стёпа Сафонов.
С дровами дела обстояли ещё хуже, но Олег, Жора Арутюнянц, Толя Лопухов, Серёжа Тюленин и Сеня Остапенко и тут не растерялись. Они знали об одной мелкой шахтёнке в степи. Уголь из неё добывали вручную.
Ребята решили сразу убить двух зайцев: выбить деревянные крепления, поделить их на дрова, а кстати и завалить шахту, на тот случай, если немцы захотят её восстановить. За работу взялись с жаром, и хоть все вымазались и устали, но своё сделали: обеспечили семьи молодогвардейцев дровами и шахтёнку окончательно вывели из строя.
На следующее утро должны были двинуться в путь.
Но не так вышло, как думалось. С раннего утра мы начали готовить Олега в дорогу. На душе у меня было тоскливо, я думала только об одном: чтобы здоровым вернулся сын, чтобы снова нам с ним встретиться и вместе встретить победу.
Такие же мысли, наверно, были и у бабушки Веры. Она всё время тяжело вздыхала. Расставаться с Олегом было нелегко, закипали слёзы на глазах, но ци я, ни бабушка не показали ему своего волнения. Хотели проводить сына бодрыми пожеланиями, а не слезами. Семнадцатого декабря, в одиннадцать часов дня, собрались все, кто должен был идти в дорогу; не было одной Любы Шевцовой. Она вдруг почему-то задержалась. Но время ещё было.
Условились выйти из дому в двенадцать часов, и не толпой, а по пяти человек.
Первая пятёрка должна была выйти в двенадцать, вторая — в час и так далее.
Олег оделся тепло: под куртку дядя Николай дал ему свою шерстяную гимнастёрку, а на руки тёплые рукавицы. С шапкой вышел конфуз: её не нашли. Шапка была смушковая, тёплая. Искали везде, но безрезультатно.
Вдруг вспомнили: недавно к нам заходили погреться фашистские солдаты. Шапка висела на вешалке, потом её никто не видел. Дело было ясное. Однако другой шапки у Олега не имелось. Выручила Нина Иванцова. Сбегала домой и принесла шапку брата.
Наступало время отправляться в путь. У ребят было бодрое настроение, они шутили, то и дело выглядывали на улицу — не идёт ли Люба Шевцова. Она должна была прийти с минуты на минуту. Но вот стрелка на часах передвинулась вправо от двенадцати. Вначале на пять минут, потом на десять, на пятнадцать... Почему задержалась Люба? Может, с нею что-нибудь случилось?
Ребята притихли, шутки прекратились, настала гнетущая тишина.
Вася Пирожок — отчаянная голова, крепкий, широкоплечий, с серыми бесстрашными глазами — сидел на стуле с малюсеньким свёртком под мышкой. Это был весь его багаж в дальнюю дорогу. Сидел он на этот раз какой-то печальный, притихший, глядя в одну точку. Олег хлопнул Васю по плечу:
— Ты что скучаешь? С дивчиной своей, что ли, проститься не успел?
Вася вспыхнул и покосился на меня:
— Что ты, что ты, Олег! Какая там у меня дивчина тихо вышла в другую комнату, но всё же было слышно, как Вася сказал Олегу:
— Ну что ты, право, Олег? О таких делах при Елене Николаевне?! Само собой... простился. А ты своей?
Молчание, и потом тихие слова Олега:
— Не с кем мне прощаться. Все вместе отправляемся. Есть у меня дорогой друг, но и он со мной идёт.
— Кто?
— Нина Иванцова.
С Ниной Олега связывала теперь крепкая и нежная дружба. Общая подпольная судьба, дни, полные тревог и радостей борьбы, как-то сблизили их ещё больше.
Так прождали мы до четырёх часов дня. А в четыре прибежала Люба, запыхавшаяся и взволнованная; она передала Олегу письмо от «товарища Антона», Командир отряда предлагал поход отложить и продолжать работу на месте.
«Второго или третьего января буду я у вас, и мы поговорим, я посоветую вам много интересного для вашей работы», — писал «товарищ Антон» в своём письме.
Все чувства сразу отразились на лицах ребят. Но приказ партии — закон.
Связь между пятёрками осуществлялась шифрованной перепиской. Один из шифров, которыми пользовались подпольщики, маскировался под невинные листки из ученических тетрадок по арифметике, где вместо букв писались цифры. Например, вместо буквы А — цифра 1, вместо Б — цифра 2, вместо В — цифра 3,итак далее. Такое, например, указание штаба, как «переход отменяется» в шифрованной записке выглядело бы так:
(16-6)»+ (17 + 6) — (22+15-5) = 1 . (15+19) — (13 — 6+14) +.(32-6-19) + (18+32) =70
В числе связных, занимавшихся доставкой шифровок, была Нина Иванцова. Она прятала записки за подкладку шапки, скалывала в локонах волос. Как-то, передав шифровку Ване Земнухову и Олегу, она взяла её обратно и захотела спрятать. — Это зачем? — спросил Ваня.
— Надо сохранить.
— Никаких следов не оставлять, всё уничтожать сразу по прочтении.
Сколько пришлось уничтожить документов, записок, тетрадей, дневников, протоколов заседаний! Конечно, тогда это было необходимо, но теперь с болью думаешь: сколько вместе с ними исчезло живых подробностей, которые, «а беду, не всегда может сохранить слабая человеческая память!
«ПОБЕДИТЕЛИ» ОТСТУПАЮТ
Во второй половине декабря 1942 года началось бегство немецких и румынских войск, разгромленных на Волге. День и ночь через Краснодон тянулись длинные обозы. Мы жили в центре и видели всё.
Проходили сотни машин с грязными, растрёпанными солдатами. Головы у них были закутаны в женские платки или какие-то тряпки.
— Не солдаты, а мокрые курицы, — как-то заглянув в окно, засмеялся Олег.
Потом он подсел к столу и написал вот что:
Ага, подошли и к арийцам
Тяжёлые дни — это факт!
Бегут в беспорядке мальтийцы,
Одетые все кое — как.
Кто шапкой, кто кепкой накрытый,
Кто с женским платком на плечах,
Избиты, побиты, разбиты —
Согнулся ариец, зачах!
Ты что же, фашистик ты прусский,
Задумал весь мир покорить?
Народ наш прославленный русский
В безличных рабов превратить?
Не вышло, не выйдет вовеки,
Вас били — и снова побьём!
Гранатой, «катюшей», «андрюшей»
Мы вас в порошок изотрём!
Олег прочитал эти стихи мне, дяде Коле, бабушке. Мы все весело посмеялись. А бабушка сказала:
— Ох, Олежек, я вижу, ты на все руки мастер!
Но молодогвардейцы, конечно, не были только наблюдателями отступления врага. Принятые и напечатанные ночью сводки Совинформбюро днём уже были расклеены на стенах и столбах в Краснодоне, в ближайших рабочих посёлках и хуторах.
Немцы кричали в своих газетах и по радио, что ни кого отступления нет, что их войска после победных боёв на Волге идут на отдых, а сводки Информбюро говорили об окружении и разгроме немцев, приводили цифры, факты. Кому было верить? Уж ясно — не врагам. Вшивые, с тряпьём на голове, бегущие наперегонки, немецкие солдаты не были похожи на победителей. Фашисты объявили по городу о большой денежной награде тому, кто поймает распространителей таинственных листовок.
Не помогло и это: как будто в насмешку, листовки появлялись всё в большем количестве. Их жадно читали, содержание их передавали из уст в уста, они бодрили, поддерживали настроение у измученных людей, помогали организовывать отпор врагу.
Враги бесились. Гестапо и полиция никак не могли; напасть на след ребят. Единственное, что было в их силах, — это жестоко расправляться с арестованными. Им-то фашисты и мстили за своё поражение на фронте: зверски мучили, убивали, грабили.
Выглядело это так: немцы на машинах подъезжали к какому-нибудь дому, выбирая тот, где можно было больше взять, врывались в комнаты и самих хозяев заставляли перетаскивать вещи в машины. Забирали всё, оставались одни голые стены.
Некоторые женщины плакали, умоляя хоть что-нибудь оставить для ребятишек, другие покорно молчали. И тех и других фашисты избивали кулаками или нагайками. Не щадили ни стариков, ни детей.
Прочти и передай товарищу Товарищи краснодонцы!
Долгожданный час нашего освобождения от ярма гитлеровских бандитов приближается. Войсками Юго-Западного фронта линия обороны прорвана. Наши части 25 ноября, взяв станицу Морозовскую, продвинулись вперёд на 45 км. Движение наших войск на запад стремительно продолжается. Немцы в панике бегут, бросая оружие. Враг, отступая, грабит население, забирая продовольствие и одежду. Товарищи! Прячьте всё, что можно, дабы не досталось оно гитлеровским грабителям! Саботируйте приказы немецкого командования; не поддавайтесь лживой немецкой агитации.
Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша освободительница Красная Армия!
Да здравствует Свободная Советская Родина!
Ш.П.О.
Всё награбленное делили меж собой жандармские офицеры, потом укладывали в посылки и отправляли в Германию.
А в это время штаб борьбы и сопротивления не прекращал работу. Каждый день приходили ребята — отчитываться штабу о выполнении боевых заданий и получать новые.
Из посёлка в Краснодон пришли Коля Сумской и Саша Шищенко и рассказали, что 22 декабря они обезоружили и убили трёх гитлеровцев. Из Изварина и Герасимовки явились ребята просить оружия... Всё нетерпеливее ждали ребята того дня, когда от тайной борьбы можно будет перейти к открытому вооружённому выступлению...
«РАЗВЕ МОЖНО ТАКИХ РЕБЯТ НЕ ЛЮБИТЬ?»
Олег часто говорил:
— С нашими ребятами не страшно ни в огонь, ни в воду! Только подумайте: сколько заданий штаб ни давал — да и каких! — и все выполнены. Прямо удивительно всё складывается!
Разволнуется Олег, начнёт припоминать лучшие черты в характере своих товарищей и до тех пор не успокоится, пока и мы не разделим его восторг. Или подойдёт ко мне, заглянет в глаза:
— Я всё время думаю: наверно, мы ещё очень мало сделали, а? Прямо не спится от этих мыслей.
Отойдёт от меня, тихо сядет к столу и начнёт быстро-быстро писать. Я уж знала — стихи.
Я любила смотреть на сына, когда он писал стихи.
Лицо у него бывало в это время такое, как будто он разговаривал с кем-то далёким и совсем не замечал нас.
Трогательна была дружба, с которой молодогвардейцы протянули друг другу руки на смерть и победу. Она была прекрасна. Пусть комсомольская эта дружба послужит примером для наших пионеров, для всей нашей молодёжи. И пусть знает наша молодёжь: дружба сама собой не приходит, право на неё нужно завоевать.
Однажды, возвращаясь поздней ночью тайными тропинками с конспиративной сходки у Нины Иванцовой, Олег вдруг прижался к забору и замер: за ним следили.
Было отчётливо слышно, как снег скрипел под ногами преследователей. Как только Олег остановился, затихли и те. Бежать такой светлой ночью было бессмысленно. Оставалось одно: идти своей дорогой. Олег тронулся, и сейчас же раздался скрип снега у него за спиной. Олег нагнулся, будто бы завязать ботинок. Шаги позади стихли.
Но Олег уже успел разглядеть тёмные фигуры преследователей меж домами.
«Пойду к ним навстречу, — решил Олег. — В крайнем случае, отсижу ночь в полиции. Иначе проследят до дому».
Он круто обернулся и пошёл назад. Видя, что они открыты, преследователи ждали, когда Олег подойдёт. Руки у них были в карманах. И вдруг...
— Толя!
Это был Толя Попов, а с ним — Сеня Остапенко и Володя Осьмухин. Они молча стояли и неловко улыбались.
— Ребята, вы?! Вот не ожидал... Зачем идёте за мной? — спросил удивлённый Олег.
Толя ответил, не вынимая руки из кармана, — там был наган:
— Зачем, зачем... Стало быть, так нужно, раз идём. Ну, мало ли что может случиться...
С гордостью рассказывал мне об этом Олег. Он сжал кулаки и тряхнул головой:
— Разве можно таких ребят не любить? Как же можно с ними не верить в победу? Мама, знай: я у них в долгу не останусь. За всё отплачу!
Вскоре такой случай представился.
Как-то раз я пошла за водой к водонапорной колонке. Вижу, навстречу идёт Олег с Васей Левашовым. Был морозец, медленно падал снежок. Щёки ребят раскраснелись, снежинки облепили их воротники, шапки. Они улыбались мне.
Я тогда подумала: какие они славные и красивые, наши дети!
Олег предупредил меня, что сегодня у Нины Иванцовой будет совещание — очень важные вопросы, а кончат поздно. Все заночуют на квартире у Нины.
Я подавила вздох. Опять ночь без сна, в тревоге.
Улыбнулась им, и мы простились.
По дороге к Нине Олег и Вася зашли за Володей Осьмухиным и Серёжей Левашовым. Дальше они шли вместе.
Вечерело. Снег падал всё гуще. Как раз в это время через Краснодон гитлеровцы гнали партию военнопленных. Место ночной стоянки в Краснодоне немцы быстро обнесли колючей проволокой, поставили часовых.
Ребята в темноте сначала натолкнулись на эту проволоку, а затем услышали окрик немецкого часового:
— Стой!
Коверкая русские слова, немец приказал ребятам войти под проволоку, подождать коменданта. Утром, мол, всё выяснится: кто они такие и зачем бродят около лагеря? Это было равносильно смерти. Конечно, утром бы ребят не выпустили и погнали бы вместе с военнопленными.
Времени терять было нельзя. Не успел немец закрыть рот, как Олег ударом кулака в скулу оглушил его. Володя Осьмухин и Серёжа Левашов навалились на него, схватили за горло. Винтовка выпала из рук фашиста. Вася Левашов подхватил эту винтовку и с размаху всадил штык...
Всё это было совершено мгновенно и без единого крика. Ребята пустились наутёк. Стоит ли говорить, что винтовку они прихватили с собой. Через полминуты они услышали выстрелы и крики немцев. Ребята спрятали винтовку в подвал, и снег замёл их следы. Как ни в чём не бывало они вовремя явились на совещание. Никто в тот вечер так и не узнал, что произошло возле колючей проволоки.
Совещание и на самом деле кончилось поздно. Мать Нины уложила ребят на лавках, на полу; Олега и Серёжу Тюленина уложила на своей кровати. Долго шептались друзья.
СЕРЁЖА ВЫХОДИТ ИЗ «ОКРУЖЕНИЯ»
Теперь и слепому было видно: немцам крепко досталось от Красной Армии. Скорый разгром их был неизбежен. Но, несмотря на эту великую радость, молодогвардейцы не размагничивались, не ослабляли своей дисциплины.
Как и раньше, когда враг был ещё в полной силе, так и теперь всеми строго соблюдалась боевая дисциплина. И тут, как и во всём, ребята старались подражать Красной Армии.
Боец, вернувшийся с боевого задания, рапортовал Олегу или членам штаба по всем правилам: стоял навытяжку с рукой у шапки. И с такой же степенной важностью члены штаба принимали эти рапорты.
Как пригодились тут ребятам виденные ими кинокартины и прочитанные книги о героях гражданской войны! Боевая романтика, знакомая ребятам по рассказам, картинам и книгам, теперь воплотилась для них в суровую действительность, и ребята сами, неожиданно для себя, стали героями. Как же им было не подражать лучшим людям нашей Родины!
Но однажды вся эта выверенная ребятами на практике дисциплина дала явную трещину, и причиной этого явился неугомонный Серёжа Тюленин.
Вот как это произошло.
Выполнив приказ штаба перенести из Первомайки на склад оружия ручные гранаты, Серёжа завернул их в мешок и явился к нам на квартиру.
— Четыре гранаты оставь у меня, — сказал Олег. — Скоро нужны будут. Остальные отнеси на склад. Да, смотри, осторожнее! Видишь, какое движение вражеских войск? Всыпала им Красная Армия! Теперь они как собаки злы. Смотри не подкачай!
— Есть! — по-военному ответил Серёжа. — Я ж все тайные тропинки знаю.
И исчез с гранатами под мышкой, нахлобучив свою шапчонку.
Вскоре и Олег оделся и вышел на улицу. И вот проходя по Садовой улице, по которой бесконечным потоком двигались отступающие румынские и итальянские части, повозки, конные и пешие, Олег вдруг остолбенел.
Из-под самых копыт лошадей, со связкой гранат мешке под мышкой, вынырнул... Серёжа Тюленин! Быстро поглядел по сторонам и опять, как в воду нырнул в самую гущу неприятеля.
Сердце забилось у Олега.
«Провалился Серёжа, — подумал он, — за ним гонятся».
Но тут Олег снова увидел Серёжу по ту сторону улицы. Он выскочил из-под ног лошадей, пробежал шагов пять и опять поднырнул под румынскую повозку.
«Конец, — подумал в тоске Олег, — сейчас его схватят!»
Но Серёжа вдруг появился на обочине дороги; гранаты были с ним. Он лихо поправил свою шапчонку, и... спокойно свернул в сторону, чтобы пойти тайной тропой. Олег вытер холодный пот со лба.
Часа через два сын был дома, а вскоре явился и Серёжа, без гранат, запыхавшийся и, как всегда, почему-то очень смущающийся в нашем доме.
Был он одет в свой обычный стёганый ватник, довольно засаленный и видавший всякие виды, в шапку-ушанку неизвестного меха и неопределённого цвета; в стёганые бурки, на которых, подвязанные шпагатом держались поношенные галоши.
Но, не обращая особого внимания на такой глубоко штатский вид, Серёжа со всей строгостью военной дисциплины и выправкой старого солдата стукнул галошами, как каблуками сапог, и, приложив руку к шапке, чётко и в полный голос отрапортовал:
— Задание выполнено, товарищ комиссар! Гранаты доставлены на место. Всё в порядке!
Олег, еле сдерживая смех, так же строго принял рапорт.
Официальная часть была выполнена.
— Садись, — сказал Олег.
Серёжа снял ушанку и, комкая её в руках, уселся на кончик стула. От его бурок на полу образовалась лужица воды. Лицо его, как всегда, было бледновато, но чистые глаза сияли — боевая задача была выполнена.
— Молодцом, Серёжа! — сказал Олег. — Но скажи, пожалуйста, каким образом ты попал на центральную улицу? Такого приказа не было. И зачем это ты под лошадей подныривал? Отвечай.
Серёжа смутился:
— Да это я... репетицию делал.
— Репетицию? Какую же?
— А я репетировал, как мне пришлось бы выйти из положения, если бы я попал... в окружение.
— Ага! Понятно теперь.
— Вот, вот!
— Ну, и вышел из окружения?
— А как же! — хитро подмигнул Серёжа.
И тут они оба залились смехом.
Немного погодя Олег, однако, сказал ему:
— Ты рисковал напрасно, Серёжа. Шёл ты с боевым поручением. Только о нём и должен был думать. В следующий раз чтоб этого не было. Понятно?
— Есть, товарищ комиссар!
Серёжа вскочил, надел ушанку и, опять стукнув галошами, взял под козырёк. Но в бедовых глазах его плясали чертенята.
НОВЫЙ ГОД
Приближался конец декабря. Олегу некогда было поесть и отдохнуть. К своим любимым шахматам он уж и не притрагивался. Похудел, осунулся. Всё чаще он ночевал не дома. Ради конспирации ребята собирались на заседания штаба по очереди, у кого-либо из товарищей на окраине города: у Валерии Борц или у Радика Юркина, у Жоры Арутюнянца, у Нины Иванцовой.
Ночи, когда сын не приходил домой, были для нас всех тяжёлыми, наполненными тревогой. Я не спала, в голову лезли страшные мысли, нападало отчаяние.
Мы пробовали говорить с Олегом, просили его беречь себя, отдохнуть, но Олег сводил все наши разговоры на шутку:
— Отдыхать будем, когда фашистов прогоним. Я, мама, тогда учиться пойду, закончу институт, стану инженером и сконструирую такой самолёт!.. — Олег подходил к бабушке, обнимал её за плечи. — Такой самолёт, что и тебе, бабушка, захочется полетать на нём!
Перед Новым годом немцы везли на фронт подарки для своих солдат. Проезжая через Краснодон, огромная семитонная машина вдруг испортилась и остановилась на Клубной улице.
Последовал немедленный приказ штаба: «Подарки не должны попасть на фронт к немцам. Они нам мим пригодятся».
Глухой ночью ребята сняли часового и быстро разгрузили машину. Кроме подарков, там были ещё четыре винтовки и ценные документы. Всё это богатство на санках перевезли сначала на квартиру к Лопухову, потом на свой склад, в баню.
Как всполошились утром немцы!
Полиция кинулась по домам с обысками, переворачивали всё вверх ногами. Напрасно! Новогодние подарки так и не попали к фрицам.
Вскоре же штабу «Молодой гвардии» стало известно, что директор дирекциона (управление треста) Швейде готовит встречу Нового года.
Швейде хвастался, что он покажет русским, как следует по-немецки культурно веселиться. Чтобы доказать, что немцы не скупые и любят «шик», Швейде приказал гнать самогон, готовить закуски, печь пироги.
На бал должно было собраться всё немецкое начальство, офицеры гестапо и жандармерии Краснодона и его районов. Были приглашены и те, кто предал Родину и пресмыкался перед врагами. Праздник должен был состояться в школе № 1 имени Горького.
Молодогвардейцы заволновались. Олег предложил взорвать ядовитое гнездо во время новогодних тостов. Вопрос был серьёзный. Штаб собрался на совещание.
Вечером сошлись у нас в столовой. Был весь штаб и связные. Неверный свет каганца освещал взволнованные, похудевшие лица юных борцов. Как возмужали эти лица! Зашёл разговор о школе имени Горького...
Олег настойчиво требовал взорвать школу. Серёжа Тюленин вскочил со своего места и встал около стула Олега.
— Ребята! — продолжал Олег, подчёркивая каждое слово; лицо его было бледно, глаза казались ещё больше из-за худобы лица и жёстко блестели. — Ребята, подумайте сами: когда ещё представится нам такой случай? А теперь мы сможем одним ударом уничтожить всех палачей, а вместе с подхалимами их соберётся на бал не менее ста человек. Столы будут стоять в спортивном зале. Это же наша школа, ребята! Нам там все закоулки известны. Под лестницу заложим побольше взрывчатки — и к чёрту фрицев! Подумайте: одним ударом всех!
Я видела, как вспыхнули глаза Нины Иванцовой, обычно спокойной и выдержанной. Она всем сердцем была за предложение Олега. Начался горячий спор. За Олега были Тюленин, он прямо-таки не стоял на месте, Туркенич, Попов, Валя Борц — она просила послать на взрыв школы и её.
Но большинство было против. Кто-то сказал:
— Это неразумно. Мы подведём под смерть всё население Краснодона. Враги жестоко отомстят за взрыв.
И ещё говорили об осторожности, о том, что лучше подождать. Олег протестовал. Это первое разногласие с товарищами угнетало его, но и заставило его говорить жарче, убеждать, доказывать. И он говорил, резко взмахивая рукой:
— Фашист не опасен только мёртвый. Не мы ли сами говорили: кровь за кровь, смерть за смерть? Так чего же мы спорим? Смерть им — везде, всегда! Школа наша, ребята, имени Горького, так? А что он говорил? — Если враг не сдаётся, его уничтожают! Ребята, конечно, фашисты отомстят нам за взрыв, но всё равно народу погибнет меньше, чем при жизни этих палачей. Взрыв необходим! Да поймите же это, товарищи! Если не теперь, когда же?!
Не решив единогласно этого вопроса, штаб послал Олю Иванцову в партизанский отряд, к командиру Даниле за советом. Но дерзкое дело не нашло поддержки и у партизан. Командир Данила запретил взрывать дирекцион.
«Сейчас не такое время, чтобы этим заниматься, — писал он молодогвардейцам. — В конце концов, сделать это вы всегда успеете».
Этот ответ опечалил Олега.
— Напрасно, ребята, напрасно! — говорил он с какой-то тоской, но твёрдо. — Пожалеем потом, да поздно будет.
Но потом Олег долго шептался о чём — то с Серёжей Тюлениным и Толей Поповым. Позднее я заметила, что шепчется с ними и Пирожок, слышала слова: «Дирекцион... лестница... билеты достанем... пройдём...»
И Вася Пирожок спокойно поводил своими сильными плечами.
Ребята решили листовками досадить тем, кто соберётся в Краснодоне на новогодний бал.
Был составлен такой текст листовки:
«Смерть вам, немецкие оккупанты, и вам, их лакеи и изменники! Заверяем вас, что вы в последний pаз встречаете у нас Новый год! И не только у нас, но на всём свете. Больше вам не придётся поднимать тост за «освобождение России». Сначала вас самих освободят от жизни. Красная Армия скоро уж сотрёт вас с лица земли».
Эти листовки до девяти часов вечера 31 декабря были расклеены по городу и на здании школы. Враги буквально осатанели.
После девяти часов Олег возвратился домой. И тут мы решили сами, своей семьёй, проводить старый, встретить Новый год. Стали готовиться к празднику Олег надел чистую, выглаженную рубашку. Завязывая перед зеркалом свой любимый галстук, он сказал нам — Давайте сегодня ни одним словом не вспоминать про этих фашистских дьяволов. Хорошо? Они у меня уже в печёнках сидят! А тебе, бабушка, мы всей семье заказываем такой ужин: суп с пшеном, вареники; с картошкой, на десерт — жареные семечки. Есть? Вечером Олег завёл патефон и в паре с дядей Николаем открыл «вечер танцев». Потом взял на руки маленького двоюродного брата Валерия и начал с ним кружиться, а под конец пошёл танцевать со мной. Олег, как большинство его сверстников, и прежде очень любил танцы. Танцевал он хорошо, легко. Девушкам нравилось танцевать с сыном. Он и меня научил танцам.
В этот памятный вечер мы опять кружились с ним под его любимое танго «Моя недотрога». И он оживлённо напевал слова танца.
Вечер закончился игрой в шахматы. Олег выиграл у дяди Николая партию и заставил его кукарекать.
Всем было весело. О немцах, как условились, не вспомнили ни разу, но они сами всё время напоминали о себе.
По дороге с востока, разбитые на Волге, беспрестанно тащились мимо нашего дома их обозы, были слышны с улицы стук колёс и машин, хриплая ругань отступающих немцев.
Стоял крепкий русский мороз. Снег был глубок...
«ПУТЬ ТВОЙ ОПАСЕН»
Утром 1 января 1943 года Олег, как обычно, собрался после завтрака из дому.
На дворе трещал тридцатиградусный мороз, всё было в инее, как в серебре. Я попросила Олега одеться потеплее.
Через два часа сын возвратился. Печаль, тяжёлая и гнетущая, застыла в его недавно весёлых глазах. Сердце моё сжалось тревогой. Олег растерянно повёл глазами по комнате и остановил их на мне:
— Беда, мама! Нашу организацию кто-то предал... Вот оно! Снег вдруг показался мне чёрным. Чтобы не упасть, я прислонилась к двери:
— Предатель среди вас?!
Олег сжал кулаки. Морщина на его лбу резко обозначилась.
— Не знаю, мама, начались уже аресты. Ровеньковская полиция прибыла тоже. Сейчас повели Земнухова. Пока не поздно, надо спасать остальных. Мама, а Серёжа-то Тюленин, вот герой! — слабо улыбнулся Олег. — Он первый узнал об аресте и всех ребят обежал, все х предостерёг...
Молодогвардейцам был дан приказ немедленно выходить группами по три-четыре человека в условленные места и оттуда пробираться на соединение с партизанским отрядом.
— Как только удастся соединиться с партизанами, сейчас же бросимся на выручку товарищам. Во что бы то ни стало освободим их из тюрьмы! А пока что, мама, в дорогу! С собой я беру пятёрку: Тюленина, Борц, Нину и Олю Иванцовых. Да ты не бойся, не бойся, родная моя!
Что было делать? Плакать, биться головой об стену? Не до этого мне было. Скорей, скорей, пока не явилась полиция, проводить сына из дому! Только быстрее, быстрее! — подгоняло меня сердце. — Не теряй ни минуты!
Я начала собирать Олега в дорогу. Вот тёплое бельё, одежда. И тут увидела: Олег достаёт свой комсомольский билет:
— Я возьму его с собой.
— Не надо, сынок! Если тебя поймают, билет тебя погубит. Я спрячу билет так, что его никто, кроме нас с тобой, не достанет, Олег!
Он ответил мне:
— Мама, я всю жизнь слушался тебя и всегда был благодарен за твои советы. Сейчас, прошу тебя, послушай ты меня. Подумай сама, какой из меня будет комсомолец, если я оставлю свой билет дома? Неизвестно ведь, что ждёт меня впереди. Мама, с этим покончено. Ну, бабушка, — по-детски улыбнулся Олег, — ты зашивала когда-то свой партбилет. Значит, опыт у тебя есть. Бабуся, зашей, будь добра, и мой, хорошо? Вот сюда, в пальто. Бланки комсомольских временных билетов я тоже возьму с собой. Это — обязательно!
У меня опустились руки. Я умоляюще посмотрела! на бабушку. Она поняла.
— Олежек, — сказала бабушка, — я стара, и ты послушай меня. Путь твой опасен. Ничего не бери с собой. Кто тебе верил, что ты комсомолец, — будет верить всегда. Вернёшься — возьмёшь свой билет и бланки эти... Мы их тут так спрячем — сам Гитлер не найдёт. Давай-ка всё сюда...
— Нет! — отрубил Олег. — Нет и нет! И давайте об этом больше не говорить...
Дрожащими пальцами мама зашила билет в пальто Олега. Несколько бланков комсомольских удостоверений Олег зашил в пальто сам.
Настало время прощаться. Бабушка подошла к Олегу, положила ему руки на плечи:
— Олежек... если поймают тебя и полиция станет говорить, что твоя мать, ил»и бабушка, или дядя Николай арестованы и что они, мол, признались во всём, — не верь, ни одному слову катов не верь!
И бабушка заплакала. Олег крепко обнял её.
— Мама, — сказал он мне, — сожги все бумаги, дневники, тетради с протоколами заседаний... ну и... стихи. Пересмотри все книжки — может, в них остались какие-нибудь записки. Не хочу вас подводить... Бабушка, приёмник отнеси и спрячь получше. Он ещё пригодится нам. Да смотри осторожно всё сделай! Попадёшься с приёмником в лапы к немцам — знаешь,что будет?.. Ну, мама...
Сердце моё остановилось. Уходит сын, единственная надежда... Хотелось прижать его к груди и не пусти от себя. Всё, всё заглушила я в себе, обняла, поцеловала сына, почувствовала на губах его мягкие воле.
— До свиданья, Олег! Да берегись же там...
Зато, когда мы остались одни, наплакалась и нарыдалась, сколько хотела...
Со своей пятёркой Олег пошёл на хутор Шевырёку, за семь километров от Краснодона. Переночевал у знакомых. Утром, перед тем как отправиться дальше, выяснилось, что у Сергея Тюленина обувь совершенно сваливается с ног. А мороз всё крепчал. Сергей и Валерия возвратились назад. В Краснодоне они пробрались в свой подвал. Сергей обул сапоги, и они снова пошли на Шевырёвку.
Но в условленном месте, у скирды сена, уже не застали никого. Только снег был тут притоптан. Ждали до вечера. Потом, не дождавшись товарищей, пошли одни. Но и тут их постигла неудача — они не нашли Данилу. Оставалось одно разумное: пробираться к линии фронта; он был в ста двадцати километрах от Краснодона.
«ОЛЕГ, ГДЕ ТЫ?»
Первого января к вечеру была арестована уже половина молодогвардейцев. Этот день Нового года тянулся для нас, как вечность. Около десяти часов вечера к нам постучали.
«Пришли!» — подумал каждый из нас.
Брат открыл дверь. В комнату вошли двое полицейских. Они были настолько пьяны, что мы едва разобрали только одно слово:
— Ко-шовой...
Полицейские спрашивали об Олеге. Мы ответили, что дома его нет, пошёл в кино. Не сказав больше ни слова, полицейские повернулись и, пошатываясь, пошли по двору.
В невыразимой тревоге прошло ещё четыре дня.
Полиция больше не являлась. И мне вдруг пришла страшная мысль: Олега поймали! Я хотела бежать в полицию, но брат не пустил и стал убеждать:
— Будь покойна, если бы Олега арестовали, давно бы уже пришли с обыском!
Четвёртого января под вечер брат с женой ушли за дровами, а мы с мамой отправились к Лидии Макаровне Поповой — поделиться с ней своим горем. Возвращались домой. Вдруг бабушка схватила меня за руку:
— Смотри, Лена!
В моей комнате был свет и полно полицейских. Стояли они и во дворе. Я переборола страх и опасения, подошла к дверям, спокойно и даже стараясь быть возмущённой, спросила:
— Кто это тут в моей квартире хозяйничает? Что вам здесь нужно?
Из комнаты выскочил заместитель начальника полиции Захаров.
Это был изменник Родины, предатель, изувер и жестокий палач. Его отец был судим когда-то нами как крупный кулак. Сын пошёл ещё дальше отца. Он ненавидел Советскую власть, но, чуя её силу, притворился, служил в наших учреждениях, а нож держал за пазухой. И только ждал случая, чтобы его выхватить. Как только пришли немцы, Захаров сейчас же побежал к ним служить, стал выдавать коммунистов, сам же и допрашивал их, мучил и убивал. Здоровый, сытый, белобрысый, со светлыми холодными глазами, верный слуга фашистов, предатель своего народа, он был отвратителен.
— А ты кто такая? — грубо спросил у меня Захаров.
— Я хозяйка этого дома.
— Как твоя фамилия?
— Кошевая.
— А-а, Кошевая! Тогда скажи, где же твой сын Олег Кошевой? Куда ты его девала?
— Сын пошёл в кино, и прошу вас, не кричите на меня.
Захаров заговорил со мной более спокойным тоном. Он даже пригласил меня в комнату.
— Зайдите-ка, поговорим кое о чём важном.
В комнате всё было перерыто, перевёрнуто вверх дном. Взломав двери, полицейские старательно пересмотрели все вещи. К счастью, ожидая к себе этих гостей, я сожгла всё подозрительное. Захаров снова спросил об Олеге:
— Я хочу только поговорить с юношей. Если oкажется, что он невиновен, или... если он во всём признается, сразу его отпустим. Поверьте мне!
Я спросила:
— А что случилось, что вы пришли за Олегом? Арестовать его хотите, что ли? Мой сын никогда нячего плохого не делал.
— Не делал? — начал терять выдержку Захаров. — Значит, вы плохая мать, если не знаете, что ваш сын вытворял здесь в продолжение шести месяцев! И вдруг в упор спросил меня: — Вы... Мошкова знаете!
— Нет, не знаю, — ответила я как можно спокойнее.
— Не знаете? Так он знает вашего сына и даже привёл нас сюда. Хотите увидеть его? Мошков стоит на крыльце. Очень забывчивый парень! Никак не мог вспомнить, где живёт его комиссар... пока не обломали ему руки. Тогда сразу вспомнил!
Всё онемело во мне. Мошков — предатель? Нет, нет! Он был и до конца останется честным, стойким. В этом я была уверена. В то, что полицейские обломали ему руки, я, конечно, могла поверить, но чтобы Мошков предал Олега, своих... нет, никогда! И я вспомнила, как мы с бабушкой сами же предупреждали Олега о провокации.
— Ну ладно! Только знайте, — холодно блеснули свиные глазки Захарова, — если ваш сын будет вести себя так же, как его друзья, ему будет то же, что и им. Переломаем ему все кости. Вы поняли меня?
Захаров приказал полицейским разойтись по своим местам, а двум остаться ожидать, пока Олег возвратится из кино.
В душе я издевалась над этими головорезами: я была уверена, что мой Олег уже далеко отсюда. Видно, он успел уже спрятаться, а может быть, и перешёл линию фронта.
Наступила тревожная, без сна, ночь. Утром полицейских сменили новые, а тех — снова другие. Трое суток просидели они в нашей квартире, ожидая возвращения Олега.
На четвёртый день меня вызвали в полицию. Я попала к следователю Кулешову, такому же выродку, как и Захаров. Он со злобой сказал мне:
— Ну, запрятала сынка? Так садись за него сама!
А то какая ты мать, если не знаешь, где твой сын?
— Я говорю правду, — ответила я. — Не знаю, куда пошёл мой сын.
Кулешов стукнул кулаком по столу, вскочил:
— Нужно и тебя повесить вместе с твоим сыном! Слушай же! Твой сын организовал банду, занимался диверсией, убивал представителей немецкой власти...
Помертвевшая, слушала я Кулешова. Он знал всё: и о работе Олега в «Молодой гвардии», и о немецких машинах с подарками, и о листовках, и об организации комсомола. Вдруг он поднёс к моим глазам комсомольский билет:
— Чья это подпись, ну?!
Это была подпись Олега: Кашук.
— Не знаю. Почерк не моего сына, да и фамилия не та: Кашук. Мой сын — Кошевой.
Кулешов опять начал кричать на меня, стучал кулаком по столу, сыпал угрозами. Вошёл начальник полиции Соликовский. Он зверем взглянул на меня, сквозь зубы прошипел:
— Глупой прикидываешься? Почерка не узнаёшь? Может, теперь узнаёшь?
И он изо всей силы ударил меня кулаком в лицо... Когда я пришла в себя, мой платок был весь в крови. Меня вывели в коридор:
— Сиди здесь, жди своего сынка!
Коридор был закопчённый, грязный, холодный и еле освещён. Я слышала стоны и крики избиваемых. Думала: «Кто это кричит? Не наши ли?»
Вдруг в комнате у следователей громко заиграл патефон. Чтобы не слышны были крики, немцы заглушали их весёлой музыкой. Сердце моё превратилось в кусок угля...
Я видела, как провели Ваню Земнухова и Улю Громову, и чуть не закричала — настолько они были оба избиты. Как я пожалела, что сидела в углу и они не могли меня видеть!
В одной из женщин, избитой и обезображенной, с распухшим, почерневшим лицом, я едва узнала Соколову. Потом мне стало известно, что в те дни были арестованы коммунисты Лютиков, Бараков, Мария Дымченко и другие. Подполье, так хорошо налаженное, было разгромлено.
Потом провели других. Ещё и ещё. Люди уходили от следователя с чёрными от кровоподтёков и синяков лицами. Вводили других. И опять крики, стоны, глухие удары...
Выпустили меня только утром. Кулешов — от него пахло водкой — сказал мне:
— Даю тебе три дня, чтобы ты разыскала и привела сюда сына. Иначе — пуля. Иди!
Я еле дошла домой. А там уже сидели двое полицейских, поджидали сына. Олег, где ты?
ДЕСЯТЬ ДНЕЙ
Ох, какие это были страшные дни и ночи!
Мы молча сидели под окном, выглядывали на улицу, не спали ночами, прислушивались к малейшему шороху, вздрагивали, когда нам чудились чьи-то шаги около дома. Вдруг постучит в окно Олег, голодный, замёрзший, а к нему вместо матери выйдет полицейский...
Однажды я сидела под окном. На солнце морозный снег сверкал ослепительно. И вдруг мне словно игла в сердце вошла. По улице мимо нашего дома под конвоем вели Олега. Вот проходят под окнами. Ну да! Его пальто с коричневым воротником, его походка. Но почему сын не взглянул на родной дом?
Не выдавая своего волнения, я спокойно вышла из дому и только на улице побежала, Догнала арестованного. Нет, не он...
А тут ещё пьяные полицейские разговаривали меж собой о пытках в гестаповских Застенках. Волосы вставали дыбом от ужаса.
Как-то к нам зашёл полицейский, в борт пиджака у него было вколото несколько больших иголок. Другой полицейский спросил:
— Слушай, это зачем же у тебя столько иголок? В портные записался?
— Нет, это для допроса. От таких штук языки сразу развязываются. Иначе напрасный труд — говорить с этими молокососами. Кричишь на них, грозишь, бьёшь — молчат. А как только запустишь вот эти иголочки под ноготь, да поглубже — ой-ой-ой, такой крик поднимают, даже весело становится!
Когда немцам не удалось схватить Валю Борц, они посадили в тюрьму её мать и десятилетнюю сестру — Люсю.
Люся была пионеркой, и она до конца осталась верна той присяге, которую давала, вступая в пионерскую организацию.
Люся не раз видела товарищей старшей сестры и знала, что они собираются вместе писать листовки против немцев и потом расклеивать их.
Девочке сказали в тюрьме:
— Ты знаешь, кто у вас из ребят бывал. Скажи — кто, назови фамилии. Ответишь правду — подарок получишь, и сейчас же домой отпустим. Ну? Говори!
То, что произошло потом, я узнала из разговоров двух полицейских — Шурки Давыденко и Митьки Бауткина, когда они сидели у нас в засаде поздно ночью.
Люся спокойно ответила, что к её сестре никто не ходил и что никаких подарков ей не нужно.
— «Я, говорит, свою сестру люблю», и всё тут, — рассказывал Бауткин. — Стоит и смотрит прямо в глаза Соликовскому. Как же, пионерка! Соликовский так и опешил. Да и все мы ожидали, что девчонка со страху всё расскажет, расчёт на неё особый был. Ещё спрашивает, на испуг берёт — молчит. Тогда Соликовский показывает ей на петлю, даже на шею ей накинул — молчит. Р-р-раз! — и к потолку. Держит за верёвку Соликовский: теперь-то уж, мол, расскажет пионерка о своих. И ты знаешь, ни звука. Глядим — задыхается. Вынули из петли, водой из ведра окатили: говори! Суток пять в тюрьме продержали, так ни с чем её и выпустили...
Я хорошо знала Люсю. Это была обыкновенная девочка — пионерка с красным галстуком, каких сотни, тысячи. Но, когда и ей пришлось постоять за дело народа, не дрогнуло маленькое мужественное сердце.
Как ни трудно мне было тогда, но, слушая рассказ палачей о стойкости маленькой Люси-пионерки, я чувствовала, как светлей становится на душе и как растут бодрость и надежда. Не сломить фашистам наших детей!
Так прошло десять дней. Я терпела. И всё росла надежда.
Я уже совсем решила, что Олег со своими друзьями где-то далеко, и понемногу начинала успокаиваться за него. Но это был только временный отдых.
Беда не отходила от нас, она лишь выжидала своего часа.
Одиннадцатого января утром пришла полиция моим братом. Дядя Николай ждал непрошеных гостей и успел спрятаться в погреб под полом моей комнаты.
Посидев часа два над головой брата, полицейские ушли. Мы им сказали, что брат пошёл к часовых дел? мастеру и должен скоро возвратиться. Уходя, полицейские пригрозили:
— Пусть не прячется Коростылёв, слышите? Не то хуже ему будет!
Брат под полом всё слышал.
Вечером они снова пришли. Брат только что хотел выбраться из погреба, надеясь тёмной ночью уйти куда-нибудь из дому. Полицейские снова уселись над его головой:
— Подождём тут, пока Коростылёв придёт. Что-то долго он часы чинит.
В это время зашла к нам Лидия Макаровна Попова. Увидев полицейских в комнате, она поняла, что это засада. Она попросила дать ей ведро. Когда я вышла в кухню, она шепнула мне:
— Олег пришёл. Сидит у меня...
Как во сне, я начала одеваться. Полицейские увидели:
— Нельзя! Никому не выходить из дому!
Вырвалась я только, когда они, посидев ещё часа два, ушли. И опять с угрозами:
— Ну вот что: возвратится Коростылёв — пусть сейчас же идёт в полицию, не то мы всех вас потянем за него. Ясно?
У Поповой я увидела Олега на кухне. Он сидел босой, и Лидия Макаровна смазывала ему вазелином отмороженные пальцы; они были красные, распухшие, страшные. Я кинулась к нему:
— Сыночек мой, зачем ты снова сюда возвратился?
Разве ты не знаешь, что здесь делается?
И я начала было рассказывать, что произошло в Краснодоне, но Олег устало сказал:
— Мама, я знаю всё...
Пока он обувался, Лидия Макаровна рассказала:
— Слышу, вдруг кто-то стучит в дверь. «Заходите», — говорю. И вот открывается дверь, вижу — входит какой-то человек, поздоровался и остановился у двери. «Что вам нужно?» — спрашиваю. А он: «Лидия Макаровна, не узнаёте меня? Я партизан. Меня преследуют. Я в вашей власти теперь. Можете спрятать меня, а можете...» Я не дала ему договорить, кинулась целовать. Помогла ему раздеться, усадила поесть, а сама — к вам... Ну, беседуйте.
И Лидия Макаровна вышла.
Невесел был рассказ Олега. За эти десять дней много узнал он горя и страданий.
Со своей пятёркой он был почти у линии фронта, но пробраться к своим не удалось. Полиция и жандармерия следили за каждым штатским, при малейшем подозрении арестовывали и бросали в концлагеря. Там страшные муки и смерть ждали каждого. Здоровых мучили голодом и холодом, слабых бросали в ямы, обливали бензином и живыми сжигали.
Местные полицаи, старосты не давали ребятам войти ни в одно село, приходилось идти околицами, ночевать в шалашах и заброшенных сарайчиках, днём двигаться по талому от солнца снегу, в одежде и обуви, размокшей от сырости, а вечерами всё дубенело на них от мороза.
За десять дней изнурительного и страшного путешествия ребята ни разу не видели хлеба, с трудом выменивали одёжку, какая была, на пустую картофельную похлёбку. Только раз им удалось по-настоящему обогреться. К вечеру как-то они добрели до здания бывшей сельской школы; здесь жило несколько семей, дома которых были разрушены вражеской бомбёжкой. Ребят охотно впустили, они с наслаждением грелись у печки — буржуйки.
Когда сушили обувь, сапоги Олега настолько рассохлись и потрескались, что в Краснодон ему пришлось возвращаться в галошах от бурок Нины Иванцовой.
Только теперь разглядела я, как был измучен Олег. Скулы обострились, в громадных глазах за густыми ресницами стояло страдание. — Никак не могу простить себе, что уступил тогда и не взорвал дирекцион, — сказал он с горечью. — С такими, как немецкие фашисты, в борьбе нужно идти до конца. А как всё у нас было подготовлено! Дело прошлое — скажу. Взрывчатку уже заложили под лестницу, провели шнур. Достали билет для Пирожка. Он должен был войти в школу и зажечь шнур. Серёжа Тюленин, Владимир Жданов и я ждали при выходе с оружием наготове. Эх, упустить такой случай!
Я молча гладила его волосы, целовала жёсткую кожу щёк. Немного погодя увидеться с Олегом прибежал дядя Николай. Он бросился к Олегу, и они замерли, стиснув друг друга в объятиях. Но времени было мало. Начали обсуждать: как же вырваться из клещей врага?
Не хотелось Олегу покидать свой Краснодон, уходить от товарищей. Они мучились в застенках гестапо. Что же сделать? Как им скорей помочь? Олег строил планы: связаться с партизанами и прийти на помощь друзьям.
И опять вспомнил Олег новогоднюю свою неудачу:
— Да, не послушались тогда ребята! Легче было бы даже и умирать, если бы мы после такого взрыва попали в гестаповские руки.
Тут я рассказала сыну о Жене Мошкове, про слова полицейских, будто бы Женя выдал адрес Олега и даже привёл их на квартиру к своему комиссару. Олег вскочил, на лицо его снова вернулась краска:
— Не верь провокаторам! Женя — герой! Он на допросе четвёртого января плюнул жандармам в морду и погиб, не сказав ни слова.
Хотелось говорить и говорить с сыном без конца, но полиция была рядом и искала Олега.
Лидия Макаровна уверяла меня, что всё будет хорошо и чтоб я не беспокоилась. Она уже приготовила Олегу место, где он может при случае спрятаться.
В конце концов решили идти через день утром; под видом мешочников взять санки и выйти из города. Мы попрощались с Олегом и пошли домой.
А в двенадцать часов ночи к нам ворвался немецкий офицер с полицейскими:
— Где Коростылёв?
На этот раз брату уйти не удалось. В погреб он спрятаться не успел — немцы с улицы осветили мою комнату ярким фонарём. Но Николай и тут не хотел сдаваться. Он бросился на свою кровать и, перед тем как накрыться одеялом с головой, успел что-то шепнуть жене. Немец, угрожая револьвером, кричал:
— Где Коростылёв?
Жена брата, Ольга Александровна, ответила:
— Нет его дома. Ушёл. Куда — не знаю.
Тогда гестаповец спросил:
— А кто это спит там в комнате?
— Это... немецкий офицер.
Немец подошёл к кровати и что-то начал говорить по-немецки. Конечно, дядя Коля молчал — он плохо знал немецкий язык. Одеяло полетело на пол.
— Ага, попался наконец!
Удары кулаком и ногами. Закричал Валерик. Ольга Александровна кинулась к мужу. Фашисты избили и её.
В семь часов пришли за ней. Я была как мёртвая. В мозгу стучало одно: «Олег, Олег! Как же он теперь уйдёт?»
Мы остались с мамой я с маленьким Валериком. В девять часов опять пришли гестаповцы с переводчиком, несколько полицейских и Захаров.
Снова повальный обыск, ещё раз перерыли всё в квартире. Часть вещей забрали, остальные приказали не трогать. Наша квартира была теперь вся ободрана, пустая и холодная. Мы ютились в кухоньке на одной кровати: бабушка, я и Валерик. И вот пришли гестаповцы и забрали бабушку. Она оглянулась с порога. Наши глаза встретились. Я прочла в глазах матери: «Ничего не бойся. Ни о чём не расскажу.
В гестапо бабушку встретили руганью и издевательствами:
— Ага, старая! И ты с ними заодно?
Удар, ещё и ещё... Вернулась бабушка домой часа через три. Еле приползла, вся избитая.
«ПРИДУ С КРАСНОЙ АРМИЕЙ!»
Я стала ждать своей очереди, своего ареста. Душа болела, хотелось хоть ещё раз увидеть — сына и как можно скорей отправить его из Краснодона. Но меня не трогали.
Лидия Макаровна с тревогой рассказала мне, что в городе уже знают, что Олег возвратился и где-то прячется. Нужно было немедленно уходить. Соседи знали, что мы дружим с Поповой.
Куда, к кому пойти? Всем друзьям Олега грозила смерть, и они сами прятались от полиции. Идти по дороге тоже опасно. Там продолжается отступление немцев. Мужчин, попадающихся им на глаза, они расстреливают. То же самое может случиться и с Олегом, если он днём выйдет из Краснодона.
А уходить нужно было. Вот-вот могли явиться гитлеровцы. Что же делать? Где искать спасения? И мы пошли на хитрость: решили переодеть Олега в женскую одежду и в таком виде проводить его за окраину Краснодона.
Маршрут был такой: в селе Таловое Олег переночует у моей знакомой Анны Акименко, на следующий день утром выйдет в Должанку (туда Лидия Макаровна даст записку к своим родственникам), а на третий день пойдёт в Боково-Антрацит и там переночует в землянке у знакомого нам деда.
Стали готовить для Олега одежду. Пришла бабушка. Молча сняла, с себя валенки и протянула их внуку. Олег покачал головой:
— Бабушка, ты слабая, тебе валенки больше нужны, чем мне. Да и вам в этих валенках лучше простаивать в полиции с передачей дяде Николаю и тёте.
Насилу уговорили его надеть валенки на отмороженные ноги. На дворе был лютый мороз, какого люди в Донбассе давно не помнили.
Олег попросил бабушку принести ему из дому наган: он был спрятан в сарае под крышей.
Я запротестовала:
— В нагане всего один патрон, на что он тебе?
— И один патрон может пригодиться. Нападёт на меня один немец — хватит и одного патрона. Нападёт больше — пригодится для себя.
Бабушка принесла наган. Потом мы дали Олегу женскую одежду.
Он посмотрел на неё, усмехнулся и отодвинул одежду от себя. К этому времени Олег стал говорить баском.
— Это же ни к чему не приведёт, — сказал он с лёгкой усмешкой. — Ну, ты сама подумай: во-первых, это смешно — рядиться мне в женское платье; во-вторых, если я встречу немца, и он меня спросит о чём-нибудь, а я ему отвечу таким басом, тогда — провал наверняка. Да и не хочу я перед врагами рядиться...
Но выхода другого не было, и мы так настойчиво просили! Наконец Олег пожал плечами и уступил. Переряженный, он нисколько не стал похож на женщину — высокий, широкоплечий, угловатый в движениях, с упрямым подбородком. Особенно выдавали его глаза: мужские, непокорные, властные. Мы махнули рукой на всё. На счету была каждая секунда.
Перед уходом из квартиры Олег вынул из кармана три стихотворения и протянул их мне.
— Мама, — сказал он, грустно улыбаясь, — вот эти два тебе на память, а это передай Нине Иванцовой. Хорошо?
Никогда не забыть мне, как мой сын тогда взглянул на меня! Нет, я не могу описать всё то, что поднялось в моей душе...
Куда провожала я сына? Может, в последний путь провожаю? Какая судьба ждёт его? Кто пригреет моего мальчика, кто залечит его отмороженные ноги? Найдётся ли добрая душа, которая спрячет его от врага?
Почуяло ли моё сердце, что в последний раз я иду рядом с сыном, в последний раз слышу его голос, но я беспомощно заплакала:
— Олежек мой, болит моё сердце! Увидимся ли мы когда-нибудь с тобой?
— Увидимся, мама, — старался он утешить меня. — Ты только так и думай! Хорошо, мамочка?
Он обнял меня, поцеловал, посмотрел мне в глаза. Нахмурился, сдерживая волнение.
— Мамочка, дай мне слово, что ты будешь беречь себя, прятаться от полиции, пока наши придут. Хорошо? А если со мной что-нибудь случится, мамочка, родненькая, не плачь! Не плачь, мама! Чего плакать? Я не упаду перед врагом на колени. А если придётся умереть, что ж... свой долг я выполнил. Как мог, так и боролся. А останусь жив — ну, держись тогда, фашист!
Мы дошли до села Таловое.
Солнце уже совсем зашло, когда мы, пользуясь вечерними сумерками, сняли в коридоре у Анны Акименко с Олега женскую одежду. Анна приняла сына переночевать, и мы с Поповой немного успокоились. В последний раз прощались, ещё раз просили друг друга беречься. Я прижала сына к груди. Больше я уже не могла глядеть в его милые глаза, но последние слова запомнились мне навсегда:
— Не печалься, мама! С нашими приду, с Красной Армией!
Дома, куда я возвратилась в семь часов вечера, я не застала никого.
В квартире было пусто и холодно, как на улице. Бабушку опять забрали в полицию, а маленького Валерия взяли к себе соседи. Я осталась одна. Могильная тишина камнем легла мне на сердце, давила, не давала дышать.
Я вошла в комнату Олега. Сорванные с дивана одеяла и простыни, раскиданные по полу вещи — всё говорило о недавнем обыске. На столе лежали шахматная доска, запонки и любимый галстук Олега. На полу валялась книга «Капитальный ремонт» Леонида Соболева — последняя, какую прочитал в своей жизни мой сын, книга о море.
Машинально я подняла её, открыла и ахнула. Как же немцы не заметили? На обратной стороне обложки Николаем была записана последняя полученная «Молодой гвардией» сводка Совинформбюро. Перечислялись отнятые у немцев наши города, называлось число пленных, убитых врагов...
Нет, драгоценную эту книгу я немцам не отдам! Только успела я спрятать «Капитальный ремонт», стук в окно.
«Всё. Теперь за мной...»
Но это была она, моя мама. Её снова избили в полиции. Выпустили, как приманку для Олега. Стало ясно, почему и меня не берут до сих пор. Ждут и следят.
Всю ночь проплакали мы с ней над стихами Олега, что дал он мне на прощанье. Вот они:
Ты, родная, вокруг посмотри:
Сколько немцы беды принесли!
Голод, смерть и могилы везде,
Где прошли по советской земле.
Ты, родная, врагам отомсти
За страданье и слёзы свои,
За мученье и смерть сыновей,
За погибших советских детей.
Мама, мама, не плачь, только мсти!
Возвратятся к нам светлые дни.
Правды, счастия луч золотой
Засияет над нашей землёй!
ПАЛАЧИ
Шестнадцатого января мы с мамой понесли передачу в тюрьму дяде Коле, его жене и Елене Петровне Соколан, арестованной за знакомство с нами.
Мы ещё издали услышали стоны и вопли людей.
— Что бы это могло быть? — спросила я маму.
— Наверно, опять когось катуют, — угрюмо ответила она.
Возле полицейской управы в толпе женщин шныряли полицейские, направо и налево раздавая удары плетьми и безобразно при этом ругаясь. Но женщины не расходились, они с криками и плачем толпились у прибитых к стене списков арестованных, отправленных в концлагерь. В списках было двадцать три человека — юноши и девушки, знакомые мне по «Молодой гвардии».
Все в Краснодоне уже знали, какой это был «концлагерь». Палачи повели наших детей на казнь. Отчаянный плач, вопли и стоны, как на похоронах, надрывали душу.
— Да шо ж таке, добри люди, робиться! — запричитала мама по-украински. — Мало им, подлюкам, той крови, шо выпилы воны из наших дитей, так бач шо воны ще творять!
И, выхватив у меня кастрюлю с пшённым супом, она выплеснула его в полицейского.
— На иж, хай ты подавышся, блюдолиз нимецкий!
Женщины стали швырять в полицейских комками оледенелого снега, замёрзшей землёй, бросать в них посудой с едой, вырывать плётки.
Началась бы, наверно, настоящая свалка, если бы с пожарной каланчи вдруг не раздался сигнал воздушной тревоги. Толпа быстро рассеялась, а вскоре мы увидели, как стороной проплыла в небе группа советских самолётов, держа путь на запад, в немецкие тылы.
Я очень боялась за маму, которую могли приметить и потом прийти за ней, и долго ещё не могла успокоиться.
— Щоб им билого свита весь вик не бачить! — ругалась мама. — Жаль тильки того супу, шо вылыла на гада, — внучек сыдыть голодный. Як подывышся, аж сердце разрывается.
И с этого дня каждое утро полицейские вывешивали на стене списки молодогвардейцев, переведённых в «концлагерь». На самом деле их на машинах вывозили за Краснодон, к старой шахте, наспех расстреливали и сбрасывали в глубокий шурф, мёртвых вместе с недобитыми.
Десять дней просидели в тюрьме жена брата и Елена Петровна Соколан. Не добившись ничего, полиция выпустила их.
Брату Николаю на четырнадцатый день удалось убежать вместе с комсомольцем Колотовичем. Вот как это произошло.
Красная Армия подходила всё ближе. Уже отчётливо была слышна грозная канонада, всё чаще налетали наши самолёты.
Немцы и полиция лихорадочно готовились к бегству. Во двор тюрьмы приходили полицейские и из других районов. Этим и воспользовался Николай. Ночью он отогнул проволоку на запоре, открыл дверь камеры. Перед этим он надел на рукав белый платок, похожий на полицейскую повязку. Потом они с Колотовичем вышли во двор и смешались там с полицейскими из других районов.
Потом побежали. По ним открыли стрельбу и бросились в погоню. Колотович упал. Казалось, всё было потеряно. Но Николай всё бежал и сумел далеко уйти. Забежав за чей-то двор, он увидел пожилого шахтёра.
Они поздоровались. Николай сказал:
— Вот... уходят немцы.
— Да, видать, что дело такое.
— Не разберёшь, что лучше: остаться или с немцами уходить?
— Это уж как кому сподручнее.
— Мне не сподручно. Кстати, вон они и гонятся за мной...
Шахтёр пытливо взглянул на дядю Колю, ничего не ответил, а лишь мигнул на погреб и прошёл мимо. Николай бросился к погребу.
Немцы обыскали всё, стреляли в погреб, но спуститься не захотели.
Больше суток пришлось отсидеть брату в погребе. Жена шахтёра — как потом мы узнали, Степана Афанасьевича Чистолинова — принесла ему кувшин воды и пышки из бурака. Но больше всего он был рад самосаду.
К вечеру следующего дня брат ушёл.
Таким образом, наши хождения в тюрьму с передачами прекратились. Но немцы опять сами часто проведывали нас — всё надеялись застать Олега или брата.
Двадцать пятого января они не пришли. Я забеспокоилась. То я страшилась, когда они приходили, теперь я ждала их. Приходят — значит, ищут. Не пришли — значит, нашли.
Я кинулась в полицию.
Дежурил молодой, неопытный полицейский. Он, видимо, был в курсе дела молодогвардейцев, но не знал подробностей и фамилий. И я, чувствуя, как у меня холодеют руки и ноги и всё плывёт перед глазами, решилась спросить:
— Кошевой и Коростылёв... есть у вас?
Полицейский, позёвывая, обошёл все камеры, выкрикивая фамилии сына и брата. Никто не отозвался. Я ушла. Но тревога продолжала сушить мою душу. И я не обманулась.
Двадцать девятого января, к концу дня, к нашему дому подъехали сани, запряжённые тройкой лошадей. В квартиру вошли жандармы и полицейские во главе с Захаровым, все пьяные. Захаров крикнул:
— А ну, давай одежду сына — всё, что есть! Да живей у меня!
Я ответила:
— Дома не осталось одежды. Всю её уже забрала полиция.
Захаров презрительно прервал меня:
— Ну-ну! Это такая же правда, как то, что ты не знала, где твой сын.
— И не знала, — ответила я, чувствуя, как пол уходит из-под ног, — и сейчас не знаю.
— Ничего, зато мы знаем.
Я смолчала. Я всё ещё надеялась, что он обманывает меня или просто так мучает, но тут один полицейский удивлённо спросил у Захарова:
— А что, разве Кошевого уже того... поймали?
— Поймали, — осклабился Захаров, свёртывая папироску и не сводя с меня глаз. — Отстреливаться, щенок, вздумал, полицейского ранил. Хорошо, что в нагане у него был всего один патрон...
Когда я пришла в себя, полицейские уже уходили, хлопая дверями. Собрав последние силы, я кинулась за ними, крикнула:
— Олегу... можно еду принести?
— Еду? — переспросил Захаров, криво усмехаясь. — Да его и в Краснодоне-то нет. Вообще нет. Сын твой расстрелян в Ровеньках.
Падая опять, я успела крикнуть ему вслед:
— Палач, будь ты навеки проклят!
Если бы не мама, не знаю, что стало бы со мной. Но я поддалась маминой доброй ласке. Бабушка верила, что внук её жив, что его не возьмёт никакая пуля. И эту непреклонную веру она передала и мне. Вместе с мамой и я стала надеяться. На что? Я этого не могу объяснить. Мы словно чуда ждали.
ПРИШЛИ!
Потянулись чёрные, длинные дни, длинные бессонные ночи.
Мы жили в крайнем напряжении сил. Что с Олегом? Неужели правду сообщил Захаров? Где Николай? Жив ли он?
В голову приходили самые страшные догадки, но мы старались приободрить друг друга и вслух высказывали только утешительные предположения.
Маленький Валерик то и дело приставал к нам:
— А почему так долго папы нет? Он принесёт мне хлебца? А Олезя (так звал он Олега) скоро придёт?
Отвечая ему, мы, казалось, сами верили в то, что сочиняли.
Как-то рано утром зашла к нам знакомая Лышко, проживавшая в посёлке шахты № 1-бис. Она передала записку от Николая, которая была датирована 25 января. Николай сообщал, что благополучно живёт в погребе, беспокоился о судьбе Олега, передавал приветы родным. Он прятался там три дня, но потом начались облавы, и он ушёл. Куда — Лышко не знала.
И опять — тяжёлые предчувствия, ожидания и надежды...
Немцы приказали нам два раза в день ходить в полицию отмечаться. С востока грозно доносился артиллерийский гул. Фронт был всего в двенадцати километрах от города.
Мы часто следили за нашими самолётами, радовались, когда они бомбили немецкие войска и склады, — мы не боялись этих бомб. Как мы ждали своих!
Первого февраля полиция из Краснодона эвакуировалась в Ровеньки, забрала с собой и арестованных — последнюю партию обречённых на смерть. Среди них были Люба Шевцова, Семён Остапенко, Виталий Субботин и Дмитрий Огурцов.
Но часть полицейских оставалась ещё в Краснодоне, и мы должны были ходить отмечаться. Третьего февраля вызвали в полицию бабушку и снова сильно избили её.
С этого дня я начала прятаться от немцев.
Полиция приходила за мной. Мама сказала, что я пошла в село достать хлеба. Тогда пьяные полицейские начали издеваться над мамой и над маленьким Валериком. Один из них взял ножницы и, хохоча, колол ими трёхлетнего Валерика.
— Мама, мама! — кричал Валерик, и холодным потом покрывалось его маленькое, высохшее от голода личико.
А фронт всё приближался к Краснодону. Уже восемь километров было между нами и освобождением! Слышна была даже пулемётная стрельба. В Краснодоне с нетерпением ждали своих.
Дни шли, как длинные годы. Сил не было дальше терпеть...
Девятого февраля к нам в квартиру зашёл незнакомый человек. Он коротко сказал, что пришёл из Ровёнек, и подал мне записку. Это была записка от Николая.
«Дорогая мама! — писал он. — Нахожусь в ровеньковской тюрьме. Выдал меня Крупеник в Боково-Антраците. Не знаю, вырвусь на этот раз или нет. Пригнали сюда много краснодонских ребят. Часто нас гоняют на работу. Как хочется увидеть вас! Целую. Коля».
Последняя маленькая надежда была вырвана у нас подлым предателем. Находившаяся с нами тогда Елена Петровна Соколан предложила пойти в Ровеньки и понести Николаю письмо и передачу. За сборами в дорогу я как-то отвлеклась, но мама слегла. По её худым восковым щекам то и дело скатывались слёзы.
Двенадцатого и тринадцатого февраля гестапо провело облавы в квартирах, погребах и сараях. Искали мужчин. Удалось захватить около ста человек разного возраста; фашисты их согнали в полицию.
К вечеру 13 февраля все немецкие части начали в панике покидать Краснодон. Поднялась невероятная суета. А утром 14 февраля 1943 года в Краснодоне не было уже ни одного гитлеровца.
Ровно в одиннадцать часов в город ворвались наши танки. Увидев первый советский танк, мы бежали за ним, плача от радости, поднимая к танкистам руки, благословляя наших освободителей.
Не знаю, кто в этот день мог усидеть в комнате. К вечеру Краснодон был заполнен нашими войсками. Жители города вышли встречать Красную Армию. Мы пригласили к себе на квартиру двадцать красноармейцев. Взяли бы больше, если бы могла вместить квартира. Мы с мамой стирали им бельё, варили обед, подавали на стол. Моя старенькая мама, забыв об усталости, целовала и сажала к столу красноармейцев, как родных сыновей.
Когда первые танки въехали в полицейский двор, никто не отозвался на зов танкистов. Камеры молчали. Трупы расстрелянных лежали во дворе. Их было полно и в камерах. Немцы не оставили в живых ни одного человека из тех, кого захватили накануне.
Семнадцатого февраля в Краснодоне был траурный день, полный плача и причитаний осиротевших матерей.
Из шахты № 5, из тёмного шурфа в шестьдесят пять метров глубиной, бадьёй поднимали тела замученных молодогвардейцев.
Около шурфа собрались все жители Краснодона. К каждому телу бросалась мать. Узнавать было трудно. Чтобы вырвать у молодогвардейцев признания, гестаповцы подвергали их нечеловеческим пыткам. Де: вушки и ребята лежали изуродованные, в синих подтёках, с чёрными от огня пятнами; у некоторых на груди ножом были вырезаны звёзды. Снег около шурфа был красен от крови.
Напрасна была злоба палачей! Молодогвардейцы держались мужественно и не изменили святому делу, за которое боролись и которому шесть месяцев назад присягали.
Взбешённый неудачей, начальник полиции Соликовский набросился на Толю Попова, едва стоявшего на ногах от избиений.
— Ничего от меня не узнаете, — сказал он. — Одно скажу: жаль только, что сделали мало...
Когда стало известно, что их повезут на казнь, Уля Громова азбукой Морзе передала во все камеры последний приказ штаба:
«Скоро повезут нас на казнь. Держаться перед смертью будете так, как жили, — мужественно. По дороге запоём любимую песню Ильича: «Замучен тяжёлой неволей».
Десять дней вытаскивали трупы из шахт. Я, так же как все матери, бросалась к нашим мёртвым детям — думала, может, найду и Олега среди них. Сына не было...
В Краснодон стали возвращаться молодогвардейцы, оставшиеся в живых. Из ста трёх молодогвардейцев вернулись только Нина Иванцова, Ваня Туркенич, Оля Иванцова, Жора Арутюнянц, Раднк Юркин, Анатолий Лопухов, Михаил Шищенко и Валерия Борц.
Вернулся и брат Николай — ему и многим другим арестованным удалось бежать из-под охраны во время бомбёжки немецкого аэродрома, куда их гоняли на работу.
Первого марта состоялись похороны юных героев.
Их похоронили с воинскими почестями в городском парке, в братской могиле. Был дан салют. На траурном митинге среди других выступил Ваня Туркенич, одетый уже в военную форму. Над могилой друзей он поклялся, что не снимет своей шинели, пока не будет уничтожен на нашей земле последний фашист.
После похорон зашли навестить меня Нина и Оля Иванцовы. Печальна была наша встреча. Я передала Нине последнее стихотворение Олега:
Пой, подруга, песни боевые,
Не унывай и не грусти:
Скоро наши дорогие
Краснокрылые орлы
Прилетят, раскроют двери
Всех подвалов и темниц.
Слёзы высохнут на солнце
На концах твоих ресниц.
Станешь снова ты свободна,
Весела, как Первый май,
Мстить пойдёшь, моя подруга,
За любимый, милый край...
Глядя, как дрожит листок в руке Нины, я вспоминала об их дружбе с Олегом, о том, как он часто говорил мне:
«Мама, ты только посмотри, какие у неё глаза! Умные, добрые, открытые... Знаешь, Нина никогда прежде о себе не забеспокоится, а всегда — о других. Неудачи товарищей переживает больше, чем свои. Когда нужно — скажи, и она готова на любой риск ради товарищей. Что с ней немцы могут поделать?! Если бы и все такие были, как Нина! Не любить её нельзя...» .
Нина вдруг пристально посмотрела на меня широко открытыми прекрасными своими глазами. В них зрело какое-то решение.
ЭТО БЫЛ ОН
Второго марта я с мамой и Еленой Петровной Сокол а н пошли искать Олега в Ровеньки.
Мы вынуждены были возвратиться. Лес, где были расстреляны наши люди, немцы заминировали. Приходилось ожидать, пока растает снег и лес разминируют.
Одиннадцатого марта 1943 года стало известно, что в Ровеньках будут раскапывать могилы расстрелянных. Я быстро собралась в путь. Со мной пошли Нина и Оля Иванцовы.
В Ровеньках мы нашли людей, которые сидели в тюрьме вместе с Олегом. Им чудом удалось избежать смерти.
Они рассказали, что ещё в конце января к ним в камеру бросили исхудалого, чисто одетого юношу. Его арестовали в Боково-Антраците. При обыске у него нашли зашитый в пальто комсомольский билет и несколько чистых бланков. Был у него наган, из которого, отстреливаясь, он ранил полицейского. Юношу звали Олегом, но фамилии его вспомнить не смогли. Когда его спросили, как он попал в руки полиции, он сказал, что его выдал дед, бывший кулак. К нему замерзающий Олег зашёл в Боково — Антраците...
На допросах у начальника полиции Орлова Олег держался мужественно.
Когда Орлов спросил Олега, что заставило его вступить в борьбу, он ответил:
— Любовь к Отчизне и ненависть к вам, изменникам!
Полицейские зверски избили Олега. В камеру его бросили уже без сознания.
В камере Олег не давал товарищам падать духом. Он говорил, что никогда не станет просить пощады у палачей: то же самое советовал и всем арестованным. Говорил:
— Товарищи! Жили мы честно и умрём честно!
Олег пытался совершить побег. Кто-то передал ему пилочку. За ночь с помощью товарищей он перепилил! решётку на окне и бежал, но уйти далеко не смог — ослабевшего, его поймали гестаповцы и снова подвергли страшным пыткам.
Но и после мук в жандармерии Олег, весь избитый, изуродованный, не изменился и всё настойчивее убеждал даже старших по возрасту товарищей:
— Не давайте радоваться палачам! Пусть они и не думают, что нам страшно расставаться с жизнью. Держитесь, товарищи! Наши всё узнают. Нас не забудут...
Молодёжь в камере он учил петь песни, сам запевал первый:
Широка страна моя родная...
С песней и на расстрел пошёл.
На последнем допросе, перед казнью, он сказал:
— О работе «Молодой гвардии» меня не спрашивайте, не скажу ни слова. И ещё запомните: советскую молодёжь вам никогда не поставить на колени — она умирает стоя. Это мои последние слова, и знайте, что я слишком презираю вас, чтобы продолжать разговаривать с вами дальше. Посоветую одно: не прячьтесь. Вас найдут всё равно! За всё ответите!
Это был он, мой сын.
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
Восемнадцатого марта, рано утром, сотни людей пришли в ровеньковский лес.
Красная Армия била гитлеровцев недалеко, около Боково-Антрацита. По дороге туда через Ровеньки торопились наши подкрепления: пехота, танки, артиллерия. Месть свершалась...
Фашисты упорствовали. В Ровеньках рвались их тяжёлые снаряды, горели и разрушались дома, низко стелился чёрный дым. Немецкие самолёты то и дело обстреливали город и дороги к нему.
В лесу около разрытых могил скопилось много народу. Немцы стали бить по лесу из пулемётов. Стоял треск и грохот, ревели моторы самолётов, с деревьев сыпались на нас срубленные пулями ветки. Мы падали на землю и опять поднимались. Никакие силы не могли заставить нас отойти от дорогих могил. Рыдали и причитали женщины. Плакали родные расстрелянных и чужие.
Лес был ископан могилами, и все могилы были забиты расстрелянными и замученными.
С болью и страхом и вместе с тем с тайной надеждой, что здесь Олега нет, ходила я между раскрытыми могилами, приглядывалась, искала своё родное дитя.
Вместе с Ниной и Олей мы узнали страшно изуродованных Любу Шевцову, Семёна Остапенко, Виталия Субботина и Дмитрия Огурцова.
Олега мы не нашли...
Девятнадцатого марта мы снова пошли в лес.
Только откопали первый труп, я без крика бросилась к нему. Я узнала Олега. Узнали его Нина и Оля.
Мой сын, которому не было ещё и семнадцати лет, лежал передо мной седой. Волосы на висках были белые-белые, как будто посыпанные мелом. Немцы выкололи Олегу левый глаз, пулей разбили затылок и выжгли железом на груди номер комсомольского билета.
Сын пролежал в могиле полтора месяца. Яма оказалась мелкая, тело почти не было засыпано землёй. Зато снег засыпал, а мороз сковал и сберёг тело сына. Даже через полтора месяца после смерти Олег был прекрасен. На его высокий лоб падали седые пряди волос, длинные чёрные ресницы оттеняли спокойную бледность его лица.
Мне помогали Нина и Оля и какие-то совсем посторонние люди. Мы перенесли сына в гроб и на салазках повезли в город, к госпиталю.
На дороге разрывались немецкие снаряды, и мы часто останавливались. А мимо гроба всё шли и шли вперёд наши подразделения.
21 сентября 1943
Моста — Кремль
Уважаемая Елена Николаевна,
Ваш сын КОШЕВОЙ Олег Васильевич в борьбе за советскую Родину погиб смертью храбрых.
За выдающиеся заслуги в организации и руководстве подпольной комсомольской организацией «Молодая Гвардия» и за. проявление личной отваги и геройства в борьбе с немецкими захватчиками ему Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза.
Грамота Героя Советского Союза Кошевого Олега Васильевича передаётся Вам для хранения как память о сыне, подвиг которого никогда не забудется нашим народом.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР —
(М. Калинин)
Какой-то боец с автоматом спросил меня:
— Мать, кого везёшь?
— Сына.
Боец приоткрыл крышку гроба.
— Какой же он молодой у тебя! — сказал он, и слёзы покатились по его лицу. — Ну ничего, мать, мы отомстим. За всё отомстим!
Мы похоронили Олега 20 марта 1943 года, часов в пять, в Ровеньках, на центральной площади. Рядом с Олегом поставили гроб Любы Шевцовой. Вместе с ними положили Виталия Субботина, Семёна Остапенко и Диму Огурцова.
Провожала их Красная Армия, народ. Над глубокой братской могилой красноармейцы приспустили боевые знамёна, оркестр играл похоронный марш, трижды был дан салют.
Вот к могиле подошла Нина Иванцова.
— Дорогой мой Олег! — начала говорить она, и голос её ясно слышался. — Олег, я выполню твоё завещание. Завтра я ухожу добровольцем в Красную Армию. Буду, как ты учил нас, о оружием в руках добивать фашистов, мстить за «Молодую гвардию». До победы не сложу оружия!
И прямо после похорон бойцы пошли в наступление.
Жестокий бой продолжался. Грохотала канонада. Наши самолёты с победным рёвом неслись в голубом небе на врага. Им не было счёта.
Догорали последние пожары.
И шла весна. Ласково грело солнце; снег, торопясь, таял. Бежали говорливые ручьи. Набухали почки на деревьях. Ясно голубело небо.
Вместе с Ниной ушли в армию Жора Арутюнянц, Толя Лопухов и Радик Юркин. И они славно дрались за Родину.
А вскоре получил заслуженную пулю дед — кулак, выдавший немцам Олега и большевиков в Боково — Антраците.
Нашли предателя организации Геннадия Почепцова, следователя Кулешова и Громова, слуг немцев. Их судили открытым народным судом и расстреляли как предателей.
СНОВА ВЕСНА
И вот снова весна. Пришла победа. Далеко за океанами гремит слава нашей Родины.
Снова задымили заводы, и весело перекликаются гудки донецких шахт имени Олега Кошевого, имени Сергея Тюленина, имени «Молодой гвардии». Друзья снова встретились, и они опять вместе в борьбе за счастье и новый расцвет Отчизны.
Колосятся хлеба на бескрайних колхозных полях. Снова слышится смех детворы, и солнце отражается в светлых окнах наших школ и университетов.
Много матерей потеряло в те страшные годы своих детей, и меня роднит с ними общее всем нам страстное желание уберечь детей нашей Родины от новой войны, такой ненужной и жестокой.
Все эти годы, что прошли со дня гибели сына, меня поддерживали мои многочисленные друзья в нашей стране и за её пределами. Сколько писем идёт ко мне до сих пор, сколько добрых слов сочувствия и дружбы!
Тёплым словом благодарности хочется мне вспомнить нашу замечательную молодёжь и молодёжь зарубежных стран, коллективы предприятий и кораблей, учителей и учащихся, матерей и детей, всех тех, кто помнит и любит Олега и разделяет со мной мою скорбь.
Изменился сейчас Краснодон. В центре, возвышаясь над городом, стоит памятник героям — молодогвардейцам. А в саду нашего домика, перед окном Олега, пышно расцвела посаженная им когда-то яблоня. Она разрослась с тех пор. Её видно теперь издалека.
|