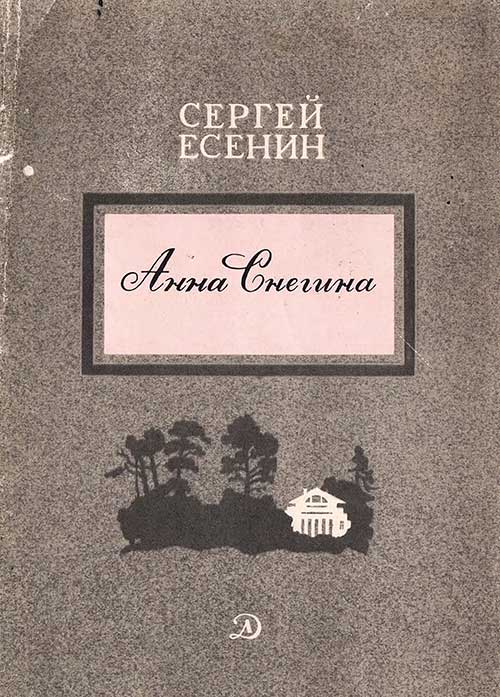Сделала и прислала Светлана Сибирцева.
_________________
Автобиографическая поэма Сергея Есенина, в которой переплетаются лирическая и эпическая темы, повествует о приезде уставшего от революционных потрясений поэта в родное село, с которым связано столько тёплых воспоминаний. Но и здесь он не находит былого покоя — и сюда докатилась буря перемен, люди стали другими, а его первая любовь Анна Снегина вышла замуж и теперь уезжает за границу... — С. С.
ТЫСЯЧА БЕССМЕРТНЫХ СТРОК
(О поэме «Анна Снегина»)
Зане созрел во мне поэт
С большой эпическою темой.
Сергей Есенин
Почти каждый в своей жизни рано или поздно переживает минуты духовного озарения, когда волнующе-зримо встают в памяти живые картины прошлого, особенно те незабываемые мгновенья, когда в сердце вспыхивает впервые светлый огонь любви; или те, едва ли не самые счастливые дни, когда наиболее полно чувствуешь ты кровное единство с родной землей, которая тебя породила, поставила на ноги, и тогда открывается с наибольшей ясностью та истина, что судьба твоя с первых сознательных шагов неотделима от судьбы народной.
В эти взволнованно-светлые минуты бытия ты готов без колебаний отдать Родине, народу все самое дорогое, что у тебя есть, чем ты один лишь вправе распоряжаться: твоя любовь и жизнь.
Вместе с тем, как это порой ни прискорбно осознавать, далеко не каждый способен рассказать обо всем виденном и пережитом лично другим так, чтобы это твое, личное, стало для миллионов соотечественников, для людей других стран и наций как бы их жизнью, их радостью и болью, их судьбой и надеждой.
Со всей определенностью следует особо подчеркнуть, что только глубоко национальный художник способен через себя, через свое авторское «я», мир своих мыслей и чувств раскрыть характер своего народа и выразить пафос своего времени.
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы.
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель;
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня...
Сколько гроз отшумело над родиной Пушкина за прошедшее столетие! Сколько исторических потрясений — и каких! — пережила Россия с той поры, когда в памяти сердца поэта, в далекой южной ссылке, за тысячи верст от его Петербурга, впервые так явственно обозначилась Пушкину судьба его героя, родившегося «на брегах Невы». Тогда-то. вдалеке от шумной светской жизни, от первых литературных успехов и встречи со славой, вдали от лицейских друзей, в которых было так много характерного, онегинского, зажили самостоятельной жизнью бессмертные строки «Евгения Онегина», покоряющие нас и сегодня естественностью и простотой.
Спустя сто лет, по-пушкински, «легко» и «просто» впервые зазвучали в русской литературе другие, знаменитые ныне, стихи:
Село, значит, наше — Радово,
Дворов, почитай, два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места.
Богаты мы лесом и водою.
Есть пастбища, есть поля.
И по всему угодью
Рассажены тополя...
Они были рождены памятью сердца поэта «другой судьбы», за тысячи верст от его родных «рязанских раздолий», и так же, как пушкинские, — под звездным южным небом.
* * *
Сентябрь 1924 года. Есенин предпринимает поездку на Кавказ, вторую в своей жизни. Он еще не знает, что на этот раз пробудет здесь почти полгода; что эта поездка на юг станет как бы его, есенинской, болдинской осенью.
Здесь Есениным будут написаны многие его «маленькие поэмы»: «Письмо к женщине», «Русь уходящая», «Русь бесприютная», «Письмо деду», «Ответ», «Стансы», «Метель», «Весна», «На Кавказе», «Поэтам Грузии», «Батум» и другие. «Баллада о двадцати шести», поэма «Цветы», стихи из цикла «Персидские мотивы»; здесь будет создана лучшая, «вершинная» поэма — «Анна Снегина». В Баку, Тифлисе, Батуме Есенин впервые опубликует двадцать семь своих новых произведений. Все это — за полгода! Если бы за этот короткий срок была написана лишь одна поэма, подобная «Анне Снегиной», то и тогда это, естественно, вызвало бы наше восхищение и преклонение перед талантливостью ее автора. Создать в такие сжатые сроки такие поистине классические произведения мог только гениальный художник.
Трудно представить то волнение, которое испытал Есенин, когда держал в руках рукопись только что оконченной поэмы «Анна Снегина», на последней странице которой была обозначена дата ее рождения: «Январь 1925. Батум».
Поэма была напечатана в четвертом номере «Красной нови» за 1925 год. «Радостный он пришел ко мне с номером журнала, еще пахнущим типографской краской, — вспоминает жена поэта Софья Андреевна Толстая-Есенина. — Раскрыл журнал и начал читать:
Село, значит, наше — Радово,
Дворов, почитай, два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места...
И прочитал... всю поэму. Я сидела не шелохнувшись. Как он читал!»
В своих комментариях к поэме она же подчеркивает: «Анна Снегина» в значительной степени автобиографична. В ней определились некоторые моменты из личной биографии поэта, и революционные события в Петрограде, и в деревне, очевидцем и участником которых был сам Есенин».
Об обстановке в дни революции в родном селе поэта — Константинове — рассказывает сестра поэта Е. А. Есенина:
«1918 год. В селе у нас творилось бог знает что.
— Долой буржуев! Долой помещиков! — неслось со всех сторон.
Каждую неделю мужики собираются на сход.
Руководит всем Мочалин Петр Яковлевич, наш односельчанин, рабочий коломенского завода. Во время революции он пользовался в нашем селе большим авторитетом. Наша константиновская молодежь тех лет многим была обязана Мочалину, да и не только молодежь.
Личность Мочалина интересовала Сергея. Он знал о нем все. Позднее Мочалин послужил ему в известной мере прототипом для образа Оглоблина Прона в «Анне Снегиной» и комиссара в «Сказке о пастушонке Пете».
В 1918 году Сергей часто приезжал в деревню. Настроение у него было так же, как и у всех, — приподнятое. Он ходил на все собрания, подолгу беседовал с мужиками».
В пейзаже поэмы, лирических сценах «Анны Снегиной» также, по-своему, отразились константиновские впечатления поэта. «За церковью, у склона горы, на которой было старое кладбище, — вспоминает младшая из сестер поэта — А. А. Есенина, — стоял высокий бревенчатый забор, вдоль которого росли ветлы. Этот забор, тянувшийся почти до самой реки, огораживавший чуть ли не одну треть всего константиновского подгорья, отделял участок, принадлежавший помещице Кашиной Л. И., имение которой вплотную подходило к церкви... Л. И. Кашина была молодая, интересная и образованная женщина, владеющая несколькими иностранными языками. Она явилась прототипом Анны Снегиной, ей же было посвящено Сергеем стихотворение «Зеленая прическа...».
Конечно, Л. И. Кашина явилась для поэта лишь одним из прототипов его героини. После революции жизнь ее сложилась совершенно по-иному, чем судьба Анны Снегиной.
Сын Лидии Ивановны, Георгий Николаевич Кашин, рассказывает, что в 1917 году его мать «передала свой дом в Константинове крестьянам, а сама стала жить в Белом Яру, в усадьбе на луговой левой стороне Оки, выше Константинова... Сергей Есенин не раз бывал в Белом Яру. В двадцатые годы усадьба сгорела... В 1919 году Лидия Ивановна прочно обосновалась в Москве. Работала переводчицей, машинисткой и стенографисткой».
И еще: следует подчеркнуть особо, лишь «на расстоянии» после того, как Советская власть прочно утвердилась в русской деревне, открылась поэту великая правда Ленина. Характерна в этом отношении одна из «ключевых», кульминационных сцен «Анны Снегиной», когда радовские мужики настойчиво «пытают» своего земляка, героя поэмы, о самом главном и насущном для них в революции:
«Скажи:
Отойдут ли крестьянам
Без выкупа пашни господ?
Кричат нам,
Что землю не троньте,
Еще не настал, мол, миг,
За что же тогда на фронте
Мы губим себя и других?»
И каждый с улыбкой угрюмой
Смотрел мне в лицо и в глаза,
А я, отягченный думой,
Не мог ничего сказать.
Дрожали, качались ступени,
Но помню
Под звон головы:
«Скажи,
Кто такое Лепин?»
Я тихо ответил:
«Он — вы».
«Он — вы». Это и ответ героя «Анны Снегиной» крестьянам, и, в еще большей степени, ответ поэта самому себе. Это великое открытие поэтом для себя сути, существа Ленина, народности его революционного дела, его бессмертных идей.
Ленин, большевики впервые в истории крестьянской Руси посмотрели на «мужика» как на единственно реального и надежного союзника рабочей России в пролетарской революции. Рот что приводит Есенина вместе с трудовой крестьянской Русью к правде Ленина, к новому революционному берегу.
Едва ли не первым в мировой поэзии именно Есенин рассказал об объективном, исторически закономерном пути трудового крестьянства к пролетарской революции.
Октябрь в деревне главная тема «Анны Снегиной».
С революционными событиями 1917 года самым тесным и непосредственным образом связана судьба ее главных героев: помещицы Анны Снегиной, весь хутор которой во время революции крестьяне «забрали в волость с хозяйкой и со скотом»; крестьянина-бедняка Оглоблина Прона, борющегося за власть Советов и мечтающего побыстрее «открыть коммуну в своем селе»; старика мельника и его жены — доброй, ворчливой хлопотуньи; рассказчика-поэта, земляка Прона, вовлеченного революционной бурей в «мужицкие дела». Отношение Ксенина к своим героям проникнуто глубочайшим лиризмом и нескрываемой. тревожной озабоченностью за их нелегкие судьбы:
Я думаю:
Как прекрасна
Земля
И на ней человек.
И сколько с войной несчастных
Уродов теперь и калек!
И сколько зарыто в ямах!
И сколько зароют еще!
И чувствую в скулах упрямых
Жестокую судоргу щек.
В отличие от первых произведений. воспевающих преобра жепную крестьянскую Русь как единое целое, в «.Анне Снеги ной» поэт показал разных «мужиков»: крестьяне труженики, особенно деревенская беднота, горячо приветствуют Советскую власть и идут за Лениным; есть среди крестьян и такие, которых, по глубокому убеждению Прона, «надо еще варить»; есть закоренелые собственники, вроде «отвратительного малого» — возницы; есть крикуны и бездельники, как Лабутя, ищущие в революции «легкой жизни».
По-разному воспринимают ломку старых устоев и другие герои поэмы.
Анна Снегина, когда-то мечтавшая вместе с юным поэтом о славе, выбита революцией из привычного уклада помещичьей жизни. На что-то надеясь, она отправилась искать счастья на чужбину, но надежды растаяли и осталась только мечта об утраченной родине:
...Я часто хожу на пристань
И, то ли на радость, то ль в страх,
Гляжу средь судов все пристальней
На красный советский флаг.
Теперь там достигли силы.
Дорога моя ясна...
Но вы мне ио прежнему милы.
Как родина и как весна...
Долгое время об «Анне Снегиной» было принято говорить только как о лирической поэме, хотя очевидно, что источник ее художественной силы не только в глубокой лиричности, но и в эпической масштабности изображаемых событий.
Герой поэмы объединяет ее эпическое и лирическое течение в единое художественное целое. Взволнованный рассказ-воспоминание о юношеских встречах «с девушкой в белой накидке», о неожиданном свидании с Анной в «радовских предместьях» в дни революции, о ее письме «с лондонской печатью», полным тоски по родине, во многом определяет лирическую тональность поэмы, усиливает ее драматизм.
Последняя встреча героя поэмы с Анной Снегиной происходит «па расстоянье», для нас как бы незримо. Но от этого значение ее нисколько не снижается, а даже наоборот — возрастает, становится заглавно-ключевым.
Встреча эта открывает нам, в казалось бы уже хорошо знакомом но предыдущим главам лике и характере Анны Снегиной, едва ли не самое главное и существенное, а именно: чувство родины, которым до краев наполнена ее исстрадавшаяся душа. Чувство это помогает нашей героине сохранить себя как личность, при всех ошибках и заблуждениях, — личность, достойную самого искреннего, живого соучастия к ее судьбе, сложившейся в годы революционных потрясений столь трагически-печально.
В самом деле, еще раз вдумаемся в строки «лондонского» письма пашей героини, по «легкости» слога поначалу, казалось бы. таком «беспечном». Оно не только проникнуто горьковатыми. словно полынь, раздумьями-воспоминаниями о безоблачно-счастливых днях юности, но и наполнено мудрым прозрением будущего России. Вместе с тем в нем суровая, бескомпромиссная оценка своей собственной жизни: «Теперь там достигли силы. Дорога моя ясна...»
В путях и перепутьях по чужим землям и весям Анна Снегина не растеряла, не утратила в сердце главного — верности Родине.
Неотступная мечта хоть на мгновенье оказаться рядом с Родиной в чужой далекой стране приводит нашу героиню в порт, на пристань. Цель одна, единственная. Еще раз ощутить волнение и тревогу от встречи с родиной, с живой ее частицей— входящим в гавань пароходом из Советской России.
Конечно, все не так просто! Есенин прекрасно это сознает. Красный флаг с серпом и молотом, на который с каждым разом «все пристальней», со скрытой надеждой, смотрит Анна Снегина, и радует ее как знак Родины, и вместе с тем по-прежнему еще и страшит.
Это — естественно. Нашей героине памятно все то, что опа лично пережила на родине, в дни революции. Хотя она тогда и не ответила на прямой вопрос, обращенный к ней:
«Скажите.
Вам больно, Анна,
За ваш хуторской разор?»
Но как-то печально и странно
Она опустила свой взор.
Это «странное» молчание было вызвано не только невосполнимыми личными утратами и потерями. Несомненно, есть здесь и еще одно, немаловажное обстоятельство. Как умный, честный, по-своему проницательный человек, Анна Снегина где-то в глубинах своего сознания чувствует и другое: историческую справедливость и неизбежность народного восстания. Это прозрение позволит ей позже, в эмиграции, преодолеть «обиды» на Советскую власть, стать мудрее, демократичнее и, что особенно поучительно, ранее других соотечественников, оказавшихся «на том берегу», осознать ту истину, что в годы революции Россия не пропала, не «сгибла», а возродилась и «достигла силы», что России Иронов Оглоблиных— России с красным советским флагом отныне открыт светлый путь в будущее.
С каждым годом эта новая Россия становится для Анны Снегиной все ближе. Мечты, думы об этой, казалось бы, навсегда утраченной и вновь обретенной родине — теперь, пожалуй. единственное, что етце как-то согревает душу нашей героини и удерживает ее на этой грешной земле. Трагизм и драматизм судьбы Анны Снегиной, как личности незаурядной, все время нарастает. Все яснее она осознает, что ей практически нет возврата в прошлое. Все более недоступно-далекими становятся для нее родные «радовские предместья»: там кипит иная жизнь. Оттого то так настойчиво ищет опа любого случая, любой зацепки в окружающей действительности, которые хотя бы на время поддержали ее морально и укрепили духовные связи с родиной.
Вот почему особенно дорого ей все то, что напоминает о России: вот почему, видя судно под советским флагом, она не в силах скрыть своих волнений; вот почему в минуты душевного одиночества она настойчиво пробуждает в своей памяти. как последнюю надежду, мечту-воспоминание о юном поэте, который так «пылко» был когда-то в нее влюблен и который, оказывается, по его собственному признанию, навсегда сохранил это чувство, несмотря на все превратности судьбы:
Когда то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет.
И девушка в белой накидке
Скатала мне ласково: «Нет!»
Далекие, милые были.
Тот образ во мне не угас...
Мы все в эти годы любили,
Но мало любили нас.
Теперь на чужбине для Анны Снегиной все роднее п ближе становится именно образ этого человека, любовь которого она в те далекие годы отвергала как бы шутя, да и позднее, когда эта любовь могла бы вспыхнуть «вторым огнем», постаралась, как ей казалось в ту пору, «мудро» ее погасить.
Да, сложен мир человеческих отношений, сложны, порой почти просто логически не объяснимы стихийные порывы людских сердец, движения наших душ. временами таких странных и почти неуправляемых. Вот и Анна Снегина. узнав, что человек, который был в нее влюблен, жив, что он и сегодня в России. отправляет на родину взволнованное письмо. С надеждой, вверяя бумаге «всю грусть» своих слов. опа. быть может впервые, решается сказать ему открыто, что и ей тоже многое памятно и дорого:
Гам часто мне снится ограда.
Калитка и ваши слова.
А главное, сказать ему. что он значит для нее. особенно теперь:
Но вы мне по-прежнему милы,
Как родина и как весна.
Конечно же, и мы, да и сама Анна Снегина, прекрасно понимаем, что такое письмо прежде всего было необходимо для нее лично. Оно как якорь спасения ее души, каждая eго строка сокровенная исповедь перед близким человеком, перед своей совестью и прежде всего перед Родиной, которую опа любит до боли сердечной и которую в силу классовых предрассудков покинула, к сожалению, в дни революции.
Что же касается героя поэмы, то он к словам старого мельника о письме, которое тот почти два месяца тому назад «приволок» для него с почты, относится поначалу несколько иронически: «Конечно! Откуда же больше и ждать!» Но вот письмо прочитано. Открытость сердца Анны Снегиной, ее исповедальный рассказ, наконец, явно неожиданное признание, что отныне образ его неотделим для нее от образа весны, образа Родины. все это невольно заставляет нашего героя многое вспомнить и как бы пережить заново. Он понимает: такие письма не пишутся случайно, «беспричинно». От равнодушия, с которым он поначалу воспринял лондонское послание, не осталось и следа. Перед ним волнующе-зримо встала прекрасная нора юности: живые, озаренные картины тех солнечных дней на какое то мгновенье отогрели его устало-одинокую душу, и все. вплоть до мелочей, окружающих его теперь в радовских местах, как-то само собой явственно напомнило ему то дало кое время, когда все казалось таким прекрасным:
По-прежнему с шубой овчинной
Иду я на с вой сеновал.
Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим взглядам
Погорбившийся плетень.
Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет.
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»
Далекие милые были!..
Тот образ по мне не угас.
Мы все в эти годы любили.
Но, значит,
Любили и нас.
Поэма закончена. С нескрываемой грустью расстаемся мы с героями Сергея Есенина, которых за это время успели не только хорошо узнать, но и искренне полюбить, как почти живых, реальных людей, наших добрых «знакомых незнакомцев». Что там говорить: душа наша прикипела теперь к ним навсегда. О них мы будем охотно вспоминать и рассказывать. И что еще весьма примечательно: после встречи с героями поэмы «Анна Снегина», после всего того, что мы пережил и вместе с ним, мы начинаем как-то более пристально вглядываться в себя, в прожитые нами годы; мы чувствуем, как окрыленное становится у нас на душе.
Неодолимо притягивает нас сердечная доброта есенинских героев, их честность, мужественность, любовь и гражданская верность Родине.
Правда, нам так и не дано знать, получит ли Анна Снегина ответ из России на свое письмо, в котором столько женского достоинства и чистоты, столько красоты женской души, что, читая его. вспоминаешь невольно знаменитое письмо пушкинской Татьяны к Онегину. Наконец, не суждено нам узнать и того: будет ли Анна Снегина снова писать своему радовскому адресату. Скорее всего, нет! Всё, что ей было необходимо сказать, она уже сказала. Повторяем: поэма завершена автором, и завершена гениально просто и мудро.
Сколько зримых, конкретно-исторических событий Октябрьской эпохи и прежде всего непримиримой классовой борьбы в русской деревне, сколько общечеловеческого, вечного, что веками составляло суть духовной и плотской жизни рода людского и что продолжает волновать нас всех и каждого, смог вместить Есенин в характеры, поступки, а точнее в сложные, драматические противоречивые судьбы своих главных героев и прежде всего — Анны Снегиной. Он наделил их глубоко индивидуальными, неповторимыми чертами. Каждый из них живет на страницах поэмы своей жизнью. У каждого в сердце — своя любовь; каждый из них по-своему видит красоту мира и всей душой предан России.
* * *
Поэзия ведет вечный бой за Человека!
Великие художники — всегда великие гуманисты. Как не гасимый огонь, проносят они через века свою неколебимую любовь и веру в Человека, в то, что будущее его светло и прекрасно. По своей творческой сути, но своим убеждениям и идеям они великие мыслители и революционеры духа; они постоянно и настойчиво вслушиваются в биение народного сердца, в могучее дыхание своей родины, чутко улавливая при этом нарастающие раскаты новых революционных бурь и потрясений. Все это и делает их позицию бессмертной и вечной. Таков безымянный автор «Слова о полку Игореве», таков наш Пушкин, Лермонтов и Некрасов, наш Маяковский и Блок, таков Сергей Есенин...
Ныне становится все очевиднее, что Есенин в годы революции, находясь в постоянных, тревожных раздумьях о будущем «полевой» Руси, о том, «куда несет нас рок событий?», был предельно обеспокоен завтрашним днем всего человечества. Ему, как когда-то Льву Толстому из Ясной Поляны, из своего «знаменитого села» Константиново открывался и проглядывался до самых дальних далей весь современный окружающий его мир, в вечном борении человеческих страстей, непримиримости добра и зла, света и тьмы, богатства и нищеты, мир, охваченный революционной октябрьской бурей. Лик этого мира встает перед нами зримо в бессмертных строках классической поэмы Сергея Есенина — «Анне Снегиной».
Ю. Прокушев
|