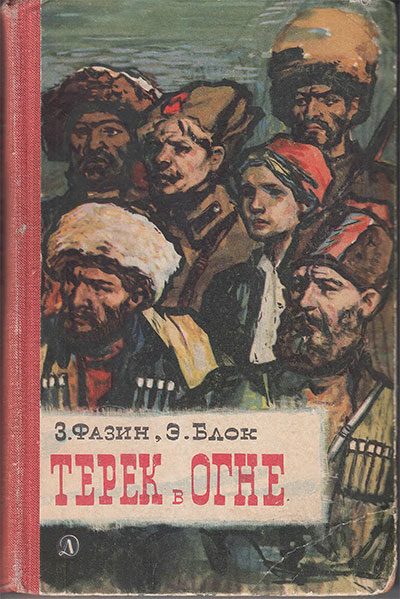Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ КНИГИ
Стремительно несётся с северных склонов Кавказского хребта река Терек. По её имени издавна назван Тереком обширный край, населённый многочисленными народностями. В горах, предгорьях и долинах с незапамятных времён раскинулись селения осетин, чеченцев, ингушей, кабардинцев, балкарцев и других горских народностей. Царизм беспощадно эксплуатировал горцев, лишал земли, держал в невежестве и бесправии, натравливал друг на друга. Властвовал на Тереке до революции наказной атаман Терского казачьего войска. Но вот пришёл 1917 год. И всколыхнулся буйный Терек, Драматичны, полны острых схватор и конфликтов события, о которых рассказывается в книге «Терек в огне», Перед читателем проходят картины февральских и октябрьских дней на Тереке, Но это не историческая хроника; повесть имеет свой сюжет и своих рероев, только герои эти в большинстве взяты из самой жизни.
Герои повести — это те, кто в трудном и памятном 1917 году самоотверженно шёл на бой с классовым врагом и стоящими за ним тёмными силами прошлого. В центре книги — образ Сергея Мироновича Кирова. Из повести встаёт картина, как он и другие терские большевики боролись за победу советской власти на Тереке.
Повесть написана писателем 3. Фазиным при участии Э. Блок (воспоминания, документы), члена КПСС с 1904 года. В ряде событий, описываемых в книге, Э. О. Блок принимала непосредственное участие.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава первая. Атаман Караулов 3
Глава вторая. Обоз с кукурузой 23
Глава третья. Как Костриков стал Кировым 40
Глава четвёртая. Старики хотят знать 58
Глава пятая. Безумный день 75
Глава шестая. В городе Грозном 97
Глава седьмая. Господин Топа откровенничает118
Глава восьмая. Дикая дивизия 140
Глава девятая. Стычка у Карабулакской 161
Глава десятая. Штурм вершины 187
Глава одиннадцатая. Полк уходит 212
Глава двенадцатая. Разгон Совета 232
Глава тринадцатая. У чёрной пропасти 254
Глава четырнадцатая. Братство — дело святое 276
Глава первая. Атаман Караулов
— Последние известия! «Терек» на завтра! — кричали вечером мальчишки на улицах Владикавказа. — «Терек» на завтра! Кому «Терек»?..
Самая бойкая, главная улица города — старинный, пронизанный солнцем бульвар. Укрытые в тени лип скамейки с утра до поздней ночи переполнены. Тут смеются, плачут, спорят. И слышен говор почти на всех языках народов и племён, населяющих обе стороны Кавказского хребта. А хребет — вот он, перед глазами, величественный и многоглавый. Город лежит у его северного подножия, и бесконечные цепи синеватых снеговых вершин ясно видны с бульвара.
Но мало кто тут ими любуется, пршшкли люди к этим изломанным линиям горных кряжей и почти не замечают их.
На бульваре в тот вечер публика больше толковала о событиях в Петрограде, о войне, о том, что во Владикавказе и вообще в Терском крае много раненых с фронта и что Россию впереди ждут необыкновенные потрясения.
Газету раскупали охотно, и никого не удивляло, что завтрашний номер выпускается в продажу накануне вечером. К этому тоже привыкли. Было бы новостей побольше да поинтереснее. В стране — революция!..
На скамьях под липами в пёстрой мешанине мужских и женских нарядов бросалось в глаза обилие армейских мундиров, но больше — черкесок. Щеголяли в них, однако. не горцы — этих встретишь чаще на базаре или около лавок, а здесь так называемая чистая публика. В туго перехваченных белых и чёрных черкесках красовались главным образом офицеры гарнизона из казаков. Жарко горели на груди у них начищенные до блеска газыри. С пояса свисали длинные кинжалы в дорогой оправе.
Сергей Миронович шёл не серединой бульвара, а протоптанной пешеходами дорожкой в газоне с наружной стороны ограды.
Он спешил, а здесь, за листвою деревьев, было больше шансов остаться незамеченным, избежать встреч со знакомыми, которых у него так много в городе.
Над Владикавказом синел свежий, беззвёздный вечер. Днём было жарко, по-июньски невыносимо душно. Но едва зашлю солнце, с ближних снеговых вершин хребта сразу потянуло прохладой и слышнее стал, как всегда к вечеру, шум быстрых вод протекающего среди города Терека.
Он, Терек, непокорный и буйный, воспетый в легендах и сказках, и дал имя газете, которую мальчишки продавали сейчас на бульваре.
— «Терек» на завтра! — не затихал их крик.
Всё-таки эти пронырливые ребята заметили сквозь
листву обнажённую голову и дымящую трубочку Сергея Мироновича; заметили и бросились наперерез с криком:
— Дядя Кира! Дядя Кира идёт!..
Пришлось остановиться.
Дорогу преградили двое — лет по тринадцати, не больше. Чумазые, шустрые. Один в низко нахлобученной военной австрийской шапке с козырьком (наверно, от пленного досталась). Другой — вихрастый к чёрный, как негритёнок.
— Ну что, Рокамболи? — весело спросил у них Киров. — Как расходится наша газета? Что новенького7
— Ничего себе... идёт дело, — важно отвечал паренёк в австрийской шапке, — Солить не придётся, — он показал па торчащие у него и у дружка пачки газет, — «Терек» берут.
А чернявый сказал задиристо:
— Берут-то берут, только некоторые покупатели говорят: сенсациев маловато.
— Маловато? — удивился Киров. — Да ну?
— Настоящих сенсациев, вот каких маловато, — объяснил паренёк. — Какие прежде бывали. Ну, скажем, землетрясение, убийство из ревности, драка с резнёй, ограбление почты...
— Что вы, ребятки! — рассмеялся Сергей Миронович. — Только что вся наша жизнь перевернулась! С февраля в России нет царя! В стране уже четыре месяца революция! Треснула и рассыпалась одна из самых больших в мире самодержавных империй! А вам ещё каких-то «сенсациев» подавай!
Он трепал ребят по плечу, и те тоже смеялись, всё наступали на него; и, конечно, больше в шутку, чем всерьёз, — они любили разговаривать с дядей Кирой — требовали «сенсациев». Они знали — ведь это он делает газету «Терек», не раз видели его в типографии у печатной машины, в конторе, в редакционной комнате за большим столом, где стоит банка клея и лежат длинные ножницы. Сергей Миронович тоже хорошо знал этих мальчишек и, когда не спешил, заводил с ними весёлые разговоры, рассказывал интересные истории. Ребята не оставались в долгу: останавливали на улице или заходили в редакцию и всегда сообщали что-нибудь новое. И он догадывался: сегодня у них тоже припасена новость, иначе они не заговорили бы о сенсациях.
До этих мальчишек всё быстро доходило.
— Знаете, одна сенсация будет, ох сенсация! — выпалил чернявый паренёк. — Драка с резнёй!..
— Что-о-о? — Сергей Миронович схватился за трубочку. — Какая такая драка с резнёй? Кого с кем?
— Ты не лезь первый! — оттолкнул дружка малыш в австрийской шапке. — Я расскажу.
— Нет, я!
— А я больше тебя знаю! Я весь разговор слыхал.
— Врёшь! Ничего ты не слыхал! Я около самого прапорщика стоял. Вот я, а вот он...
— И я около стоял! Не ври тоже!
В азарте мальчишки чуть не подрались. Сергей Миронович урезонил их:
— Так нельзя, милые! Вы же газетчики, серьёзные ребята! Пусть кто-нибудь один расскажет... Кто из вас старше?
— Я, — выступил вперёд парень в австрийской шапке. — Я летом родился, а он зимой. Лето раньше зимы.
— Это действительно, — подтвердил Сергей Миронович, — Зима после лета.
Пришлось чернявому смириться, и по праву старшинства разговором завладел его напористый приятель.
2
Сняв зачем-то шапку, он начал так;
— Гостиницу Ахмедова знаете? Стояли мы там утречком и слушали музыку. У Ахмедова чуть свет уже оркестр бацает... Ох, весёлое заведение! Все говорят!
Сергей Миронович хорошо знал город, он прожил тут много лет и по обязанности сотрудника газеты, особенно в ту пору, когда был простым репортёром, иногда бывал в гостинице Ахмедова, где довольно часто случались всякие происшествия. Гостиница помещалась на Надтеречной улице и до революции пользовалась дурной славой. Сейчас в номерах обитали офицеры местного гарнизона, заезжие спекулянты-дельцы, артисты. Внизу, на первом этаже, в ресторане, днём и ночью шло веселье.
Слоняясь без дела по городу, мальчишки забрели на эту улицу. И, стоя у раскрытых окон ресторана, увидели и услышали нечто такое, что глубоко взволновало и встревожило Сергея Мироновича.
Какой-то пьяный прапорщик (по уверениям старшего паренька и его черномазого сотоварища, всё-таки то и дело встревавшего в беседу, назывался этот офицерик Муштаковым) вёл дикие речи в ресторане. Он говорил, что скоро с революцией будет покончено и всех, кто из подполья вышел, повесят на уличных фонарях. И опять воцарится на престоле Николай II. И тогда населяющим Терек «инородцам» покажут, где раки зимуют.
— Всех их в Турцию надо выселить! — разорялся Муштаков. — Они все абреки — грабители! А ещё требуют себе земли и свободных прав!
В ресторане стоял и всё это слышал хозяин гостиницы Ахмедов, сам горец. Он заспорил с прапорщиком. Оба загорячились, заорали, даже схватились за оружие, но драться в помещении им не дали, и бородатый Ахмедов ушёл к себе наверх, чёрный от злости. А Муштаков продолжал пить в своей компании офицеров. И был среди них один щеголеватый казак из свиты терского атамана Караулова.
Он сказал, утешая прапорщика:
— Ты не горюй, братец, и не болтай лишнего тоже. Нынче времена такие, что надо дипломатию соблюдать. Лишнего не говори, а дело своё делай, понял?
— Дело? Нет, брат! К чёрту дипломатию! — не утихал прапорщик.
Хотя около него стояла тарелка с таким вкусным шашлыком, что даже на улице пахло, он не притрагивался к еде, только пил много, и всё водку. И ругался последними словами. А офицер из карауловской свиты тоже выпил много и потом разговорился .и объяснил, какое дело, на его взгляд, должны сделать истинно русские патриоты, чтоб не погибла Россия. Он сказал:
— Хотя нашего казачества на Тереке меньше, а горцев больше, сила оружия за нами. Истинно говорю. А власть — что ж, сегодня одна, завтра другая. Поскольку атаман наш батюшка Караулов Михаил Александрович, дай бог здоровья, стоит за свободу и Временное правительство, должны и мы пока стоять за это самое. Истинно... Но горцам надо сказать: «Стоп! Ходу вам, чёртово племя, не будет! Не рассчитывайте! Дадим по зубам!»
и грала музыка и порою всё заглушала. Но вот что ргб.чта услышали совершенно ясно:
Надо урок устроить этим горцам, проучить их маленько, особенно ингушей и чеченцев, — говорил офицер из свиты Караулова, — вот зто было бы дело, истинно говорю. Так проучить, чтоб не лезли, не думали, что свобода — для них!
— Оружия же у нас мало! — жалобился Муштаков. — Всё у вас, у казаков! А солдаты мои не пойдут! Им па митингах все головы позаморочили!
— Мы пока не можем с горцами задираться, — говорил карауловец с хитрой прищуркой, — Нам по уставу нельзя. Пока что... По крайней мере, на ближайшем этапе мы должны сдерживаться, понял? А вы-то вот, пехота, чего молчите? Вам-то что? Сегодня здесь на постое, завтра чёрт те где. Истинно же! Вы вот можете и должны действовать!
— - А как? Кто нас поддержит?
— Найдутся, голубок. Только начните...
К рассказу мальчишек о том, что говорил карауловец, Сергей Миронович прислушивался с повышенным вниманием. Прапорщик Муштаков, видимо, просто дурак: спьяну наболтает бог весть что. А вот слова офицера из свиты Караулова имели вес.
Караулов был комиссаром Временного правительства на Тереке и одновременно атаманом Терского казачьего войска. Слух;а у него, офицер, наверно, многое знал.
Как поняли ребята, этот подлый человек подбивал Муштакова и его собутыльников натравить «пехоту» на ингушей и чеченцев, часто наезжающих сюда с гор.
Аулы близко, но ничего там, в аулах, нет — одна нищета да дикость. Купить-продать можно только в городе. Тут и спички, и керосин, и ситец, и гвозди, а в ущельях лишь ветер свистит, как в пустом кармане. Вот и тянутся горцы сюда, тянутся... Карауловец изображал с издёвкой, как едут на арбах горцы в город, как торгуются на базаре, как коверкают в разговоре русский язык.
За столом, слушая кривляния карауловца, хохотали, а он всё пуще раззадоривался и уже откровенно говорил, что устроить этим «азиатам» хорошую взбучку не мешало бы, чтоб не поганили своим духом Владикавказ, сголицу терской казачьей земли, резиденцию атамана.
— А знаете, — говорил карауловец, — пока мы, дураки, дремлем, они не дремлют, ироды! Есть у нас кое-какие сведения. Эти инородцы оружием запасаются и готовятся весь Владикавказ вырезать. Они же нас люто ненавидят! Мы будто на их земле сидим! Господи! Наш Кавказ они своим считают! Ну что с ними делать?
Во Владикавказе уже больше недели находились на временном постое солдаты и офицеры двух стрелковых полков, возвращавшихся с Кавказского фронта на отдых в Центральную Россию. Офицеры разгульно пьянствовали, затевали драки. Солдаты рвались домой, в Россию, им осточертел Кавказ. И Киров знал, что именно их, этих заброшенных войной далеко от родных мест рязанских, тульских, самарских мужиков, окопавшиеся во Владикавказе черносотенцы подбивают на провокации против горцев.
Многие годы искусственно подогреваемой вражды к инородцам, особенно усилившейся за время войны, сказывались на настроении некоторой части солдат. На митингах они помалкивали, а между собой говорили:
«Чужие нам всё-таки зти туземцы! Шпионы все, надо быть. Продадут нас туркам ни за понюшку табаку».
Как догадывался Киров, в ресторане Ахмедова обрабатывали вчера офицеров именно этих полков. По словам мальчишек, карауловец уверял, что у него есть самые точные данные о разбойничьих замыслах горцев. В последнее время они провозят через Владикавказ оружие под видом обозов с кукурузой. Один такой обоз пройдёт по городу в ближайшее воскресенье.
— А что! — сказал Муштаков. — Остановим и проверим. Очень просто! Что за обоз, куда, зачем? Коли оружие — отберём! И всыплем этой черномазой братии так, что небу жарко станет! Очень просто!..
Замышлялось грязное, мерзкое дело. У Сергея Мироновича, когда он слушал рассказ мальчишек, сжимались кулаки. Он забыл про свою погасшую трубочку и теперь уже сам тормошил ребят:
— А что ещё говорил этот карауловец? Кстати, откуда вы его знаете?
Паренёк в австрийской шапке даже обиделся. Как же не знать этого типа? Он сопровождает Караулова на всех парадах.
— Не Селезнёв ли?
— Селезнёв! Селезнёв! Он самый!
Киров знал Селезнёва. Махровый черносотенец и авантюрист, отпрыск какой-то выродившейся княжеской семьи.
— Так что же он ещё говорил? Постарайтесь вспомнить, ребятки!
Чернявый паренёк вспомнил:
— Они как выходили из ресторана, то я слыхал, как Муштаков сказал: «Кровопускание надо». А карауловец сказал: «Вот именно! И не откладывайте в долгий ящик. Дело не ждёт!»
— Вот как! Подлец этакий! А про Караулова он что-нибудь говорил?
— Говорил, говорил! — подхватил малыш в австрийской шапке, — Сказал вот что: зараз атаман в Тифлисе, а приедет скоро. Он совещаться поехал. И за подмогой.
— За какой?
— Не знаю... Они мимо прошли, а мы у окна остались. Там у нас один официант знакомый, он нам когда куски пирога выносит, когда конфеток. Мы и остались ждать...
— Спасибо, ребята, — поблагодарил Киров мальчишек, — Новость вы мне сообщили в этот раз невесёлую!
— Драка с резнёй! Это будет сенсация, правда? — сказал чернявый, — Ух, начнётся!..
— Что ты! Мы не допустим, — покачал головой Киров, — Ни за что!..
— А как вы не допустите?
На это Киров не сразу нашёл что ответить. Он только повторил:
— Не допустим, ребятки. Ну, идите, а то в самом деле ещё останетесь с непроданными газетами. Уже поздно!
3
Шёл одиннадцатый час вечера, а нужды в фонарях не было. Стояли самые длинные дни конца июня, и даже сейчас кое-где на вершинах хребта ещё догорали багровые отсветы заката. Казалось, ночь ползёт к этим вер-
шинам из тёмных ущелий и всё равно ей не достичь их даже до утра. Киров шагал и всё поглядывал на вершины, любуясь удивительной игрой света и тьмы.
Он любил Терек, любил эти встающие за городом отроги хребта. Он знал их близко, ходил по ним. Нелегко там ходить, а жить — ещё труднее.
Эх, Терек, Терек!..
Сколько печальных песен о нём сложено! Сколько тут крови и слёз пролито! Когда же в этот суровый край придут мир и человечность? Свержение царской власти не принесло краю успокоения. Наоборот. Страсти всё разгораются!..
Киров шёл и обдумывал положение.
На Тереке назревали грозные события. Со времени свержения самодержавия Николая II прошёл не один месяц, и горцы, надеявшиеся на возврат некогда отнятых у них земель, теряли терпение. А вернуть эти земли было не просто — на них давно раскинулись казачьи станицы. Оттесняя горцев в ущелья, в глубь хребта, царские власти загородили горцам выход из этих ущелий кордонами казачьих станиц, превратив жителей этих станиц и горцев в извечных врагов. Плохо горцу, но нелегко и хлебопашцу, жителю станицы. В поле без винтовки не выйдешь. Горец без оружия в дорогу не пустится.
Не спи, казак, во тьме ночной Чеченец ходит за рекой.
А горянка в глухом ауле пела сыну-малышу свои песни. О том, как жили когда-то на приволье его предки, а потом пришли «гяуры» и всё забрали.
Киров бывал в станицах, забирался и в высокогорные аулы и знал, что там делается. Вражда обострялась с каждым днём. А Временное правительство и не думало как-то решать старый кровавый спор. Оно назначило Караулова своим комиссаром на Тереке, и только.
Рассказ мальчишек лишь подтверждал то, что Кирову было известно и ранее. Атаманский дворец Караулова во Владикавказе кишел провокаторами. До революции, когда во дворце сидел царский наместник генерал Флейшер, это был очаг мракобесия. Сейчас дворец — самое настоящее контрреволюционное гнездо, хотя сам
Караулов носит на черкеске красный бант и клянётся и верности революции.
— Э, да вот и сам атаман! Лёгок на помине, чёрт!
Кирова обогнала чёрная пароконная коляска на дутых шинах. Промелькнули лоснящиеся морды сытых лошадок, сутулая спина кучера на облучке и статно сидящая массивная фигура седока. Серая казачья папаха, белая черкеска и наброшенная поверх на плечи, несмотря на летнее время, чёрная доха без рукавов — для пущей солидности, видимо. Это и был Караулов, атаман Терского войска.
«Вернулся, значит!.. Куда это он?» — удивился Сергей Миронович, увидев, что коляска подкатывает к подъезду бывшей женской гимназии. Лошади остановились. Атаман соскочил и, придерживая рукой шашку, стремительным шагом вошёл в дом, в котором кое-где светились распахнутые окна.
В этом доме время от времени собирался владикавказский Совет рабочих и солдатских депутатов, возникший в первые дни революции. Киров именно сюда и направлялся. Он был членом исполкома Совета.
Заседания не предвиделось, иначе все этажи были бы ярко освещены. Наверно, у Караулова тут встреча с кем-то из исполкомовцев, иногда засиживающихся в здании до глубокой ночи.
Подъезд выглядел неказисто: заплёван, замусорен шелухой от семечек.
Длинный коридор на первом этаже был пуст, лишь в одной из боковых комнат слышались голоса. Киров заглянул туда. Десятка два мужчин и женщин, сидя на партах, слушали речь худощавого человека интеллигентного вида. Он был хорошо одет, его тонкую фигуру облегала чёрная тройка. Белая манишка, аккуратно повязанный широкий галстук на впалой груди. Короткая бородка удлиняла и без того вытянутое лицо этого человека. Н-о больше всего обращали на себя внимание его глаза — большие, горящие глаза подвижника.
— А-а! — приветственно поднял он руку, увидев Кирова, — Заходи, заходи!..
Многие обернулись, заулыбались Сергею Мироновичу. Он сделал знак — мол, не обращайте на мой приход внимания — и присел на свободную парту.
— Продолжай, Ной, и извини, пожалуйста, за опоздание, — сказал он оратору. — Задержался маленько... Поневоле...
Ной Буачидзе — так звали оратора. Вернее было бы сказать — лектора. Это был один из наиболее видных владикавказских большевиков, и сейчас он читал своим товарищам, тоже большевикам, лекцию о законах развития человеческого общества. Он рассказывал, как на смену одной эпохе приходила другая и как именно благодаря марксизму стали ясны скрытые пружины, двигающие человеческую историю.
Больше половины людей, сидевших тут, были рабочие; эти слушали лектора с особенным вниманием. Были в комнате и люди начитанные, с образованием, но и их увлёк рассказ лектора.
Тюрьма, каторга, ссылка, побег из мест ссылки, заочное осуждение на смерть, тайный переход границы и потом годы эмиграции — через всё прошёл этот человек, с виду такой «домашний», болезненный и тихий. Лоб у него был большой, красивый, резко очерченный густо-чёрной шевелюрой, очень белый, а под глазами темнели мешки. Говорил он быстро, с запальчивыми нотками, будто с ним кто-то спорил, смешно тряс при этом бородкой.
Люди знали, что в эмиграции, в Женеве, Ной встречался с Лениным. Приехал он во Владикавказ лишь недавно, в мае, и многие ещё хорошо помнили, как самоотверженно и храбро вёл себя Ной в революционные бурные месяцы 1905 года и после, когда жандармы стали его преследовать и травить, как собаку.
Среди сидевших в комнате большевиков он был самый старший по партийному стажу.
Не все, впрочем, тут были большевики. Соседкой Кирова оказалась смуглая черноволосая девушка, похожая на горянку. Она была сотрудницей той же редакции, где работал Киров, и ещё не состояла в большевистской партии. Считалась сочувствующей и аккуратно посещала лекции и беседы, которые устраивались по вечерам в этой комнате. Встречи местных большевиков происходили здесь почти каждый день.
Владикавказские большевики входили временно в объединённую городскую социал-демократическую
организацию, но часто собирались отдельно, на правах фракции. Днём работали как обычные рабочие и служащие. А с наступлением сумерек, позабыв о еде и отдыхе, даже после самого тяжёлого и утомительного дня всё равно приходили сюда хоть на минутку — поделиться новостями или, как вот сейчас, послушать очередную лекцию. Кроме Ноя Буачидзе, с лекциями и сообщениями иногда выступал Киров. Он тоже умел увлекательно рассказывать, но с ещё большим блеском ораторствовал на митингах. Узнав, что будет выступать Киров, народ валом валил на митинги, и редко кто не воздавал ему должное как хорошему оратору.
«Удивительно! — говорили о нём люди, — До революции сидел в «Тереке» тише воды, ниже травы. Писал, правда, отличные и смелые статьи, но как оратора его никто не знал. Никто и не подозревал в нём такого дара слова».
— Что в редакции, Сергей Миронович? — тихо спросила у него черноволосая соседка. — Вы оттуда?
— Да... просматривал вечернюю почту... А по дороге сюда узнал одну неприятную историю... Потом расскажу.
— Ой! — заинтересованно воскликнула соседка, — А что? Расскажите!
Он отрицательно покачал головой.
— Ну пожалуйста! — настаивала она шёпотом.
Сергей Миронович улыбнулся и приложил палец к губам.
— Тамара! — тоже шёпотом произнёс он. — Уважайтe лектора, тем более Ноя, он больной человек, ему нельзя сильно напрягать голос. Сидите тихо!..
Тамара с тяжёлым вздохом покорилась.
4
Вдруг он сам нагнулся к её уху.
— Слушайте, Тамара. Вы не откажетесь исполнить одну мою просьбу?
— Конечно, нет.
— Здесь в здании сейчас находится Караулов — я сам видел, как он подъехал. Походите по этажам и выясните, с какой целью и к кому он сюда прибыл. Только срочно, ладно?
У Тамары вырвалось: «А-а-а!», и на худощавом лице её появилось то выражение, какое бывает у человека, решившего, что он догадался, в чём дело.
— Вы задержались из-за Караулова?
— Нет...
— Ой, как не хочется уходить! — снова вздохнула Тамара, но медлить не стала.
Она легко соскользнула с парты и, шурша длинной юбкой, пошла к двери. Вслед девушке устремились укоризненные взгляды.
Когда она закрыла за собой дверь, Ной, внимательно поглядывавший на Кирова с момента его прихода — они были близкими друзьями, — вдруг прервал лекцию.
— Ты с какой-то новостью, Сергей, а? — обратился он к Кирову, — Я это чувствую, вижу по твоим глазам, — Он добавил шутливо: — Как ты знаешь, расстояние мне не помеха, я провидец.
— Ты не просто провидец, а великий провидец, — отозвался с улыбкой Киров. — Нет, пожалуйста, продолжай, продолжай!
— А почему у тебя такие глаза?
— Какие? Ной, что ты, в самом деле!..
В комнате уже смеялись, переговаривались. Люди: устали, им нужна была передышка. Пожилой усатый1 грузин с добродушным выражением лица, сидевший поблизости от Кирова, привстал, поглядел ему в глаза и сказал весело:
— Как врач могу констатировать: глаза возбуждён-, ные, зрачки расширены. Результат реакции на какой-то внешний фактор неизвестного порядка.
— Вот именно, дорогой Мамия, вот именно! — рассмеялся Сергей Миронович. — Неизвестного порядка. Очень точная формулировка. Но, товарищи! — Он хлопнул в ладоши, призывая к тишине, — Может, всё-таки дадим уважаемому лектору сперва закончить своё сообщение, а потом уже перейдём, так сказать, к злобе дня? Давайте, а?
Но сам лектор не согласился.
— История, — сказал Ной, — лишь служанка современности и всегда должна уступать злобе дня. Ибо сие — жизнь, сегодняшнее. А живём мы все сейчас только сегодняшним, то есть революцией. И она не ждёт!
— Хорошо, — тряхнул головой Киров, — Ну, слушайте, что я узнал по дороге сюда...
Тамаре не пришлось долго искать.
На втором этаже, в бывшей учительской, она увидела Караулова. Скинув с широких плеч доху, он расхаживал по комнате, постукивая каблуками высоких новеньких сапог. Тамара подумала с усмешкой: «Сшил в Тифлисе...»
Работая в газете, она, конечно, была в курсе всех городских новостей и знала, что атаман уезжал в Закавказье. Знала она и о пристрастии атамана к хорошо сшитым сапогам. В городе, когда он уехал, шутили:
«Караулов помчался в Грузию новые сапоги себе заказывать».
Атаман слыл не очень искусным политиком. Говорили, что в нём больше тщеславия, чем ума. Лишь в казачьей среде, до революции чуравшейся политики как огня и вообще мало разбиравшейся в ней, могла попасть в разряд «революционных деятелей» такая фигура.
Ещё до свержения старой власти Караулов попал в члены Государственной думы. Он слыл «образованным казаком», даже имел свои печатные труды по истории казачества и одно время редактировал журнальчик «Казачья неделя». И всё равно в этом человеке чувствовалось что-то солдафонское, тупое. С казачьей шашкой он не расставался, и казалось, она ему роднее всякой книги, хотя он и любил при случае выставлять себя поборником просвещения и передовых идей.
Став комиссаром Временного правительства на Тереке, он сразу махнул из есаулов в полковники. Верховная власть в крае находилась в его руках, но — так своеобразно сложилась обстановка — революция его возвысила, и она же лишала возможности пользоваться властью в полной мере. Урезывали эти права рабочие и солдатские Советы, разные комитеты и комиссии, а главное, тот дух вольности, который создавала, на взгляд Караулова, деятельность левых политических партий, особенно большевиков.
Он боялся их, Караулов; хоть и не показывал, а боялся. И в душе люто ненавидел.
Тамара стояла в коридоре у приоткрытой двери и слышала, как он говорил низким, отрывистым баском:
— Командование Кавказской армии желает порядка. Да-с! Твёрдого порядка! Кавказу грозит превратиться в нечто хаотическое. Следовательно, мы здесь, на Тереке, находясь в ближнем тылу действующих войск, не должны потворствовать этому всякими там -неорганизованными и недозволенными проявлениями свободы. Да-с!
В комнате за столом сидели и слушали тирады атамана два человека: тучный мужчина с густой тёмной шевелюрой и лысый старичок в военном кителе.
У тучного была необычная фамилия — Гамалея. Он был эсером и председательствовал в исполкоме городского Совета.
А старичок не занимал никакой должности, но в городе эту фигуру хорошо знали. До революции, давным-давно, за причастность к какому-то «эксу» — кажется, это было нападение на почту — он посидел в тюрьме. Потом работал в географическом обществе и печатал книжки про Терек. Одна его книжка, «В стране абреков», вышла в Петербурге с год назад и наделала много шуму. Киров разругал её в своей газете, назвал пошлой и лживой.
Теперь этот человек состоял при Гамалее чем-то вроде советчика. Он везде сопутствовал председателю, следовал за ним, как тень.
А Гамалея тоже считался человеком с прошлым. Говорили, не то он из политкаторжан, не то из политэмигрантов. Но человек, которому Тамара безгранично верила — Ной Буачидзе, — клялся, что ни на каторге, ни за границей он этого Гамалею не встречал и про такого не слыхал.
— Но что мы можем сделать, уважаемый Михаил Александрович? — говорил Гамалея сейчас атаману. — Мы тут все стоим перед неразрешимой проблемой. Горцы требуют земли, а ваши казаки отвечают — не дадим! Кто виноват, кто прав — поди разберись.
— Да, это вопрос тяжёлый, — Караулов опустил голову, — Шутка ли, отдавать то, что завоёвано кровью!
— Я и говорю — не шутка! Трудности огромные. Боюсь, как бы не разыгралась стихия.
— Какая стихия? — насторожился Караулов.
— А та самая, которую вы изволили только что назвать неорганизованными и недозволенными проявлениями свободы. А свободы без стихии не бывает, знаете ли.
— А кстати, — оживился старик и посоветовал Гамалее, — приведите господину атаману, что сказано про эту самую стихию масс.
— А-а! — заулыбался Гамалея. — Да, это кстати. Сейчас, сейчас...
Он вытащил из кармана потрёпанный блокнот, полистал сухими пальцами замусоленные странички.
— Стихия масс... Толпа... Народ... Вот послушайте, например, что сказано у Шопенгауэра. Сказано так: «У толпы есть глаза и уши и немногое сверх того; в особенности же она обладает крайне незначительной силой суждения и даже слабой памятью. Некоторые заслуги лежат совершенно вне сферы её понимания; другие она понимает и с восторгом приветствует на первых порах, но затем их скоро забывает...» Вот как написано-с!..
Полистав ещё блокнот, Гамалея продолжал:
— Или вот изречение другого мыслителя: «Толпа похожа на море — она или возносит вас, или пожирает, смотря по ветру...» — Гамалея поднял палец и торжествующе произнёс: — Сильно! Лучше про «стихию масс» не скажешь!
Он спрятал книжку и похлопал снаружи по карману с тем же торжествующим видом: вот, мол, где она, эта самая «стихия масс», — у нас вот тут. Не кто иной — мы держим её в руках, ибо я, Гамалея, принадлежу к партии, которая именно за эту стихию стоит.
И ещё говорил его взгляд:
«Вы боитесь этой стихии, атаман, она вас тревожит, А может, зря, а? Ведь можно всяко её повернуть. Стихия слепа!..»
Атаман хмуро морщился.
— Что ж делать?.. Стихия, конечно, опасна для нас. Это как палка о двух концах... Народ — он, конечно, того... всякое может...
— Не расстраивайтесь, атаман! — проговорил Гама-
лея с внезапной весёлостью, потирая руки. — Не так страшен чёрт, право. Что-нибудь сделаем, не пропад Россия! Всё в нашей воле, атаман. И Терек останется, каким был!..
«Ох ты! — негодовала за дверыо Тамара, — Торговаться приглашает, политикан!..»
Тамара не утерпела, с шумом захлопнула дверь и поспешила обратно на первый этаж.
5
— Там такие гадости говорят про народ! — рассказывала она вскоре своим товарищам. — Невозможно было слушать!
Ною так и не пришлось докончить лекцию. Сообщение Кирова о том, как человек из карауловского окружения подбивал в ресторане пьяных армейских офицеров напасть на горцев, возмутило всех, и не у одного Сергея Мироновича теперь были расширенные зрачки. Даже у степенного доктора Орахелашвили возбуждённо горели глаза.
— Мерзавцы! — ругался он. — Негодяи! Я бы этого подлеца арестовал как провокатора!..
Рассказ Тамары подлил ещё больше масла в огонь. Никто уже не сидел — вся комната была в движении.
— Пойдёмте наверх, — предлагали одни, — Устроим дикий скандал Караулову!
— А что мы ему скажем? — возражали более трезвые головы. — На каких-то мальчишек будем ссылаться? Это же смешно! Нужны факты!
— Какие там ещё факты? — горячился русоволосый человек, державший в руках фуражку железнодорожника с замасленным козырьком. — Не знаем, что ли, кто такой Караулов, чем занимается его атаманское благородие? Те мальчуганы-газетчики говорили чистую правду, я верю!
— А я бы за Гамалею взялась, — предлагала Тама-ра. — И за того старичка! С какой стати они такие гадости распространяют про народные массы?
Ной и Киров тем временем переговаривались в сторонке. Оба считали положение серьёзным. Терек может
взорваться, как пороховая бочка от малейшей искры. Ной только сегодня утром вернулся из Грозного, одного из самых крупных терских городов, и рассказывал, что там положение тоже напряжённое. Если Владикавказ окружён ингушскими и осетинскими селениями, то Грозный — в кольце чеченских аулов. А Грозный — главный пролетарский центр па Тереке. Ной ездил туда читать лекции и доклады рабочим нефтепромыслов, которыми этот город славится.
— Отношения между горцами и казаками натянуты до последней степени, — рассказывал Ной. — Счастье, что там у нас крепкая большевистская организация. И работает она совершенно самостоятельно, вот что хорошо! На промыслах и в казармах она даёт себя довольно сильно чувствовать... Анисимов тебе привет шлёт, просит приехать.
Николай Анисимов был вожаком грозненских большевиков, и Киров давно дружил с ним.
— Обязательно поеду, — сказал Сергей Миронович. — Но сначала давай решим, что нам тут у себя делать, во Владикавказе. Как думаешь?
Подошла Тамара. Она всё не могла успокоиться.
— Там у Гамалеи ещё известный вам сочинитель сидит, — сказала она Кирову, — Тот, который написал поганую «В стране абреков».
— Бес с ним, — махнул рукой Киров, — Не до него сейчас.
— А Серобабов собирается пойти и выбить ему зубы.
— Что?.. Где Серобабов? Попросите его сюда.
Серобабовым оказался светловолосый железнодорожник. Он работал слесарем во владикавказских железнодорожных мастерских и был депутатом Совета. Киров и Ной взяли слесаря в работу.
— Спокойнее, друг, — сказал ему Ной. — Нам ещё Временное правительство надо свалить, вторую революцию делать, берегите силы!
— Ладно, — быстро сдался Серобабов. — А в ресторан Ахмедова можно нам сходить?
— Кому «нам»? — спросил Киров.
— Мне и моим ребятам... из мастерских.
— Зачем?
— Провокаторов малость проучим... Мы с оружием. В случае чего — отпор дадим...
Киров расхохотался.
— Час от часу не легче! Что вы, голубчики!
— В ресторан следовало бы, пожалуй, заглянуть, — сказал Ной. — Но это, конечно, не главное. Я думаю, главнее сейчас — среди солдат помитинговать, повести кампанию против вражды, показать, что единственный выход из положения, который решит и судьбу Терека, — тот, который предлагаем мы! Власть рабочих и крестьян — раз, земля и фабрики народу — два, союз свободных республик — три!..
Киров дал Ною до конца высказать программу, за которую стояли большевики. Ной считался теоретиком, хорошим знатоком Маркса и Ленина. Хотелось, чтобы то, о чём говорил Ной, слышал не только Серобабов, а весь город.
У молодого слесаря, однако, было чисто практическое мышление. Он несмело спросил:
— А организовать защиту обоза горцев мы можем? У нас в мастерских свой отряд рабочей милиции... Как? Это можно?
Ной посмотрел на Кирова. За годы эмиграции Ной отвык от Кавказа и, хотя сам был родом кавказец, считал Кирова более сведущим в терских делах. Киров провёл на Тереке все последние годы — предвоенные и военные. Он отлично разбирался в истории Терека, знал обычаи и нравы горцев, знал, чем они живут сейчас.
— Великолепное предложение! — поддержал слесаря Киров, — Вот это дело!..
Тамаре, стоявшей рядом, он сказал:
— Дело не в афоризмах, у мыслителей прошлого можно найти всякие афоризмы. И всё равно ничего в них не понимать.
Тамара горячилась:
— Я ужасно возмущена! Они там ещё про стихию масс говорили, вы бы послушали!
— Знаю, что может Караулов сказать, — усмехнулся Киров, — В сапогах он лучше разбирается, чем в «стихии масс».
— Но Гамалея...
— И этот нам известен, Тамара. Хитрый жук. И старичок тот. Его мы тоже знаем. Ничего они в «стихии масс» не понимают.
— Но боятся, — вставил Ной.
— Правильно, — подхватил Сергей Миронович, — Теперь уже ясно, зачем Караулов ездил в Тифлис и чего хочет от Гамалеи. Борьба против того, что они называют «стихией масс». Гамалее мы дадим бой на ближайшем пленуме Совета, а с Карауловым дело посложнее. За ним — сила косная и старая, как мир!..
Теперь Ной помалкивал, старался не перебивать Кирова, уступая ему право оценивать и решать, как лучше поступать в создавшейся обстановке.
А взвешено и решено было в тот вечер многое. Работа нашлась всем.
Около часу ночи, когда в комнате на первом этаже ещё горел свет, из подъезда вышел Караулов. Его сопровождали Гамалея и бывший сочинитель. Атаман уселся в свой экипаж. Светлая ночь позволяла различать без труда даже искристые блики на сапогах Караулова. Но вот он надел папаху, закрылся дохой и прощально кивнул провожающим. Те ответно помахали ему рукой и зашагали пешком домой.
Глава вторая. Обоз с кукурузой
1
Владикавказ по населению город небольшой, но рас-кинулся он широко.
Александровский проспект, где шумит липами бульвар, выглядит более или менее на европейский манер — богатые, добротные дома, магазины, кинотеатры, конторы. А свернул в сторону — и пошли дощатые особняки с плоскими крышами и стеклянными галереями, хаты-мазанки, глиняные заборы. И чувствуется уже что-то особое, кавказское. Здесь, кроме русских, живёт много осетин, армян, грузин, чеченцев. На одной улице больше армян, на другой — осетин, на третьей — русских. Сразу за городом начинается Военно-Грузинская
дорога. До знаменитого Дарьяльского ущелья не долго ехать. Там орлы летают и стоит вечный грохот от бегущих вниз, с хребта, пенистых потоков Терека. В городе шутят: «От нас до Казбека рукой подать!» А до него в самом деле близко...
Удивительный край! У Сергея Мироновича никогда не проходило ощущение, что он живёт в краю неповторимой красоты. И когда по утрам он любовался Казбеком и манящими вершинами хребта, то всегда испытывал какое-то особенное ощущение радости и душевного подъёма.
Побродить бы там с альпенштоком и рюкзаком за спиною! Вдохнуть бы чистейшего горного воздуха! А пришлось всё утро просидеть в прокуренном зале, в духоте и заседательской сутолоке. И было жаль потерянного времени особенно ещё потому, что сидение на пленуме Совета мало дало пользы, а отняло всё утро. Длинные речи, запросы, заявления, справки по мотивам голосования, по личному вопросу, наконец — голосование, затем ввиду поступивших в президиум протестов поимённая переголосовка.
Всё, почти всё было как в парламенте. Совет здесь мало напоминал те, которые существовали в центре страны, особенно в Петрограде и Москве. Хотя и в тех Советах сторонники Ленина пока тоже не имели большинства.
Председательствовал Гамалея, и неожиданно для всех он вдруг объявил, что на заседание прибыл и желает выступить атаман Караулов. Шум не затихал минут десять. Многие протестовали, улюлюкали. Всё же Гамалея добился своего: атаману дали слово.
Тот начал, глядя в бумажку:
— Граждане депутаты! В трудное время великой войны, внутренней разрухи и голода дорогое отечество паше могуче выступило на путь великих реформ — переустройства всех сторон своей жизни!..
Караулов басовито, с присвистом кашлянул и продолжал речь. Комиссар от Временного правительства и атаман Терского войска Михаил Александрович Караулов высказывал свой взгляд на текущий момент. Его речь была миролюбива и так складно составлена, что Киров и Ной, сидевшие рядом в зале, то и дело с улыбкой переглядывались. Язык речи был округлый, с длинными периодами, построенными по всем правилам латинского красноречия.
— Мы все дышим воздухом одних великих гор и пьём воду одних и тех же горных рек. Сделаем же в этот великий исторический момент едиными и наши братские усилия к созданию лучшей жизни в нашем богатом природными дарами крае!..
Караулов призывал помочь Кавказскому фронту скорее одолеть «супостата», доказывал, что у революционной России нет иного выхода, как война до победы. Турецкий султан, кайзер Вильгельм и австрийский император Карл I должны быть посрамлены. На Россию с надеждой смотрит весь мир. А когда победа будет одержана, наступит время и для решения тех спорных вопросов, которые волнуют «всех нас».
— Кого это «всех нас»? — кричали атаману из зала. — Чего стоят ваши обещания? Это когда же вы собираетесь решать? После дождичка в четверг?
Тотчас вслед за атаманом поднялся на трибуну Киров.
— Я не хотел сегодня выступать, но два-три слова должен сказать. Гражданин Караулов почтил сегодня наше уважаемое собрание чрезвычайно миролюбивой декларацией. Но Козьма Прутков давно изрёк: «Зри в корень». Что лежит за миролюбивыми призывами — вот что главное. «Мы дышим одним воздухом, пьём одну воду». Чудесные, но пустые слова. Народу нужен хлеб, мир, нужна земля, нужен новый строй жизни, когда все люди действительно смогут по-братски дышать одним воздухом и пить одну воду. Но сегодня воздух ещё отравлен порохом империалистической войны, ненавистной народам всего мира, а вода окрашена кровью невинных жертв!..
В зале насторожённо слушали оратора.
Два дня прошло с того вечера, когда Киров узнал от мальчишек о готовящейся провокации. За это время удалось установить и кое-что новое. Теперь уже не от одних мальчишек было известно, что нападение на обоз горцев с кукурузой действительно замышляется. Это подтвердили солдаты-большевики того полка, в котором служил прапорщик Муштаков. Прапорщик был вчера вызван на заседание полкового комитета. Правды от него не добились. Он всё отрицал, но другой офицер, тоже присутствовавший в ресторане Ахмедова в то утро, когда карауловец Селезнёв агитировал против горцев, этот офицер подтвердил, что разговор про какой-то обоз с кукурузой действительно был.
Снеслись большевики и с горцами. Орахелашвили провёл эти два дня в Ингушетии. Там, в селении Базоркино, помещался Ингушский Национальный Совет. Такие Советы, возникшие в первые дни революции, имелись и в Чечне, и в Осетии, и у других горских племён.
Подтвердилось, что обоз готовится.
И дело тут вот в чём. Казачьи станицы вонзаются клином в глубь Ингушетии, разрезая её на части. Горцы, живущие в местах, примыкающих к Военно-Грузинской дороге, не могут общаться со своими соплеменниками, живущими на плоскости: казаки не пропускают их обозы, и остаётся один путь — через город.
В аулах, лежащих у Военно-Грузинской дороги, хлеба нет. Вот для них и пойдёт обоз из плоскостной Ингушетии.
Обо всём этом Киров рассказал собранию и закончил так:
— Нет сомнения, назревает провокация, и мы должны быть бдительны. Мы знаем, трудовое казачество не хочет кровавых стычек, но верхи казачества боятся революции и всеми силами раздувают пожар на Тереке.
Тут атаман не выдержал.
— Ложь! — крикнул он в ярости и потом, уже не в силах выговорить ни одного слова, всё кашлял и кашлял, до багровых отёков на лице и на шее.
Кому-то в зале стало жалко его; на Кирова обрушились:
— Как вам не стыдно! Если человек не может так, как вы, это ещё не значит, что над ним можно потешаться!
— Возмутительно! Человек пришёл с призывом к миру и единству, а его гонят!
А кто-то в конце зала протяжно пропел:
— Пожалейте раба божьего, бедного агнца!..
Грянул хохот, и особенно был слышен раскатистый
басок Серобабова. Он стоял у стены и веселился от души, будто присутствовал на цирковом представлении.
У атамана, конечно, нашлись в зале защитники. Его пытались выручить. Сам Гамалея взялся за это и говорил полчаса. За ним выходили с речами в поддержку атамана и другие. Они тоже твердили о единстве и призывали не отвергать протянутой руки. «Без опоры на казачество мир на Тереке невозможен!» — восклицали эти ораторы. Но их уже плохо слушали.
До конца заседания Караулов не высидел — ушёл за сцену, чуть не оборвав на ходу боковую кулису.
2
Ещё с трибуны, во время своего выступления, Киров заметил в зале знакомое лицо. Заметив, с внутренней усмешкой подумал:
«A-а! Это ты, старый приятель!..»
Тот, кого Киров иронически назвал про себя «приятелем», тихонечко и скромненько сидел в самом конце зала. Стулья там пустовали, и фигура этого человека торчала одиноко, как пень. Высокий рост мешал ему, видимо, сидеть прямо — длиннющие ноги не помещались в ряду, и он поэтому сидел бочком, вытянув ноги в сторону. Лицо страдальческое, длинноносое, волосы на голове седые и острижены ёжиком, на носу пенсне.
Он смотрел из своего уголка на Кирова неотрывно, слушал его, пожалуй, внимательнее, чем кто-либо из присутствовавших в то утро в зале. Но, когда зал разражался аплодисментами, он не аплодировал. Он сидел, смотрел, слушал, и лицо его оставалось безучастным, как у сфинкса.
Он не был членом Совета, но приходил сюда довольно часто. Посторонней публике разрешалось присутствовать на любых заседаниях Совета, поэтому никто им и не интересовался. Сидит себе человек, и пусть.
Сегодня он повёл себя, пожалуй, не совсем обычно. Когда атаман, красный от злости, ушёл за сцену и покинул здание Совета через какую-то заднюю дверь, долговязый посетитель проявил явные признаки какой-то встревоженности. Он повернулся другим боком к сцене, озабоченно покачал головой, вздохнул.
Но вот Г амалея объявил перерыв, и проголодавшиеся депутаты повалили в буфет. Хотел и Киров туда направиться, он уже набил свою трубочку табаком и на ходу раскуривал её, как вдруг был остановлен у двери в фойе:
— Одну минуточку... Извините, пожалуйста, что задержу вас, но я ненадолго.
Перед Кировым стоял, загораживая ему путь, тот самый долговязый человек.
— Слушаю вас, — улыбнулся ему Киров.
— Я, конечно, не имею права вмешиваться в ваши дела, — начал тот запинаясь. — Надеюсь, вам известно, что я в данное время человек, сторонний для политики, в схватке не участвую и не собираюсь сходить с этих позиций.
— Ну, знаю, — перебил Киров. — К чему столь длинное предисловие?
— Видите ли, уважаемый гражданин Киров, — продолжал долговязый, — в своё время, ежели помните, я имел честь... то есть, простите, был поставлен в положение, когда при довольно-таки роковых обстоятельствах для вас...
— Да, да, помню, всё хорошо помню. Ну и что же?
— А помните один наш разговор на допросе? — спросил долговязый и почему-то при этом насторожённо и даже как бы с опаской оглянулся, но поблизости никого не было, — Это было на одном из допросов, — повторил тихо долговязый, — в тюрьме... — ещё тише продолжал он. — Увы, я тогда, конечно, не подозревал, что в вашем лице... что потом встречусь с вами в совершенно другой обстановке. Но уже тогда, поверьте, я чувствовал, что имею дело не с простым преступ... извините, не с кем-то там, а с...
Не впервые человек этот заговаривал с Сергеем Мироновичем за последнее время. И каждый раз он вёл себя точно так же — терялся, робел, запинался, минутами даже лишался дара речи. Глядел он на Кирова в такие минуты виновато, заискивающе и был просто жалок.
А Киров после первых нескольких минут разговора с ним начинал сердиться: он не выносил человеческого самоуничижения. Но приходилось сдерживать свои чувства. Покажи долговязому, что ты осуждаешь его за такое поведение, и тот заробеет ещё больше.
Поэтому, дымя трубочкой, Сергей Миронович терпеливо спрашивал:
— Ну, какой же был у нас разговор? О чём?
— Ох, да-да... О чём? Видите, я уже сбился, — обрадовался вопросу Кирова его собеседник. — О, это был очень интересный разговор. Мы говорили, если изволите помнить, о России, о грядущих потрясениях и в связи с этим касались судьбы Терека, если будет революция... Неужели вы забыли? Я предупреждал вас... Помните? Я говорил: берегитесь!
— А-а! — протянул Киров. — Ну, помню...
Долговязый с жаром задышал Кирову в лицо:
— Почему же вы не бережётесь? Вот сегодня я стал свидетелем вашей схватки с Карауловым... О, постойте, постойте, не возражайте мне, я всё понимаю! Караулов — солдафон, тупица! Вы правы, а не он! Но подумайте, дорогой, какую силу вы обращаете против самого- себя! За Карауловым десятки тысяч вооружённых казаков, а тех, кто идёт за вами, — считанные единицы! Вас съедят! Уничтожат! Сотрут в порош...
Долговязый было раскричался от волнения, но осторожность, видимо, лишь на короткие мгновения оставляла этого человека. Он вдруг спохватился, побледнел, снова поглядел по сторонам и лишь тогда докончил фразу:
— ...шок! Да! Страшная это сила! А вы...
А Киров уже переборол в себе раздражение и теперь улыбался. Это было его обычное выражение: глаза сощурены, в углах губ улыбочка. И в зубах крепко зажата чуть дымящая трубка.
— Вы всё сказали? — спросил он.
Собеседник тяжело дышал.
— Ну что я могу ещё сказать? — произнёс он, пожимая плечами. — Одно могу повторить: будьте осторожны, не играйте с огнём! Вы скоро увидите, что ещё будет! И, желая вам добра, я вот и осмелился сейчас подойти. Простите, если отвлёк... Ради бога!..
Не успел он отойти от Кирова, как из фойе заглянул в дверь Ной Буачидзе.
— Ты что? — сказал он с весёлой укоризной Сергею Мироновичу, — Мы тебе чай взяли, а ты тут стоишь! Скорее идём, а то чай совсем остыл.
В буфете было шумно, дымно. За чаем Ной спросил:
— Кто это там был?.. А? Что? Не слышу!..
— Как-нибудь расскажу, — ответил Сергей Миронович. — Ну, что же будем дальше делать, Ной? Атаману всыпали, но это же не всё. Давай к народу пойдём, это главное!.. Ты где сегодня выступаешь?
— У солдат двадцать третьего полка.
— А я к солдатам завтра.
Сергей Миронович допил стакан и снова взял в зубы свою любимую трубочку.
— Сегодня, — продолжал он, — в четыре я должен быть у железнодорожников. Серобабов организует там большой митинг. Ну, пошли, что тут в буфете сидеть? Время горячее!..
3
Митинги, собрания, опять митинги... Ни один день не обходился без них в том бурном, пламенном году.
Сегодня Киров выступает в Совете, завтра — у рабочих или у солдат. То едет в станицу, то в аул.
А писал он теперь мало, хотя и не порывал с газетой, где начал работать много лет назад.
Все меры были приняты, чтобы обоз горцев с кукурузой проехал через город благополучно. По настоянию большевиков Совет поручил охрану обоза в черте города отряду рабочей милиции Серобабова. Отряд был усилен значительным пополнением из рабочих-железнодо-рожников, побывавших на фронте и умеющих обращаться с оружием. Ещё один отряд в помощь Серобабову прислал Алагирский свинцовый завод, расположенный за городом.
Была у большевиков и своя опора в армейских частях гарнизона. Солдатские комитеты двух полков, где Выступал на митингах Киров, обещали добиться через Коменданта города, чтобы улицы строже патрулировались и чтобы была решительно пресечена провокационная агитация среди солдат против горцев.
Ною удалось узнать, что в атаманском дворце после Выступления Кирова на пленуме Совета произошёл скандал. Киров в своей речи не упомянул Селезнёва, но, видимо, сам-то Караулов знал, что творится в его доме и как себя ведут его приближённые.
Говорили, атаман страшно ругал Селезнёва, грозил выгнать, отправить на фронт...
И обоз прошёл, проскрипел по владикавказским улицам- в воскресное утро. Никто его не тронул. Одна за другой ехали арбы, гружённые мешками с кукурузой. Колёса высокие, почти по голову идущему рядом горцу. Запряжённые в арбы буйволицы тащились медленно, протяжно мычали. Казалось, им непонятен и страшен город.
Солнце жгло, уже начался июль. Улицы, по которым проходил обоз, были запружены публикой. В толпе можно было услышать всякие разговоры. Одни говорили:
— Все люди, все человеки, чего там. Надо же совесть иметь. Мы их загнали в горы, и мы же их ругаем.
— Кто загонял? — вступались другие. — Загоняли генералы. Ермолов, что ли. А грозят горцы нам. Всех вырезать.
— Не быть миру на Тереке, братцы. Всё равно не быть. Не могут волк С овцой поцеловаться. Или мы их, или они нас!..
На перекрёстках стояли солдатские патрули. Обозу давали дорогу без задержек.
В голове обоза ехали всадники в черкесках, и среди них были седобородые старцы. Но держались последние в седле лихо, статно, не уступая в ловкости молодым. Вооружены были все только кинжалами.
Серобабов тоже гарцевал в то утро на лошади, её выхлопотал для него в конторе железнодорожных мастерских заводской комитет. Лошадь была серая, в яблоках, грузная, злая. Серобабов порядком помучился с нею, пока наблюдал за прохождением обоза. Бойцы его отряда действовали в пешем строю. Закинув винтовку за спину, железнодорожники с весёлыми лицами шагали по бокам мерно поскрипывающих арб.
А после полудня Ной позвонил из Совета в редакцию «Терека»:
— Киров у вас?
— Да...
Когда Сергей Миронович подошёл к телефону, Ной сообщил ему:
— Сейчас только с Советом сносились из канцелярии атаманского дома. Нас с тобой приглашают явиться к Караулову.
— Зачем?
— Для объяснений.
— И не подумаю пойти, — усмехнулся в ответ Киров. — Ему хочется, я чувствую, уличить нас во лжи и сделать выговор.
— Конечно! Я тоже так думаю! Поскольку обоз прошёл без инцидентов, атаман теперь будет хорохориться и доказывать, что вообще всё было выдумано нами!
— Пошёл он к чёрту, — отозвался Сергей Миронович. — Я запустил дела по редакции, и у меня пропасть работы. Никуда не пойду.
— А видел ты, как проходил обоз?
— Видел, как же. Молодцы железнодорожники! Обоз проезжал мимо нас тут, и я видел все. Красота, право!
— Да, с обозом получилось неплохо, — сказал Ной. Он помедлил, покашлял в трубку, — Видишь ли, есть другие неприятные известия. Ты читал сегодняшние газеты? В Петрограде назревает что-то нехорошее. Временное правительство распоясывается всё больше и готовится со дня на день спустить с цепи войска... А массы...
— Я читал об этом, дружище, — перебил Киров, — И уже понимаю ход твоих мыслей. Если в Петрограде усилится реакция, то подстегнёт и нашу...
— Ну ясно же! Я уже об этом думаю и думаю. Всю ночь не спал, а утром, как прочёл про положение в Петрограде, так...
Ной опять покашлял. Он был очень болен, и на днях Орахелашвили, осмотрев его, нашёл, что у Ноя сильно задеты туберкулёзом лёгкие. Надо было что-то сделать, чтобы оторвать этого человека от злобы дня, от волнений, — так посоветовал Орахелашвили. Но как оторвать Ноя от политики, если тот только ею и живёт уже многие годы! А сейчас, когда пришла революция, он весь с головой погружался каждый день в её нарастающий водоворот.
— Послушай, Ной, — сказал Киров, — мне надо тебя повидать. Ты вечерком свободен?
— Я буду в Совете... в нашей комнате, как всегда.
— Нет, я бы хотел, чтобы мы с тобой просто малость отдохнули. Тряхнём стариной, покалякаем о том о сём. Ты хочешь?
— Пожалуйста... Конечно... С удовольствием.
Чувствовалось, Ной несколько ошарашен.
— Можно в ресторан, если хочешь, — продолжал Ной нетвёрдо. — Но денег у нас с тобой нет.
— Зачем нам ресторан? — расхохотался в трубку Киров. — Хочу тебя к себе домой пригласить. Я отмечаю сегодня одно событие, так сказать, личной жизни.
— Какое?
— Придёшь — расскажу. Приходи к шести.
— Хорошо. Буду, — пообещал Ной.
Повесив трубку, Киров уселся за свой рабочий стол и снова принялся за статью, которую готовил в номер.
4
Работать Кирову не давали весь день. Звонок за звонком. Посетитель за посетителем. Самые разные люди обращались в газету, сообщали, советовали, добивались помещения рекламных объявлений.
Положение Кирова в редакции было сложным. Газета «Терек» и дом, где помещались редакция и типография, принадлежали частному издателю Казарову. Революция ничего не изменила — этот человек и сейчас оставался хозяином «Терека», а Киров был лишь одним из сотрудников редакции.
По взглядам издатель был человек либеральный, его газета слыла до революции одной из прогрессивных на Тереке. Но характер у Казарова был нерешительный, властей он побаивался и не позволял своим сотрудникам выходить за «рамки», чтобы не платить штрафа и не подвергаться окрикам свирепой владикавказской цензуры.
Киров попал сюда лет восемь назад. В конторе типографии работала и жена Кирова, Мария Львовна Маркус. Она была и конторщицей, и бухгалтером, и кассиром.
Киров часто сам верстал газетные полосы, ездил на вокзал за почтой и, кроме передовых политических статей, писал и за фельетониста, и за театрального рецензента, и за хроникёра.
Но даже при небольшом штате Казаров с трудом содержал газету и чуть не каждый день грозился её закрыть. Революции он вначале обрадовался, а теперь всё жаловался:
«У меня ни денег, ни бумаги! Что я могу сделать? Дорогие мои, я банкрот! Это не революция, а разруха!»
Не только на Тереке, во всей стране цены бешено росли. Разваливался транспорт, становилось всё труднее добывать и доставлять бумагу, краску, шрифт.
Киров не раз подумывал: хорошо бы владикавказским большевикам прибрать газету к рукам. Но где достать денег? Их нет и неоткуда взять. Большевики только вышли из подполья, и не так их ещё много на Тереке. Живут плохо, перебиваются еле-еле, у самого Кирова порой не хватало даже на хлеб.
А на поддержку и помощь властей, даже Совета, в создании большевистской газеты нечего было рассчитывать.
В шестом часу, когда Киров уже собрался домой, к редакции «Терека» подкатила коляска, из которой вышел атаман Караулов.
В редакции произошёл переполох. Хозяин газеты сбежал вниз, встретил атамана, провёл к себе в кабинет. Вскоре туда позвали Кирова. Тамара, бледная от волнения, сказала:
— Не ходите, Сергей Миронович. Лучше не ходите. Зачем его чёрт принёс?
Тамару поддержала миловидная темноволосая женщина, сидевшая за конторкой:
— Не ходи, Сергей. Ну его!..
Эта женщина, ещё молодая, с большими, глубоко сидящими глазами, и была женой Кирова. В церкви они не венчались и жили в гражданском браке.
Он всё же пошёл.
В тесной конторке сидели за столом хозяин газеты и атаман.
— Ну, что скажете теперь? — сразу налетел Караулов на Сергея Мироновича. — Где та провокация, о которой вы говорили на Совете! Обоз проехал, и всё в порядке!
— Да, пока в порядке, — проговорил Киров.
— Сейчас я был в ресторане Ахмедова. Никто не подтверждает.
— Чего?
— А того, что вы говорили.
Киров смотрел на атамана и думал: «В Петрограде что-то началось, или это он уже заранее наглеет».
— А что вам сказали в ресторане, господин атаман?
— Не называйте меня господином. Я такой же гражданин, как и вы. А ресторан Ахмедова я бы назвал образцовым, ежели хотите знать. Никто там никаких недозволенных разговоров не вёл и не ведёт. Это точно!..
Сергей Миронович усмехнулся:
— Я берусь доказать обратное...
— Ну зачем? Зачем? — встревожился издатель, белое лицо которого говорило о совершенном смятении. — Прошу вас, господа... Простите — граждане... Обоз прошёл, инцидент исчерпан, и нет нужды сейчас спорить.
Киров не садился, и атаман несколько раз смерил его взглядом с ног до головы.
Кто был Киров для атамана? На взгляд Караулова, сочетание таких качеств, как политик и журналист, было уже само по себе предосудительным. Ни чина, ни звания — в общем, малозначащая фигура. Талантлив, бесспорно, все говорят о статьях Кирова. Хорошо умеет выступать. Но в думе атаману приходилось слушать и не таких ораторов!
Но главным, определяющим в отношении атамана к Кирову и ему подобным людям было другое.
Атаман не допускал и мысли, что на Тереке среди неказачьего сословия, то есть горожан и крестьян — их гут вместе (кроме горцев) называли иногородними, — могут быть личности более достойные, чем казак. Все эти интеллигенты с бородками, эти рабочие, смеющие создавать свои советы и говорить о равноправии, эти понаехавшие сюда с Украины крестьяне, требующие земли, — все они в глазах Караулова были люди чужие, пришлые.
А бросить это им в лицо атаман не смел. Сейчас,
после свержения царя, приходилось и самому изворачиваться, хитрить, играть в «свободу». Это давалось ему тяжело, с большими мучениями.
Киров выдержал его взгляд. Продолжение разговора было бесполезным. На что рассчитывал атаман, ради чего приехал?
Опровержения в газете — вот чего ему хотелось. Об этом он и вёл разговор с издателем до появления Кирова в конторке. Киров это понял и вопросительно поглядывал на Казарова: если тот дал согласие поместить в «Тереке» какое-либо опровержение, Сергей Миронович тотчас уйдёт из газеты.
Атаман уже взял себя в руки. Приходилось вновь обращаться к ненадёжной союзнице — к хитрости и притворству. Чёрт с ним! До поры до времени. Авось всё-таки тряхнут матросню в Петрограде. Дело идёт к тому, как знал атаман. Там, в Петрограде, — главный очаг анархии. Авось приструнят эту разбушевавшуюся «стихию масс», тогда и казачий Терек воспрянет.
А пока, едва скрывая злость, атаман говорил, что казачество твёрдо стоит за революцию и новую Россию, что казаки никого не трогают, а наоборот — их трогают.
Он говорил:
— Это же всё клевета, наветы врагов наших. Чего только на казаков не валят! Казаки-де рабочих душили, плётками-де пороли, казаки — царские псы, и всё такое! Не было этого! Враньё!
Киров снова усмехнулся и не стал напоминать атаману, что в девятьсот пятом году, во время рабочей демонстрации в сибирском городе Томске, казаки чуть не до смерти избили его нагайками. И нелепо было бы сейчас спорить с Карауловым. За восемь лет жизни и работы на Тереке Киров достаточно хорошо узнал казачество и не собирался всех валить в одну кучу — и правых и виноватых. Последние годы войны внесли большие изменения и в замкнутую казачью среду. Разорение, безотцовщина, плач матерей и вдов пришли в терские станицы.
Поглядев на часы, Киров сказал издателю:
— Мне пора, Сергей Иосифович! Я сегодня должен уйти к шести. Прощайте!
В половине седьмого Ной уже сидел дома у Кирова. Ждали Марию Львовну, которая из редакции поехала за Орахелашвили — пригласить его тоже на обед. Тем временем Киров и Ной хозяйничали сами на кухне. Обед был сварен хозяйкой ещё утром, до работы, и оставалось его только разогреть.
В ожидании хозяйки Сергей Миронович и его гость попробовали суп и после пробы нашли, что надо немного подсолить.
Подсолили. Потом попробовали второе. Это блюдо оказалось, по общему мнению мужчин, чуть пересоленным. Как поступить в этом случае, Ной не знал — он был человек холостой, но сам не готовил, питался где попало. И ему доставило много радости, когда и хозяин квартиры признался, что не знает, как устранить пересол.
— Может, нам с тобой это всё кажется? — оправдывался Сергей Миронович. — Пойдём посидим в креслах, покурим, а там и хозяйка подойдёт.
Квартира, которую занимали супруги Кировы, была тесная и маленькая.
Одна комната служила как бы кабинетом-гостиной. Кроме кушетки с валиком, книжной этажерки и письменного стола, тут стояла (на том же столе) металлическая спиртовка для разогревания чая или кофе. Спиртовка зажигалась денатуратом, бутылочка которого хранилась в углу возле этажерки.
А во второй комнатке, тоже просто и скромно, но со вкусом обставленной, бросалось в глаза пианино с двумя медными подсвечниками, где Сергей Миронович держал карандаши, а Мария — свои булавки.
Пианино, взятое напрокат, было признаком большой любви обоих к музыке. Мария выросла в семье часового мастера, отдававшего последние деньги на образование и воспитание детей. Если не театр, не прогулки по тенистым аллеям «Трека» — городского летнего сада — или по берегу Терека, то самым любимым развлечением для молодых супругов было музицирование. Она садилась за пианино, а он пел. Особенно хорошо получались v Сергея Мироновича украинские песни, которым он научился, ещё будучи мальчиком, у себя в родном Уржуме от политических ссыльных.
A ещё бросалось в глаза, что в квартире много цветов; они пестрели во всех углах, на подоконниках, столах, подставках, даже на полу.
На всякий случай в широком дубовом платяном шкафу возле кровати ещё сохранилась потайная задняя стенка, где до свержения старого режима Киров прятал подпольную литературу. Сейчас Сергей Миронович держал там свою недописанную пьесу и шутя говорил жене, что ныне это самая запретная вещь в доме и упаси боже, чтоб кто-нибудь узнал о ней. Хранить в строжайшей тайне!
Усевшись в первой комнате в кресла, Киров и Ной заговорили о событиях дня. Сергей Миронович ещё в первые минуты прихода Ноя рассказал ему о своей новой встрече с Карауловым.
— Это номер! — восклицал Ной, — Бесподобно! Ай да атаман! Ума палата!
Ной был страшно доволен исходом встречи. Караулов уехал восвояси несолоно хлебавши.
— Хорошо, что Казаров тебя поддержал. Нет, это здорово! Сам его превосходительство получил по морде и был таков! Ай, комедия! Жаль, что я не присутствовал при этой сцене!
Потом Ной спросил:
— Ну, а что в Петрограде? Знаешь, я...
Киров перебил гостя, решительно сказал:
— Вот что, друг! О политике давай не разговаривать. Мы так с самого начала условились.
Гость взмолился:
— Помилуй! О чём же тогда нам разговаривать? Я не могу...
— Сможешь, Ной. Ни слова о злобе дня. Толкуй о чём хочешь, только не о том, что сегодня творится вокруг нас.
Говоря это, Киров смеялся, но по глазам видно было, что он твёрдо намерен держаться своего решения не касаться политики. Ной беспомощно развёл руками.
— Ну хорошо, давай так. Я вот, например, могу тебе сообщить новость... Постой, не пугайся! Из Грузии, с родины, мне пришло письмо. Просят приехать.
— И обязательно поезжай! — посоветовал Сергей Миронович. — А не захочешь, силой заставим. Особым решением обяжем.
— Давно я не видел родных мест! — мечтательно произнёс Ной, — Кроме шуток, поехать, а? Да, кстати раз уж мы заговорили о личном... Скажи, пожалуйста, какое событие личного порядка ты сегодня отмечаешь?
— О, это любопытная дата в моей жизни, — отозвался Сергей Миронович, раскуривая трубочку. — Ты извини, я буду дым в окно пускать... Да, событие особенное.
— Какое же?
Сергей Миронович ответил, пуская колечки дыма в распахнутое настежь окно:
— Нынешним летом известному тебе Кирову, аз грешному, исполнилось пять лет. Вот мы и решили с Марией отметить это событие, хоть и с некоторым опозданием.
— Господи правый! — взмолился Ной, — Я сейчас закричу, как Караулов! Что ты меня мучаешь? Как это тебе пять лет, когда ты влез уже в четвёртый десяток! Я твой партбилет видел, когда ты взносы платил! Своим глазам я пока верю! — Он приложил узкую, худую кисть руки к груди, словно там у него что-то заболело. — Вот лёгким своим не доверяю! Ни капли!
У Сергея Мироновича сразу пропала улыбка. Он произнёс серьёзно:
— Ладно, дружище. Сейчас расскажу. История невесёлая. Сядь поудобнее и слушай...
Глава третья. Как Костриков стал Кировым
1
— Помнишь, — начал Киров, — на днях ты видел меня с одним долговязым человеком? Это было в зале после заседания Совета...
— Да, да, — закивал Ной. — И ты обещал при случае рассказать, кто он!
— Вот я так и хочу. История моего пятилетия тесно связана с некоторыми эпизодами, в которых участвовал и этот человек. До революции он был не таким... Его высокому росту соответствовала и подобающая осанка. Солидность и степенность в каждом движении. Мундир чиновника царской юстиции он носил с великолепным достоинством.
— Кем же он был?
— Следователем. А я сидел в тюрьме, и он вёл моё дело...
Ной помрачнел. Воспоминания о встречах со служителями царской юстиции и жандармерии в подпольные годы у него были самые неприятные. Перестрадал он тогда немало. И теперь даже упоминание об этих людях будило в нём озлобление.
— И он ещё смеет тебе попадаться на глаза? — воскликнул Ной. — Какой гад!
Сергей Миронович загасил пальцем огонь в трубочке. «Всё-таки при Ное не следует курить, — сказал он себе; у того было сейчас совершенно жёлтое лицо, — Он был осуждён на смерть, — ещё подумал Киров, — Он носил кандалы...» Прошлое казалось тяжким кошмаром...
...Шёл 1911 год. Во Владикавказе стояла такая же жара, как сейчас, а пожалуй, ещё посильнее — это происходило в августе.
Было 20-е число — день, когда казна необъятной Российской империи выплачивала жалованье служащим государственных департаментов, а во Владикавказе было особенно много чиновников всякого рода и звания.
Видимо, именно щедрость казны послужила причиной отличного настроения у господина следователя в тот день, когда он вёл очередной допрос арестованного во владикавказской городской тюрьме.
Впрочем, некоторые обстоятельства портили настроение следователю. Это были, во-первых, неприятные ощущения под ложечкой из-за хронического катара желудка. И, во-вторых, очень уж донимала жара. Перед тем как приказать привести арестованного, следователь полистал его дело и сказал себе:
«Или у меня размягчение мозгов, или я вообще перестаю что-либо понимать!»
А тут, как назло, закапризничал настольный вентилятор. Он не давал прохлады. Попробовал следователь разобрать машинку, заставить безжизненно застывшие лопасти завертеться, но из этого ничего не вышло. Один винтик у него даже оказался лишним. Махнув рукой, следователь снова углубился в чтение дела.
В Томске на Аполлинариевской улице два года назад произошёл обвал. Деревянный домик, ещё на вид крепкий, двухэтажный, с резным крылечком, вдруг осел в землю, словно под ним была яма. Примчалась полиция. Начали раскапывать. Лопата стукнула о что-то металлическое.
— Стой! Не трогать! — закричал городовой на землекопов.
Он спустился в яму, пощупал торчащий из земли тёмный выступ какого-то железного предмета и побелел. Не бомба ли, помилуй господи? Заторопился городовой, что духу на карачках вылез наверх и спрятался за углом. Но взрыва не произошло. Тогда он вернулся и увидел: натужась, люди тащат из ямы заржавленный типографский станок.
Оказалось, под домиком когда-то была вырыта и искусно замаскирована подпольная словопечатня. Никто о ней и не подозревал. Устроители, видимо, некоторое время тайно пользовались ею, потом по каким-то причинам забросили. В подземелье, оставшееся без присмотра, натекла вода, подгнили потолочные балки, перекосились дощатые стены, и всё само рухнуло.
Типографский станок, найденный на месте обвала, увезли в полицию. Началось следствие. Было это в апреле 1909 года. С тех пор по всей империи около двух лет петляли и петляли полицейские розыскные бумаги, пока наконец по предписанию одной из этих бумаг во Владикавказе недавно посадили за решётку человека, подозреваемого в том, что именно он и есть устроитель крамольной типографии в Томске.
На след этого человека ищеек охранки навело вот какое обстоятельство. Года за три до обвала на Аполлинариевской улице полиция производила в том же самом каверзном домишке обыск. Было это в 1906 году. Кто-то донёс, что в домике орудуют революционно настроенные личности, не то бомбы против царя делают, не то ещё что-нибудь. Бомб при обыске не нашли, всё же кое-кого задержали. Были арестованы и посажены в тюрьму несколько молодых ремонтных рабочих, живших во дворе в сарае. Чумазые, безграмотные пареньки от всего отпирались — ничего не знают и ни к чему не причастны. Но в Томске революционный 1905 год прошёл бурно, и много хлопот причинили властям именно фабричные, вроде этих самых ремонтников. Поэтому их упекли в тюрьму на разные сроки — кого на год, кого на два. а потом выпустили.
Фамилия человека, задержанного сейчас во Владикавказе, совпадала с фамилией одного из тех рабочих; было установлено, что прежде он жил в Томске, а сюда, на Северный Кавказ, прибыл два года назад...
— Да, — отозвался следователь на стук в дверь.
Ввели подследственного. Это был широкоплечий, приземистый молодой человек. В лежащей на столе розыскной бумаге говорилось: «глаза карие», «густые русые волосы», «большой крепкий лоб». Всё так, всё именно так, совпадение примет было полное. Но, как давно убедился следователь, внешние приметы часто ничего не стоят.
«Вот ежели бы можно было мозг сличать», — подумал следователь и кивнул вошедшему:
— Присаживайтесь, молодой человек. Кстати, у меня к вам небольшая просьба. Испортился мой вентилятор. Не могли бы вы его починить? Пытался сам, да ничего не вышло. Вот остался какой-то лишний винтик.
Подследственный присел, покосился на неподвижно застывшие лопасти вентилятора, на «лишний» винтик в белой сухой руке следователя и отвёл глаза к окну, так ничего и не сказав.
— Честное слово, тут нет подвоха, я не собираюсь вас в чём-то уличить, — продолжал следователь, — Вы сами не отрицаете ведь, что когда-то учились в ремесленном училище, потом стремились к инженерству. Значит, умеете!
Подследственный снова воззрился на «лишний» винтик, вдруг усмехнулся и взял его с ладони следователя. Потом минут пять молча ковырялся в вентиляторе. В его ловких руках тот довольно быстро завертел крыльями, загудел. И пока всё это происходило, следователь расплывшись в довольной улыбке, говорил о том, что приятно иметь дело с человеком, понимающим в технике. Как нужны и полезны империи такие умельцы! Нобель, например, ведь был простым инженером, а стал нефтяным королём, вся Россия освещается его керосином.
— Не его, — произнёс подследственный, — То вовсе не его керосин.
— Ну конечно, — словно бы соглашаясь, а на самом деле с иронией отозвался следователь, — ваши социальные взгляды мне известны. Вы, разумеется, сторонник учений, согласно которым блага природы должны принадлежать тем, кто их добывает. По идее красиво, спору нет. В ваши годы я тоже был либералом, но идеи остаются идеями, а экономика развивается своим ходом. Керосин принадлежит тому, кто его продаёт, а продаёт его в России фирма Нобель и К°.
Губы арестанта тронула усмешка:
— Аксиома не вечная, господин следователь.
— Ничто не вечно, — вздохнул тот и наклонился к лежащим в деле бумагам.
Начался очередной допрос.
2
Предписание следователю было такое: в порядке «отдельного задания» произвести предварительное выяснение личности арестованного — точно ли он тот самый ремонтный рабочий, который лет пять назад был задержан при обыске в домике на Аполлинариевской улице в городе Томске. После двухлетнего сидения в тюрьме тот рабочий был выпущен на свободу, и вскоре его не стало в Сибири. А сейчас полиция располагала данными, что именно он и был главным устроителем подпольной типографии.
Казалось, обнаружен именно тот человек.
Всё сходилось — фамилия, имя-отчество, — а подследственный начисто отрицал свою вину. Костриков? Да, он действительно Костриков. Сергей Миронович? И тут совпадение полное. Тем не менее он вовсе не то лицо, за которое его принимают. В Томске жил, учился, работал, всё верно, но «ремонтным рабочим» никогда не был и никакому аресту не подвергался. То был какой-то другой Костриков.
Во время допроса следователь часто подходил к окну и пил воду из стоящего там графина. Вода была горячей, и следователь морщился. Небо за окном ослепляло, как раскалённое железо. Проклятый юг! Поставь на полчаса графин на подоконник, и его нагреет лучами солнца так, словно кипяток пьёшь. Следователь не любил юга. Из окна были ясно видны снеговые вершины Главного Кавказского хребта. Белая островерхая шапка Казбека вставала совсем близко за городом. Следователь неприязненно смотрел на неё и всё морщился. Он с радостью сменил бы эту осточертевшую экзотику на более прохладные места Центральной России.
— Есть у вас кто-нибудь из родных в Томске? — бросал он на ходу вопросы арестованному, — Никого нет?.. Хм... Откуда же вы родом?
— Из Уржума...
— Уржум? Это где-то за Вяткой?
— Да. Место, так сказать, отдалённое.
— Вот где должно быть прохладно, не правда ли? Зимой — снега, летом — грибы, ягоды.
— Кроме снега, грибов и ягод, у нас там ещё много ссыльных, господин следователь.
— Ну, этого вы мне не рассказывайте, — хмурился следователь. — Политические разговоры я с вами вести не намерен. Моё дело установить, действительно ли вы есть тот самый Костриков.
— Я Костриков, но не тот. Думаю, вы и сами это отлично видите.
Следователь перенёс графин с подоконника на стол и задёрнул на окне портьеру. В комнате стало сумрачно и душно. Это была тесная, унылая каморка на втором этаже городской тюрьмы; вести здесь допрос — само по себе пытка. С грустным видом уселся следователь снова за стол и потянул к себе лист протокола допроса. Итак, что же писать?
В полумраке, царившем теперь в каморке, затаённо светились глаза подследственного. Высокий, крутой лоб, умный взгляд. В душе следователь был совершенно убеждён, что этот человек не имеет ничего общего с тем Костриковым, которого задержали пять лет назад в Томске. Ремонтный рабочий? Какие глупости! Не требовалось особой проницательности, чтобы определить: перед вами — человек с развитым интеллектом, начитанный, много знающий, несмотря на молодые годы.
С этим человеком можно было по-серьёзному поговорить о литературе и искусстве, он отлично разбирался в политике, хорошо знал историю. Как следователю было известно из допроса, Костриков не получил систематического образования, университета он не кончал, но по духовному развитию стоял на голову выше многих из тех, кто прошёл систематический курс наук.
А судя по материалам розыска, исходившим из томской полиции, тот, видимо другой, Костриков был простым, безграмотным рабочим. Даже расписаться не умел. Под протоколом о задержании, составленном помощником пристава в 1906 году, расписался крестиком.
Можно ли столь разительно измениться за пять лет? Следователь в это не верил. В жизни таких чудес не бывает. Кроме того, у следователя были и другие причины для сомнений. И весьма веские.
3
Несмотря на вечную изжогу и мучительные ощущения под ложечкой, следователь любил удовольствия жизни и ходил на все концерты и представления, которые давались в местном театре и городском саду.
И не раз на спектаклях и в саду среди гуляющей публики встречался следователю этот самый человек, бывший сейчас его подследственным.
Личного знакомства между ними, конечно, не было, но в таком сравнительно небольшом городе, как Владикавказ, трудно не знать или хотя бы не приметить друг друга. Тем более Костриков был на виду в силу самой своей профессии — он работал в местной газете «Терек» и часто помещал в ней весьма задиристые статьи. Подписывался он не «Костриков», а «Миронов», но ни для кого не составляло секрета, кто их автор. Вольнолюбивый дух статей обращал на себя внимание, читающей публике они нравились.
Зато «властям предержащим», в адрес которых летели стрелы, эти статьи доставляли немало хлопот.
Бывало, за иную чересчур резкую статью Миронова власти штрафовали газету, даже конфисковывали отдельные номера. Казаров — владелец газеты — платил штраф, терпеливо сносил цензурные неприятности, но не увольнял строптивого журналиста. Газета хорошо расходилась, и в остром пере Кострикова крылась в немалой мере причина её успеха у терских читателей.
Вот всё это и ставило следователя в тупик. Разум подсказывал, что тут полицейская ошибка. Но, приученный к осторожности, следователь не спешил с выводами.
— Итак, вы не отрицаете, что в тысяча девятьсот шестом году находились в Томске. Что же вы там делали?
— Работал чертёжником в городской управе и учился на общеобразовательных курсах.
— Учились... Сколько же вам было тогда лет?
— Двадцать без малого, господин следователь.
«Бесспорно способный человек, — думал следователь, наслаждаясь прохладным ветерком от вентилятора, — Конечно, такой умелец мог бы достаточно ловко оборудовать любую подпольную типографию. В два счёта починил вентилятор, а ведь штука тоже не простая».
— Послушайте, Костриков, я хотел бы получить от вас ответ ещё на один вопрос. Какие обстоятельства заставили вас покинуть Сибирь, где так прохладно даже летом, и переехать сюда, на юг России, в это чёртово пекло?
Костриков улыбнулся, пожал плечами.
— Вы, конечно, не поверите, если я скажу, что меня сильно влёк к себе Кавказ.
— Начитались Пушкина и Лермонтова! — негодующе воскликнул следователь, словно видел в этом нечто очень запретное. — Но их описания Кавказа — одна лишь наивная романтика! Восторг перед экзотикой, и больше ничего!
— О нет! Кавказ — удивительный край, — возразил арестованный.
Следователь взял со стола объёмистую пачку газет, порылся в ней, вытащил одну. На всех номерах, находившихся в пачке, стояло: «Терек».
В ходе выяснения личности арестованного следователю пришлось ознакомиться более близко с его статьями в «Тереке». В пачке было лишь немногое из напечатанного Костриковым в этой газете.
Номер, который следователь держал в руках, был прошлогодний.
— Это ваша статья? — спросил следователь, показывая отчёркнутые красным карандашом колонки внутри газеты. Заголовок над колонками гласил: «Восхождение на Казбек».
Усмешка играла на жёлчном лице следователя.
— Да, моя, — ответил арестованный.
— Хм!.. — промычал следователь. — Надо признать, вы довольно красочно описываете тут свои впечатления от прогулки на Казбек.
— Это не прогулка, господин следователь!
— Не будем спорить. Может быть, это подвиг. Да-а, всё очень живо представлено. А заканчивается статья прямо-таки поэтично.
И следователь нараспев прочёл последние строки статьи:
— «Царственный Казбек молча провожал нас, как бы сожалея, что он не поведал нам всего таящегося в холодной глубине льдов и снега и мрачных ущелиях, куда едва проникает луч солнца...»
Дочитав это, следователь воскликнул:
— Красиво! Ничего не скажешь! Я знаю, недавно вы снова поднимались на здешние вершины. Так?
— Да, поднимался.
— Опять на Казбеке побывали?
— Да... Побывал.
— Потом и на Эльбрус, говорят, ходили?
— Но почему — «говорят»? Я описал и то и другое в газете, — сказал арестованный.
— Да, так, — кивнул следователь. — Это установлено. Эти ваши писания тоже у меня тут, в пачке. Вот! Отлично рассказано, я бы даже отметил — весьма поэтично. Казбек, Эльбрус как на ладони. Хвалю, хвалю! Ничего против на сей счёт не имею. С такой вашей романтикой ещё можно мириться. Альпинизм — не угроза государству. Хуже другое!
Арестованный насторожённо посмотрел на следователя. Тот зачем-то оглянулся на дверь и понизил голос:
— Вот что плохо, молодой человек, куда опаснее всяких восхождений на вершины: в некоторых статьях вы даёте почувствовать, что многочисленные народности России, и, в частности, Терека, вправе быть недовольными своим положением. Они, мол, угнетены, бес-
правны и прочее. Напрасно вы позволяете себе такое писать и печатать. Это нельзя-с!
Подойдя к двери, следователь выглянул в коридор и вернулся на своё место.
— Конечно, — продолжал он, — известная правда тут есть, признаю. Но хочется у вас спросить: представляете ли вы себе всю опасность, которая нам с вами грозит? Да, да, нам с вами, не удивляйтесь! Поверьте, я сам з молодости был человеком с идеалами и сейчас говорю с вами не как следователь, а как русский своему собрату: не играйте в революцию, она обернётся прежде всего против вас самих! Живём мы с вами здесь как на вулкане. Горцы ненавидят нас страшной ненавистью, и не дай бог, если бы вдруг началась великая смута, скажем, революция или что-нибудь в этом роде! Получив волю, они такое натворят, что это будет во сто крат ужаснее варфоломеевской ночи!
В сравнении с тем, о чём сейчас говорил следователь, весь предыдущий разговор не стоил и ломаного гроша. Дело об обвале на Аполлинариевской улице в Томске казалось самому следователю глупым и, в сущности, никому не нужным, им приходилось заниматься лишь в силу косных требований полицейского распорядка: тут мёртвая бумага держит за горло живого.
А Терек, буйный, многоплемённый, с неприкрытой враждой между казачеством и горцами, — это сегодняшнее, волнующее всех.
— Не будите чёрта, — говорил следователь, — Если произойдёт революция, мы все тут сгорим. Нас вырежут, как ягнят. Пикнуть не успеем. Это будет взрыв самых диких страстей. А вы, молодые идеалисты-романтики, вы, которые готовы за все критиковать власть и, ратуя за высокие идеалы всеобщего равенства, кричите об угнетении инородцев, — вы своими статьями только способствуете пробуждению вулкана!
У следователя обнаружилась такая заинтересованность в шедшем сейчас разговоре, что он даже остановил вентилятор, чтобы не мешал своим жужжанием. Но когда шум оборвался и в каморке стало тихо, следователь словно чего-то испугался, оглянулся на дверь и опять запустил вентилятор.
— Знаете, — сказал он почти шёпотом, — если и есть
за что привлечь вас к ответу, так именно за это, за то, что вы возбуждаете вулкан к действию. Подумайте и будьте благоразумны. Вот и всё. На допросах по инструкции не полагается произносить речи, а только задавать вопросы, связанные с ходом дознания, и поэтому не станем больше выходить за рамки дозволенного.
Костриков принял безучастный вид:
— Пожалуйста, задавайте вопросы.
А их у следователя уже не было. Своё «отдельное задание», как это называлось на полицейском языке, он мог считать выполненным. Предварительное выяснение личности арестованного произведено, а там хоть трава не расти. Теперь пускай всё решают в Томске. Распорядок нерушимый: и обвиняемый и протокол допроса должны быть переправлены туда для разбора дела «по месту преступления». Ну, и незачем больше тратить попусту время, да ещё в такую жару, А в графине ни капли.
— Протокол допроса подпишете?
— Охотно, — сказал Костриков.
— Надеюсь, не крестиком, как это сделал когда-то ваш однофамилец.
— Не знаю, как он там подписывался...
Улыбка. Быстрый, уверенный росчерк пера. За пять лет так руку не набьёшь.
— Позавидуешь вам, — сказал следователь. — Скоро вы избавитесь от здешней жары, в Сибири ведь совсем другая температура.
Он вызвал часовых, и те увели арестованного.
4
Ошибся следователь, ох как ошибся! Перед ним сидел именно тот, в ком полиция подозревала крупного государственного преступника. Именно он, Костриков, был устроителем крамольной типографии в Томске.
Чёрт возьми! Если бы тот домик на Аполлинариевской не обвалился, полиция ещё многие годы не обнаружила бы типографии.
А сколько трудов стоило вырыть под домиком подземелье! Трудились по ночам. Землю вытаскивали вёдрами и тщательно разравнивали по двору. До крови натирали руки. Как замаскировать вход в тайник, придумал сам он, Костриков. Ящик с землёй передвигался на незаметных роликах. Никто не догадался бы, что здесь вход в подпольную типографию...
Сибирь, Сибирь! Вся юность отдана ей. И сколько добрых воспоминаний! Кроме Томска, были Новонико-лаевск, Иркутск, станция Тайга.
Не рухни домик, Сергей Миронович, наверно, и сейчас оставался бы в Сибири. Пришлось бежать, не теряя ни одного дня. Хорошо, товарищи вовремя предупредили об опасности, дали денег, владикавказский адрес, билет на дорогу...
Так он очутился во Владикавказе.
Он не лгал следователю: до Владикавказа в нём ещё была жива мечта об инженерстве. С юных лет манило в мир техники. Жизнь, убеждения — всё вместе как-то само собой увлекло его на другой путь — путь профессионала-революционера. И тут вдруг открылся в нём талант газетчика-публициста.
Объясняя товарищам по подполью, как он очутился в журналистах, весело шутил:
— Просто я был после Сибири в безвыходном положении. Что-то надо было делать, раз я оказался здесь у вас, на Тереке.
Ему говорили:
— Не у всех же это получается — захотел и стал отличным журналистом. Так не бывает.
Он всё отшучивался:
— С нашим братом революционером всё бывает. И вообще в каждом человеке кроются большие возможности. Просто удивительно, до чего щедро одарён природой человек!
И хотя все понимали, что Сергей Миронович выражает обычную свою благожелательность к людям, говорит общепринятые «красивые» слова, было приятно их слышать. Главное-то всё-таки талант, и у него он есть.
В тюрьме во Владикавказе, и потом, когда Сергея Мироновича гоняли по этапу, и когда наконец в холодный осенний день его пригнали в томскую тюрьму, он не терял времени, много читал.
Он даже начал писать пьесу, но скоро бросил. Не получалась пьеса, хотя отдельные сценки казались удачными.
А во Владикавказ, где осталась его любимая, Мария Маркус, он часто посылал длинные письма, в которых ободрял её и рассказывал о ходе своего «дела». Он понимал, как трудно ей сейчас.
Она, Мария, скромная конторская девушка, не посчиталась ни с чем, соединив с его судьбой свою, а теперь она там одна, совсем одна, и, наверно, нелегко ей противостоять глубоко засевшим в людях предрассудкам и условностям света. Поэтому каждым письмом Сергей старался поднять Марию в собственном мнении и без устали повторял: верь, Маша, родная, верь в будущее. А одно письмо так и начал: «Будущее за нами...» Она отвечала растроганными письмами, и он перечитывал их по многу раз.
Судили его в марте, на восьмой месяц после ареста. Шёл уже 1912 год. В России начинался новый революционный подъём.
Суд был с участием присяжных, и те не поверили, что развитой, культурный человек, стоящий перед ними, может иметь что-то общее с тем неотёсанным рабочим парнем, которого когда-то задержали во дворе домика на Аполлинариевской улице. Да и кто знает, что за типография была под домиком? Может, её устроили фальшивомонетчики? И вот в весенний, хотя ещё по-сибирски снежный день он очутился на улице, без гроша в кармане, но с драгоценным документом, что по суду начисто оправдан!
Пришлось на полученные в канцелярии суда казённые гроши дать во Владикавказ на имя Казарова телеграмму: «Вышлите денег на обратную дорогу, я со щитом!» Это означало — возвращаюсь с победой.
Как обрадовались друзья и сослуживцы, когда он вернулся во Владикавказ и снова приступил к своим обязанностям по редакции! В первый же день зашёл к наборщикам, потом поговорил с рабочими у печатной машины. Заглянул, разумеется, и в контору, где, тихая и радостная, сидела за своей постоянной работой Мария. Всё осмотрел, со всеми перездоровался, потом, сидя в большой редакционной комнате, рассказывал о Томске, о своих мытарствах, о том, как прошёл суд. Всей правды, конечно, не говорил. Лишь метранпаж Турыгин и кое-кто из наборщиков были связаны с подпольем, все остальные, как и Казаров, полагали, что Сергей Миронович «не тот», и считали естественным его освобождение из тюрьмы.
— Ткнули пальцем в небо, идиоты! Боже, какая у нас глупая полиция! — возмущалась мадам Казарова. — Смешно просто! Спутать какого-то неотёсанного ремонтника в лаптях с порядочным молодым человеком! Право, за это стоило бы продёрнуть кого следует в очередной передовице!
— Давайте продёрнем, — хитро прищурился Сергей Миронович. — Сейчас же засяду за передовую. Лягнём департамент полиции, прокуратуру, суд.
Казарова тут же опомнилась.
— С вашей стороны это было бы весьма по-рыцарски, — сказала она уже с досадой. — Но лучше вам быть поосторожней и вообще избегать сейчас браться за передовицы. Хоть какое-то время дайте полиции забыть о вас. Не дразните гусей. Может быть, вам бы даже следовало на время переменить фамилию.
— Эврика! — воскликнул Сергей Миронович, — Пожалуй, резонно! Нет больше ни Кострикова, ни Миронова! — И он обратился к товарищам по редакции: — Друзья! Помогите мне подыскать какую-нибудь подходящую фамилию. Но она должна годиться для человека, вернувшегося со щитом. Я же писал так в телеграмме!..
Он весело шутил, а на душе кошки скребли. Ясно, теперь ему надо быть осторожным. За каждым его шагом будут следить. Лучше переменить фамилию, ведь главное — иметь возможность снова выступать в «Тереке», а это была для него своеобразная трибуна, которой он дорожил.
В тот и на другой день сотрудники редакции наперебой предлагали ему самые замысловатые фамилии. Притащили какой-то старинный календарь. На одной из страничек говорилось о древнем персидском полководце Кире. Повторив несколько раз это имя, Сергей Миронович сказал:
— А что, братцы, если я назовусь Кир... Киров... Ведь неплохо, а?
С обычной для редакционной обстановки живостью и весельем была обсуждена и принята новая фамилия. Отныне он будет подписывать только ею свои статьи. Так Костриков стал Кировым.
А вечером в городском драматическом театре он вместе с Марией слушал концерт заезжей певицы.
Когда Мария Львовна наряжалась, надевала длинное белое платье и большую широкополую шляпу с оборками, оттенявшую её смуглое лицо, то казалась особенно миловидной и обращала на себя всеобщее внимание. А Сергей Миронович, любя её такую и гордясь в душе ею, сам одевался очень скромно — пиджачок, рубашка с выложенным наружу воротничком или простая синяя косоворотка, — а в его фигуре, не очень рослой, приземистой, чувствовалась крепкая кряжистость и идущая от внутренней сдержанности степенность.
В антракте, когда он и Мария пили лимонад в буфете, мимо прошёл тот самый следователь, который занимался выяснением личности Кострикова во владикавказской тюрьме. Следователь сдержанно, но дружелюбно поздоровался.
— Рад тому обстоятельству, что вы оказались не тем, кого в вас подозревали, — на ходу сказал он Сергею Мироновичу, — А я так и думал, что тут ошибка.
Мария крепко сжала руку мужа. Он с удивлением посмотрел на неё. Она с шутливым видом заговорщицы спросила:
— Ты понял?
— Нет.
— Я просто хочу сказать, что ты молодец. Всё у тебя вышло замечательно!..
5
Конспирировался он все подпольные годы блестяще. Лучше всего это доказывал провал попыток томской охранки упечь его надолго в тюрьму. Поймали именно того, кто устраивал типографию, а он всё-таки вышел сухим из воды! В глазах подпольщиков его авторитет
тогда ещё больше вырос, а некоторые даже искренне верили, что полиция спутала его с кем-то другим, а на самом деле он вовсе не тот Костриков, который устраивал подпольную типографию в Томске.
Пожалуй, никто здесь не сделал для революционного подполья больше, чем он. Все годы войны он в труднейших условиях возглавлял работу терских большевиков. Но до самой революции никто из посторонних так и не узнал ничего о его подлинной роли. Ни одного изобличающего документа не заполучила терская полиция. Даже люди из близкого окружения Кирова, его сотоварищи по редакции, друзья и знакомые, с которыми он встречался вне редакции (если только это не были члены подполья), лишь смутно кое о чём догадывались, но никто из них не мог бы предположить, что именно он стоит здесь во главе подполья.
Эти пять лет — с 1912 по 1917 год — он был только для непосвящённых журналистом Кировым.
А потом... Потом, когда пришла революция и всё открылось, как-то раз, выступая на митинге, Киров увидел в толпе знакомого следователя. Это было месяца три назад. Следователь уже не занимался прежним делом и не носил мундира чиновника юстиции. Вид обтрёпанный, фигура стала как будто ещё выше и худощавее. А как он смотрел из толпы на Кирова! Казалось, глаза сейчас выскочат из орбит. В них были дикий испуг, удивление, полнейшая растерянность.
И ещё раз видел его Киров на одном митинге. Можно было подумать, что тот нарочно ходит на те митинги, где выступает его бывший подследственный.
Однажды Сергей Миронович даже получил от него такую записку:
«Вы, наверно, удивитесь этой записке. Судьбе угодно было свести нас у следственного барьера как врагов, хотя лично я не желал вам зла и даже в какой-то мере, хотя и не отдавая себе ясного отчёта, сочувствовал вам.
То, что вы даровитый человек и стоите любых похвал за великолепные статьи, которыми я втайне давно зачитывался, и за блестящее ораторское искусство, которое в вас сейчас открылось, — это мне нынче совершенно ясно, как и то, что именно вы были устроителем тайной подпольной типографии в Томске».
Мария, прочитав эту записку, воскликнула:
— Слушай, Серёжа, всё-таки он оказался человеком! Если бы он тогда захотел, то мог бы намного усложнить твоё дело!
Сергей Миронович кивнул:
— Мне тоже так кажется. Во всяком случае, заключение он тогда дал мягкое, и мне это потом хорошо помогло на суде.
Почти то же Киров сказал Ною, когда закончил свой рассказ:
— Да, чем-то он мне, видимо, тогда помог. А в его власти было усилить обвинение, и попал бы я на каторгу как пить дать.
— Добренький следователь, — пожал острыми плечами Ной. — Я таких не встречал... Все — собаки!
— А он и не добренький, — сказал Киров, вставая и выглядывая в окно. — Что-то моей Маруси и Орахелашвили не видно, уже восьмой час... — И, снова усевшись, Сергей Миронович продолжал: — Дело не в доброте, Ной, тут, наверно, надо искать какие-то другие побудительные мотивы. Человеческое поведение бывает очень сложным, ты ведь это хорошо знаешь. Обывательская боязнь революции — вот что могло сыграть роль в данном случае. Он и сейчас вздумал предупреждать меня...
— Вот как? — удивился Ной, — А что же он тебе говорил там, у двери?
— Убеждал не лезть на рожон, не драться с Карауловым, остерегаться злых сил. «Опасно, — говорит, — Не играйте с огнём».
Ной расхохотался:
— Хорош совет! Нет, он совсем добренький, твой следователь, ей-же-ей! Он даже по-своему за нас, судя по всему.
— Он нам сейчас не враг, — сказал Киров, снова поднимаясь, — Это я чувствую... Послушай, отчего их всё-таки нет?
Ной задумчиво проговорил:
— Может, в Петрограде наши дела не так плохи? Я исхожу в оценке каждого явления, каждого человеческого поступка прежде всего из общей обета...
— Ной! Ты забыл уговор! — остановил гостя Киров, — Напоминаю!
— Ладно, — проворчал Ной. — Будь по-твоему. Должен тебе только заметить, что со мной следователи обращались далеко не мягко. Может быть, отчасти потому, что я был для них инородец. Лютовали так, что забыть не могу. Одиночки, кандалы, мордобитие... каторга!..
Он застегнул на все пуговицы свой светлый чесучовый пиджак, хотя на улице ещё было жарко. Но с гор чуть-чуть потянуло лёгким вечерним холодком, и Ной это сразу почувствовал. Он ощущал малейшее дуновение ветерка и сразу начинал долго и надрывно кашлять.
Глава четвёртая. Старики хотят знать
1
Мария прибежала одна. Было уже около восьми.
— Орахелашвили не придёт! И вообще всё полетело! — объявила с порога раскрасневшаяся Мария, — Обидно чертовски! Я так надеялась — посидим вместе, отдохнём хоть один вечерок!
— А что случилось? — спросил Киров у жены.
— Горцы приехали, — ответила она, снимая у зеркала шляпу и перчатки.
— Какие горцы, Марусенька, говори толком!
— Из Ингушетии. Пятеро стариков. Чуть не по сто лет каждому.
— Где же они? Позвала бы сюда...
— Они у Орахелашвпли. А звать сюда, к нам... я, конечно, сначала тоже за это уцепилась, потом сообразила: чем же мы их примем?
— Как — чем? Что есть, тем угостим.
— Бог с тобой, Серёжа! Они же магометане.
— Ба-ба-ба! — вскричал Киров, — Ты свято права, Марусенька. Но разве у нас...
— Ну конечно! Колбаса, вино, свинина на второе. Они же этого не едят и не пьют! А у Орахелашвили совсем обеда нет — жена в отъезде, и он на частном пансионе. Но дело не в этом. Старики уже обедали. И подумай только — где! В гостинице у Ахмедова. Они там остановились.
Киров и Ной с тревогой переглянулись.
— Да, представьте такую нелепость! — продолжала Мария. — Ужасная нелепость! Но один из этих стариков родич Ахмедова и потащил всех туда. Это было ещё до того, как они встретились с доктором. Ведь он ездил к Базоркино от вашей... нашей организации, — поправилась Мария (она была беспартийной). — Вот они прежде всего явились к нему в больницу.
— Ах вот что! — теперь уже всё понял Киров, — Да, он вёл переговоры с Ингушским Национальным Советом в связи с обозом. А зачем они приехали, эти старики, не знаешь, Маша?
— Благодарить вас! Прискакали верхом из Базорки-на, как только туда, в их Совет, сообщили, что обоз прошёл без эксцессов. Сели на коней и примчались. И вот сейчас сидят у доктора, а он в большой тревоге. Не знает, что и делать. Тоже опасается, очень опасается за судьбу стариков. Как бы с ними не случилось чего-нибудь у этого Ахмедова!..
Мария плюхнулась на стул, устало вздохнула и с грустным выражением посмотрела на мужчин. Они сейчас уйдут, она это знала.
И в самом деле, оба, снова переглянувшись, обеспокоенно заходили по комнате. Ной сказал:
— А что, придётся пойти туда. К старикам.
Сергей Миронович кивнул:
— Обидно, но придётся. Ненадолго только... А, Мария? Ты как на это смотришь?
— Ясно как, — горько усмехнулась она, — Идите, раз надо. Жалко стариков, это верно. Но, что вы сможете сделать, я не представляю. Орахелашвили, наверно, уйдёт с ними к Ахмедову.
— Ну правильно, — кивнул Сергей Миронович, — Надо обеспечить, чтобы с ними ничего не произошло. Собирайся, Ной!
Выйдя в спальню, Киров открыл шкаф и вытащил из укромного местечка револьвер. Мария вошла вслед.
Прильнула к мужу, тихо проговорила:
— Ты будешь беречь себя, Серёжа? Смотри!
— Не беспокойся, родная, мы с Ноем люди осторожные. И всякое повидали, ты знаешь...
На улице ещё только начинался вечер. На юге светилась закатным багрянцем островерхая макушка Казбека, а по отрогам хребта ползли кое-где пухлые облачка, тоже красные от заката, и синие тени ущелий лежали выше этих тучек.
На углу Киров и Ной взяли извозчика и помчались к Орахелашвили. Но уже не застали там ни доктора, ни горцев.
— Остаётся ехать к Ахмедову, — сказал Ной, когда они снова очутились на вечереющей улице.
— Ох, как не хочется! — вздохнул Киров.
— Там, кстати, и поужинаем, — продолжал Ной, — У Ахмедова, говорят, кухня про всякого Якова: и для христиан, и для магометан, и даже, наверно, для людоедов-огнепоклонников.
— Не буду я там ужинать, Ной.
— Ну, посмотрим. Я ещё там не бывал, а наслышался чёрт те чего. А впрочем, что может случиться? Не съедят нас, я думаю. Поехали!..
2
Ресторан был плохонький, как и сама гостиница Ахмедова. Это заведение немногим отличалось от тех духанчиков, которых в городе была пропасть.
Действительно, уже с утра тут начинала «бацать» музыка. Оркестр состоял всего из трёх музыкантов — скрипача, виолончелиста и барабанщика, но шум они производили ужасный. В сидящей за столиками публике
преобладали военные. Под сводами потолка плавали густые клубы табачного дыма. Из замызганного зала в кухню было прорублено окно. Получив заказ от посетителя, официант подходил к этому окну и кричал поварам:
— Жареный барашка один раз!
Или:
— Шашлык по-карски два раз!..
Попадались в публике и горцы. В углу зала для них стояли отдельные столики. И кушания туда подавались другие. Армейские офицеры насмешливо называли этот уголок «азией» и отворачивали носы, показывая, что они и запаха, идущего оттуда, не выносят.
Горцы, конечно, всё замечали и слышали. И всё же ходили сюда, и в базарные дни их бывало тут много, особенно по воскресеньям.
Вечером в зале внизу появлялся сам Ахмедов, мясистый, живой мужчина с рыжеватыми баками.
Он ходил по залу в бешмете и мягких горских сапогах. Весёлый, очень подвижный и стремительный, как угорь, он иногда начинал фиглярничать. Запляшет, захлопает руками в такт музыке:
— Ай хорошо! Хорошо, когда весело!
— Хозяин! — кричали ему из разных углов. — Почему ты такой весёлый?
— Потому что бедный, — хорохорился Ахмедов. — У меня вся гостиница в долг живёт. Чем плакать, лучше буду танцевать!
Он присаживался к кому-нибудь из посетителей:
— Правильно я говорю, нет? Скажи, да? Нет?
И не отставал, пока не получал ответ.
А поговаривали, что Ахмедов сказочно богат и держит деньги в питерском банке.
Он слыл благоверным мусульманином и свинины в своём ресторане не держал. Русские офицеры, жившие в гостинице, иногда из-за этого скандалили — им подавай жареного поросёнка с кашей, свиной шницель или что-нибудь ещё в этом роде. Ахмедов на такие требования отвечал:
— Не могу. Мне коран запрещает.
— А вино держишь! И паршивое. И дерёшь за него втридорога. Это как — можно?
— Нет правил без исключений, дорогой!
— В твоём коране так и написано?
— Ай, дорогой, зачем тебе подробности? Написано почти так, как я тебе говорю. Знаешь, я тебе лучше пословицей всё объясню. Магомет был недаром великий пророк! Он действовал, как говорится у вас, у русских: «И нашим и вашим всегда спляшем».
— Да разве Магомет знал русские пословицы?
— Магомет всё знал!..
Доктора и стариков горцев не оказалось в номере, на который указал коридорный. Но комната — она напоминала плохое общежитие и была вся заставлена койками — не пустовала. На койках и вокруг стола сидело с полдюжины молодых горцев в бешметах. Оказалось, эти люди приехали из Ингушетии вместе со стариками для их охраны.
— Где же старики?
— Там... кушай, — показал вниз пальцем рослый горец, весь увешанный оружием.
Киров и Ной спустились в ресторан и в «азиатском» углу увидели тех, кого искали. Между Орахелашвили и стариками шёл оживлённый разговор. На столе на большом блюде лежал чегельбиш — плоские лепёшки из ячменной муки. Перед каждым стояла тарелка с кусками отварной курицы, издававшей острый запах чеснока.
Старики важно и подтянуто восседали за столом и почти ничего не ели.
Мария немного преувеличивала — никому из них ещё не было ста лет, но моложе семидесяти не было никого. Головы и бороды, однако, не у всех серебрились сединой, бросались в глаза и почти чёрные бороды.
Бешметы и черкески на них были добротные; один носил зелёный халат и белую чалму и был, видимо, муллой. Эти горцы принадлежали к тем, кого в Ингушетии и Чечне зовут «почётными стариками». Обычаи рода — тайпы — свято соблюдались в горах, а послушание воле старших, глубокое уважение к старикам считалось одним из главных устоев тайпы.
Нет, не ради" трапезы сидели они здесь за пиршественным столом. Почти ни к чему не притрагивались, хотя, может быть, и были голодны. И чегельбиш и курица очень вкусно пахли.
Стариков привело сюда другое. Их тронула забота неведомых им людей об обозе, и они приехали в город с своеобразным ответным визитом к доктору, который приезжал к ним в Базоркино. Он не обманул, доктор, когда заверил их, что всё обойдётся благополучно. Обоз прошёл! Голодающие аулы получили хлеб! Как же не воздать должное, как не отблагодарить доктора Орахелашвили и в его лице — всех тех, кто помог обозу проехать через город и выказал такое дружелюбие к горцам!
В отличие от стариков, доктор ел и не мог поступать по-другому, иначе на него обиделись бы. Невозможно было отказаться от приглашения посидеть здесь с приезжими за столом! Кирову и Ною тоже пришлось разделить участь доктора. Едва он представил их старикам, те тотчас приказали официанту подать ещё два прибора.
— Пожалуйст, всё кушай на здоровье, — сказал самый старший из стариков, ещё крепкий, краснолицый человек с орлиным носом. — Кушай, кушай!..
Имя «Ной» они сразу усвоили, а Кирова стали называть Кирой. Пришлось отведать и курицу, и чегельбиш, и другие блюда. Ной делал это с явным удовольствием и всё оглядывался вокруг.
А Сергей Миронович бывал тут — приходилось, особенно в первые репортёрские годы. Куда не занесёт и с кем не сведёт беспокойная профессия газетчика!
К великому удивлению Кирова и Ноя, в зале оказался и Серобабов. Он сидел в отдалении, за отдельным столиком, в обществе кучки младших офицеров, и потягивал пиво.
Один из офицеров читал вслух какую-то потрёпанную книжонку, остальные тоже потягивали из кружек и слушали чтение.
Ной хотел было подойти к тому столику, но Киров не пустил.
— Не ходи. Видишь, он старается нас не замечать. Значит, так надо.
— Ай да Серобабов! — качал головой Ной и с хрустом уписывал куриное крылышко.
Молодой слесарь был в приличном костюме, на спинке стула висела его шляпа.
Орахелашвили, разумеется, страшно обрадовался приходу своих товарищей. Жестами, мимикой он дал им понять, что сидеть здесь, в ресторане, мало радости, но ничего не поделаешь, надо сидеть и быть настороже. Провокаторов в зале немало. И неприятных встреч не избежать.
А Кирову было достаточно окинуть зал беглым взглядом, чтобы убедиться в правоте доктора.
От прибывших горцы хотели кое-что услышать; с доктором — иначе они его не называли — старики уже наговорились и теперь настаивали, чтобы Кира и Ной рассказали, как пойдёт, на их взгляд, жизнь дальше, что будет, можно ли ждать лучшего впереди. И придут ли в горы мир и счастье?
Бородка Ноя и вся его внешность показались горцам признаками более пожилого возраста, чем дышащее здоровьем крепкое лицо Кирова, поэтому они и предоставили Ною первому заговорить.
— Хорошо, — сказал Ной. — Сейчас я вам выскажу свой взгляд на современное положение. Видите ли, дорогие товарищи...
Он понимал, что должен исполнить свою миссию со всей серьёзностью. Спешить нельзя, старики не любят спешки.
3
Неприятных встреч не избежать, да.
Хозяин гостиницы и ресторана сидел сейчас за столиком у окна в обществе известного на Тереке человека — чеченского нефтяного магната Топы Чермоева. Как выбился Топа в миллионеры, это долгий сказ; во всяком случае, немаловажную роль тут сыграло лукавство, чем, пожалуй, природа больше всего его наградила. Поговаривали, что такой хитрой лисы мир не видел. А внешность у Чермоева была крайне простодушная. Глаза маленькие, чёрненькие, часто помаргивают. На широком смуглом лице — наивное выражение доверчивого, недалёкого, малопонятливого чудака.
Одет был Чермоев по-европейски. Отличный, хорошо отутюженный костюм, белая крахмальная манишка, золотая цепочка на жилете. И толстое, очень толстое обручальное кольцо на пальце.
— Даже Топа сюда захаживаем, в этот гадюшник? — недоумевал за своим столиком Серобабов. — Топа ведь держит знакомство со знатью, с самым высшим светом, говорят...
Один из младших офицеров, бородатый человек в очках, оказался грозненцем. Он знал Топу.
— Что ему, буржую! — проворчал бородач, — Такой всюду вхож. Знаете: наш пострел везде поспел. А Ахмедов, кстати сказать, его большой приятель. Разные делишки обделывают. Свояки!..
Тот, который читал вслух, отложил книжку, взялся за своё пиво и угрюмо сказал:
— У нас на Тамбовщине, чёрт побери, их называют буржаками. Сволочи все... Эх, домой бы!
— Так вы не грозненец? — спросил у него Серобабов.
— Кой чёрт! Мы стоим в Грозном, понял?
Молодой слесарь до прихода сюда не знал этих людей. Их было трое. Все окопники, фронтовики, это легко угадывалось по нашивкам на рукавах — свидетельствам о ранении, георгиевским крестам и медалям.
Загрубелые, хриплые голоса. Резкая, пересыпанная острыми словечками речь. Нарочитая разудалость и самая настоящая, глубоко сидящая в душах озлобленность на всё и вся.
Один то и дело произносил:
— Всё надо разнести к чертям. Всё долой!..
— Что долой, Петруха? — смеялись его приятели за столом. — Сам не знаешь, брат. Чудила!
— Нет, я-то знаю! Разнести в прах всё!
Серобабов присел к этим людям как бы для компании, и те с охотой приняли его в своё общество. Оказалось, они не здешние, их 111-й полк стоит в Грозном, и прислало их сюда начальство за каким-то грузом. А какой груз, бог ведает, квитанции у поручика.
На самом же деле целью Серобабова было выведать, что за книжку читают эти люди. И теперь он уже это знал.
Она называлась «В стране абреков». Книжонка паршивая, Серобабов уже сказал своим собеседникам. Одно враньё. Описываются горцы Терека, и все представлены абреками-разбойниками. Так ведь это неправда и несправедливость большая. Горцы такие же люди, как все. Землю обрабатывают, если она у них есть, а когда её не оказывается, вот тут и бывает, что берёт горец кинжал, винтовку и идёт на дорогу... Бывает, бывает, да кто же повинен? Вот сегодня через город обоз проходил. Кто грозил горцам расправой? Всякая чёрная сотня, контрреволюционная, старорежимная шваль. А горцы без причины никого не трогают.
— Ну, это ты уж слишком, — возражал Серобабову окопник, который грозился всё разнести. — Они тоже завзятые, чуть что — за кинжал.
— Психология такая, — сказал второй. — Темнота... А нашего брата чуть задень, он тоже с психологией. Спуску не даст... Вот тебя прямо страшно одного по городу пускать. Того и гляди, человека зарежешь.
Все усмехнулись, а тот, который читал книжку, снова уткнулся в неё глазами.
— Ну, будем продолжать, что ли?
— А кто вам её дал? — спросил как бы ненароком Серобабов. — Где такие достаются?
— На вокзале... Какой-то тип в руку сунул. Извольте, говорит, вам для интереса.
Третий уже был в сильном градусе. Его клонило ко сну. Русые, как у Серобабова, волосы, только более густые и кудрявые, свисали почти до тарелки. Слушать чтение он не был в состоянии. Окопник тоже больше не захотел слушать.
Он встал:
— Пошли, господа... Погуляем по городу.
— Отправились бы спать, — посоветовал слесарь. — Вы тут остановились?
— Тут...
— Книжонку бы мне эту дали, — попросил Серобабов. — Завтра занесу в номер.
— А ты же её ругал!
— Ну, ругал. А коли прошу, значит, надо.
— Агитатор небось, — показал слесарю кулак бородач в очках. — Ну на, держи! — Он добавил, наклонившись к уху Серобабова: — Думаешь, мы не понимаем? Всё понимаем...
Минуту спустя, расплатившись, офицеры вывалились на улицу, а их собеседник остался сидеть один за столом, и перед ним лежала книжонка, которую оставили его исчезнувшие собеседники.
В «азиатском» углу ещё шла беседа троих руководителей владикавказской большевистской организации с почётными стариками.
Серобабов не мог оставить свой столик и уйти. Он был на посту и попал сюда не случайно. Ещё на закате в мастерские на заседание завкома прибежала девочка, дочь хозяина квартиры, где жил Орахелашвили, передала Серобабову записку. Доктор просил помощи. Молодой слесарь, как ни устал, как ни поволновался за день, сбегал домой, переоделся и вскоре уже сидел в ресторане Ахмедова.
А на улице, через дорогу, у порога табачной лавчонки сидели и покуривали несколько переодетых бойцов из его отряда.
Когда Серобабов остался один, Киров извинился перед стариками и подошёл к его столику:
— Откуда были те офицеры?
— Из Грозного, — объяснил Серобабов. — Вот, книжонку я у них выпросил. Узнаете?
На обложке стояла знакомая Кирову фамилия старичка, прислуживающего Гамалее.
— Работают, подлецы! — сказал молодой слесарь. — Я нарочно выпросил, вам показать. На вокзале, говорят, это им дали.
Киров полистал книжку, вздохнул:
— Надо поглядеть, кто этим там занимается...
— Я завтра ребят пошлю. И сам пойду,
— А сейчас ребята с тобой?
— На улице дежурят.
— Устал, брат?
— Ничего, — улыбнулся слесарь, — Дело же! Отдохнём после революции, когда всё закончим!..
Сергей Миронович вернулся к своему столу, а железнодорожник заказал себе ещё пива.
4
Эго был смелый, решительный человек. Киров знал его давно, ещё по дореволюционному подполью. Внешне малоприметный, медлительный, Серобабов отличался большой ловкостью и силой. С револьвером он не разлучался.
Это он создал в мастерских отряд рабочей милиции по типу тех, какие возникли в первые дни революции в Петрограде, Москве и других крупных промышленных центрах России. Этот отряд, ещё немногочисленный и слабо вооружённый, да такой же отряд на Алагирских свинцовых рудниках пока были единственной боевой силой, на которую могли опираться большевики.
В последнее время усилилось их влияние и во владикавказском гарнизоне. Но революционно настроенные пехотные и артиллерийские части не удерживались тут долго: их быстро перебрасывали в другие места. Казачьи главари Терека боялись держать здесь такие части и старались всеми силами от них избавиться. Неугодные полки спроваживали на фронт, в Закавказье. Временное правительство в Петрограде по-прежнему требовало -войны до победы». В Закавказье русские войска ещё держали фронт против турок, на западе — против германских войск Вильгельма и австрийских войск Карла I.
О войне и её бедствиях как раз и говорил Ной старикам, когда Киров вернулся на своё место. Ной считал эту войну одной из наиболее бессмысленных в истории. Сами цари, кайзеры и императоры, видимо, не ожидали, что дело примет такой оборот. Теперь народ должен покончить не только с войной, но и со всем старым, прогнившим строем жизни.
— - Таким образом, мы видим... Хм...
Голос у Ноя минутами срывался, он тоже чертовски устал за день. Киров решил прийти ему на выручку. Ной ещё,- чего доброго, заведёт сейчас о характере революции, об отношении к будущему Учредительному собранию, на которое так надеются меньшевики и эсеры, о политике Керенского и десяти министров-капита-листов, сидящих во Временном правительстве. Пора было увести стариков спать -и позаботиться, чтобы за ночь с ними ничего не произошло. Но не успел Киров вмешаться в разговор, как сверху раздался выстрел. Палили где-то на втором этаже. И тут же раздался успокаивающий голос Ахмедова:
— Сидите, сидите, господа! Это прапорщик Мушта-ков безобразничает. Не в первый раз, господа! Лежит на кровати, негодяй, и упражняется!
Те, кто вскочил, снова уселись.
Извинившись перед Чермоевым, хозяин гостиницы пошёл к боковой двери, где был ход наверх. Грозненский магнат недолго думая направился в «азиатский» угол.
«Дело плохо», — подумал молодой железнодорожник, когда мимо проходил богатый чеченец. Тот уже церемонно здоровался со стариками.
— Селям...
— Селям алейкюм...
Чермоев прикладывал волосатую руку к груди в знак особой почтительности и уважения к старикам. Он ещё что-то сказал им по-чеченски. Те ответили по-своему. Зазвучала быстрая, гортанная речь.
Чеченцы и ингуши — родственные племена, живут в горах бок о бок и хорошо понимают друг друга. Но чеченцы более многочисленны, у них больше интеллигенции, торговых людей, офицеров. Город Грозный с его нефтью стоял на чеченской территории, хотя считалась она казачьей.
Ингушетия была более отсталой и нищей.
Встреча с Чермоевым не входила в расчёты Кирова и его товарищей. Они нахмурились. Топу Чермоева знал весь Терек. Встречались с ним и они. Топа председательствовал в разных терских комитетах, выступал в городской думе, на всяких совещаниях и съездах, где по обязанности приходилось бывать и большевикам.
— Извините, я не помешал ли? — перешёл на русский Топа Чермоев. — Я просто рад видеть, очень рад, ну очень-очень рад такое видеть! — сразу рассыпался он в любезностях. — Сидят русские, сидят наши горцы, сидят за одним столом, мирно беседуют!
Не садясь, а поставив ногу в лаковом штиблете на свободный стул, он продолжал всё с тем же сияющим лицом:
— Вот такой должен быть Терек! Царство дружбы
народов! Как требует и ваша вера, и наша вера! Наш коран и шариат! Ваше что? Ветхий завет? Пускай будет Ветхий завет! Евангелие? Хорошо! Пускай так!..
Киров остановил этот поток красноречия:
— Господин Чермоев! Вы хорошо знаете, что мы — я и мои коллеги, сидящие здесь...
— Вай! — схватился за голову Топа. — Пускай ваша вера другая! Пожалуйста! Я не возражаю, дорогой журналист! Можете верить в марксизм, если хотите, в социализм, в... ну что там ещё есть в вашей вере. Я не возражаю!
Он ломал комедию, хитрец. В политике Топа неплохо разбирался, знал, что с чем едят. Выведав у хозяина гостиницы, зачем приехали сюда старики, он сейчас намеревался «подкузьмить» своих противников, выставить их перед стариками в невыгодном свете, и прежде всего — как неверных «гяуров».
Старики заёрзали, стали перешёптываться между собой по-ингушски, а Топа продолжал:
— У каждого народа своя вера, и это очень хорошо, господа! Вам, русским, подходит большевизм и классовая борьба — пожалуйста! А нам, хвала аллаху, по душе только шариат и коран! Так я говорю, господа земляки?
Затряслись головы, бороды. На слова Топы старики ответили согласными кивками. Киров, Ной и доктор только быстро переглянулись.
— Видите! — торжествовал Топа. — Мы едины во мнениях, хвала аллаху. И знайте: если Россия искренне желает дать нам свободу, то прежде всего мы требуем национального суверенитета. И вы, люди из угнетающей нации, не должны нам препятствовать, а вы препятствуете!
Тут Топа допустил ошибку. Ной подскочил и закричал:
— Это я-то из угнетающей нации? Или он? — показал Ной на доктора.
Ной, горячась, пустился в теоретический разговор. Он заговорил о том, что в каждой нации — разные классы, и тут же съехал на классовую борьбу. А Топа ухватился:
— Вот этого мы не хотим, господа уважаемые большевики! Вы своими теориями только разрушаете нацию
изнутри. Нам это не подходит, мы маленькие нации. И у нас свой путь, господа, особый путь...
Снова не повезло Топе. Напирать на особый путь ему не следовало. Киров уцепился за его последние слова, спросил:
— Какой же именно путь? Скажите?
— Ну что я буду сейчас говорить? — развёл руками Топа. — Я с вами поспорю где-нибудь в другом месте.
Он спохватился — ведь перед ним весьма опытные политики, тоже знающие, что с чем едят. Углубляться в серьёзный спор ему было невыгодно.
— Нет, всё-таки скажите! — настаивал Киров.
Поняв сразу его манёвр, вступились и поддержали Сергея Мироновича его товарищи.
— Давайте уж быть честными до конца, господин Чермоев, — сказал Ной. — Интересно, как вы мыслите себе будущее Терека? Скажите!
А доктор, обращаясь к старикам, сказал:
— Давайте все послушаем почтенного магната! Ведь узел сложный, очень сложный. А господин Топа берётся его сразу разрубить. Удивительно!
Чермоев покраснел, снял ногу со стула.
— В другой раз, — сказал он, выпрямляясь и принимая надменный вид. — Я знаю, с кем имею дело. Я подошёл, чтобы выразить свои большие чувства! Я порадовался на вас! Я тоже хотел, как и эти мои соплеменники, выразить вам благодарность за обоз! Но вы сразу даёте почувствовать, кто вы такие. Вы помогли с обозом не во имя человечности, а из политических соображений. Это нехорошо, господа! Очень! Нет!..
И, всё твердя «нехорошо», «нет», «очень» и качая грустно большой головой, Топа отошёл.
5
Наверху вдруг прогремел второй выстрел. И третий. На тротуар — это видно было сквозь окна — сыпался дождь разбитых стёкол. Оркестранты притихли. В зале опять повскакали с мест.
И тут же появился бледный, трясущийся Ахмедов. Он был вне себя.
— Дайте мне кто-нибудь револьвер, и я убью эту собаку! — закричал диким голосом хозяин гостиницы, — Он стреляет в мои зеркала, в окна, бандит!
Ахмедова усадили, стали успокаивать. Официанты побежали наверх. Один вскоре вернулся и сообщил:
— Прапорщик связан по рукам и ногам, господа! Всё в полном порядке! Опасности нет!
Оркестр снова заиграл что-то восточное.
— Послушайте, — сказал Киров обеспокоенным старикам, — не переберётесь ли вы к нам на ночь?
Горцы не спешили с ответом. Один спросил:
— Куда ты хочешь нас увести?
— К себе домой. У* меня на квартире вам будет хорошо. А здесь видите что творится? Место не из приятных.
— Му меня квартира есть, — подхватил Орахелашвили. — И жена как раз в отъезде...
Ною оставалось промолчать. Он снимал за небольшую плату комнатку, в которой едва помещался сам.
Старики посовещались, потом старший из них сказал:
— Хорошо. Дай нам адрес, напиши, где живёшь, дорогой, мы потом придём.
— Когда потом?
— В другой раз. Ты нам скажешь, что мы не знай, хорошо? Сейчас Топа говорил — он знает... как это... узел рубить. Мы с ним поговорим, послушаем. Потом к тебе придём. Тебя послушаем, так?
Обратившись затем к Ною, старший старик с орлиным носом сказал:
— И к тебе придём, дорогой.
— Ко мне приходите, — сказал доктор.
— У тебя мы уже были. Спасибо, дорогой.
Всё было ясно — старикам хотелось поговорить с Чермоевым наедине. Их заинтересовал разговор о судьбах Терека и его будущем устройстве. Это был в самом деле сложный узел, и он всех волновал.
В эту затруднительную минуту удивительно простой выход из положения нашёл Серобабов. Он слышал последние слова стариков и понял, что должен немедленно действовать.
Он встал, бросил искоса взгляд на Кирова, подмигнул ему — мол, сейчас мы это дело устроим — и шагнул к двери.
На улице у обочины тротуара темнел чёрным лаком фаэтон Чермоева. Застоявшиеся лошади копытами били булыжную мостовую. Кучера на облучке не было — он тоже сидел в ресторане.
Серобабов дал знак своим ребятам у лавочки подойти, пошептался с ними.
— Понятно, — сказал один из них, рослый, с рыжеватыми усами. — Сейчас поскачем!
Едва железнодорожник успел вернуться в ресторан, как произошёл новый переполох.
С улицы вбежал один из парней Серобабова:
— Экипаж уводят! Чей экипаж?
Кучер сидел у двери. Это был проворный горец, но он не успел: выскочив на улицу, он увидел, как экипаж с бешеной скоростью уплывает в дальнюю мглу.
Из ресторана выбежало ещё несколько человек. Среди них был и Чермоев. Все кричали:
— Держи! Держи!..
Вышел и Ной поглядеть, что происходит. Чермоев и кучер бежали к перекрёстку, где стоял извозчик. Вот добежали, сели и понеслись вдогонку за исчезнувшим экипажем.
В зале Киров и доктор тем временем продолжали уговаривать стариков:
— Не надо вам здесь оставаться. Видите, какое беспокойное место! Поедемте к нам.
Старики отвечали, что уж переночуют здесь. Во дворе тут стоят их лошади.
Киров наконец нашёл нужный довод:
— Я обещаю вам рассказать, как мы, большевики, смотрим на будущее Терека. Вы узнаете, какой у нас план. Великий план.
— Какой? — заинтересовался горбоносый.
— О, это самый великий план, которым когда-либо осуществлялся в истории! Топа здесь упомянул «царство дружбы народов». Мы расскажем вам, как мы хотим добиться такого царства. Но не на словах, а на деле!
— Да? — всё больше заинтересовывался горбоносый.
Глаза стариков заблестели. И думали они недолго.
Слишком велик был соблазн.
— Хорошо, едем, — решил старший старик.
Вот какое зрелище видели прохожие на улицах города в тот вечер. Посреди мостовой едут на поджарых горских лошадках пятеро длиннобородых старцев, а позади их телохранители. За ними шагают Серобабов и его ребята. А по тротуару, оживлённо беседуя между собой и весело смеясь, шествуют Киров, Ной и доктор...
Всю эту ночь во дворе дома, где жил Сергей Миронович, слышался храп коней. А в его квартире на втором этаже почти до утра не затихали голоса.
А наутро, чуть свет, горцы попрощались с гостеприимным хозяином и хозяйкой, с доктором и Ноем, тоже проведшими здесь всю ночь, сели на коней и выехали за ворота. Провожал их только Сергей Миронович. Ной и доктор остались помогать Марии Львовне приводить квартиру в порядок.
— Мы очень, очень, очень довольны, — говорили Кирову на прощание старики.
А самый старший обнял его и сказал:
— Сын мой! В счастливый час мы тебя узнали! Да сбудутся слова твои. План твой велик и благороден! И знай твёрдо: если тебе нужна будет моя помощь, — растроганно продолжал старик, — пошли за мной в горы. Я приеду и помогу. Меня зовут Джабраил. Запомни: Джабраил Арсанов. Но я не шейх. Есть шейх Дени Ар-санов. А я просто старый Арсанов. И да будет благословен твой очаг!
— И меня! М меня запомни! — говорили Кирову и остальные горцы.
Уехали они в самом деле очень довольные.
Одно только немного удручало их: в квартире, где они провели ночь и где услышали столько интересного и важного, немного пахло жареной свининой.
Глава пятая. Безумный день
1
Это разразилось как катастрофа.
Ещё с утра всё в городе было спокойно, тихо. Как обычно, кишел публикой бульвар, катили по Александровскому проспекту экипажи, ехали верховые, шли по своим делам прохожие. В лавках бойко торговали. В ду-ханчиках ели баранину, пили вино.
Впрочем, в этот день утром некоторая встревожен-ность давала себя чувствовать. Её принесли газеты. Недобрые вести пришли в последние дни из Петрограда. Там стреляли в народ на Невском. А сегодня утром газеты сообщили, что в революционной столице вовсю распоясались юнкера и казаки. Обыски, аресты. Травят большевиков. Грозят убить Ленина, называя его немецким шпионом. У владикавказских газетных киосков уже на рассвете стояли очереди.
С того дня, как по городу проехал горский обоз, прошло несколько суток.
В атаманском белокаменном дворце, увенчанном восьмиглавой башней, за плотно закрытыми окнами в эти дни шли какие-то совещания. Приезжали верховые и на дрожках казачьи офицеры из ближних станиц и даже из Г розного и Моздока.
У подъезда иногда останавливались автомобили и своим грохотом пугали лошадок, стоящих у коновязи.
Автомобили приезжали из Закавказья, с фронта. Но были в городе и свои автомобили: у атамана, у начальника гарнизона, у тыловых командиров, у начальников интендантств. Штатские ездили на таких машинах редко.
Когда катастрофа разразилась, некоторые потом вспоминали, что одна машина, кажется «бенц», минувшей ночью стояла возле гостиницы Ахмедова. Но то была не здешняя машина: вся в пыли — наверно, из Грозного...
Не Чермоева ли? У него была такая большая, шестиместная, с брезентовым верхом и трескучая, как пулемёт. И у этой тоже был брезентовый верх, и она тоже ужасающе трещала. Но самого Чермоева не могло быть в городе. Он после того шумного вечера в ресторане уехал в Грозный, на свои нефтепромысла.
Коляска его, кстати, нашлась. Стояла, брошенная на произвол судьбы, где-то у Ларса, далеко за городом. На поиски ушла вся ночь. Сердился Топа очень...
А началась катастрофа, как пожар от искры, с очередного скандала в гостинице Ахмедова. Ещё накануне вечером между Ахмедовым и прапорщиком Муштако-вым произошла драка.
Шум" был такой, что сбежалась вся улица. Муштаков, пьяный, опять стрелял в зеркала из семизарядного пистолета. Дебошира обезоружили. Тогда он стал швырять тяжёлыми предметами и переломал всю мебель у себя в номере. Ахмедов чуть не плакал от ярости. Около часа ночи развесёлый прапорщик спустился в переполненный зал ресторана и закричал:
— Господа! Великая Россия просыпается! Я вам важный слух сообщу. Большевикам и прочим инородцам — конец! Богом клянусь, пресвятой богородицей! Сейчас у меня был человек из ата... атаманского дворца!..
Известие переполошило всех. Как! В Петрограде очередной переворот? Царя вернули на престол? Монархисты явные закричали «ура». Монархисты тайные потихоньку между собой чокнулись за здоровье императора и императрицы. Но сторонники Керенского й Учредительного собрания не потерпели таких изменнических выкриков и чоканий. Они запели «Марсельезу», стараясь перекричать оркестр, который, как всегда, исполнял с грохотом что-то восточное.
Прапорщика в ту ночь мертвецки напоили обе стороны. Каждая старалась переманить его к себе и выведать поточнее, что он знает. Негодяй, скотина, но кое-что знает, этого не отнять. Даже на городском телеграфе мало точных данных о последних событиях в Петрограде, а Муштакову, подлой душе, всё уже известно.
Догадывались, конечно, откуда всё ползёт к Муштакову. Да тот и не скрывал, что у него связи с атаманским дворцом Караулова. В номер к прапорщику то и дело являлись какие-то казачьи чины. Особенно часто наведывался хорунжий с подозрительной физиономией, по фамилии Следов.
Приближённый офицер из свиты Караулова после шумного пленума Владикавказского Совета, где Караулову пришлось выслушать резкие нападки, больше не показывался у Ахмедова. Зато зачастил этот подозрительный Следов. Юркий, вороватый, с таким странным, словно бы свинцовым блеском прищуренных глаз, что невольно закрадывалась мысль: такой без зазрения совести и предаст и зарежет, а прижмёшь его — вывернется, как оборотень.
Сидел и пил Муштаков в ту ночь чуть не за всеми столиками. А хозяину гостиницы пригрозил:
— Ресторан я у тебя отниму, азиатская ты морда! У меня тут будут не какие-то восточные мотивы играть, от которых зубы ноют, а только «Гай да тройка» и «Сильву»!..
Такого оскорбления хозяин не снёс. Он где-то добыл револьвер и хотел убить скандалиста.
Шум в гостинице и ресторане не затихал до утра. На улице у подъезда то и дело сбегались обыватели из соседних дворов. Многие уверяли, что по всей Надтеречной улице из конца в конец люди не могут спать. Что-то невозможное!
И вот занялось утро.
Открылись киоски, люди стали расхватывать газеты. Да, всё подтверждалось. В Петрограде что-то странное, ай-я-яй! Царя на престол не вернули, правда, и Временное правительство осталось у власти, но раз уж ему приходится прибегать к силе штыков, то дела его тоже плохи.
Утро было ясное, без единой тучки.
Июль! Для Владикавказа — самая жаркая пора. Камни мостовой за ночь не успевали остывать, даже на рассвете ещё хранили тепло вчерашнего солнца, а уже начинают их снова накаливать беспощадные лучи, расплавленным металлом льющиеся на город.
Хорошее утро было, чёрт возьми! Люди шли на работу, хозяйки тянулись на базар.
Был четверг. Обычный, будничный день.
В комиссариате 3-й части (никакой рабочей милиции тут, в части, не признавали) как раз происходила смена дежурных, когда сюда прибежал из гостиницы Ахмедов.
— Я требую составить протокол на прапорщика Муштакова!
Поскольку с такими настояниями Ахмедов обращался в часть не первый раз, оба дежурных (и тот, который сменялся, и тот, который заступал) только пожали плечами.
— Ну что можно сделать с таким буяном! — сказал уходящий дежурный.
— Я его убью! — закричал Ахмедов.
— Убивайте, — рассмеялся уходящий. — Тогда протокол будет составлен на вас.
А заступающий дежурный, исполненный сознания своей ответственности, с самым серьёзным видом сказал, что лучше избегать всяких протоколов. Пусть Ахмедов не волнуется и не впадает в крайности. Меры будут приняты.
— Какие? — истерично спрашивал Ахмедов.
— Мы тут подумаем. Свяжемся с гарнизонной комендатурой. Всё будет в порядке.
Примерно до полудня ничего больше не произошло. Работали предприятия, мастерские, учреждения. Как всегда, было людно на базаре. Центры России сидели из-за войны почти без хлеба, а Владикавказ и остальной Терек ещё особых затруднений не испытывали. Кавказ ни по ту, ни по эту сторону хребта не голодал.
Богат, богат Терек! Щедра его земля! Это чувствовалось и по базару, хотя рядом с богатством здесь удивительным образом соседствовала вопиющая нищета. Всё перемешалось: зажиточные хозяева лавок и попрошайки, толстомордые владельцы гор овощей и фруктов и бабы, торгующие каким-то жалким тряпьём, спекулянты, лошадиные барышники и солдаты, продающие с рук что-то казённое. Все толкутся в густой толпе, словно в какой-то вязкой каше, кричат, ругаются, хохочут. Тут и горцы, тут и казаки, тут и приезжие из Закавказья. Все нации, даже цыгане. Все виды одежды. Встречается то казак, то горец, то местный интеллигент, то рабочий.
Шныряют среди лавок, возов и арб жулики, шарманщики, пьяные калеки. Мухи не дают покоя людям, лошадям, собакам. Черномазый продавец мороженого отгоняет веером мух от своей тележки и, хотя вокруг него никого нет, орёт во весь голос:
— Граждане, не волнуйтесь, не толпитесь! Всем хватит, всем достанется!
— Молодец, ей-бо! — смеётся усатый солдат и восхищённо чмокает языком. — Такой всё продаст.
М вдруг на базаре началось непонятное движение. Будто судорога прошла по толпе.
— Режут!
— Кого режут?
— Наших! Ой, надо тикать!
— Что? Кого режут? Где?
— В городе... На солдат напали горцы!
— Ох, батющки! Они же все с кинжалами!
Да, горцы все при кинжалах. Они никогда не расстаются с этим оружием, но редко вынимают из ножен. Это бывает только в крайнем случае.
Но солдаты и казаки тоже не безоружны. И при них кинжалы, шашки, винтовки. У многих горожан в карманах револьверы. На Тереке издавна привыкли к оружию, ещё со времени завоевания Кавказа и многолетней войны с Шамилем.
Каким-то образом тут оказался казачий хорунжий Следов. Может, он первый и пустил слух, что в городе идёт резня. Самое страшное было в том, что слух мгновенно подтвердился. По торговым рядам забегали солдаты из ближней казармы.
— Закрыть базар! Расходись! Не дозволено скопляться! Слыхал приказ? Все по домам!
— А что деется, миленькие?
— Бой идёт, понятно? Бой в городе!..
Ужас охватывал людей. С грохотом спускались железные шторы на окнах и дверях лавок. Базар бурлил, орал, метался.
— Чего ж будем такое терпеть, братцы! Доколе? Пока всех нас вырежут? Отобрать у них оружие!
Всё нарастает, нарастает исступление. Страх и злоба мутят разум. То тут, то там образуются человеческие водовороты, и в самой середине их непременно оказывается хорунжий Следов. Он уж тут как тут.
Одного горца в рваной черкеске обступили какие-то казаки.
У него пытаются силой отнять кинжал. А для того лишиться оружия равносильно потере чести. Он дико вращает глазами, ищет вблизи соплеменников, которые смогли бы бок о бок рядом с ним защищаться от этой наступающей кучки «гяуров». Он пока один. Он терпит оскорбления, которыми его осыпают, но до последнего шага не доходит — не обнажает острой стали, а только отбивается, отворачивается от тех, кто на него наседает. Ко вот и здесь очутился хорунжий.
— Отдай, собака! Отдай, говорят! — кричит он и тычет горцу кулак прямо в лицо.
Удар меткий — у того слетает папаха и на скуле появляется кровь. Миг — и, увы, сталь уже блеснула в воздухе. Это случилось, наверно, помимо воли горца.
Истошный крик. Ранен не хорунжий, а кто-то другой. Хорунжий сумел отскочить, выхватить револьвер и выстрелить.
Горец падает, и раздаётся звон стукнувшейся о булыжник стали. Стона не слышно. Только шёпот. Побелевшие губы горца что-то произносят, сначала быстро, потом всё медленнее. И навеки застывают, искривлённые гримасой смертной боли.
2
Вот какие события произошли в городе ещё до того, как на базаре пролилась кровь.
Около полудня из гарнизонной комендатуры пришли в гостиницу Ахмедова два офицера. Они проследовали прямо в номер к прапорщику Муштакову и, как потом рассказывали свидетели, «крупно» поговорили с ним.
Едва офицеры удалились, Муштаков бросился разыскивать по коридорам хозяина гостиницы. Роковая минута свела их на лестнице. Ахмедов подымался наверх, а Муштаков бежал вниз, навстречу своей гибели. Впрочем, эта минута предопределила и участь Ахмедова.
— Так ты жаловаться? — возопил прапорщик. — Ах сволочь! На же тебе!
Прозвучала пощёчина — сильная, чуть не сбившая Ахмедова с ног. Случилось нечто похожее на то, что было на базаре, хотя это произошло раньше. Совпадение странное и лишь с небольшими видоизменениями: там — удар в лицо, здесь — пощёчина, там — кинжал, а здесь...
Вместо кинжала в руках хозяина гостиницы блеснул тёмной сталью револьвер. Это был наган. Барабан с грохотом повернулся дважды, а когда прапорщик захлебнулся кровавым кашлем и упал, барабан повернулся ещё раз. Муштакова ранило в живот (и тут совпадение: того горца на базаре тоже смертельно ранило в живот), а кроме того, у прапорщика оказалась перебита нога и оцарапана пулей шея.
Так вот завершилась скандальная тяжба, трепавшая нервы постояльцам гостиницы и жителям окрестных улиц уже много дней.
— Вай! — закричал коридорный, тоже из горцев, прибежавший на стрельбу.
Хозяин гостиницы тоже закричал «вай». Из номеров выскочили офицеры, штатские.
Наган Ахмедов сам отдал обступившим его людям, а потом испугался и потребовал его обратно.
— Нет, брат! — сказал Следов (да, он тут был, представьте). — Убивать наших не дадим!
В суматохе никто не заметил, как Следов исчез с наганом. Тщетно приставали к обезумевшему Ахмедову:;
— Где револьвер? Отдай сейчас же!
— У меня его нет! — сипел Ахмедов пропадающим голосом. — Я погиб! Я погиб! Я погиб!
Прибежали с носилками, унесли тяжело раненного прапорщика. На улице уже стояла толпа. Почему-то тут оказалось много казаков и каких-то подвыпивших солдат.
Недалеко от гостиницы был военный госпиталь. Туда и повезли на извозчике пострадавшего.
А в подъезд гостиницы хлынула толпа.
— В часть его! В часть отправить убийцу!
Ахмедов заперся в конторке. Дверь взломали. Хозяина гостиницы схватили и поволокли вниз, но в 3-ю часть он не попал. По дороге его избили до полусмерти. Попал Ахмедов вместо 3-й части в городскую больницу. А там вскоре же, так и не придя в сознание, отошёл от бренной жизни.
Ненамного пережил он Муштакова. Тот скончался в госпитале вскоре после полудня, минут на двадцать раньше хозяина гостиницы, и говорили, что в последние эти минуты прапорщик ругался такими словами, каких даже на фронте не услышишь.
А гибель горца на базаре произошла уже после, он был третьей жертвой.
Но тоже не последней...
Не понять, как это происходит, — вдруг уже на всех улицах города стычки, стрельба. Кто собрал эти бесчинствующие толпы? Откуда взялась эта ярость, безудержная злоба и моментальная готовность поверить в самый нелепый, самый вздорный слух: «Вооружайся! Выходи на улицу все! На город идут ингуши из Базор-кина!»
Такой слух передавался из уст в уста около пяти вечера. Нашлись добровольцы, побежали в казармы, под-
няли по тревоге солдат. Те схватились за винтовки, подсумки, лопатки, выкатили пулемёты.
— Выручайте, братья христиане! Вырежут нас! Идут, скачут из Базоркина туча тучей! Они и вас перебыот! Прапорщика-то вашего укокошили! И одного солдата убили на базаре!
А на базаре в самом деле после убийства горца какие-то его соплеменники зарезали случайно подвернувшегося им солдатика.
— Стой! Братцы! Слышите? На Монастырской площади уже стрельба! Ингуши!..
С быстротой молнии обежала все концы города весть: на Монастырской площади — грандиозное побоище. Туда спешно отправились воинские чины, отряды солдат и милиции.
На Монастырскую площадь Киров примчался прямо из редакции. Подъезжая на извозчике, он слышал выстрелы.
Площадь была густо запружена народом. Стрельба как-то быстро стихла.
— Что тут случилось, товарищи?
В толпе Киров увидел Орахелашвили и некоторых других знакомых. Доктор перевязывал громко стонущего солдата в окровавленной гимнастёрке. У солдата была кинжальная рана в плече.
— Какой ужас! — сказал Кирову доктор, когда отошёл от раненого. — Это надо остановить!
— А что произошло?
Доктор повёл Кирова в дальний конец площади. Протолкнуться туда было нелегко. Народ всё прибывал.
А произошло вот что. Трое неизвестных горцев ехали на легковом извозчике из центра города по направлению к женскому монастырю. Извозчик заметил, что его седоки отчего-то ссорятся, кричат, и предупредил: если они не затихнут, то он остановит экипаж и дальше не поедет.
— Ты смотри! — крикнул один из седоков фаэтон-щику и ребром ладони ударил его в бок.
Тот закричал.
На площади, мимо которой экипаж проезжал, толпилась разная публика. Мигом у фаэтона собралась толпа. И дело уже принимало нешуточный оборот.
Произошло что-то необычное. Видимо, горцы по какой-то причине находились в крайнем возбуждении. Может, извозчик был виноват. А может, что-то другое.
Одно ясно — горцы спешили. Очень спешили.
А фаэтонщик заартачился. Экипаж стал.
Три обнажённых кинжала сверкнули на солнце. Ими размахивали разъярённые седоки несчастного фаэтон-щика. От него требовали:
— Вези! Езжай! Быстро! Смотри!..
Из толпы вышло несколько солдат, один поручик, кто-то из казаков. Ну, и этот ещё, конечно, вездесущий Следов. А ещё тут каким-то образом оказался учёный старичок при Гамалее, который всякие цитаты знает.
Вмешательство посторонних в спор между извозчиком и его седоками не принесло успокоения. Да и не могло принести, раз уж кинжалы обнажены. Накал страстей только возрос.
— Всё кинжалами размахивают, дьяволы! — кричали с толпе. — Это они нарочно завели, чтобы смуту усилить!
— То шпионская разведка ихняя, братцы! — агитировал у фаэтона Следов, — Из Базоркина засланы!
Разведка... Шпионы... Пусти только эти словечки в оборот, а уж их подхватят. Более страшного разведчика и шпиона, чем Следов, в толпе не было. А верили ему.
— Да, да! Не выпускать их из города! Задержать! Допросить!..
Какой-то отчаянный солдат уж лезет на кинжалы. Что ему кинжалы — на фронте он под двенадцатидюймовые снаряды попадал, под газовые атаки.
— Ой! — вскрикивают от ужаса в толпе.
Солдат ранен, хватается за грудь.
А трое горцев, соскочив с фаэтона, рвутся с кинжалами сквозь человеческую мешанину, и в ней образуются узкие ущелья — проходы. От кинжалов отпрыгивают, пятятся назад, давка и крики возрастают.
Но убежать горцы не смогли. Их настигли...
— Вот, — показал Кирову доктор, когда они пробились к монастырской стене.
На земле под рогожей виднелись три пары ног, обутые в мягкие горские сапоги, и две — в солдатские, армейские сапоги.
— Я уже застал их мёртвыми, — продолжал доктор. — А сколько раненых! Больница моя рядом. Уйма жертв. Кажется, все с ума сошли!
— Вечером соберёмся в нашей комнате, обсудим всё, — сказал Киров.
— До вечера ещё бог знает что произойдёт!
— Да... Но Гамалея не хочет собрать Совет. Я в полдень к нему заходил. Сидит у себя в кабинете как ни в чём не бывало и уверяет, что никаких мер со стороны Совета не нужно. Это, мол, только раздует конфликт.
— Не может быть!
— Сейчас мы в редакции срочно листовку печатаем. Я набросал. Воззвание к населению.
— Самое страшное, — волновался Орахелашвили, — что после этих убийств горцы в Базоркине могут в самом деле собраться и...
Киров закивал. Это и его тревожило.
— Тогда пожар на весь Терек! Загорится всё! Надо, пожалуй, съездить туда. Стариков наших поискать. Да! Еду!
Решение поехать в Базоркино созрело у Кирова как бы мгновенно и было высказано таким твёрдым тоном, что доктор не стал его отговаривать, хотя внутренне содрогнулся. В Базоркине не могут не знать того, что происходит в городе. Чёрная сотня уже громит лавки и чувячные мастерские горцев, жертв становится всё больше.
Как отнесутся к появлению русского в горском селении, где, наверно, уже безутешно плачут вдовы? Опасно туда ехать. Но раз надо, раз это может остановить дальнейшее кровопролитие...
— Хорошо, — сказал доктор. — Еду с тобой...
— Хе-хе-с, — услышали вдруг Киров и доктор чьё-то восклицание возле себя.
Сзади стоял лысый старичок, гамалеевский прислужник. Он поздоровался учтиво.
— Поди верь в человека, — сказал он, — Ах, батюшки! Стихия, что поделаешь! Слепая стихия!..
Похоже было на то, что он бродит тут в толпе один, без начальника, просто от скуки. Ходит, на всё рот разевает, как совершенно посторонний человек. Непорядки, конечно, всё это, но удивляться особенно нечему — свершается, на его взгляд, нечто извечное, непоправимое.
Разговаривать с ним Киров и доктор не стали, отвернулись и нырнули в толпу...
3
Не пришлось доктору поехать, ему лучше было оставаться в своей больнице.
Так рассудили Киров, Ной и другие большевики, собравшиеся в своей комнате в здании Совета. Было всего только шесть вечера, ещё не село солнце.
— Я поеду! Я поеду! — раздавались голоса добровольцев.
Ноя тоже не пустили — у него утром поднялась температура и ему даже не следовало вставать с постели.
Кирова все поддержали: пусть едет, он знает горы, и план его верен. Горцев следует во что бы то ни стало успокоить, не дать страстям разыграться. В Базоркине из окрестных аулов собралось уже, наверно, немало всадников. А ведь и среди них есть смутьяны, горлопаны, а то и прямые провокаторы.
Серобабов стоял возле Кирова и дёргал его за рукав. В шуме его гдлос был едва слышен. Да он, в сущности, ничего почти не произносил. Какое-то бормотание:
— Эх... я бы вот... честное слово... И бричка есть.
А Сергей Миронович и без слов понимал, чего хочет молодой железнодорожник. Но не всё делать одному — есть другие люди. Вот Литвинов, например, тоже из железнодорожных мастерских, смелый и очень толковый партиец. Рядом, там, у окна, стоит Будагов, серьёзный, опытный человек, на него тоже можно положиться вполне. А вон Мамсуров, всем известный в Осетии и тут, во Владикавказе, горячий и честнейший большевик. Впрочем, раз он осетин, то ему ехать в Базорки-но, особенно в такую минуту, не надо. И второму осетину, стоящему возле него, Георгию Цаголову, тоже. У ингушей и осетин давние нелады. Враждуют горские племена и между собой.
— Честное слово, я бы... — всё бормотал Серобабов и умоляюще смотрел на Кирова.
Сергей Миронович нагнулся к уху железнодорожника (шум в комнате был сильный) и спросил!
— Оружие с тобой?
— Со мной.
— Не годится. Придётся оставить.
— Что?
— Револьвер оставишь — возьму.
— Зачем?.. Что вы, честное слово!..
— Оставишь оружие? Отвечай: да, нет?
— Хм... а ведь ежели... Ну пущай, так и быть, не возьму. Литвинову оставлю. Ей-богу!
— Ладно, товарищи, — сказал Киров, обрывая шум в комнате. — Едем мы с Серобабовым, — И, повернувшись к просиявшему железнодорожнику, Сергей Миронович спросил у него: — А что за бричка у вас? Откуда?
— Рессорная, хорошая бричка на двоих, — ответил тот. — Завком наш выделил для отряда. Стоит в запряжке на улице.
— А лошади чьи? — удивлялся Киров.
— Казённые... Лошадь одна... У начальства... Я под личную ответственность взял, под расписку.
Оставалось только дружески хлопнуть изо всей силы железнодорожника по плечу за такую предусмотрительность. Сборы были недолгие. Надвигался вечер, и каждая минута промедления грозила самыми непредвиденными осложнениями. И, кроме того, когда Киров и его спутник, сопровождаемые остальными товарищами, уже шли к бричке, то у подъезда встретили Тамару. Она едва дышала.
— Это какой-то кошмар! — выдохнула она. — Из казарм выводят армейские части и гонят за город рыть окопы... Будто бы горцы из Базоркина уже выступили... Скачут тысячами сюда!..
— Езжайте быстрее! — сказал Ной Кирову. — Гоните вовсю! А мы тут сделаем всё, что можно...
— Где же твой отряд? — спросил Киров у Серобабо-ва, когда лошадь тронула и дрожки покатили по тряской булыжной мостовой, — И кто им управляет?
— Господи! — усмехнулся железнодорожник, нахлёстывая вожжами каурую сытую лошадку. — Командиров, что ли, мало есть? Было бы чем командовать! — И добавил: — Литвинов же остался, товарищ надёжный. Он не меньше меня сил положил на создание отряда. Не беспокойтесь!..
Выехали на базоркинскую дорогу. Кончились сады, начались кукурузные поля, пахнуло более чистым и свежим воздухом, чем в городе.
В стороне, на бугре, мельтешили людские фигурки. Киров присмотрелся:
— Это не солдаты ли там, Серобабов?
— Солдаты. Окопы роют...
Сергей Миронович с досады только крякнул. А железнодорожник, сердито хлестнув лошадь, проговорил сквозь зубы:
— Одно обидно — у Литвинова стало на сегодняшний вечер сразу два пистолета, а у нас с вами на двоих ни одного!..
— Гони, гони, не разговаривай, друг!..
Уже издали, подъезжая к садам Базоркина, увидели конный дозор ингушей. Горцев было до десятка. Замелькало в глазах от карабинов, кинжалов и револьверов, которыми были увешаны всадники. Один из них спешился, передал поводья другому, подошёл к остановившейся бричке и потребовал у приезжих документы.
Рослый, смуглолицый, с длинными густо-чёрными волосами, он походил на индейца. Долго читал поданные ему бумаги, присматривался к печати, потом к бричке, оглядел довольно пристально и лошадь и всю упряжь.
Сергей Миронович бывал в здешних аулах не раз, знал несколько ингушских слов и кое-как объяснил: он и его спутник — члены Исполкома Владикавказского Совета рабочих и солдатских депутатов — приехали из города, хотят поговорить со стариками.
— Со стариками? — переспросил ингуш, внимательно приглядываясь к явно русским лицам Кирова и Сероба-бова. — Они совещаются в графском доме. А с чем вы приехали?
— С миром, — ответил Киров. — Мы, большевики и рабочие, хотим остановить кровопролитие. Веди нас к старикам.
Узкие глаза горца забегали. Он снова кинул взгляд на бричку и лошадь.
Он что-то решал. Киров понял, что настал момент пустить в ход то единственное оружие, которым он располагал.
— Скажи, — обратился Сергей Миронович к ингушу, — ты старика Арсанова, Джабраила Арсанова, знаешь? Он наш друг.
Ингуш что-то пробормотал, отошёл к своим и стал о чём-то тихо переговариваться с ними.
— У них соблазн отобрать нашу бричку и лошадь, — шепнул Сергей Миронович своему спутнику. — Но, кажется, мой старик Джабраил, сам того пока не ведая, нас выручит. Не думал, что его помощь так скоро понадобится!
— Револьверчик бы, — вздохнул железнодорожник, — Вот бы кстати было... На всякий случай.
— Молчи!
— Я молчу. Но бричку и лошадь не отдам. Они казённые. Я расписку давал...
Посовещавшись о чём-то с остальными соплеменниками, горец снова подошёл к приезжим:
— Оружа нет?
Со спокойной совестью Киров ответил:
— Нет у нас оружия.
— А это? — показал горец под сиденье брички, — Нет? Ничего?
— Ничего, ничего, — заверил горца железнодорожник. — У нас оружия много, целая куча, да только не здесь.
— Где? — вскинул голову горец.
— В городе... Там у нас даже пуле...
Киров перебил военной командой:
— Отставить! Времени нет на такие шутки! Где заседают старики, товарищ горец?.. В бывшем графском доме Уварова? Я знаю этот дом. С вашего разрешения мы направимся туда, а бричку и лошадь...
Киров помедлил, сделал предупредительный знак Серобабову — мол, молчи — и продолжал, обращаясь к смуглолицему ингушу:
— А бричку и лошадь оставим вам на сохранение, если не возражаете!
У горцев загадочно блеснули глаза.
— Пожалуйст... Хорошо... Идите!..
4
Неосторожно было двум русским идти по селению одним, без провожатых. Кирову пришлось согласиться с Серобабовым — опасно!
Им дали провожатого, почти мальчонку, черноглазого и шустрого. Он ехал впереди верхом, русские шли сзади. У него за плечами винтовка, у них — руки в карманах. Пиджаки, галстуки — вид городской.
Сразу от околицы потянулись плетни. В отличие от аулов, расположенных повыше, в горах, здесь не было древних курганов и полуразрушенных высоких башен, где жили и укрывались от врагов целые семьи. С обеих сторон дороги тянулись домики, мало похожие на убогие сакли. Улицы разбегались влево и вправо, то узкие, то широкие.
С поля шли стада овец. Мычали за плетнями буйволицы. У калиток стояли вооружённые ингуши в барашковых шапках, беспокойно храпели осёдланные кони. По первому зову гонца хозяин вскочит в седло и понесётся на защиту своего селения и очага.
Прошли площадь, где кучками стояли встревоженные горцы, и упёрлись в толстокаменное здание. Здесь была контора когда-то богатой графской экономии. Мальчонка поговорил с часовыми у входа. Их было трое. Один спросил по-русски у приезжих:
— Как вас назвать, господа?
Серобабов ответил первым:
— Скажи, пришёл Кира и просит уважаемого Джабраила выйти сюда.
Часовой откозырял и юркнул в здание, только полы черкески мелькнули, как чёрные крылья. Ждать пришлось недолго.
Распахнулась дверь.
— Где мой друг Кира? Здравствуй, дорогой, заходи! Заходи, гостем будешь!.. Самым дорогим, самым лучшим гостем!..
Встреча была необыкновенно радостной. Старый Джабраил взволнованно обнял и расцеловал Кирова, а заодно и железнодорожника. Видя такое дело, бросился обнимать приезжих и мальчонка.
До той минуты они были для него «гасхи», то есть русские. А сейчас они были дорогие гости. Раз их так жалует старый Джабраил, значит, это хорошие люди. «Верошные» люди.
С криком: «Верошные, верошные!» — юный ингушо-нок помчался обратно к околице. А Джабраил ввёл гостей в дом, на ходу объясняя:
— Мы заседаем. Мы совещаем... Как нам, горцам, быть? И что делать? Ты как думаешь, Кира? Скажи скорей, я пойду в кабинет, передам все твои слова.
В полутёмном коридоре он усадил гостей на старый дырявый диван.
— Скорей говори, Кира! Тысяча наших всадников стоят наготове. Ждут решения. Решение должны вынести мы, старики. Скажи скорей, какое решение ты хочешь?
Киров рвался встать, но Джабраил крепко прижимал его ещё сильными руками к дивану:
— Сиди, сиди, дорогой. Отдыхай! Ты сиди и думай, мы там сиди и думай. — Он показал на дверь кабинета.
— Я хочу сказать вам, Джабраил, что...
Но старик снова не дал Кирову говорить.
— Ты хочешь мира, да? Ты приехал с миром... и с этим человеком... а он тоже за мир? Совсем хорошо! Все ваши за мир? Я так и скажу, дорогой! Город хочет мира!
Он с такой лёгкостью, с такой стремительностью метнулся к двери кабинета, где заседал Ингушский Совет, что можно было только ахнуть. Серобабов сказал:
— А я не пытался даже встать, вы заметили, Сергей Миронович? Напрасно и вы пытались, хотя неудобно сидеть, когда такой старичина стоит перед тобой. А горячий какой! Не подчинись, так он ещё кинжалом замах...
— Ради Христа! — комически закатил глаза Киров. — Молчи, и всё!..
— Есть! — по-военному отозвался железнодорожник, но тут же заговорил: — А что дальше будет?
— Мы кстати прибыли, очень кстати, — ответил Сергей Миронович, — Плохо, что у них в Совете много националистически настроенных, а во главе Васан-Гирей. Ярый сторонник ислама и шариата. Не лучше Чермоева, если не хуже. Тот хоть ясен — миллионер, эксплуататор. А этот — бывший агроном и...
— Из интеллигентов, так сказать.
— Да, среди ингушей пока немного таких, но есть. К сожалению, этот Васан-Гирей не из лучших... Националист отпетый и ярый противник наших идей.
— За ислам, за коран, за шариат?
— Да, за всё старое, отжившее, — кивнул Сергей Миронович. — В том и беда. Считают себя просветителями, а сами же людей тянут назад, ко временам чуть не первобытным. Учат не признавать ничего нового, ненавидеть всё чужое! А вражда подогревает эти чувства ещё больше. И Караулов и мы с тобой для таких одно и то же.
— Слушайте, Сергей Миронович! — воскликнул молодой слесарь, подскочив на диване от одной догадки, которую тут же высказал. — А не кажется ли вам, что провокация в городе как-то связана с тем, что делается в Питере?
— Конечно, — ответил Киров. — Связь самая близкая.
— Нас тоже хотели бы здесь разгромить.
— Именно! В том и сыр-бор.
— Чёртов сын Караулов! Это всё он!
В комнату, где совещался Национальный Совет, приезжих не впустили, даже ходатайства Джабраила не помогли. Почётных стариков, подобных ему, в Совете было немало, и среди них он оказался даже не самым старшим по годам. Тут нашлись и постарше.
И настроены были эти патриархи совсем не так, как Джабраил. Они не согласились допустить «гяуров» в кабинет, где решали вопросы своей безопасности.
Сидя в коридоре, Киров и железнодорожник видели, как со двора вошёл седой ингуш, только что прибывший из какого-то дальнего аула. Лет сто было этому человеку, не меньше, а шагал он легко в своих мягких горских сапогах и вовсе не нуждался в поддержке двух молодых горцев, которые его сопровождали.
Из комнаты, где заседали старейшие, раза два показывался Джабраил.
— Всё будет хорошо, — уверял он. — Сейчас перерыв будет. Разговор будет.
Наконец на заседании Совета был объявлен перерыв. По коридору началось хождение. Вскоре вышел к приезжим парламентёрам и сам Васан-Гирей Джабагиев. Это оказался представительный, средних лет мужчина, одетый вовсе не по-горски. Аккуратный серый пиджак, чёрные брюки с тщательно отутюженной складкой. Лакированные ботинки. По-модному подстриженная бородка, надушённая одеколоном.
— О, извините! — сказал он, присаживаясь на диван. — Пожалуйста, не сердитесь, мы вас очень ценим и уважаем, господа, но вынуждены считаться с особенностями и обычаями нашей горской жизни. С чем же вы приехали?
Киров без обиняков начал деловым тоном:
— Мы приехали заявить вам от лица владикавказских рабочих и солдат, что уже приняты меры, чтобы остановить бессмысленное кровопролитие, не допустить ещё более страшного оборота событий.
— Кем приняты меры?
— Нами. Я имею в виду всех честных людей в городе. А их больше, чем черносотенцев.
— Атамана Караулова вы тоже относите к честным людям? Он ваш, он русский!
— Господин Васан-Гирей! — Киров резко встал с дивана. — Вы прекрасно знаете, каково наше отношение к Караулову и его приспешникам, кто бы они ни были!
Васан-Гирей тоже встал. Разговор, начатый почти дружелюбным тоном, пока они сидели на диване, стал официальным.
— Мы уже слышали от Арсанова Джабраила о вашей миссии, — сказал сухо Васан-Гирей, — Мы обсудим.
Серобабов, забившись в угол дивана, преспокойно продолжал оставаться на месте. Он и не думал вставать.
Васан-Гирей ещё спросил у Кирова:
— Какими силами вы располагаете, чтобы обеспечить порядок в городе? Честные люди — это понятие растяжимое.
— Ха! — произнёс с дивана Серобабов.
— Мы все честные, — продолжал Васан-Гирей, — а режем друг друга.
В графском кабинете, наверно, никого не осталось — всё мало-помалу столпились в коридоре, держась на небольшом отдалении от дивана. Масса седых и чёрных бород, белые чалмы и зелёные халаты мулл, черкески,
бешметы, бараньи шапки. И у всех на поясе кинжалы. Зрелище было таким внушительным, что Серобабов не выдержал, вскочил и замер в почтительной позе.
— Не мы режем друг друга, а провокаторы из атаманского дома хотят нас и вас перессорить, перерезать! — сказал Киров, и в его голосе уже звучали ораторские нотки. — Друг от друга нас хотят отделить! — Он показал жестом на сгрудившихся в коридоре стариков и потом на себя и Серобабова. — Нельзя этого позволить. Нас перебьют поодиночке!
— Хорошо! — вскричал из толпы горбоносый Джабраил, — Совсем правильно! Слушайте, старики! У нашего гостя один большой план есть, великий план!
— Какой план? Говори! — раздались голоса.
— Всех нас объединить для свободной жизни — вот какой замечательный план! Чтобы у каждого земля была, и дом, и чтобы были школы для детей, и чтобы...
— Ну что за митинг образовался! — пожал плечами Васан-Гирей, очень обидев Джабраила тем, что не захотел дослушать и позволил себе перебить старшего, — Идёмте, господа, заседание продолжается. Не надо нам сейчас туманить себе голову несбыточными мечтаниями. Наш маленький народ в опасности. Как спасти себя — вот чему должны быть отданы все наши помыслы и молитвы. Благословен аллах!..
Когда Васан-Гирей и старики снова начали совещание в кабинете и коридор опустел, Серобабов отвёл душу:
— Ах собака! Видели, куда он гнул? Интеллигент, аллах его дери!..
5
На закате дня во Владикавказе узнали, что представителям Совета рабочих и солдатских депутатов удалось успокоить базоркинцев. Старики заверили, что никаких помыслов о нападении на город у ингушей нет и на провокацию они не поддадутся.
Гораздо труднее оказалось успокоить горожан. Подстрекатели не унимались, звали к походу на Базоркино. Ещё продолжала буйствовать наиболее злобная, тёмная часть жителей и казаков. Метались толпами по улицам, вопили, стреляли, громили дома и лавки, принадлежавшие «туземцам».
Одна орава пыталась прорваться к базоркинской дороге, но наткнулась на заслон рабочей самообороны и откатилась назад.
Было часов десять вечера, когда в квартире Кирова раздался звонок.
— Открой, Маруся!
Это был сам Сергей Миронович. Костюм, лицо в пыли. Он только что вернулся из Базоркина и спешил в Совет. Мария бледнела при одной мысли о том, какой опасности он подвергался. Сам он уверял, что никакой угрозы и не было.
Он торопливо глотал чай и рассказывал:
— Помнишь старика Джабраила? Великолепный оказался старик! Он велел отдать нам коня, бричку, и нам отдали всё, всё. Ещё хотели барашка положить. Мы, конечно, не взяли. Но главное не это. Благодаря Джабраилу мы побили Васан-Гирея, о котором ты ведь не раз слышала. Этот Васан мешал нам как только мог! Но его одолели. Старики пошли не за ним, а за Джабраилом. Под конец и сам Васан-Гирей тоже объявил себя поборником мира!
Мария с грустью сказала:
— А у нас тут шестнадцать жертв оказалось. И знаешь, кого зарезали? Старичка, который прислуживал вашему Гамалее. Шёл домой, на него напали сзади бандиты и убили.
Кирову вспомнилось: «Хе-хе-с» — и стало не по себе.
— А представь себе, что было бы, если бы не удалось удержать горцев от выступления. Чёрная сотня только того и ждала. А нам там, в Базоркине, нелегко было...
Мария кивала.
— Я знаю. Мы всё тут за вас страшно беспокоились. Вас могли растерзать...
— Что ты, Машенька! С нами очень хор одно обращались...
Пора было в Совет.
Улицы казались в вечерней мгле вымершими. На перекрёстках маячили солдатские и милицейские патрули.
В здании Совета горели все окна.
Первое, что услыхал Сергей Миронович, когда подошёл к двери большой комнаты, где собирались большевики, был весёлый голос Серобабова:
— Представляете, ведут нас обратно к околице, а там, товарищи дорогие, наша бричка и лошадь как стояли, так и стоят! Большей радости в жизни у меня не было, честное слово говорю! Всё в полном порядочке, чин чином. Ну, мы сели — и сюда!..
Кирова встретили дружным «ура».
Глава шестая. В городе Грозном
1
О, как долго тянулось в том году лето! Казалось, конца не будет зною и духоте. Грозы случались редко, и деревья стояли в пыли, листва становилась серой. Ещё шёл июль...
Люди говорили:
«Скорей бы август, господи, скорей бы осень!..» Обстоятельства складывались так, что Сергею Мироновичу требовалось срочно выехать в Грозный. Ехать было недалеко.
Как-то однажды, незадолго до его отъезда, с почтой пришёл в редакцию странно пухлый пакет. На конверте значилось: «Лично Кирову».
Сергей Миронович ахнул, когда извлёк из пакета содержимое. То были его собственные письма.
Старые-старые письма, они посылались на волю из тюрьмы. Несколько владикавказских писем, несколько томских. И все — на имя Марии. Он тогда маялся из-за обвала потайной типографии и писал Марии часто. Но как могли они оказаться в чужих руках?
Объяснение давала записка:
«Уважаемый и почитаемый гражданин Киров. Я уезжаю навсегда, покидаю Владикавказ. Да, видимо, навсегда, ибо хорошего тут ждать нечего. Анархия свирепствует вовсю, и то ли ещё будет! Всё, что я имел честь когда-то говорить вам лет пять назад на допросе, ныне свершается на наших глазах. Разгул страстей ужасает! Началось во Владикавказе и охватило, как видите, весь Терек!
Горит, горит Терек! Страшно!..
Взорвался вулкан. И как! Нет дня спокойного. Горят станицы, аулы, и всё вокруг бушует.
Уезжаю в Пятигорск, откуда чуть ближе к России, хотя и там всё бурлит и кипит. Вас мне жаль, за вас мне боязно,- хотите верьте, хотите нет. Я нашёл у себя ваши старые письма (сейчас узнаете, как они у меня очутились), перечитал их и понял ещё глубже, почему ещё тогда, когда я вёл ваше дело, был проникнут таким непонятным сочувствием и даже как бы некоторой симпатией к вам. На мне был мундир царского судебного чиновника, моя обязанность была задавать вам вопросы, ваша — отвечать. Я вышел за дозволенные рамки. И те письма, которые вы найдёте здесь в конверте, тоже результат нарушенных мною установлений и общепринятых правил. Впрочем, копии с ваших писем, адресованных жене, пересылались мне по долгу службы тюремной цензурой. Ваши томские письма тоже попадали сначала на просмотр ко мне. А я снимал копии и прятал.
А вот зачем я их хранил до сих пор, спросите, — тут, конечно, есть некоторая странность, требующая объяснений. Не буду вдаваться в психологические тонкости, скажу просто: хорошие, чудесные у вас письма! Документы человеческой веры в лучшее. А кое-что в них даже потрясает. Вот, если угодно, причина. Сознаюсь, что сейчас я, возможно, вызову ваш запоздалый гнев.
Что ж, гневайтесь, сударь, я виноват перед вами во многом, куда больше, чем за эти копии. Я давно чувствовал — вы необыкновенный человек и, по всей вероятности, хотите сделать что-то хорошее для России. Ну и делайте, раз уж не в силах оторваться от этих дел и вам ничего не страшно. Желаю... благ!
На случай, если какие-то оригиналы из этих ваших писем вами утеряны, посылаю вам всё, что я годами держал у себя и не раз перечитывал. Да хранит вас господь!..»
Таково было содержание записки.
Сергей Миронович посмеялся, читая её, а вечером принёс пакет домой и показал Марии.
— Давай почитаем, а? — сказал он удивлённой жене. — А то в редакции ни минуты свободной не оказалось. Знаешь, Машенька, — продолжал он, снимая галстук, — в Грозном творится что-то ужасное, мне надо скорее туда ехать.
— Везде творится страшное, — вздохнула тяжко Мария.
Она сегодня провела день в городском банке вместе с владельцем «Терека» Назаровым. Выясняли расчёты по газете и установили, что плохи дела, денег на счету «Терека» почти нет.
— Всё идёт со страшной силой к развалу — весь день я это слышала от Назарова. Он не понимает, какая же это будет жизнь без банков и частной собственности, если победят большевики.
— Я устал, — отозвался Сергей Миронович. — Давай чайку попьём и почитаем эти письма. Чёрт! Удрал в Пятигорск мой бывший мучитель!
— Следователь?
— Он, он. Надеется спастись.
— Многие бегут, — проговорила Мария, — Куда глаза глядят... Что на Сунже?
— Плохо. И день от дня всё хуже...
Каждый уголок Терека жил в возрастающей тревоге. Но особенно беспокойна Сунжа. Там расположена цепь казачьих станиц, глубоко врезавшихся в горы. Эта цепь, по замыслу царской администрации, должна была держать горцев в постоянном страхе. Теперь между близко граничащими друг с другом казаками и горцами шла
|война. Самая настоящая — с окопами, ежедневными пе-рестрелками.
Решался кровью давний спор. Спор за землю...
Киров уже ездил туда несколько раз за последние недели. С Ноем ездил, с доктором, с другими большевиками. Не удавалось примирить обе стороны. За поражение в городе атаманский дом решил, видимо, взять реванш на Сунже. Стычки происходили там и раньше. И не успели в городе похоронить трупы погибших от кровавой провокации, последовавшей за выстрелами Ахмедова, как на Сунже затеялась куда более страшная провокация.
Горцы, не получив от революции земли, теряли терпение. А казаки твёрдо стояли на своём: не отдадут они земли — кровью своей её завоевали их деды и отцы. И брались за винтовки.
Теперь опасность нависла над Грозным. Там начались пожары. Горели промысла, дома, участились убийства. Это означало — замышляется удар ещё в одном месте: в Чечне, в городе нефти, главном пролетарском центре Терека.
Вот Киров и собрался туда ехать. И грозненские большевики его уже там ждали.
У него с ними была давняя связь.
— Удрал, удрал, как заяц! — всё потешался за чаем над бывшим следователем Сергей Миронович. — Ну, давай, Машенька, примемся за наши письма. Начнём хотя бы с этого... Читай ты, а то у меня за день от газет скачут какие-то пятна перед глазами. Питерские газеты, московские, ростовские, тифлисские, бакинские, пятигорские!..
Мария пробежала глазами старое письмо, улыбнулась задумчиво и сказала:
— Это письмо я очень хорошо помню... Ты мне из тюрьмы свои восхождения описывал, опять к ним возвращался.
И она прочла:
— «Если бы перед Лермонтовым раскинулась панорама, какую приходится видеть достигшим вершины Эльбруса, какие звуки услышал бы художник-гений среди этой мёртвой тишины! Какие тайны природы открыл бы его проникновенный взор!..»
...Стук в дверь оборвал чтение старых писем. На пороге стоял и улыбался Ной. В руке у него был небольшой чемодан.
Гостя усадили, напоили чаем.
Он уезжал в Грузию и пришёл прощаться. В Грузии у него мать, много родичей. Не хотелось Ною уезжать, но выхода не было: врачи предписали ему обязательный отдых, и, воспользовавшись этим, Киров организовал такой нажим на Ноя со стороны всех его друзей-боль-шевиков, что теперь уж Ною оставалось только подчиниться партийной дисциплине и уложить чемодан.
— Хорошо, — говорил Ной за чаем. — Я еду. Что поделаешь? Позволю себе этакий в некотором роде «пир во время чумы»...
— Поезжай, поезжай, — смеялся Киров. — Вернёшься — займёмся одним новым делом, очень важным и для нас и для всего Терека.
— Каким?
— Ты ведь был тут, когда мы беседовали с горцами, помнишь?
— Помню, конечно...
— Мы им тут развивали свой план... Помнишь, разговор шёл и о том, что хорошо бы собрать съезд народов Терека. Ты ведь тоже был за!
— За! За! Без съезда не обойтись! Ну и что? — удивлённо уставился Ной на Кирова. — Ты думаешь, его уже пора созывать?
— О нет, — покачал головой Киров. — Для этого время ещё не наступило. Казаков и горцев собрать под одну крышу будет нелегко, знаю. Сейчас на таком съезде могли бы одержать верх... не мы.
— Вот именно! Пока власть в Петрограде не наша, пока Временное правительство ведёт свою контрреволюционную политику, а меньшевики и эсеры ему потворствуют и пока в стране ещё...
Ной сел на своего конька и поехал. Обстановку в стране он знал блестяще. Зато Киров знал лучше терские дела.
Оба согласились, что и с общей точки зрения, и с точки зрения положения на Тереке пока не стоит спешить со съездом. Но готовить его надо.
— Ты в Грозном позондируй, — советовал Ной. — Как там отнесутся. Не поехать ли мне с тобой туда, а? Право...
— Прекращаю всякие разговоры с тобой о делах! — отрезал Киров, делая хмурое лицо, — Ты просто невозможный человек!
Оба нежно относились друг к другу.
Ной собирался ехать в Грузию поездом через Баку, хотя по Военно-Грузинской дороге было гораздо ближе. Владикавказский вокзал находился недалеко от квартиры Кирова, и после чая оба отправились туда пешком...
Вернулся Киров обеспокоенный и сказал жене:
— Ну, проводил Ноя. Уехал... И представь — на вокзале оказался и Караулов. Атаман тоже уезжал, только не в сторону Баку, а совсем в обратном направлении. Оказалось, он в Ростов, на Кубань, на Дон едет. Там образуется очаг самой махровой контрреволюции. А мы тут сидим, старые письма читаем. Надо и нам поездить. Поездить, поработать.
На другой день он собрался и уехал в Грозный.
2
Грозный... Некогда он был военным казачьим поселением на чеченской земле. Город и сейчас хранил следы казачьей станицы, какой был когда-то. Нефть перевернула старый уклад жизни. На окраинах выросли буровые вышки. Улочки и переулки заселились рабочими, конторщиками, железнодорожниками, торговцами, дворниками. Появились рестораны, большие магазины и пропасть мелких лавчонок, шумные увеселительные заведения, кинотеатры.
А половина города и сейчас считалась станицей, так и называлась: «Станица Грозненская», и заправляло её делами казачье управление.
Всякий пришлый люд, казаки, горцы, люди разных племён и национальностей перемешались, жили бок о бок, по своим правилам, по своей вере и своим обычаям.
Горы тесно обступили город, нависли хмурыми скалистыми бастионами над его буровыми вышками и черепичными крышами. Там, в горах, многие тысячи безземельных чеченцев. Нищета и мрак... Неспокойно в аулах. Тревожно и в городе. Киров уже на вокзале, сходя с поезда, увидел вдали в небе чёрные клубы дыма. То горели промысла...
Кто-то из пассажиров, шедших вместе с Кировым по перрону к выходу в город, с юмором воскликнул:
— Ого! Как тут не вспомнить знаменитого Нерона и великие пожары Рима!
— Душа болит, — отозвалась какая-то казачка с торбой на плече. — Что там Рим? Не знаю, где той Рим и яки булы пожары, только, кажись, горя у нас не меньше!
Утром к небольшому домику на рабочей окраине Грозного подъехал вооружённый всадник. На нём была добротная тёмная бурка. Из-под нависшей над лбом барашковой горской папахи остро и молодо светились два жгуче-чёрных глаза.
— О, Асланбек! — радостно вскричала открывшая ему дверь смуглая женщина в наброшенной на плечи персидской шали. — С чем пожаловал в гости? Кстати, я познакомлю тебя с одним хорошим человеком, тебе давно пора его знать.
— Кто же это? — спросил горец, привязывая коня к растущему у окон тополю.
— А вот зайдёшь — увидишь.
— Я знаю, у вас бывают только верные люди. Дом такой! Хозяйка хорошая и хозяин добрый!
— Что ты, Асланбек! Зачем комплименты нам говоришь, — рассмеялась женщина. — Мы люди простые.
— Простые люди — самые лучшие люди. Ещё Пушкин сказал: «Добро в молчании творится». Я разумею под молчанием простоту и скромность.
Почтительный тон голоса, приветливая улыбка на умном лице, сдержанные манеры — всё говорило о том, что этот человек образован и хорошо воспитан.
В кухне гостя встретил средних лет мужчина в белой вышитой сорочке — муж хозяйки. Он тоже тепло приветствовал чеченца. За столом в углу кухни сидел Киров без пиджака и галстука. По опорожнённым блюдам на столе видно было — только что пообедали. За приоткрытой дверью комнаты в полумраке виднелись три детские кроватки.
— Малыши мои спят, а мы тут, — объяснила горцу хозяйка.
— Здравствуйте! О, какой гость! — устремился к Сергею Мироновичу молодой горец. — Какими судьбами? Давно ли?
— Нет, только приехал, дорогой Асланбек!
Горец несказанно обрадовался приезду Кирова, которого давно знал.
Асланбек происходил из семьи образованного чеченца. Учился в кадетском корпусе, потом, отказавшись от военной карьеры, перешёл в реальное училище, увлёкся передовыми освободительными идеями и был сейчас одним из наиболее пылких революционно настроенных молодых людей в Чечне.
Киров когда-то печатал в «Тереке» старинные чеченские легенды, переведённые на русский язык самим Асланбеком.
Обрадовался встрече с ним и Киров.
— Почему хозяйка сразу не сказала мне, что вы здесь? — шутливо возмущался молодой горец. — Зайдёшь, говорит, увидишь!..
— Это очень просто, — отвечал, смеясь, Киров. — Она ведь много лет работала у нас в подполье и ещё не отвыкла от старых привычек. Правду я говорю, Лена?
— Мне ещё и сейчас иногда городовые снятся, — отозвалась хозяйка. — Кроме шуток.
Бывают семьи, где глава не отец, а мать. По образованию Лена отставала от мужа, он принадлежал к интеллигенции, учительствовал в школе, а Лена была простой портнихой. Ещё сравнительно молодая, она была полна энергии и властвовала в семье, видимо, потому, что у мужа был слишком уж мягкий характер, а в ней энергии, казалось, хватит на десятерых.
Сергей Миронович давно знал эту семью. До Грозного Лена и Всеволод жили во Владикавказе и были одними из наиболее надёжных и деятельных подпольщиков. Оба большевики. Лена работала в партии с юных лет. Профессия портнихи облегчала Лене работу в подполье. К ней приходили будто бы для заказа платья, а на самом деле — для получения явки, передачи партийной брошюры или пачки революционных листовок, которые Лена потом сама же распространяла.
Перед войной Всеволод и Лена переехали в Грозный и с прежней неутомимостью работали в большевистской партийной организации. Здесь она была самостоятельной и гораздо более многочисленной, чем в других городах Терека. Но и рабочих было куда больше.
— Я приехал с важным сообщением, — начал Асланбек, когда уселся рядом с Кировым за стол, — У нас в Шатое и в Гойтах идут толки, что господин Чермоев собирается хлопотать о переводе Дикой дивизии сюда.
Новость поразила всех. Лена даже схватилась за сердце:
— Боже мой! Только этого нам не хватает!
— Но угроза тут очень реальна, — продолжал Асланбек. — У Чермоева большие связи в Петербурге. Если Дикую дивизию переведут сюда на постой, всем нам придётся худо.
— Она задушит всё живое, всё революционное у нас, — встревоженно качал головой Всеволод. — Плохо дело!..
Киров проявил обычную сдержанность, хотя тоже встретил весть с тревогой.
— Какие же есть основания для таких слухов, Асланбек? — подступил он к горцу, — Рассказывайте, пожалуйста, всё подробно...
Угроза была в самом деле большой.
Дикая дивизия состояла из горцев Терека и Дагестана и воевала сейчас где-то на Западном фронте. В ней были чеченские, ингушские, осетинские, кабардинские полки и бригады. Командовали ими националистически настроенные офицеры. Среди них был и сынок Чермоева. Своим командирам и шейхам большинство горцев-конни-ков пока ещё слепо верило. Появись эта дивизия здесь, горские верхи, строящие козни против революции, получили бы сильное подкрепление. Выслушав Асланбека, Киров признал, что положение может осложниться очень серьёзно.
У Асланбека были сведения, что Чермоев собирается скоро ехать в Петроград. А пока он вооружает мелкие абреческие банды и опирается на них.
— На днях сюда должно прибыть оружие для этих банд, — сказал под конец Асланбек, — Говорят, целый вагон придёт.
— Откуда? — поинтересовался Киров.
— Не знаю... Это пусть здешние товарищи выяснят. Я и приехал предупредить!
— Вы молодчина, Асланбек! — похвалил молодого горца Сергей Миронович. — О, если бы в горах было много таких, как вы!
— А их много! — воскликнул горец, — Мы скоро начнём создавать свои отряды. Вы увидите! Мы не дадим Чермоеву властвовать в Чечне и в Грозном!
Задорно блестели глаза горца. Он вскочил, протянул руку Кирову.
— Поезжайте со мной в горы, — предложил он, — Хотите? Я покажу вам все!
— Хорошо, — согласился Киров. — Едем.
3
Он не сразу поехал в горы, дня три провёл в самом .Грозном. Пылкому горцу пришлось подождать.
Эти три дня были полны событий.
В Грозном после тех трагических дней, когда в Петрограде была разогнана мирная демонстрация рабочих и солдат, преследовали большевиков с не меньшим усердием, чем в далёкой столице.
Местных большевиков травили, даже выгоняли из домов, расположенных на той стороне города, которая называлась станицей. Одной из первых была выселена семья Николая Анисимова, вожака здешней большевистской организации.
Николай был на митинге в то утро, когда к дому, где жила его семья, подскакал отряд конных. Это были казаки.
Им отворила дверь молодая миловидная женщина. Голова в светлых кудряшках, фигурка статная, выражение глаз энергичное, волевое. Казаки спешились, вошли в дом, предъявили бумагу.
— Приказ отдан выселить вас, Серафима Ивановна, — сказал один из казаков. — Не наша воля, сами знаете, уж не обижайтесь.
С этой женщиной казаки разговаривали уважительно, потому что она сама была казачка, да ещё не про-
стая, а дочь известного в Грозном казачьего подполковника Халиева. У Халиева бык в городе собственный дом, и в доме этом Серафима родилась и выросла.
А сейчас она была женой большевика Николая Анисимова и жила недалеко от отчего дома, в убогой квартирке, а работала в школе учительницей.
— И из школы вас уволили, — докладывали ей казаки. — Решение станичного совета. Так что дозвольте вещички вынести, куда прикажете...
Киров встретился с грозненским большевиком в то же утро, когда беседовал с молодым чеченцем. Местом встречи оказалась старая, заброшенная немецкая кирка. Тут было темно, сыро.
1 Кирка — лютеранская церковь.
— Вот здесь и живём, — говорил Кирову, водя его по кирке, худощавый мужчина с бледным лицом, примерно одних лет с Кировым. На плечах внакидку поношенная студенческая куртка. Брюки в заплатах, сапоги старые. Но не одежда этого человека, а его лицо обращало на себя особенное внимание. На большой крутой лоб нависли длинные русые волосы, глаза сидят глубоко, и в них нет улыбки даже тогда, когда мужчина этот шутит или слышит что-то весёлое от собеседника.
Казалось, он всегда остаётся серьёзным и, возможно, даже в детстве не знал смеха.
Это и был Николай Анисимов.
— До недавних событий в Питере наш комитет имел лучшее помещение, а сейчас нас и оттуда попёрли, — рассказывал Николай, хмуря светлые брови. — Ну ничего. Что нам помещение? Улица — наш мир! Промысел, завод, казарма — вот поле нашей деятельности.
Киров знал: местные большевики ведут большую работу среди рабочих, солдат и казаков Грозного. Он ответил Николаю с улыбкой:
— Поле деятельности у нас у всех одно. Но должен признать — уж очень вас тут держат в чёрном теле. Значит, есть за что!
Он говорил это шутливым тоном, но лицо Анисимова оставалось невозмутимым.
— Есть, есть, — соглашался Анисимов. — Мы тут всем мозолим глаза. Всем насолили. И казачьим верхам, и горским, и меньшевикам, и эсерам. Вот и не любят нас и гонят отовсюду.
Он тоже шутил, но без тени улыбки.
В первые месяцы революции его избрали председателем местного Совета — так уважали этого человека. Но стоило Совету принять однажды большинством голосов меньшевистскую по духу резолюцию, он в знак протеста тотчас ушёл с председательского поста.
— Выселение это вам в наказание за непримиримость, — продолжал шутить Сергей Миронович. — Ну, а где же теперь ты поместился с семьёй?
— Вечером прошу ко мне, — сказал Николай. — Мы с Симой у матери пока что. Увидишь: тут и братья, тут и сёстры... Немалое семейство. Десять душ получается со мной и Симой... Ну да ладно, не имеет значения. Поехали на промысла, я туда сообщил о твоём приезде. Рабочие ждут!
Взяли извозчика и поехали.
История женитьбы Николая Анисимова на дочери казачьего офицера удивительна.
В Грозном семья Анисимовых жила издавна и считалась одной из самых бедняцких. Отец Николая, орловский крестьянин, приехал сюда ещё в 90-х годах прошлого века. Работал на нефтепромыслах, участвовал в забастовке и кончил свои дни в тюремной больнице. На руках у вдовы остались восемь ребят, и не было в Грозном семьи, где дети росли бы в большей нужде, чем эти ребята. Тяжелей всего было матери. Работала скотницей, судомойкой, на ночь брала стирку, ходила белить людям квартиры, мыть полы.
Однажды кто-то из соседей сказал вдове:
— У тебя старший сын Коля очень способный, надо его учить. Хорошо в математике понимает. Это не каждому даётся.
Добрые люди помогли Коле, и он окончил реальное училище, а потом сумел поступить в Петербургский университет, но, проучившись года три, он оставил науки и отдался делу, которое ничего не сулило, кроме арестов, тюрем и каторги. Николая увлекло революционное подполье, он стал большевиком.
Ещё учась в реальном училище, Николай познакомился с кудрявой беленькой гимназисткой Симой. Та спешит в свою гимназию, Коля — в училище, по дороге поговорят, и эта дорога была для них единственным местом встреч. Она и свела их, она и соединила — пыльная грозненская улочка с деревянными тротуарчиками и пузатыми домишками. И неведомый доселе новый мир распахнулся перед дочерью казачьего офицера.
Дома она слышала разговоры о лошадях, царе-ба-тюшке, чинах и наградах. Дом был многокомнатный, зажиточный, сытый, как и лошади, которых отец любил, кажется, больше всего на свете. Не раз Сима видела, как свирепо он бил денщика по щеке, а лошадей щадил.
И маленькой гимназистке постепенно становился чуждым её домашний мир. И всё больше тянуло к Николаю. От него, редко улыбающегося, но такого начитанного и серьёзного, Сима узнавала о том, как Спартак подымал рабов на борьбу с насилием. И как позорно отстал от передовых идей века косный и страшный самодержавный строй России, которому с таким жестоким рвением служит Халиев, отец Симы. Он ходил по Грозному с нагайкой, и его тут все боялись. А мать Симы была женщиной тихой, мягкосердечной.
— Ты что с этим ободранцем ходишь, с Анисимовым? — допытывалась иногда мать, — У него штаны в заплатах, а ты ничего не видишь, ничего не замечаешь. Нельзя так увлекаться, дочка! Ты ему не пара!
Сима вспыхивала, убегала в свою комнату и там шёпотом признавалась самой себе, что всё видит, всё замечает, но ни за что не отречётся от своей первой настоящей любви.
Прошли годы. Николай стал студентом университета, Сима — учительницей в женской школе.
Теперь молодые люди могли встречаться только в те месяцы, когда Николай приезжал на каникулы.
Он учился на технологическом факультете, готовился стать инженером, а жил революцией. С упоением говорил о нелегальных студенческих сходках, о подпольных листовках, об опасностях, подстерегающих революционера, о судьбе товарищей, попавших в тюрьмы и в ссылку.
— Не страшно тебе всё это, Сима? — спрашивал он.
— Нет, — твёрдо отвечала дочь казачьего офицера. — гГы идёшь правильной дорогой, Коля!
J Оказалось, у маленькой, хрупкой Симы мужественный, казацкий характер. Недаром она отлично ездила верхом и в смелости не уступала отцу. В один прекрасный предосенний день Сима покинула родительский дом и уехала с Николаем в Петроград.
Но недолго пробыли они там. Из-за преследований царской полиции им пришлось вернуться обратно в Грозный. Поселились не у отца Симы — тот и признавать её не хотел.
Да Сима и не пошла бы в его дом.
Поселились молодые у матери Николая, Марии Павловны, работавшей в ту пору судомойкой в офицерском клубе и кормившей свою большую семью тем, что удавалось принести из столовой клуба.
Николай устроился работать на промыслах, а Сима стала учительствовать.
Жили скудно, трудно. А Симе целый день хотелось петь. Николай и тогда редко улыбался, а Сима была полной ему противоположностью — всегда весела, улыбчива.
— Живём мы чудесно! — говорила она всем.
А отец её, Халиев, страшно лютовал, грозился убить и Николая и дочь.
То произошло два года назад, и теперь у молодых уже был ребёнок.
4
Огонь на горящем промысле гасили песком. Казалось, пылает сама земля и это из её глубин выбивается и ползёт в небо едкий рыжий дым.
Иногда из очага пожара отделялись громадные огненные клубни. Всё тонуло в густом дыму, и люди отступали, чтобы не задохнуться. И космы дыма яростно бросались на них.
В толпе говорили:
— Абреки! Абреки! Это они подожгли.
Мешки с песком падали в багровый очаг пожара, словно в пропасть. Киров походил в толпе, поговорил с рабочими. Готовы ли эти люди защищать свой город от грозящих ему бед и насилий? Начинает гореть сам Терек.
Митинг у пожарища возник как-то сам собой. Первым, взобравшись на груду мешков, говорил Анисимов. Для рабочих этот человек был своим, его хорошо знали, и многие ещё помнили его отца — Андрея Фастовича, потерявшего тут, на промыслах, своё здоровье.
Выступил перед рабочими и Киров. Снял, фуражку, привычным жестом отбросил назад волосы и начал речь.
Некоторые тут знали его, большинству он был ещё незнаком. Хотелось его послушать. Никогда люди так не тянулись к новому слову с трибуны, как сейчас.
Когда людей призывают к борьбе, они хотят знать, кто же тот, который их к этому призывает, что у него за душой. Сначала приглядывались к Кирову, потом стали вслушиваться в его речь.
— Дорогие товарищи! — говорил он. — Наш Терек несёт в себе много внутренней огневой силы, как эти цистерны с бензином. Цистерны можно взорвать, а можно и разумно использовать то горючее, которое в них заключено.
Из толпы кричали:
— Правильно! Да видишь, что делают? Хотят взорвать всё без пользы! И нас всех перебить!
Говорить с обозлённой толпой было трудно. Разруха, беспорядки, пожары лишали рабочих куска хлеба. Заработки падали, многие начинали подумывать об отъезде в другие места. Терек голодал не так, как рабочие центры России, но, если усилится вражда между казаками и горцами, жизнь станет здесь хуже ада. И Киров не скрывал этого в своей речи. Он раскрывал положение на Тереке с беспощадной откровенностью, говорил рабочим правду, и его понимали.
Анисимов стоял сбоку на мешках, радовался, что Кирова так хорошо слушают, и думал:
«Вот в этом и есть его сила как оратора — умеет быть честным перед народом. Вот это и мобилизует».
Он слышал, как один рабочий тихонько сказал в толпе другому:
— Знаешь, хуже нет на войне попадать под начальство дурака командира. Всю роту загубит! Весь полк!
А ежели он дивизией командует, то и всю дивизию! А с умным командиром ничего не страшно!
Кончил Сергей Миронович призывом к рабочим срывать вражеские провокации, стойко защищать город.
— Вы отстаиваете свои промысла! Не даёте врагу ввергнуть нашу страну в разруху. Правильно, товарищи! Те, кто устраивает эти пожары, эти кровавые стычки на Сунже, пусть знают, что это обернётся против них самих!
Вечером в кирке собрались местные большевики, и Киров снова выступал. Он ещё днём рассказал Анисимову и некоторым другим из большевистской организации о том, что узнал от Асланбека. Лена и Всеволод тоже выступили и подтвердили слова Кирова. Решали, что делать, пока не пробило час ночи.
Тут Анисимов спросил у собрания:
— Продолжать будем или по домам?
— Чего там спешить? Ещё не поздно!..
Народ в организации был решительный; она состояла в большинстве из рабочих и солдат местного гарнизона. Обсуждение назревших вопросов продолжали до половины третьего.
В кирке был орган. Кто-то заиграл на нём. Торжественно-протяжные звуки «Интернационала» полились под каменными сводами. Стоя, все хором подпевали органу.
— Вагон с оружием мы постараемся перехватить, — говорил Анисимов, ведя Кирова по тёмным улицам на квартиру своей матери, — Наши товарищи, работающие на товарной станции, получили задание зорко следить за каждым подозрительным грузом. Вот с Дикой дивизией как быть?
— Чермоев здесь ещё? — спросил Киров. — Надо было бы его прощупать.
— Это как?..
— А так. Получше узнать его намерения и действовать, — говорил Киров, — Уцепиться за какие-то его слова, выяснить его связи. Сообщение такого порядка, какое привёз Асланбек, надо проверить, знать точно...
Анисимов молча вглядывался в багряные сполохи на горизонте. Эти сполохи временами бывали такими яркими, что пропадали тени.
— Я не смогу разговаривать с Чермоевым, — наконец произнёс Николай. — Это выше моих сил. Не знаю даже, кому это поручить.
— Мне, — отозвался Сергей Миронович.
Он говорит серьёзно? Николай долго изучал на ходу лицо спутника.
— Наверно, мне это будет даже удобнее,-чем кому-нибудь из вас, — сказал Киров, — Ведь у меня в кармане корреспондентский билет!
— Надо подумать, — коротко проговорил Николай.
Во тьме вырос старый, неприглядный дом.
Вошли в ворота, повернули, очутились на разбитой лестнице, ведшей в полуподвал.
— Вот здесь мы живём, — сказал Анисимов, — В тесноте, да не в обиде.
Он постучал. Дверь открыла Сима. На плечах — белый платок. В глазах и радость и затаённая тревога.
— Как вы поздно! А мы уж не знали, что и думать, куда за вами сбегать. На край света разве?
Фамилию Кирова Николай не назвал, а она и не стала спрашивать, кто он, — пожала ему руку и сказала приветливо:
— Прошу в дом, товарищ.
5
В передней тускло горела керосиновая лампа. Тут мужчин встретила пожилая женщина с худощавым измождённым лицом. Это была мать Анисимова.
Кирова она знала ещё по его приездам в Грозный в подпольные годы. Ласково сказала гостю:
— Милости просим, сынок...
Сима и Николай жили в отдельной комнатке, и там же помещалась кроватка их девочки Тани. А семеро братьев и сестёр Николая вместе с его матерью занимали вторую комнату, размером побольше. Эта комната напоминала рабочее общежитие на нефтепромыслах. Убогий скарб, непокрытый деревянный стол, за которым едят, читают, пишут, шьют. Стол, вокруг которого про-
[ходит вся жизнь семьи. По праздникам его скоблят добела, а скатерти и вовсе нет в доме. И никакими сквозняками не выдуешь царящий здесь особый запах бедности — запах старых одеял и матрацев, заношенной, застиранной одежды.
В дверях на минутку мелькнула косичками быстроглазая Лёля, самая младшая из сестёр Николая, но тут же, застеснявшись, убежала к себе на кровать.
Ужинали в комнате молодых. Мария Павловна сидела в углу и покачивала кроватку внучки, а Сима хлопотала у стола. Какая-то скатёрка тут была — её сшила, наверно, сама казачья дочь.
Трудных два года прожила Сима в большой и малообеспеченной семье Анисимовых, но почти не изменилась, была такой же кудрявой, беленькой и улыбчивой, как и прежде. Она стала десятым членом семьи и работала наравне со всеми. Учительствовала в женской казачьей школе, помогала матери Николая дома по хозяйству. Недавно под влиянием Николая попросила у местных большевиков рекомендации и стала членом Грозненской партийной организации. А отец Симы по-прежнему свято чтил свергнутого царя и люто презирал всё новые перемены.
Но сейчас он находился дома редко — воевал со своим полком на фронте против немцев и в Грозном бывал наездами, такой же суровый и по-прежнему переполненный страшной злобой к дочери и всей семье Анисимовых.
За ужином Николай сказал жене:
— Слушай, Сима, а в окне твоего дома я видел свет. Может, вернулся сам Халиев?
Слово «отец» не произносилось.
— Не знаю, — дрогнувшим голосом отозвалась Сима. — Может, и приехал сам он.
Больше о Халиеве не говорили.
А Сергей Миронович, глядя на Симу, думал: какое мужество у этой женщины! Дом подполковника расположен близко отсюда, и страшно ведь жить почти бок о бок с человеком, который после ухода дочери к Николаю от ярости потерял голову и поклялся уничтожить весь род Анисимовых.
Не раз добрые люди советовали Николаю и Симе переехать в другое место. Но ни он, ни она не соглашались. Николай был опорой семьи и не мог оставить мать, сестёр, братьев. А сейчас он об отъезде не хотел и думать.
В Грозном столько работы! Совет, партийная организация, митинги на промыслах и заводах. Нет, никуда он не подастся отсюда.
Впрочем, на время ему, видимо, придётся уехать, и очень скоро.
На днях из Петрограда от ЦК большевистской партии пришло сообщение о предстоящем очередном партийном съезде. От Грозного, как основного пролетарского центра на Тереке, надо выслать в Питер делегата. И вчера же, ещё до собрания, многие партийцы в один голос заявили, что они будут голосовать за Анисимова.
Разговор об этом возник и сейчас, за ужином. Николай показал Кирову прибывшие из Питера бумаги.
— Да, конечно, придётся ехать тебе, — согласился Сергей Миронович. — Ваша партийная организация самостоятельна, и в этом качестве она, кстати, пока единственная на Тереке. От вас и надо посылать на съезд. Завидую! — добавил Киров с улыбкой, — Но право за тобой!
В эту ночь он и Николай так и не прилегли — всё обсуждали положение в стране и на Тереке и никак не могли наговориться. Сима поспала часок за пологом, где стояли две кровати, и вскоре поднялась. Была половина пятого утра, а за окном уже возились голодные птички.
На стене у зеркала висел календарь. Сима, причёсываясь, сорвала вчерашний листок, вздохнула:
— Как время летит!
— Да, бурлит всё, кипит, — произнёс Николай. — А в Петрограде, наверно, совсем как в кипящем котле. Чувствую, предстоят большие события.
Николай был бледен, выглядел плохо, и Сергей Миронович пожалел, что увлёкся разговором и не дал молодому грозненцу поспать. Как незаметно прошла ночь!
А теперь, с наступлением утра, об отдыхе нечего было и думать.
Сима уже возилась с проснувшейся девочкой. Малышке шёл второй год.
— Хорошая дочурка у меня растёт, — похвалился Николай, — будет жить в другое время. Завидую ей. А может, она будет завидовать нам?
Сергей Миронович шутливо проговорил:
— Мне кажется, история всем задаст достаточно работы. Как у нас там, во Владикавказе, любят кричать продавцы мороженого: «Не волнуйтесь, не толпитесь, всем хватит, всем достанется!»
Когда Сима вышла из комнаты, Николай сказал странно приглушённым голосом:
— Ненавижу эти две кровати.
— Какие кровати? — удивился Киров.
— Глупая история, — вздохнул Николай и, показав рукой на кровати, стоявшие за пологом, продолжал: — Мелочь, пустяк, а гложет меня и гложет совесть уже много времени. Послушай, какая история.
История... Никакой истории, в сущности, не было.
Когда Николай и Сима вернулись в родной город из Петрограда и поселились в убогой квартире Марии Павловны, им в первое время не на чем было спать. Не оказалось денег у молодых на покупку кроватей.
И тогда сердобольная мать Симы дала им две кровати и два одеяла, иначе молодожёны спали бы на полу. Не хотел Николай подарка, купленного на деньги под-полковника-монархиста, но нужда заставила взять. За это себя и казнил с тех пор. Вот и вся история. Он сам понимал, что не стоит так переживать.
Сергей Миронович приподнял полог, поглядел на кровати. Простые, железные, одеяла дешёвые.
— С какой радостью выбросил бы всё это к чертям! — сверкнул глазами Николай. — Я чуть не каждый день говорю себе: придёт время, и я их выброшу! Придёт время, и я куплю другие! А денег нет и нет!
У Сергея Мироновича подкатил комок к горлу, стало трудно дышать. Журналистика давала ему возможность жить немного лучше, чем жил Анисимов, у него не было большой семьи, как у грозненца, но он знал, что за жизнь бывает, когда каждая копейка высчитана.
— Милый ты мой Коля! — проговорил Сергей Миронович, дружески кладя руку на плечо Анисимова, — Братец ты мой! Таков удел всех солдат революции: ничего для себя, кроме счастья борьбы!
Оба ощутили волнение и постарались скрыть это друг от друга.
Николай вышел за дверь к водопроводному крану, хотел подставить голову под струю холодной воды.
— Сыночек!
Оглянувшись, он увидел стоящую рядом мать.
— Ты бы дал сначала гостю умыться, — сказала она тихо. — Полотенце-то у нас одно, и оно будет мокрое, пока до гостя дойдёт.
Чистое, нетронутое полотенце отдали гостю. Вытирая лицо, Сергей Миронович понял, конечно, отчего полотенце свежее.
Уходя вместе с Николаем после завтрака в город, он с особенным чувством пожал руку Симе и матери Анисимова. Что такое нужда и тяжкий труд ради куска хлеба, Киров познал на самом себе ещё в годы уржумского детства, когда осиротел и попал вместе с сёстрами на попечение горемычной бабки. Измождённое лицо Марии Павловны рождало щемящее воспоминание о тех далёких голодных годах.
Глава седьмая. Господин Топа откровенничает
1
Когда-то семья вдовы Анисимовой жила в доме Чер* моева. Николай, самый старший из её детей, был тогда ещё подростком. Мария Павловна стирала, мыла, чистила, работала день-деньской на Чермоева, получая за это гроши. Ютилась с детьми в подвале при кухне. Госпожа Чермоева называла это даровой квартирой и считала себя благодетельницей многочисленной семьи бедняка пролетария, рано сошедшего в могилу.
Дом Чермоева был богат и по внешнему виду, и по внутреннему убранству. Снаружи — колонны, зеркальные окна, кариатиды, швейцар в ливрее у подъезда. Швейцар — чеченец. Кучер, дожидающийся хозяина возле пароконного экипажа, — тоже чеченец. В доме вся прислуга — чеченцы, то есть люди, которых благоверный Топа считал своими по крови. Иноверными были только старый хромой дворник из обедневших казаков и кухонная работница Анисимова. Первый обретался во дворе и жил в тесной каморке у ворот, а Мария Павловна, исполнявшая самые грязные работы, никогда не поднималась в верхние покои. Там всё блестело и сияло. Зеркала, люстры, ковры — турецкие, текинские, бакинские, персидские, хивинские и всякие иные. В доме Чермоева очень любили ковры.
Киров решил атаковать Топу внезапно и в его же собственном логове.
В десять утра Сергей Миронович появился у подъезда чермоевского дома, позвонил и через несколько минут уже сидел на краешке огромного турецкого дивана в гостиной. Хозяин вышел к нежданному и необычному гостю в длинном, до пят, халате.
Начался положенный в этом доме по этикету обязательный обмен любезностями. Как самочувствие, как жена, дети? Топа делал вид, будто чрезвычайно обрадован и даже полыцен приходом Кирова.
— Такой известный, такой выдающийся человек, журналист, оратор оказывает мне честь! О, я с удовольствием, с великим удовольствием!.. Я в полном вашем р аспоряжении!..
Киров показал корреспондентский билет. Топа замахал руками — он знает, знает, кто сидит перед ним. Не надо никаких документов. В делах он, Топа Чермоев, предпочитает прежде всего взаимное доверие, а не какие-то там бумаги, скажем, векселя, контокоррентные счета и тому подобное. Увы, к сожалению, элементарным добропорядочным отношениям вредят острые политические распри. Но люди всегда остаются людьми и могут договориться друг с другом, если отбросят предубеждения и’захотят найти общий язык.
Получилось так, что предисловие к разговору взял на себя сам Топа, освободив от этого гостя. Киров с улыбочкой смотрел и слушал, как Топа исполняет свою роль.
— Итак, — сказал хозяин, — теперь слушаю вас. Впрочем, ещё одну минуточку, — спохватился Топа, — Вы пьёте вино? Нет? Курите? Хотите кальян? Тоже нет? Ах да, да, у вас своя любимая трубочка. Пожалуйста, ведите себя как дома.
Не успел Киров раскурить свою трубочку и заговорить, как Топа снова воскликнул:
— Ещё минуточку, дорогой! Как вы находите всю эту историю, которая была у вас во Владикавказе? Бедный Ахмедов! Ай-я-яй!
— Да, это были печальные события, — вставил Киров. — Погибло много невинных людей.
— Ай-я-яй! — печалился Топа. — Ну, теперь я вас слушаю, дорогой. Я только ещё одно слово скажу. Вы помните наш разговор в ресторане Ахмедова, мир его праху! Я тогда говорил: мы, горцы, маленькие нации и у нас свой путь. Правильно я говорил, дорогой? Как ты думаешь?
— Я бы не хотел сейчас касаться тех споров и вообще чересчур больших вопросов политики, — сказал Киров. — Я пришёл к вам по другому поводу.
— Говори,говори, дорогой!
— Нашу газету интересует, как смотрите вы, промышленники, на пожары, пылающие у вас тут, в Грозном, уже не первый день.
Топа прищурил глазки, по-детски пожевал губами.
— Что вам сказать, дорогой? Пускай горит!
Услышав такой ответ, Киров невольно отшатнулся.
— Горят же и ваши промысла!
— Горят и мои, — согласился Топа, — Что я могу сделать? Охрана плохая, и сам чёрт не разберёт, как начинается пожар. Рабочие кричат — это абреки, мы думаем — сами рабочие жгут... Нет, дорогой! — продолжал Топа. — Раз ты ко мне пришёл... Можно вам «ты» говорить? Раз ты ко мне пришёл, я хочу с тобой именно о большой политике поговорить. Что нам какие-то пожары? Мы же не пожарники!..
И Топа расхохотался во всё горло. У него даже выступили слёзы, от них намокли его узенькие чёрные усы.
Вытирая платком лицо, он продолжал:
— Слушай, ты мне лучше скажи, как дела у твоего хозяина Казарова. Может быть, ему деньги нужны?.. Но это я между прочим, ты сиди, сиди! — сразу переменил тему Топа, видя, как нахмурился Киров, — Я знаю, ко
мне ты бы не пришёл просить и самому Казарову тоже не позволил бы... Ну хорошо, хочешь про пожары говорить, будем говорить про пожары. Про большие пожары. И тут я тебе скажу всё откровенно. Как у вас говорят: душа нараспашку.
Мало-помалу разговор принял то направление, какое нужно было Кирову. Он заранее знал: Топа ни на грош не поверит, что истинная цель прихода сюда видного терского большевика именно та, о которой ему сейчас было сказано. Но, зная характер богатого чеченца, Киров сделал точный психологический расчёт. Топа любил играть в простодушие и часто переигрывал. Так произошло и сейчас.
— Хочешь, скажу по-честному, совсем откровенно, как родному человеку, — говорил Топа, прикладывая обе руки к сердцу, — Как я понимаю, в Петрограде у вас дела плохи. А здесь, на Тереке, дальше некуда, так плохо, ой, ну просто ужасно плохо! Всё горит, не только мои промысла. Ты согласен? Вот, дорогой, что самое главное. А как потушить? Это, дорогой, вам, русским, не по силам. Вы думайте себе про Россию. А хотите — помогайте нам. Мы, горцы, этот пожар у себя потушим. У нас найдутся средства. Ты меня понял? Нас надо просить, ты понимаешь, что я говорю? Я человек простой, не скрываю. А ты скрываешь. Сидишь и молчишь. Почему? Говори, не скрывай. Скажи честно: мы боимся!
Киров вскинул голову:
— Чего?
— Ты у меня спрашиваешь? — усмехнулся Топа.
— Чего мы боимся, по-вашему? И кто это «мы»?
— Ну что ты, дорогой, дурака валяешь?
— Я серьёзно спрашиваю.
— Слушай, — сказал Топа, — будем с тобой в жмурки играть, что ли? Ты взрослый, я взрослый. Зачем жмурки? Скажи прямо: я пришёл потому, что нам грозит опасность.
— Какая опасность? От кого?
Топа взревел дико, чуть не на весь дом:
— От Караулова, чёрт бы вас всех побрал! Ты что, не понимаешь? В Петрограде скоро перестанут петь «Марсельезу», ты что, не видишь? За кого казаки возьмутся первым делом, а? Ты что, не знаешь? За вас они возьмутся, за тебя и таких, как ты! При царе казаки кого били? Ты забыл?
У Кирова погасла трубочка. Интересно! Он не ожидал, что Топа увидит именно в этом причину его прихода.
— Ну, что молчишь? — спросил чеченец.
— Дело революции вовсе не проиграно, господин Чермоев, — проговорил Сергей Миронович, снова раскуривая трубочку, — Не спешите.
— Ай! — с деланной досадой воскликнул Топа и искривил гримасой своё мясистое лицо. — В коммерции не спешат заключать контракт, пока ты не набил цену. А зачем ты это делаешь? Ты же не коммерсант!.. Ну хорошо, — вдруг заулыбался Топа. — Ты хотел бы знать, что может предложить наша фирма? Хорошо, дорогой, я скажу. Подожди минуточку!
Топа встал, вышел из гостиной и скоро вернулся со счетами в руках.
Он положил их перед собой на диван и стал щёлкать костяшками:
— Казаков у нас на Тереке сколько? Я тебе точно скажу: одна пятая часть населения, или, суммарно говоря, двести пятьдесят тысяч. Так?
Киров кивнул. Это была верная цифра.
— А наших сколько? — продолжал Топа, — Сейчас я тебе скажу. Наших, я имею в виду горцев, шестьсот семьдесят тысяч, и самая многочисленная группа — это мы, чеченцы. Нас двести семьдесят тысяч. Потом кладём на счёты ещё ингушей шестьдесят тысяч, кабардинцев сто пять тысяч, осетин — сто тридцать тысяч. Ну, и разных там других понемножку.
Топа отложил в сторону счёты и посмотрел на Кирова.
— А сколько ваших на Тереке? Это я тебе тоже скажу. В Грозном у нас тут рабочих тысяч пятнадцать, и даже вместе с сезонниками их не будет больше двадцати пяти тысяч. Это же капля в море, дорогой! Ну, ещё у вас во Владикавказе немножко... Не знаю, сколько там в железнодорожных мастерских и на Алагирском заводе. Совсем капелька!
Вдруг, словно вспомнив что-то, Топа опять взялся за счёты.
— Да! Я забыл прибавить! Какая у нас была цифра горцев? Шестьсот семьдесят тысяч? Нет, дорогой! Сюда ещё надо добавить одну цифру, которую я даже не знаю, как выразить суммарно. Ты что-нибудь знаешь про Дикую дивизию?
«Вот, — подумал Киров, — мы у цели».
Топа задумчиво смотрел на счёты, держа наготове палец у того ряда, который обозначал тысячи.
— Сколько накинуть? Я даже не знаю, — произнёс Топа. — Это же целая дивизия! С готовым вооружением, с хорошей боевой выучкой. На четыре пятых она мусульманская и будет слушаться нас, а не... Ты понимаешь, что это такое?
Хозяин дома показывал себя неплохим коммерсантом. Он умело набивал себе цену. О Дикой дивизии шли слухи, что это одна из самых контрреволюционно настроенных войсковых частей, на которую готовы опереться сторонники свергнутой власти.
— Так вот, дорогой, — продолжал Топа, — эту дивизию мы заберём себе. Мы, горские деятели, думаем, что Керенский с удовольствием отдаст её. И тогда на Тереке появится такая сила, что мы ещё посмотрим, кто тут главный — мы или Караулов. Ты понимаешь?
Всё теперь было ясно, и Киров кивнул. А хозяин дома удовлетворённо сложил руки на животе. Казалось, гость подавлен и оттого молчит, собираясь с мыслями. Топа с наивным видом спросил:
— Мои слова произвели на тебя сильное впечатление, а? Ты задумался, я вижу. Ну, думай, думай! Время есть... Только не так много, не так много! Кругом пожар, нельзя долго думать. За горло я тебя, конечно, не беру, можешь посоветоваться со своими, всё обговорить, я понимаю. Если вы хотите отдаться под нашу защиту, то мы тоже подумаем, на каких условиях...
Киров, не дослушав, встал.
— Благодарю за откровенность, господин Чермоев, тут действительно есть над чем подумать. Позвольте только спросить: о переводе Дикой дивизии сюда, на Терек, уже идут переговоры? Или это ещё проект?
— Зачем проект? Мы люди деловые.
— Понятно. Ещё раз благодарю...
О, если бы Топа знал, за что его благодарят!
Смеркалось, когда Киров заглянул в кирку. При свете свечи тут сидел и что-то писал молодой человек в такой же студенческой куртке, какую носил Анисимов. Это был видный грозненский большевик Николай Носов.
— Анисимов на вокзале, — сообщил Носов, — Там обнаружен вагон с подозрительным грузом. За вами сейчас придут Лена и Всеволод. Сегодня у нас тут ничего не будет. Предстоит некоторая операция вне этих стен.
Какая операция, Носов не сказал. В кирке было много тёмных углов и закутков, и казалось, Носов опасается, что его могут подслушать.
Лена и Всеволод пришли вскоре. Они были в Грозненском Совете. Там всё время драки. Сегодня был спор из-за непрекращающихся попыток вывести из города армейские пехотные части. Самая надёжная опора здешних большевиков — это 111-й стрелковый запасной полк. А чёрная сотня уже орудует против него.
— Это чёрт знает что! — негодовала Лена. — Валят с больной головы на здоровую! Солдат обвиняют в поджогах! С ума сойдёшь!
— Обидно, что даже в Совете находятся такие, которые верят, — сказал Всеволод.
«Так... — подумал Киров, — расчищается место для Дикой дивизии...»
Носов деловито сказал Лене:
— Ты бы вспомнила о своих детях. Иди домой. И ты тоже, Всеволод. Вы сегодня достаточно поработали. Да и гостю нашему пора отдохнуть, а уже вечер.
У Лены вырвался протяжный вздох:
— Ох, батюшки! Как день пролетает!..
Сергею Мироновичу хотелось повидаться с Анисимовым, посоветоваться... Днём он совершил вдвоём с Асланбеком небольшую поездку в ближний загородный аул и насмотрелся там картин, которые были Кирову давно знакомы. Всё та же нищета и убогость, как везде.
О своей утренней встрече с Чермоевым Сергей Миронович предпочитал пока не распространяться. Сперва лучше обсудить всё с Анисимовым. Разумнее избегать кривотолков.
— А можно мне пойти на вокзал? — спросил Сергей Миронович по дороге у Лены и Всеволода. — Я потом приду к вам.
Всеволод, по характеру покладистый человек, заколебался, был готов отправиться с Кировым на станцию, но Лена запротестовала.
— Дисциплина есть дисциплина, — сказала она Кирову с улыбкой. — Нам велено на сегодняшний вечер увести вас к себе. Мы за вас отвечаем.
Киров покорился. А Всеволод шутя сказал:
— Глас жены — глас божий...
Город уже погружался в темноту, и прохожие спешили поскорее добраться до своих жилищ. Цокали по мостовым копыта. Встречались то казачьи конные отряды, то солдатские патрули. Снова забагровели в небе над крышами дальние сполохи. Днём пожары на промыслах давали о себе знать только чёрным дымом, к которому мало-помалу люди начинали привыкать. Стоит в небе дым, ну что сделаешь! А ночью эти отблески бушующего внизу пламени ввергали в какое-то особенно тревожное состояние. И небо и всё вокруг в городе казалось зловещим.
Вскоре после ужина Всеволод надел плащ и ушёл. На улице накрапывал дождь.
Через час он вернулся. Не снимая мокрого плаща, стоя на пороге, он сказал Кирову, сидевшему у стола с газетой в руках:
— Вас просит Анисимов.
— Куда? — выглянула из детской Лена.
— На вокзал, — ответил Всеволод, стряхивая с бородки дождевые капли, — Я согласовал.
Киров подумал растроганно:
«Вот люди!»
— Ну, раз так, это другое дело, — сказала Лена. — А мне можно с вами, Сева?
— Николай сказал, что тебе лучше сидеть дома. Я просил... Но ты же знаешь — Николай человек принципиальный.
— Бог с вами, — огорчённо отозвалась Лена. — Мужчинам всегда больше везёт. Не забудьте надеть плащ, — обратилась она к Сергею Мироновичу, — Мужчины такие рассеянные, такие беспечные, ужас!..
Ночью Грозный освещался плохо. К счастью, до вокзала было недалеко.
Город, где в огромных резервуарах и баках скопились многие тысячи пудов нефти и керосина, жил в темноте, словно нарочно прятался в неё от тревог и неизвестности. Тишину нарушал лишь свист маневровых паровозов. Киров и Всеволод услыхали этот свист ещё до того, как из мглы блеснули привокзальные фонари.
Анисимов поджидал Кирова в станционном буфете. Народу тут оказалось немало. За столиками шум, говор. Кое-где Киров заметил людей, с которыми встречался в занятой большевистским комитетом бывшей кирке. В публике были и пассажиры, дожидавшиеся ночных поездов, многие пришли сюда просто повеселиться.
— Ну, как тебя принял наш нефтяной король? — спросил Анисимов, когда Киров и Всеволод подсели к нему за столик.
Сергей Миронович рассказал. Не раз по ходу рассказа Анисимов приходил в ярость, стучал кулаком по столу. Всеволод выслушал всё гораздо спокойнее, только не переставал пощипывать бородку.
— Я бы не смог! — иногда восклицал Анисимов, — Я бы взорвался!
— Зачем? До поры до времени не надо взрываться, — говорил с улыбкой Всеволод. — Дипломатия тоже порой полезна как средство. Терпение.
— К чёрту терпение! — грозно сверкал глазами Анисимов. — Если помните, Шекспир называл терпение заморённой клячей!
Всеволод не лез в карман за словом, когда требовалось показать свою эрудицию. Он сказал, подняв палец:
— Да, только Шекспир ещё добавил: но эта кляча всё-таки дотащится.
— Остаётся и мне привести по этому поводу какой-нибудь афоризм, — рассмеялся Сергей Миронович, — Есть одно изречение, которое гласит: «Терпение — опора слабости, нетерпение — гибель силы!» Ладно, товарищи, не будем философствовать там, где это не нужно. Мне тоже было нелегко у Чермоева. Зато нам теперь кое-что гораздо яснее. И будем действовать...
— Это им даром не пройдёт! — грозился Анисимов. — Надо сделать всё, чтобы помешать...
— Никто нас тут не слышит? — спросил Сергей Миронович, оглядываясь, — Давайте потише.
— Не беспокойтесь, — отозвался Всеволод, — За соседними столиками сидят свои. Что-что, а конспирацию наш Николай знает.
Анисимов буркнул:
— Можно потише. Это не мешает... Ладно, дома продолжим, договоримся, как нам тут действовать, отсюда пойдём ко мне.
Сергей Миронович поинтересовался:
— А здесь ещё долго ждать? Что за груз вы ждёте?
— Странный груз, — отозвался Анисимов. — Весьма и весьма!
— Ну какой?
— Гробы. Целый вагон...
Зная, что Николай может шутить без тени улыбки, Киров внимательно посмотрел на него. Всеволоду, очевидно, всё было известно. Он невозмутимо прихлёбывал чай из блюдца. Перед Кировым тоже дымился паром стакан чаю. Анисимов, уже опорожнивший свой стакан, с наслаждением покуривал. Нет, он не шутил, и скоро Киров в этом убедился.
3
Около часу ночи подошёл поезд. Паровоз попыхтел, пошумел и вскоре потащил длинный состав дальше. Два товарных вагона остались на рельсах. Прикатил маневровый и утащил, эти вагоны в глухой тёмный тупичок станции.
Анисимов вёл туда Кирова. Шли напрямик, через пути. Под ногами хлюпали лужи.
— Как ты угадываешь дорогу? — спрашивал Киров; он то и дело спотыкался.
— А мы тут сто раз всё обшарили, — отвечал Анисимов. — Осторожнее, сейчас будет столбик, а за ним — стрелки.
Среди тех, кто пришёл сюда, вместе с Анисимовым на случай, если понадобится помощь, был грозненский рабочий Тымчук. Он работал на товарной станции и знал тут все ходы и выходы.
Тымчук шёл впереди.
— Сюда... сюда... — слышался порой его сдавленный голос. — А теперь сюда...
У крытого пакгауза стояли оба отцепленных вагона. Тымчук пошептался со стариком сторожем в тулупе. Тот показал винтовкой на вагон, стоящий подальше.
— Спасибо, дядя Пётр, — поблагодарил сторожа Тымчук, — Ясная картина.
Анисимову Тымчук доложил:
— Один вагон нам неинтересный. В нём какие-то машины для бурения. А вон тот вагон нам самый раз. Сторож свой человек, не беспокойтесь. Нам не помешают.
Подошли к той теплушке, которая больше всего интересовала грозненцев.
Тымчук пощупал пломбу на двери теплушки, подёргал тяжёлые висячие замки.
— Станьте с двух сторон так, чтобы меня заслонить, а я засвечу фонарик, — прошептал Тымчук, — Пломбы я снимаю быстро, не впервой, слава богу.
Он повозился, однако, долго, поорудовал какими-то ключами и наконец толкнул дверь теплушки. Изнутри пахнуло душным странным запахом. В Кирове взыграл репортёрский дух, и он тоже забрался в вагон вслед за Тымчуком и Анисимовым.
— Дёгтем вроде пахнет, — удивился Анисимов.
— Нет, это особым маслом пахнет, есть такая смазка, — определил Тымчук.
Зажгли фонарик, тут же погасили.
Вдоль стен стояли грубо сколоченные деревянные гробы.
— Страшно, ей-богу! — проговорил Тымчук вдруг охрипшим голосом. — Волосы на голове шевелятся. Неужели будем гробы отколачивать?
— А топорик ты прихватил?
— Прихватил. Вот он...
— Давай я! — сказал Анисимов.
Тымчук никому не отдал топорика. Напряг силу воли, преодолел в себе свойственный всякому живому безотчётный трепет перед тем, что стало мёртвым, и шаг-
нул к ближайшему продолговатому чёрному пятну у стены.
Работал Тымчук мастерски. Гвозди выходили из своих гнёзд с едва слышным; скрипом.
— Открываю, — послышался сдавленный голос.
Сдвинулась крышка. Анисимов полоснул лучом фонарика по открытому гробу. И почти одновременно все трое изумлённо воскликнули:
— Ну и ну!
Гроб во всю длину и доверху был наполнен новенькими винтовками. Затворы были густо смазаны ружейным маслом, стволы обёрнуты особой бумагой. Тымчук не помня себя вырвал из рук Анисимова фонарик и с радостным лицом присел к винтовкам.
— Ах вы, миленькие! — проговорил он, ведя лучом фонарика по стволам, затворам, прикладам и словно бы лаская их лучом. — Мы же так нуждаемся в вас, голубчики! А вы тут как тут!
Он вынул одну винтовку из гроба, взвесил её в руках, потрогал затвор, убедился, что всё это настоящее, и вскочил с ликующим возгласом:
— Заберём! Всё заберём! А? Заберём?
— Дай-ка винтовку! — потребовал Анисимов.
Он тоже взвесил её в руке. Нагнулся, осторожно положил оружие на место.
— Завтра народу покажем, — сказал он.
Тымчук заспорил:
— Зачем? Не видно разве? Для контры же это всё!
— Надо вора за руку поймать, понял? Не спорь! Оружия не отдадим, не волнуйся, друг!.. Сделаем как надо!..
— Что мы сделаем? Набегут, расхватают!
— А мы где? А мы на что?
Сергей Миронович орудовал топориком у другого гроба. Крышка не давалась, гвозди выходили туго. Пришлось Тымчуку довершить работу, ему это удавалось лучше.
Во втором гробу лежали грудой — и тоже доверху — пулемётные ленты, обоймы с патронами для винтовок и револьверов. Чернели тут и короткие сапёрные лопатки.
— Остальные будем смотреть? — спросил Анисимов и сам же себе ответил: — Не будем. Всё ясно. Товар налицо. Утром за ним явятся, и тогда картина станет окончательно ясной, а до утра не далеко...
Тымчук тяжело задышал. У него, наверно, сильно забилось сердце.
— А можно хотя бы одну винтовочку прихватить?
— Часть я бы забрал сейчас, — посоветовал Киров, — А остальное оставить. Для обнаружения тех, кто ждёт этого оружия.
— Ладно, — сдался Анисимов. — Сейчас организуем. Дело недолгое, наших тут вокруг много.
К полуночи часть оружия была вынута из гробов, уложена в мешки и на извозчичьих пролётках развезена по квартирам местных большевиков и рабочих. Но много оружия ещё осталось в гробах. Их заколотили. Тымчук с большим искусством снова запломбировал вагон, навесил замки и последним отошёл от двери. В кармане его брюк топорщился новенький наган. Не утерпела душа — ведь как обходиться рабочему человеку без оружия в такие горячие революционные денёчки!..
4
Через своих людей в товарной конторе Анисимову удалось ещё вчера выяснить, что гробы предназначены для отправки в Шатой, крупное чеченское селение. По накладной значилось, что в гробах трупы горцев, погибших в схватке с казаками при проезде через одну станицу.
Сопровождали вагон два чеченца. Оба с прибытием поезда в Грозный вчера же ночью отправились куда-то в город. За ними проследили. Анисимов и его товарищи имели надёжные связи на железной дороге и кое-что уже знали ещё до того, как обследовали вагон с гробами.
Той же ночью на квартиру к Анисимову пришёл Носов и сообщил, что чеченцы, сопровождавшие этот вагон, заехали с вокзала прямо в дом Чермоева.
Сергей Миронович вспомнил: а ведь Асланбек родом из Шатоя, он должен знать тех чеченцев. На рассвете по дороге на вокзал Киров сказал об этом Анисимову и Носову, Те ухватились.
— Правильно! Надо его позвать!
Вся организация была поставлена на ноги в ту ночь. Одни дежурили в кирке, другие с утра уже находились на станции.
У Асланбека в Грозном было много родичей и знакомых. Он тут жил и учился, многие его тут хорошо знали. Молодого чеченца разыскали и на извозчике доставили на вокзал. Киров и Анисимов уже сидели в буфете. Ночь они провели почти без сна.
Привёз Асланбека энергичный с виду грозненец. Это был Хохлов, один из наиболее отважных членов организации. В Грозном были семьи целиком большевистские. Такой была и семья Хохловых.
— В целости и сохранности передаю в руки! — весело сказал Хохлов, когда подошёл с Асланбеком к столику, где сидели Анисимов, Киров и Носов.
— Чем могу служить? — осведомился немного растерянный от смущения горец. Он застенчиво краснел, как девушка.
— Садись, товарищ! — сказал ему Анисимов.
Посвятить молодого горца в суть дела поручили Сергею Мироновичу. Асланбек слыл человеком пылким, горячим. Киров усадил его рядом с собой и для начала предупредил:
— Всё, что ни услышишь, Асланбек, воспринимай молча. Даёшь обещание?
— Даю! — вскочил горец и клятвенно положил обе руки на кинжал.
— Садись, пожалуйста...
На всякий случай Сергей Миронович положил руку на плечо Асланбека. И, не опуская руки, рассказал о гробах.
— Ах мерзавцы! Ах подлецы! — негодовал горец. — Я теперь знаю, кто устроил это кощунство!
— Зачем гадать, скоро всё узнаем, Асланбек.
— Нет, я знаю кто, знаю! Это наши устроили, наши!
Под «нашими» Асланбек разумел отнюдь не своих
единомышленников из Чечни, а горцев вообще, включая и тех, с кем он там у себя в горах яростно боролся.
— Чермоев, может быть? — спросил Киров.
— Не без его участия, клянусь! — Асланбек всё порывался встать. — Когда те чеченцы приедут за гробами?
Надо думать, скоро.
— Я их убью!
— Нет, этого не надо делать, Асланбек! Уберите ручку с кинжала! И знайте: если хочется вам стать большевиком и бороться рядом с нами, плечо к плечу, то прежде всего научитесь дисциплине. Есть организация, есть партия, вы понимаете, Асланбек!
Всё решилось совсем не так, как ожидали.
Сынок Чермоева, офицер Дикой дивизии, околачивался в Грозном, числясь в отпуске. Молоденький, франтоватый, с такими же усиками, как у отца, он часто носился по улицам верхом в компании весёлых повес, тоже из богатых семей.
Оказалось, именно он является получателем вагона с гробами. В десятом часу утра у вагона уже стояли те два чеченца, которые ночевали у Чермоева. С ними был и сынок Топы. Вскоре к вагону подъехало несколько больших колымаг.
Пришли грузчики, и под наблюдением чеченцев началась погрузка гробов на колымаги, которые должны были доставить всё в Шатой.
— Живей, живей! — распоряжался сынок Топы, — Я плачу за всё! Раз-два! Раз-два!
А грузчики работали без спешки, словно нарочно тянули.
Сопровождавшие вагон чеченцы были людьми пожилыми. Сынок Топы заставил и их помогать грузчикам. Те кряхтели — груз был тяжёлый.
— Без разговоров! Надо скорее увезти это в Шатой! Там эти несчастные будут похоронены с подобающими почестями! Живей! Раз-два!..
Публика в станционном здании услышала, что на ко-. лымаги грузят какие-то трупы, и бросилась смотреть, что за трупы, откуда. У вагона быстро выросла толпа. Прибежали даже из привокзальных контор и лавок. Явилась железнодорожная охрана. Толкались тут и солдаты из эшелона, прибывшего ночью из Баку.
— Кто же пострадал? — допытывались в толпе люди. — Эх, горе, горе! Гибнет народ!..
— Одна резня кругом, только и слышишь про кровопролития! — сокрушался солдат в окопной матерчатой шапке, — И на фронте гибель, и в тылу гибель.
Киров и Анисимов стояли позади толпы. С ними был и Асланбек. Он знал сынка Топы.
Вдруг раздался крик:
— Осторожнее! Держи! Держи...
Какой-то грузчик не удержал гроба.
Тяжёлый удар о землю. Треск... Видно, как отваливается плохо приколоченная крышка. Некоторые в толпе знают, отчего плохо держалась крышка - и почему грузчик оказался таким неловким. Всё это заранее так подстроено. Вот с глухим металлическим стуком повалились из гроба винтовки.
Толпа ахнула, люди в первую минуту остолбенели, молча смотрят на оружие.
— Что такое? Что такое? — закричал сынок Чермоева. — Кто это сделал? Откуда это оружие?
Ему следовало молчать.
Гул пошёл по вокзалу, яростный гул. Ах так? Оружие возят под видом покойников! А для кого это оружие? Для бандитов, жгущих промысла, нападающих на людей в домах и на улице. Задержать оружие! Арестовать жуликов! Растерзать на месте! Тщетно Анисимов и его товарищи старались образумить толпу.
У вагона пытались устроить митинг.
Но это не удалось. Сынок Топы и пожилые чеченцы кинулись бежать. Им преградили путь где-то за пакгаузом. Поднялась стрельба.
Тогда Анисимов скомандовал:
— Окружить вагон и гробы! Не дадим растаскивать оружие! Товарищи, сюда!
На его призыв отозвалось десятка три рабочих-же-лезнодорожников, солдат, большевиков, находившихся в толпе. Ни одна винтовка, ни один патрон не уплыл в чужие руки. Всё было взято под охрану добровольцев. Появились бойцы рабочей гвардии, они установили порядок.
Анисимов объявил обнаруженные в гробах винтовки и патроны конфискованными в пользу отрядов рабочей гвардии. Пойдёт для охраны промыслов от разбойных нападений и поджогов.
l — , Правильно!.. — одобряли в толпе.
Киров не удержал’ Асланбека; когда поднялась стрельба, тот вырвался и куда-то убежал. Остановить его было невозможно, горец унёсся как вихрь.
Оружие увозили со станции на тех же колымагах, но не в горы, а в штаб отрядов городской рабочей гвардии.
Анисимов сидел на одной из колымаг и командовал. Он звал и Кирова сесть на колымагу, но тот отказался.
Куда девался Асланбек? Надо его найти. Этот юноша может сгоряча натворить беды. Солнце стояло уже высоко в небе, толпа на станции понемногу расходилась.
В привокзальном садике Сергею Мироновичу встретилась Лена. Та была страшно огорчена, что из-за ребят пропустила такое интересное событие.
— Помогите найти Асланбека, — попросил её Сергей Миронович, — На станции его нигде нет. Боюсь, не бросился ли он к дому Чермоева, чтобы заявить ему свой протест!
Сели на извозчика и покатили к центру города. По дороге Киров рассказал Лене, как всё произошло.
— Поберегись! — раздался на одном перекрёстке предостерегающий крик кучера.
Навстречу на бешеной скорости мчался фаэтон с откидным верхом. В экипаже сидел сам Топа Чермоев. Он был без котелка, который обычно носил.
Лена с тревогой сказала:
— Что-то опять случилось.
— Давайте вернёмся назад, — предложил Киров.
Повернули и вскоре снова очутились у вокзала. Экипаж Топы стоял у товарных ворот станции.
Отпустив извозчика, Киров и Лена подошли к воротам и увидели чермоевского кучера. Он рукавом размазывал слёзы по бородатому лицу и горестно всхлипывал.
— Сына у нашего хозяина убили, — плакался кучер. — Ай-я-яй! Такой любимый сын!
От ворот шла дорога в боковые закутки станции. Там, где стояло кирпичное здание железнодорожной охраны, у дерева густо чернела публика.
Люди, шедшие оттуда, всё рассказали.
Когда обнаружилось, что в гробах оружие, сынка
Чермоева и пожилых чеченцев из его компании хотели арестовать. Те подняли стрельбу, но их всё-таки задержали и посадили за решётку вот здесь, в этом самом здании железнодорожной охраны. Но каким-то образом арестованным чуть не удалось выскользнуть. Охранника, который был к ним приставлен, они пырнули кинжалом. Умирая, тот успел закричать. Сбежались бойцы, жившие тут в казарме...
У дерева без движения лежали все трое — сынок Топы и оба пожилых чеченца. Их изрешетили пулями. В стороне, у входа в здание, лежали на земле, накрытые мешковиной, ещё двое. Это были погибшие в перестрелке охранники.
Асланбек стоял здесь. И Топа был здесь.
Топа стоял на коленях у трупа сына и навзрыд плакал. Тёмный, грузный, он был страшен в своём горе.
В толпе кто-то сказал тихо:
— У самого миллионы, а счастья нет.
Люди с напряжением, молча смотрели на богача.
Асланбека первой увидела Лена. Его держали за руки Хохлов и Тымчук. И ещё около них стоял знакомый Лене грозненский большевик — солдат Бакулин.
Увидев Кирова, Асланбек рванулся к нему, но молодого горца удержали. В толпе на это обратили внимание, поднял голову и старый Чермоев. Тупо посмотрел на маячащее где-то в середине толпы знакомое лицо, узнал Кирова.
И внезапно разразился дикой, ужасающей бранью, но слова были не русские. Он грозил кулаком и осыпал Кирова ругательствами. Многие хмуро морщились, слыша эту брань.
Чем больше ярился Чермоев, тем яснее представала вся его беспомощность. Ну что он сделает? Чем бы ни грозил, найдётся и на него управа. Не то время!
Вот! Сознание, что «не то время»! Киров уже не раз наблюдал, как чудодейственно преображало толпу это сознание. Тут стоял разный люд. Кто сошёл с поезда, да задержался из-за событий, кто ждал поезда, кто просто околачивался на станции и прибежал сюда, когда всё началось. И сейчас люди смотрели на Чермоева не как разнородная толпа, а как члены одной большой семьи, спаянные общностью судеб.
Наверно, больше всего бесило Чермоева ледяное умолчание толпы. И, как бы слившись с ней, Киров не нарушал этого безмолвия и продолжал спокойно стоять на месте. Толпа тесно сжала его и не давала шагу ступить. А сзади к нему рвался Асланбек. Двое в старых рабочих картузах стали с боков Сергея Мироновича, и один шепнул ему:
— Стойте здесь, а то чермоеЕские абреки могут убить.
Из-за угла здания показалось несколько человек с носилками.
На одну из них уложили тело сына Топы и понесли к экипажу у ворот. Чермоев шёл за носилками, что-то бормоча, наверно слова молитвы.
Асланбек, оказывается, всё время провёл здесь, у дома железнодорожной охраны.
Сынок Топы и пожилые чеченцы ещё были живы, когда он прибежал сюда.
В камеру к арестованным его не пустили.
— Дайте мне поговорить с ними, — потребовал он.
— А зачем?
— Я им скажу в лицо, кто они такие! Они предатели своего народа! Моего народа! Они злодеи!
— А ты сам, значит, тоже чеченец? Понятно.
Асланбека увели в караулку, усадили.
— Отдохни, браток. А то у тебя вид страшный. Не горячись. Они своё получат за эти гробы и за стрельбу. По закону ответят! А обида твоя нам понятна. Мы знаем: в каждом народе разные есть. Сиди отдыхай... Может, чайку хочешь, а? Можем угостить...
Молодому горцу хотелось хоть подойти к окну камеры, где сидели его соплеменники, и через окно плюнуть им в лицо, но и это ему не удалось. Туда его тоже не пустили.
— Сейчас приедет прокурор из города и следователи. Они уже вызваны. Вот им всё и скажешь, браток... Ты сиди, сиди. Как раз кстати — ты этих злодеев знаешь. Дашь показания, кто они, откуда, где взято всё это оружие?
Асланбек в какую-то минуту вдруг сообразил, что, несмотря на ласковое обращение с ним, всё же похоже на то, что и он вроде бы как арестован.
— Я протестую! — вскипел горец.
— Горячий ты, брат, — сказали охранники. — Своего интереса не понимаешь. Для твоей же пользы мы тебя тут около себя держим... Это что такое? Что за крик?
Это кричал из камеры охранник. И затем последовало то, о чём уже рассказано...
А сейчас Киров и Асланбек сидели за столом в знакомом домике, у стола хлопотал Всеволод. Неугомонная Лена ушла в Совет, где предстояли бурные прения по поводу найденного оружия и утренних событий на станции.
— Как жаль, что меня не было с вами в доме у Чермоева, когда вы беседовали с ним! — сокрушался Асланбек, — Я бы его тут же на месте разоблачил! Он негодяй! Он хочет усилить хаос на Тереке и накалить всё до крайности! Какой хитрый волк!
— Ловит волк, да ловят и волка, — успокаивал горца Сергей Миронович, — А что вас не было там, это, на мой взгляд, лучше. Зато теперь у нас в руках важные козыри... И в немалой степени благодаря вам, Асланбек! Всё подтвердилось.
— Поедемте в Шатой! — предложил Асланбек, — Мы там всё расскажем! Созовём народ возле мечети.
— Может, переждать немножко? — заметцл осторожный Всеволод. — Пускай уляжется возбуждение. Чермоев будет эти дни страшно лютовать.
Асланбек вскочил, но тут же сам сел.
В нём происходила какая-то внутренняя перемена. Казалось, он приучается сам себя обуздывать, но это даётся ему пока с трудом.
Стараясь говорить спокойно, он сказал:
— У меня в горах есть верные джигиты. Они не дадут в обиду никого из тех, с кем я приеду в горы. Они против Чермоева!
— Слушайте, Асланбек, — сказал Киров молодому горцу, — как вы думаете, если собрать съезд народов Терека, ваши пришли бы на такой съезд? Сама идея нравится вам?
- ОченьГ — с живостью подхватил горец. — О, на такой съезд я прискакал бы первым!
Сергей Миронович знал: этот молодой увлекающийся горец в первые месяцы революции совершил по неопытности ошибку: примкнул к созданному Чермоевым и другими националистами Союзу объединённых горцев. Но сейчас Асланбек уже понимал, что стихийным движением горцев, разбуженным революцией, стремятся воспользоваться люди, которым нет дела до народных нужд, на самом деле они только свою мошну защищают.
Сергей Миронович залюбовался тонкими чертами пылающего лица Асланбека.
— Первым? Ну смотрите, держите слово. — Киров протянул руку горцу.
Тот порывисто вскочил:
— Клянусь, буду первым! Через все пропасти перепрыгну, по самым крутым тропкам проеду и помогу вам добиться правды!
— Для всех, — вставил Киров.
— Да, для всех! Конечно, для всех! Я понимаю вас, — сверкнул глазами горец. — Мир и счастье возможны только тогда, когда они. доступны всем. И горцу, и казаку, и любому человеку на Тереке! Когда нет привилегированных, нет и угнетённых. Мир и счастье — право всех, всех, всех!
— Вот это и надо будет сказать на съезде, — улыбнулся Сергей Миронович. — И про землю, как трудно без неё горцам, — ведь хлеб в горах не растёт!..
Разговор о предстоящем съезде увлёк и горца, и Всеволода, и самого Кирова. Незаметно подошёл час отъезда. Киров и Асланбек собрались ехать на два дня в Шатой.
Попрощавшись с Всеволодом, оба отправились на базар, где можно было нанять линейку для поездки в горы. По дороге опять и опять возвращались к разговору о съезде.
— Я скажу на съезде речь про землю, — говорил молодой чеченец. — Вы хорошо определили: в горах хлеб не растёт. О, как прекрасно сказано! Я приведу цифры, Я скажу: казачество составляет всего около одной пятой терского населения, а владеет шестьюдесятью процентами всей удобной земли. А кроме того, казакам принадлежат все нефтеносные земли Терека, исключительное право рыболовства на реках Терской области, огромная территория морских вод вдоль каспийского побережья со всеми рыбными промыслами. Я это всё хорошо изучил! И вставлю в речь!
«Прекрасно! — думал Киров. — Надо скорее собрать съезд. Если туда придёт хотя бы половина таких, как Асланбек, дело выгорит!..»
— Об этом надо сказать? — спрашивал горец.
— Конечно! Хорошая будет речь!
— Разве это справедливо? — спрашивал Асланбек. — На каждую мужскую душу у казаков приходится в среднем около пятнадцати десятин земли, а в горной Чечне — три десятых десятины, в горной Ингушетии — две десятых. Как не быть конфликтам и распрям? «Земли! Земли! Земли!» — кричат мои собратья. У своих богачей мы её уже отбираем.
Увлёкшись, горец порой чересчур повышал голос. Прохожие с удивлением оглядывались на Асланбека.
Они уже подходили к базару, когда горец сказал со вздохом:
— Лошадь моя осталась в городе у родных. Пришлось оставить. Скучаю очень. Если бы вы знали, какая у меня лошадь! Огонь!..
Киров с улыбкой думал: горец есть горец.
Глава восьмая. Дикая дивизия
1
В конце июля Анисимов уехал в Петроград. Вернул-ся он недели через две-три, но уже не застал Кирова на Тереке.
Они могли бы встретиться где-то на середине пути, если бы помог случай.
Случай не помог. И один поезд понёс Анисимова на Терек, другой потащил Кирова в центр России.
Жаркий август плыл над взбудораженной страной. На фронтах в окопах по-прежнему лежало пять миллионов солдат, а в Петрограде Временное правительство продолжало призывать народ к войне до победы. Из окон поезда чего только не увидишь, в вагоне,
переполненном до отказу, чего только не услышишь! Взметнулась Россия из конца в конец. Шумит, спорит, бурлит, грозится, негодует.
Чем ближе подходила осень, тем почему-то больше волновались люди, тем становились раздражённее, ворчливее, злее.
Ной тоже не застал Кирова, когда вернулся из Закавказья. Он повидал мать, родичей и был доволен. И чувствовал себя прекрасно. Загорел, посвежел.
Кавказ удивительный край, и, пожалуй, самое потрясающее впечатление оставляет у путника Военно-Грузинская дорога. Когда едешь из Тифлиса к перевалу, видишь где-то далеко внизу белокипящую Арагву. А за хмурым Крестовым перевалом, где по вершинам ползут облака и начинается спуск к Дарьяльскому ущелью, тоже далеко внизу бешено скачет через каменные увалы мутно-жёлтый поток. Это Терек, буйный, неукротимый Терек.
Ной рассказывал владикавказским товарищам о своей поездке по Военно-Грузинской дороге с таким восторгом, будто видел всё это впервые в жизни.
Он умел всем восторгаться, Ной. Он встречался в Закавказье со Степаном Шаумяном, человеком, к голосу которого прислушивались по обе стороны хребта. О, какой человек! Мужественный, честный, прямой. Наговорился с ним Ной вдосталь. Все дела обсудили — и общероссийские, и закавказские, и терские. И всё стало как-то яснее видно Ною, и он очень жалел, что не может передать Кирову это ощущение взлёта над злобой дня.
Услышав, что Киров побывает в Москве и Петрограде, Ной порадовался за Сергея Мироновича, потом позавидовал.
— Вот где вышка, с которой можно увидеть ещё больше! — воскликнул Ной. — Там Ленин.
Из Закавказья Ной привёз с собой одно интересное письмо, которое ему хотелось послать вдогонку Кирову, но адреса он не знал.
Ной посетил редакцию «Терека», поговорил у конторки с Марией. Когда он рассказал о своём письме, она покачала головой:
— До писем ли там будет Сергею?,
— Будет, будет, — заверил Ной, — Письмо такое, что Сергей Миронович не только сам прочтёт, но и в ЦК покажет. Написали солдаты Закавказского фронта. Простые люди, а написали здорово, ух! Сергей твой будет в восторге, я уверен. Он надолго, не знаешь?
— Сказал, зря не станет задерживаться.
Она грустила без мужа, боялась за него. Из Москвы и Петрограда идут такие тревожные слухи. Говорят про какой-то генеральский заговор в высшем командовании.
— Про заговор идут и в Закавказье слухи, — подтвердил Ной. — Есть сведения, что в этом замешан сам главнокомандующий генерал Корнилов. Это бестия, каких мало! А Керенский дал ему большую власть. Чёрт знает что! Надо же, чтобы на гребне такой великой революции оказались люди с ухватками Бонапарта и с душой пигмея. Керенский, Корнилов и кто там ещё! А Ленин должен скрываться от ареста!
Ной посердился, потом спросил:
— Так что ж ты мне адреса не даёшь, а, Мария?
— А я его сама не знаю, — чистосердечно призналась та. — Я ещё ничего не получила от Серёжи.
Ной пошёл к столу Тамары, посидел около неё, опираясь обеими руками о палочку. Он привёз эту палочку из Закавказья и теперь не расставался с ней.
Тамара только что вернулась из Грозного. Ездила туда вместе с Орахелашвили. Они виделись с Анисимовым, узнали подробности его поездки.
— Анисимов был на съезде партии, представляете? — рассказывала Тамара, успевая при этом одним глазом пробегать строчки какой-то корректуры, — А съезд был такой важный, такой важный! Ну, о решениях вы знаете, конечно. Интересно то, как они работали. Во-первых, негласно, скрываясь от шпиков, а во-вторых, всё время кочевали с места на место, как цыганский табор.
— А не говорил Анисимов, где останавливаются наши, когда приезжают в Петроград? У ЦК есть там общежития?
— Не знаю. Не спрашивала...
Поговорил Ной и с доктором. Зашёл к нему в госпиталь, всё рассказал.
Доктор хорошо работал в городском Совете. Чем больше его узнавали, тем яснее видели, какой это преданный революции, бескорыстный и самоотверженный человек.
Теперь его прочили в председатели Совета вместо недавно сменившего Гамалею человека, хотя и неплохого, но по духу и взглядам примыкавшего к меньшевикам.
Осенью должны были состояться перевыборы.
Совет в последнее время делал попытки примирить казаков и горцев, враждующих на Сунже.
— Но из этого пока ничего не выходит, — с огорчением говорил доктор. — Ты подумай! В Петрограде на съезде партия взяла курс на вооружённое восстание и полное социалистическое переустройство России, а тут у нас идёт межнациональная, братоубийственная война. Мы не можем и не должны отставать от пролетариата России. Смотри, какая организованность и сила!
— Кавказ весь горит! — сказал Ной. — Я видел.
— Ох, Кавказ, Кавказ! — ерошил свои седины доктор. — Сегодня он хорош, завтра плох, сегодня хорош, завтра опять плох! Конгломерат народов. На Кирова большая надежда. Мы все очень надеемся на него.
— А что? — поднял брови Ной.
— Как — что? Дикую дивизию сюда хотят перевести! И задушить нас всех, как щенят!
Ною об этом писали в Закавказье.
— Слышал, слышал, — сказал он. — А что может Киров сделать? Удержать дивизию?
— Он уехал с другим планом. Дивизию вряд ли удастся удержать, но её можно разложить. Анисимов вёл об этом переговоры в Петрограде в нашем ЦК, а Киров это продолжит. В ЦК хорошо сознают опасность положения, и кое-что уже делается. В дивизию посланы агитаторы из горцев-мусульман, живущих в Питере.
Доктору пора было идти в палаты, он заторопился, надел халат.
— Самое интересное, что Караулов тоже укатил в центр, — сказал Орахелашвили, — Ещё встретится в Москве с нашим Кировым.
Ной знал: в Москве со дня на день должно открыться созванное Керенским большое совещание гражданских и военных властей страны. Газеты называли совещание «государственным» и писали это слово с большой буквы.
Кирову предстояло принять участие в этом совещании от демократии Терека.
— Тогда я пошлю моё закавказское письмо на его имя в Московский Комитет партии! — воскликнул Ной, — Не может быть, чтобы Киров туда не зашёл.
— Зачем тебе так посылать? — сказал доктор, протягивая Ною руку на прощанье. — В Петроград едет Малыгин. Иван Малыгин. Ты его знаешь. Пошли с ним.
— Идея! — согласился Ной. — А Малыгин где?
— Живёт временно в Грозном, а душой — всегда в Пятигорске, и сейчас он там, — сказал доктор. — Кстати, если ты с ним увидишься, то, пожалуйста, объясни ему и другим, что Кирова не надо обвинять во всех смертных грехах.
— Что ты? Что ты? — вскричал Ной. — В каких это грехах его обвиняют? И кто?
— Некогда мне сейчас, Ной, голубчик! — взмолился доктор, — Коротко только могу сказать: некоторые пятигорские товарищи прослышали, что Киров ходил к Чермоеву, и ворчат. Особенно Анджиевский.
— Сегодня же еду в Пятигорск! Сейчас же!
Анджиевский, как и Малыгин, был одним из самых
видных большевистских вожаков в Пятигорске. Кирова, оба знали ещё до революции, встречались на подпольной работе. Оба побывали на фронте, были ранены.
— Хорошие люди, — бормотал Ной, уже сидя в поезде. — Замечательные люди! Я им разъясню, и они всё поймут. Киров умнейшая голова! Это счастье,. что он у нас на Тереке.
Ной теперь называл Терек «наш». Ещё месяца три назад, когда он возвращался из эмиграции, то и не думал, что проездом в Грузию задержится здесь и окунётся в такие события.
2
В Москве Киров пробыл недолго.
— Советуем вам поскорее ехать в Питер, — сказали ему в Московском Комитете большевистской партии. — Положение обостряется с каждым днём, и теперь это уже не предположение, а факт: Дикую дивизию хотят передвинуть под Петроград, это в высшей степени подозрительно. Нашим петроградским товарищам придётся принять самые срочные и энергичные контрмеры. Ваша помощь может оказаться необходимой.
Всё это Кирову говорила августовским утром пожилая черноволосая женщина с бледным, строгим лицом. Сергей Миронович уже виделся с ней не раз со дня приезда. Это была Розалия Землячка, одна из деятелей Московского Комитета. Её давно знали в партии.
— Хорошо, — согласился Сергей Миронович. — Поеду в Питер. Он добавил с улыбкой: — Это, кстати, и для меня будет интересней, чем сидеть на открывающемся скоро Государственном совещании.
— Э, нет, — покачала головой Землячка. — На совещании вам придётся побыть.
— Но ведь наш ЦК решил бойкотировать его!
— Да, бойкотировать. Это совещание чисто контрреволюционная затея, лишь кое-как завуалированная... Но какая-то часть наших людей от местных Советов и городских дум на совещание попадёт.
Землячка умолкла и стала поправлять свои гладко зачёсанные волосы. Сергей Миронович спросил:
— Вы сказали, что часть наших людей из местных Советов и городских дум попадёт на совещание. И что же?
— Не догадались? Во-первых, какой-то свой глаз нам там нужен. Во-вторых, намечается передача по поручению ЦК нашего протеста в президиум совещания. Протест в виде декларации разоблачает всю эту их затею, вы поняли? Он будет широко распубликован в печати, чтобы народ знал истинную подоплёку... Вот для чего вы нужны, товарищ с Терека. На денёк-два мы вас ещё задержим.
— Ясно, — тряхнул головой Киров. Шевелюра у него была густая, она рассыпалась.
Землячка по-матерински внимательно осмотрела собеседника и деловым тоном сказала:
— Вам надо было бы постричься и побриться. И давно, между прочим. Советую сходить в парикмахерскую,.
— Будет исполнено, — прищурил Киров глаза в улыбочке. — Я просто забыл прихватить расчёску в спешке, когда собирался в путь.
И он это действительно исполнил.
В первой же попавшейся парикмахерской постригся, побрился и даже попрыскался одеколоном.
Город в то утро сиял. Никогда Москва не казалась так хороша, как сейчас. Она вся дышала революцией.
Государственное совещание открылось в Большом театре в назначенный день.
Премьер Временного правительства Александр Керенский сидел на сцене в своём знаменитом френче с большими нагрудными карманами. Тщеславный правитель питал большое пристрастие к френчам военного покроя, это все знали. Он был в своей любимой причёске — волосы наверх и подстрижены ёжиком. Говорить умел, позировать тоже. Только управление Россией у него не получалось. В стране нарастала разруха и рассыпались фронты.
России везёт на временщиков.
Сколько их, временных, сидело в тот день на самых видных местах: на сцене — рядом с Керенским и в огромном зрительном зале. Партер, ложи и ярусы были переполнены. Генералов и других френченосителей — это бросалось в глаза — несметное количество. И среди них — генерал Корнилов, сам Корнилов — герой войны, о подвигах которого много раз писали газеты.
Он попал в плен к австрийцам со всей своей дивизией, которой тогда командовал, и сумел бежать из плена. Один вернулся — и стал героем.
Чёрный и лицом, и глазами, и бородой, он сразу становился заметен, когда улыбался, — у него в эти минуты показывались из-за чёрных губ ослепительно белые крепчайшие зубы.
Кирову досталось место где-то на третьем ярусе, под самой крышей. Народ тут был попроще, и Сергей Миронович чувствовал себя среди этой публики лучше, чем в те минуты, когда спускался вниз.
— Что может решить такое совещание? — ворчали в публике, — Как может оно вывести страну из катастрофического положения, когда на одного порядочного и честного человека здесь приходится больше десятка старорежимных зубров!
На вечернем заседании, когда большевистская декларация протеста уже была передана в президиум, Киров забрался в одну из боковых лож бельэтажа, чтобы получше разглядеть господ министров Временного правительства и самого Керенского, который считался знаменитостью России.
Яркий свет иногда так ослепляет, что он хуже тьмы. Зал театра весь сверкал огнями, горели все люстры на потолке и настенные бра в бельэтаже и ярусах. Зайдя в переполненную ложу, Киров примостился кое-как на барьере и не заметил, что по другую сторону барьера в такой же переполненной ложе стоит атаман Караулов. Того тоже зажали со всех сторон люди, неотрывно глядевшие на сцену.
Получилось именно так, как предсказывал Ною доктор Орахелашвили.
Встретились.
Но долго не замечали соседства.
Время от времени зал взрывался то бурей аплодисментов, то протестующими криками. А иногда в публике начиналось такое движение, поднимался такой всеобщий говор, что оратор на трибуне совершенно пропадал. Он что-то бубнит, а никто не слушает. Обмениваются впечатлениями, спорят, смеются, негодуют.
Москва — город любопытных. Несмотря на строгости, в театр проникло много посторонних. Эти не шли наверх, на галёрку, а толпились в ложах бенуара и бельэтажа, создавая тем невозможную давку и мешая сидящим тут участникам совещания видеть сцену.
То и дело возникали перебранки:
— Эй, граждане, нельзя же так, ради бога!
— А что?
— Помилуйте, господа! Вы налегаете с немыслимой силой! Вы же нас раздавите!
— А мы не господа, во-первых.
— Ах, вы, значит, из тех! Из товарищей!
— Ну, из товарищей. А ты из буржуев, что ли? Подумаешь, барин какой!
— Молчать!
— Ох ты! А не то что? Напустишь на нас Корнилова? Мы, брат, всяких насмотрелись! И царей, и генералов, и прочих!
3
В ложе, где находился Киров, возник спор о Корнилове. Одни защищали генерала, говорили, что он сильный человек, а Россия в таком человеке сейчас очень нуждается, и надо ведь ещё то учесть, что сам он из народа вышел, из семьи простого казака-крестьянина.
Киров не удержался и сказал:
— Какой же Корнилов казак-крестьянин? Он ни то, ни другое, хотя и величает себя так в приказах по армии!
Многие в ложе повернули головы в тот угол, где сидел на барьере Киров.
Раздались голоса:
— А вы почём знаете?
— Кто же он, по-вашему?
Вокруг Сергея Мироновича скоро образовался кружок людей, которые с интересом стали прислушиваться к его словам. Тут оказалось несколько рабочих, два солдата, железнодорожник, девушка-курсистка с каким-то сопровождавшим её студентом. Киров решил воспользоваться моментом и поагитировать.
— Кто был Лавр Корнилов? Сейчас расскажу.
Сергею Мироновичу пришлось снова повторить, что
генерал вовсе не выходец из простого народа и не «казак-крестьянин», он из семьи чиновника. Человек оборотистый и честолюбивый, Корнилов сумел пробиться в Академию Генерального штаба. Отсюда и началась его карьера, но года два назад она оборвалась на полях Галиции позорным пленом.
— А говорят, он в лесу долго скрывался, — сказала курсистка. — Всё прятался от плена.
— А всё-таки попал, — усмехнулся студент.
Кирову послышалось из соседней ложи какое-то рычание. Кто-то там толкался, лез напролом к барьеру. Сергей Миронович повернулся лицом к той ложе, услышав знакомый властный голос, и увидел Караулова. Их взгляды скрестились. И с такой силой, что, казалось, у каждого из глаз полетели искры.
— Я попрошу вас выйти в фойе, — сказал атаман.
— Зачем?
— На минутку. Для важного разговора.
Киров уже взял себя в руки. Он от неожиданности сперва опешил, но внутренне давно был готов и к этой встрече. Едучи сюда, он знал, что на Государственное совещание прибудет с Терека и Караулов.
В фойе было безлюдно, темно, тихо.
— Итак, слушаю Еас, — сказал Киров атаману, — Для какого разговора вы меня сюда вызвали?
Из ложи, откуда вышел Караулов, показались ещё трое в черкесках. Киров узнал их. Это были приближённые атамана, казачьи офицеры.
Не здороваясь, они окружили Кирова и с высокомерно-насмешливыми лицами уставились на него.
Атаман начал с выговора Кирову:
— Вы позволяете себе недозволенное! Вы пропагандируете! Генерала Корнилова поносите! Кто вас на это уполномочил, я желал бы знать!
Сергей Миронович взялся за свою трубочку.
— Я позволю себе, коли так, ещё одно: не позволяю вам разговаривать со мной таким тоном!
— Вот как? Хм!.. — От ярости у атамана совсем оборвался голос. — Вы тут... Вы кого представляете здесь... Терек?
— Да, Терек. Демократию Терека, которую вы не в состоянии и не вправе представлять.
— Ах так?
— Да, так, господин атаман. Это точно. И чтобы вам всё сразу стало ещё яснее, скажу, что от имени демократии Терека я выражаю протест против этого антинародного совещания и сегодня же покину его.
Атаман стоял, заложив обе руки в карманы черкески. Он тяжело дышал, и серебряные газыри на груди у него высоко подымались и опускались.
Офицеры из его свиты тоже стояли молча. Один был полковник из Моздока, по фамилии Рымарь. Моздок — терский городок, окружённый казачьими станицами. Мз тех же мест происходил второй офицер, есаул Пятцрубт
лев. В третьем Киров узнал грозненского подполковника Халиева. Это был отец Симы, жены большевика Николая Анисимова.
Молчание нарушил полковник Рымарь. После атамана он был тут старший.
— А позвольте узнать, — обратился он к Кирову, усиленно дымившему трубочкой офицерам в лицо, — вы какой нации?
— Русский.
— Так... Ясно. Хотя странно... Идёте заодно с инородцами, с большевиками. Вы знаете, кто Ленин? Агент Вильгельма, немецкого кайзера!
— Это ложь, господин Рымарь!
— Вы рассуждаете не как русский! — побагровел полковник.
— Сударь! — спокойно произнёс Киров. — Среди русских есть всякие. Есть монархисты, есть угнетатели и есть угнетаемые. Одни за красное знамя, а на других красное действует сильнее, чем на быка.
Полковник дёрнулся вперёд. Его удержал Караулов.
— Без этого, господа! Без инцидентов! — сказал атаман, успевший, видимо, прийти в себя. — Я просто хотел предупредить гражданина Кирова, чтобы он вёл себя соответственно... Терек представляем здесь мы, и поэтому я не потерпел, когда услышал такие речи о главковерхе Корнилове. Вот и всё!
— Ну что ж? Оставайтесь ему рукоплескать, дело ваше, — пожал плечами Киров, — Должен только заявить, что напрасно вы возлагаете надежды на это совещание. Пустые надежды, господа! Это одна из известных в истории попыток закладывать кирпичами печную трубу и гнать дым обратно.
— Чего, чего? — не понял атаман. — Какой дым?
— Из трубы, господин атаман. Некоторые правители так иногда поступают. Но из этого ничего не выходит. Дым всё равно пробьётся.
Было мгновение, когда Киров хотел шагнуть обратно к дверям ложи, вернуться туда. Но он тут же сообразил: лучше совсем уйти. И шагнул к лестнице.
— Постойте! — поспешил за ним Халиев.
— Что ещё угодно?
— Это вы были недавно в Грозном?
— Да, я.
— Вы Киров?
— Да, я Киров и есть.
Ничего больше не спросив, Халиев повернулся и пошёл обратно к своим.
Сергей Миронович начал спускаться вниз, когда услышал окрик Караулова. Тот, выпучив глаза, кричал:
— Что за труба, я хотел бы знать? При чём тут труба, чёрт побери!
Киров вышел из театра на воздух с мыслью:
«А есаул Пятирублев, пожалуй, похитрее их всех. Молчал как рыба».
Москва искрилась приветливыми огоньками.
На следующее утро Киров был уже в Питере.
4
Какой город! Нельзя не любить его, не поклоняться даже его камням!
По-рабочему — Питер, по-официальному, — Петроград, а до войны он был Санкт-Петербург.
Будь у Кирова время, он часами простаивал бы у Невы, у дворцов и памятников. Первое время для слуха было необычным: «Совещание состоится в Таврическом дворце», «Вы встретите такого-то в Мариинском дворце», «Митинг будет на площади у «Медного всадника». Революция вторглась во дворцы, заполонила площади.
Ленин по-прежнему укрывался в подполье. Дворец Кшесинской, где собирались большевики, был в июльские дни разгромлен. Кшесинская, известная балерина и бывшая фаворитка царя, подала в суд на большевистский ЦК, требуя его выселения из дворца.
В первый же день приезда Киров виделся со Сверд-яовым, с Подвойским, с некоторыми другими руководящими деятелями партии.
— Сложно у вас, надо признать, — сказал Свердлов. — Вы старая наша империя в миниатюре. На небольшом клочке — все беды, все противоречия, все виды классовой и национальной розни, а стало быть, и борьбы. Конечно, тут нужен особо осторожный подход. Вот в Грозном у вас, по-моему, правильно идёт дело. Я считаю выступление Анисимова на нашем съезде очень интересным.
Несмотря на жаркий день, Свердлов был в чёрной кожаной куртке. На тонком носу не держались очки, сползали. Он их то и дело поправлял.
Говорили об армейских запасных полках, стоявших на Тереке, о Дикой дивизии. Свердлов находил, что угроза перевода Дикой дивизии на Терек реальна и не так-то легко этому противодействовать.
— Наши военные товарищи следят за этой дивизией, — говорил Свердлов. — Сейчас она стоит вблизи станции Дно, не так далеко отсюда. Для чего её перевели поближе к нам, в общем-то понятно. Контрреволюция на неё рассчитывает. О туземной дивизии идут слухи как о части, оставшейся целиком верной старому режиму. Но это не так, — закончил Свердлов. — Горцы не хотят возврата царизма, от которого больше всего натерпелись сами. Наши агитаторы уже работают в дивизии.
Киров выразил желание поехать в дивизию и тоже поработать с горцами.
— Не выйдет, к сожалению, — сказал Свердлов, — Вас не пустят в дивизию. Офицеров своих горцы слушают, а те — очень просто — прикажут схватить вас как шпиона, и дело кончится самым плачевным образом. Нельзя вам показываться в дивизии. Другое дело, если к ним обратятся свои. Пусть не большевики, но тоже, допустим, не желающие всеобщего пожара на Тереке.
Киров рассказал, что терские товарищи поручили ему связаться с проживающими здесь горскими деятелями и если только их можно привлечь к делу, то через них повести соответствующую работу в Дикой дивизии.
— Это разумно, — поддержал Свердлов, — Действуйте.
А как действовать? Опять Кирову предстояло стать дипломатом, встречаться с людьми, относившимися к революции совсем не так, как он.
В Петрограде выходила мусульманская газета. Тут жили некоторые горские деятели.
На другой же день после разговора со Свердловым Киров явился в редакцию мусульманской газеты и встретился здесь с панисламистом Ахметом Цаликовым. Среди осетин много христиан, но немало и последователей Магомета. Цаликов был среди последних, наверно, самым ярым. В редакции Киров повидался и со знакомым ему чеченцем Эльдерхановым, известным на Тереке человеком, членом Государственной думы от Чечни. Эльдерханов показал себя решительным и смелым в защите интересов горской бедноты. Киров знал его и ценил за порядочность и уважительное отношение к большевикам.
Бородатый, улыбчивый, хорошо умеющий себя держать, одетый по-европейски, Эльдерханов сразу располагал к себе, в отличие от Цаликова.
— Терек вползает в анархию, — тревожился Эльдерханов, — и мы ничего не можем сделать. И никто не сделает. Это как потоп. Неотвратимая стихия! Я уже не верю ни во что.
— Опускать руки не надо, — улыбался Киров. — Последнее дело.
— А я не опустил. Я просто не знаю, что делать. Мы у себя в Чечне кричим: мир, мир, и в Осетии кричат: мир, и Караулов кричит: мир, и вы за мир все, а война идёт!
Чувствовалось, что, несмотря на унылые нотки, у этого человека болит сердце и на его поддержку можно рассчитывать. Когда разговор зашёл о Дикой дивизии, он взялся съездить в места расположения тылов чеченского полка, поговорить с командирами и конниками.
А Цаликов верил только в ислам и только в нём видел спасение для мусульманских народов Терека. Всё же и он пообещал помочь.
— Но, разумеется, не в моих силах удержать туземную дивизию от возвращения на Терек, — сказал Цаликов. — Этим распоряжается лишь Ставка.
— Да дивизию и не нужно удерживать, — возразил Киров, — Вся задача в том, чтобы она не стала отрицательной силой в руках Караулова.
— Ну, против Караулова я готов идти с вами до конца, — заверил Цаликов, — Я горец и как таковой не могу вообще выносить казацкого духа!
Несколько горских деятелей после переговоров с Сергеем Мироновичем съездили в тылы Дикой дивизии и потом сообщили, что в полках и эскадронах дивизии царит такой же разброд, как во всей армии.
Особенно полезной оказалась поездка Эльдерханова. Он побывал в чеченском полку. Как члена Государственной думы командование допустило его в расположение полка, позволило вступить в контакт с конниками.
— Рвутся домой и никакой войны больше не хотят, — рассказывал Кирову Эльдерханов по возвращении. — Они против всех — и против Караулова, и против Чермоева — и хотят одного: мира и земли!
— А много народу присутствовало на митинге, где вы выступали?
— Почти весь полк. Он и вся дивизия сейчас в резерве. Их зачем-то держат в тылу. Сами командиры говорили мне, что в Ставке замышляется что-то недоброе. Идут разговоры, что главковерх Корнилов собирается выступить против Керенского и стать диктатором.
Ахмет Цаликов тоже побывал в Дикой дивизии. В дивизии было два осетинских конных полка.
— Я митингов не проводил, — сообщил Кирову Цаликов. — Я так беседовал с моими земляками. Опасаются, не верят...
— Во что?
— В ваши большевистские обещания. Но возврата самодержавия никто не хочет. Что угодно, только не старые порядки кнута и штыка.
— Очень хорошо, — сказал Киров. — Остальное доработает время.
Ахмет Цаликов мило улыбнулся:
— Не радуйтесь. Возвращения дивизии на Терек не избежать. И весь сыр-бор ещё впереди. — Он выразительно посмотрел на Кирова. — Вы знаете, что из Чечни сюда приехал господин Чермоев? Пожаловал собственной особой! Был сегодня утром у нас тут, в редакции.
— Да? — только это слово и вырвалось у Кирова.
— О вас был разговор тоже, — продолжал Цаликов, странно щуря глаза, — У него сын погиб.
— Ну и что же?
— Он считает вас, большевиков, виновниками гибели своего сына. Зол страшно! И очень остался недоволен тем, что мы здесь вас принимаем.
— Я понимаю...
— Между нами говоря, — доверительно зашептал Цаликов на ухо Кирову, — он намерен вам противодействовать. Но мы, осетины, не хотим, чтобы нами командовали чеченцы. Поэтому мы будем вам помогать.
Киров стоял и думал: неужели судьба снова столкнёт его с Чермоевым?
Нет, этого не произошло. Оказалось, после утреннего посещения редакции Чермоев уехал на три дня в расположение Дикой дивизии и у него ещё были какие-то дела в Ставке Корнилова.
5
Из Владикавказа Кирову сообщили, что в Петроград выехал Иван Малыгин.
Как-то поздно вечером, вернувшись в свою гостиницу — это были плохонькие меблированные номера на Невском, — Сергей Миронович получил записку:
«Жду в Таврическом. В комендатуре дворца оставлю ещё записку, где меня искать. Уважающий Вас И. В. Малыгин».
Несмотря на поздний час, Киров отправился во дворец.
Множество окон, и во всех — огни, огни. Таврический дворец! Вся Россия знает теперь: здесь разместился и работает, спорит, заседает, бурлит днём и ночью Петроградский Совет — вторая власть в столице.
Гудят все этажи. Говор, стук пишущих машинок, смех, брань, запальчивые речи с трибун, монотонное чтение резолюций. И вдруг из-за какого-то пункта — свист, крики, топот, вопли:
— Долой!
Бегут на шум из соседних залов:
— В чём дело?
— Ваши мандаты!
— Какие мандаты? Брось, браток!
— Товарищи! Больше сознательности!..
Малыгин не забыл, оставил в вестибюле у дежурного коменданта записку, и Киров нашёл своего терского товарища на хорах переполненного зала, где шло обсуждение нового закона о труде подростков на заводах и фабриках. В президиуме сидел министр труда Временного правительства меньшевик Скобелев. Поглядев на него сверху, Киров невольно усмехнулся: и этот с бородкой! Просто поразительно, до чего бросается в глаза обилие таких бородок среди меньшевиков! Бородатые встречались и в большевистской среде, но не часто, а вот меньшевистские деятели все были с бородками, причём наиболее распространённой была узкая бородка клинышком.
Малыгин стоял у колонны.
Это был плотный чернявый мужчина лет тридцати, с виду солдат, его плечи обтягивала простая гимнастёрка, туго перехваченная ремнём. Ремень был тоже простой, солдатский.
Встреча обрадовала обоих. Отошли в сторонку.
— Ну, что на Тереке у нас, Иван Васильевич?
— Соскучились?
— Конечно...
— Безрадостные у нас там дела.
— По-прежнему!
— Даже ещё хуже...
Давнее знакомство и взаимное уважение располагали к откровенности. Беседовали по-дружески, расспрашивали, рассказывали один другому всё, что каждого интересовало. И оба под конец удивились — как глубоко вошёл в их жизнь и души Терек.
— Ведь сам-то я владимирский, — сказал, смеясь, Малыгин, — Из одной деревеньки Гороховецкого уезда. Отец мой там и сейчас плотничает. А без Терека я бы сейчас не мог.
— И я, — сказал Киров. — А помните, как мы с вами первый раз встретились?
Конечно, Малыгин это хорошо помнил.
С большевистской партией он связал свою судьбу давно, и дела революционного подполья привели его в Закавказье. Тут Иван Васильевич ещё в июле 1907 года угодил в бакинскую тюрьму.
Посидел, вышел, опять попал под арест и был выслан за пределы Кавказа.
От Ставрополья до хребта близко. И заболевший Кавказом Малыгин поселяется здесь. Работает приказчиком в магазине, шлёт заметки в большевистскую «Правду», выходившую тогда легально в Петрограде, распространяет эту газету в сёлах Ставрополыцины.
Потом его взяли на войну, и после ранения на фронте он очутился в Пятигорском военном госпитале.
Однажды Киров пришёл сюда — корреспондентский билет открывал ему все двери, и у раненых фронтовиков он бывал особенно часто.
Палата... Большая, светлая. Проходя мимо коек, Сергей Миронович увидел двух раненых солдат, играющих в шахматы. Фигурки, которые они передвигали по самодельно разрисованной фанере, были вылеплены из хлебного мякиша.
Кирову бросились в глаза не только эти фигурки. Больше всего его заинтересовали сами игроки. Он подсел к ним, поговорил и с тех пор стал часто наведываться сюда в палату.
Одним из тех шахматистов и был Малыгин.
— А здорово мы тогда сражались! — говорил он сейчас Кирову, — Как вы помните, на соседней койке рядом лежал мой приятель Гриша Анджиевский. Между прочим, он что-то... — Иван Васильевич запнулся, мах-нул рукой. — Ну, да ладно... Недоразумение, я думаю. Ему уже разъяснено, и, можно сказать, инцидент почти исчерпан. Вы же знаете, какой наш Гришка горячий!
Кирову уже писали с Терека о том, о чём сейчас заговорил Малыгин.
— Знаю, знаю, — проговорил Сергей Миронович, не скрывая искренней досады, — По поводу моего посещения Чермоева в Грозном я давал объяснения владикавказским товарищам ещё до отъезда сюда. И все одобрили. А что касается грозненцев, то с ними дело было согласовано ещё до того, как я ходил к Чермоеву. Я думаю, польза очевидна, — заключил Сергей Миронович, — Я готов дать объяснения и пятигорцам.
— Я считаю, нет нужды, — сказал Малыгин. — Просто некоторые не учитывают, что вы не только большевик, но и журналист, и это открывает перед вами такие возможности, каких у других нет. Грех не воспользоваться. А вы прекрасно воспользовались, и сей-
час мы на Тереке вовсю готовимся к приходу Дикой дивизии.
Малыгин вдруг озадачил Сергея Мироновича вопросом:
— А вы что так сдали? Пиджак на вас висит мешком.
Рядом зеркала не было. Сергей Миронович потрогал свои щёки; действительно, вроде как запали.
— Ну, да пустяки. Я здоров...
Тем временем в зале и на трибуне кипели страсти, один за другим сменялись ораторы.
Речь произнёс и Скобелев — тот самый, с узкой бородкой. Киров и Малыгин прервали разговор, глубоко волновавший их, послушали министра. Тот рассказывал о бедственном положении Петрограда, о нарастающей разрухе на транспорте, о падении добычи угля в Донбассе, катастрофическом сокращении производства на заводах и фабриках страны.
— Мы будем выводить из Петрограда некоторые предприятия, — сказал Скобелев.
Эти слова вызвали бурю.
Министру кричали из зала:
— Вы хотите вывести пролетариат из Петрограда! Ослабить силы революции! Мы не дадим! Долой! Нельзя отдавать Петроград буржуазии! Петроград — надежда всей России!..
В гостиницу Киров и Малыгин пришли во втором часу ночи. Оба были голодны.
Иван Васильевич притащил из вестибюля свой чемодан:
— Тут у меня кое-что есть.
Он открыл чемодан, пахнуло ароматом зрелых фруктов — груш, яблок, слив.
— Запахло Тереком, — оживился Сергей Миронович. — Здесь этого не увидишь.
— Давай! — пригласил его Малыгин к раскрытому чемодану.
Киров взял яблоко, присел на диван. Рядом пристроился и Малыгин. И оба за разговором не заметили, как пришло августовское утро.
...Недобрую весть привёз Малыгин.
На Тереке, главным образом в городах, размещались запасные пехотные полки,- Их было не так много, но они составляли надёжную опору терских Советов, революционные настроения были среди массы рядовых солдат преобладающими. Вот их-то и опасались казачьи горские верхи.
Малыгин рассказал, что один пехотный полк в Грозном уже разогнан. Это случилось недавно. Солдат хотели отправить на фронт без винтовок и снаряжения. За отказ выступить полк по приказу командующего Кавказской армией генерала Пржевальского был обезоружен и расформирован.
Это вызвало протесты, митинги.
Теперь казачья клика точит зубы на остальные полки.
— Замахиваются и на наш сто тринадцатый пехотный полк, пятигорский, — тревожился Малыгин. — Хочу завтра в ЦК пойти и поговорить.
— А как со сто одиннадцатым полком? — спросил Киров.
— Это который в Грозном? Подбираются и к нему.
Киров вспомнил, как дорожат 111-м полком грозненцы, сколько надежд они возлагают на революционно настроенных солдат.
— Чермоев ждёт не дождётся чеченского полка Дикой дивизии, — сказал Малыгин.
— А он здесь, — усмехнулся Киров.
— Кто здесь? Чермоев?
— Да, он здесь, в Петрограде. Хлопочет о переводе дивизии. Ходит по министрам, встречается с разными особами из военного командования, был на приёме у Керенского...
— Правда? — ахал Малыгин, — Ах, чёрт!
В девять утра оба отправились в ЦК.
По дороге Малыгин вспомнил:
— Ох, ведь товарищ Ной передал мне для вас пакет! Забыл совсем! К счастью, пакет со мной. В сапоге.
В пакете Киров нашёл два письма. Пока добирались до ЦК конкой и пешком, Сергей Миронович успел проглядеть их.
Одно было от самого Ноя. Тот сообщал владикавказские новости, передавал приветы от товарищей Кирову, писал, что на Тереке уже ждут его возвращения. Пора, брат, пора!
Второе письмо было тем самым, которое Ной привёз из Закавказья. Кирову оно понравилось.
Обращались солдаты в краевой эсеро-меньшевистский комитет Кавказской армии и начинали своё послание так:
«Сволочи вы все, члены краевого Совета, за то, что вы опровергаете тех людей, которые для нас делают большую пользу. Зачем вы осмеиваете Ленина, почему же вы, если стараетесь на благо Родины, до сего времени не думали о заключении перемирия, а старались все продолжать войну, теперь, значит, вам тошно, что Ленин заключил перемирие, вы там пригрелись в Совете, значит, вам и миру не надо, потому что вам тепло, а если бы вы посидели в окопах, то вы не стали бы опровергать Ленина...»
В секретариате ЦК терцам показали на женщину средних лет, орудовавшую ножницами над грудой газет.
— Отдайте ваше письмо ей. Это Ульянова-Крупская...
Надежду Константиновну очень развеселило солдатское письмо.
— Сказано так, что лучше не придумаешь, ну и ну! — смеялась она, — Уверена, что оно безумно понравится Ильичу. Он любит такие письма и умеет за крепкими, ядрёными словечками видеть подлинные настроения масс. Спасибо, друзья. Как вы знаете, Ильичу сейчас приходится нелегко. Это письмо будет ему большим утешением.
Киров спросил:
— Повидать его нельзя?
— Конечно, нет, — вздохнула Надежда Константиновна. — Пока нет...
Глава девятая. Стычка у Карабулакской
1
Владикавказ дремлет. Поздний час. Лишь лай собак да шум Терека нарушают тишину сентябрьской ночи. Мария только что пришла домой с телеграфа. Там были Ной и доктор. Все в тревоге.
Впрочем, самое трудное, надо думать, уже позади.
Россию лихорадило больше недели. Вскоре после Государственного совещания генерал Корнилов поднял мятеж. На Петроград двинулись казачьи части и Дикая дивизия. Командовал ими не сам Корнилов, а один из его сподвижников — генерал Крымов.
Большевики бросили клич: «Все на защиту Петрограда! Революция в опасности!»
Под Лугу, навстречу наступающим частям Крымова, двинулись верные революции полки, отряды рабочей гвардии. Рабочий и солдатский Питер отвечал мятежникам решительным «нет».
Москва забастовала, замитинговала и тоже выступила против изменников из корниловского штаба.
Со всей России неслись проклятия по их адресу. Армия, флот. Советы многих городов требовали ареста и суда над Корниловым.
И его заговор провалился.
Ни одна из частей, брошенных им на Петроград, не дошла до цели. Одни части взбунтовались в пути, другиебыли остановлены огнём и штыками. Генерал Крымов, чтобы избежать позора, застрелился.
Корнилова сместили с поста и арестовали.
Сколько пережила в эти грозные дни Мария! Всю неделю не было от Кирова писем...
Жарко, душно в квартире. Открыть окна, что ли? За последнее время с улицы в них уже несколько раз стреляли. Да и дождь лупит. Уже началась осень, хмурая осень.
Что бы почитать? Ах да!.. Письма!..
Большим утешением и огромной духовной поддержкой были для Марии во все эти недели отсутствия мужа не только те письма, которые он слал ей с дороги, но и те, которые он получил от бывшего следователя и оставил ей.
Конечно, она знала эти письма. Но сейчас, перечитывая их, как-то по-новому всё воспринимала. Она и прежде любила письма Сергея, а теперь каждая строчка приводила её в волнение, будто она прикасалась к какой-то чудодейственной сокровищнице.
Они бодрили, эти письма, вселяли веру...
Вот одно... Давнее-давнее. Сергей написал и послал его Марии ещё в те дни, когда после провала томской подпольной типографии он был здесь разыскан полицией и водворён во владикавказскую тюрьму. Не так уж давно, впрочем, это было.
Шесть лет назад...
Он часто писал ей из тюрьмы.
Писал о прочитанных книгах, о соседях по камере, о своей крепкой вере в будущее. Чтобы не терять даром
время, он изучал немецкий язык — хотелось прочитать Маркса и Энгельса в оригинале. Учебник раздобыла и передала в тюрьму Мария. Она жила тогда изо дня в день не работой, не своими обязанностями по редакционной конторе, а только мыслями о поручениях Сергея, о передачах, которые носила в тюрьму часто.
За несколько первых недель она перетаскала ему гору книг.
И однажды он ей написал вот это письмо:
«...Будущее за нами! А вот настоящее. Тёмная, грязная камера. Там вечные сумерки; когда смотришь в неё через дверь, люди кажутся тенями: серые лица, серые костюмы и такие же серые истомлённые взгляды...»
Колеблется в керосиновой лампе жёлтый язычок пламени. Во Владикавказе нет электричества — кто-то повредил линию передач.
Дрожит в руках Марии пожелтевшее письмо.
Страшный старый мир встаёт за ним.
«...В этом застенке нет ни столов, ни нар, и потерявшие даже внешний облик человека и спят и едят на грязном асфальтовом полу. Кого только нет в этом застенке! Есть люди, для которых тюрьма — вторая родина, есть и такие, которых судьба впервые ударила своим беспощадным мечом. «Жизнь» тут своеобразна до последней степени — пуста, бессодержательна. Несчастные тупеют от безделья и бессмысленного времяпрепровождения. Есть несколько человек, уже лишившихся рассудка, у них полное умопомешательство. Один бывший интеллигент... Говорят, он сидит уже лет двенадцать; сам он ничего из своего прошлого не помнит, но надеется, что кто-то приедет и освободит его. Несчастный! Он не знает, что здесь ему суждено умереть, что весь мир для него навсегда замкнулся в четырёх мрачных, холодных стенах и на животворящее солнце он может смотреть только сквозь железную решётку! Но пусть верит! Ведь это его последнее убежище.
Тут же кончает свои недолгие дни старик. В неволе он лишился зрения. Вместо живых глаз у него два тёмных пятна. Улыбка не сходит с его обезображенного лица. Целые дни старик сидит в своём уголке, завернувшись в одеяло, вечно курит...»
Бах! Где-то опять стрельба... Бах, бах!
Как это часто стало во Владикавказе! Слишком много оружия оказалось в руках у людей, каждый старается им запастись. Это в городах, это и в станицах, в аулах. И льётся кровь.
Мария запаслась револьвером. На всякий случай. Всё теперь может случиться, время такое.
Сергей тоже взял с собой револьвер, когда уезжал. Что же там ещё происходит, в Петрограде? Из ЦК Ною сегодня ответили, что Киров уже уехал на Терек, что он очень помог в дни мятежа. По его инициативе в Дикую дивизию была послана мусульманская делегация. Узнав, что затеял Корнилов, горцы отказались наступать на Петроград.
С улицы слышен говор прохожих:
— Инородцы, что им сделаешь? У них свои обычаи, своя вера. Хотят по-своему жить, и баста!
— Растащут государство по кускам, — печалится другой голос.
Вот голоса затихли. Не стреляют больше где-то там, за рекой. Можно читать дальше.
«...Длинные дни в тюрьме отличаются друг от друга только названиями. Но сегодня всё необычно. Арестанты чем-то очень заняты, вытянутые лица их выражают сосредоточенное внимание, глаза устремлены на середину камеры. Там на грязной, рваной подушке, из которой торчит солома, сидит мальчик лет 13 — 14. На нём тюремное платье, дырявые «коты». Бойкие проницательные глаза сверкают в полумраке, и как-то странно колышется его измождённое, слабое тельце. На лице лежит тень озлобления. Красивым металлическим альтом мальчик поёт:
...Но для меня тюрьма не нова, —
Я с нею свыкся уж давно...
Вся камера обратилась в слух, жадно хватая детские звуки тюремной песни. Мальчик поёт с большим чувством. Его сильный голос поднимается высоко-высоко, выражая протест и озлобление, то опускается вниз, и в нём ясно слышна затаённая скорбь и тяжёлая печаль, доводящая до слёз, — голос становится сдавленным, глаза юного невольника заволакивает светлая пеле-
на... Вся камера затаила дыхание, слушая плач детской души...
...В тюрьме сижу уж пятый год,
А день желанный всё далеко...
Да, это поистине потрясающая картина, способная камни заставить плакать... Лучше оставлю. Несмотря на свой юный возраст, мальчик провёл уже несколько лет в неволе, прошёл массу тюрем. Это уже вполне законченный тип арестанта, и если какой-нибудь случайности не суждено его вырвать теперь из тюрьмы, то она станет для него могилой. Если бы можно было развернуть перед этим мальчиком картину его будущего! Может быть, это спасло бы его».
Заканчивалось письмо так:
«Чёрт возьми, какие ужасы может породить жизнь человеческая! Прямо что-то фаталистическое! Когда попробуешь охватить весь этот ужас, твоё собственное горе кажется каплей в море...»
— О господи!
Внизу слышен конский топот. У подъезда остановился извозчик.
И вот — уже стук в дверь.
— Да! Кто там?
Мария пошла открывать. На пороге стоял он, Сергей, в мокром плаще, без шапки. Стоял и улыбался и тихо, чтобы не слышали соседи, но с подъёмом произносил любимые им слова Лермонтова:
— «Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребёнка»... Здравствуй, Машенька!..
2
Необычно рано началась в тот год осень на Тереке. В сентябре поля и дороги вовсю заливали дожди. В горах свистел ветер и ревели потоки. Но воспринимали это не как бедствие, а наоборот, радовались: авось от дождей и холода скорее протрезвеют горячие головы, утихомирятся страсти.
Пожары, грабежи и разбои не утихали. Всё чаще вспыхивали стычки на границах горских аулов и казачьих станиц. Околицы опоясывались колючей проволокой, в окопах днём и ночью сторожили дозоры.
Ещё летом, в июле, Сунженские казаки постановили порвать всякие сношения с горцами. Никакие попытки уладить разрастающийся конфликт не давали успеха.
Дня через два-три после возвращения во Владикавказ Киров поспешил на Сунжу. С ним поехали Ной и брат Марии, Яков Львович Маркус, активно работавший сейчас во владикавказской большевистской организации.
Маркус раздобыл в городской думе, членом которой он состоял, плохонький, разбитый автомобиль, и теперь все трое катили на этой машине по залитой дождём загородной дороге. Автомобиль был открытый, без верха, ехать под дождём не очень приятно, но зато так быстрее было добираться до Сунжи.
На Сунже в эти дни было тихо. Может, в самом деле из-за сильных, непрерывных дождей.
У Сергея Мироновича давно было желание поездить по казачьим станицам, расположенным вдоль реки Сунжи. Эта бурная речка в своём начале течёт среди диких ущелий в отрогах хребта. Там, в ущельях, нет станиц, там горские аулы. А пониже, где открываются плодородные равнины и где речка становится спокойнее, раскинулись казачьи станицы Сунженской линии.
— Сейчас самая пора среди казаков поработать, — говорил Киров в пути своим спутникам. — Не все казаки идут за Карауловым и его приспешниками, далеко не все. Надо нам этих людей привлечь к себе.
— Это не просто, — покачал головой Маркус. — Но надо, надо, что говорить!
Как он был похож минутами на сестру! Те же глаза — вдумчивые, но всегда готовые зажмуриться в добродушной улыбке. Лицо тонкое, худощавое.
Маркус работал до революции учителем, много покочевал по России, бывал и за границей. Этот человек — ему было не больше тридцати — прямо-таки с каторжными муками добился образования. Преследуемый полицией за революционные убеждения, он кочевал из университета в университет, пока наконец не обрёл диплома кандидата прав 1-й степени. Но, получив диплом, он отказался от юридической карьеры ради скромной профессии провинциального учителя.
Дети любили его. Но и среди взрослых Яков Львович пользовался уважением. Киров с ним давно дружил.
— Нам очень поможет разгром корниловщины, — продолжал Киров развивать свою мысль. — Провал генеральской авантюры отзовётся большими событиями не только в Питере, но и у нас тут, на Тереке.
— Уже отозвался, — заметил Ной. — Караулов что-то притих. Ты встречался с ним в Москве и Питере?
Киров с улыбкой кивнул:
— Имел удовольствие. В Москве на Государственном совещании столкнулись лоб в лоб.
— Оказывается, сам господин Керенский вызывал его к себе, — сказал Маркус. — Пока вы там дрались, мы тут устраивали митинг за митингом. А на митинги звали всех — и горцев, и казаков, и солдат. Сейчас атаман в бешенстве. Какое право, мол, мы имели без него устраивать эти митинги и в особенности ещё привлекать казаков! В казачество он нас не хочет пускать ни за что!
— Этого он как огня боится, — усмехнулся Ной. — Здесь его вотчина. А мы в неё проникнем, всё равно проникнем!
После возвращения из Закавказья Ной успел быстро растратить ту зарядку, которую он там получил. В тревожные дни корниловщины он с утра до ночи выступал на митингах во Владикавказе и окрестных селениях. Теперь у него опять ухудшилось здоровье.
В машине он выглядел сейчас особенно плохо — лицо жёлтое, под глазами тёмные круги. Струйки холодного дождя текли по его запавшим щекам, на усах и бородке висели капельки... Нет, не следовало ему пускаться в путь в такую погоду. Но разве Ноя уговоришь!
Киров сидел в середине, между Ноем и Маркусом. Он встал и предложил своё место Ною.
— Это почему? — удивился тот.
— Так надо. Для твоей пользы.
— С какой стати! Что это такое? Что за безобразие! — возмутился Ной, — Я не желаю!
— В середине теплее, чем сбоку, Ной. Не спорь, как ребёнок!
Сколько Ной ни ворчал, ему пришлось уступить настояниям Кирова и пересесть. Когда перемещение кончилось и Ной, очутившись в середине, в самом деле почувствовал, что тут и теплее и меньше Дует, Сергей Миронович сказал:
— Что касается казачества, то могу вам интересную вещь сообщить. На казачество, как известно, генерал Корнилов надеялся не меньше, чем на Дикую дивизию. Но и тут произошла осечка... Постойте! Этот факт я ещё не приводил в своих выступлениях?
Со дня приезда Киров успел сделать несколько докладов о событиях, происшедших в связи с корниловским заговором. Он рассказывал об этом на заседании Владикавказского Совета, о том же говорил на большом собрании солдат и офицеров гарнизона города.
Приехав, он узнал, что Караулов после разгрома корниловского мятежа пребывает в тихом бешенстве. Кирову показали воззвание Караулова к населению Терека. Атаман выгораживал Корнилова как мог. Тот, дескать, снял войска с фронта и бросил их на Петроград не по собственной воле, а по требованию самого Керенского.
«Это дело до чрезвычайности тёмное», — писал в своём воззвании атаман.
И выдал себя этим с головой.
Чем было «корниловское дело» на самом деле, владикавказцы узнали особенно подробно от Кирова.
А друзьям он не уставал рассказывать об эпизодах своего пребывания в Москве и Питере. Каждый раз вспоминал что-то новое и сам просил товарищей — если он начнёт повторяться, то пусть они его остановят.
— Давай, давай! — сказали Ной и Маркус, когда он замолк, — Всё равно интересно, было это в твоих выступлениях или нет. А вдруг и не было!..
Киров рассказал:
— Вы знаете, что среди войск, которые Корнилов снял с фронта и бросил на Петроград, была Донская казачья дивизия. И даже эта дивизия его подвела. Через Лугу она не прошла. Представьте, в Совет рабочих и солдатских депутатов Луги тридцатого августа — в самый критический день мятежа — являются казачьи представители с предложением арестовать их командира — генерала Крымова! Наверно, узнав об этом, генерал и поспешил застрелиться.
— Ты говорил об этом на собрании гарнизона, — сказал Ной, — Но вспомнил кстати. В станицах, где будешь выступать, расскажи об этом.
Автомобиль катил сейчас вдоль железной дороги. Приблизился небольшой разъезд Плиево. Недалеко тут была большая станица Карабулакская.
Маркус недавно ездил сюда и знал, где станичное правление. Попасть в станицу можно было не по любой дороге: с трёх сторон станица была загорожена окопами и колючей проволокой. Всё это предназначалось для защиты от нападений горцев. Въезд в станицу — узкая просёлочная дорога — тоже охранялся усиленным дозором.
— Сюда, — показал Маркус шофёру.
Машина обогнула дубовый лесок и вышла на просёлок. За деревьями показались железные и черепичные крыши станицы.
— Стой! — выскочили с криком изо рва какие-то казаки.
Подошли к машине двое. Оба бородачи, настоящие казаки — лица опалённые, движения быстрые, резкие, оба вооружены с головы до ног.
Ной показал бумагу. В ней значилось: такие-то граждане едут в станицы Сунжи для разъяснения текущего момента и положения на Тереке.
— Как дела, казаки? — обратился Киров к дозорным.
— Плохо.
— А чем плохо?
— В поле без винтовки не выйдешь. В город один не поедешь — подстрелят из-за угла. Нету житья, товарищ начальник.
— Кто же мешает?
— Известно кто, товарищ начальник.
— Туземцы, вот кто! — досказал за более пожилого казака его бойкий напарник.
— Туземцы? Горцы, значит? Ясно, — проговорил Киров. — А горцы говорят, что вы им мешаете. Как же из положения выйти?
— А чёрт его знает! — отозвался пожилой. — Дело старое. Только земли не отдадим.
— Ay вас её никто не станет отнимать. Казак на земле останется. Куда ему деваться?
— Вот то-то, некуда. Что человек без земли?
Маркус заметил, что перед самой околицей устроена небольшая арка. Там трепыхался красный флаг.
— Что за праздник у вас сегодня, казаки? — спросил Маркус. — Кого ждёте?
— Один наш полк с фронта пришёл на отдых и переформировку. Ну, по старому казачьему обычаю, поехали наши встречать своих с хлебом-солью, пирогами, вином. С приглашением, значит, к домашнему очагу. Ждём!..
Сидевшие в автомобиле только переглянулись. Караулов стягивает казачьи полки с фронта. Всё было ясно.
3
К вечеру небо чуть прояснилось, дождь утих, и на станичной площади у церкви ударил колокол. Народу в станице оказалось немного, ждали фронтовиков. Старики и бабы сошлись, послушали сообщение Кирова о текущем моменте, пожаловались на то же самое — что дела плохи, с туземцами сладу нет. Стычки каждый день.
Ной приготовил лекцию о казачестве на Руси, о его происхождении и роли, но опять застучал по земле и по крышам дождь.
А потом в станице началось такое, что было не до митингов и лекций. С лихим свистом и гиканьем стали въезжать в станицу подводы — это возвращались станичники, ехавшие встречать фронтовиков. С ними были и сами фронтовики, пьяные все, некоторые не держались на своих лошадях. Тех, которые перепились совсем, везли на подводах. В хатах веселье продолжалось — музыка, песни, пляски слышались чуть не в каждой избе.
— Что будем делать? — спрашивал Ной у Кирова, — Это веселье не на день, а на целую неделю.
— Я это знаю, — озадаченно почесал затылок Сергей Миронович. — Надо нам тут где-нибудь переночевать, а утром посмотрим.
В станице жил знакомый Маркусу казак Свиридов.
Заехали к нему. Свиридов, высокий, хмурый старик с косым шрамом на бородатом лице, сидел за столом и пил самогон. Его жена, старуха, сидела рядом и плакала.
Гостей они приняли радушно. Оказалось, сын Свиридовых с полком не вернулся — лёг костьми на австрийском фронте. А хороший был казак.
Сидели при лампе, разговаривали.
Мать погибшего хлопотала у щербатого стола, всё поправляла концы белого платка и вытирала слёзы со сморщенного смуглого лица.
Она тоже, по обычаю, нарядилась, хотя встречать ей было некого.
— Плохо стало казаку, — жаловался хозяин, — Сам я уже старик, силы не те, а тут и сына не стало. Как будем жить, не знаю. Дочери у нас замужние... Тоже не ахти живут. Разорение одно кругом.
Он предлагал самогон то Кирову, то Ною, то Маркусу.
— Хорошие вы люди... Я знаю: вы большевики! А всё-таки я вас уважаю, хотя и не желаете со мною выпить.
Легли спать поздно, и всё равно трудно было уснуть, казалось — вся станица гудит и сотрясается от хмельных песен и плясок...
А среди ночи снова забухал колокол на площади у церкви. Тревожный звон звал на улицу.
Люди выбегали с оружием.
— Что такое? Чего зовут?..
Хмель быстро слетел со многих. Казаки седлали коней и уносились куда-то в темноту. Скоро всё выяснилось.
За станицей у реки какие-то горцы попытались подобраться к стогам сена, принадлежащего казакам. Пользуясь темнотой, горцы проникли через неохраняемый участок и успели нагрузить сеном целую арбу.
Всё же кто-то из станичников услыхал шум у стогов и дал выстрел. Вот тут и ударил колокол. И началось то, что уже не раз бывало. Через четверть часа за околицей гремел бой.
Свиридов велел своим проснувшимся гостям никуда из дома не выходить, а сам побежал на площадь. Киров и его спутники всё же вышли на улицу. За станицей
поднималось зарево. По улице намётом проносились верховые. Отчаянно лаяли собаки.
— Надо подождать Свиридова, — советовал Маркус. — В темноте нас могут подстрелить, как куропаток. А мы без оружия!
— Уверен, что это дело рук провокаторов, — говорил Ной, — Это всё нарочно подстроено. Как вы думаете, Караулов знает, что мы сюда поехали?
Киров вглядывался в ту сторону, где разгоралось всё ярче зарево пожара.
— Я думаю, Караулов знает.
Свиридов вернулся скоро.
— Посылают меня за подмогою в Грозный, — сообщил он. — На нас сделано нападение. Началось с сена, а уже вовсю идёт перестрелка.
— Зачем в Грозный? — спросил у казака Киров, — На чью помощь вы рассчитываете?
— Там сто одиннадцатый полк стоит. Наши хотят его втянуть, русские же в полку, свои.
— Я еду с вами, — сразу принял решение Киров. — Возьмёте нас с собой?
— Поможете?
— Поможем, — ответил Киров твёрдо.
Ной и Маркус уже понимали, какую именно помощь обещает он казаку и в чём его план.
4
Выехали в Грозный под утро, в сопровождении усиленного наряда охраны. А на той стороне станицы, где стояли стога сена, уже образовался настоящий фронт. Горели, окутываясь дымом, ближние хаты.
Казак в окопе кричит сыну:
— Скорей, Васька, беги в станичное управление, проси, чтобы сюда пулемёт подбросили! С той стороны нажимают больно, нехристи!
Горит, трещит изба. Вопят и суетятся у пожарища бабы, тащат из пламени добро, и густой чёрный дым тянется над станицей. Заметив этот зловещий дым и заслышав выстрелы, скачут на помощь карабулакцам казаки соседних станиц.
А по крутым тропкам, по ущельям, где лепятся аулы, тоже скачут всадники. Поднимают горцев на бой, и те спешно седлают коней, снаряжают арбы, достают винтовки, часто старинные, из которых стреляли их деды во времена Шамиля. И первыми едут во главе отрядов седобородые воины.
Лица в старых шрамах и рубцах.
Из Карабулакской до Грозного недалеко.
Было часов семь утра, когда к зданию старой кирки подъехали шестеро верховых казаков во главе со Свиридовым и трое штатских в автомобиле.
Затрещал телефон, засуетились дежурные.
В Грозном привыкли к тревогам. Скоро под гулкими сводами кирки уже гудели голоса собравшихся по тревоге большевиков. Тут были и солдаты из сто одиннадцатого полка.
Анисимова не оказалось в Грозном — он уехал только вчера в Хасав-юрт на митинг.
Открыл собрание Носов.
— Товарищи, — объявил он, — провокаторы — кто они, мы ещё разберёмся — устроили стычку под Карабулакской. Оттуда сюда приехали за помощью. У казаков просьба к сто одиннадцатому полку поддержать их хотя бы батальоном солдат.
Свиридов стоял в углу около Кирова и его спутников.
— Куда вы нас привезли? — с недоумением спрашивал старый казак у Сергея Мироновича, — Тут что?
— Комитет большевистский.
— А нам же в полк надо!
— Попадём и в полк. Не тревожьтесь, — успокаивал Киров казака, — Всё будет сделано.
У него был план, который целиком разделяли Ной и Маркус. Перед началом собрания Киров успел посвятить в свой план и Носова. Тот тоже поддержал.
— Итак, — говорил Носов, обращаясь к присутствующим, — поскольку суть дела нам ясна, мы не станем терять время на то, чтобы выслушать прибывших к нам, а сразу направим делегацию в полк!
— Зачем? — спросил кто-то. — Разве мы можем позволить, чтобы в межнациональную войну втягивались ещё наши солдаты?
Тут Киров шагнул вперёд:
— Товарищи! Конечно, мы не можем пойти на то, чего опасается выступивший сейчас член организации. Но мы не можем и оставаться в стороне. Там кровь льётся!
— А что же вы предлагаете?
— Обратиться к солдатам. Но не затем, чтобы они увеличили поток невинной крови. Совсем для другой цели мы должны обратиться к ним. Надо остановить стычку, и в таком деле сто одиннадцатый полк может сказать веское слово. Здесь сейчас есть кто-нибудь из полка?
— Есть!
— Поддержат нас ваши солдаты?
— Давайте пойдём в полк, поговорим, созовём комитет. Должны нас поддержать.
— Кого это «нас»? — всё недоумевал Свиридов. — Я уж ни черта не понимаю, ей-богу!
Это он говорил шёпотом своим казакам.
Получалось, что большевики берут на себя всю заботу о возникшем конфликте и сами готовые обратиться к солдатам. В два счёта была избрана делегация для посылки в полк. В неё вошёл и Ной. А потом в кирке пошёл разговор о том, что и к горцам надо послать делегацию. И с той же быстротой была избрана вторая делегация. Сюда вошли Киров и Маркус.
— Всё! — крикнул Носов, закрывая собрание, — Время горячее, призываю всех наших партийцев действовать энергично и следить, чтобы стычка не перенеслась сюда! Провокаторы не дремлют, как видите!..
Раза два Лена забегала на квартиру к Анисимову:
— Николая нет ещё? Не вернулся?
— Нет, — отвечала Сима, — Что-то задерживается в Хасав-юрте.
— Жалко... Мы сейчас на фронт выезжаем, где стычка. С батальоном поедем. Мы им там зададим! В такое время междоусобицу затеяли! Чёрт знает что такое!
И Лена тут же убегала.
А Сима, выйдя за ворота, долго смотрела в затянутую дождём даль. Там, за городом, — Чечня, встревоженные аулы.
В горы Чечни Николай выезжал часто. Уедет дня на три-четыре. Ему очень помогал Асланбек Шери-пов. И нередко бывало так: подошёл срок возвращения, а Николая всё нет и нет. Тогда Сима просто места себе не находила. Ночи простаивала у ворот, тоскливо ждала мужа. Глаза затуманены, вся ушла в себя, в свою неизбывную тревогу. Стоит и смотрит в одну точку — туда, в пыльную даль улицы, упирающейся в горы. До них не близко, просто так казалось, что в конце улицы уже горы. В хороший солнечный день ясно виднелись тёмные ущелья, поросшие буком склоны и светлые пятна каменистых осыпей. У Симы было хорошее зрение, и она могла различать даже одинокие сакли и башни на дальних изломах гор.
— Сима! Что, Николая нет ещё? — окликала её опять Лена.
— Что-то нет, — отвечала Сима.
— Ну, тогда уж он не успеет с нами. В полку решено послать батальон, и я еду с ним. Ох, Сима, ты бы послушала, как выступал в полку перед солдатами товарищ Ной! Вот оратор! Всех взял за душу! Старый большевик, что говорить. Такие умеют! Образованный! С Лениным личное знакомство... Ну, прощай!
5
В полку спорили недолго. Солдатский комитет решил направить в район боёв батальон пехоты, но не для поддержки какой-либо одной из сторон, а для того, чтобы и ту и другую сторону заставить сложить оружие, прекратить огонь. А план Кирова в этом именно и состоял.
Когда Лена примчалась на вокзал с пачкой свежеотпечатанных листовок, батальон грузился в товарные теплушки.
— Вот этим, а не пулями стреляйте, — говорила Лена, раздавая солдатам-большевикам зелёные листовки.
У Лены было поручение комитета: выехать с батальоном на место стычки. Агитировать солдат — милое дело, к этому Лена привыкла и умела находить нужные слова.
Русские запасные полки, разбросанные по Тереку, служили сдерживающей силой в конфликте между горцами и казаками. Но чья-то невидимая рука упорно творила чёрное дело — один за другим выводила эти полки, проникнутые большевистскими настроениями, за пределы Терека. Лена без обиняков говорила солдатам, что всё это козни атамана Караулова. Тот знает, что делает.
— Вы понимаете, ребята, — объясняла она своей обычной скороговоркой, — наш юг хотят превратить в Вандею, а что такое Вандея вы, наверно, не знаете, так я вам раскрою. Я тоже не знала, я работница, хотя мой муж учитель.
И объясняла солдатам, что такое Вандея, и её слушали с таким вниманием, с каким слушают только дети. И вставала перед солдатами картина бушующей страны, расколовшейся на части после развала царской империи. На Дон, Кубань и Терек, где сосредоточена основная масса казачества, вся надежда у сверженной власти.
— А Караулов её верный холоп, хотя и болтает о революции и носит красный бант на черкеске, — говорила Лена. — Он выполняет свою часть задачи: мешает победе народа на Тереке. Ему надо, чтобы Терек стал крепким тылом для контрреволюционной Вандеи, а нам надо, чтобы Терек стал занозой в тылу этой Вандеи, сто чертей ей в бок!
Солдаты смеялись.
Бог знает, что такое! Вандея какая-то. Беда, одним словом. Нет простому трудящемуся человеку покоя. Он хочет мира, к семье, к земле, к работе своей вернуться, а ему устраивают Вандею, негодяи! «Ох, кончать с этим надо, и поскорее», — негодующе ворчали солдаты.
Выгрузился батальон возле небольшой станции, и сразу стали видны вдали чёрные клубы дыма, озарённые снизу багровыми отсветами. То горела Карабулакская.
— Какой ужас! — шептала Лена. — Сколько жертв напрасных! И всё Караулов!..
В представлении Лены Караулов вмещал в себя все пороки и всё зло старого режима, и она люто ненавидела само имя атамана. Караулов! Так и отдаёт тюрьмой, нагайкой, виселицей.
И вдруг на станции среди переполнявших её солдат появился тот, кого Лена так ненавидела. Со стороны разъезда Плиево примчал паровозик с прицепленным к нему длинным пульмановским вагоном. На площадке показался Караулов. Его охраняли трое казаков.
Вокруг атамана тотчас сгрудилась толпа солдат.
Не достоинства, а косная солдафонская сила подняла к власти Караулова. И надо сказать, это-то он .понимал. Сила — за ним! За казачеством, которое ведь не захочет даром отдать свои земли и привилегии, дарованные ему царями. У казаков оружие, выучка, лихие офицеры.
А чего стоит эта солдатня? Караулов её ни в грош не ставил. Мужичьё! Орут, дерут глотку! Прав или не прав казак, не этим охламонам судить, — так думал атаман, глядя со ступеньки вагона на толпу.
Опять пришло к нему то чувство, которое он уже не раз испытывал за время революции: взмахнуть бы нагайкой, свистнуть бы!..
Грубо, нагло — пусть. Всякая там интеллигенция пускай себе что угодно говорит и пишет. Щелкопёры, ораторы вроде Кирова, Буачидзе и других подобных им лиц. На Тереке ли, в Питере ли — везде они одинаковы. Атаман чем дальше, тем всё больше проникался ненавистью ко всему, что хоть отдалённо пахло интеллигентским духом.
Странно, этот дух почудился ему даже сейчас, хотя он стоял перед толпой солдат. Это сразу лишило атамана самообладания. Затряслись обвислые холёные щёки.
Конечно, он знал, что трое владикавказских большевиков затеяли поездку по казачьим станицам. Осведомителей Караулова было немало всюду. Знал он и о том, что делал Киров в Петрограде, и ненавидел теперь его ещё больше. Не раз вспоминалась атаману сцена, происшедшая в фойе Большого театра. Киров тогда сказал ему что-то насчёт дыма из трубы. Ту притчу Караулов не понимал до сих пор.
Мысленно, ещё не начиная речи, он бросал толпе проклятия, мысленно кричал:
«Ну, пускай я по-вашему, по-интеллигентскому, дубина, чурбан, но я служу России, своим казакам!..»
Когда-нибудь он сорвётся, скажет это.
Пускай только времечко подойдёт. Скоро, скоро. На Дону, на Кубани, везде поднимаются на защиту старых прав. Без царя России не быть! Интеллигенция на свой ум полагается и царя не хочет. То дуракам, чурбанам, дескать, нужен царь.
Ладно, он, Караулов, обойдётся и так, сила за ним.
Такие мысли роились в голове под чёрной папахой полковника в те минуты, когда он смотрел на толпу солдат и раздумывал, что им сказать.
— Солдаты! — обратился к толпе Караулов. — Как комиссар Временного правительства и атаман терского казачьего войска я несу ответственность за всё, что у нас тут происходит. Я прежде всего хотел бы знать, зачем вы здесь? Где ваш командир? Почему он ко мне не выйдет?
— А мы без командира сюда прибыли, — ответили из толпы солдат.
— Как так — без командира? Это анархия!
— Да ладно, пущай анархия. Лучше, чем старый режим, за который ты стоишь.
Атаман побагровел.
— Это кто сказал? Кто?
В толпе раздался смех.
Караулов попытался взять себя в руки. Ну, 111-й полк его попомнит! Скоро и этих солдат не станет на Тереке.
Как он ругал сегодня станичного атамана Карабулак-ской! Зачем было посылать казаков в Грозный к солдатам? Атаман уже знал, что из этого вышло. Всё захватили в свои руки большевики. Казаки из Карабулакской пошли за ними, и теперь они, большевики, ведут за собой солдат и выглядят миролюбцами. А эту роль Караулов готовил себе, и сейчас он злился, оттого что всё сорвалось.
— Граждане солдаты! — снова обратился он к толпе. — Ещё раз обращаюсь к вам по-хорошему. Я призываю вас к соблюдению воинской дисциплины. Нами уже приняты меры к замирению, и нет нужды в вашей помощи. Вам надо вернуться в свои казармы.
Кто-то из толпы крикнул голосисто:
— А почему стрельба продолжается?
— Я сказал: нами приняты меры!
— А ну тише, братцы! — попросила Лена.
По толпе пронеслось: «Тише! Тише, братцы!» На перроне всё смолкло. Люди с напряжением прислушивались. Даже Караулов угомонился.
— Стреляют! Слышите?
Эти слова прокричала Лена. И затем голос её взвился ещё выше:
— Вас обманывают, товарищи солдаты! Стрельба идёт, и льётся кровь невинных. Надо послать делегации к горцам и в станицу!
— Правильно! Дело говорит! — раздались голоса солдат.
Поднялся шум. Караулов что-то яростно кричал, споря с обступившими его людьми. К Лене протиснулись два казака из свиты Караулова, хотели её схватить, но солдаты заступились, заслонили её.
Ничего не добившись, Караулов и его свита скоро убрались в свой вагон и уехали обратно — по направлению к Плиеву. А на перроне долго не затихали раздражённые голоса. Атамана кляли на чём свет стоит. И требовали обязательно послать делегации от батальона к горцам и казакам.
Делегации были выбраны и посланы.
6
На площади перед станичным управлением после полудня собрался митинг. Перед толпой карабулакцев выступил солдат Бакулин. Он тут представлял 111-й полк — силу, с которой не могли не считаться казаки. И когда солдат призвал казаков жить в мире с горцами, не поддаваться на провокации, это произвело впечатление.
— Товарищи казаки, доколе же будете жить старым? — говорил Бакулин, стоя на дожде с открытой головой. — Немыслимо больше так. Я тут слушал голоса: всё горцы-де разбойники и надо их уничтожить или выселить в Сибирь на вечное поселение. Так нельзя, братцы, — степенно говорил Бакулин. — Они тут с незапамятных пор живут, и не они вас потеснили, а вы их. Изнищились люди без земли-то, вот и озлобились от обиды. А вы бы как — лучше были? Нет, братцы, эту кашу надо по-другому расхлёбывать. По справедливости разделиться, чтобы все могли жить.
— Да где ты видел справедливость? — кричали из толпы старые казаки. — Не было её прежде, нету и теперь. Мы то знаем: не сахар и наше казачье житьё. Льготы давали, так за то и шкуру драли! Да знай одно требовали: служи царю, как верный пёс. Тоже подло!
Немало тут было в толпе покалеченных фронтовиков, безруких, одноногих, с боевыми рубцами на лице и сабельными шрамами на теле. Трудно жили сейчас многие казаки. Война кое-кого обогатила, кулаков стало больше в станицах, зато сколько нищих появилось, обездоленных.
Эти жадно тянулись к правде.
Речь солдата трогала не только сердечным тоном и добрыми словами.
Сам оратор нравился. Папаха у него в руке была настоящая окопная — из зелёного грубошёрстного сукна, а не из барашка, как у офицеров, шинелька затрёпанная, на ногах обмотки. Таким солдатам казаки верили, потому что знали — именно вот такие, как эти ораторы, простые русские пехотинцы вынесли на себе всю тяжесть окопной войны последних лет и на Западном фронте против австро-германской армии, и в закавказском — против турок.
Слушая солдата, казачки навзрыд плакали. Но старые седоусые казаки старались не поддаваться, как их жёны, чувствам, а глядеть в корень и взвешивать положение сторон трезво.
— С кем ваш батальон? — спрашивали из толпы у солдата. — Вы за нас или за азиатов?
— Мы ни за них, ни за вас! Мы присланы требовать мира и с тех и с других.
У многих казаков была надежда, что батальон 111-го полка возьмёт их сторону — ведь свои же. Услышав ответ оратора, наиболее воинственно настроенные станичники повздыхали и стали склоняться к миру. Опасались, что батальон может примкнуть к горцам, если казаки не дадут согласие на мир.
Лена стояла в толпе и говорила станичникам:
— Лаже одежда у вас одна, как у горцев, и горцы
такие же люди, как вы. У них тоже жёны, дети, старики. Надо же мирно жить, товарищи! Вы, наверно, даже не слыхали про Интернационал. А мы же к этому идём!
— Куда, говоришь, идём, гражданка?
— К Интернационалу, к братству всех наций!
Косились на красный платочек Лены и помалкивали.
К Лене относились хорошо, даже как будто заискивали. Знали, что она грозненский депутат и сама простая работница. А рабочие — сила, в этом убедила казаков революция. Это они, рабочие, сбросили царя, они встали грудью на пути генерала Корнилова и держат в страхе не только Керенского и его министров, а всех, кто прежде имел власть и силу в России.
Конечно, казаку дико слышать речи про Интернационал. В старое время за это полагалось бить нагайкой, топтать конём.
Но времена-то переменились. И не казаки, а те, против кого их бросали, стали силой.
— Ладно, — угрюмо говорили старые казаки. — Пущай Интернационал. Мы не против. Братство — дело святое.
...А по ту сторону окопов тоже произошёл митинг. Горцы слушали ораторов, сидя на боевых конях. Собрали их в глубокой балке, куда не залетали пули. Депутат от 111-го полка сумел убедить горцев, и они тоже дали слово прекратить огонь.
Ну и, конечно, на миролюбивом настроении ингушей сказалось и то, что недалеко от них стоит наготове батальон хорошо вооружённых солдат. Будет худо, если в ответ на отказ горцев от примирения 111-й полк возьмёт сторону казаков, уже давших согласие прекратить огонь.
В пять вечера в окопах у станицы Карабулакской стало необычно тихо. Небо по-прежнему было хмурым дождь не унимался и слышен был какой-то странный звук в траве возле окопов. Казалось, то посвистывают от ветра пустые стреляные гильзы.
Перестрелка из-за сена дорого обошлась и той и другой стороне.
Было совсем темно, когда батальон погрузился в свои теплушки, чтобы ехать обратно в Грозный.
В пути кто-то из солдат вспомнил о Караулове:
— А куда же атаман подевался?
Лена слышала, как солдаты потешались:
— Под огонь не лез, как наша агитаторша. От своего вагона не отходил.
— Глупый он человек. И как такого в атаманы выбрали?..
На полустанке, недалеко от Грозного, эшелон задержали. Солдаты высыпали из теплушек.
— Что случилось? Что ни час, то происшествие!
— Россия, брат, наша такая. Бурно живёт!
— То сто лет дремала, то как рванула, закипела, забурлила — не остановишь!
— Так и есть, братцы... Про нашу Расею всё говорят — загадка!
Моросил дождь, было холодно. Полустанок освещался редкими подслеповатыми огоньками. За небольшим станционным домиком стоял автомобиль. Лена нашла тут Бакулина и Маркуса, которого она хорошо знала по Владикавказу.
— Это вы, Яков Львович! Что вы тут делаете?
За Маркуса ответил Бакулин:
— Беда... Казака Свиридова надо выручать. Ну, я сейчас...
Подобрав полы шинели, он метнулся к тому месту, где стоял эшелон.
— Давно вы здесь, Яков Львович? — тормошила Лена Маркуса. — А где Киров, где Ной? Что произошло? И кто арестовал Свиридова?
— Сейчас, сейчас, — отвечал Маркус, — Одну минуточку. — И он обратился к шофёру, копавшемуся в моторе: — Ну как?
Он был весь в запале, Маркус, и тут только Лена увидела, какой у него невозможный вид: с головы до ног он был забрызган грязью. Особенно много глинистой грязи налипло на ботинки, штаны и низ лёгкого пальтишка. Сразу стало ясно — машина, наверно, мчала сюда напропалую и не раз застревала на дороге в ямах и колдобинах. Шофёр тоже был весь измазан.
— Нет, не пойдёт, исправить надо в моторе, — ответил он Маркусу. — До утра провожусь.
Маркус схватил Лену за руку.
— Пошли!.. Поедем с эшелоном!
Паровоз уже отчаянно гудел, созывая солдат. Командиры у теплушки покрикивали:
— По местам! Сейчас отправляемся!
— Куда?
— Назад поедем...
7
Поезд атамана знал весь Терек. В составе два вагона и паровоз. Оба вагона — пульмановские, длинные, международного класса. В том салон-вагоне, где находился Караулов, — внутри поистине царское убранство. Во втором всё поскромнее, тут помещается свита и охрана атаманская — десять душ.
В этом втором вагоне и держали взаперти Свиридова. Адъютанты атамана схватили казака где-то под Карабулакской и доставили его сюда.
Допрашивал арестованного сначала Селезнёв, тот самый, который летом агитировал в ресторане Ахмедова армейских офицеров против горцев и был разоблачён Кировым как провокатор.
— Ты зачем в Грозный ездил? — орал Селезнёв на стоявшего перед ним казака, — Тебе кто приказал?
— Наши.
— Врёшь! Как стоишь!
Допрос вёлся с «пристрастием», и казак был сильно избит.
Потом его потащили к атаману.
Всё это происходило на станции Плиево после того, как отсюда отбыл батальон 111-го полка. Вмешательство солдат в казачьи дела вызвало страшный гнев атамана. Он до сих пор не мог прийти в себя. Как посмела эта серая «каша» так разговаривать с ним, наказным атаманом Терского войска и комиссаром Временного правительства! Ведь в его атаманском лице сосредоточена вся верховная власть на Тереке! Выше его тут никого нет!
А слушаться его не хотят. Когда он потребовал к себе командира батальона, тот даже не показался.
Проклятье!
Больше всего бесило атамана то, что казаки начинают якшаться с большевиками. Этот Свиридов... дурак! Ну и задал ему атаман на допросе. Караулов кричал ему:
— Ты предатель! Ты опозорил всю станицу свою! Всё терское казачество!
Свиридов только стоял и молчал.
Во время допроса атаману доложили, что на станцию сейчас примчались на казачьей повозке Киров и Буачидзе. Тут атаман совсем потерял голову. С ним чуть не сделался сердечный удар.
Он схватился за голову. Его багровое лицо выражало нечеловеческие муки.
Когда Свиридова увели, он спросил:
— Зачем они прибыли?
— Требуют освободить казака.
Атаман рассвирепел, затрясся, затопал ногами:
— Я их уничтожу! Прикажу связать и...
Не договорив, он бросился к окну и увидел стоящие под фонарём две фигуры. На них сеялся дождь, и вид у стоящих там людей казался издали, из окна атаманского поезда, до крайности жалким и беспомощным. На одном была шляпа, с которой стекали капли, и промокшее пальтецо. Это был Ной. На втором темнела фуражка, тоже обвисшая от дождя, и топорщился задубевший от дождя коротенький плащ. Ни винтовки при них не видно было, ни кинжалов.
Узнал атаман и того, кто был в плаще.
Опять этот Киров на его пути!
«Что делать с ними?» Атаман с ненавистью всё смотрел и смотрел на эти фигурки. И не мог решить — что?
— Селезнёв!
— Слушаю вас, атаман.
— Я боюсь сорваться совсем, ежели заговорю с ними. Будет скандал!
— Да, Михаил Александрович, скандала не избежать. Оба влиятельные люди.
— Какого чёрта влиятельные! Кто они такие? Я же могу раздавить их, как...
— Не стоит этого делать, Михаил Александрович... Припомните историю с Ахмедовым и прапорщиком Млчптаковым. Большевики тогда оказались сильнее нас.
— Что же делать, хитрый Селезнёв?
Обе фигуры вдруг шагнули к поезду атамана. Спустились кое-как с высокого перрона на рельсы и зашагали по масляно поблёскивающим лужам к салон-вагонам. Караулов с перекошенным от злобы лицом отпрянул от оконца.
— Сюда их не пускать! — взревел он.
Приказание атамана исполнили. К нему большевиков не допустили. С ними разговаривал Селезнёв. Верный слуга атамана, он смотрел на них с не меньшей ненавистью, но старался улыбаться.
— На каком основании вы требуете освобождения казака Свиридова? Он не подлежит гражданской юрисдикции.
— Что вы знаете о юрисдикции? — бросал ему в лицо Ной. — Человек помог остановить бесцельное кровопролитие, а вы о юрисдикции! Мы требуем, чтобы Свиридов был немедленно освобождён.
Наиболее опасным противником Селезнёв считал Кирова. Тот почему-то помалкивал, словно к чему-то прислушивался. Вдруг он оживился:
— Едут... Сейчас с вами поговорят по-другому.
В ночи послышался паровозный гудок.
Ной сказал Селезнёву:
— Пойдите и доложите атаману, что сейчас сюда прибудет батальон сто одиннадцатого полка. Мы попросили солдат вернуться и защитить казака.
— Вот вам и юрисдикция! — усмехнулся Киров и полез в карман за трубочкой.
Селезнёв бросился в атаманский вагон.
К моменту, когда подошёл эшелон, на перроне уже стояли под дождём три фигурки: Киров, Ной и освобождённый казак.
Атаманского поезда на станции не было — он поспешно ушёл в темноту ночи.
— Ура-а-а! — кричали солдаты, когда узнали, что одно только их приближение испугало атамана.
Маркус был не очень приспособленным к жизни человеком. Но при помощи Лены он ещё в пути организовал хороший ужин для казака и его освободителей. Их пригласили в теплушку, где горела железная печурка, напоили горячим чаем, дали осушиться, привести себя в порядок. У Бакулина нашлось вино.
— Ах братцы! — взволнованно воскликнул Свиридов, — Я же когда-то ваши демонстрации разгонял! А вы вон кто оказались!..
Дня три спустя, утром, Киров, Маркус и Ной возвращались во Владикавказ. Ехали в том же автомобиле, сидели в том же порядке: посредине Ной, а по бокам его защищали от дождя и ветра товарищи.
Провели они эти дни на Сунже. Переезжали из станицы в станицу, разговаривали с казаками. Сопровождал их Свиридов, и не было сейчас для казака более справедливых людей, чем эта тройка. Принимали их в станицах радушно. Разгром корниловского мятежа ввёл в смятение казачьи верхи, и это чувствовалось в станицах.
Поездкой все трое были довольны. Улажен конфликт под Карабулакской, хотя и трудно сказать, надолго ли.
Ной был оживлён, весел, но сильно кашлял. А дождь, как назло, всё лил и лил.
Во Владикавказе путников ждала неприятная новость. Дикая дивизия, которую после провала корниловского мятежа отвели от Петрограда, получила приказ грузиться в вагоны и отправиться на Терек.
Над Владикавказом клубились тучи. Хребта не видно было совсем. У лавок стояли очереди. Начиналось и здесь то же, что происходило во всей бывшей империи.
Глава десятая. Штурм вершины
1
О октябре ветры и дожди захлестали ещё сильнее. И всё беспокойнее становилось на Тереке.
По утрам Киров по-прежнему ходил в свою редакцию. Работу в «Тереке» он не оставлял, как ни был занят.
Уже недалеко от углового дома, где помещалась редакция, встретился Сергею Мироновичу человек, одетый не совсем обычно даже для Владикавказа, где можно всякое увидеть.
То был один из офицеров Дикой дивизии, полковник О’Рем.
Дикая дивизия уже квартировала на Тереке.
Во Владикавказе и в казармах за городом стояли осетинские эскадроны. Недалеко от Грозного разместились конники-чеченцы. А возле старой полуразрушенной крепости Назрань лихо гарцевали на продолжающихся учениях джигиты из Ингушского полка.
О’Рем командовал Чеченским полком.
Родом англичанин, он бог весть как очутился на русской службе, и именно в Дикой дивизии. До того, как попасть в Россию, он служил в английских колониальных войсках где-то в Африке. О’Рем и выглядел, как колониальный офицер: щегольской френч из хаки с большими нагрудными карманами, на ногах жёлтые краги, в руке стек.
Киров был знаком с О’Ремом. Тот неплохо говорил по-русски и охотно вступал в беседу с известным на Тереке журналистом. Англичанин знал, что Киров по-прежнему связан с газетой, и нередко сообщал ему интересные новости.
— На минутку, господин журналист! — остановил он Кирова. — Вам будет полезно знать одну вещь.
В руке О’Рем держал вместо стека короткую казачью нагайку. Он помахал ею в воздухе.
— Вот единственная надежда, которая осталась у вашего командования, — сказал О’Рем с усмешкой, — и вообще у вашей власти. Свобода не есть порядок. В России свобода — это беспорядок. И очень нужна нагайка!
Ему было известно, что Киров большевик и ничего общего не имеет ни с военным командованием на Тереке, ни с правительством Керенского, и тем не менее говорил «ваше командование», «ваше правительство» и так далее.
— Бегут и бегут из моего полка! В ближайшем времени я буду командир без армии, — жаловался О’Рем.
Он рассказал, что от Дикой дивизии скоро останется одно упоминание. Самыми многочисленными были осетинские полки, но и те порастаяли. Бойцы не хотят больше служить и самовольно разъезжаются по домам.
Киров с наивным видом пожимал плечами.
— Любовь к дому, господин О’Рем. Вас разве не тянет к себе на родину? Что вам тут делать?
— Англия — страна империальная, — отвечал
О’Рем, — и её люди привыкли .служить везде. И Россия тоже страна империальная, и поэтому вы здесь.
— Я? — смеялся Киров, — Я бежал на Терек от преследований царской власти. И, кроме того, есть большая разница между мной и вами.
— Какая?
— Я русский, помогаю раскрепощению Терека как бывшей царской колонии. Вы англичанин, помогаете сохранению её колониального угнетения. И вот факт — в руках у вас мерзкая нагайка.
Англичанин расхохотался:
— А вы отличный полемист! Недаром про Еас говорят, что вы мастер агитации. Значит, вы хотите, чтоб я убирался домой?
— Этак было бы лучше.
— Могу вам сообщить, что к тому идёт. Вам будет интересно узнать кое-что. Имею новость.
Новость была такая. На днях О’Рем уезжает в Петроград на переговоры о новом назначении. Со службой в Дикой дивизии покончено. Если подходящей службы не найдётся, О’Рем скажет России «гуд бай».
— Я боюсь, что вслед за Российской империей погибнет и вторая величайшая империя мира — моя Британия, — признался О’Рем. — Есть такая русская поговорка про начало...
— «Лиха беда начало», — подсказал Киров.
— Вот именно! Я очень боюсь этого.
— Историю не остановишь, господин О’Рем. Империи осуждены. Они, как ваша Дикая дивизия, разбегутся и распадутся. Перед вами прекрасный пример.
— Что же, по-вашему, придёт на смену империям? — спросил англичанин.
— Возникнут новые государственные образования, конечно. Только основаны они будут не на насилии и ограблении одних народов другими народами, а на таких принципах, за которые боремся мы, революционеры.
— Ха-ха! — произнёс скептически О’Рем.
— Вы не верите в это?
— Нет. Вся история свидетельствует против этого. На гуманности сильного единого государства из многих наций не построите.
— Построим!
— Я посмотрю. Это будет очень интересно.
Он вежливо потешался, англичанин.
Сергей Миронович нахмурился и прекратил разговор. Англичанин, прощаясь, пытался вновь вернуться к спору.
— Но, но! Англия — не забывайте этого — не Россия! Мы не дадим нашей империи лопнуть!
— А что вы сделаете?
Вместо ответа О’Рем потряс нагайкой.
— Посмотрим, посмотрим, — усмехнулся Сергей Миронович. — Вот это и мне будет очень интересно! Я думаю, нагайка вам не поможет!..
— Революция погубит Россию! — крикнул англичанин вдогонку Кирову, уже зашагавшему прочь.
— Она спасёт её! — обернувшись на ходу, отозвался Сергей Миронович. — И вы это скоро увидите!
2
В один из этих дней по улицам Грозного шла громадная толпа рабочих.
Она двигалась со стороны горящих нефтепромыслов. В колонне кое-кто нёс красные знамёна. Мужчины в рабочих блузах и пиджаках, женщины — многие с детьми на руках — плохо одетые. Шли не шеренгами, а как придётся, прямо по лужам и грязи.
Из толпы кричали:
— Оружия! Оружия!
В голове колонны шла молодая женщина в изорванном длинном платье. Она несла на руках шестилетнюю девочку. Страшно было смотреть не на полуобезумев-шую женщину, а на её ребёнка: руки, лицо, обнажённое худенькое тельце покрыты пятнами. Розоватые, с тёмными точечками волдыри. Это от ожогов. И видно, что ребёнок уже не в силах кричать от боли и только слабо и хрипло пищит. Потеряла голос и мать, но откуда-то в ней вдруг опять брались силы, и из её горла вылетал нечеловеческий, всё заглушающий вопль:
— Оружия-а-а-а!
На перекрёстке шествие притормозилось: дорогу пересекал конный казачий отряд. Во главе ехал пожилой чернявый есаул в барашковой папахе и белой черкеске. Он крикнул с коня:
— Эх, товарищи-братья! Доколе же будем это терпеть? Невозможно больше!
Одна старуха выбежала из колонны, запричитала, бухнулась на колени.
— Голубчик ты наш, батюшка! Как же можно вам мимо нашего горя проезжать! Ну помогли бы хоть как-нибудь!
Есаул повернул коня, подъехал к ней.
— Мы завсегда готовы, а вы чёрт знает что! — сердито начал он отчитывать старуху. — Как вам помочь, ежели к большевикам больше тянетесь, чем к нам! Сейчас куда путь держите?
— К Совету идём жалиться, голубчик.
— А что вам Совет? Он же с азиатами заодно! Эх, дураки, дураки!
Он стеганул лошадь нагайкой и поскакал за отрядом, успевшим повернуть за угол.
Вчера на промыслах случилась беда: опять вспыхнул большой пожар. Неизвестные злоумышленники бросают в нефтяные резервуары горящие факелы, поджигают жилища, лавки, конторы. Уйдёшь на заре на работу и не знаешь, найдёшь ли в целости дом и пожитки, когда вернёшься к вечеру домой. Так уж со многими случилось. Было так и вчера.
Пламя занялось в одном из дощатых рабочих бараков, когда там оставались одни старухи и дети. Остановить огонь не удалось, и вскоре густые клубы чёрного дыма окутали посёлок. Кто мог, бросал работу, спешил на помощь. Но огонь так быстро распространялся, что помощь запаздывала, и обгорелых детей уже ничто не могло спасти.
Керосиновый город! Казалось, всё тут пропитано бензинными парами. Поднеси спичку — и пойдёт прыгать огненный вихрь.
Когда толпа подошла к дому, где помещался Грозненский Совет рабочих и солдатских депутатов, там уже стояли наготове санитарные фургоны, и возле одного из них можно было увидеть Лену с повязкой красного креста на рукаве. В Совете знали всё и приготовились оказать людям помощь.
Может быть, потому, что люди уже накричались по дороге, толпа как-то сразу притихла. Казалось, людям вдруг стало всё равно. Разбились на десятки групп, расползлись по мостовой и тротуарам.
— Что дальше будет? — говорили между собою люди. — Погибнем тут все.
— Совсем житья не стало в Грозном.
— А куда денешься? Везде пожар...
— Чермоеву бы такое житьё!
— О! Ему что сделается? Он теперь под защитой. Целый полк ему подбросили.
Иные возражали:
— Полк-то полк, только не все в полку готовы для него жар загребать. Люди фронт повидали, хлебнули лиха и не так уж стоят за буржуя, хоть он им свой!
Речь шла о Чеченском полке.
На площади перед Советом уже появились две продовольственные повозки. Девушки в красных косынках раздавали голодным ломти кукурузных лепёшек. Лена вела к санитарному фургону женщину с обгоревшим ребёнком. Та упиралась й всё кричала об оружии. И люди, глядя на неё, тяжело вздыхали.
— Ну что глазеть? Помогли бы! — негодующе сверкнула тёмными глазами Лена. — Ох, народ!
Несчастную мать уговорили сесть в фургон. Лена взяла у неё ребёнка, примостилась рядом и приказала вознице скорее гнать лошадь к госпиталю.
Тем временем на балконе появился Анисимов. Именно его в Совете попросили выступить перед раздражённой толпой рабочих.
Ни одного дня отдыха не знал Николай с той минуты, когда вернулся на Терек. Его лицо стало ещё более сосредоточенным, хмурым, меж бровей легла глубокая складка.
Что же сказать людям, стоящим внизу у балкона? Море голов.
Как всегда перед началом речи, Николай ощутил толчок в сердце.
— Товарищи! — зазвучал над толпой его голос, — Не скрою от вас, мы ещё только в самом начале событий! Революция идёт своей трудной дорогой, и ничто её не остановит. Ни пожары, ни кровь!
Тццшна сковала толпу. Многие стояли и думали: этот молодой человек, не задумываясь, отдаст за них свою жизнь. Но есть ли у него средства помочь их беде? Конечно, умница, образованный человек, но что он сделает, если с каждым днём на Тереке усиливаются раздоры? Есть ли такой мудрец, который смог бы уверенно сказать: я знаю, как защитить край!
— Вы пришли сюда требовать оружия, и мы постараемся его дать вам, но одно надо помнить, товарищи! Рабочий класс Грозного должен не только о себе думать, а о судьбе революции на всём Тереке. Поэтому ни в коем случае не поддавайтесь на провокации. А вас именно провоцируют этими поджогами, хотят натравить на горцев, на Чечню! А загнанная в горы чеченская беднота ведь ждёт помощи и руководства от вас, товарищи рабочие!
Речь с балкона звучала недолго.
Из Совета вынесли два столика, за один из них сел Анисимов, за другой — Носов. Началась запись в рабочую милицию. Перед столами выстроились очереди хмурых мужчин.
— Винтовку дадут? — спрашивали рабочие.
— Постараемся достать.
— Как так — достать? Где же всё оружие?
— Не знаешь где? У буржуазии. В Питере Керенский даёт рабочим вооружаться?
— Везде, значит, один чёрт! Ладно, записывай. Оружие надо достать, кровь из носу...
Обожженую девочку спасти не удалось, неделю промучилась и умерла. Хоронили её с духовым оркестром, и за маленьким гробом шло немало вооружённых рабочих.
В эти дни Киров снова побывал в Грозном, виделся с Анисимовым. Тот проклинал О’Рема, уверял, что поджоги нефтепромыслов происходят не без участия англичанина.
— Да ведь он уехал!
— Какое там! Торчит здесь. Живёт у Чермоева. Первый его помощник, будь он проклят!
Вечером, после похорон девочки, в кирке собрались грозненские большевики. Киров рассказал о положении в стране и на Тереке.
Когда он сообщил, что во Владикавказе большевики уже оформились в самостоятельную организацию, все бурно захлопали.
— Давно пора! К чёрту меньшевиков и эсеров!
Хлопали Кирову и тогда, когда он сообщил, что доктор Орахелашвили недавно избран председателем Владикавказского Совета. Сейчас он отбыл в Тифлис на съезд большевистских организаций Кавказа.
И ещё одна новость была у Кирова.
Во Владикавказ пришла телеграмма из Петрограда от Выборгского Совета.
— Выборжцы просят нас поддержать требование питерских рабочих о скорейшем созыве Второго съезда Советов всей страны. Надо же поддержать наших питерских товарищей, правда? Это же наш боевой авангард! Согласны грозненцы поддержать?
Опять аплодировали...
— А кого пошлёте на съезд, товарищи?
— Анисимова! Анисимова! — раздались голоса.
Сима была в зале, старалась улыбаться, а Киров, глядя на неё, думал, как, наверно, ей должно быть страшно оставаться в Грозном, когда уезжает её Николай!..
3
Ночь... Вагон качает... За окнами черно. Пролетают мимо телеграфные столбы, огоньки станций. Сколько уже промелькнуло таких столбов и огней! Как велика Россия, господи!
В душном, прокуренном купе на одной полке лежит Анисимов, на другой — Киров. Оба снова едут в Петроград, они делегаты, посланы на очередной съезд Советов. Вся Россия соберётся там. И будет решать, как жить дальше бывшей империи.
— О господи! — вздыхает во сне за стенкой какая-то пожилая дама.
Её вздохи осточертели, не дают уснуть.
— Я её сейчас убью! — ворчит Николай и просит Кирова; — Расскажи что-нибудь.
В зубах у Сергея Мироновича его любимая трубочка. Он застелил полку шинелью, растянулся, заложил руки за голову (там у него вещевой мешок) и считает, что удобно устроился. У Николая под головой тоже вещевой мешок, но что-то там, в мешке, твёрдое мешает, и грозненец каждую минуту меняет положение.
— Что же тебе рассказать? — спрашивает Киров, — Историю с корниловским заговором ты знаешь. Про то, как мы пытались остановить дивизию, тоже знаешь. Я рассказывал у вас на собрании...
— Да нет, — морщится Николай, — я не про это. Что-нибудь давнее, интересное!
Киров задумчиво смотрел в потолок.
— Нашего Ноя ты ведь хорошо знаешь, — задумчиво цедит слова вместе с дымом Сергей Миронович. — Вот удивительный человек! Был присуждён к смертной казни, носил кандалы, тайно удирал за границу. А со мной, увы, ничего такого не было! Через горный перевал я не переходил, чтобы спастись от полиции, на каторге не бывал, в кандалы меня не заковывали, как Ноя. Нет, поверь, честное слово, в моей жизни ещё почти не было сильных потрясений. Ни одной драматической истории я за собой не знаю. В Томске в девятьсот пятом году я однажды забрался в мертвецкую и спас красное знамя, спрятанное на груди убитого на демонстрации друга. Этот случай кажется мне самым памятным из всех переживаний молодости.
— Но я знаю, ты сумел великолепнейшим образом одурачить прокуратуру и суд! — возражает Анисимов. — . Чистая работа!
— Дела давно минувших дней, — зевнул Киров. — . Давай лучше послушаем, о чём народ говорит.
Несмотря на поздний час, говор и споры среди пассажиров не затихают.
— Я что говорю, братцы, — волнуется в последнем купе белобрысый солдатик в сдвинутой набок окопной матерчатой папахе. — Я говорю: довольно России гибнуть и кровь проливать! Надо и нам трошки счастья, только не от господина Керенского его достанешь!
— А от генерала Корнилова тем паче! — гудит с верхней полки какой-то мужчина в сером брезентовом плаще.
Хохочут, слыша этот разговор, в соседних купе.
— Ты француза Клемансо попроси, он тебе заём даст.
— Или у Терещенко. Он, во-первых, министр, во-вторых, богатый сахарозаводчик, а в-третьих, свой всё-таки, русский.
Разговор кажется непринуждённым, хохот прокатывается по вагону часто, но заметно — самые глубинные чувства задеты в каждом, и уже не поражает, что даже самый простой с виду пассажир знает, кто такой Клемансо, кто Корнилов и кто Терещенко, а о Керенском, председателе Временного правительства, все знают даже то, что, начав речь, он может без запинки говорить хоть четыре часа подряд.
«Текущий момент» (эти два слова тоже всем знакомы с первых дней революции) тревожит, не даёт покоя людям даже ночью.
— О господи! — стонет во сне седая дама, — Что будет?
И, как всюду, по всей Россиюшке, слышишь и здесь, в вагоне, знакомые слова: «Большевики»... «Меньшевики»... «Эсеры»... «Временное правительство»... «Разруха»... «Развал армии»... И особенно часто: «Куда же мы идём?»
Решается то, что на многие годы, может и на века, определит судьбу всей России. Кому же верить? За кем идти? Никогда эти вопросы не стояли так остро перед многомиллионным народом, сколоченным из десятков наций, народностей и племён. Казалось, Россия вся — огромный гигантский Терек. И везде стычки, вражда, кровь.
— О господи!..
Опять эта дама. Как осточертели её вздохи!
А в последнем купе молодой солдатик в окопной папахе всё волнуется за Россию.
Он с виду ещё юнец, но уже носит на груди георгиевский крест и рассуждает совсем как взрослый. Всё беспокоится об империи, о том, что без Украины и Кавказа русское государство совсем захиреет. А ежели отделятся ещё Финляндия, Прибалтика и Польша, то это будет совсем беда.
— Вишь ты какой политик! — смеётся кто-то там в купе над солдатиком, — А тебе сколько лет-то? И откуда у тебя георгий?
— Я добровольцем пошёл.
— Молодец! Сколько же тебе было лет?
— Шестнадцать.
— И всю юность, значит, на войне провёл? Эх, вот бы чего я бывшему царю не простил! Ну, мы, взрослые, ещё туда-сюда, обязаны, а ты ж ещё и сейчас юнец. Что твои годы? Начало жизни!
— Ладно, — машет рукой солдатик; ему неинтересны эти рассуждения, его влечёт политика и больше всего — начатый разговор о развале России, о её взбунтовавшихся окраинах, — Во, да ещё мы, как его, Туркестан забыли! — спохватывается солдатик. — Вся Азия там! Тоже хотят отделиться. Неужели мы всем так насолили?
— Не мы, — басит с верхней полки пассажир в папахе, — а царские прислужники. С этих инородцев семь шкур драли! Вот и обозлили их.
— Ас нас не драли, товарищ дорогой?..
Мало-помалу в вагоне голоса затихают. Слышен только стук колёс да храп спящих.
— Не пора ли и нам подремать чуточку? — говорит Киров своему спутнику, — Завтра к вечеру на месте будем, там не отдохнёшь.
Но долго оба не засыпают. Всё думают.
— Николай! Не спишь ещё?
— Нет. Что-то не спится...
— Как ты думаешь, что означают эти разговоры?
— Какие?
— А те, которые мы сейчас слышали. Это означает, по-моему, что Россия наша идёт напролом к социалистической революции.
Николай молча кивает. Так и ему кажется. Он закрывает глаза, и становится особенно заметно, как они глубоко запали.
Вдруг он приподнимает голову. Его лицо преобразилось, в глазах светится улыбка.
— Слушай, Сергей, — тормошит он Кирова, успевшего задремать, — а красивая будет жизнь, чёрт подери, а? Что станут делать тогда такие, как Халиев?
Это он о своём тесте.
Не услышав ответа, Николай продолжает:
— Халиев потеряет, конечно, все свои чины и привилегии, и лошадей, и дом... Ты что молчишь, Сергей? Верно я говорю? Ха!
Киров открыл глаза, лишь когда услышал последнее восклицание. Николай был неузнаваем! Он ликовал, а в глазах стоял угрюмый блеск.
— Знаешь, — сказал он, странно морща лицо в улыбке, — я заранее представляю себе этот момент: обе те кровати... Ты их помнишь? Те самые, которые у меня на квартире стоят... Обе эти кровати я в один прекрасный день беру и выбрасываю вон! Слушай, кроме шуток, мне кажется, это будет самый счастливый день в моей жизни!..
4
Стояли холодные, пасмурные дни, острый северный ветер обжигал лицо, рвал с заборов плакаты.
...Именно в эти дни в Петрограде волей рабочих, солдат и матросов окончательно уничтожалась одна из свирепейших империй мира и рождалось новое государство, которое ещё предстояло с оружием в руках, в боях и в муках отстоять и утвердить.
Ни Киров, ни Анисимов, когда были летом в Петрограде, не видели Ленина. Теперь они надеялись увидеть его. И увидели.
Это произошло в Смольном дворце в памятную октябрьскую ночь.
Перед тем было несколько сумасшедших дней. Тех, кто приехал на съезд, прямо с вокзала направляли в Смольный. И тут они попадали в бешеный людской водоворот. Многоголосый говор, топот сапог, смех, телефонные звонки, стук ружейных прикладов, звяканье солдатских котелков — всё сливалось в сплошной гул.
— Вы делегат?
— Да.
— Идите вон в тот коридор. Там комната, где заполняют анкеты, Быстрее, быстрее! Время, знаешь, какое?
А время и в самом деле такое, какое бывает, наверно, раз в тысячу лет. И люди это чувствуют и спешат, рвутся не отстать от убыстряющегося течения событий. Огромный дворец гудит, как мотор невиданной силы.
Все города, все уголки России собрались под эту крышу и судят, рядят.
— Голубчик ты мой! Чего от Учредительного собрания ждать? Всем тем господам, которые на него надеются, только новый царь и снится. Да не просто царь, вроде свергнутого Николая Второго, а такой, каким был в своё время Наполеон, сильный диктатор и завоеватель.
— Про Наполеона я знаю, брат. Я книжки почитываю...
Знакомятся быстро, на ходу.
Человек в рабочем картузе ждёт, пока Киров достанет свой мандат из кармана шинели.
— А вы откуда?
— С Северного Кавказа.
— Это где казаки?
— Там не только казаки...
— Понятно... Как это в стихах сказано: «У Казбека с Шат-горою был великий спор»... Я по хрестоматии помню!
А мотор гудит, его обороты всё убыстряются. Будто одно огромное сердце стучит! Нет дня, и нет ночи... Народу в Смольном становится всё больше. И необычный вид принимают улицы Петрограда. Почти не встретишь на Невском тех, кого относят к так называемой «чистой публике», зато как уверенно чувствуют себя те, кого газеты относят к «солдатне» и «матросне»! В толпе снуют и обыватели.
— Что это будет, братцы, восстание? Переворот?
— Нет, брат, это революция! Окончательная!
— И кто же станет государством править?
— Кто? Народ!
— Что народ, господи! Народ не правит. Им правят. От века так! Всегда и везде! Во все эпохи!
— А мы перевернём эпоху!.. Всё перевернём!..
В гостиницу Киров и Анисимов приходили иногда поздно ночью, иногда вдруг днём, чтобы хоть часок полежать, прийти в себя, дать отдохнуть голове и ногам. Ещё в первый день приезда оба явились в ЦК, и тут им тотчас нашли работу: поездка в армейские части, выступления на заводах и фабриках.
Как-то в минуту передышки Анисимов сказал Кирову:
— Слушай, Сергей! Мы ведь с тобой так и не успели умыться с дороги. А скоро уже открывается съезд. Давай в баньку сходим, а?
— Да где её сейчас найдёшь?
— Поищем. Вдруг одна где-то работает.
Баньку нашли, как следует попарились. Так легко и хорошо стало, будто новые силы влились.
В Смольный после баньки не шли, а бежали, — ведь потеряли час, надо его наверстать, в Смольном ждут новые поручения, а там, кстати, и перекусить можно.
— Слушай, перед твоими глазами не стоят черепичные крыши и пирамидальные тополя нашего Терека? — спрашивал у Кирова Анисимов, — Как там у нас? Что делается?
— Я Эльбрус всё вижу перед собой, — ответил Киров. — И ощущение такое, будто всё вокруг нас движется к вершине. И мы с тобой — туда же...
Они шли быстро, издали уже виден был пятиглавый купол Смольного монастыря, построенного знаменитым Растрелли. Там рядом и дворец — творение Кваренги. Низкое серое небо висело над Петроградом, и свистел ледяной ветер.
Киров говорил:
— Удивительно, до чего совпадает даже эта погода с ощущением подъёма на вершину. Воздух разрежён, он обжигает холодом, как этот ветер. Природа становится всё более суровой. Склон кажется всё более крутым и неприступным, а ты идёшь, идёшь, и у тебя одна цель — вершина!..
Тщетно пыталось Временное правительство Керенского стянуть к Петрограду верные ему войска.
Ничто не поможет тому, что осуждено.
И то, что произошло в следующие дни, в самом деле было похоже на штурм вершины. Как при крутом подъёме на высоту, обжигал холод и вихрил ветер, и казалось, вверх, к вершине, двинулась вся Россия и нет удержу этому неисчислимому людскому потоку.
Это ощущение усилилось, когда в мглистое утро на улицах Петрограда появилось воззвание «К гражданам России...».
Дух захватывало от коротких строк: «Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено».
В тот же день Киров и Анисимов увидели Ленина. За стенами Смольного ещё бурлило восстание. Временное правительство под охраной юнкеров ещё заседало в Зимнем дворце. Близился час штурма последнего оплота временщиков, вокруг Зимнего скапливались отряды восставших.
Съезд Советов должен был открыться вечером, а днём собрался Петроградский Совет. По коридорам дворца пронёсся слух: выступит Ленин.
— Серьёзно? А он уже здесь разве?
— Со вчерашнего вечера здесь!
— О! Надо послушать! Бежим!..
Где-то в переполненном зале среди густо заполнившей ряды массы штатских и военных людей стояли и оба наших терца. Невысокого роста штатский человек с рыжеватой бородкой и большой лысиной юворил с трибуны, чуть картавя и время от времени помогая себе энергичными жестами рук.
В зале сидели и стояли люди, прошедшие фронты, каторгу, тюрьмы, эмиграцию; люди, знавшие по нескольку иностранных языков, вобравшие в себя всё лучшее из тысяч книг. И тут же, рядом, были люди, едва знавшие грамоту, а иные могли бы расписаться лишь крестиком.
Но и тех и других потрясали слова человека с трибуны. Забывался его штатский вид, исчезали из глаз пиджачок, галстук, лысина, пропадала картавость, и возникало чувство гордости за могучую силу человеческого духа и дерзания.
Казалось, он, человек этот, первым идёт к вершине, показывая дорогу.
Во Владикавказе никто вначале не поверил слухам о вооружённом восстании в Петрограде. Телеграф каждый день передавал «Всем, всем, всем» головокружительные декреты и декларации новой власти.
...Ночь. Ной и доктор на телеграфе. Усталые, измученные, но счастливые. Они только что связывались с Петроградом. Вызывали Смольный. Добиться разговора с Кировым не удалось. Да и мыслимо ли сейчас найти и вызвать к аппарату одного из многих сотен делегатов II съезда Советов! Какой-то человек из аппаратной Смольного ответил Ною:
— У нас тут по коридорам ходит тысяча таких, как ваш Киров! А во всём Питере их, может, триста тысяч, как не более! Иголку в стоге сена легче сыскать. Что вы!
Час назад в Петроград ушла телеграмма. Сообщалось, что Владикавказский Совет «шлёт привет поднявшим знамя восстания»...
Над взвихрённой Россией посвистывали злые ноябрьские ветры, когда Киров и Анисимов вернулись на Терек.
Полный удивительных впечатлений о событиях в революционной столице, о встречах с организаторами Октябрьского восстания, с Лениным, Сергей Миронович в первый же день приезда во Владикавказ выступил перед большим собранием. Тут были не только его товарищи по борьбе, по партии, в зале были разные люди.
— Не надо этого! — истерически кричал кто-то из публики Кирову, — Нас всех перебьют! Большевики не удержат власть, и тем дело кончится! Куда нам против таких сил, какие есть у контрреволюции!
— Но вы же слышали, что рассказывал нам здесь товарищ Киров! — крикнул из президиума Ной. — Вся Россия за нас!
В президиум сыпались записки.
Одна пришла от Тамары Резаковой:
«В редакцию за последние дни уже раза два приходил и спрашивал Вас старый ингуш Джабраил. Хочет поговорить с Вами. По его словам, Вы обещали ему осуществить какой-то «большой-большой план», чуть ли не «сдвинуть Эльбрус с Казбеком». Сейчас он опять приехал и ждёт Вас у подъезда. В зал войти не хочет».
После доклада Сергей Миронович выбежал к подъезду. Три лошади были привязаны к фонарному столбу и понуро жевали из торб, подвешенных к мордам. Старый Джабраил и два его спутника сидели на ступеньках и тоже что-то ели.
Встреча была радостной, шумной.
— Слушай, Кира, — сказал Джабраил с волнением, не выпуская руки Сергея Мироновича из своих тёмных узловатых рук. — Ты ехал, я ехал, опять ты ехал, да? Время большое прошло, время большое пришло. План надо делать. Горы ждут.
Он напоминал о плане, который Сергей Миронович развивал перед горцами летом у себя на квартире.
— Твой план, Кира, все горы знают! Я это сделал. Я всем говорил. Из аула в аул ехал и всем говорил. Вверх ходи в горы — каждый горец скажет: «Карош план!» Вниз ходи — тоже скажет: «Карош план!» Туда, сюда ходи, везде — карош, карош! Очень!..
Улица была пустынна, сеялся дождь. С бурки Джабраила, с его косматой бараньей шапки и бороды стекали капли. Внимательно прислушивались к разговору провожатые Джабраила, стоя в почтительном отдалении. Кирову подумалось: ведь это всё удивительно, всё, всё — и то, что он пережил в Петрограде, и то, что он застал здесь, и удивителен этот разговор со стариком. Он хочет, в сущности, чтобы на Тереке и в его родном ауле сразу осуществились возвещённые Октябрём великие преобразования. О, славный Джабраил, ты хочешь света, солнца, мира, человеческих условий существования! Ты ездишь из аула в аул! Значит, не для себя только ты этого хочешь. Ты большевик, Джабраил, чего сам ещё не сознаёшь.
— Собирай большевик всей Терек! Скорей собирай! Большой дом найди! Самый большой на Терек. Всех собери! Всех, всех! Я приду, ты придёшь, народ придёт, И сделаем... как ты сказал тогда? «Съезд». О! «Съезд»!.. «Съезд»!
Нельзя давать народу неосторожные обещания. Сергей Миронович слушал старика и спрашивал себя мысленно: было ли то обещание таким? Нет же: Октябрь в стране начался, он дойдёт и до Терека. Это неудержимо, как лавина. Только потерпи ещё немного, Джабраил, придёт свет и в твой аул!
Сергей Миронович вернулся в зал и попросил Тамару проводить к нему домой старика и его спутников, а заодно помочь больной Марии устроить гостей.
Марии нездоровилось уже давно.
— К вам сегодня многие собираются, — сказала Тамара, — Ещё днём мы сговаривались. В этом зале мы не одни... А Марии Львовне поможем, не беспокойтесь. Кстати: стоило вам приехать, как ей сразу стало лучше!
— Поспеши, Тамара, там ждут внизу.
— Иду, иду...
Через несколько минут Тамара вдруг вернулась в зал, поднялась к столу президиума и сообщила Кирову:
— Не желают к вам. Отказываются наотрез!
— Почему? — удивлённо поднял он брови.
— Старик сказал, что не хочет вас стеснять. Я прямо силой его тащу, не идёт.
— Что же делать?
Тамара отбросила назад длинную прядь волос, упавшую на записки, лежащие перед Сергеем Мироновичем. Опять он увидел перед собой улицу, мокрую и бесприютную от дождя, горцев и лошадей у подъезда.
— Старик очень извиняется перед вами, — улыбнулась Тамара. Она стояла, нагнувшись к его лицу и ожидая, что он решит.
Время ли сейчас заниматься Джабраилом? Груда записок лежала на столе — острых, злых, насмешливых. О, было немало и дружеских, проникнутых горячим сочувствием, но тоже жаждущих ответа: как, когда, что будет дальше?
— Извиняется? — не понял Сергей Миронович. — А что случилось?
— Он знает, что Мария ваша болела, был у вас на днях, а сейчас при встрече с вами, говорит, так разволновался, что забыл спросить о её здоровье. Вот он и переживает, что забыл. Первый раз, говорит, в жизни с ним случается.
Казалось, какое значение может иметь сейчас этот акт обычной горской вежливости? На Кавказе до делового разговора принято спросить: «Как жена, дети?» А Кирова тронуло. Он посмотрел в переполненный зал и подумал: несмотря ни на что, тот план будет осуществлён. Обещания бывают несбыточными, если народ их не хочет. Ничего тогда не сделаешь, сколько ни бейся. Но когда народ хочет, всё свершается, как в самой волшебной сказке.
— В редакции у нас стоят койки, — вспомнила Тамара. — На ночь я бы ваших горцев там устроила. А завтра увидим.
— Ладно, — кивнул он и пошёл к трибуне отвечать на записки.
5
...Ещё ночь. Киров делает второй доклад о событиях в Петрограде. У него на квартире собрались члены владикавказского большевистского комитета. Снова он рассказывает о своей поездке... День за днём... Но здесь никто уже ему не мешает, не бросает в лицо злых реплик.
За окнами — глухая ноябрьская мгла, свист ветра, пьяные выкрики какой-то запоздалой компании гуляк. Гулко цокают по мостовой лошадиные копыта — идёт непонятное передвижение казачьей части, затеянное почему-то среди ночи.
— Питер выстоит! — говорит Киров. — В этом нет сомнений. Я имею в виду пролетарский Питер, рабоче-крестьянский, Питер отважных и решительных солдат и матросов, готовых на всё и полностью контролирующих положение в столице новой России...
Цокают, цокают по мостовой копыта. У спущенной занавески стоят Ной и Мария. Оба тихо спорят. Мария не даёт ему распахнуть створки окна — снизу, из темноты улицы, могут выстрелить. А Ною хочется посмотреть, что за отряд там проезжает. Ясно, что казаки. На Тереке другой кавалерии нет. Но откуда часть? Едут и едут... Будто кто-то нарочно проложил их маршрут именно по этой улице. Ко второму окну, обеспокоенный шумом на улице, подходит Серобабов,
— Не надо! — бросается и к нему Мария. — Голубчик!
— Что такое?
Сергей Миронович обрывает рассказ, хмурится. Все повернули головы к окнам. Мария растеряна, её лицо краснеет.
— Могут выстрелить, — едва слышно выговаривает она. — В окно Ноя уже стреляли раз. — И, виновато глядя на Сергея Мироновича, она добавляет: — Тебя не было ещё тут, это случилось дня три назад...
Ной кивком подтверждает:
— Было... Я пришёл из Совета и только собирался лечь, вдруг — бах!
— Отойдите, отойдите от окна, товарищи! — присоединяется Киров к просьбе жены.
Собрались тут, у них на квартире, для того чтобы решить, как быть дальше. Как повести себя среди таких гигантских потрясений и всё ухудшающегося положения на Тереке? Горит весь юг России, весь казачий край, а Терек — в тылу его.
— Остаётся одно, — говорит Киров притихшему собранию, — упорной борьбой готовиться к переходу власти в руки Советов и у нас. И главное звено тут, товарищи, съезд народов Терека. Давайте начнём его готовить.
— Единственный путь, — подхватывает Ной.
За окнами утихло, казаки проехали.
Марии кажется, что в квартире душно. Народу немало, и не мешало бы немного приоткрыть окно. Но не успевает она тронуть занавески, как с улицы доносится звук револьверного выстрела. Ещё выстрел. Стреляют где-то близко.
— Лёгок чёрт на помине! — ворчит Серобабов и лезет в карман за оружием.
Это движение повторяют многие. Револьверы почти у всех. Прошли времена, когда по улицам Владикавказа можно было ходить без опаски.
Орахелашвили, как врач, считает своим долгом спуститься вниз, на улицу: может, кому-нибудь нужна его помощь. Совещание прерывается, и все спешат к двери.
У, Кирова наган. Надёжный, семизарядный, с ним Сергей Миронович не расставался в течение всей поездки. До поездки он обычно оружия при себе не носил. Там, в Питере, понадобилось.
Видимо, и тут понадобится. На лестнице Киров достаёт из кармана револьвер и вместе с другими товарищами выходит на улицу. Ной тоже вооружён — у него лёгкий, удобный для ношения в кармане дамский «пиппер». И хотя по сугубо интеллигентному виду Ноя никто не заподозрит этого человека в воинственности, он необычайно смел, горяч и хорошо владеет оружием.
Темно, хоть глаз выколи. И свистит, беснуется ветер, неся холод и дождевые тучи с севера. Кто тут стрелял?
— Давайте пройдём немного вперёд, до того угла, — предлагает Ной.
Серобабов держится возле Кирова. Железнодорожник добровольно взял на себя его охрану. Не отступает ни на шаг. Сергей Миронович советует ему:
— Держись лучше возле Ноя. Сделай одолжение, друг!..
Дошли до угла. Что-то там у дерева, между тротуаром и мостовой, темнеет. Слышны возбуждённые голоса, лошадиный храп. Ной ринулся туда стремительно, никто не успел его удержать. И вот уже слышен его удивлённый голос:
— Это вы? Вы? В такую ночь!..
Ему отвечал грудной женский голос. Киров узнал: это Лена! Лена из Грозного! Сергей Миронович очутился возле неё почти одновременно с Ноем. Увидел извозчичью пролётку, мокрые, чуть поблёскивающие в темноте спины двух лошадей. У пролётки стояла Лена и перевязывала чем-то белым руку извозчика. Тот ругался, стонал.
— Бандюги проклятые! Ой, полегче, голубка! Черти, чтоб им! В людей пулять моду взяли! Ни за что ни про что! По городу не проедешь!
Киров обрадовался Лене. Наверно, в Грозном новости. Но что произошло здесь? Лена рассказала:
— От вокзала сюда совсем недалеко, а мы трижды попадали под обстрел. Из-за угла — трах, трах! Бандиты, конечно...
Лена была в шинели, красном платке. Маленькая, хрупкая, не побоялась в такую ночь ехать.
Орахелашвили оттеснил её от извозчика, сам докончил перевязку и вместе с Серобабовым взялся доставить раненого на его же пролётке в ближайшую больницу. Лену Киров повёл к себе.
— Ты почему одна? Анисимов где? С ним, надеюсь, ничего?
— Ничего, ничего, — отвечала приезжая, — У нас другая беда...
На улице она не захотела делиться новостями, и Киров счёл это правильным. Вошли в дом, поднялись наверх. Лене дали прийти в себя, отогрели её стаканом чая.
Потом начался разговор.
— Дорогие мои товарищи, братцы, могу вам сообщить, что у нас тоже худо! — рассказывала Лена. — Та же стрельба, те же поджоги и те. же грабежи. И стычки между горцами и казаками те же.
В этом ещё ничего нового не было. Везде, по всему Тереку, полыхало зарево... Край в огне, в пламени.
— Но хуже всего, — продолжала Лена, — хуже всего вот что: из нашего Грозного хотят вывести сто одиннадцатый полк!
Тут стало понятно, какую страшную новость привезла Лена. Помрачнели все, кто её с напряжением слушал. Раздались возмущённые голоса:
— Ах мерзавцы! Вывести полк! Лишить Грозный такой опоры! Но кто же это требует? Казаки? Горцы?
— Контрреволюция требует, — отвечала Лена. — Разве не ясно, кто? Наши горские и казачьи верхи. Иначе они грозятся спалить Грозный и не оставить ничего, камня на камне!..
— А каково отношение самого полка и грозненцев? — спросил Киров у Лены.
Она сидела в шинели, только платок сняла.
— Как вы думаете, неужели мы отдадим полк? — обидчиво отозвалась приезжая. — Вместе с солдатами будем бороться до конца!..
Расходились из квартиры Кирова уже под утро. Дождь не затихал, всё лил и лил — мелкий, затяжной, беспросветный.
...Два часа сна, не больше, — вот всё, что мог позволить себе Сергей Миронович. В восемь утра он уже был в редакции.
Зато Джабраил и его спутники отлично выспались. Раскладные койки в редакционной комнате уже были убраны Тамарой, направившейся сюда прямо из квартиры Кирова.
Теперь она сидела за своим столом сонная, вялая, голова у неё кружилась. Надо бы прилечь,-всё равно никакая работа не пойдёт, но ведь уже день, в комнате народ, говор, смех.
А Джабраил и его приятели в отличном настроении. Помолились на восток, как положено, пожевали кукурузных лепёшек, которыми были набиты их дорожные вещевые сумки, запили холодной водой и были опять готовы ходить, разговаривать, ехать куда надо. Удивительно живучая сила чувствовалась в каждом их движении.
Как же с «планом»? Джабраил уже называл его «знаменитым».
Разумеется, Джабраил не забыл на этот раз спросить о здоровье Марии. Он даже спросил: «Как дети?», которых у Кирова не было. Всё хорошо, всё хорошо, милый Джабраил, здоровье Марии сегодня утром было почти отличным.
Вышло солнце, брызнуло в окна редакции ярким светом, озарило смуглое морщинистое лицо Джабраила. Как он слушал Кирова, с каким вниманием ловил и вдумывался в русские слова!
«Третий доклад за сутки, — думал про себя Сергей Миронович во время разговора с Джабраилом. — И сколько их ещё будет...»
Из почтительности старик не переспрашивал. Чего не уловил, то пропало.
— Власть в России новая, рабоче-крестьянская, — говорил ингушу Сергей Миронович. — Она приняла законы, каких ещё не бывало нигде. Закон о мире, закон о земле. И эти законы имеют силу для всей страны. Ты понимаешь, Джабраил? Для всей страны! Значит, и для Терека!
— Закон? Земля? Покажи! — потребовал старик.
Киров вынул из ящика стола затрёпанный номер газеты. Эту газету Сергей Миронович хранил как зеницу ока. Он привёз её из Питера.
— Вот здесь опубликован Декрет о земле, — сказал Сергей Миронович, тыча пальцем в первую страницу. — Можешь мне верить, дорогой Джабраил, закон хороший! Я сам участвовал в принятии этого великого декрета.
— Сам? — переспросил старый горец. — Ты? Написал? Напечатал?
— Написал Ленин. Ты слышал о нём?
— Да, да, — закивал Джабраил. — Большой человек. Самый главный человек.
Старик захотел потрогать газету. Он бережно взял её в руки, погладил и передал своим спутникам. Те по очереди подержали газету и вернули старику. Его руки чуть-чуть дрожали.
— Ты сказал — хороший закон?
— Да. Он отдаёт всю землю народу, крестьянам, тем, кто на ней трудится.
— Почитай, — попросил Джабраил.
Горцы пододвинулись к Кирову, сели вокруг, и он прочёл им декрет. И, читая, вспоминал Петроград, Смольный, споры в земельной комиссии Съезда Советов. Киров был членом этой комиссии. В революционной столице тогда стояли вьюжные, хмурые дни. Но как светлы и радостны были лица делегатов съезда, когда новая власть утверждала вот этот закон о земле и другие декреты!
— Вай, какой хороший закон! — восклицал Джабраил. — Скорей надо всем земля! Скорей!
— Довольны, товарищи? — спросил Киров у остальных горцев.
Те тоже одобрили.
— Великое оружие есть теперь в наших руках, — сказал Киров, — Оно поможет и вам получить землю.
— О, алла! — бормотал с закрытыми глазами старый ингуш.
Старый Джабраил уехал к себе в аул довольный. Он подождёт. Столько ждал — можно ещё немного потерпеть.
Он не представлял себе, старый горец, какая нелёгкая борьба ещё предстоит впереди за план Киры.
В то утро, когда горцы уехали, в карауловской казачьей газете было сказано:
«Настал психологический момент, когда разрушительная стихия русской революции, свойственная, впрочем, не только русской, но и всякой другой революции, стала лицом к лицу с конечным выводом, вытекающим из её развития, — с анархией, возведённой в принцип жизни. Ибо большевистское восстание, отметающее все государственные тенденции, провозглашающее диктатуру черни (беднейшего пролетариата и земельных батраков), декретировало анархию, как нормальную форму жизни».
Кончалась статья призывом:
«К тебе, казачество, обращаются теперь с последней надеждой взоры страдающей родины. Скорей организуй свою мощь! Организуй вокруг себя всё оставшееся здоровым в России и выступай против тёмных сил!»
В десятом часу утра Ной прибежал в редакцию к Кирову:
— Читал, что карауловцы сегодня у себя напечатали?
— Читал, читал... Вихри враждебные веют над нами, Ной. Давно веют.
— Но это же прямой призыв ко всем тёмным силам Терека: скорее подымайся против большевиков, против свободы и мира!
— А чего иного можно ожидать от карауловцев, Ной? Борьба есть борьба... «Скорей организуй свою мощь!» — кричат они своим. А мы, Ной, дружище, давай своим крикнем. И ещё посмотрим, чья возьмёт. Знаешь, Ной, Петроград меня многому научил, и прежде всего — вере в народ, в его энергию и разум. Не пропадёт Россия!..
Глава одиннадцатая. Полк уходит
1
Это всё-таки свершилось.
Люто-холодный поздний вечер, конец ноября, как бы не выпал снег. Погода как на душе. Грозный словно вымело злым ветром, почти не видно прохожих, одни только патрули на перекрёстках. Воют в подворотнях собаки, как бы предчувствуя беду. Небо над городом не тёмное, может, это и пугает собак. Зарево со всех сторон подсвечивает багрянцем горизонт. Горит уже который день. И бесполезно тушить — поджог за поджогом.
Вчера сгорел домик, где жили Лена, Всеволод, их дети. К счастью, никто не пострадал. Переселились в
большой пустующий дом бежавшего на Дон купца. Богатые люди начали покидать Грозный ещё в начале осени, когда на Терек приехали первые эшелоны Дикой дивизии. Один Чермоев, видимо, решил держаться до последнего. Дом сбежавшего купца — бок о бок с его домом, такой же громоздкий и мрачный. Люди, которых купец оставил охранять его дом, оказались членами кружка малограмотных, где преподавал Всеволод. В Грозном с началом революции возникло при рабочих клубах немало таких кружков. Сторожа открыли дом Всеволоду, дали ключи и сказали:
— Живите себе, уважаемый. Дай бог здоровья. Нам жалко, что ли?..
Не успели погорельцы устроиться, как один из сторожей, инвалид из казаков, пришёл с улицы и сказал:
— Сейчас слыхал, полковник наш, Халиев, задумывает злое дело. Ежели полк уйдёт, он отнимет у Анисимова дочь с ихним ребёнком, а самого его, Анисимова, значит, мать, братьев и сестёр — всех прикажет порубать шашками.
Всеволод накинул пальто и тут же отправился в Грозненский Совет. Лена осталась с детьми. Как она ни доверяла старшему сынку, ему всё-таки лишь десять лет. Оставлять ребят одних в большом пустом доме она не решалась.
Из Совета Всеволод вернулся поздно.
— Полк не позволит себя обезоружить, как хотят чермоевцы. Тогда война! Весь Терек может в это вовлечься! Положение!
— Анисимова видел?
— Видел, как же, он днюет и ночует в Совете.
— Бедняга... Ну, ты всё ему рассказал?
— Да, и посоветовал спрятать Симу пока что. И ребёнка.
— Пусть привезёт их сюда. И Марию Павловну и всех остальных.
— Я так и предложил, Лена.
— Хорошо, — одобрила она. — Теперь вот что, Сева. Оставайся ты с детьми, а я пойду в Совет. Я член Совета всё-таки. Мне надо быть там...
Прошла ночь. Всеволод всё ждал, вот подъедет кто-нибудь из семьи Анисимовых. Под утро вернулась Лена.
— Я не из Совета, я с вокзала, — сказала она. — Анисимов послал меня в помощь тем, кто готовит эшелон. Нужны теплушки, харчи, медикаменты на всякий случай. Если полк уйдёт, то поедем все. Но вопрос ещё решается. Трагедия! Хуже не бывало.
Всеволод задумчиво расхаживал из угла в угол.
— Всё-таки надо спрятать Симу. Хотя бы её. Пока суд да дело, Халиев может послать своих казаков, те нагрянут и увезут её бог знает куда. Ты сказала Анисимову?
— Ну как ты думаешь! — рассердилась Лена, — Я трёхлетний ребёнок, что ли?
Она пробыла и сегодня весь день на станции. Смеркалось, когда прибежала, измученная, без сил.
— Эшелон готов. Пускай решают так или иначе. У народа уже нервы не выдерживают.
— Теперь я пойду, — сказал Всеволод.
Снова поменялись ролью: он ушёл, она осталась с детьми.
И вот уже вечер, и на дворе всё больше холодает, и тревога чувствуется в каждом звуке, шорохе, свисте.
Время ещё не позднее, стемнело по-осеннему рано, а кажется, будто давно над городом стоит глухая ночь. Отсветы пожаров в небе стали ярче, страшно смотреть.
В доме купца гуляет ветер, хлопают открытые форточки. В комнатах угрюмо нахохлились зачехлённые люстры, угрожающе покачиваются над головой, скрипят. Лену тянет в подвал. Она не привыкла к богатым домам, жила больше в убогих домишках, а если попадала в большой дом, то чаще квартировала в подвальных этажах. Она спустилась в подвал со свечой, выбрала комнатушку вблизи кухни, где ютилась, наверно, кухарка, и перетащила сюда ребят. Здесь Лене стало спокойнее. Ребята тоже как будто чуть повеселели.
2
Анисимов послушался совета добрых людей — в десятом часу вечера привёз на извозчике в дом купца Симу. У той на руках была дочка, закутанная в одеяло. Николай держал маленькую корзинку, Там всё.
— Они останутся здесь, ладно? — сказал Николай Лене. И тут же стал прощаться. — А мне пора в Совет.
Как он был бледен, как исхудал. Простая солдатская шинелька висела на нём внакидку. Папаха, гимнастёрка, ремень, револьвер в кобуре.
Он молча поцеловал Симу и вышел к воротам, где его поджидали два солдата.
Тяжкая была ночь. В городе несколько раз возникала беспорядочная стрельба. Галопом проносились мимо дома купца казачьи отряды. Временами содрогалась земля от близкого взрыва. Чудились крики, стоны.
Сима укачала девочку, уложила её рядом с детьми Лены на матрац, расстеленный прямо на полу.
Свечу погасили и уселись рядышком в потёмках.
— Здесь тебя не найдут, не настигнут, — успокаивала Лена новую жиличку. — Кто знает, что мы тут схоронились?
— А я не боюсь за себя, — отвечала Сима. — Я тревожусь за них.
Было ясно, кого она имеет в виду. Мать Николая, его братьев, сестёр и, конечно, его самого — самого дорогого ей человека в этом взбаламученном мире.
Томительно текли минуты. Пришёл бы Всеволод, от него можно было бы узнать, как обстоят дела, но тот не появлялся. Говорить женщинам было не о чем. В такие ночи много не разговаривают, всё воспринимается молча.
Обращения друг к Другу редки, обычны:
— Ты, наверно, голодна, а, Сима?
— Нет, спасибо.
— У меня кое-что есть.
— Спасибо, не надо...
Сима хорошо держалась. Лена старше её, разница в жизненном опыте и партийном стаже совсем большая, и поэтому своё умение сохранять спокойствие Лена считает естественным, а Сима вот молодец, достойна своего Коли.
— Сгорела школа, где ты учила ребят и...
Лена спохватывается, не договаривает слов: «откуда тебя выгнали в июльские дни». Не хочется трогать больное. Надо же, чтобы так всё запуталось в судьбе этой
молодой казачки! Она в одном лагере, её отец — в другом. В Грозном известно: Халиев сочувствовал корниловскому мятежу, вместе с атаманом Карауловым добивался вывода русских армейских полков с Терека.
Симе, конечно, тяжело, больно, ей бы другого хотелось. Жаль мать, из-за него страдает вся семья.
У Лены таких переживаний не было. Но она понимала, что творится в сердце казачки, и видела — у Симы много не наружной, не показной, а внутренней отваги, единственное, что она унаследовала от отца: неистово лют, упрям и слеп, но в храбрости ему нельзя было отказать.
На улице не утихал ветер. А небо всё светлело от зарева пожаров, и от одного вида этой красноватой ночи трясла дрожь.
Но вот голоса, стук копыт, дребезжание колёс. Наконец-то!
— Приехал мой Всеволод, кажется, — неуверенным тоном произносит Лена.
Да, он! Но не один. Подкатили два извозчика, подводы с вещами. Сима и Лена поспешили к воротам. С пролёток сошли три женщины с ребятами. Это семьи грозненских активистов-рабочих, тоже собравшиеся уехать, если придётся, вместе с полком. Женщины узнали друг друга, темнота не помешала.
— Ольга, детей сначала уведём, а вещи успеется, — уже командует Лена.
Увели и унесли детей — были и грудные, — потом перетащили с подводы в подвал узлы и чемоданы.
— Сейчас ещё подъедут, — сказал жене Всеволод, — Утром подадут грузовик, если...
На этом оборвал, чего там договаривать — ясно всё. Худо, худо, дела складываются так, что полк, наверно, уйдёт.
— Всё горе в том, что может вспыхнуть война с горцами. А казаки этого и ждут. Момент ужасно неподходящий, ужасно невыгодный для нас.
— Ты посидишь тут? — спросила Лена. — Тогда я пойду.
— Иди... Что делать?
Вот так они сменяли друг друга ещё два-три раза. Потом всё кончилось.
Ещё не светало, когда подъехал грузовик. В подвал, где уже было много женщин и детей, спустился Анисимов.
— Ну, товарищи, кто решил с полком уходить, собирайтесь, — сказал он.
Обернулся к двери, позвал людей.
Вошли пятеро солдат из полка. Начали вытаскивать вещи, устраивать в машине женщин и детей.
Николай подошёл к Симе. При свете свечи она увидела — он весь серый. Просто серый, другой краски на лице нет. Землистый отлив на лбу, запавших щеках, заострившемся подбородке. Он тронул её за руку, спросил:
— Поедешь со мной?
— Да, да, Коля, — прошептала она.
Он поднял с матраца спящую девочку. Сима взяла корзинку, и они пошли к воротам.
— Знаешь, — сказал он, — одно меня радует среди этого ужаса: что мы бросаем те две кровати. Избавились наконец!..
В последнее время им пришлось уйти из старой квартиры, чтобы сбить со следа непрошеных соглядатаев, охотившихся за Николаем и Симой.
Эшелон ещё не ушёл со станции, заканчивалась погрузка полка и семей рабочих, когда к небольшому домику, где Сима пряталась до перехода в подвал купеческого дома, подскочил на лошади Халиев. С ним были трое казаков, тоже верховых.
— Сюда! — скомандовал им подполковник, сам первый смахнул с коня и бросился к крылечку. Удар ногой в дверь. — Откройте, эй! Живо!
Какая-то старуха, крестясь, отперла:
— Вам кого?
— Дай войти! С дороги!
Коридор был заставлен убогим хламом. Запах ветоши, тряпья. Какая нищета! И всё это Сима предпочла зажиточному отцовскому дому! Ах, где она, где? Разъярённому Халиеву сейчас лучше было не отвечать на его же вопросы. Ещё одна дверь отлетела от удара его сапога.
Синева мутного рассвета в оконце маленькой комнаты исчезла, когда один из казаков просунулся за порог с зажжённым фонарём. Комната была пуста. Две смятые кровати, тумбочка, стул, и ничего больше. Нет, в тумбочке нашлись ещё какие-то старые платья, рваные пелёнки, пара сношенных туфелек.
— Ах чёрт!.. — вырвалось у Халиева.
Он затрясся, обнажил шашку и с размаху ударил по тумбочке...
Минут пять спустя к станции галопом неслись трое в казачьих папахах. Халиев послал погоню за Симой. Он хотел во что бы то ни стало вернуть её, оторвать от мужа-большевика, от мира, который был и чужд и ненавистен старому подполковнику. Вдобавок гибнет же этот мир, гибнет, — так в самом деле могло показаться в эти горестные рассветные часы.
Вокзал. Оцепление не пропустило казаков. Они спешились и дальними станционными тупичками всё же проникли на перрон. Состав ещё стоял здесь. Шли последние минуты перед отправкой, суматоха уже затихала.
Состав был длиннющий, все теплушки до отказа набиты людьми. Где тут найдёшь Симу с её девочкой, — бесполезно искать. Один из казаков, совсем молоденький, горячий, ничего не боясь, пошёл вдоль теплушек, заглядывая в ещё не закрытые двери. Это был младший брат Симы. Не успел он... Эшелон тронулся без свистка, без удара вокзального колокола. Казак схватился за голову, закричал, но грохот колёс и стук буферов заглушили всё.
В одной из хвостовых теплушек стоял у приоткрытой двери Николай. Он видел брата Симы. Мелькнуло искажённое отчаянием лицо. Как похож на сестру!
А та укрывалась где-то в середине состава. Халиев, наверно, не успокоится и будет продолжать погоню. Впереди ещё много станций, полустанков, разъездов, и путь лежит через казачий край, мимо станиц, и везде там у Халиева свои.
Так и запомнилась Анисимову та ночь: уходит эшелон, позади пожарища, родной Грозный, где столько прожито и пережито за последний год. Город, который Николаю уже не доведётся больше увидеть.
Поздно вечером Сергей Миронович ходил по тёмным закоулкам Георгиевска и разыскивал Лену. Георгиевск невелик.
Вот домик, где помещается здешний большевистский комитет. Не может быть, чтоб Лена сюда не наведывалась. В окнах первого этажа горел свет.
За столом, уткнувшись в газету, сидел дежурный. Сергей Миронович узнал от него, что местная большевистская организация перешла на казарменное положение. Часть людей ночует здесь, часть несёт вахту в мастерских арсенала. Меры предприняты на случай, если кто-либо сделает попытку захватить арсенал.
— Могут абреки налететь, — объяснял дежурный, поражаясь тому, что Киров без шапки: на улице ещё не затих дождь, — Могут и казаки наскочить. У нас тут на чёртовом Тереке всего жди!
Предположения Сергея Мироновича оправдались: Лена и её семья оказались здесь, в помещении комитета.
— Это которая маленькая, шустрая, с мужем и тремя детьми? Есть, есть, — сказал дежурный. — Приехали под вечер, куда было их девать? Временно приютили, жалко же! Пойдёмте!
Он взял со стола керосиновую лампу и повёл Кирова в дальний конец коридора.
— Эй, слышь, мамаша! Вас один приезжий человек спрашивает.
В тёмном провале двери вспыхнула свеча. Осветилась небольшая комната, где на стульях была разбросана детская одежда.
На полу спала вся семья Лены.
Узнав Кирова, Лена и Всеволод вскочили, засуетились.
— Ах боже мой! — причитала Лена, — Вот так встреча! Стульев нет. И стола нет. Ничего у нас теперь нет! Ничего.
Проснулись дети. Из-под отцовского пальто, служившего одеялом, высунулась вихрастая голова Жени. Мать прикрикнула на него:
— А ну спи!
Самого маленького ей пришлось взять на руки, чтоб не ревел. Всеволод куда-то вышел с жестяным чайником за кипятком. В дверь протиснулся дежурный со скамьёй.
Ребята скоро уснули. Привыкли спать под говор взрослых в доме, это и в Грозном бывало не раз.
За разговором забыли и про кипяток, принесённый Всеволодом.
Лена вела себя неузнаваемо: ворчала на всех и вся; не хотела она уезжать из Грозного, и не надо было ей уезжать, ничего страшного не произошло бы. А в общем, к чертям всю эту жизнь, надоело мыкаться, просто невозможно так дальше.
Отчаялась. Как это было не похоже на Лену, всегда бодрую, слишком даже беспечную ко всему, что касалось её личной жизни!
— А вы откуда сейчас? — спрашивал у Кирова Всеволод.
— Из Минвод. Хотел повидаться с Анисимовым.
— Удалось?
— Нет... Говорил с ним по телеграфу.
— Эшелон ушёл на Ставрополь, а мы с Леной решили тут остаться.
— Знаю, — кивал Киров. — Я держал связь с Анисимовым всё время. Знаю, что вы боролись за полк всеми силами. Обидно, очень обидно. Знаю всё.
— Это нам контрреволюция отомстила. В стычке у Карабулакской солдаты полка помешали ей. Всё же ясно, как божий день. Но мы ничего не могли сделать, — говорил Всеволод.
— Ужасно всё, ужасно, — причитала Лена.
Подробности ухода 111-го полка из Грозного она не смогла рассказать — расплакалась навзрыд.
Часть членов Грозненского Совета и рабочих выехала в ту ночь в другую сторону — Баку. С ними подался и Малыгин. Сергей Миронович и с ним говорил из Минвод по телеграфу.
— Могу вам сказать, что бакинцы только обрадовались, услышав, что к ним едет Малыгин. Они уже прочат ему там боевую работу.
— От вас, я вижу, мы можем узнать больше, чем вы от нас, — вздыхал Всеволод. — А как движется эшелон?
— Ползёт... Нелегко им. Но ставропольцы примут их по-братски. Я и со ставропольцами говорил. Примут и помогут.
Сергея Мироновича интересовало, почему мать Анисимова, его братья и сёстры не выехали с эшелоном в Ставрополь. К сожалению, Сергей Миронович узнал об этом слишком поздно.
— Николай собирался вывезти семью, но Мария Павловна, его мать, не захотела ехать, — рассказал Всеволод. — Куда, мол, подаваться из обжитых мест. Мы тоже считаем, что ошибка. Халиев там рвёт и мечет. Он посылал погоню за Симой, знаете? Хотел вернуть неразумную дочь.
Киров слушал, опустив голову. А Всеволод продолжал:
— Мы прятали её в дороге, никто не знал, где она, в какой теплушке, даже свои не все знали. Николаю и то не позволяли навещать её, но он всё-таки прорывался иногда. На разъезде подойдёт к теплушке, перекинется парой слов с Симой, спросит о дочке. Очень любит девочку.
Киров знал: холодно, голодно в теплушках, катящих где-то сейчас по рельсам среди голой предзимней степи, а что ещё предстоит впереди! Вставали перед глазами лица Николая, Симы, Марии Павловны.
В Георгиевск Кирова привело не только желание встретиться с Леной и Всеволодом. Сергею Мироновичу предстояло завтра выступить здесь на митинге перед рабочими арсенала и солдатами гарнизона. В подвалах арсенала ещё оставалось много оружия, на которое зарились и горцы и казаки. При нарастающей угрозе всеобщей войны между теми и другими важно было предотвратить захват арсенала.
Уход 111-го полка из Грозного — тяжёлый удар для Терека, завтра на митинге он так и скажет. Но нельзя считать, что Грозный перестал существовать. Он жив и продолжает борьбу с вражьими силами. С полком ушли не все. Большевистский комитет оставил там многих для подпольной работы.
Сейчас город разорван надвое.
Одна половина — там, где станица, — во власти казачьих начальников. Там и Халиев. А в остальной части
Грозного разъезжают конники Чеченского полка бывшей Дикой дивизии. В доме Чермоева разместилось командование полка. У Чермоева траур, он потерял сына, и носит вместо красного банта чёрную ленту. Всё же он, наверно, злорадствует.
Сергей Миронович скоро поднялся.
— Где у вас переговорная?
— Пойдёмте, — сказал Всеволод. — Тут недалеко.
— Постойте, а чай? — вспомнила Лена. Она вдруг улыбнулась. — Представляете, сегодня веду разговор с Минводами, спрашиваю у дежурного по станции, где эшелон из Грозного, какие сведения с дороги? «А кто вы есть?» Я ответила: «Большевичка». Он рассмеялся!
Шагая со Всеволодом под усилившимся дождём к телеграфу, Киров думал:
«А собственно, я кто? Тоже просто большевик»...
С телеграфа Киров ушёл лишь на рассвете, когда узнал, что эшелон уже в Ставрополе.
4
Казалось, на Тереке всё рассыпается и не дождётся старый Джабраил дня, когда осуществится «план Киры».
Одно за другим возникали на Тереке правительства: одно, казачье, возглавлял Караулов, другое, горское, — Чермоев. Было ещё терско-дагестанское правительство, находилось оно во Владикавказе и распространяло свою власть, пожалуй, только на территорию гостиницы, где министры размещались.
Теперь на улицах Владикавказа часто можно было услышать выкрики уличных продавцов газет:
«Убийство на Сунже! Покупайте, читайте! Резня на Ассе! Убийство на Сунже!»
Метались, метались по Тереку огоньки вражды. Край неотвратимо вползал в хаос.
Нападения из-за плетня, перестрелки, поджоги вспыхивали чуть не каждый день. Горец не давал проехать по дороге казаку, казак — горцу. Вести об убийствах будоражили людей, в станицах и аулах закипали тёмные страсти, и чувствовалось — дело идёт ко всеобщей межнациональной войне.
Ухудшалось положение в стране. На Дону казачий генерал Каледин собирал силы для похода на Москву и Питер, и уже погромыхивали первые раскаты начинающейся гражданской войны. Из центров России тянулись на юг все, кого не устраивала новая власть. Переполнены были беженцами поезда, прибывавшие с севера в Минводы. Знатные особы из свергнутого царского дома, биржевики, сенаторы, помещики, чиновники, генералы и офицеры всех званий надеялись переждать бурю в благословенных уголках Северного Кавказа. И особенно их прельщали такие курорты, как Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск. Терек становился одним из очагов и тылом казачьей Вандеи.
Немного оставалось теперь здесь армейских революционно настроенных частей, на которые могли бы опереться большевики. Совсем немного. Казачьи и горские верхи зарились и на них. Удаление с Терека или разоружение грозило и 113-му армейскому запасному полку в Пятигорске. Но Пятигорск крепко держался за полк.
В декабре на Тереке уже вихрил снег.
Он быстро стаивал, но снова и снова налетали с севера белые заряды. Старики говорили: «Рановато». Всё казалось необычным в тот год: и жизнь людей, и круговращение природы.
— Где Селезнёв? Что там за толпа?
— Солдаты, ваше превосходит...
— Отставить! Я не превосходительство!
— Виноват, господин атаман. Ежели полковник, то это будет ваше высокоблагородие.
— И не высокоблагородие. Не надо этого пока... Так что за народ там, ты сказал?
— Солдатня всякая, господин атаман.
— А чего ей надо?
— Известно: помитинговать охота.
— Ох скоты! Приучились! Пора с этим кончать. Зови Селезнёва!..
Поезд Караулова стоял на узловой железнодорожной станции. Сквозь косо падающий снег неясно проступали на приземистом здании вокзала чёрные буквы: «Прохладная», Злой порывистый ветер шумел за окна-
ми тёплого салон-вагона. По перрону бродили какие-то беженцы с чайниками, солдаты-ополченцы, все пожилые и бородатые.
Бррр!.. Атамана даже передёрнуло, пока он смотрел из окна вагона на происходящее снаружи.
«Что за отвратный сброд! — думалось атаману. Никогда ещё Караулов не испытывал таких злых чувств к «стихии масс», как в последнее время. — Ну что за вид у этой «стихии»! Да люди ли это? — злобствовал атаман. — Смотреть на них и то тошно!..»
Снаружи было пасмурно. Несмотря на дневной час, уже горели станционные фонари. Непогода делала всё особенно неказистым.
Мятые, грязные пальтишки, засаленные тулупы, шинельки.
Бабьи платки, зелёные окопные шапки, рваные сапоги.
Вот шлёпает галошами какой-то интеллигент с бородкой. На нём старая шаль, видавшая виды шляпа. Рослый матрос в бескозырке ходит в толпе, видна голая грудь под бушлатом, будто нет ни стужи, ни ветра. Суетятся у товарняка железнодорожные рабочие, и вид у них тоже чумазый, затасканный, жалкий.
Так казалось атаману из окна вагона.
И вдруг его снова передёрнуло, и с ещё большей силой, чем прежде.
Вспомнилась станция Плиево, всплыли в памяти две штатские фигурки, стоящие на перроне... То было совсем недавно, во время стычки под станицей Карабулак-ской. На перроне под дождём топтались Киров и Ной Буачидзе, а он, Караулов, с ненавистью смотрел тогда на них из окна своего салона, как сейчас он смотрит на этих солдат и прочие фигурки, снующие по перрону Прохладной.
Какая-то невидимая нить тянулась от тех двух фигур к этим,
— Ну, что Селезнёв? Где он? — взревел атаман, уже весь внутри навинченный.
Селезнёва нашли в станционном буфете. Тот мигом явился к атаману.
— Ты где был, чёртов ловелас?
Солдат агитировал, Михаил Александрович...
Объяснял положение. Читал им известную вам книжонку «В стране абреков».
Упоминание об этой книжонке заставило Караулова перекреститься. Это относилось к автору книжонки, погибшему летом во Владикавказе во время кровавых стычек, начавшихся в гостинице Ахмедова. Старичок сочинитель пал жертвой той самой «стихии масс», которую атаман так ненавидел.
— Ну, и как воспринимают эту книжонку? — спросил атаман у стоящего перед ним навытяжку Селезнёва.
— Смотря как... кто... — отвечал неуверенно Селезнёв. — Слушают, в общем...
— Ну их всех к лешему! — разорался, казалось, без всякой видимой причины Караулов, — Хватит этим заниматься. Вот что! Поди объяви, что я не буду выступать.
— Неудобно, Михаил Александрович. На станции много солдат, проходящих с Кавказского фронта...
— А я не обязан перед ними выступать! Нету Временного правительства, и я уже не комиссар Терека. Я атаман казачьих войск и только перед ними отвечаю. Так и скажи этой швали!
Большой толпы у атаманского поезда пока не было. Тут стояло десятка три солдат и баб. Некоторые по старой памяти ещё считали Караулова представителем Петрограда на Тереке и пришли с разными жалобами и претензиями к атаману. У одной бабы казак-прощелыга что-то стащил, каким-то солдатам не выдали положенного им продовольствия.
Понадеявшись, что Караулов скоро успокоится, Селезнёв не спешил исполнять его приказание. Вскоре на станцию должны были прибыть с хлебом-солью представители окрестных казачьих станиц. Их и дожидался атаман.
Он заканчивал поездку по Тереку, которая убедила Караулова и его приближённых, что значительная часть казачества, особенно наиболее зажиточная, готова их поддержать. Казалось, лишь немногих из казаков затронула большевистская агитация. Побывал атаман в городах и станицах. Особенно хорошо его встретили в Кисловодске и Моздоке. И там и здесь в его честь был устроен казачий парад.
В Моздоке у атамана были два верных человека — полковник Рымарь и есаул Пятирублев. Долго совещался с ними атаман. Договорились по всем пунктам.
Моздок начнёт, двинет казачьи полки на Ингушетию и Чечню, а гам и остальные отделы (терское казачество делилось на отделы — административные управления) подымутся на горцев, и «страна абреков» кончит своё существование. Будет казачий Терек, подвластный атаманской булаве.
Но, чтобы совершить задуманное, требовалось ещё выждать какое-то время. На отсрочке начала выступления настояли Рымарь и Пятирублев.
В Петрограде вот-вот свалится большевистская власть — такие надежды питают многие влиятельные лица из казачьего мира Дона и Кубани.
Надо ещё чуток потерпеть. Генерал Каледин уже собирает войско, к нему спешит генерал Корнилов, герой неудавшегося контрреволюционного мятежа.
Будет создана большая армия. И начнётся освобождение России от красных. «Вот тут и придёт наш черёд», — говорили атаману в Моздоке оба — и Рымарь и Пятирублев.
5
Свистит, воет ветер за тонкой стенкой атаманского салон-вагона. Внизу, у входа в вагон, — охрана. Из буфетного камбуза второго салон-вагона валит через дымовую трубу над крышей сизый дымок. То готовится угощение для казачьих представителей, которых ждёт у себя Караулов. Ветер иногда прибивает дым к крыше, как бы гонит его обратно в круглую железную трубу.
Вот тоже... глупость какая-то! Высунувшись из окна в ту сторону, где не видно ни вокзального здания, ни перрона со снующей там толпой, атаман снова недовольно хмурится. Он не забыл, как однажды Киров сказал ему что-то про правителей, которые гонят дым обратно в трубу...
К чёрту! Атаман с треском захлопывает вагонное оконце.
А по ту сторону толпа уже возросла вдвое. Стоят, орут, трясут бородами.
— Где Селезнёв, дьявол его дери? — негодует Караулов. — Куда он опять подевался?
— У себя они, ваше превосх... высокоблаг...
— Я сказал — не называть меня царскими титулами! Отвечать по форме!
— Они донесение принимают, господин атаман.
— От кого?
— От хорунжего Следова, ежели помните.
Как атаману не помнить Следова. Один из самых верных его слуг. Ждёт чинов и наград за свою службу. А служит верно, преданно, на всё идёт, на любое мокрое, подлое дело.
Это он летом довёл прапорщика Муштакова до крайнего накала, за которым последовали памятные события во Владикавказе. Те события чуть не кончились походом на Ингушетию. Это он, Следов, тайно подстроил перестрелку под станицей Карабулакской. Никто из посторонних не знает, какую важную услугу оказывает Следов атаману сейчас.
Он сопровождает Караулова в поездке. Но следует не в атаманском поезде. Он там, где толпа, народ, где скапливаются те самые фигурки, которых атаман не выносит, и чем дальше, тем больше.
Следов везде и нигде. Он ухо и глаз атамана и его свиты.
По внутреннему переходу атаман спешит во второй вагон.
Селезнёв и Следов там. Сидят, чуть не стукаясь лбами, тихо разговаривают.
При появлении атамана оба вскочили.
— Ну, о чём вы тут? — спросил Караулов, с неприязнью оглядывая тупое лицо хорунжего.
Человек для грязных дел. Сам атаман старался не общаться с ним, а действовал через приближённых.
— За вами следили, оказывается, — сказал Селезнёв. — Сейчас вот хорунжий доложил. В Кисловодск за нами одного матроса посылали вслед, чтобы он узнавал, о чём вы разговоры ведёте и с кем встречаетесь.
— Кто? — Побагровел атаман, — Он кто?
— Матрос Василий, господин атаман, — скороговор-
кой ответил хорунжий, — Он тут как раз на вокзале сейчас вертится, я его видел. А посылали его они, большевики.
Гневу атамана не было предела. Он закричал, затопал ногами, закашлялся, глаза выпучились, лицо стало словно варёным.
Он потерял на время рассудок, и произошло непоправимое.
Атаман сам вышел к собравшейся у его вагона толпе. Не вышел, а выскочил, как был, даже не прихватил шапки. Люди — тут уже было около сотни — пододвинулись поближе.
Стоя на ступеньке, Караулов крикнул:
— Ну, чего надо? Говорите! Какие жалобы, претензии, нарекания, всё валите чохом! Я послушаю!
Со всех концов вокзала стали сбегаться к атаманскому поезду. Толпа быстро увеличилась, сбилась в плотную, густую массу голов.
Уже раздавались крики:
— Не напирай! Эй, которые сзади!
— А и мы хотим! Нажимай, давай!
К вагону протолкнулись трое ратников-ополченцев, и один из них, самый бородатый, обратился к атаману с вопросом:
— Скажи, пожалуйста, гражданин уважаемый, не знаю, как вас по-казачьему, всё равно, нам лишь бы знать: сколько егце... это самое, значит, будет, так и дале?
Караулов ничего не понял, у него мутился разум от бешеного приступа злобы.
— В чём дело? Какие претензии?
— Да не претензии, почтеннейший, а требование у нас законное: хватит же в конце-то концов господам... это самое. Народ своего хочет.
— Чего своего? Чёрт бы... Ну, чего?
Если бы солдат-окопник хоть на миг заробел, смутился, атаману удалось бы, может быть, взять себя в руки. Но тот вёл себя смело и с подчёркнутым неуважением к атаманскому чину называл его «почтеннейшим». Это окончательно разъярило Караулова.
— Ты что? Как стоишь! — произнёс побелевшими губами атаман, — С кем разговариваешь?
Нет, дело шло уже не о жалобах, что кого-то обделили продовольственным ггайком или чем-то другим обидели.
Атаман не понимал солдата-окопника, а вот толпа его хорошо поняла, несмотря на косноязычие. И затихла, ожидая, что ответит атаман.
А тот очертя голову летел в пропасть. Всё, что в нём давно накипело, наконец прорвалось. И есЛи бы он. Караулов, был сейчас на коне и при шашке, то, наверно, ничто не остановило бы его от того, чтобы во всё горло гикнуть, свистнуть и врезаться в толпу.
Но не было сейчас под ним коня, а была железная вагонная ступенька. И не было при нём шашки — она осталась в вагоне.
Зато ощущение у атамана было точно такое, какое бывает в момент казачьей атаки.
Он рубанул воздух рукой и закричал:
— Прочь! Дошли до полной анархии! Большевистского духа набрались, сволочи! Тут вам не Питер, а Терек! Понятно? Всё!.. Уходите!..
В толпе ахнули, удивились. Да, сначала будто удивление выразилось на бородатых лицах. С минуту, кроме свиста маневровых паровозов, ничего не слышно было. Казалось странным: люди пришли послушать, что скажет человек, у которого много власти. Все измучились, изнищились, не успела кончиться одна война, а уже разгорается другая, что же будет? Мира и земли хотят люди, и это уже обещано им, а какие-то генералы стремятся вернуть всё старое.
А этот ещё ругается и грубит!..
Когда толпа опомнилась, атамана уже не было на ступеньке. Его втащили в вагон свои — Селезнёв и другие. Там, в вагоне, атамана уговорили не ждать представителей станиц, а ехать скорее во Владикавказ, до которого рукой подать.
Караулов сидел в углу в кресле, опустив голову и закрыв лицо дрожащими руками.
— Ох, подлая мразь, — цедил он сквозь зубы. — Я бы их всех растерзал! Всех!
— Так прикажете дать отправление?
— Ладно... Только бы не видеть эту стихию.
А на перроне и на путях замечалось какое-то странное движение — одни уходили влево, другие вправо. Побежали к своим теплушкам солдаты-окопники. У многих появились в руках винтовки. Энергично доказывал что-то окружившим его людям матрос Василий, молоденький, с чёрными усиками.
Паровоз атаманского поезда зашипел. Минуты за две до отправления Селезнёв обнаружил, что между салон-вагонами возится какой-то железнодорожный рабочий.
— Ты что делаешь?
— Готовлю состав к отправке... Проверяю сцепление. А что?
— Ничего. Живее поворачивайся!
— Есть. Я мигом.
На станции тем временем странное движение продолжалось. С перрона народ словно ветром сдуло. Зато много солдат скопилось у дальних пакгаузов. И все оттуда не сводили глаз с атаманского поезда.
Вот паровоз свистнул, дёрнулся. Один вагон (предназначенный для охраны и приближённых Караулова) поплыл за паровозом, а второй остался на месте. Не иначе, кто-то умышленно отцепил вагон.
Что это? Из атаманского вагона прогремел выстрел. Пуля свалила бросившегося к вагону матроса. Бег молодого моряка оборвался в момент, когда он был уже возле подножки. Приникая всё ниже к земле, он бормотал:
— Арестовать его... собаку... Аресто...
Слабеющий голос моряка заглушил залп. Стреляли
солдаты-окопники — стоя и с колена. По атаманскому и удаляющемуся вагону били из окон станционного здания, с крыш пакгаузов, из раскрытых дверей теплушек.
Минут десять шла пальба. Потом всё стихло, и из атаманского вагона послышались стоны и хрипы умирающих. Вагон был весь изрешечён пулями...
Вскоре после полудня во Владикавказ пришла весть, что убит Караулов и все, кто находился с ним в салон-вагоне. А вечером — тоже при сильном ветре и колючем
снеге — с владикавказского вокзала в атаманский дворец провезли несколько гробов. Неприглядный вид имели эти гробы, и сам город выглядел в тот вечер неприглядно — улицы утопали в грязи, дворники перестали их чистить. Угрюмо смотрели на гробы прохожие, иные бормотали:
— Невесело, невесело...
И шли по своим делам дальше.
Глава двенадцатая. Разгон Совета
1
Кончался год... Год, в который произошло так много перемен. По старому преданию, гора Казбек каждые семь лет сбрасывает с себя снеговую шапку, и тогда в мире происходят большие перемены. Не сменил ли Казбек шапку в этом году?
Ной не выдержал непогоды, свалился.
В комнате у него был диванчик. Кто только не сиживал на этом диванчике за время болезни Ноя! По утрам Ной одевался, хотя на улицу под строгим запретом врачей не ходил, садился на диванчик и ждал прихода собеседников. Навещали его все, кто узнавал о его болезни. Этого человека нельзя было не любить — он жил для людей и ни о чём личном не думал. Какой-то одержимый.
Часто приходили Тамара и Мария, убирали комнату, чистили, готовили, мыли посуду.
Наведывалась Полякова — красивая, высокая, с звонким голосом и улыбчивыми глазами. Эта женщина могла бы красоваться на вечеринках, в театральной ложе, и как-то не вязалось с её внешним обликом то, что она работает на керосиновом складе. А вечеринок и лож она почти не видела со дня свержения старого режима, то есть около десяти месяцев. Выйдя из подполья, она, как и другие терские большевики, вся ушла в кипение революционных буден, и с тех пор митинги ей заменили театральные зрелища, а собрания и споры с эсерами или меньшевиками — прежние вечеринки. Недавно, когда владикавказские большевики образовали свою самостоятельную партийную организацию, Полякову избрали секретарём.
— Какие новости? — встречал её Ной неизменным вопросом. — Что в организации, чем у нас сегодня живут и дышат?
— Послушайте, Ной, — смеялась Полякова, присаживаясь рядом на диванчик, — вы бы лучше спросили, что делается в нашем городском саду, как выглядят деревья под снегом на тихих аллеях. А знаете, каким тихим стал наш Терек!
Слежку за Карауловым, когда тот затеял поездку по Тереку, чтобы подымать казаков против Советской власти, организовал Ной, и ему хорошо помог Серобабов. Молодой железнодорожник тоже появлялся часто у больного. Приносил булочки, фрукты, чурек.
— Где ты это достаёшь, дорогой?
— Тифлис близко. Наши ребята ездят...
А Ною лучше не напоминать про Тифлис и Грузию. Он сразу мрачнел. Закавказье его огорчало: там одерживали верх сторонники отделения от революционной России — грузинские меньшевики, армянские дашнаки, азербайджанские муссаватисты.
За хребтом, по ту сторону, творилось неладное. Борьба и там шла с нарастающим ожесточением, как везде.
Киров и доктор Мамия сиживали на диванчике у Ноя иногда по два-три раза в день. Советовались, обсуждали положение.
Вести из центра России радовали, потрясали, а на ;Тереке всё оставалось как было: перестрелки, убийства, пожары. Местные Советы распространяли своё влияние (только на города и, в сущности, по-прежнему оставались безвластными. Принятые кое-где резолюции (и то ,с боем), в которых выражалось одобрение новой власти в Петрограде, ещё не означали победу этой новой власти на Тереке.
— Остаётся одно, — говорил Ною Сергей Миронович, — убеждать, разъяснять. Кропотливым трудом изо дня в день готовить нашу победу. Иного пути нет. Но обидно, конечно, чертовски! Как вспомню Питер, красногвардейцев у Смольного, всю эту кипучую новь, аж завидки берут!
Он заметно изменился за последние недели. Похудел, осунулся, голос стал грубее, у губ резче обозначились складки. Курил много. Табак был такой крепкий, что от одного запаха Ной начинал чихать. При больном Киров, конечно, не дымил, а только посасывал негорящую трубочку. Он тяжело пережил уход 111-го полка из Грозного.
Тише там не стало. Пожары и грабежи продолжались. Господин Чермоев и его советники добились своего — не стало силы, поддерживающей большевиков ророда, но ввести туда вооружённый народ Чечни чер-моевские политики тоже не рискнули: ввели и расквартировали только несколько конных сотен Чеченского полка бывшей Дикой дивизии. Но против этого запротестовали местные казаки.
— Укатили и чеченские сотни восвояси, — выкладывал Киров новости жадно слушавшему его Ною, — И в Грозном, знаешь, создалось своеобразное положение, которое можно охарактеризовать так: ни нам, ни рам, а уж подавно большевикам. Но ребята наши не дремлют, восстанавливают работу Совета. Организация живёт, хотя и нет Анисимова.
— А он всё в Ставрополе?
— Там. И разворачивается вовсю.
У Кирова были сведения, что Анисимов приобретает большой вес на Ставропольщине. Талантливого грозненца уже избрали там членом губернского исполкома, а на днях его назначили комиссаром по военным делам.
— Ого! Отлично! — радовался Ной.
Для Ноя не было неожиданностью, когда Сергей Миронович как-то пришёл к нему и сообщил:
— Собираюсь просить у Анисимова поддержки. У него много войск, он комиссар.
— Ну что ж, — сказал Ной, косясь на окно, из щелей которого несло холодом. — Если бы он нас поддержал, было бы не худо.
— Я хочу просить у Николая тысячу штыков.
— Сколько? — ахнул Ной. — А где он возьмёт?
— Он должен помочь нам, а потом и мы ему поможем. Видишь ли, Ной, мне кажется, наступила пора нам готовить съезд народов Терека и выполнить план, который мы летом излагали Джабраилу и остальным горцам.
Вот это уж было для Ноя неожиданностью.
Да, в своё время старикам горцам был изложен большой план, тот самый, который Джабраил называл «план Киры». Важнейшей частью плана был созыв съезда народов Терека. Большевики Терека давно мечтали о таком съезде и готовили его исподволь.
Соберутся в одно помещение горцы, казаки, иногородние и скажут решительно «нет» всем братоубийственным распрям. И протянут друг другу трудовые руки.
Но как в такой обстановке созывать съезд?
Ной привстал с диванчика.
— Я — за, ты знаешь, — сказал он, прикладывая руку к впалой груди. — Несмотря ни на что, я твёрдо за. Собираем съезд. Но ты же хорошо знаешь — везде казаков подбивают идти войной на горцев. Мы окажемся на съезде в жалком меньшинстве.
Киров, улыбнувшись, ласково тронул Ноя за плечо:
— В России всё-таки Советская власть, Ной. Она нам поможет. У меня, видишь ли, родились вот какие мысли, послушай.
Они долго сидели в этот вечер на диванчике.
Ной этой ночью не мог уснуть. Всё ворочался на своей постели. Думал, думал.
А рано утром Киров опять заглянул к Ною:
— Ну, как говорится, события не замедлили подтвердить самые худшие прогнозы, — сказал он. — Случилась беда.
Ной ещё лежал в постели.
— А что? — приподнялся он на локте.
Весть была тревожная.
На одной из улиц Грозного среди бела дня убит известный чеченский шейх Дени Арсанов, глубокий старик. Куда-то он ехал верхом в сопровождении отряда своих мюридов. В станице, примыкающей к Грозному, чеченские всадники попали в казачью засаду. В перестрелке они все были перебиты. Замертво свалился с лошади и старый шейх.
— Можешь себе сам представить, что творится в горах Чечни, — закончил своё сообщение Киров, — Возбуждение страшное!..
— Это война! — воскликнул Ной. — Какой ужас! Загорится весь Терек.
— Ещё не война, но что мы на волосок от неё, это верно, Ной. Вечером соберёмся в Совете и всё обсудим. А сейчас пойду на телеграф. У меня будет разговор со Ставрополем.
Ной в упор смотрел горящими глазами на Кирова.
— Ты думаешь, наш план надо продолжать?
— Да.
— Но... — начал Ной и вдруг, соскочив с постели, бросился в одном белье на диванчик. — Не могу я лёжа обсуждать такие важные политические вопросы! — закричал он. — Слушай, я с тобой совершенно согласен! Всё «но» к чертям! Созываем съезд, я еду в Пятигорск!..
О Пятигорске они много говорили вчера вечером. Там ещё сохранился армейский пехотный полк, на который Малыгин и Анджиевский имеют большое влияние. Если со Ставрополья придут войска, можно будет обеспечить надёжную охрану съезда и собрать его именно там.
— Не горячись, Ной, — посоветовал другу Киров. — Мне пора в редакцию, а ты лежи. О поездке в Пятигорск и не думай. Убийство шейха сильно затормозит наш план, боюсь.
Перед уходом Кирова пришла Тамара.
Сергей Миронович наказал ей:
— Держи Ноя на диванчике и никуда не пускай. Смотри, Тамара, на твою ответственность!.. Да, ещё! Из окон тут дует, надо заткнуть ватой или заклеить бумагой. И вот что, дорогая: в шкафчике, где положено лежать продуктам, пусто. Надо закупить хлеба, сахара и каких-нибудь круп. Из этих круп сварить обед и заставить Ноя хорошенько поесть. В порядке самой строгой партийной дисциплины!..
Тамара ответила по-военному, отдавая честь.
— Есть! Будет исполнено! — И, повернувшись к Ною, весело сказала: — Слыхали приказ? Имейте в виду!..
Тамара недавно оформила своё пребывание в партии и теперь носила в кармане жакетки красненький партийный билет. Кирову и Ною она стала довольно часто отдавать честь, как положено солдату. Делала она это с шутливым видом, но в душе в самом деле считала себя отныне одним из солдат великой армии большевиков.
2
По дороге в редакцию Сергей Миронович заглянул в Совет и застал здесь в председательской комнате такую картину. За столом на своём месте сидит доктор, а к нему с кулаками рвутся какие-то разъярённые осетинские офицеры. Но прорваться не могут — председателя Владикавказского Совета плотным кольцом окружили другие осетины, и среди них Георгий Цаголов, человек совершенно свой во владикавказской большевистской организации.
Шум, крики, перебранка.
— Вы ответите за всё! — грозят офицеры доктору, — Если наших не освободят, мы арестуем вас как заложника!
— Что-о? — повысил голос Цаголов, — Вы только посмейте! Сами попадёте за решётку!
— Не боимся мы твоих керменистов!
До кинжалов дело не дошло. Отчасти этому способствовал доктор: он пообещал разобраться в претензии офицеров; но, пожалуй, больше всего на них подейство-
Ьал суровый и решительный вид прибежавших снизу помощников Цаголова. Это были его керменисты — молодые, вооружённые до зубов горцы.
В Осетии недавно возникла партия крестьянской бедноты «Кермен». Она поддерживала большевиков, имела свои вооружённые конные отряды.
Когда и керменисты и офицеры покинули кабинет, доктор объяснил Кирову, из-за чего загорелся сыр-бор.
Удалившиеся только что офицеры принадлежали к остаткам Осетинского полка Дикой дивизии. После того как её перевели из-под Петрограда на Терек, большинство конников разбрелось по домам, захватив с собой коней и оружие. Но отдельные сотни ещё держались, по-прежнему жили в казармах, и особенно были переполнены офицерские квартиры бывших осетинских полков в самом Владикавказе. Ничего не делая, офицеры целыми днями слонялись по городу, пьянствовали.
В Армавире у бывшей Дикой дивизии были свои базы. Туда недавно поехали какие-то офицеры Осетинского полка за причитающимся им имуществом. А в Армавире с ними не стали церемониться, взяли да посадили в тюрьму. Там Совет хозяин.
И вот сейчас к Орахелашвили, как к председателю Владикавказского Совета, пришли пятеро офицеров из бывшей дивизии с требованием, чтобы их представители, арестованные в Армавире, были немедленно освобождены.
— Это всё сынки богатых родителей, им бы только весело да сладко пожить! — с возмущением говорил Ца-голов. — Я их хорошо знаю!
Доктор спокойно продолжал сидеть за столом. Председателем Совета он стал благодаря избирательным го-досам владикавказских рабочих и солдат. Его поддерживало и население города, не принадлежавшее ни к тем, ци к другим. Доктора почитали, и жители обращались со своими нуждами не в атаманский дом и не в горское правительство на Александровском проспекте, а в Совет.
Киров одобрил тактичное поведение доктора во время скандала. Тот умел себя держать.
— Хорошо, что Ноя не было при этом, — сказал Сергей Миронович, — Он бы вскипел.
— А как у него здоровье? — спросил доктор.
— Пока не очень. Надо бы куда-нибудь его отправить. В Кисловодск, что ли...
— Там худо, — вздохнул доктор, — Хотя Караулова нет, немало своих последышей он оставил в разных местах Терека. В Кисловодске пошаливают банды.
— Он в Пятигорск хочет.
— Зачем? — удивился доктор.
— Мы с ним вчера и сегодня обсуждали наш план. Ты этот план знаешь. И Ной считает, что лучше всего провести съезд народов Терека в Пятигорске. У Ноя полно идей!
— У Ноя... — улыбнулся доктор. — А у тебя?
Киров шутливо ответил:
— Ведь не я, а он полёживает на диванчике. У него больше времени подумать.
— В Пятигорск Ноя не пускать! — строго наморщил брови доктор. — Да и не та обстановка.
Заговорили об убийстве чеченского шейха.
В продолжение всего разговора Цаголов молча стоял и слушал. Улыбался, кивал иногда в знак согласия с тем, о чём говорили старшие.
Рослый, с чёрными усиками, ещё совсем молодой — ему не было двадцати лет, — Георгий Цаголов был не из простых горцев. Его отец, образованный человек, слыл опытным юристом и пользовался большим уважением в Осетии. Сыну своему Георгию он тоже привил любовь к знаниям. Тот провёл несколько лет в стенах Московского университета и, когда грянула Февральская революция, вступил в партию большевиков там же, в Москве. И поспешил на Терек.
Партия «Кермен» создалась при его участии. В Осетии у него были верные друзья, и с их помощью еозникло несколько отрядов керменистов. Сейчас эти люди были готовы идти за Цаголовым в огонь и в воду..
— Как думаете, Георгий? — обратился к молодому горцу Киров. — Вот вы, я заметил, внимательно слушали, пока мы тут говорили с доктором. Каково ваше мнение?
Цаголов торжественно поднял руку.
— Осетия трудовая с охотой пойдёт на такой съезд, — произнёс он. — Мой народ не отстанет, верьте!..
Киров и доктор привстали и крепко пожали его тонкую руку, «Терек» почти уже не выходил. Еле-еле с пятое на десятое удавалось выпустить куцый номерок на случайно добытой плохой бумаге.
Наряду с «Тереком» во Владикавказе издавалась ещё газета «Красное знамя». Появлялась она в продаже тоже редко.
Плохо доходили до Владикавказа центральные газеты, а без них Киров не мог дня прожить. Вот он и ходил каждый день на городской телеграф. Бывало, в течение дня наведается туда даже несколько раз. Его тут хорошо и давно знали.
— За новостями, Сергей Миронович?
— Да, друзья мои. Есть что-нибудь?
Со Ставрополем он разговаривал в этот день долго, телеграфисты даже заворчали. Анисимов всё одобрил.
«...Наш 111-й полк с честью продолжает свой боевой путь, — выстукивала телеграфная лента. — Скоро полк выступит против генеральских войск, помогающих контрреволюции. Как Ной, доктор и другие товарищи? Ну, будь здоров, привет всем. По сути дела уже доложено нашим ставропольским товарищам, всё сделаем, не беспокойтесь. Держитесь крепче. Ваш Николай».
«...Будь здоров, Николай. Нам надо не только держаться, а наступать. Привет Симе и всем, всем! Солдаты твои — герои!..»
Тут же, на телеграфе, Киров пробежал глазами кое-как пробившиеся на Терек некоторые центральные газеты. С Дона и Кубани по-прежнему шли плохие вести. Восстания, бои. Но не оправдывались пока надежды Корнилова и других генералов, стремившихся поднять юг России против Советов. Всюду Советы упорно держались.
Это бодрило...
БылО часов одиннадцать, когда Сергей Миронович наведался в редакцию. Казаров одиноко бродил по пустым комнатам.
— Плохо, всё очень плохо! — сказал он Кирову, — Пропади всё пропадом, я больше не могу! Закрою газету.
— Подождите немного, Сергей Иосифович.
— И что будет? — грустно вздохнул тот.
— Мы заберём ваше дело в свои руки.
— Берите сейчас.
— Нет у нас средств, Сергей Иосифович. Откуда v нас, терских большевиков, могут взяться деньги?
— А где мне взять? Я банкрот.
— А мы ещё только начинаем жить, дорогой Сергей Иосифович. Поверьте, мы скоро войдём в силу, и увидите — мы создадим прекрасную газету. У нас даже есть уже для неё название «Народная власть».
Казаров только развёл руками:
— Мечты, мечты. Но дай вам бог...
В двери вдруг появилась Тамара. Шапочка, пальто — всё было запорошено снегом. Лицо Тамары, обычно бледное, сейчас пламенело ярче мака.
— О, вы здесь! — обрадованно воскликнула она, влетая в комнату. — Сергей Миронович, я должна вам доложить, что Ной пропал.
— Как — пропал?
— А так...
Тамара всплеснула руками с выражением комического отчаяния:
— Ной сбежал! — И, снова всплеснув руками, голосисто захохотала.
Не удержался от смеха и Сергей Миронович.
— Как это — сбежал? Куда?
— Не знаю! Ума не приложу!..
По словам Тамары, это случилось так. До десяти утра всё шло хорошо: Ной послушно лежал на диванчике и читал, а Тамара хозяйничала в комнате и на кухне. Всё прибрала, навела везде чистоту и порядок, приготовила завтрак.
И за едой всё было хорошо. Как хвалил Ной блюда — не находил слов, чтобы выразить свою признательность. А когда Тамара после обеда мыла посуду на кухне, Ной тихонько надел пальтишко и скрылся, оставив на диванчике вместо себя извинительную записку.
— Вот, читайте, — протянула Тамара Кирову листок бумаги.
«Извините, что, возможно, огорчу вас, друзья мои, но выхода нет. Если мы будем полёживать в такое время, будет совсем худо».
...Вечером в помещении Сонета собрались владикавказские большевики. Их стало много больше, чем прежде.
Намереваясь объединить горские народности Терека, городское русское население, казаков, иногородних крестьян в одну трудовую мирную семью, большевики, как бы для примера, создали прообраз такого интернационала прежде всего в своей организации.
Большой зал. Мелькают черкески, шинели, штатские пальто, кожаные куртки, тулупы. В русскую речь врываются грузинские, армянские, осетинские, чеченские слова.
Только что Киров доложил собранию о своём плане — как будет созван, обеспечен охраной и проведён съезд народов Терека.
И вот уже идут споры. Мнения самые разноречивые. Одним кажется, что ещё не наступило время, другие предлагают завтра же «запустить машину» полным ходом.
Слово берёт доктор:
— Давайте сначала выясним позицию Грозного, Пятигорска, Георгиевска, Моздока. Уточним отношение Чечни, Осетии, Кабарды, Ингушетии. В единении — сила, мы знаем, но мы же хотим не простое единение, а такое, которое приведёт к установлению Советской власти на Тереке. Тут надо ещё поработать. Давайте наметим, кто куда поедет для такой работы.
У доктора всегда веские, короткие выступления. Он спокоен, сдержан.
А Киров, чей план сейчас обсуждался, как бы оставался в тени. Он сидел бочком на подоконнике, улыбался, изредка бросал в зал шутливые реплики и покуривал.
Так бывало часто: подаст идею, а сам отойдёт в сторонку; люди загорелись, горячатся, а он спокойненько дымит трубкой.
Серобабов присаживается к нему:
— Что это было днём в Совете, Сергей Миронович? Говорят, нашему председателю какие-то хулиганы грозили.
— Грозили, да. Но дело, кажется, улажено...
— Ничего не улажено, — говорит Серобабов, — Есть
у меня сведения, что хотят разгромить Совет. Всех разогнать, арестовать.
— Откуда же эти сведения?
— Ребята мои прослышали.
— Доктору ты сообщил об этом?
— Докладывал. Не верит...
У Серобабова завелись обширные связи в разных слоях населения Владикавказа. По примеру рабочих отрядов железнодорожников и Алагирского завода образовались отряды рабочей самообороны на окраинах города. Молодой слесарь с ними тесно связан, всё от них быстро узнает.
Он утверждал, что руками пьянствующих осетинских офицеров из бывшей Дикой дивизии атаманский дом хочет попытаться разогнать Владикавказский Совет. И помогает казачьим верхам терско-дагестанское правительство с Александровского проспекта и горское правительство Чермоева.
— Чермоев сейчас где? — спросил Сергей Миронович у всеведущего железнодорожника.
— В Грозном. Но со здешним нашим атаманским до-дом всё время в контакте.
Временным главарём терского казачества сейчас был есаул Медяник. Этот носа не показывал из атаманского дворца. Звал из станиц только к себе. Войсковой казачий круг заседал во дворце почти непрерывно. В городе посмеивались:
«Казаки стали заседателями. Ну и ну!..»
Селезнёв не уцелел при обстреле атаманского поезда на станции Прохладной. А Следов выжил. И часто появлялся у Медяника во дворце.
— Ной наш пропал, знаешь? — сказал Сергей Миронович железнодорожнику. — До собрания мы его искали-искали, не нашли.
— Эге! — произнёс Серобабов, — Что же мне раньше не сказали? — Он сполз с подоконника, — Ной же болен и лежит!
— Оделся и куда-то ушёл из дому.
— Хм! — пробормотал Серобабов. — Я сейчас. — И пошёл к двери...
Собрание уже заканчивалось, когда он опять появился в зале. В этот момент снова выступал Киров. Он доказывал, что убийство старого чеченского шейха ошеломит весь Терек. Даже Сунженские казаки, наиболее озлобленные постоянными стычками с горцами, теперь поймут, что и горцев и их, казаков, провоцируют, нарочно сталкивают лбами для усиления кровавой драки.
— Некоторые считают, что убийство шейха есть казачья месть за смерть Караулова, — говорил Киров. — Возможно, что это так и есть. Мы ещё не знаем, куда ехал шейх...
— Это уже только что выяснилось! — крикнул с порога железнодорожник. — Шейх ехал в станицу Червлёную на мирные переговоры с казаками.
— Вот видите! — подхватил Киров. — Ну что ж, теперь ясно, что наши терские контрреволюционные воротилы переиграли. В станицах многие уже видят, к чему вела политика Караулова, царство ему небесное, а в горах всё больше людей начинают верить в нас.
Продолжая говорить, Киров всё смотрел на Серобабова. Тот загадочно улыбался.
— Ну что ж, давайте завтра брать власть, — пошутил кто-то в зале. — Всем чертям назло!
— Утопия! — усмехнулся кто-то другой, — Нужна помощь центра. В Питер ехать надо! Без оружия и денег что сделаешь?
— Слушайте, дорогой товарищ! — повернулся Сергей Миронович в ту сторону, откуда прозвучал скептический голос. — Старому ингушу Джабраилу из глухого дальнего аула мы могли говорить, что раз в Петрограде наше правительство, то теперь обеспечена и наша победа на Тереке. И это правильно, конечно. Но недаром народ придумал поговорку: «На бога надейся, а сам не плошай». Вражья сила сумела всё-таки обнажить наш край от пехотных воинских частей, как мы против этого ни боролись. Теперь выход один: нам надо у себя делать то же, что делает наша центральная власть в Петрограде: объединить трудовые массы, не дать провокаторам разжечь войну одних наций против других. Для нашего Терека такая война — гибель!..
Когда собрание закрылось, Сергей Миронович подошёл к молодому железнодорожнику:
— Ну что, где Ной?
— Дома. Опять на своём диванчике.
— А где он был?
— У него тут в городе знакомые чеченцы, родственники убитого шейха. И вот товарищу Ною пришло в голову навестить их, чтобы выяснить историю его убийства. От них товарищ Ной направился на телеграф и попал туда, когда вы уже ушли. Говорил с Грозным, йотом со станицей Червлёной. Всё выяснил.
— Ах, какой! — качал головой Киров.
— Славный, — отозвался с улыбкой железнодорожник. — Я бы в такое время тоже не стал полёживать.
Потом Серобабов рассказал:
— Когда я отвозил его ка извозчике домой, он по дороге всё доказывал, что случай с убийством шейха очень важный. Раз шейх ехал в Червлёную, значит, горцы сильно жмут на примирение. А казачьи верхи убили его из страха, что в станицах тоже могут протянуть руку горцам. Вот и пошли на крайность... А раз так, то самая пора собирать съезд.
Киров слушал и улыбался. Мысли Ноя и то, к чему пришло собрание, в главном полностью совпадали.
4
С утра падал мягкий, лёгкий снежок. Он закрыл неубранный мусор на тротуарах, выбелил город, сделал его чистеньким, нарядным. Приближался Новый год. Из последних остатков хозяйки пекли пироги, готовили праздничный стол.
Готовилась к новогодней встрече и Мария.
Утром в Совете опять была неприятность. Туда вызвали Кирова, Цаголова и других большевиков.
вернулись арестанты-конники из Армавира, и снова в кабинете доктора произошёл скандал. Офицеры жаловались: их будто бы обобрали в Армавире.
Дебоширов опять заставили удалиться из Совета. Цаголов поехал в казармы успокаивать буйствующих там осетинских офицеров из бывшей Дикой дивизии, а Киров вернулся в редакцию заканчивать работу над новогодним номером «Терека».
Хоть какой-нибудь да выпустить номерок.
Помогали Кирову Маркус и два опытных журналиста, давно ставшие владикавказцами, — Георгий Ильин и Коренев.
Около часу дня в редакции появился Серобабов.
— В городе что-то много стало офицеров, — сообщил он, — С каждым поездом приезжают и приезжают. Кто-то будто им клич бросил.
— Кто же эти офицеры?
— Всякие. Из старой армии. Уволенные, бежавшие из Питера и других городов, есть казачьи, есть горские...
— Ты предупредил Орахелашвили?
— Да. Я сейчас оттуда, из Совета. Доктор просил и вас известить.
— Надо всё поставить на ноги, — сказал Киров. — Как плохо, что с Терека ушла наша родная пехота! Выгнали её, мерзавцы!
Серобабов скоро ушёл. Он спешил в мастерские — собрать свой отряд.
Ещё дня два назад по городу распространился слух, что Владикавказский Совет хочет установить «коммуну» в городе; отобрать у жителей имущество и сделать всех пролетариями, а кто не подчинится, будет расстрелян на месте.
Слухи такие залетали на Терек чаще всего с Дона и Кубани. А иногда из Закавказья. Их опровергали, но снова и снова возникали эти вздорные сплетни.
Поводом к новой волне обывательских разговоров о «коммуне» было принятое на днях Владикавказским Советом решение, которым он подтверждал свою верность Центральному Совету Народных Комиссаров в Петрограде.
Под вечер в редакцию зашёл Маркус.
— Ну и ну! — Он сразу начал выкладывать новости. — В городе открыто поговаривают, что Совет наш будет разгромлен. Смотрите, как работает атаманский дворец! Вся шваль объединилась вокруг него, вся контра!
Не успел уйти Маркус, как появились Тамара и Мария. Они только что от Ноя. Опять его нет дома.
Куда исчез Ной, выяснилось очень скоро. Он сам позвонил Кирову по телефону из здания Совета, — Здравствуй, Сергей дорогой, здравствуй! Ты меня слышишь? Это я, Ной, который себя так несерьёзно ведёт... Постой, постой, сначала выслушай, что я тебе скажу. Сейчас в председательском кабинете известный тебе доктор произвёл осмотр моего здоровья и согласился больше не держать меня на диванчике. Что ты теперь скажешь? Я слушаю.
Киров потребовал к телефону доктора.
— Да, — подтвердил тот, — Я согрешил против совести, но выхода нет, он всё равно не улежит, ты же его знаешь!..
Когда Киров рассказал сидящим в редакционной комнате товарищам о своём разговоре с Ноем и доктором, те посмеялись. Коренев сказал:
— Погода хорошая, ничего страшного. Температуры у Ноя уже нет, я у него утром был. Всё думает о предстоящем съезде.
— Какой там съезд! — усмехнулся Ильин, — Смотрите, что делается на Тереке. Вы слыхали последнюю новость? Я на вокзале такое слышал: вся Чечня спустилась с гор, чтобы отомстить за убийство шейха, и сейчас захватывает Грозный. А казаки собираются по тревоге в полки и пойдут его освобождать!
— Провокация, — отозвался Киров. — Очередная утка.
На улице уже вечерело, снег сыпал и сыпал. Он падал ровно, тихо. От снега сумерки были светлыми, деревья стояли в задумчивой неподвижности.
Понемногу все разошлись. Киров собрался на телеграф, и Мария пошла с ним. В редакции осталась одна Тамара.
Пол комнаты был усеян обрезками бумаги, окурками. Тамара подмела пол. Постояла у зеркала в коридоре, подбирая причёску для завтрашнего новогоднего вечера. Потом Тамаре захотелось поговорить с Поляковой по телефону. Сняла трубку, подула в неё раз, другой.
Телефонистка не отзывалась.
— Барышня! Барышня! Почему не отвечаете?
Аппарат не работал. Странно...
Вдруг у подъезда внизу заколотили в дверь. Тамара спустилась, открыла.
На пороге стоял Цаголов. У фонаря подальше виднелись два всадника в бурках. Цаголов держал за поводья свою лошадь.
— Где Киров? — спросил молодой осетин. — Большая офицерская банда сейчас вломилась в Совет. Арестованы доктор и Ной. Надо предупредить Кирова.
Тамара растерянно ответила, что Киров, вероятно, уже на телеграфе.
— Никого не впускайте! — крикнул Цаголов, вскакивая в седло. — Берегитесь!
— А как будет с арестованными?
— Мы их освободим, не волнуйтесь!..
Не разбирая дороги, всадники помчались к центру города.
5
Ночь Киров провёл на квартире у Серобабова. Это была ночь без сна. Сюда пришли Маркус, Полякова, Ильин. У них на глазах и произошёл разгром Совета. Пьяная банда офицеров с криком и свистом ворвалась в здание и начала бесчинствовать. С ней бы ещё можно было как-нибудь справиться, но банду поддерживали две сотни всадников из бывшей Дикой дивизии, стоявшие на улице. Кроме обычного вооружения, у них были ещё и пулемёты. Ноя и доктора, как главных деятелей Совета, офицеры увели куда-то под конвоем.
— Это вам за Армавир! — кричали громилы. — Наших в Армавире без права держали под замком, так мы и ваших подержим.
Страшно было не это, а то, что, как бы по сигналу, город оказался во власти мгновенно выползших из своих щелей уголовников, разных людишек, бежавших от революции из центров России. Но больше всего оказалось на улицах офицеров и бывших чиновников, потерявших свои звания и пенсии. Эти особенно разорялись:
— Терек — не Россия! Не хотим Советов!..
Не успели увести Ноя и доктора из здания Совета, как начались грабежи. Ночь озарилась отблесками пожаров. Центральные улицы то наполнялись народом, то вмиг становились будто вымершими.
То тут, то там возникали перестрелки.
Но ещё более страшными оказались вести, которые пришли этой ночью из Грозного: чеченские отряды атакуют станицу Кохановскую, и станица уже горит, а казаки других станиц в отместку за это начали осаду аулов Старый и Новый юрт. Костёр межнациональной войны на Тереке запламенел, затрещал ещё сильнее.
Киров в эту ночь упрямо твердил:
— Нет, нет и нет! Мы сильнее, только не организованы. Ной прав: самая пора собирать съезд!.. Они переиграли!..
Никогда не видели его таким разъярённым, как в ту ночь. Он не мог усидеть на месте — всё ходил из угла в угол, непрестанно дымил трубкой, злился, что Серобабов и Полякова не позволяют ему выйти на улицу. Время от времени Сергей Миронович накидывался то на секретаршу владикавказской партийной организации, то на молодого железнодорожника:
-- Почему вы держите меня здесь?
— Потому что бессмысленно рисковать, всё равно вы тут ничего не сделаете, — отвечала Полякова. — Мы отвечаем за вас.
Серобабов резонно говорил Кирову:
— Я хочу сохранить свой отряд, и лучше не выступать прежде времени. А контра только того и ждёт. Вам надо уехать отсюда.
— Нет, — решительно отказывался Киров. — Как я уеду? Не может быть и речи.
— Надо, — настаивал Серобабов и, видя, что Киров снова приходит в сильное возбуждение и хватается за свою трубочку, предлагал: — Самоварчик поставить, а? Крепкий чаёк — прекрасное средство от нервов.
Квартира у Серобабова была тесная, но уютная и чистенькая. Сергей Миронович мог чувствовать себя в безопасности, однако это его ни в какой мере не устраивало.
Он спросил у Маркуса:
— Как дома? Маша знает, где я?
— Знает. Я заходил...
— Ты успокоил её?
— Ну конечно. Боится за тебя...
— Что за меня бояться... Эх, проклятье!
Он и сам понимал, что говорит не то. Как Марии не тревожиться за него?
Маркус за чаем огорчённо вздыхал:
— Сначала ударили по Грозному, заставили сто одиннадцатый полк уйти оттуда, а сейчас взялись за наш Владикавказ! Ничего не скажешь: своя логика в атом есть.
Киров усмехнулся. Ему почему-то вдруг вспомнился покойный Караулов, всплыло перед глазами полутёмное фойе Большого театра. Какие сумасшедшие глаза были у атамана, когда Киров бросил ему слова о правителях, которые гонят дым обратно в печную трубу... Атаман умер, так, наверно, и не поняв смысла этих слов.
— Знаешь, Яков, — сказал Сергей Миронович, — своя логика, конечно, бывает и у тех правителей, которые обречены историей. Так как у них ничего не получается, они стервенеют и начинают гнать дым обратно в трубу. Вот именно это самое и происходит у нас
на глазах.
— Хорошо сказано, — улыбнулся Маркус.
А у Кирова после того, как он вспомнил о тех, кто гонит дым обратно, будто отлегло от сердца; он повеселел, сел за стол, выпил чаю.
С- этой минуты он мог уже более спокойно обсуждать меры, которые требовалось принять в ответ на происшедшие события.
Видимо, Серобабов прав — придётся на время уехать в Пятигорск. Это сейчас единственное место на Тереке, где власть Совета подпирают надёжные армейские части, и прежде всего 113-й полк.
— Да, — говорил Сергей Миронович, — теперь Пятигорск должен стать нашим главным центром, откуда мы поведём наступление на контру и начнём осуществлять наш общий план...
Но прежде всего требовалось добиться освобождения Ноя и доктора. Квартира Серобабова стала как бы штабом. Сюда прибегали командиры отрядов рабочей самообороны, местные большевики, связные из верных Совету (очень немногочисленных) частей гарнизона. Дважды за ночь прилетал верхом Георгий Цаголов. Именно ему было поручено добиться освобождения арестованных, и он делал всё, что мог.
Ноя и доктора держали взаперти в казармах Осетинского полка бывшей Дикой дивизии. Оттуда, как узнал Цаголов, их собираются утром перевести в какое-то другое место. Вот этого момента и ждал Цаголов. К утру он успеет стянуть в город многих керменистов-всад-ников из ближних осетинских селений. Гонцы посланы, и люди уже съезжаются. Так рассказывал Цаголов.
К утру Серобабов привёл Марию.
— Был обыск? Приходили? — спросил у неё Сергей Миронович. С тревогой вглядывался он в её лиЦо, серое от бессонной ночи. — Видишь, со мной всё в порядке.
— Да, вижу, — ответила она просто.
В квартире Серобабова в эту минуту было тихо. Полякова и Маркус дремали за столом, уронив головы на локти. Марию напоили чаем.
— Квартиру нашу я заперла егце с вечера и ушла к соседям, — рассказала Мария, — Те тоже меня никуда не выпускали. Но я всё-таки раза два выходила, стояла на углу и слышала в публике разговоры, что тебя хотят убить. Можешь себе представить, как я переживала!
Она присела рядом с ним на софу. На стене над ними тикали ходики.
Сергей Миронович обнял Марию:
— Вот что, Маша. Я, наверно, уеду в Пятигорск. Тебе лучше оставаться здесь. А там посмотрим.
Мария промолчала, и он понял, что должен ещё поговорить с ней, иначе она не совладает со своей тревогой, впадёт в отчаяние.
— Слушай, Машенька, — сказал он, — я давно собираюсь рассказать тебе одну историю. В письмах я тебе о ней не писал, мы ещё тогда не знали друг друга... История грустная, правда, но всё-таки расскажу.
И вот какую историю он рассказал.
То было ещё в Сибири, в Томске, в дни его молодости. Попав под арест в 1906 году, он потом отсидел целых два года в томской исправительной тюрьме. Корпус, где находилась его камера, был забит заключёнными. В стране после поражения революции 1905 года свирепствовала реакция, за решётку сажали самых лучших, самых смелых людей России.
Смертные приговоры следовали один за другим.
Камера Сергея Мироновича была расположена на первом этаже, как раз напротив входной двери, ведшей со двора в корпус. Хлопнет дверь — и заключённые уже вздрагивают, настораживаются. Предположить можно было всякое: явился кто-то из начальства, привели новых узников, кого-то увели на казнь.
Нервы у Сергея Мироновича были крепкие, но и он не выдерживал, когда по ночам в коридоре раздавалось:
«Братцы! Прощайте!»
В камерах поднимался яростный стук, отовсюду неслись крики гнева и боли, с несчастным, осуждённым на смерть, прощались его товарищи, прощались только этими криками и стуком, не в силах ничем больше помочь. Стучал и он, Сергей.
Справа от его камеры сидел молодой рабочий, ожидавший казни.
Этого рабочего звали Василием. Он участвовал в какой-то «экспроприации», и судил его военно-окружной суд. Помилования Василий не просил, и неотвратимо надвигалась роковая минута. Таких называли смертниками. И все заключённые старались как могли облегчить им последние дни жизни. Заботились о них, не давали падать духом и особенно внимательны бывали к таким молодым, как Василий.
Со своим соседом Сергей Миронович перестукивался часто. Тот плохо знал тюремную азбуку, и приходилось по нескольку раз выстукивать одно и то же слово, пока Василий угадывал, о чём речь. А душевная поддержка и бодрое слово очень нужны были этому парню: он терял самообладание, перестал выходить на прогулки.
Сергею Мироновичу пришла в голову мысль просверлить дыру в камеру соседа,, чтобы легче было с ним общаться, разговаривать. На помощь пришли другие заключённые. Был добыт обломок железного прута. Этим-то «инструментом» Сергей Миронович просверлил стену.
Теперь он мог хоть целые дни переговариваться с соседом.
Того всё больше терзали мысли о приближавшейся смерти. Обычные слова утешения тут не подходили: нужны были особые, быть может, самые простые слова, но такие, которые вошли бы в душу смертника и помогли ему с достоинством подлинного революционера встретить свой последний час. Сергей Миронович нашёл эти слова. И с каждым днём настроение Василия делалось всё более ровным, он реже поддавался вспышкам отчаяния.
Однажды ночью тюрьму разбудили крики и стук. Василия выводили на казнь. Во всех камерах стоял адский грохот, он заглушал голос Василия, а тот что-то кричал. Наконец удалось разобрать:
«Долой самодержавие! Да здравствует свобода!..»
Этот рассказ Сергей Миронович закончил словами:
— Так умер тот человек, Мария. Дрогнул, но не уступил, не потерял чести. И мне бы хотелось, чтобы ты, Мария, всегда бодрила меня и сама была стойкой. Это очень нужно в наше время. Ты слышишь?
Она ответила пожатием руки.
— Согласна?
— Да.
— Тогда хочу услышать не «боюсь за тебя», а «верю в тебя, в твою счастливую звезду».
— Верю, Серёженька!
— Ну то-то, — произнёс он, опять впадая в шутливый тон. — Смотри у меня!..
Немного позже, воспользовавшись тем, что Серобабов задремал, он вышел на улицу. Было пасмурно, тихо. Где-то за Тереком подымался к небу розоватый, подсвеченный снизу, дым пожарища. Выли в подворотнях собаки.
Когда Киров выходил, Мария ничего не сказала. А когда он вернулся, она с улыбкой произнесла:
— Ну, что там? Просвежился?
Он ласково потрепал её по щеке.
Было семь утра, когда примчался нарочный от Цаго-лова. Он сообщил, что Ной и доктор освобождены и укрыты в надёжном месте.
Глава тринадцатая. У чёрной пропасти
1
Слушай, Сева, казачьи верхи собираются объявить войну горцам, ты слышал? — спрашивала у мужа Лена в один из январских дней.
— Слышал.
Но ты не всё знаешь. Эти господа провокаторы хотят действовать наверняка и задумали хитрый манёвр.
Всеволод сидел у окна и читал газету. За окном мела пурга.
— Ну и годик начался! — сказал он. — Одна тысяча девятьсот восемнадцатый. Всё не могу привыкнуть. Так ты что сказала? Манёвр казаки задумали? Какой?
— В Моздоке собирается отдельский казачий съезд.
И выпущено воззвание к населению Терской области: мол, идите с нами, если хотите порядка. И заворачивают всем этим полковник Рымарь и есаул Пятирублев. Можешь себе представить, что это будет за съезд! Но есть бог на небе и всё видит, — шутливо закончила Лена.
— Говори толком, Лена, в чём дело?
— Тогда поезжай в Пятигорск, — рассмеялась Лена, переходя наконец к делу. — Я сейчас была з партийном комитете, туда звонили из Пятигорска. Все наши уже там. И Киров, и Ной, и Орахелашвили. Подбирается делегация для посылки в Моздок на особые дипломатические переговоры с казачьими верхами. Киров хочет и тебя вовлечь. Поедешь?
Он встал, отложил газету:
— Еду, Лена... Ты принесла чего-нибудь поесть? Дети голодны.
Плохо жили Лена и Всеволод в эти дни. Лена иногда получала паёк за работу в женотделе Совета. А Всеволод так и не нашёл себе уроков в Георгиевске. Никто не хотел учиться, училища не работали. Никогда не было на Тереке так тревожно, как сейчас. Терек трясла губительная лихорадка междоусобицы. Ингуши и чеченцы объединились и жестоко мстили казакам за убийство шейха Дени. На Сунже сгорело уже несколько станиц.
Владикавказ после разгона Совета оказался в руках оголтелых банд абреков и поджигателей. Пожары, грабежи и перестрелки не затихали.
Но больше всего тревожила Сунжа. Окопавшись, как полагается на войне, казаки и ингуши зели бои, часто даже с применением артиллерии.
По станицам шли разговоры: «Одно спасение, братья, собраться всем и покончить раз и навсегда с Чечнёй да с Ингушетией».
Вот тут-то на белый свет и выползли сидевшие до того в затишке Рымарь и Пятирублев. Как ни странно, оба оказались членами казачьего Военно-революционного комитета в Моздоке. От имени этого комитета они и звали народ к себе на съезд, чтобы сообща выступить против «насилия и произвола», как говорилось в воззвании. Имелись в виду ингуши и чеченцы.
Киров, Ной и Орахелашвили жили в Пятигорске уясе больше недели. Сюда теперь тянулись большевики и верные революции люди со всего Терека. Моздок — Пятигорск. Два города противостояли друг другу.
Всеволоду предстояло побывать и здесь и там, и Лена, провожая его на вокзал, не скрыла, что ей завидно.
— Я не удержусь, — шутливо говорила Лена, — Возь му в охапку детей и тоже брошусь в бой.
— Будь благоразумна, Лена. Дети у нас уже достаточно хлебнули. Куда им ещё?..
Пятигорск... Милый, уютный Пятигорск. Над лысой горой Машу к, над ущелистым многогорбым Бештау, над лесистой Змейкой светит солнце, хотя и по-зимнему холодное.
В послеполуденный час Киров сидел в «Бристоле» с молодым худощавым солдатом и беседовал с ним о событиях в стране и на Тереке. Собеседником Кирова был Анджиевский. Один из самых деятельных и-видных большевиков Пятигорска, человек этот по характеру был полной противоположностью Кирову. Горячий, быстрый.
— Я хочу с. вами теоретически поспорить, — говорил тот с вызывающей улыбкой. — Как вы на это посмотрите?
— Давайте, давайте, дружище.
— У меня свой взгляд на события. Я считаю, что нам надо решительнее действовать. Не признаю никаких компромиссов. Рабочий класс. Терека — вот кто нам зёрен до конца. Завтра созовём митинг железнодорожников в Минводах и попросим вас там выступить.
— Хорошо, выступлю.
— И перед солдатами нашего полка тоже.
Бывший типографский наборщик, потом солдат, Анджиевский возглавлял сейчас Пятигорский Совет. Кирову этот человек нравился.
— Очень жаль, что мы разобщены, — говорил Анджиевский, — Единой партийной организации на Тереке у нас нет, чёрт знает что такое! То ли дело в Петрограде или в Москве. Там чувствуется: партия так партия! Пролетариат так пролетариат! А у нас что? Ясности никакой нет.
— Там всё гораздо яснее, это верно, — соглашался Киров. — Но Терек — национальная окраина страны. Здесь всё неизбежно сложнее. И не мы в этом виноваты. Кто бы не хотел ясности? — Киров усмехнулся, — Вспомнил одно хорошее выражение, — сказал он, — заметив, как округлились в недоумении глаза Анджиевского. — «Новое должно быть новым».
— Это кто сказал?
— Горцы так говорят.
— И правильно говорят, чёрт возьми! — воскликнул Анджиевский. Он от удовольствия даже хлопнул кулаком по столу. — Умницы! Любят ясность, как здоровые дети! Новое должно быть новым. Я за это!
— Кто же против?
Анджиевский потянулся к своей кружке, отпил несколько глотков.
— Извините, — сказал он, — но я должен высказать вам некоторые претензии, товарищ Киров.
— Пожалуйста.
— У нас тут говорят, что вы и Буачидзе ведёте слишком мягкую линию. Что я разумею, вы понимаете, надеюсь.
Киров улыбнулся: вот упрёки, о которых он давно слышал.
— Куда это годится, дорогие товарищи! — горячился Анджиевский. — Говорят, Караулов у вас даже присутствовал на заседаниях Владикавказского Совета!
Сергей Миронович ответил:
— Да, присутствовал. То было летом, когда однажды в Совете разбирался вопрос о стычках между горцами и...
— Всё равно! Не с Карауловым было разбирать этот вопрос! Нашли кого звать на свои заседания!
— Да поймите, Анджиевский, председателем Совета тогда был эсер Гамалея, а большинство в Совете вообще принадлежало не...
— Ну и что? — не унимался Анджиевский, — Всё равно никакие компромиссы в революции невозможны. Мы должны идти напролом. А я слышал, вы хотите участвовать в сборище, которое казачьи верхи собираются устроить в Моздоке. Зачем это нам, большевикам, скажите на милость?
Анджиевский выжидающе прищурил глаза. Взгляд был острый, колючий.
— Да, я думаю, нам следует туда поехать, — произнёс Сергей Миронович, глядя собеседнику в глаза.
— К чертям! — воскликнул Анджиевский. — Они же хотят войны! И надеются нас втянуть!
— А мы поедем и соберём там свой съезд!
— Послушайте, ведь это будет вавилонское столпотворение, а не съезд! Вы увидите! Наших там может оказаться очень мало. Что тогда?
— Что вы, Анджиевский! — мягко, с доброжелательной улыбкой сказал Сергей Миронович. — Такую империю опрокинули! Потом Корнилова и Керенского отмели прочь! От атамана Караулова избавились! Так неужели же не одолеем Рымаря и Пятирублева?
И Киров расхохотался так весело и непринуждённо, что и Анджиевский не удержался от смеха.
— Я-то не против вашей попытки, — сказал солдат примирительно. — Шансы на успех есть, я это прекрасно понимаю.
Он добавил, шутливо постукивая себя по лбу:
— Не считайте меня твердолобым. Тактика есть тактика, мы это знаем. Но противно же, чёрт побери, сидеть за одним столом с карауловцами! А на съезде их соберётся целая свора!
— А мы зачем? — развёл руками Киров, — Налетает и топор на сук. И знаете, ещё что? Признаться зам по чести, я ведь тоже не рад видеть эти морды. А много лет мне приходится с ними иметь дело.
Он уже не шутил, и Анджиевский это почувствовал,
— Который час? — Сергей Миронович поглядел на часы. — В четыре у меня разговор по прямому со Ставрополем. Ничего, часик ещё можем с вами отдать «теоретическому» спору. Пойдёмте...
— Куда?
— А куда хотите. Походим просто...
Денег у Сергея Мироновича не было, и заплатил официанту Анджиевский. Со дня переезда в Пятигорск Киров и Ной перебивались случайными подработками в местной газете, а Орахелашвили устроился врачом з госпитале. Жили в гостинице, питались скудно, часто не завтракали, не обедали.
Теоретический спор (вернее, это был уже не спор, а разговор о тактике) продолжался на улице и потом в «Цветнике», одном из красивейших уголков Пятигорска. По дороге встретили Ноя и Всеволода, прибывшего сюда утром. Те тоже вовлеклись в разговор, и оба взяли сторону Сергея Мироновича.
«Цветник»... Густые тенистые аллеи в центре города. Светло и воздушно рисуется на фоне окрестных гор здание Лермонтовской галереи. Тут всегда много публики, и особенно людно у минеральных источников, заключённых в бюветы.
Ной попробовал воду в источнике, от которого пахло гнилыми яйцами. Сергей Миронович и Всеволод тоже подставили стаканы под дымящуюся паром горячую струю. Выпили морщась.
— Ну, как наша водичка? — язвительно осведомился Анджиевский. — Вкусна или нет?
— Гадость, — убеждённо сказал Всеволод.
— Нет, ничего, только тлением отдаёт, — сказал Ной. — Карауловым пахнет.
Все рассмеялись. Киров заметил:
— Не везёт атаманам на Тереке.
Недавно новый атаман пустился зачем-то в путешествие по Военно-Грузинской дороге. Там его подстерегла вечером засада из ингушей. Во Владикавказ казаки под утро привезли бездыханный труп. Терек жил сейчас без атамана.
В «Цветнике» прежде можно было встретить лишь богатую публику, наезжавшую в Пятигорск из разных мест России лечиться минеральными водами.
Теперь это был своего рода клуб под открытым небом. Тут, на скамейках, встречались для переговоров по делу, для совещаний; на лужайке у Лермонтовской галереи и в самом помещении галереи толпился самый разношёрстный народ.
Тут вспыхивали митинги, споры, перебранки. Встречалось много солдат. В отличие от других городов Терека, Пятигорск ещё сохранял в неприкосновенности целый запасный пехотный полк. В этом полку и служили солдатами Анджиевский и Малыгин, находивший-
ся сейчас в Баку. Не Владикавказ, а Пятигорск становился центром политической жизни Терека. Сюда съезжались на зов Кирова и его друзей многие терские большевики.
— Ты смотри, кого только здесь не встретишь! — сказал Ной Кирову, — Это действительно цветник: все масти идейных и политических течений представлены в живых лицах.
Приходилось то и дело здороваться со знакомыми, идущими навстречу или сидящими на скамейках, очищенных от снега.
Как ни складывается жизнь, люди не забывают о своих болезнях. По аллеям тянулись к минеральным источникам больные, толпились у бюветов, дожидаясь очереди на освободившийся стакан.
Сергей Миронович уже собирался уходить на телеграф, как вдруг Ной воскликнул:
— Ба! Наш старый знакомый тоже здесь!
— Кто?
— А ты погляди.
На лужайке возле бювета стоял и потягивал из стакана давний знакомец Кирова — бывший владикавказский следователь. Так вот он куда перебрался после кровавых событий во Владикавказе летом минувшего года.
— Мечется человек по свету, — заметил Ной.
Анджиевский поинтересовался:
— А кто это?
Бывший следователь уже допил свой стакан. Был он всё так же тощ, только ходил почему-то согнувшись. Обтрёпанный костюм, мятая шляпа. В руке тросточка. Вот он отошёл от бювета, медленно зашагал по аллее. Киров окликнул его:
— Здравствуйте, господин бывший!
Тот оглянулся и обмер.
Киров стоял от него в няти шагах. Стоял и с иронической улыбкой, но приветливо помахивал рукой. Видимо, это ещё больше сконфузило бывшего следователя. Он растерянно топтался на месте. Может, подошёл бы к Кирову, но смущало присутствие посторонних.
— Спасибо за письма! — крикнул ему Киров. — Как поживаете?
Тот закивал:
— Ничего, благодарю...
— Совсем сюда переехали?
— Да, пришлось. Уж очень там...
— Понятно... Здесь поспокойнее.
— Да, здесь я и лечусь, как видите.
— Ну что ж, хорошо.
— Хорошего вообще-то мало... Прощайте, — поклонился бывший следователь. — Желаю всех благ.
Киров снова помахал ему рукой.
Ной тем временем успел объяснить Анджиевскому, кто этот человек.
— Чёрт возьми! — сразу вскипел Анджиевский, — Так это же враг! Старорежимная морда! Что с таким разговаривать!
Бывший следователь уходил. Вот уже не стало видно его долговязой фигуры за поворотом аллеи.
Киров посоветовал Анджиевскому не горячиться, а тот уже потянулся было к своему револьверу.
— Этот человек на переломе, понимаете? Их немало сейчас на Руси и у нас на Тереке. Постепенно им всё открывается.
Сергей Миронович рассказал, о чём у него были споры на допросах со следователем.
— Ему казалось, что Россия, как многонациональная империя, может получить от революции только анархию, распад государственности. Теперь он видит одни обломки старой империи и пока не понимает, что зарождаются основы нового государства, какого не было. Не все же марксисты, как мы с тобой, дружище, — закончил Сергей Миронович с улыбкой, хлопая Анджиевского по плечу, — В народе есть разные по сознанию люди. И всех, кого можно, мы должны тянуть к себе и объединять. Это же самое будем делать и на съезде в Моздоке. Вот если мы этого делать не будем, тогда действительно можно ждать лишь полной анархии и всеобщего развала на Тереке.
В четыре часа Киров говорил со Ставрополем. К аппарату подошёл Анисимов.
«Создаём первые регулярные красные воинские части, — сообщил Николай. — Работы по горло. Как у вас дела?»
Киров рассказал о предстоящем съезде в Моздоке, о боях между казаками и горцами на Сунже.
«А с Грозным я часто переговариваюсь, положение знаю».
Аппарат выстукивал слова, из которых видно было, что Анисимов сердцем ещё в Грозном. И Терека он не забывает.
«Сергей Миронович! — отпечатывалось на ленте, — Наш Грозный определённо может вам помочь в завоевании съезда в Моздоке. На смену нам пришли славные люди. Ты Гикало знаешь? Хорошо работает!..»
Киров знал Гикало. В Грозный ещё летом прошлого года вернулся с Кавказского фронта молодой военный фельдшер, большевик. Он и некоторые другие надёжные люди были оставлены в городе, чтобы подготовить восстановление власти Совета.
«Гикало привлечём, сделаем, — ответил Киров, — Мы мобилизуем к открытию съезда в Моздоке всё и всех. Но и ты помоги, Николай».
Николай ответил:
«Сводный отряд в две тысячи человек будет у вас к 25 января».
«Желательно на несколько дней раньше, Николай. Мз тактических соображений. Мы хотим кое-чего добиться до того, как все съедутся в Моздок».
«Хорошо, постараемся раньше...»
А час спустя Киров и Ной инструктировали Всеволода на вокзале, где стоял готовый к отправке поезд.
— Добейтесь от Рымаря и Пятирублева согласия на общеобластной съезд. Они хотят звать казаков и иногородних только нескольких казачьих отделов, а вы настаивайте, чтобы всех позвали. Мол, звать так звать! Ну, чеченцев и ингушей они, конечно, не позовут. Пусть. Когда съезд пойдёт за нами, мы их сами позовём.
Последовал тот же ответ, какой Сергей Миронович получил от Анисимова.
— Постараемся...
Несколько дней от Всеволода не было никаких известий. Зато не замедлил дать о себе знать Анисимов. Не прошло и недели, как на Терек стали прибывать с соседней Ставрополыцины эшелоны с войсками.
Пополнились гарнизоны Пятигорска, Георгиевска, часть войск была двинута во Владикавказ, часть — в Грозный.
Скоро стало известно, что в Моздоке Рымарь и Пяти-рублев ответили Всеволоду согласием:
«Пускай общетерский съезд...»
У моздокских главарей были свои планы, свои надежды и тактические ходы. Обе стороны готовились к схватке.
И вот в один из предпоследних дней января в Моздоке собрался общетерский съезд.
Моздок... На закате зимнего дня из окон поезда, только что прибывшего сюда из Пятигорска, открылись заснеженные тихие улочки, ряды пузатых домиков под черепичными крышами и торчащие там и сям высокие чёрные стрелы пирамидальных тополей.
К одному из головных вагонов подошла группа казачьих офицеров в бурках и добротных шапках из серого барашка.
С ними был Всеволод. Весёлый, довольный, что его посольская миссия удалась.
Он протиснулся в вагон и прошёл по ряду купе.
— С приездом, с приездом! — говорил он, пожимая на ходу протянутые ему руки.
В последнем купе стояли готовые к выходу уже одетые Киров и Буачидзе. У Ноя был в руке небольшой саквояж, делавший его обладателя псхожим на земского врача. Сергей Миронович был, как обычно, налегке. Куртка, сапоги.
В глазах — весёлые искорки.
— Ну, как вы тут? — деловито осведомился Ной, — Кто это там с вами?
— Господа Рымарь и Пятирублев пришли встречать вас. Надеются найти в вас истинно русских людей и патриотов России.
— А мы такие и есть, — рассмеялся Киров. — Ну, у меня с ними давнее знакомство. Ещё в Большом театре встречались.
Ной забеспокоился:
— Зачем было приводить их сюда? Что нам с ними — целоваться, что ли? Ведь мы драться приехали, и именно с этой камарильей.
Всеволод развёл руками.
— Вай! — воскликнул он шутливо. — Как вы не понимаете, товарищ Ной? Гостей положено встречать, а они тут хозяева. Вот и пришли.
Он добавил, смеясь:
— Они же не знают, с чем вы приехали!
— Пошли, — двинулся к выходу Киров.
Это было началом боя. Он начался тут же, на перроне. Рымарь и Пятирублев узнали Кирова, сделали вид, что рады снова встретиться с ним на моздокской земле.
Сергей Миронович сдержанно улыбался.
— Помните Большой театр? — спросил он.
— О, конечно! — ответил Рымарь.
Пятирублев почувствовал подвох в вопросе Кирова и поспешил вмешаться:
— Что старое вспоминать? Известная пословица гласит: «Кто старое помянет, тому глаз вон!» Было — сплыло.
Ной, обычно хорошо владеющий собой, не скрыл язвительной усмешки:
— Кстати, особенно не любят прошлого иезуиты.
Оба казачьих чина не остались в долгу, смерили Ноя холодным взглядом с ног до головы, потом переглянулись, как бы сказав друг другу: «Известное дело — инородец».
— Итак, — повернулся Пятирублев к Кирову, — завтра начинаем. Делегаты почти все съехались. Открытие в нашем кинотеатре.
Это походило на вызов на дуэль.
— К вашим услугам, — слегка поклонился Киров. — Мы не опоздаем.
Поговорили о погоде, о том о сём и решили больше не докучать друг другу. Рымарь и Пятирублев пошли к другому вагону, тоже здороваться и выказывать своё почтение гостям.
Всеволод ушёл с ними, но скоро вернулся и часа два сидел с Ноем и Кировым в купе, рассказывая о положении дел. Спешить было некуда, полный сбор делегатов ожидался к завтрашнему утру.
Поезд, которым приехали Киров и Ной, так никуда и не ушёл. Он был невелик — всего пять вагонов. Паровоз растолкал вагоны по запасным путям, погудел на прощание и скрылся в загустевшей мгле студёного январского вечера. А в вагонах до глубокой ночи горели огни и слышался оживлённый говор. Иногда кто-нибудь выбегал с чайником и корзинкой в станционный буфет.
За вечер в купе у Сергея Мироновича и Ноя побывали многие.
Пришла Полякова, ещё утром приехавшая из Владикавказа.
— Знаете, сколько будет делегатов от казаков? Больше ста человек! — сообщила она.
Каждый из приехавших на съезд большевиков имел свои поручения. На Поляковой лежала обязанность работать среди казачьих делегатов. Помогал ей Свиридов, но ему было трудно разговаривать со своими собратьями. Большинство в казачьей делегации шло пока за Рымарем и Пятирублёвым. Вагоны с казачьими делегатами тоже стояли на запасных путях, и возле них ходила стража.
Но Полякова как-то сумела завязать связь с казаками, уже побывала в их вагонах.
Ной весело говорил Кирову, кивая на Полякову:
— Ещё бы! Красивая женщина. Весь Моздок будет у её ног!
— Жаль, нет нашей Лены, — смеялся Сергей Миронович, — Она не так красива, как Полякова, но зато энергия из неё бьёт, как из фонтана!
Сергею Мироновичу Полякова привезла привет от Марии и просьбу, чтобы он не ходил на холоде без шапки, как он это любит часто делать.
— Ай, Маша, Маша! — рассмеялся Сергей Миронович, когда Полякова передала ему эту просьбу, — Вы лучше расскажите, как она переносит всё то, что у вас происходит.
— Хорошо себя ведёт, будьте спокойны, — ответила Полякова. — Её взяла к себе на квартиру одна рабочая семья. Мы все некоторое время прятались, а сейчас стало потише, мало-помалу в городе восстанавливается прежняя жизнь. Ваша Мария опять дома, ходит на работу, помогает нам.
Побывал в тот вечер и Маркус в купе у Кирова и Ноя. Тот жил в Моздоке уже третий день, помогал Всеволоду в его миссии.
Ночевал Яков Львович в городе у знакомого учителя, а день проводил на телеграфе.
На его обязанности лежала связь с Владикавказом и Грозным. Делалось всё, чтобы в состав делегаций вошло побольше верных людей — фронтовых солдат, рабочих, трудовых крестьян из иногородних.
— Грозненцы выехали, к утру будут, — сообщил Маркус. — В делегации Иоанисиани, Гикало и ещё несколько наших.
— Как хорошо! — потирал руки Ной, — Теперь только позвать чеченцев и ингушей, и съезд будет действительно общетерский.
— Позовём, — уверенно говорил Маркус.
Киров задумчиво смотрел на свет вагонного фонаря. Было ясно: борьба будет нелёгкой, но хорошо, что настроение у всех такое боевое.
Около часу ночи в вагон заглянул Свиридов. Казака встретили, как старого знакомого:
— A-а! Привет терскому трудовому казачеству! Присаживайтесь, Свиридов. Как живёте?
Ной спал. Рядом с Кировым сидел рослый, плечистый кабардинец с широким энергичным лицом. Видно было, что это человек огромной физической силы. На столе лежала гора всякой снеди: кусок сильно зажаренной баранины, кукурузный чурек, фрукты, сыр, завёрнутый в белую тряпицу, две нетронутые бутылки красного вина.
Кабардинец сразу пожаловался казаку:
— Слушай, обрати внимание — товарищ Киров не разрешает открыть эти бутылки.
— Правильно делает, — улыбнулся казак.
— Почему правильно? — вскричал горец, — Зачем ты такое говоришь? Наша делегация так не считает... Мы узнали, что наши руководители из Владикавказа живут плохо, и привезли им из Кабарды немного покушать. Как же ты можешь говорить «правильно», казак? Ты же видишь — обе бутылки стоят с пробками!
Конечно, он шутил, горец, но старался хранить серьёзный, обиженный вид.
— Ты понимаешь? — говорил он казаку. — Мы же старые знакомые! — Он показал на себя и Кирова: — Мы с ним ещё в тысяча девятьсот тринадцатом году встречались в горах Кабарды. Я простой пастух был, понимаешь, овец пас. Думаешь, своих? Ха!
Кабардинец обратился к Кирову:
— Скажи, ты сам видел — это были мои овцы? Нет! Помещичьи! У Бетала ничего не было! Правду я говорю? Я был голый, нищий! А сейчас — вот видишь? — Он показал на гору снеди, — Ты думаешь, я это где взял? Народ дал!
У Кирова действительно было давнее знакомство с этим горцем. Его звали Беталом Калмыковым, и сейчас это имя гремело в Кабарде. Человек безумной отваги, Бетал создал большой конный отряд из таких же отчаянных горцев-батраков, как он сам, и держал в страхе богачей и помещиков, помогал крестьянам отбирать у них землю и скот. Чтобы защитить в случае надобности большевиков, которым он был предан всей душой, Бетал привёл в Моздок весь свой отряд и держал его в теплушках на станции.
— Ну, открыть? — спрашивал он у казака. — Давай мы с тобой выпьем за братство!
— Братство — дело святое, — сказал Свиридов, — но не до вина сейчас, братец!
— А что? — спросил Бетал, сразу оставляя шутливый тон. — Говори!
— Знаете, этой ночью к Моздоку подтянулось много наших войск. А зачем Рымарь и Пятирублев их стягивают?
Свиридов назвал номера частей, командиров, с дотошностью хорошего осведомителя перечислил, сколько войск, их вооружение.
Кирову весть не понравилась.
— Слух идёт нехороший, — продолжал Свиридов. — Вроде приказ уже отдан.
— Какой?
— О наступлении на Чечню и Ингушетию. Я только что узнал от своих.
Час от часу не легче! Похоже было на то, что казачьим главарям удалось устроить хитрую западню. Сторонников решительных действий против чеченцев и ингушей не так уж мало будет на съезде, даже среди делегатов от иногородних крестьян — русских по национальности. Вот это и хотят использовать вражьи силы. Выйдет Рымарь на трибуну, огласит приказ, скажет, что войска готовы, и предложит съезду: «Голосуйте». И может случиться, что чёрное дело восторжествует.
— Хорошо, что вы меня предупредили, — сказал Сергей Миронович казаку. — Приготовьтесь выступить.
— Что вы, я же не оратор!
— Вы представитель от трудового казачества, Свиридов.
Бетал решительно поддержал Кирова.
— Ты должен сказать, что думаешь! — потребовал и кабардинец от казака. — Мы все скажем: «Братство — дело святое! Не хотим война!»
Он встал, надвинул серую папаху на лоб.
— Не надо падать духом! Правильно я говорю, товарищ Киров? Мы ещё откроем эти бутылки, вы увидите. Устроим братство — и тогда выпьем!
— Дай бог, — улыбнулся казак в усы.
3
Тихий уездный Моздок никогда не видел такого нашествия. В единственной плохонькой гостинице не хватило мест, и многие делегаты оставались жить в тех вагонах, в которых приехали. У вагонов ходила охрана.
Заседали в кинотеатре. Более трёхсот человек набивались с утра в небольшой зал и среди густых облаков табачного дыма просиживали до сумерек.
Жители Терека, не принадлежащие к казачьему сословию и к горцам, назывались иногородними. Большинство иногородних составляли крестьяне, снимавшие земли в аренду у богатых казаков. Но в эту же часть населения входили и терские горожане.
Киров, Ной и другие большевики были делегатами от иногородних. В Моздок приехали не только большевики. В делегации оказались левые эсеры, меньшевики-интернационалисты, люди разного толка, называвшие себя сторонниками мира и демократии, но беспартийные.
Казачья делегация была самой многочисленной — более ста человек. Многие бородачи-станичники искренне желали мира и порядка.
Были ещё делегации осетин, кабардинцев и балкарцев. Не было только чеченцев и ингушей.
Первый день прошёл бурно, все ораторы жаловались на хаос и невозможные условия жизни и требовали создания твёрдой власти на Тереке.
— Ни жить, ни пахать, ни сеять — ничего нельзя делать! — говорили и сами казаки. — Одна нога — в поле, другая — в стремени. Один день — крестьянской работе, другой — окопу да винтовке. Разве это жизнь?
На второй день с первых минут заседания к трибуне подошёл Рымарь. В руке его белел какой-то исписанный листок.
— Товарищи и граждане! — начал он. — Имею огласить приказ чрезвычайно важного значения. Читаю: «Приказ о наступлении на Чечню и Ингушетию. В связи с непрекращающимися нападениями туземцев...»
Киров оборвал Рымаря возгласом из-за стола президиума:
— Постойте! Чей это приказ?
— Наш.
— Мы тут не ослышались? Ваш приказ говорит о наступлении на чеченцев и ингушей?
— Да, так точно. Но вы ещё не...
— Это объявление войны! — не удержался и Ной, тоже сидевший в президиуме. — Кто дал вам право такое?
В зале крики, топот и свист заглушили всё. Председатель звонил в колокольчик, но это не помогало. Перебранивались на всех скамьях. Многие вскочили и продолжали перепалки, к счастью пока словесные. Но чувствовалось, все так накалены, что может дойти до кинжалов и револьверов. Одни вопили:
— Правильный приказ! Все пойдём!
— Не выйдет? Потише? — образумливали ретивых сторонников Рымаря другие, — Вы понимаете, на что вас толкают?
— А всё равно нету жизни!
— Провокаторам поддаётесь! Позор!
Понемногу в зале стихло, и Рымарь опять заговорил:
— Из-за чего шум, граждане? Дело решённое... Приказ, который я вам зачитываю, уже отдан, и войска наши уже выступают. Нельзя больше терпеть!.. Замирение необходимо!
Многие в зале ещё не могли прийти в себя.
Уже отдан приказ? Как же можно было спешить с таким делом? Зачем поторопились? И в публике не утихало волнение. Одни бурно протестовали, другие шумно выражали одобрение, хлопая в ладоши, третьи ошеломлённо смотрели на сцену, где сидел президиум. Там, на сцене, тоже давали себя знать противоборствующие лагери, и, в то время как за столом президиума одни негодовали, другие злорадно ликовали.
Вместо Рымаря на трибуне уже стоял вертлявый Следов, тоже участник казачьей делегации. Держа руку на сабле, он вспрыгнул на сцену из зала, помешав Кирову пройти к трибуне.
— Моя фамилия Следов! — крикнул он, — Я простой казак и хочу сказать: правильный нам оглашён приказ! Я — за! Революция не может терпеть того, что делают чеченцы и ингуши! Они на неё посягают! Они срывают мероприятия власти! Они против идут, и с ними заедино, по-братски не проживёшь. Ура Рымарю!
Крики «ура» прокатились по залу вместе с возгласами:
— Долой! Прочь с трибуны!
— Старорежимная морда! Черносотенец!.. Провокатор!..
Следов возмущённо орал в зал:
— Тут меня обвинили, что я черносотенец! Протестую! Ежели Советская власть в Петрограде поможет нам против разбойников из Чечни и Ингушетии, то мы за ней все пойдём. Какой же я черносотенец? Я служил царю, а сейчас царя нет. Какая власть будет, той и будем служить!
— Какой мерзкий тип! — услышал Ной позади себя голос Сергея Мироновича.
Лицо Сергея Мироновича было бледным от сдерживаемого волнения, глаза сузились. Он шагнул к трибуне. И сразу начал речь, хотя Следов егце что-то кричал, А Киров не кричал, не напрягал голоса, но его услышали.
— В отличие от многих, — сказал он, — мы пришли сюда без оружия. Я говорю «мы», имея в виду тех представителей терской демократии, которые здесь призваны выразить её волю. С моего пояса не свисает шашка, в кармане нет револьвера. Нет при мне и простого кинжала. Но есть у нас иное оружие: оружие правды. Вот этим оружием я сейчас и воспользуюсь.
Он говорил о том, как царизм штыками покорял горцев, как шаг за шагом вытеснялись горцы из их родных мест, как часто произвол и бесправие заставляли чеченцев и ингушей браться за оружие, чтобы отстоять свою честь. Россия стала тюрьмой народов, но она же создала великую партию большевиков, которая сумела во главе народа свергнуть тиранию самодержавной власти и разбить вдребезги старую империю. Сейчас рождается новое государство на её прежней территории — государство рабочих и крестьян, и это впервые в истории!
Из зала Кирову порою кричали:
— И что вы этим хотите доказать?
— Зачем нам это? Старые песенки!
В какой-то момент Рымарь оглянулся на Пятирублева.
Тот брякнул саблей, вскочил.
— Не имеет значения, я думаю, какое государство создаётся вместо старой империи. Суть не в том. Нам важно, чтоб съезд поддержал нашу акцию замирения. Сами понимаете, выхода другого нет!..
— Он есть! — поднял руку Киров, обращаясь к залу, — Товарищи! Тут нам предлагают один выход: войну! Да, войну, а не «замирение», как это пытаются изобразить полковник Рымарь и есаул Пятирублев. К чему это стыдливое слово! Вещи надо называть своими именами. Война есть война! Это кровь, раны, смерть, сироты, потери близких, родных и любимых. Нет, товарищи, это не «замирение» — объявлять поход на горцев. Это другое! Это продолжение старой политики царской власти! Эта дорога ведёт нас к чёрной пропасти.
Слова Кирова находили сочувствие у большинства. Но где же выход из анархии, царящей в крае?
Ответ требовался обстоятельный, и в зале с волнением ждали его.
В речи Кирова несколько раз прозвучали слова: «чёрная пропасть». И, когда он произносил эти слова, многие в зале невольно съёживались: казалось, вот она, пропасть, один шаг до неё. И если на Тереке начнётся та война, которую предлагают Рымарь и Пятирублев, всех поглотит эта пропасть.
Киров рассказывал о положении в стране, и перед глазами людей, сидевших в зале, вставали картины взвихрённой России, разрываемой на части врагами революции.
— Вот так и нас хотят разделить, раздробить на части, — говорил Киров. — Нет, товарищи, будущее наше, будущее России — только в дружбе и единении всех населяющих её народов. Все мы хотим мира, но именно для этого мы должны создать единый революционный фронт против сил старого режима, против анархии и чёрных замыслов контрреволюции, а не против чеченцев и ингушей! Поэтому не войну мы должны объявлять чеченцам и ингушам, а позвать их представителей сюда к нам, в Моздок!
Рымарь вскочил:
— Это невозможно! Звать сюда врага?
— Звать! Звать! — кричали в зале.
— Ни за что! Не позволим! — вопили другие.
В зале возник непонятный шум. У дальней двери шла какая-то борьба. Раздавались крики:
— Не мешайте! Закройте дверь!
— Чужая публика рвётся сюда! — крикнули в президиум из угла зала. — На улице тьма народа собралась!
Киров приложил руки ко рту рупором.
— А вы откройте, откройте дверь! — протрубил он громко, — И окна распахните! Пускай нас слышат! Мы должны тут договориться о наших дальнейших действиях, об организации народной власти на Тереке. Как же решать всё это без народа? То Караулов мог думать, что можно править без народа. А его методы, как видите, живы! Решать за народ и помимо воли народа — безнадёжное дело! Откройте, откройте всё!..
В зале нашлись десятки охотников помочь раскрыть окна и двери. Отодвинулись портьеры, в зал ворвались потоки дневного света и многоголосый гул толпы.
4
То был день бурных споров, незатихающего гула, ожесточённых схваток.
Ещё вчера, в первый день съезда, из многочисленной и разнородной делегации иногородних выделился особый блок, который сами его участники назвали социалистическим. Большевиков в блоке было не более трети. Остальные числились социалистами разных течений. Создание этого блока было частью большого плана Кирова и его друзей. Чтобы добиться заветной цели и противостоять напору вражеских сил, надо было прежде всего объединить собственные силы.
От имени социалистического блока Киров и другие делегаты предлагали отказаться от войны как средства «замирения» Терека и избрать другой путь — путь революционного братства трудовых людей всех наций.
Нелегко было делегатам блока говорить — их прерывали злобными выкриками из зала, где сторонников Рымаря и Пятирублева было немало. Люди не верили, что с ингушами и чеченцами можно поладить: ведь были попытки мирно договориться с ними, а ничего это не дало.
К полудню накал страстей достиг предела.
Выскакивал кипящий яростью делегат от казаков — сторонников Рымаря — и начинал кричать:
— Вы за анархию! Дождётесь, что скоро абреки нас всех вырежут!
Был момент, когда дошло до оружия.
Подталкиваемый и подбадриваемый кабардинцем Беталом, к трибуне поднялся Свиридов.
— Товарищи и граждане! — крикнул старый казак. — Я тоже имею кое-что огласить, вроде как приказ, только не такой, какой нам тут оглашал господин полковник Рымарь.
В зале сразу насторожились.
— Мои станичники не хотят больше жить в привилегированном казачьем положении, — продолжал Свиридов. — Казаку давались привилегии за то, что он по несознательности служил царю-императору Романову против народа. Не надо нам этого, хватит! Позвольте огласить наказ, который дали мне мои станичники.
Вой, свист и топот ног заглушили в зале всё. Как это может казак дойти до такого кощунства — отказываться от привилегий, дарованных за царскую службу! Стало быть, и от привилегий на землю, на освобождение от налогов! На Свиридова обрушились:
— Долой его! Позор изменникам!
Совсем потерял голову Пятирублев, схватился за кобуру и с обнажённым револьвером набросился на старого казака:
— Убью, мерзавец! Нет места на земле тому, кто позорит казачье звание!
Он силился вырвать из рук Свиридова наказ, но тот не отдавал. Из зала одни бросились на помощь Пяти-рублеву, другие — на помощь Свиридову, и тут показал свою богатырскую силу Бетал. Всех, кто нападал на казака, он расшвырял в одно мгновение. И, положив тяжёлую руку на рукоять своего кинжала, крикнул притихшему залу:
— Всё! Больше спорить и кричать не будем! Хватит! Сказано — надо звать ингушей и чеченцев сюда, и будем звать! Приказ о наступлении на них будем считать отменённым! А кто не послушает, пускай знает: у нас, у тех, кто за братство, есть не только оружие правды! У нас есть и оружие, которое лучше из ножен не вынимать!
Приказ Рымаря был отменён.
«Забрезжил свет надежды, — писали терские газеты в те дни, — радостной надежды, что наконец-то наш край обретёт мир!»
После долгих споров съезд избрал две делегации: одна поедет в Чечню, другая — в Ингушетию, чтобы позвать их представителей на съезд, но уже не в Моздок, а в Пятигорск, где через две недели соберётся вторая сессия съезда.
«То будет, — говорилось в газете, — по-настоягцему представительный съезд, который по праву уже сможет называться съездом трудовых народов Терека, а не только некоторой части нашего населения, как в Моздоке».
Потом стало известно, что делегации уже в пути...
Глава четырнадцатая. Братство — дело святое
1
По горным тропкам скакали гонцы.
— Братья! Нас зовут в город! С нами будут разговаривать, как с людьми!
Старый Джабраил приехал в Базоркино одним из первых. Был талый февральский день. В бывшем графском доме старику сказали:
— Васан-Гирей Джабагиев не поедет в Пятигорск, а ты хочешь ехать.
— Куда же поедет Васан-Гирей?
— Он поедет в Тифлис.
— Зачем Тифлис? — удивился старый ингуш. — Надо в Пятигорск ехать. Там народ соберётся... Весь Терек шлёт туда своих людей. Там законы будут принимать, новую власть создавать.
— Там будут одни гяуры.
— Обман! — вскричал Джабраил. — Все там будут! И мы там будем! И Чечня будет!
— Чечни не будет. Господин Топа Чермоев, самый богатый и влиятельный человек Чечни, тоже поедет в Тифлис. Вместе с Васан-Гиреем.
— Да? А что им там делать?
— Ты чересчур любопытен, Джабраил. Наши руководители знают, что делают. У них в Тифлисе будут важные переговоры. Туда пожалуют из Турции наши единоверные братья. Ислам, коран, шариат — вот наш путь, Джабраил. Не отбивайся от стада!..
Так нашёптывали не одному Джабраилу. Приедет с гор человек, избранный на съезд и готовый ехать в Пятигорск, — его начинают со всех сторон обрабатывать.
В эти дни бои на Сунже ещё продолжались. По-прежнему держался фронт, и перестрелки между горцами и казаками не затихали.
Базоркино тоже напоминало военный лагерь. Тут всегда наготове стояли конные сотни джигитов. Вооружённые люди встречались на каждом шагу. Скрипели в узких улочках арбы, мычали впряжённые в них буйволицы. На широкой лужайке у бывшего графского дома и в саду за оградой днём и ночью горели костры и слышался быстрый гортанный говор. Тут варили, ели, спали.
Приехали из дальних аулов Гапур Ахриев и Юсуп Албогачиев — оба горячие поборники новых идей, против которых так был настроен Васан-Гирей. С ними, с этими людьми, Джабраил быстро нашёл общий язык.
— Вы, дети мои, большайвики, я уж вижу, — говорил им старый ингуш. — Вы за план Киры, я знаю!
Как мог убедиться старый Джабраил, «большевистски» настроенных людей в Базоркине встречалось гораздо больше, чем это можно было ожидать. На площади, перед бывшим графским домом, и в саду, под голыми сейчас деревьями, велись разговоры, от которых Васан-Гирей, будь он здесь, пришёл бы в ужас.
— Большевики — это наши первые друзья, — говорил в толпе всадников молодой, рослый черноусый ингуш в серой черкеске. — Они хотят перестроить весь мир по справедливости. Чтобы все трудовые люди жили хорошо и свободно, без горя!
Джабраил спросил у кого-то:
— Кто этот человек?
— Это Гойгов. Наверно, тоже большайвик.
— Хорошо говорит, — одобрительно покивал Джабраил, — Я знаю семью Гойговых. Рад, что она тоже за план Киры. Замечательный план!
Выезд делегатов в Пятигорск неожиданно задержался. Всё Базоркино взволновал слух: во Владикавказе опять пролилась кровь трёх ингушей. Убили их осетины-христиане. Эта весть мгновенно подогрела воинственные настроения скопившихся в Базоркине молодых джигитов. Их было здесь уже больше тысячи.
— Отомстить осетинам! Смерть за смерть!
С быстротой молнии весть разнеслась и по окрестным аулам. К вечеру Базоркино запрудили конные и пешие добровольцы, готовые сражаться с осетинами. Грозил вспыхнуть новый фронт, на этот раз уже не против казаков, а против своих же горцев.
Осетинское селение Ольгинское соседствует с Базоркином. По околицам обоих селений давно вырыты окопы.
— Братья! Образумьтесь! Не верьте слухам! — уговаривали молодых всадников старики. — Не спешите проливать кровь! Довольно её!
Увы, слух оказался верным. Кто на кого напал первый, установить не удалось, но в стычке действительно пало три ингушских офицера. Были жертвы и с осетинской стороны.
Недалеко от Владикавказа лежали станицы, где осетины и казаки жили бок о бок, хата возле хаты. Такой острой вражды, какая была между чечено-ингушским населением и казаками, здесь не замечалось.
Ночью густо валил снег. Заметало дороги. В горах, там, высоко, в такую погоду ветер валит с ног. Тропки узкие, скользкие, не проехать.
И всё же люди оттуда всё прибывали и прибывали. Наутро в Базоркино съехалось до пяти тысяч вооружённых всадников.
Прошёл ещё один слух: в Пятигорск на съезд уже выехали многие. Осетины там тоже присутствуют, а из чеченцев и ингушей — ни одного!
— Поедем и мы, — требовал Джабраил.
— Убьют нас в дороге, — возражали некоторые делегаты, — не доедем до Пятигорска живыми.
Около полудня к уваровскому дому подкатила коляска, только что прибывшая из Владикавказа. С сиденья сошли двое. Это были Гапур Ахриев и Юсуп Албогачиев, оба ездили в город выяснять положение.
Их тотчас окружила толпа.
Крепкий, кряжистый Албогачиев крикнул:
— Братья! Мы всё узнали. Сейчас вам Гапур расскажет. Он лучше меня говорит, потому что больше образован, а я простой кузнец.
Голос у Албогачиева был зычный, и толпа притихла.
У Гапура Ахриева были тонкие черты лица, усы, бородка. Он походил на сельского учителя. Но и у него свисал с пояса кинжал.
— Друзья мои, братья, — сказал он, — я могу в точности сообщить вам, что именно произошло в городе. Вы знаете, что на одной из улиц там стоит атаманский дом.
— Знаем, — ответили из толпы. — Пусть он сгорит!
— Это не дом, где живут или работают люди, а осиное гнездо! — продолжал Гапур, — Но сейчас этому гнезду приходит конец. И, чтобы ещё как-то спасти себя, чёрные, злые силы из атаманского дома устроили очередную провокацию. Стравили наших с осетинами, и снова пролилась кровь. В городе нам большевики сказали, что это сделал какой-то Следов, казачий прихвостень и мерзавец, каких свет не видел.
Гапур рассказывал, что только на днях этого Сле-дова видели в Моздоке. Но уже вчера он опять появился во Владикавказе. И когда между ингушскими офицерами и офицерами из Осетинского полка бывшей Дикой дивизии произошла стычка, Следов оказался главным её виновником. Это он напоил в духане осетинских офицеров аракой, и те сами уже не сознавали, что делали. Свидетели это подтверждают. Следов уже многим известен в городе как самый подлый проходимец.
Рассказ Гапура Ахриева оборвали воинственные крики всадников-ингушей:
— Смерть ему! Мы его найдём!..
— Братья! — поднял руку Гапур. — Я призываю вас к выдержке. Сейчас решается вопрос нашей жизни, решается судьба большого плана, который должен привести наш Терек к светлой жизни. Я верю, в ней найдёт своё достойное место и наш народ. Перешагнём же через все обиды, как перешагивают в горах через глубокую расщелину, и пойдём навстречу тем, кто зовёт нас к дружбе1 и миру!..
Когда Гапур умолк, слово снова взял Албогачиев.
— Братья! — крикнул он. — Ехать так ехать! В Пятигорске ждут нас. Сюда присланы люди, целая делегация, чтобы сопровождать наших делегатов на всём пути следования. В Чечню тоже посланы наши. Поезд готов, охрана есть. Не будем терять дорогое время!
Услышав это, Джабраил закричал из толпы:
— Едем! Сейчас же! Вуррро!..
Местом сбора посланцев из Чечни и Ингушетии была небольшая железнодорожная станция. Сюда из Пятигорска пришёл особый поезд с охраной из кабардинцев и присланных из Ставрополя бойцов. Состав был небольшой — паровоз, два обшарпанных пассажирских вагона и товарная теплушка для лошадей.
Дорога в Пятигорск лежала через казачьи районы. Как бы не повторилась печальная история с шейхом Дени, усилившая вражду между казаками и горцами во много раз. На любом перегоне поезд могли остановить и беспощадно расправиться с его пассажирами.
Ингуши приехали первыми. Их. быстро разместили, устроили. А чеченцев всё нет и нет. Подошёл вечер, стемнело. Гапур Ахриев и Албогачиев пошли на станцию звонить. Вернулись угрюмые.
— Что такое? — спросил у них Джабраил.
— Не могут чеченцы проехать. На пути враждебные станицы. Трудно очень.
Беспокойно прошла ночь. Никто из чеченцев не появлялся. Опять в эту ночь валил снег.
Утром из-за туч выглянуло слепяще яркое солнце. Снег стал быстро стаивать.
Пора было ехать. Дали знак машинисту трогать.
С юга дул сильный ветер, небо всё больше очищалось от туч. Поезд катил среди бесприютных, по-зимнему голых полей. Вдруг раздались крики:
— Кто-то скачет к нам!..
Все бросились к окнам вагона. По грязному извилистому просёлку наперерез поезду мчался на лошади человек в бурке и папахе. Отличный конь нёсся во весь опор. Ахриев побежал по вагонам к паровозу, и скоро поезд остановился.
Вот всадник подскочил ближе.
— Это Шерипов! Асланбек! — закричали в вагоне горцы.
Один, без охраны, презирая опасность, догонять поезд — да, так мог поступить только Асланбек. Он прорвался сквозь все преграды.
— Вурро! Вурро! — кричали ему из дверей и окон вагонов, — Иди к нам, товарищ! Конахва!
1 Вот это мужчина! (ингушек.)
Асланбек был едва ли не моложе всех, кто его сейчас окружал, а ему оказывали почёт, какой у горцев принято оказывать только старшим. Все наперебой звали его в своё купе.
— Молодец! — сказал Асланбеку старый Джабраил. — Ты достойный сын своего народа. Я люблю таких! — И поцеловал чеченца.
Снова поезд катил в Пятигорск, и глухо-безлюдными были окрестные поля.
2
По Тереку кружили лихие февральские ветры, Пятигорск ещё лежал в снегу.
Здесь уже много дней заседал съезд, и теперь это был действительно съезд народов Терека. Сюда съехалось куда больше делегатов, чем в Моздок. На Тереке начиналось нечто новое. Газеты на этот раз писали, что «свет надежды разгорается всё ярче и ярче».
Театр музыкальной комедии — одно из самых вместительных зданий в Пятигорске. Но и оно не смогло вместить всех, кто приехал на съезд. Все слои населения, все нации и народности Терека были представлены здесь. Не было только ингушей и чеченцев. Но шёл слух — едут сюда и они, едут, несмотря на все препятствия.
В зале и на сцене, в президиуме, можно было увидеть и Кирова, и Ноя, и доктора, и кабардинца Бетала Калмыкова, и осетина Георгия Цаголова, и Полякову, и приехавшего из Баку Малыгина. То в зале, то в фойе мелькала солдатская шинель Анджиевского.
Киров и Ной жили в «Бристоле» в одном номере, и в промежутках между заседаниями съезда здесь у них бывало полно народу. Бетала Калмыкова можно было застать здесь в любой час, свободный от заседаний. Он не отходил от Кирова и Ноя.
— Вам грозит опасность, не думайте, что всё уже хорошо, — говорил кабардинец.
— А мы и не думаем, — улыбался Сергей Миронович. — Терек есть Терек.
В Моздоке был избран Терский Совет, но полной власти у него ещё не было. В Совет вошло много большевиков, вошёл Ной, а Киров, хотя и вошёл, всё твердил, что его не следовало выбирать. Бетал этого не понимал и всё допытывался:
— Почему так, дорогой, скажи? Я буду член Совета, а ты нет. Ты же больше знаешь!
— Я газетчик, — отвечал, смеясь, Киров. — Я не люблю заседать.
— Я тоже не люблю, что ты! Я привык больше верхом на лошади сидеть, чем на стуле.
— В Совет вошёл наш Ной, вошли другие большевики, поверь, этого достаточно, дорогой Бетал. Как только приедут ингуши и чеченцы, мы переизберём Совет, введём туда ещё и их представителей. Надо же для них место оставить, как ты думаешь?
Был в эти дни у Кирова разговор и с Анджиевским. Энергичный, мужественный, деловой, он нравился Сергею Мироновичу всё больше и больше. Революции Анджиевский был предан безгранично, без остатка.
— Ну как, Григорий, нравится вам всё это?
— Что? Съезд? Конечно.
Вдруг Анджиевский признался:
— Знаете? Я скоро поеду к Ленину. Вы извините, — добавил он с улыбкой, — не обижайтесь.
— На что?
— Вы можете подумать, что тут есть какой-то намёк на недоверие к вам, но, честное слово, дело совсем в другом. Большие вопросы встали: о роли национальных окраин в революции, о том, как нам себя тут вести.
Сергей Миронович задумчиво слушал, дымил трубочкой.
— Я считаю, нам надо скорее, скорее перенимать опыт Питера, — говорил Анджиевский. — Невозможно больше терпеть! Всех чермоевских и карауловских прихвостней, всех соглашателей — долой, власть — Советская, и у её кормила должны встать большевики, как везде.
— Это будет, Гриша, это фактически уже есть. Потерпи ещё немного, дружище! Ведь дуги гнут с терпением, а не вдруг, — И Киров добавил, смеясь: — Так и революции готовятся. С адским терпением. Без этого нет победы, а лишь призрачный успех. А нам надо надолго, на многие века.
А съезд тем временем шёл. И бурных сцен тут было тоже много, как в Моздоке.
Но Рымарь и Пятирублев вели себя уже не так уверенно и развязно, как прежде. Вместо них на трибуну лез чаще казачий эсер Фальчиков, которого свои же называли звонарём. Следова не видно было совсем.
Зато в казачьей делегации стало гораздо больше таких, как старый Свиридов. Из станицы Марьинской прибыл молодой статный казак, большевик по убеждениям, Александр Дьяков. Из станицы Государственной — худощавый, смуглолицый Владимир Кучура, тоже ещё молодой, но уже успевший повидать виды на фронте. Кучура горячо поддерживал большевиков, и самым ценным было то, что он вёл за собой многих других казаков своей станицы.
Грозный прислал большую делегацию. В ней выделялся молодой человек в армейской одежде, с энергичным приятным лицом. Это был ставший в последнее время заметной фигурой среди грозненских большевиков Николай Гикало, из фронтовиков. После ранения на фронте Гикало носил тёмные очки. Он ещё не привык к ним и часто трогал железные дужки, поправлял,
чтобы не спадали. Киров и Ной долго беседовали с ним у себя в номере. Это было вечером, после затянувшегося заседания съезда. Расспрашивали о жизни в Грозном, о работе организации.
Грозный понемногу тоже оживал. Он выстоял, хотя и перенёс много мук. Зато опасность гибели города в междоусобной войне между горцами и казаками была предотвращена. Как и во Владикавказе, восстановилась работа Совета. Росли отряды Красной гвардии.
Была глубокая ночь, когда Гикало ушёл к себе в номер. Киров проводил его, а вернувшись, увидел, что Ной стоит у окна и задумчиво смотрит на огни города.
— О чём думает старый большевик? — спросил Киров, обнимая сзади Ноя за плечи. — Надеюсь, не о своём старом владикавказском диванчике?
— Нет. Совсем не о том.
— О чём же? Хотелось бы знать.
— О молодости нашей революции, о её великой романтической устремлённости в будущее. Без таких, как Бетал, Гикало, Анджиевский, Полякова, Цаголов, она бы не могла совершаться. Какое счастье, что эти люди идут с нами!
Киров вздохнул. Он любил разговоры, заставляющие как-то оглядеться вокруг, подумать о больших вопросах жизни и происходящих в мире событиях. С Ноем у него бывали разговоры такого рода особенно часто. Но сейчас у него болела голова, он устал и не был расположен к общим рассуждениям.
— Завтра приезжают ингуши и чеченцы, Ной. Я сейчас встретил в коридоре первого этажа Всеволода. Он точно знает. От Чечни едет один Асланбек.
— Один?
— Да. И то с трудом прорвался к поезду.
— Он стоит многих, — произнёс Ной, — Мне кажется, что горячность молодости нужна революции не меньше, чем хладнокровие и мудрость.
Киров-потянул Ноя от окна:
— Давай отдохнём немного, дорогой философ! Утром нас ждут горячие дела, и нет, мне кажется, ничего интереснее, чем творить революцию. Живое дело, чёрт возьми!
В Сергее Мироновиче, несмотря на его тридцать с
чем-то лет, иногда вдруг проглядывал юноша, он оставался увлечённым событиями газетчиком, хотя всё меньше и меньше писал, всё дальше отходил от своей старой специальности. Узел событий так запутан, а ему, Кирову, всё более интересно жить, бороться, работать.
3
Казалось, не только весь Пятигорск, а весь Терек собрался сюда, чтобы посмотреть, как будут встречать горцев.
Это было удивительное зрелище. Переполнен зал. На сцене за столом сидят — очень тесно — члены президиума. Там и Киров, и Ной, и Орахелашвили, и Георгий Цаголов, и Всеволод, и Анджиевский, и Бетал.
Сидели тут и несколько казаков. В глубине сцены скромно приютился Серобабов. Он был в тройке, при галстуке.
Все на месте, но заседание не начинается.
Только один проход из фойе в зал оставлен свободным. И туда — на боковую дверь, закрытую зеленоватой портьерой, — устремлены взоры. Общее оживление, улыбки, смех притихают, когда начинает шевелиться портьера. Нет, это солдат из охраны съезда заглянул в партер.
Не все тут рады, смех и улыбки ещё ничего не означают. Вон в третьем ряду сидят Рымарь и Пятирублев, с ними рядышком эсер Фальчиков; они тоже смеются, часто наклоняются друг к другу, обмениваются весёлыми замечаниями. Они словно явились на спектакль, который не стоит принимать всерьёз.
Киров прохаживается в глубине сцены с молодым журналистом Кореневым, одним из участников социалистического блока на съезде. Молодой, но уже опытный журналист — Киров его хорошо знал — должен выступить перед делегатами с докладом по одному из самых острых вопросов: национальному. Этот вопрос отодвинули до приезда ингушей и чеченцев. Надеялись, что тех и других прибудет больше ста человек, а на их поддержку радикального разрешения самого клятого вопроса на Тереке вполне можно было рассчитывать.
— Волнуюсь, — признавался Коренев. — Заранее предчувствую бурю!
— Горьковского «Буревестника» надо помнить, — пошутил Киров. — «Пусть сильнее грянет буря...» Да вы не волнуйтесь, — продолжал он. — Главное, чтобы чеченцы и ингуши прибыли. Это принципиально важно. Только при их участии наш съезд окажется действительно съездом народов Терека.
Киров уже выступал с докладом — по текущему моменту. И снова покорил зал — слушали его затаив дыхание. А потом два дня бушевала буря. Один за другим спешили ораторы к трибуне, чтобы высказать своё одобрение или, наоборот, поспорить с Кировым.
— Должен сказать, что ваша берёт, — говорил Коренев, продолжая прохаживаться с Кировым по сцене, — Съезд идёт за вами.
Киров с улыбкой сказал:
— За большевиками пойдёт весь мир, уважаемый товарищ!..
Но вот кольца зеленоватой портьеры резко звякнули, она отодвинулась в сторону, и на пороге появился старый Джабраил. Он был в папахе, черкеске, с кинжалом у пояса.
Казалось, влетел в зал серый и старый горный орёл, а за ним, один за другим, тоже влетали похожие на него орлы, только помоложе, и замыкал шествие совсем молодой Асланбек.
В оркестре грянули «Интернационал». Загрохотали сиденья — люди вставали.
Председательствовал в этот день пожилой осетин Симон Такоев.
— Добро пожаловать! — приветствовал он горцев под бурю аплодисментов. Это было как горный обвал.
Когда все уселись, устроились и шум улёгся, начались торжественные речи.
Деловых обсуждений в это утро не было. Выходили на трибуну казаки, осетины, кабардинцы, выступал и снова блеснул яркой речью Киров. Люди уже знали, какой он оратор, но всё больше восхищались. Многие ещё помнили его речь в Моздоке при обсуждении приказа Рымаря, крепко запали в голову брошенные тогда в зал слова:
«Мы пойдём на всё, но не пойдём на то, чтобы вырыть между нами чёрную пропасть!..»
С волнением слушал Кирова старый Джабраил. Он сидел в первом ряду партера и всё шептал:
— О алла! О алла! Я дожил!..
От ингушей сказал речь неплохо знавший по-русски Гапур Ахриев.
Потом на трибуну взлетел Асланбек. Он говорил о Шамиле, о непокорённом духе свободолюбивых горцев, об их вере в правду и справедливость.
Такой горячей и умной речи от юноши Джабраил не ожидал.
Он слушал и думал:
«Мир перевернулся!..»
Съезд проходил бурно, в горячих спорах, и не раз то Кирову, то Ною приходилось брать слово — они и здесь были главными ораторами от социалистического блока. И длился съезд дольше, чем в Моздоке.
В муках решался вопрос о земле, о народной власти, о мире на многострадальном Тереке.
Но пожар войны ещё не угас. На Сунже сейчас царило относительное затишье. В военной сводке бы написали: «На фронте без перемен».
Снег налетал и таял. Наступил март.
Как-то утром, идя из гостиницы на съезд, Киров встретил бывшего следователя и остановился поговорить с ним. Хотелось знать, чем жив этот человек сейчас. Разговор произошёл такой:
— Ну, как поживаете? Покой здесь нашли?
— О, что вы! — усмехнулся бывший следователь. — Где он есть, покой?
— Нет покоя на Руси, это верно, — согласился Сергей Миронович. — Но в мире его нигде нет.
— В жестокий век живём, увы, гражданин Киров, я уже это понял.
Сергей Миронович с улыбкой смотрел на бывшего следователя. И это всё, что он понял?
Пришлось прямо в лоб у него спросить:
— Вы не изменили своего мнения?
— О чём? A-а... ясно! Вы имеете в виду наш старый
спор? Не знаю, не знаю. Я не провидец и не возьму на себя смелость сказать, чем это всё кончится. Вы верите в преображение России. Возможно, что и добьётесь. Вера творит чудеса. Но согласитесь, тяжёлый у нас народ!
Киров пожал плечами:
— Народ тяжёлый! Почему же? Революцию он совершил блестяще.
— Ну, это ещё не всё, — перебил бывший следователь. — Это далеко на всё!
Сергей Миронович взглянул на часы. Пора на съезд, его ждут.
— Послушайте, — сказал он упрямому себеседнику. — Не начинать же нам старый спор сначала. Время другое...
— Да, да, извините. Я задерживаю вас.
— Пойдёмте со мной, — предложил Киров. — Посидите на съезде, послушайте. Вам это будет полезно.
Но бывший следователь отказался:
— Нет, нет, благодарю, но на переход в новую веру я ещё не готов. Я могу только посочувствовать вам.
— Вы чего-то боитесь?
— Боюсь? Как всякий человек, конечно, боюсь смерти. Но я не о том. Я эти дни хожу в здешнюю библиотеку и читаю о французской революции. Боже, как много схожего! Сначала песни, потом кровь. Уже не только наш Терек — вся Россия в огне! Якобинцы, жирондисты, белые, красные... Ради бога, не сочтите за дерзость... Я искренне желаю вам добра... успеха. Но, как человек старого мира, хочу оставаться пока в стороне.
— Прозябать? Небо коптить лучше?
Сергей Миронович смотрел на собеседника уже без улыбки. Смотрел и думал: «Не прав ли Анджиевский?..»
И снова спросил в лоб, резко:
— Вы, может, собираетесь на Дон к атаману Каледину? -
— Что вы, что вы! — обиделся бывший следователь, — К"разбойникам с большой дороги я тоже не пойду. Зря вы обо мне такого мнения. Я...
Странный человек. Он вдруг прослезился, схватил руку Кирова, крепко её пожал и вскоре исчез за углом.
...Подходя к зданию театра, где в эти дни заседал съезд, Сергей Миронович догнал старика Джабраила.
Тот шагал быстро, легко.
Киров виделся с ним и разговаривал уже не раз. Старый ингуш был на седьмом небе, ему всё нравилось.
Закон о земле уже был принят, а сегодня предстояло дело, которое, как считал Киров, всё решит.
— Понимаешь, Джабраил, — объяснял старику Киров, — вопрос о власти не менее важен, чем закон о земле. Мы хотим, чтобы съезд избрал хороший народный Совет, куда войдут представители всех народов Терека.
— Совсем хорошо, — кивнул ингуш.
— С казаками будешь сидеть за одним столом?
— Зачем? — спросил Джабраил.
— Сообща будете править Тереком, устраивать на нём новую жизнь.
— А казак будет?
— Что?
— Сидеть за столом, где я?
Они уже подходили к театру. У входа стояли группами делегаты.
— Сейчас я тебя, кстати, познакомлю с теми, о ком ты спрашивал, Джабраил.
Старик не успел опомниться, как Сергей Миронович втолкнул его в самую середину круга:
— Знакомьтесь, товарищи!
И Киров начал представлять горцу стоявших тут людей:
— Казак станицы Карабулакской Свиридов. Казак станицы Государственной Кучура. Казак станицы Солдатской Лужин. Пятигорский солдат Анджиевский. Владикавказский рабочий Серобабов. Казак станицы Марьинской Дьяков. Грозненский большевик Гикало. Он же председатель тамошнего Совета.
Все уважительно здоровались с горцем. Старик растроганно говорил:
— Большой спасибо... Здравствуй, здравствуй! Совсем хорошо! Большой! Да!..
— Вот, — сказал Киров горцу, — знай, что невсякий казак — твой недруг. Обманутых, конечно, много, но немало и таких, как эти товарищи. Они с радостью сядут с тобой и твоими братьями за один стол!..
— Большой, большой спасибо! — кланялся старый горец, — Я знай, Кира, у тебя знаменитый план есть, и всё ещё будет! И будет, да! О! Будет, будет!
Люди, обступившие горца, весело и дружески улыбались ему.
Свиридов потом отвёл Кирова в сторону и рассказал: многие казаки расстроены — боятся, что останутся без земли. А за Советскую власть они готовы проголосовать.
— Я говорю о нашем брате, конечно, — сделал оговорку Свиридов. — Те, кто хотел объявить в Моздоке войну горцам, теперь поняли, что просчитались, и кричат, что нас, казаков, обманули иногородние. Нас, дескать, перехитрили.
Киров задумчиво смотрел перед собой в одну точку.
Земля, земля! Нелегко рубить по живому.
Почти целую неделю обсуждали на съезде, как рубить. Горячились и спорили до хрипоты, временами чуть не доходило до драки. В конце концов приняли закон о земле. Он давал надежду, что все, кто нуждается в земле, её получат. Горцы и иногородние крестьяне, голосуя, кричали «ура». Казаки были задумчивы, и видно было, многим из них не совсем ясно, как дальше пойдёт их жизнь. Казакам было разъяснено, что станицы остаются на месте, где стояли, и никто их не станет срывать, и если говорить о трудовом казаке, то он как пахал землю, так и будет пахать.
Но недра, леса и воды Терека переходят в общее достояние, и не казачьи атаманы будут получать с них доходы, а само общество. Нефтеносные земли Грозного, обширные районы Прикаспия и Терека по закону переставали быть достоянием одного только казачества. Отменялась вслед за царской службой и царская плата казачеству за счёт разорения других.
Было ясно — богатые казаки много потеряют.
— И даже я потеряю, — сказал Свиридов, краснея всем лицом. — Ну и что? Неужели же я стану из-за этого плакать и весь свет поносить? Нет, товарищ Киров, верьте...
Сергей Миронович крепко обнял казака.
,..В этот день делегаты и гости снова до отказа заполнили кресла и проходы нарядно убранного зала театра.
Решался вопрос о признании власти Совета Народных Комиссаров, подчинении всего Терека распоряжениям центрального правительства.
— Ну, — сказал Кирову Ной, поднимаясь вместе с ним на сцену перед началом заседания, — сегодня завершается твой план!
— Мой? О нет! — возразил весело Сергей Миронович. — Он в такой же мере твой!
— Знаешь, о чём я сейчас думаю? — сказал Ной. — Наступает очень трудное время для нашего брата революционера. Мы с тобой члены большевистской партии. И не только в Питере, а всюду, где утверждаются Советы, она становится правительственной партией. Но это не значит, что её работники могут присвоить себе право командовать людьми. Я имею в виду людей нашего лагеря, не чужого. С теми, кто сейчас уже ведёт против нас гражданскую войну, разговор другой. Когда пролетарскую власть вынуждают применить силу, она должна её применить. У нас есть опыт Парижской коммуны, и Ленин об этом не раз писал. К врагу приходится применять меры диктатуры, если он берётся за оружие, но сейчас я говорю о другом. Мы ещё тут власти не взяли, а я уже слышал разговоры, что надо всё покрепче «закрутить».
— А ты не позволяй, — сказал Киров с хитрой улыбкой, — В твоих руках всё.
— Что ты?
— Ну конечно. Выберем новый Совет, Совет создаст Терский Совнарком, а его председателем быть тебе! Да, друг Ной!..
Ной протестующе замахал руками.
Но это уже было предрешено...
Заседание в то утро долго не длилось. И споров почти не было, страсти бурлили глухо, затаённо.
— Внимание, товарищи делегаты! Кто за признание власти Совета Народных Комиссаров и центрального правительства во главе с Лениным, прошу голосовать!
Лес рук. Крики «ура», «вурро», гром «Интернационала», возгласы:
— Братство — дело святое! В добрый час!
Около трёхсот делегатов находилось в то утро в зале. Из них двадцать два проголосовали против, а сорок четыре воздержались. Среди тех и других были не только казачьи главари и некоторые националистически настроенные горцы, но и меньшевики и эсеры, до вчерашнего дня ещё с грехом пополам шедшие за социалистическим блоком.
Играли «Марсельезу». Весь зал стоя пел. А в партере хлопали двери — кто-то демонстративно уходил, с улицы доносился храп и топот коней. То казаки уезжали в свои взбудораженные станицы. Скоро, скоро на хуторах появятся конные с флажками, позовут казаков в станицу на круг...
В этот день из Пятигорска на север ушла телеграмма: «Председателю Совета Народных Комиссаров товарищу Ленину. Терский Областной демократический съезд народов 4 сего марта постановил признать власть Совета Народных Комиссаров и поручил президиуму приветствовать Совет...»
4
Поздним мартовским вечером к Владикавказу подошёл поезд. Он весь пестрел красными флажками.
На площади у вокзала грянули медные трубы оркестра, забухал барабан. Встречали делегатов пятигорского съезда и новую власть — Терский Народный Совет.
Иногородние, горцы, казаки ехали в Пятигорск и ранее в Моздок не вместе, а порознь. Сюда, во Владикавказ, ехали вместе в одних вагонах. Когда они вышли на скупо освещённую фонарями и факелами площадь, раздались приветственные крики.
— Будет мир на Тереке? — спрашивали у делегатов.
— Будет, будет. Надо надеяться.
Владикавказ пережил трудную зиму. Теперь в нём пахло весной.
Прибывших всё теребили:
— Столицей новой власти будет наш город?
— Да, Владикавказ.
— А знаете вы, что у нас тут под боком творится? Ингуши и осетины воюют.
— Знаем. Постараемся замирить. Мир будет!
— Где же он, мир? Посмотрите, что кругом делается! Чему радоваться-то? На Питер, говорят, немцы идут. Украину занимают. Мы же отрезанный ломоть!
— Нечего впадать в панику, друзья. Создаётся новая армия, против контрреволюции подымается весь народ! Не пропадём!
— Дай-то бог...
А кто-то шептал в толпе:
— Поякшались с нехристями. Казака с горцем никогда не помиришь. Декреты красивые, да грош им цена. Увидите!..
Мария нашла в толпе Сергея Мироновича, взволнованно повисла на его плече. Он ласково погладил её щёку:
— Соскучилась?
— Больше двух месяцев не виделись ведь, Серёжа!
Он произнёс не без гордости, хотя и шутливо:
— Ну, как видишь, мы «со щитом»!
— Да, — прошептала она. — Я волновалась, правду скажу, но верила, всё время верила. И верю...
Он без слов крепко прижал её к себе.
Надо было устроить на ночь делегатов, и Киров смог позволить себе разговор с женой лишь в течение считанных минут. Она расскажет ему о всех своих переживаниях потом, потом... Вот о чём он хотел попросить её в первую очередь:
— Тут Лена с нами и Всеволод. Пожалуйста, приготовь у нас дома ночлег и для них. Лена с детьми.
— Как — с детьми? — удивилась Мария.
— А так. Схватила детей в охапку и прикатила в Пятигорск на съезд.
— Ну и ну!
— Да, такая она женщина. Теперь она будет жить здесь, и квартиру мы ей подыщем, а пока...
— Хорошо, хорошо, всё устроим.
Вдруг где-то близко за вокзалом прогремели винтовочные выстрелы. Тотчас ударил пулемёт, прострекотал длинную очередь. Сергей Миронович невольно вздрогнул. Мария испуганно прижалась к нему.
Владикавказ был сейчас не беззащитным. Ещё неделю назад сюда подошли с севера армейские отряды. Тут были и ставропольцы, и вновь сформированные части. Войска новой власти ещё только рождались, их было немного, но зато теперь их могли поддержать своим оружием горцы и часть казаков. Горцы горой стояли за новую власть. Выросли и владикавказские отряды рабочей самообороны.
Стрельбу за вокзалом быстро прекратили. Оказалось, подняли её какие-то пьяные офицеры. Их арестовали.
Ночевали делегаты в громадном здании бывшего кадетского корпуса.
Там провели ночь и Киров, и Ной, и Всеволод. А Лену с детьми Мария привезла к себе на извозчике. Когда дети поели и легли, между приезжей и хозяйкой начался разговор, затянувшийся до утра.
— Сколько передряг в твоей жизни! — говорила Мария, — Это просто ужас!
— Что ты! — шутливо возмущалась Лена, — Клянусь, я нисколько не жалею, что у меня такая жизнь! Так интересно всё! Мы же делаем величайшую революцию! Что наши тревоги и беды!
Пока в Пятигорске шло небывалое на Тереке примирение казаков и горцев, здесь, под Владикавказом, вспыхнул новый фронт. Не удержались горячие головы, не послушались умных и опытных стариков молодые джигиты, съехавшиеся с гор в Базоркино. Они ли напали на Ольгинское, или осетины, соседи, напали на них — как всегда, в кровавых стычках нелегко найти виноватых, но так или иначе между теми и другими разгорелась война.
Уже третий день горело селение Владимирское — его подожгли ингуши в отместку за то, что живущие там осетины пришли на помощь своим соплеменникам — ольгинцам. На линии военных действий оказалось ещё одно осетинское селение — Батохо-юрт. И там запылало зарево.
Сергей Миронович и на следующий день не явился домой. Ничего не давал о себе знать и Всеволод. Тогда обе женщины отправились к кадетским корпусам. Эти корпуса высились у начала Военно-Грузинской дороги.
Кадетов в казармах уже давно не было. В толстостенных каменных зданиях жили делегаты съезда. Тут уже работал и новый Терский Народный Совет.
Корпуса отделяла от дороги длинная ограда. У ворот стояли часовые. Когда женщины подошли сюда, ворота оказались распахнутыми. И большая толпа виднелась во дворе.
— Ну и народ! — бормотал часовой, с неохотой пропуская во двор Лену и Марию. — Как будто нйкто у нас на клятом Тереке трупов не видал!..
— Что-то случилось, — встревожилась Мария.
В середине толпы виднелась арба. Уже издали бросились в глаза высокие колёса. Страшная картина представилась женщинам, когда они подошли ближе.
На арбе лежали обезображенные трупы нескольких молодых осетин.
В толпе шли разговоры:
— Ужас один! До чего только вражда людей не доводит! Живём в двадцатом веке, а ведём себя как дикари!
Мария увидела автомобиль у входа в главный корпус и инстинктивно потянулась туда — не он ли там, её Сергей, у машины? Да, то был он. В пальто, солдатской шапке. В машине уже сидело трое, а Киров, Ной и Георгий Цаголов стояли возле и разговаривали, но тоже, видно, собрались в дорогу.
Из того места, где сидел шофёр, торчал белый флаг на коротком древке.
— А! Вот хорошо! — обрадованно воскликнул Сергей Миронович и пошёл навстречу Марии.
Он отвёл её в сторону:
— Сейчас мы уезжаем, Машенька. Но ты не волнуйся. Мы скоро вернёмся. А что дома? Как спали дети Лены?
Мария старалась изо всех сил казаться спокойной.
— Ты едешь в район военных действий, я понимаю... Ну что ж, Серёжа, если так надо... я понимаю всё.
Он никогда не выглядел таким цветущим и бодрым, как в этот день. Казалось, всё пережитое за последние месяцы нисколько на нём не отразилось. Только две ранние, но давно замеченные морщинки легли по уголкам карих глаз.
Слова и поведение Марии, наверно, растрогали его. Платок съехал с её головы, обнажив как всегда зачёсанные на прямой пробор густо-чёрные волосы.
— Видишь, как наш уговор хорошо действует, — сказал он, оглядывая её всю с ласковой улыбкой, — Вот так давай держаться и впредь. Что бы ни случилось, — добавил он.
Она вздрогнула.
— А вот это уже лишнее, — пошутил он. — Ну, прощай. Нам пора ехать. Хотим попытаться примирить враждующих...
— Да, извини, — прошептала она.
Автомобиль был старенький, отобранный у какого-то генерала в Пятигорске. Мотор отчаянно тарахтел и фыркал сизым дымом. Усаживаясь рядом с шофёром, Киров смеялся, говорил:
— Что за драндулет такой!
Георгий Цаголов, видно, тоже просился в район военных действий; он стоял хмурый и расстроенный, и Киров сказал ему:
— Не огорчайся, Жорж, дорогой! Нельзя тебе.
— Я ему то же самое в пятый раз говорю, — подхватил Ной, — Едет товарищ Калабеков. — Он показал на худощавого горца, уже сидящего в машине. — Так это понятно: он кабардинец. Едет Киров, — тоже понятно: он и Калабеков могут появиться в районе стычки как наши парламентёры. А ты нет — ты осетин. Тебя узнают и мигом убьют.
Остальные двое, рядом с Калабековым, принадлежали к охране. Это были солдаты владикавказского гарнизона.
— Ну, трогай, в путь, — сказал шофёру Киров.
В момент, когда мотор взревел и машина побежала к воротам, Сергей Миронович оглянулся на стоящую в отдалении Марию и ободряюще помахал ей рукой.
— Счастливо! — отвечала она.
Ной и Цаголов подошли.
— Вы бледны, Маша, — сказал Ной, беря её под руку. — Наверно, не ели ничего с утра. Пойдёмте.
Вошли в здание. По коридорам перекатывался гулкий говор и стук сапог.
Киров знал, что идёт на рискованный шаг. Вражда между ольгинцами и базоркинцами обострилась до предела, разыгрались тёмные страсти, и все усилия остановить стычку пока не давали результата. И Сергей Миронович решил сам поехать к сражающимся соседям.
В дороге он говорил Калабекову:
— Я верю в гуманность и здравый смысл человечества. Никакой народ, никакое государство не может двигаться вперёд и считаться достойным своего места в истории, если не преодолены звериные страсти, ещё живущие в людях. Настоящая свобода и счастье придут лишь тогда, когда мы перестроим мир и добьёмся на деле настоящей дружбы народов. Великая цель, Калабеков, ради неё стоит жить, ведь правда?
— И жить и умереть, если надо, — отвечал кабардинец.
Автомобиль уже сворачивал в сторону Ольгинского и Базоркина, как вдруг на дороге показался идущий навстречу другой автомобиль — большой, с закрытым брезентовым верхом. Эта машина явно направлялась куда-то далеко. С боков, на её крыльях, и сзади были привязаны узлы, чемоданы. Сопровождали машину пятеро вооружённых всадников-чеченцев.
Киров сразу узнал, чья машина.
Куда-то уезжает господин Чермоев. В Грузию, наверно. Дорога, по которой катил автомобиль с узлами и чемоданами, вела только туда — никуда больше Воен-но-Грузинская дорога не ведёт.
— Ого! — усмехнулся Сергей Миронович, увидев, как битком набита машина Чермоева и внутри.
Все шесть мест были заполнены. Сзади сидели какие-то женщины — видимо, члены семьи миллионера. А на переднем сиденье... Ба! Киров узнал и полковника О’Рема и Васан-Гирея Джабагиева из Ингушского Национального Совета. Чермоев сидел в серёдке между ними, важный, какой-то весь раздутый, с обрюзгшим, пухлым лицом.
Он тоже узнал Кирова и крикнул своему шофёру.
— Извиняюсь, одну минуточку! Эй! — закричал он Кирову. — Одну минуточку, господин журналист!
Пришлось остановиться,
— Здравствуй, дорогой, — с деланной весёлостью заговорил Топа, привстав с сиденья. — Как жена, дети7 Можно тебе «ты» говорить? Я уже не помню, на чём мы в последний раз кончили, когда встречались в Грозном, Мы были на «ты» или на «вы»?
Сергей Миронович усмехнулся:
— Это не имеет значения, господин Чер...
— Как не имеет? Очень имеет! За это время столько воды утекло! Одни вверх пошли, другие — вниз. Вот я, например, как считаешь — вверх иду или наоборот? Куда я иду, скажи, пожалуйста, мне интересно будет знать.
— Не знаю...
— Куда я еду, это я тебе потом скажу. Это не секрет. Каждый имеет право ехать, куда хочет. Правильно я говорю? — Тут Топа повернулся к своим спутникам. — Вот, например, господин О’Рем едет в свою Англию.
— Наконец! — усмехнулся Киров.
— Я не спешу, — отозвался тоже с усмешкой О’Рем. — Пока ещё есть время.
— Не опоздайте смотрите!
— Ого! Вы мне угрожаете!
— Э! Э! — шутовски замахал руками Чермоев. — Прошу не ссориться. Нам не нужно показывать, что мы готовы, как волки, наброситься друг на друга. Мы же воспитанные люди. Вот мне нравится, как ведёт себя наш уважаемый Васан-Гирей. Сидит с достойным видом и молчит. Прав я или нет? — обратился к Джабагиеву хозяин машины. — Я прошу только подтвердить.
«Оба на содержании у Топы, — подумал Сергей Миронович, — как же они могут ему не отвечать?» И действительно, несмотря на явное нежелание разговаривать, Джабагиев отозвался:
— Да, конечно... Собственно говоря...
— Вот! — подхватил Топа, — Никто не вправе запретить нам ехать, дорогой журналист. Я знаю, ты сейчас доволен, считаешь, что твоя взяла. Ты на коне, а я под конём. Поэтому я должен тебе «вы» говорить. Хорошо, будем на «вы», раз так.
С заднего сиденья раздался умоляющий женский голос:
— Топа! Едем! К чему этот разговор? Уже не рано, и нам надо спешить.
— Сейчас... Сейчас поедем, дорогая. Я расстаюсь с Тереком, может быть, надолго. Так позволь же мне на прощанье сказать пару слов этому человеку. — И Топа снова обратился к Кирову: — Вы слышали, господин журналист? Я уезжаю... Да, уезжаю. Пока в Грузию, потом в Турцию, в Константинополь. Но не думайте, пожалуйста, что я собираюсь бросить совсем свои промысла и дома в Грозном. Нет! Я сюда вернусь, обязательно вернусь! Понятно?
Сергей Миронович сделал знак своему шофёру ехать.
— Постой! — поднял руку Чермоев. — Ты не спеши! Знаешь, зачем я тебя остановил? Извиняюсь — зачем я вас остановил? Будем «вы» говорить. Помните, в Грозном я вам рассказывал про Дикую дивизию? Как вы этому ни мешали, она всё-таки пришла на Терек. Теперь я вам скажу кое-что другое. На Терек придёт не дивизия, а весь Запад с Турцией вместе! Ты... вы поняли? Так что не радуйтесь, господин журналист. Мы ещё посмотрим, кто будет на коне! — Топа злился, он уже кричал: — И чей бог будет сидеть в правительстве, это ещё тоже посмотрим!
— Топа! — снова раздался женский голос, — Ради всего святого, успокойся! Нам надо ехать!..
— Хорошо. Сейчас едем, — опомнился Чермоев. — Ну, прощай... прощайте! — бросил он Кирову, опускаясь на сиденье. — Я хоть немножко выговорил душу. Когда я вернусь, то буду по-другому разговаривать.
Автомобиль зарычал и рванулся к близким скалам Дарьяльского ущелья. Как там сейчас темно, глухо, мрачно...
Калабеков потом смеялся, говорил Кирову:
— Какие они все были жалкие! Как вы с ними хорошо держались!
— А я им ничего не говорил!
— А уверенность у вас была, и как она их бесила! Я видел! Ах собаки!..
Дорога петляла среди бурых полей, уже почти очи-
стившихся от снега. Было пасмурно, моросил мелкий дождик. Кое-где на буграх пробивалась первая травка. Расстояние до места стычки было небольшим, но автомобиль тащился ужасно медленно, застревал в ухабах. Пока доехали до места, дождик прошёл, опять выглянуло солнце.
Южная ранняя весна брала своё.
О предстоящем приезде мирной делегации дали знать из Владикавказа в оба враждующих селения ещё вчера вечером.
Утром из кадетских корпусов Ной опять звонил по телефону в оба селения:
— К вам приедут парламентёры. Не стреляйте!
Между ольгинцами и базоркинцами лежало поле, рассечённое двумя линиями окопов. У начала окопов, в перелеске, Киров и Калабеков оставили машину и одни, без солдат, отправились дальше. Вдаль уходила полевая дорога, по которой никто не ездил.
Дорога обстреливалась. Но сейчас пули из окопов сюда не залетали.
Тишина. Тёплое, ласковое солнце. Ни души -г так казалось. Киров поднял высоко над головой белый флаг и шагнул вперёд.
Кабардинец не отстал. Даже постарался опередить Сергея Мироновича. Он всё делал молча, сосредоточенно, без суетливых движений.
Странно было — средь бела дня ни души на дороге. Колеи затекли водой.
— Мы сначала пройдём вдоль обеих линий окопов, чтобы нас увидели, — сказал Киров кабардинцу, — Потом обратимся к обеим сторонам с предложением о мире. Хотя бы о перемирии. Важно заставить ружья замол...
Договорить Киров не успел. Ударила откуда-то винтовка. Калабеков ринулся к земле. Он сделал это без единого звука. Киров тоже очутился рядом на земле, пригнул голову.
Ещё раз выстрелили. Ещё... Пули посвистывали и ложились близко.
— Мерзавцы! — негодовал Киров и продолжал держать над головой флаг. — Кто там стреляет?
И вдруг ему послышался стон.
— Это ты, Калабеков? Что с тобой?
Кабардинец не отвечал. Лежал, уткнувшись лицом в бугорок.
— Говори, друг! Ты ранен?
Но тот уже был мёртв...
Предательская рука оборвала короткий век Калабекова. Он пахал молча, жил молча и умер молча.
Кто-то там, в окопах, озлобленный до предела, по слепой ненависти и темноте приложился к винтовке и послал пулю в белый флаг, в людей, нёсших его, хорошо зная, что приказано в этот час не стрелять.
Всего три выстрела успел сделать нарушитель. Его схватили, связали свои же соплеменники. Киров смог сделать своё дело. Он пошёл сначала в окопы к ольгин-цам, потом к базоркинцам и добился согласия на перемирие. Белый флаг, пробитый пулей, остался на дороге. Вечером его подобрали.
Был талый сумеречный час, когда Киров вернулся в город. Автомобиль подкатил к больнице. Из машины вынесли труп Калабекова...
Полчаса спустя Сергей Миронович докладывал на заседании Терского Народного Совета о поездке. В зале по одну сторону сидели представители ингушей, по другую — представители осетин. И те и другие соглашались на мир.
Вечер Киров провёл в редакции. «Терек» ещё выходил, хотя и с большими перебоями. Но уже создавалась новая газета — «Народная власть».
Несмотря на поздний ночной час, Мария была на работе. Она по-прежнему вела конторские дела издательства.
На своём обычном месте сидела Тамара. Орудовала ножницами и говорила:
— Я хочу в «Народную власть». Возьмёте меня туда, Сергей Миронович?
Он был не в духе, отвечал неохотно, часто задумывался.
— Что вы сказали, Тамара? Куда вас взять?
— В «Народную власть». Хочу там работать.
— A-а!.. А я думал, вы в Москву проситесь.
— А при чём тут Москва?
Потом Тамара догадалась:
— Вы в Москву собираетесь?
— Да... Посылают... Народный Совет просит... Придётся ехать.
Тамару бросило в дрожь.
Положение в стране катастрофически ухудшалось. В казачьих областях России сосредоточились основные силы контрреволюции. Весь юг пламенел в огне схваток. Поезда из Петрограда и Москвы уже не приходили на Терек.
— Как же вы доберётесь до Москвы? — спросила Тамара.
— Надо добраться, — отвечал он. — Народной власти Терека требуется поддержка. Люди... оружие... деньги... Нам помогут. Не могут не помочь!..
Больше он не разговаривал. Подошла Мария, она не скрывала радости — он жив, он жив! Уцелел!
— Я домой собираюсь, — сказала она.
Он молча показал ей начатую заметку. Первая строчка гласила: «На осетинско-ингушском фронте...»
— Ну, пиши, пиши... А я пошла.
Домой он не пришёл. Ночевал опять в кадетских корпусах, а с утра всё закрутилось, как всегда: переговоры, совещания, возникали новые тревоги и дела.
Дня он не заметил. А когда начало смеркаться, он подумал: «Надо всё-таки побывать дома. Хотя бы один вечерок...»
А вечер был дивный, ясный, полный предвесенних звуков и запахов. Не хотелось ни автомобиля, ни извозчика. Он шёл, смотрел по сторонам, как это все делают на прогулке. И ему было странно, что он это делает, и радостно. Он шёл долго и сам вдруг удивился, когда увидел перед собой ограду владикавказского бульвара.
На бульварных скамейках в этот час было ещё много публики, здесь, как всегда, горячо обсуждались все новости мира. И показалось Сергею Мироновичу, что возле одной скамьи в кучке сгрудившихся там людей стоит какая-то знакомая фигура. Вытянутое, тощее туловище, длинная шея, седая голова, прикрытая шляпой. Кто это? Неужели бывший следователь снова переменил адрес? «Значит, чувствует всё-таки силу нового,
грядущего, если тянется за нами?» — думал Сергей Миронович.
— «Терек» на завтра! Последние новости! — кричали мальчишки на перекрёстке. — Последние новости! Читайте «К убийству Калабекова»!
Киров подошёл к юным газетчикам.
— А, дядя Кира! — обрадовались они.
— Ну как, ребятки, хватает вам теперь сенсаций? — спросил он.
— Хватает, — ответили те в один голос.
Он ласково потрепал их по плечу. Те опять закричали:
— «К убийству Калабекова»! «Терек» на завтра!.. Покупайте, читайте!..
Шагая дальше вдоль бульвара, Сергей Миронович думал: «Да, гуманность и здравый смысл человечества восторжествуют. И славный Калабеков был прав: ради этого стоит и жить и, если надо, умереть».
С гор спускалась ночь, и она тоже пахла близкой весной.
_____________________
Распознавание, ёфикация и форматирование — БК-МТГК.
|