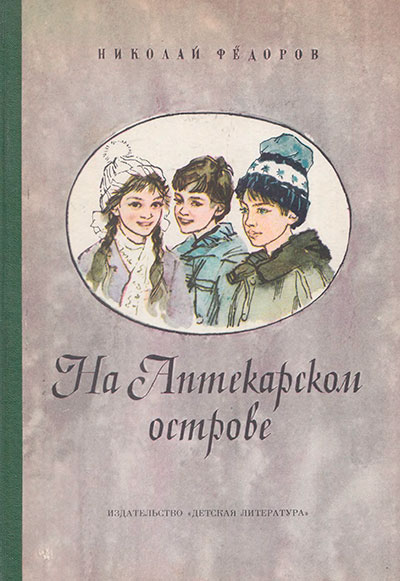Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
СОДЕРЖАНИЕ
Рассказы
Переписка 7
При свече 10
По списку 17
Петрарка 27
Таня 38
На Аптекарском острове. Повесть 59
Художница Горб Татьяна Владимировна родилась 27 апреля 1935 года в Ленинграде.
В 1954 году Татьяна Горб поступила на графический факультет в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Занималась у отца Владимира Горба и других художников. В 1961 году окончила институт по мастерской профессора Михаила Таранова с присвоением квалификации художника-графика. Дипломная работа — оформление и иллюстрации к роману Э. М. Ремарка «Три товарища».
Живописную манеру художниц отличают сдержанный колорит, интерес к разработке тональных отношений и светотеневых модуляций. Индивидуальный стиль Татьяны Горб складывался под влиянием личности и творчества отца, известного ленинградского художника-портретиста и педагога, профессора Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Горб Владимир Александрович родился 31 декабря 1903 года в Одессе. В 1926 после окончания Одесского художественного института приехал в Ленинград. Его дипломная работа — «Защита Ленинграда. Строительство».
Свыше полувека Владимир Горб посвятил педагогической работе, сначала в Таврическом художественном училище (1930—1931), затем в Средней художественной школе при Всероссийской Академии художеств (1937—1947, директор в 1942—1947) и Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (1931—1979), профессором которого он являлся с 1972 года. В феврале 1942 года Владимир Горб, сменив директора СХШ К. М. Лепилова, руководил эвакуацией Средней художественной школы из блокадного Ленинграда сначала в Тбилиси, а затем в Самарканд.
Из воспоминаний Эрнста Неизвестного:
Ну да, после войны я вернулся. Так сказать, средней художественной школы образование у меня было, даже в Самарканде приняли меня на 1-й курс по специальным предметам, по предметам моим: скульптура, рисунок. А общеобразовательной у меня не было десятилетки окончено. Поэтому когда я вернулся, я поступил в какую-то школу рабочей молодёжи или ещё какую-то, в общем, какую-то второсортную школу.
Ну, сдал довольно легко, потому что после того, что я пережил, это - детские орешки. Поехал в Ленинград, решил остаться. Я любил Ленинград, любил Академию ленинградскую и школу при Академии. Там был директор...
Вообще, это переживание было отчаянное, которое к определённому сорту интеллигенции, или к интеллигентщине, осталось у меня навсегда, как неприязненное. Дело в том, что перед тем, как уйти добровольцем, я нахулиганил там, в школе. Не хочу сейчас вспоминать об этом, это не делает мне чести: нахамил, и даже оскорбил физически директора.
Прошло столько событий. Мировая война, столько крови, столько страданий, что, честно говоря, этот проступок хулиганский, в общем, безобразный, у меня вылетел из памяти. И когда я приехал, на костылях, с медалями, пришёл в здание нашей школы, а там такая была директриса Подлясская, когда она меня увидела, она закричала: «Товарищ Горб, товарищ Горб, этот хулиган вернулся».
И вдруг выскочили отовсюду люди какие-то. Меня встретили не как героя войны, а как беглого каторжника, преступника. Меня это так потрясло. Ну, обыкновенное мальчишеское хулиганство. Прошла война, я ранен, что за обывательщина такая!
Я просто был поражён, оскорблён и удивлён. И вот этот факт наложил на меня отпечаток нелюбви к некоторому интеллектуальному салону.
Потому что это были люди интеллектуального салона. Я тогда не задумывался, что Горб - еврей, у меня таких мыслей не было. Я пошёл (забыл сейчас фамилию) к директору Академии, главе Академии ленинградской, и пожаловался. Я говорю: «Ну помогите, учиться хочу в Академии, но они меня так приняли».
Он начал нести какую-то околесицу, мол, евреи захватили власть и никого не пускают. Тогда я его одёрнул, я сказал: «Я еврей тоже, моя мама. Я не хочу этого слышать». Он сказал: «Какой ты еврей! Еврей, севший на коня, уже не еврей». На всю жизнь запомнил.
Аннотация. Третья книга ленинградского писателя Николая Фёдорова. Она о том, как много может в жизни человек, даже если он ещё ребёнок. А секрет его могущества и прост и сложен — это доброе сердце.
ПЕРЕПИСКА
В воскресенье утром папа сказал:
— Тебе письмо.
— Мне? — удивился я.
Никогда в жизни я ещё не получал писем. Открытка, правда, пришла один раз. Да и то из библиотеки. Чтоб я срочно книгу вернул. А тут вдруг письмо.
Я покрутил конверт, посмотрел его на свет и даже понюхал. Самое настоящее письмо, с маркой и со штемпелями. Только без обратного адреса. Я взял ножницы, аккуратно отрезал тоненькую полоску от конверта и достал письмо.
Вот что там было написано:
«Привет, Серёга!!!
Как ты живёшь? У меня всё хорошо. А у тебя? Ты, наверное, здорово удивился, когда моё письмо получил. Я и адрес обратный нарочно не написал. Чтоб ты удивился. Послезавтра пойду в секцию тенниса записываться. Хочешь, пойдём вместе. Пока всё.
Пойду письмо опускать. Почтовый ящик как раз на вашем доме висит. Так что, может, зайду. Но про письмо ничего не скажу.
Напиши мне ответ.
Петров Гена».
Так это ж Генка! Во даёт! Я его только вчера вечером видел. Да и в школе целый день вместе были.
Я подбежал к телефону и набрал Генкин номер.
— Генка, здорово! А я твоё письмо получил.
— Получил, да? — обрадовался он. — Ну как, ты удивился?
— Ещё бы. Мне раньше никто не писал. А тут вдруг папа письмо приносит. Только вот в секцию теннисную мы с тобой ещё вчера ходили записываться. А ты пишешь, что послезавтра пойдём.
— Так это ж я в четверг писал. Письмо что-то долго шло. Ну, ничего. Ты только обязательно ответ напиши.
И я сел писать ответ.
«Здорово, Генка!
Получил твоё письмо. Давай сегодня вечером пойдём на рыбалку. У меня крючки новые.
У нас идут дожди. Больше не знаю, чего писать. Пока.
Серёга».
Когда я вышел на улицу, чтобы письмо опустить, я вдруг подумал: как же Генка узнает, что я его на рыбалку зову, если письмо целых три дня идёт? И тогда мне пришла идея. А зачем, собственно, его по почте посылать, если Генка через три дома от меня живёт? Пойти да опустить к нему в ящик!
Так я и сделал.
А когда домой вернулся, Генка уже звонит мне.
— Серёга, я письмо твоё получил! Меня папа как раз за газетами послал. Открываю ящик, — а там письмо. Это ты здорово придумал — сразу в ящик положить! Кстати, у нас тоже дожди идут.
— На озеро-то пойдём? — спросил я.
— Пойдём конечно! Я папину плащ-палатку возьму.
Потом я стал готовить удочку. А через час пришёл Генка.
— Держи, — сказал он и протянул конверт. — Это я ответ накатал. Сначала я хотел, как ты, в ящик опустить. Потом подумал: а вдруг вы сегодня за почтой больше не пойдёте? Вот и принёс.
Я открыл конверт и прочитал:
«Привет, Серёга!
Получил твой ответ. Сейчас приду.
Гена».
И мы пошли на озеро.
ПРИ СВЕЧЕ
— И чего тебе взбрело в голову притащить Полкана в школу?! Как маленький, честное слово!
— Да ладно ты, не гуди, — вяло отмахнулся Генка. — Кто же мог подумать, что он к Ирине в портфель заберётся.
Полкан — это маленький рыжий хомячок, которого Генкина тётка недавно подарила ему на день рождения. Тётка почему-то никак не может понять, что Генка давно вырос и что дарить ему сахарных петушков на палочке и плюшевых медвежат несколько поздновато. Вот и на этот раз она принесла хомяка, с которыми так любят возиться в детских садах. А Генка давно мечтал иметь собаку, большую и лохматую. Поэтому он, не долго думая, и назвал маленького зверька древним собачьим именем.
И вот сегодня, когда Генка зачем-то притащил хомяка в школу, тот взял и сбежал от него на уроке ботаники. Пока Генка ползал под партой, пытаясь найти беглеца, я вдруг с ужасом увидел, как Полкан ловко вскарабкался по ножке учительского стула и юркнул в портфель Ирины Васильевны.
— Генка, — зашипел я, таща его из-под парты, — он к Ирине в портфель залез!
Генка обалдело на меня посмотрел и прошептал:
— Что же делать?
В ответ я только пожал плечами. И действительно, не говорить же в самом деле: Ирина Васильевна, у вас в портфеле хомяк сидит.
Развязка наступила быстро. Ирина Васильевна закончила объяснять новый материал, чихнула и полезла в портфель за платочком. Мы с Генкой замерли, ожидая самого худшего. Но учительница проявила завидное хладнокровие. Лишь на секунду она задержала руку в портфеле, чуть изменившись в лице. Потом спокойно достала оттуда Полкана и произнесла ледяным голосом:
— Кто принёс в класс хомяка?
Ребята было засмеялись, но сразу вдруг притихли и замолчали. Генка обречённо встал.
— Прекрасно, — сказала Ирина Васильевна и нехорошо улыбнулась. — У меня такое впечатление, Петров, что ты деградируешь прямо на глазах.
— Почему это деградирую, я не деградирую… — забубнил Генка себе под нос.
— Нет, деградируешь, — жёстко повторила Ирина Васильевна страшноватое слово. — Чем иначе объяснить твоё поведение. Вместо того, чтобы думать, как исправить свои двойки, ты приносишь в класс животных. Ну вот что. Хватит! Завтра же приведи своих родителей в школу. Или нет, я сама, слышишь, сама сегодня вечером к вам зайду. А сейчас можешь забрать своего грызуна. — И она протянула напуганного хомяка ещё более напуганному Генке.
И вот теперь мы сидели в Генкиной квартире и гадали, кто придёт раньше: учительница или родители?
— А когда твои должны быть? — спросил я.
— Мама-то поздно придёт, — ответил Генка. — У неё сегодня курсы. А вот папа — не знаю. Наверное, вовремя… Эх, началось бы сейчас землетрясение! Или хоть бы свет в квартире погас, что ли. Придёт Ирина — света нет, родителей нет, ну она и уйдёт.
— А что толку, — сказал я. — Уйдёт, а завтра снова придёт.
— Ну, завтра… Кто там знает, что завтра будет.
— Глупо, — сказал я.
— Нет, не глупо, — упрямо повторил Генка. — Света не будет, родителей пока нет…
— Ну, заладил, как пономарь. Вот мне папа недавно одну интересную штуку рассказывал. Раньше, давно, при царе ещё, преступников не только на каторгу отправляли, но и ко всяким телесным наказаниям приговаривали. Так вот, писатель Достоевский вспоминает такие случаи, когда каторжники перед самой экзекуцией из тюрьмы бежали или ещё какое-нибудь преступление делали. Прямо там, в тюрьме. Пусть, значит, снова следствие будет, суд будет, только чтобы оттянуть эту самую экзекуцию.
— Зачем это ты мне всё говоришь? — с подозрением спросил Генка.
— А затем, — сказал я, — что ты мне этих самых каторжников напоминаешь.
— Да отстань ты со своими каторжниками! — разозлился Генка. — Подумал бы лучше, как выкрутиться.
— А чего тут думать, — сказал я. — Хочешь, чтобы свет в квартире погас? Пожалуйста. Вывинти пробки — и все дела.
— Гений! — сказал Генка и просиял. — Фарадей! Так мы и сделаем. Света нет, родителей нет, она и уйдёт. Ну, чего ей без света сидеть.
Я понял, что Генка вбил себе в голову эту дурацкую идею и что никакими силами её теперь оттуда не вышибешь.
Через десять секунд света в квартире не было.
— Темно-то как, — сказал Генка.
— Темно, — согласился я.
— Это хорошо, — сказал Генка. — В такой темнотище долго не усидишь.
И тут раздался стук в дверь. Генка, робея, пошёл открывать, а я остался в комнате.
— Дома родители? — услышал я металлический голос Ирины Васильевны.
— Н-нету, — заикаясь ответил Генка. — С работы вот ещё не пришли.
— Ничего, я подожду. Я никуда не тороплюсь. И включи же наконец свет!
— И свету нету, — сказал Генка. — Прямо сейчас взял вдруг и погас. Пробки, наверное, перегорели. Или это… напряжение куда-нибудь упало.
— Неважно, — прервала Генкино бормотание Ирина Васильевна. — Разговаривать можно и в темноте. Я не в шахматы пришла играть. Проводи меня. И дай хоть руку, что ли! Ничего ж не видно.
В дверях комнаты появились смутные силуэты учительницы и Генки.
Ирина Васильевна села на диван, а Генка остался стоять.
Наступило молчание.
И тут я понял, в каком дурацком положении я оказался. Я сидел на стуле в совершенно тёмном углу комнаты, и учительница совершенно не подозревала о моём присутствии. Мне стало совсем неловко, и я, чтобы как-то дать о себе знать, легонечко так начал покашливать.
— Ой, что это! — испуганно вскрикнула Ирина Васильевна. — Тут ещё кто-то?!
— Это я, Ирина Васильевна, — сказал я. — Я тут в углу.
— Господи, Крылов! Как ты меня напугал. Гена, да найди же хоть свечку Какую-нибудь! Нельзя же так!
— Свечку? Сейчас посмотрю. Была вроде где-то. — И Генка поплёлся в другую комнату. Наверное, до него стало доходить, что его глупая затея с пробками провалилась.
Через минуту он вернулся с зажжённой свечой.
— Теперь подставку какую-нибудь возьми или блюдце, — сказала Ирина Васильевна. — Воск же будет капать.
— Генка, — сказал я, — у вас подсвечник, кажется, был. Помнишь, ты им ещё орехи колол.
Генка залез на стул, достал со шкафа старый бронзовый подсвечник и вставил в него свечу. По комнате забегали красноватые причудливые тени.
Ирина Васильевна сидела молча, неотрывно глядя на маленький живой язычок пламени, и лицо её вдруг показалось мне каким-то другим, незнакомым. И уже совсем неожиданно она сказала:
— Новый год скоро. Сейчас на улице я видела, как люди ёлки несли.
— Это верно, — сказал Генка, ободрённый таким началом. — У нас тут ёлочный базар недалеко.
— А вот в Италии, — сказал я, тоже осмелев, — есть такой очень интересный обычай. Там под Новый год люди выбрасывают на улицу всякие старые, ненужные вещи. Прямо из окон бросают.
— Это зачем ещё? — спросил Генка.
— Ну, как бы жизнь хотят новую начать. А всё старое, плохое — за борт.
— Хороший обычай, — сказал Генка. — Если бы у нас был такой, я бы в первую очередь свой дневник выбросил.
Мы засмеялись, а потом Ирина Васильевна сказала:
— Когда я была примерно в вашем возрасте, мы жили на Васильевском острове в большущей коммунальной квартире. И почти в каждой семье были дети. Ну и, конечно, под Новый год каждая семья покупала ёлку и сначала оставляла её в прихожей, у входной двери. Там иногда по девять-десять ёлок стояло. И как же здорово пахло этими ёлками в квартире! Я, бывало, из школы приду, встану в прихожей, стою и нюхаю. А теперь, когда муж ёлку домой приносит, я только и думаю о том, сколько после неё мусора будет.
Ирина Васильевна замолчала, а мы с Генкой сидели разинув рты и ничего не понимали. Потом она взяла со стола подсвечник и внимательно его оглядела. Огонёк свечи задрожал, и все предметы в комнате будто зашевелились, задвигались.
— А колоть орехи подсвечником не стоит, — сказала Ирина Васильевна. — Посмотрите, какая вещь-то красивая. И слово хорошее: ПОД-СВЕЧНИК. Звучит, по-моему, гораздо лучше, чем, скажем, «люминесцентная лампа».
— Ясное дело, лучше, — сказал Генка, и даже в полумраке я видел, как сияла его физиономия. — И понятное к тому же: ставь, значит, его под свечу — и все дела. А то читаю в одной книжке: граф схватил канделябр и ударил незнакомца по голове. Что, думаю, за канделябр такой. Кочерга, что ли? Оказывается, обыкновенный подсвечник.
Ирина Васильевна весело засмеялась, и в этот момент хлопнула входная дверь.
— Генка! — послышался голос Николая Ивановича. — Почему такая темнотища? Света, что ли, нет?
— Пап, ты? А к нам вот Ирина Васильевна пришла, — невпопад ответил Генка и почему-то добавил: — В гости.
— Очень приятно, — сказал Николай Иванович. — Сейчас, одну минуту. Я только со светом разберусь.
Я услышал, как чиркнула спичка и через секунду послышался растерянный голос Генкиного папы:
— Но, товарищи… Тут же нет пробок?!
Наступила нехорошая пауза. А потом Николай Иванович произнёс голосом, не предвещавшим ничего хорошего:
— Геннадий! Где пробки?!
Генка молчал, и я был уверен, что сейчас он, как те каторжники из романа Достоевского, дунул бы куда-нибудь подальше. А землетрясение или цунами подошло бы как нельзя кстати. Одним словом, назревал скандал.
И в этот щекотливый момент Ирина Васильевна вдруг вышла в коридор и спокойно так сказала:
— Николай Иванович, не надо. Не ищите пробки. У нас тут свечка горит. Давайте так, при свече посидим.
ПО СПИСКУ
Новый год мы с родителями ездили встречать в Москву к папиной сестре. А когда рано утром второго января возвращались домой, я ещё издали увидел около нашей парадной знакомую Генкину фигуру. Фигура нетерпеливо топтала чистый, свежевыпавший снежок и хлопала замёрзшими ладонями, словно аплодируя нашему появлению.
— Здорово, — сказал я небрежно и даже вроде бы сердито, потому что был страшно рад видеть Генку. Ведь мы с ним не встречались целый год! — Чего это тебе не спится, мыслитель?
— Какой там сон! — закричал Генка и замахал руками. — Некогда сейчас дрыхнуть. Дуй быстрей домой, делай там что тебе надо и живо выходи. По дороге всё расскажу.
Я не стал препираться и выяснять подробности, а побежал наверх. Уж если Генка в каникулы в девять часов утра на ногах, то сопротивление бесполезно.
— Куда идём? — спросил я, когда мы шагали по улице.
— В изостудию, — деловито ответил Генка. — Будем учиться живописи.
— Всё понятно. А торопимся мы потому, что к вечеру нужно закончить картину «Явление Христа народу».
— Ничего тебе не понятно, — сказал Генка и остановился. — Ну-ка, вспомни, о чём Татьяна Алексеевна на последнем уроке перед каникулами нам говорила? О призвании говорила. О том, что в каждом человеке талант сидит, говорила. Надо только суметь его найти. А как его, спрашивается, найдёшь, если мы с тобой, кроме школы, уроков да шайбы с клюшкой, ничего не видим.
— Почему это ничего? — сказал я. — В первой четверти, к примеру, мы на «Щелкунчика» ходили.
— Вот именно, — сказал Генка. — А во мне, может, какой-нибудь Семёнов-Тян-Шанский сидит. Или братья Райт.
— Так сразу вдвоём и сидят?
— Что значит «вдвоём»?
— Ну, братьев, их же двое было.
— Да ну тебя! — отмахнулся Генка. — В общем, ты как хочешь, а я свои таланты зарывать в землю не намерен.
— Ладно, ладно, успокойся. Никто тебя не заставляет таланты зарывать. Да и земля сейчас мёрзлая, не очень-то покопаешь. Но имеется вопрос: а почему, собственно, ты в кружок рисования записался? Может, в тебе, к примеру, Шуберт сидит? Или Мичурин? А ты, вместо того чтобы сочинять фуги и кантаты или морковку с виноградом скрещивать, будешь из папье-маше груши срисовывать.
— Наконец-то твоя голова начинает соображать, — снисходительно ответил Генка и торжественно извлёк из кармана какую-то бумажку.
— Это чего ещё? Список талантов? — спросил я.
— Почти, — сказал Генка. — Это, мой друг, список кружков, куда я записался. Ну и для тебя двери не закрыты. Значит, так. Сейчас у нас живопись, потом драмкружок, потом авиамодельный, затем лепка, бальные танцы и вечером лобзик. Завтра юннаты, инкрустация по дереву, шахматы, художественная вышивка и это… Эх, чёрт, не могу прочесть… Ага, разобрал: юный эн-то-мо-лог. Во как!
— А это что за зверь?
— Точно не знаю. Кажется, про блох что-то. Ещё у меня в запасе мелодекламация, горн и барабан, резьба по ганчу, художественный свист и юный друг пожарных. Так что со мной не пропадёшь. Пошли быстрее.
В изостудии занятия уже шли полным ходом. В кресле у окна на небольшом возвышении неподвижно сидел старичок преподаватель. Сначала мне показалось, что он нарочно так тихо сидит, а все художники его рисуют. Но потом я понял, что ошибся: старичок просто дремал, подперев рукой красивую седую голову.
— Простите, пожалуйста, — громко сказал Генка. — Опоздал немного. Товарища вот привёл. Тоже очень способный.
— Проходите, молодые люди, проходите, — встрепенулся старичок. — Возьмите вон из того шкафа пирамиду и приступайте. Работаем над светотенью. Очень важный аспект живописи! Очень! Я бы сказал, фундамент рисунка. Вспомните, как мастерски использовал приёмы светотени Архип Иванович Куинджи! Какие потрясающие световые эффекты!
— Мы помним, — сказал Генка. — Вы не волнуйтесь. Всё сделаем, как у Архипа Ивановича. Нам бы только карандашики и линейки.
— Карандаши в шкафу. Там и бумага. А линейки… Постойте, постойте, при чём здесь линейки?
— Ну как же, размеры с пирамидки снять. Да и криво без линейки получится.
Не знаю, что такого смешного сказал Генка, но хохот в студии стоял необыкновенный. А старичок преподаватель даже прослезился и почему-то погладил Генку по голове.
— Размеры, говоришь, снять, — повторял он, вытирая глаза платочком.
Я ещё только начал штриховать одну грань пирамиды, когда Генка толкнул меня в бок и сказал:
— У меня готово. Кривовато, правда. Ну да ладно. В следующий раз надо из дома линейки захватить. А они пускай без линеек тут пыжатся.
Я посмотрел на Генкин рисунок и ахнул:
— Да ты что?! Это ж халтура.
— Ничего, сойдёт. Некогда нам тут с тобой светотени разводить. Мы уже в драмкружок опаздываем.
Генка повернулся к толстому белобрысому живописцу, сосредоточенно рисовавшему гипсовую голову какого-то древнего грека:
— Послушай, Айвазовский, как преподавателя зовут?
Мальчишка нехорошо ухмыльнулся и сказал:
— Илья. Ефимович.
Я сразу какой-то подвох почуял, но не успел ничего сделать. Генка встал и громко сказал:
— Илья Ефимович, разрешите нам с товарищем уйти. У нас, понимаете, дело очень срочное. По пионерской линии.
И снова все живописцы хохотать начали, а старичок преподаватель, насмеявшись, сказал:
— Вы только обязательно ещё приходите. Не забывайте нас. С вами, знаете ли, жить веселее.
И только в коридоре я вспомнил, что Ильёй Ефимовичем звали художника Репина, нарисовавшего знаменитую картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Об этом я и сообщил Генке, пока мы бежали в драмкружок.
— Ну, паразит, Айвазовский, — сказал Генка и потряс кулаком в воздухе. — Ладно, я ему при случае такие светотени наведу, будет помнить.
В драмкружке царила невероятная суета и неразбериха. Готовилась премьера спектакля «Баба-Яга и ЭВМ». Маленькая круглолицая преподавательница, походившая скорей на старшеклассницу, вихрем носилась по залу, отдавая команды.
— Анна Андреевна, новенькие пришли! — крикнул кто-то из артистов, заметив наше появление.
— Очень кстати, очень кстати, — затараторила Анна Андреевна, подбегая к нам. — Дефекты речи имеются? Картавость, шепелявость? Впрочем, это не важно. Главное, чтоб не было заикания. Заикания нет?
— Нет, — ответили мы хором.
— Вот и отлично. Будете играть собак. Давайте на сцену, живенько!
— А текст? — спросил Генка. — Мы же текста не знаем?
— Текст простой: гав! гав! И главное помните: вы очень злые, заколдованные собаки. Расколдовать вас может только ЭВМ, если пионер Вася правильно заложит в неё программу. Свирепый Змей Горыныч поручил вам охранять вход в пещеру, где лежит волшебный транзистор. После слов мельника: «Только бы Змей Горыныч не проснулся» — вы выскакиваете из пещеры и с лаем гонитесь за королём и мельником. Всё понятно?
— Понятно, — сказал Генка. — Исполним в лучшем виде, как у Архипа Ивановича. На клочки разорвём, если надо.
— На клочки не надо, — сказала преподавательница. — Король, мельник, Змей — все на сцену! Начинаем!
Нас с Генкой посадили за спинку стула, видимо означавшего вход в пещеру. Рядом, за другим стулом, расположился Змей Горыныч — бледный, худенький мальчишка, с длинными пушистыми ресницами.
И репетиция началась.
Мельник подошёл к краю сцены и, широко улыбнувшись, добродушно сказал:
— Темень-то какая. Ни зги не видать. Хоть бы свет зажгли.
— Какой свет?! Что ты несёшь, Брындин?! — замахала руками Анна Андреевна. — У тебя по тексту: хоть бы луна взошла. Ты же в диком лесу находишься. И перестань наконец улыбаться как дефективный.
— Больше не буду, — сказал мельник и, ещё шире улыбнувшись, снова произнёс: — Темень-то какая. Ни зги не видать. Хоть бы свет зажгли.
— Тьфу ты, господи! — чуть не плача, закричала преподавательница. — Дался же ему этот свет! Король, зажги свет! Выключатель рядом с тобой.
— Так светло же, Анна Андреевна, — сказал король. — Вон солнце прямо в окно шпарит.
— Всё равно зажги! Брындину темно! А теперь сначала!
— Темень-то какая. Ни зги не видать, — в третий раз затянул мельник и, взглянув на потолок, где загорелись лампы, облегчённо закончил: — Хоть бы луна взошла.
— Смотри, мельник! — закричал король, да так, что у меня в ушах зазвенело. — Обманешь — не сносить тебе головы!
— Не извольте беспокоиться, ваше величество, — ответил мельник, растянув рот до ушей. — Пришли, кажись. Вот и дуб засохший.
— Стоп! — закричала Анна Андреевна и вскочила на сцену. — Ну, ответь мне, Коля: чему ты улыбаешься?! Тебе ведь голову хотят отрубить, а ты улыбаешься. Может, праздник у тебя какой? День рождения там или свадьба? Ты скажи нам, мы все вместе порадуемся, поулыбаемся, а потом работать начнём.
— Мельник, кончай скалиться! — зашипел Генка. — Мы из-за тебя в авиамодельный опаздываем.
Но как только репетиция возобновилась, бестолковый мельник опять начал улыбаться, путать текст, называть короля «вашим благородием» и снова просил включить свет.
— Всё! — решительно прошептал Генка. — Больше мы не можем здесь торчать. Надо смываться!
— Неудобно, вроде, — сказал я. — Мы ж ещё ни разу не лаяли.
— Ничего. Пусть кто-нибудь другой полает. — Генка на четвереньках перебрался к худенькому мальчишке, терпеливо сидевшему за соседним стулом. — Слушай, Горыныч, полаешь за нас, а? Ты всё равно ничего не делаешь. А мы опаздываем.
— Я не могу, — сказал Змей Горыныч. — Мне сейчас храпеть нужно будет.
— Ничего. Похрапишь, потом полаешь. Ты, сразу видно, способный. Не то что этот дубина-мельник.
И, воспользовавшись тем, что измученная преподавательница в десятый раз стала допытываться, почему мельник улыбается, мы выскользнули из зала.
В авиамодельном кружке мы выпиливали какие-то нервюры и куда-то приклеивали элероны. А может, наоборот: приклеивали нервюры и выпиливали элероны. Теперь я уже не помню. Потому что ни выпилить, ни приклеить мы не успели: пора было торопиться в кружок лепки. «Не беда, — говорил Генка. — В следующий раз доделаем. Не хуже будет, чем у Архипа Ивановича». И чего он пристал к Архипу Ивановичу, до сих пор не понимаю.
В кружке лепки мне дали задание вылепить утку, а Генке — свинью. Генка долго и задумчиво мял в руках пластилин, а потом вдруг громко, на всю студию сказал: «Темень-то какая. Ни зги не видать. Хоть бы свет зажгли».
После лепки в коридоре Генка достал свою бумагу со списком и сказал:
— Тэк-с, что у нас теперь по списку? Ага, сейчас бальные танцы, а вечером лобзик.
— Нет, — сказал я. — С меня хватит! Не хочу больше ни танцев, ни лобзика. И вообще, ничего больше не хочу. Рехнёшься тут с тобой!
— Я это предвидел, — сказал Генка голосом инспектора Мегрэ. — Конечно, ходить раз в год на «Щелкунчика» и играть в «балду» легче. Никаких тебе хлопот, и главное, голова в покое. Как тыква на витрине.
— Лучше в «балду» играть, чем тут по лестницам вверх-вниз без толку носиться. А талант, если он есть, сам себя покажет. Лермонтов уже в шесть лет стихи писал. И ни по каким кружкам не таскался.
— Серый человек. Лермонтов при царизме жил. Тогда не то что кружков — радио не было. А в наше время он бы небось с трёх лет поэмы писал. Да чего я тебя агитирую. Не хочешь, как хочешь. Упрашивать не буду.
И Генка побежал в танцевальный зал.
До конца каникул Генку я почти не видел. Лишь однажды вечером он пришёл ко мне посмотреть хоккей. Передавали центральный матч сезона. Когда начался второй период, Генка уснул. Во сне он вскрикивал, что-то бормотал об Архипе Ивановиче, и мой папа даже предложил проводить его до дома.
В последний день каникул с утра стояла отличная погода. Ярко светило солнце, а морозное небо было чистое и ослепительно синее. Я взял клюшку и коньки и вышел из дому. И вот тут я увидел Генку. Зрелище было великолепное! Широко расставив ноги, в расстёгнутом пальто и в шапке набекрень, Генка стоял посреди двора. В руках он держал огромный дворницкий лом. Лом взлетал над Генкиной головой и с глухим ударом врезался в искрящийся лёд. Золотые брызги весело разлетались в разные стороны.
Вдоволь насладившись картиной, я сказал:
— Решил всё-таки зарыть таланты в землю.
Генка перестал долбить и вытер рукавом пот со лба:
— Слушай, Серёга, не нервюруй меня. То есть, я хотел сказать, не нервируй. А нервюра — это в самолёте такая штука. В хвосте, кажется. Или в носу…
И он с удвоенной силой обрушил лом на ледяную корку.
Потом мы вместе пошли на каток. И первый раз за все каникулы наша команда выиграла. Потому что на воротах стоял Генка.
ПЕТРАРКА
— Серёга, ты когда-нибудь любил? — спросил Генка и покосился на меня.
— А как же, — ответил я. — Много раз.
Генка любит загнуть что-нибудь такое. Я к этому привык. То он вдруг спросит, почему обезьяны больше в людей не превращаются, то — отчего лысина блестит.
— А вот скажи, — продолжал он, — ты о Петрарке слышал?
— Вроде слышал. Композитор, кажется.
— Сам ты композитор. Петрарка — это итальянский поэт. Гуманист. Понимаешь, влюбился он в одну девушку. Лаурой её звали. И видел-то он её всего несколько раз, и то мельком. Но так влюбился, что стал с тех пор гениальные стихи писать. Сонетами называются. Так его любовь вдохновила. Не влюбись он, — может, за всю жизнь и строчки бы не написал.
— Уж не влюбился ли ты сам? — спросил я.
— Нет, — вздохнул Генка. — А стоит попробовать. Представляешь, я влюбляюсь, как Петрарка, у меня появляется вдохновение, и я становлюсь знаменитым поэтом или художником. А может, и учёным. И открываю в её честь новый вирус!
— А если нет?
— Что нет?
— Ну, если влюбишься и не станешь ни поэтом, ни учёным?
— Этого не может быть. Надо только хорошенько влюбиться.
— Так давай попробуй, — стал я его заводить. — У тебя кто-нибудь на примете есть?
— Да как тебе сказать… Знаешь учительницу музыки из среднего подъезда? У неё ещё Васька Лапшин занимался.
— Что?! — я вытаращил глаза. — Так она же старая. Ей лет двадцать пять!
— Двадцать пять — это ещё не старая. А потом, мне же только для вдохновения. Вон, кстати, она сама идёт.
И действительно, по двору с нотной папкой в руках шла учительница.
— Генка, — сказал я, — ты заметил, что когда она идёт, то всегда вниз смотрит. Будто ищет чего.
— Ничего она не ищет. Просто она всегда в мыслях. Творческая натура. Я, может, поэтому её и выбрал.
Учительница поравнялась с нами. Я шагнул к ней навстречу и спросил:
— Скажите, пожалуйста, который час?
Она подняла голову и непонимающе взглянула на меня из-под толстых стёкол очков.
— Простите, что вы сказали?
— Времени сколько, не скажете?
Она ответила и пошла дальше.
— Ну как? — спросил я. — Чувствуешь чего-нибудь?
— Вроде чувствую, — неуверенно сказал Генка. — Попробую-ка сегодня стих написать. А потом твоему отцу покажем. Он ведь в газете работает.
На следующий день Генка пришёл ко мне и притащил стих. Вот что у него получилось:
Когда на дальнем крае света,
Рассыпав зайчиков в пруду,
Исчезнет колесница Фета,
Я вновь на пир любви иду.
А ты сидишь в ланитах синих,
И в пурпуре твои глаза,
На длинных ресницах звонкий иней,
А по плечу ползёт оса.
Папа прочитал стих, покашлял в кулак и сказал:
— Придётся мне, Геннадий, твоё стихотворение покритиковать. Начнём с колесницы Фета. Допустим, поэт Афанасий Афанасьевич Фет и имел какую-нибудь колесницу. Но при чём она здесь, в твоём стихотворении? Ты, видимо, хотел написать Феб. Так в мифологии называли бога Солнца. Дальше. Твоя героиня сидит в синих ланитах. Ланитами поэты прошлого называли щёки. Так что сидеть в ланитах, да ещё синих, никак нельзя. Потом, что это за пурпурные, то есть ярко-красные, глаза? Почему на ресницах вдруг иней, да ещё звонкий? И наконец, оса, ползущая по плечу. Ты думаешь, это очень образно?
Генка ничего не думал и подавленно молчал.
— Вот что я тебе скажу, Гена, — продолжал папа. — То, что ты стихи пробуешь писать, это замечательно. Но сейчас я дам тебе один совет: пиши проще, пиши о том, что ты хорошо знаешь и что тебя волнует. И никогда не пытайся подделываться под кого-то.
На другой день в школе Генка целиком погрузился в творчество. Он грыз ручку, чесал затылок и был так рассеян, что умудрился на своей любимой истории схватить двойку.
— Ну как? — спросил я его на перемене.
— Туго, — ответил он. — Знаешь, мне кажется, стихи — не моя стихия.
— Всё понятно, — сказал я. — Недолго тебя любовь вдохновляла. Наболтал — и в кусты.
— Ничего не в кусты. У меня к стихам способностей нет. Гены не те.
— Слушай, а может, тебе надо с учительницей поближе познакомиться. Ты ведь всё-таки не Петрарка. Давай под каким-нибудь предлогом зайдём к ней сегодня.
— Зайти, конечно, можно. Только что мы скажем? Что водопроводчики?
— Зачем. Собираем макулатуру.
— Слишком избито. Вот, может, сказать, что мы следопыты? Собираем материалы о героях гражданской войны.
— Ну, конечно. И спросим, не служила ли она в Первой Конной? Ладно. Придумаем на месте. Ты идёшь?
— Иду, — твёрдо сказал Генка.
Вечером мы стояли около двери учительницы и долго не решались позвонить. Наконец Генка глубоко вдохнул и нажал кнопку звонка.
Вскоре дверь распахнулась, но на пороге стояла не учительница, а её тётка Алевтина. Мы совсем забыли, что учительница живёт с тёткой, злющей как мегера.
Увидев нас, она закричала:
— Вы что хулиганите! Вчера почтовые ящики подожгли, а сегодня уже до квартир добрались!
Такого оборота мы не ожидали и растерялись.
— Мы… мы… ничего не хулиганим, — заикаясь, сказал я.
— Следопыты мы, — сказал Генка, тоже, видно, струсив. — Вы в этой… в Первой Конной не служили?
— Что?! — взревела Алевтина. — Я вам покажу конную!
И она угрожающе двинулась на нас.
Я понял, что пора удирать. Но тут, на наше счастье, вышла учительница.
— Что тут происходит? В чём дело, тётя? — спросила она.
— Хулиганьё! И дома от них покоя нет! — кипела Алевтина.
Учительница вопросительно посмотрела на нас. Тут я пришёл в себя и как можно спокойнее сказал:
— Мы к вам, Татьяна Алексеевна. По делу.
— Ну, раз по делу, проходите, — сказала она. — А вы, тётя… Что же вы так гостей встречаете?
— Гостей! Метлой таких гостей, — заворчала Алевтина и недовольно отступила.
Мы вошли в квартиру. В комнате учительница усадила нас на диван.
— Ну что у вас, ребята? — спросила она.
Надо было что-то говорить. И я начал.
— Вот он, — сказал я, кивнув на Генку, — хочет учиться музыке.
Генка ущипнул меня за ногу, но я уже не мог остановиться.
— Талант, — сказал я. — Почти самородок.
Учительница улыбнулась.
— Он что же, поёт?
— Нет. Петь не поёт. Вокальных данных нет. Но слух абсолютный. Сочиняет прямо на ходу. Второй Гендель, честное слово.
— Что сочиняет?
— Музыку сочиняет. Сонеты там разные, фуги. Вот только учиться ленится. Но сегодня я ему говорю: «Хватит, говорю, Геннадий, баклуши бить. Потомки нам этого не простят. Гений, говорю, и лентяй не совместимы». И привёл к вам.
Учительница засмеялась, а Генка ткнул меня в бок чем-то железным. Дело в том, что слуха у него вообще не было.
— Ну, а что же второй Гендель всё молчит? — спросила учительница.
— Стесняется, — сказал я. — Все великие люди застенчивые. Вот, к примеру, итальянский поэт Петрарка уж такой застенчивый был, что своей знакомой Лауре только стихи писал. А просто, по-человечески поговорить не мог. Стеснялся.
— Что ж, давай послушаем твоего застенчивого друга.
— Да врёт он всё! — не выдержал Генка. — Ничего я не сочиняю. У меня и слуха-то нет.
— Тогда зачем же вы пришли? — удивилась учительница.
— Вот именно, — сказал я. — Зачем же ты тогда пришёл?
От таких моих слов у Генки даже челюсть отвисла.
— То… То есть как это зачем?! А ты зачем?!
— Я с тобой.
— А я с тобой!
— А я с тобой!!
— Тихо, тихо, друзья, — сказала учительница. — Вы что-то окончательно запутались. Давайте-ка сначала разберитесь, кто с кем пришёл и зачем. А потом уж заходите. Ладно?
Генка целый вечер дулся на меня за самородка. Но утром не выдержал и позвонил. Был воскресный день, и мы решили сходить на Неву, к Петропавловской крепости, посмотреть «моржей».
Народу на Неве была тьма. Тут и рыбаки, и просто гуляющие, и, конечно, «моржи». Мы сразу направились к проруби. Стоишь рядом в тёплой одежде, смотришь, как люди купаются, а тебя от одного этого вида в дрожь бросает.
— Интересно, — сказал Генка, — что они летом делают? Для них небось летом вода, как для нас кипяток.
И тут мы увидели учительницу. Она была не одна. Рядом с ней шёл какой-то длинный парень в белой кроличьей шапке.
Учительница тоже нас заметила и подошла.
— Как водичка? — спросила она и улыбнулась. — Купаться можно?
— Можно! — ответили мы хором.
— Мои соседи, — сказала она парню.
— Ага, — рассеянно промычал он, даже не глядя в нашу сторону.
Я сразу почувствовал, что Генка невзлюбил этого дылду с первой секунды. Да и мне он не понравился. Было что-то неприятное в том, как он брезгливо щурил глаза и морщил нос, будто воздух вокруг имел неприятный запах.
— Интеллектуальное занятие, ничего не скажешь, — промямлил парень, глядя, как очередной «морж» лезет в воду.
— Ты бы, конечно, не смог, — сказала учительница.
— А мне и незачем. Этим можно заниматься и в ванной под душем, а не устраивать цирк на льду. Верно, мужики?
— Неверно, — сказал Генка.
— Это почему же? — Парень с любопытством посмотрел на Генку.
— Потому, — сказал Генка. — Так трусы думают.
Парень поднял брови.
— Значит, ты считаешь, что если можешь зимой нагишом в прорубь сигануть, то смелый, а не сможешь — трус. Может быть, ты тоже «морж»?
— «Морж»! — вызывающе ответил Генка.
— Так почему бы нам не искупаться?
— Перестань, Виктор, — сказала учительница.
— Отчего же, — сказал парень. — Я, например, трус и купаться поэтому не буду.
— А я буду! — запальчиво выкрикнул Генка. Глаза у него загорелись.
И тут я понял, что никакая сила не сможет теперь его удержать. Сейчас начнёт раздеваться. И точно. Генка стал быстро расстёгивать пальто.
— Гена, Гена, перестань сейчас же, — сказала учительница, — что за глупости. А ты, Виктор, соображаешь, что говоришь? Не видишь — дети.
Парень растерялся.
— Ну, старик, брось, — миролюбиво начал он. — Пошутили — и будет. Конечно, ты не трус.
Он попытался остановить Генку, но теперь это было бесполезно: Генка вывернулся, а на лёд уже летели пальто, свитер…
Стали собираться любопытные. Я сделал последнюю слабую попытку остановить его:
— Да не стоит, Генка. Ты ведь плавок с собой не взял.
Но он меня даже не слышал.
Этой картины я не забуду никогда.
Под высокими стенами Петропавловской крепости, на заснеженной Неве в длинных до колен трусах и в войлочных ботинках стоял Генка.
Несколько раз подпрыгнув, он нагнулся, зачерпнул горсть снега и стал им обтираться.
— Эх, хорошо! — приговаривал он. И вот тут-то ему стало холодно. Ветер дунул покрепче, кинув в белое Генкино тело колючие снежинки.
Генка стал синеть. Он растерянно посмотрел на меня, потом сделал несколько неуверенных шагов к проруби и остановился.
Тут учительница опомнилась. Схватив Генкино пальто, она побежала за ним.
— А ну сейчас же оденься!
Но это только придало ему решимости. Он подбежал к проруби и уже хотел прыгнуть!
— Генка, ботинки-то! — крикнул я. И быть может, это его и спасло. Не крикни я, он бы наверняка прыгнул, и я не знаю, чем бы всё кончилось. Но он услышал и остановился.
— Во балда! Чуть в ботинках не сиганул, — сказал он.
Но я-то видел, что о ботинках он вовсе не думал. Он смотрел на чёрную ледяную воду и трясся от холода и страха. В этот момент из воды вылез какой-то мужчина. Он посмотрел на Генку, на нас и уж не знаю как, но сразу всё понял.
— Сегодня купаться не советую, — сказал он уверенно.
— Почему? — спросил Генка с надеждой.
— Вода, понимаешь, не та…
— Правда не та? — Генка с благодарностью посмотрел на мужчину.
— Точно. Вчера была гораздо лучше. А вот сейчас выкупался — и никакого удовольствия.
— Тогда я, пожалуй, не буду, — неуверенно сказал Генка.
— Конечно, не стоит. Одевайся. Чего напрасно мёрзнуть.
— Да я и не замёрз ничуть, — сказал Генка, стуча зубами.
Но одеваться стал.
Генка всё-таки заболел. В понедельник после школы, когда я пришёл его навестить, он сидел с завязанным горлом и пилил какую-то железяку.
— «Моржам» физкульт-привет! — сказал я.
— Здорово, — сказал Генка и чихнул.
— Чего пилим?
— Понимаешь, есть у меня идея. Ты думаешь, если у меня со стихами не получилось, так всё. Дудки. Стихи что? Ерунда. Слова, слова… Вот скульптура — это вещь. Представляешь, бронзовый монумент! Сила!
— Уж не из этой ли железки ты собираешься бронзовый монумент делать?
— Ну, монумент не монумент, а небольшую скульптурку можно попробовать.
— И что же ты ваять собираешься?
— Учительницу.
Я даже присел.
— Генка, — сказал я, — у тебя, может, не горло, а голова болит? Ты бы с врачом посоветовался.
Но Генка только отмахнулся.
— Ты слушай и не перебивай. Знаешь, какую скульптуру-то я собираюсь делать? Абстрактную. Ведь главное что? Идея. Ты думаешь, обязательно, чтобы похоже было? Чтоб тебе и нос, и глаза, и всякое такое? А вот и нет. Идею можно разными способами выразить.
На следующий день Генкина скульптура была готова. Надо отдать ему должное, подставочка у него вышла отлично, ничего не скажешь. Из сосновой доски, ровненькая, лаком покрыта. А вот что к этой подставочке было приделано, сказать трудно. Обыкновенный железный прут, который, к тому же, извивался, будто червяк, а на конце было припаяно что-то вроде медных усов.
— Я бы на месте учительницы обиделся, — сказал я. — Ты бы хоть проволоку-то выпрямил.
— А это и не учительница, — сказал Генка.
— А кто же?
— Потом скажу. У меня есть предложение. Послезавтра Восьмое марта. Зайдём к ней, поздравим?
— Можно, — сказал я. — Только не вздумай своего червяка дарить.
Но Генка ничего не ответил.
Восьмого марта мы стояли у двери учительницы. Я держал в руках цветы, Генка — коробку со своей скульптурой. Он всё-таки её взял.
— Только бы на тётку опять не нарваться, — сказал Генка.
К счастью, на этот раз дверь открыла сама Татьяна Алексеевна. Мне показалось, что она ожидала увидеть кого-то другого.
— А-а, это вы, ребята, — сказала она как-то растерянно.
— Вот решили зайти, поздравить, — сказал Генка.
Я протянул цветы, Генка — коробку.
— Ой какие вы молодцы, — оживилась она. — Да что же мы стоим, проходите.
Мы вошли.
— Ну какие же вы молодцы, что пришли, — повторяла Татьяна Алексеевна. — А цветы просто изумительные!
Она засуетилась, ища вазу.
— А тут ещё что-то, — она подошла к коробке. — Посмотреть можно?
— Конечно, — хрипло сказал Генка.
Учительница открыла коробку.
— Это скульптура, — сдавленным голосом сказал Генка. — «Весна» называется.
«Сейчас засмеётся», — мелькнуло у меня в голове.
Но учительница и не думала смеяться. Она осторожно вынула Генкину скульптуру и, поставив на подоконник, сделала шаг назад.
— Какая прелесть, — тихо сказала она. — Стебелёк и два только-только раскрывшихся листика.
Я посмотрел на скульптуру и замер. Вот это да! В одно мгновение Генкин усатый червяк превратился в веточку с двумя маленькими листочками на конце. Почему же я раньше этого не разглядел? И как это она сразу всё увидела?
— Ребята, милые, — сказала она, — вы просто сами не знаете, какие вы умницы. Давайте-ка садитесь вот сюда, а я для вас что-нибудь сыграю. А потом будем пить чай. У тёти есть отличное варенье. Вы ведь любите варенье?
Она села к пианино и заиграла. Впервые в жизни кто-то играл специально для нас с Генкой.
ТАНЯ
1
Не знаю, кому пришло в голову назвать озеро Уловным. Может быть, в послеледниковый период там и водилась какая-нибудь рыба, но когда я приехал к Генке на дачу, мне посчастливилось увидеть одних головастиков. На что только мы не пробовали ловить! Мы ловили на червя, на мотыля, на опарыша, на тесто, смешанное с подсолнечным маслом, на репейники. Но рыба упорно не желала клевать. Не клевала она даже на шитика! «Ну, зажралась рыба, — возмущался Генка. — Надо же, шитика не берёт! Что у них там, на дне ресторан открыли, что ли?» И хотя Генка уверял меня, что до моего приезда он поймал огромного, с телефонную трубку, окуня, я не очень-то верил. А если даже Генка и не врал, то, наверное, окунь этот был долгожитель-одиночка, которого по каким-то причинам не выловили неандертальцы.
И всё-таки мы с Генкой ходили на озеро почти каждый день. Только представьте: идёшь по узкой лесной дороге, под ногами мягкие зелёные иголки шуршат, справа и слева высокие серьёзные сосны, грибами пахнет, папоротником. И кажется, что дорога эта, оплетённая цепкими упругими корнями, так и будет без конца вести тебя всё дальше и дальше в лес. Но вот взбираешься на пригорок, и перед тобой совершенно неожиданно возникает озеро — маленькое, чёрное, похожее на запятую, со всех сторон окружённое деревьями, подступившими к самой воде. Смотришь на озеро, и тебя прямо удивление берёт: как же, думаешь, ты здесь, посреди такой чащобы оказалось?
2
Ух, и хороша же была водичка в то утро. Ну, может, и не такая, про которую говорят «как парное молоко», но градусов семнадцать в ней наверняка было. Мы с Генкой накупались до посинения. Я, как ящерица, распластался животом на большом тёплом валуне и выбивал зубами азбуку Морзе, а Генка прыгал рядом на одной ноге, вытряхивая воду из уха.
— Гляди, Серёга, — сказал он, — опять эта художница пришла. Натюрморты рисовать.
— Натюрморт, мой друг, — назидательно сказал я, — в переводе с испанского означает «мёртвая природа». Вот, скажем, окорок свиной или баранки на верёвочке — это натюрморт. А здесь кругом дикие, нетронутые джунгли с голым и вполне живым дикарём на переднем плане. Так что это называется пейзаж.
Я оторвал голову от камня и посмотрел вверх, на пригорок. Девчонка установила мольберт, равнодушно взглянула в нашу сторону, а потом уселась на траву и стала смотреть куда-то на другой берег озера. Вот и вчера она точно так же с независимым видом появилась на нашем озере и, не обращая на нас никакого внимания, что-то долго колдовала над своим холстом.
— Откуда она, не знаешь? — спросил я.
— Колька Шпынь говорил, она к Рыжовым приехала. Внучка ихняя.
— К Рыжовым? — переспросил я. — Это у которых белый налив в саду?
— К ним, — сказал Генка и неожиданно добавил: — Волосы у неё хорошие.
— Ты так считаешь?
— Ну, я в том смысле, — смутился Генка, — что длинные. Вот если, к примеру, она тонуть начнёт, то её спасать удобно будет, легко. Утопающих, их всегда за волосы вытаскивают.
— Это верно, — согласился я.
Между тем девчонка поднялась с земли и начала что-то мазюкать там у себя на холсте.
— А что, Генка, — сказал я, — может, пойдём представимся, раз она такая невежливая и сама нам не представляется. Правда, мы не при фраках, но надеть штаны можно.
— Да нет, неудобно как-то. Вот если бы она тонуть начала, а я б её…
— А ты б её за волосы. Понимаю. Молчи уж, осводовец. С твоим изящным собачьим стилем много не наспасаешь. Вот я бы ещё мог спасти. Но она купаться-то вовсе не собирается. Она, наверное, и плавать не умеет.
— А что, если… — начал Генка и, как-то робко взглянув на меня, замолчал.
— Ну, ну, выкладывай. Я сегодня добрый.
Генка поднял с земли камешек и, пустив по воде «блинчики», сказал:
— Что, если тонуть будешь ты. Ну, понарошку, конечно. А я брошусь в воду и спасу тебя у неё на глазах. Вот это будет эффектно!
Я уже было хотел заявить, что это глупая показуха, что Генка едва плавать научился, а у меня как-никак второй разряд и что вообще это бред сивой кобылы. Но вместо этого я вдруг сказал:
— Согласен. Спасай. Но только вот что, Ихтиандр: мы должны всё это хорошенько отрепетировать. А то ты меня так наспасаешь, что мы вместе ко дну пойдём. Да и вообще, надо, чтобы всё натурально было. Пошли сейчас обедать, а вечером — репетиция. Будем вживаться в образы. По системе Станиславского.
3
— Тону-у! — закричал я и погрузился в воду. А когда вынырнул, то увидел, что Генка продолжал оставаться на берегу.
— Серёга! — закричал он. — Ты поближе маленько подплыви! А то мне до тебя не доплыть.
«Ох уж мне эти Ихтиандры!» — подумал я и, приблизившись к берегу, снова закричал:
— Тону-у-у-у!
— Совершенно непохоже! — закричал Генка. — Ну, кто же так тонет! Надо руками по воде молотить, чтобы брызги до неба летели. И потом, как ты кричишь?! Разве утопающие так кричат?!
— Ты-то откуда знаешь, как утопающие кричат? И вообще, скорей давай спасай! Мне уже холодно.
— Сейчас, сейчас! Но ты как следует только кричи! Истошно! И брызг побольше!
— А-а-а!!! Тону-у-у! Помогите!! — истошно закричал я и что есть силы замолотил руками и ногами по воде.
— Вот теперь хорошо! — закричал с берега Генка.
— Что?! — закричал я, потому что сильно запыхался и не расслышал Генкиных слов.
— Я говорю, хорошо теперь! — снова закричал он.
— Так какого же чёрта ты тогда на берегу стоишь, паразит! — теперь уже по-настоящему истошно закричал я. — Лезь в воду! А то сейчас я тебя самого утоплю! Станиславский!
Генка плюхнулся в воду и неуклюжими сажёнками поплыл в мою сторону.
Плыл он долго, хотя старался изо всех сил, разбрасывая вокруг кучу ненужных брызг. Потом наконец подплыл и судорожно вцепился мне в шею. Я тут же погрузился, изрядно глотнув воды.
— Что же ты за меня цепляешься, — отфыркиваясь, сказал я.
— Сейчас, погоди. Отдышусь маленько.
И Генка энергично схватил меня за голову, будто это не голова была, а поплавок какой-нибудь. Тут уж я и вправду стал тонуть. Потом всё-таки сумел изловчиться, вырвался из Генкиных объятий и резко поплыл в сторону. Но в последний момент Генка успел схватить меня за трусы, которые как трофей и остались у него в руках.
— Ну нет! — сказал я, отплёвываясь. — Я так просто не дамся! Хватит! Теперь я режиссёром буду, а ты выполняй мои команды. Во-первых, отдай трусы. Во-вторых, не хватайся за меня, как всё равно за бревно. Чего ты мне в голову-то вцепился?!
— Так я за волосы хотел. Утопающих всегда…
— Замолчи, теоретик! И слушай, что говорю: я на спину лягу и буду потихонечку к берегу рулить. А ты бери меня за руку, второй греби, да ногами поживей работай. И не липни ко мне, как пиявка!
Кое-как мы дотащились до берега, причём я заглотил такое количество воды, что, наверное, выдул пол-озера. Отогревшись на камне, мы начали всё сначала. К четвёртому разу стало получаться довольно сносно. Правда, Генка уверял меня, что я недостаточно истошно кричу. Когда, наконец, от холода мы стали покрываться инеем, я сказал:
— Всё. Репетиция окончена. Завтра премьера. Можешь расклеивать афиши.
— А что, если она завтра не придёт? — спросил Генка.
— Придёт. Куда она денется. Надо же ей натюрморт с дикарями закончить. Ну, а если нет…
Но договорить я не успел. Тот единственный зритель, для которого мы готовили представление, появился на пригорке.
— Ну вот, — сказал я. — Премьера, кажется, состоится сегодня. Ты отогрелся, спасатель?
— Отогрелся, — ответил Генка. — Ты только давай кричи лучше.
— Ладно. Я-то покричу. Главное, ты свою роль не спутай. Твоя задача меня спасти, а не утопить. Это, согласись, разные вещи.
Сначала всё шло по нашему сценарию. Мы подождали, пока девчонка начнёт своё рисование, потом я не спеша вошёл в озеро, проплыл метров сорок, пару раз нырнул и, набрав в грудь побольше воздуха, дико закричал:
— Тону-у!!!
Генка вскочил с камня и побежал к воде. Но с этого момента события вдруг приняли совершенно неожиданный оборот. Я видел, как вслед за Генкой, сбрасывая на ходу платье, с горы бежала художница! Генка уже проплыл метров десять, когда девчонка ещё только вбегала в воду. Но уже через несколько секунд было совершенно ясно, что она первая достигнет утопающего. Девчонка плыла отличным спортивным кролем и буквально за несколько быстрых, отточенных взмахов догнала, а потом и перегнала моего Ихтиандра. Нет, такой поворот действия меня совсем не устраивал. Ещё чего! Чтоб меня спасала какая-то пейзажистка! Я помедлил ещё немного, а потом, когда девчонка была уже совсем близко, припустил к другому берегу.
— Эй, утопающий! — услышал я за спиной весёлый голос. — Куда же ты?!
Тут я понял, что продолжать удирать просто глупо, что спектакль провалился и что артистов забросали тухлыми яйцами. Я перестал плыть и повернулся к девчонке:
— А ты хорошо плаваешь.
— Ты тоже, — сказала она, переводя дух. — Но ты же сейчас тонул?
— Кто? Я? Это тебе показалось.
— А зачем ты кричал «тону»?
— Я кричал «ау». Понимаешь: «А-у».
— Понимаю. Значит, ты заблудился и кричал «ау».
— Ну, конечно. Сбился с курса и заблудился. Но всё равно ты молодец. Поэтому представляю тебя к награде.
Я подплыл к белой кувшинке и уже было хотел её сорвать.
— Стой! — вдруг закричала девчонка, да так, что я даже вздрогнул и отдёрнул руку. — Не трогай её. Зачем? Она ведь без воды совсем беспомощная.
— Пожалуйста, не буду, — сказал я, удивившись такой реакции. — Я ж подарить хотел. За спасение утопающего.
— Не надо. Ты можешь просто сказать: дарю тебе эту кувшинку. И я буду знать, что она моя.
— Ну, если так, то в придачу дарю и озеро. Вместо вазы.
— Спасибо. А знаешь, у кувшинки есть ещё и другое название — нимфея. Красиво, правда?
— Ничего. А тебя саму-то как звать, нимфея?
— Меня Таня.
Я посмотрел в сторону берега и поискал глазами моего Ихтиандра. Генка стоял у воды и подавал мне какие-то отчаянные сигналы. Конечно, он не понимал, что происходит, а плыть почти к другому берегу озера ему было боязно.
— Ну что, гребём назад? — сказал я. — А то мой друг совсем уже заскучал.
— Плыви за мной и не глазей по сторонам, — сказала Таня. — А то снова заблудишься.
Потом мы все втроём лежали на нашем валуне и отогревались. Солнце на том берегу уже коснулось макушек сосен, с воды потянуло прохладой, но камень был ещё тёплый и даже казался мягким.
— А всё-таки жаль, что ты не тонул, — вдруг задумчиво сказала Таня. — Я когда вас здесь увидела, мне страшно захотелось с вами познакомиться. Я ведь тут совсем никого не знаю. Вот я и думаю: хорошо бы, если бы кто-нибудь из них тонуть начал. Я бы тут же в воду… Так всё романтично было бы.
Тут мы с Генкой посмотрели друг на друга да так хохотать начали, что Таня привстала и посмотрела на нас как на придурков:
— Вы чего это?
— Да так, — сказал я. — Анекдот один вспомнили. Про утопающего.
— А как называется это озеро?
— Уловное, — сказал Генка.
— Уловное, — медленно повторила Таня. — Какое хорошее название. А русалки в нём живут?
— Какие там русалки. В нём и рыба-то, похоже, не водится. Представляешь, на шитика даже не берёт!
— И правильно делает. Очень нужны ей ваши шитики. А русалки здесь наверняка живут. Посмотрите, сколько вокруг васильков.
— При чём тут васильки? — спросил я.
— Как при чём? Разве вы не знаете?
— Мы не знаем, — сказал я. — Мы с Генкой в ботанике не сильны.
— Тогда слушайте. В древние времена одна молодая русалка полюбила пахаря. А звали этого пахаря Василий. Русалка уговаривала его, чтобы он всё бросил и шёл бы жить к ней в озеро. Но пахарю было жаль расставаться с землёй, и он отказался. Тогда русалка превратила его в цветок и назвала этот цветок васильком.
— Всё ясно, — сказал я. — Хорошо, что пахаря Василием звали, а, скажем, не Аскольдом. Пришлось бы цветы аскольдиками называть.
Таня как-то странно на меня посмотрела, и я понял, что сморозил глупость. И откуда у меня эта идиотская манера всё время острить пытаться? Особенно когда с девчонками разговариваешь.
— А ты что, художница? — задал Генка тоже не очень-то умный вопрос.
— Художница? — Таня засмеялась. — Ну что ты, нет, конечно. Просто мне нравится рисовать. Чтобы художником быть, надо очень сильно в себя верить. В правоту свою. А я всё время сомневаюсь. Вот пишу что-нибудь, а мне постоянно кажется, что самое-то главное от меня ускользает. Я вижу это главное, а схватить ну никак не могу. Хоть плачь! Знаете, был такой художник Ван Гог. Жил в страшной бедности и всё время писал, писал. Будто торопился. А за всю жизнь продал одну-единственную картину! Да и то за гроши. Представляете, весь мир в него не верил и считал его картины мазнёй. А он верил! Один!
— И что потом было? — спросил Генка.
— Потом? Потом люди поняли, что они были неправы. А Ван Гог умер с голоду.
Тут мне опять захотелось сострить, сказать, что голодная смерть ей не грозит и что, если её картины не будут покупать, она может спокойно пойти на ткацкую фабрику и там прилично заработать. Но я посмотрел на Таню и промолчал.
— А вот итальянский скульптор Бенвенуто Челлини любил стрелять из пушки, — вдруг изрёк Генка. Он, видимо, долго и мучительно соображал, что бы такое сказать про художников, и теперь неожиданно выдал неизвестно откуда всплывшие знания.
Таня засмеялась, а потом сказала:
— Давайте ещё раз искупаемся. Хочу посмотреть, как там моя кувшинка.
— Ну, вы купайтесь, а я ещё посохну, — сказал Генка. Он уже видел, как плавает Таня, и теперь, наверное, стеснялся показывать свой собачий стиль. Да и побаивался заплывать так далеко.
— Давай наперегонки, — предложил я.
— Давай! — согласилась Таня.
По Генкиному сигналу мы бросились в воду. К счастью, мне удалось немного опередить её на финише, хотя плыл я изо всех сил. «Хорошо, что я не предложил ей форы», — подумал я.
— Посмотри, — сказала Таня, — моя нимфея уже собралась спать. Видишь, лепестки почти закрылись. Обещаешь мне никогда больше не рвать кувшинок?
— Обещаю, — сказал я. — Или нет, даже не так. Торжественно клянусь никогда больше не рвать кувшинок, нимфей, васильков, ромашек, лопухов и прочий растительный мир. Обязуюсь также не обижать русалок, леших, домовых и соловьёв-разбойников.
— Я тебе верю, — серьёзно сказала Таня и, подплыв ко мне совсем близко, добавила: — Серёжа, я хочу попросить тебя об одной вещи.
— Можешь даже о двух.
— Ты знаешь, мне очень-очень хочется прийти сюда, на это озеро ночью.
— Ночью? Зачем?
— Ну, как бы тебе объяснить… А ты не будешь смеяться?
— Не буду.
— Сегодня мне вдруг показалось, что когда-то очень давно я здесь жила. И что стоит прийти сюда ночью, как я всё сразу вспомню. Я бы одна пошла, но мне страшно.
— Ладно, сходим, — сказал я и даже сам удивился, что так быстро и легко согласился.
— А ты сможешь из дому уйти? — спросила Таня.
— Запросто. Я на веранде сплю. Никто и не заметит, как я выскользну.
— И ещё, Серёжа: пожалуйста, не говори никому об этом. Пусть это будет нашей тайной.
— Хорошо, — согласился я и почему-то сразу посмотрел в сторону берега. Там, на камне белела маленькая Генкина фигурка. Быть может, впервые в жизни я собирался что-то скрыть от него.
4
Но этой ночью на озеро мы не пошли. К вечеру с залива подул тяжёлый, сырой ветер, небо заволокло чёрными, набухшими тучами и пошёл такой неторопливый, но основательный дождь, что, казалось, каждая капля, ударявшая по крыше, злорадно говорила: «Ну, теперь вы у меня посидите, голубчики, помаетесь». Мы с Генкой отыскали на чердаке подшивку старых журналов «Вокруг света» и, сидя на веранде, листали их взад-вперёд. Ни говорить, ни играть в «балду» уже не хотелось. И только запах клубничного варенья, которое Анастасия Петровна, Генкина бабушка, варила на кухне, не давал помереть от тоски. На цветных фотографиях журналов полураздетые белозубые негры под палящим тропическим небом собирали урожай кокосовых орехов, плавали в пирогах по тёплым голубым озёрам, африканские слоны, спасаясь от жары, обливали себя водой из хобота, а за стёклами нашей веранды всё шёл и шёл нескончаемый, серый дождь. Я проклинал погоду, и временами у меня даже появлялось желание выйти на улицу, залезть на ближайшую сосну и начать дуть в небо, чтобы разогнать ненавистные свинцовые облака.
Лишь на четвёртый день сквозь разрывы туч показалось солнце. Облака посветлели, засеребрились и, словно решив, что дело своё они добросовестно сделали, дружно понеслись за горизонт.
Я надел резиновые сапоги, схватил ведро и побежал на колонку за водой. Нет, совсем не потому, что колонка находилась рядом с домом, где жила Таня. Просто в одном из вёдер и вправду почти кончилась вода.
Таня в длинном, до земли, наверное дедушкином, плаще стояла у калитки возле своего дома и, задрав голову, смотрела на небо.
— Привет! — крикнул я и, повесив ведро на «нос» трубы, нажал рычаг. — А мы с Генкой уже подумывали, что начался период муссонных ливней. Как в Гваделупе.
— Я как раз тебя поджидала, — сказала Таня, подходя ко мне.
— Откуда же ты знала, что у нас вода кончится?
Таня улыбнулась.
— Я этого не знала. Так мы идём сегодня?
Я поставил ведро на землю, посмотрел на уже начавшее пригревать солнце и сказал:
— А чего? Можно сходить. Погода нормальная. Я с собой фонарик возьму. Правда, батареи уже подсели, но ничего, светит пока. А во сколько пойдём?
— Давай в двенадцать. Тогда уже наверняка все спать будут. Встретимся на поляне у последнего дома. Не проспи только.
Таня хотела что-то ещё добавить, но промолчала и только как-то странно на меня посмотрела.
5
Уже давно мирно посапывал на своём диванчике ничего не подозревавший Генка, уже Анастасия Петровна перестала греметь кастрюлями и мисками и погасила свет, а я неподвижно лежал на раскладушке и сна у меня не было ни в одном глазу. Время от времени я доставал из-под подушки фонарик и освещал им будильник, стоявший рядом на тумбочке. И если бы не его громкое, барабанное тиканье, я бы ни за что не поверил, что стрелки движутся, а не стоят на месте. Без пятнадцати двенадцать я тихо, стараясь не скрипеть, встал, оделся и неслышно выскользнул в уже заранее приоткрытое окно. Через три минуты я был на поляне. С поляны, которая находилась на горушке, был виден почти весь посёлок. Кое-где ещё горел свет, слышалась далёкая музыка и собачий лай. А за спиной у меня чёрной глухой стеной стоял лес. Я посветил фонариком в сторону, откуда начиналась дорога на озеро, но слабый луч беспомощно уткнулся в плотную, густую темень, едва осветив ветки какого-то куста, стоявшего в метре от меня.
— Серёжа, ты здесь? — услышал я приглушённый голос Тани.
— Здесь, — ответил я, с трудом различая смутный силуэт Таниной фигуры.
— Еле ушла, — сказала она, подходя. — Представляешь, дедушка на ночь глядя ступеньки на крыльце начал менять. А темно-то как, Серёжа! В городе никогда такой темноты не бывает. А тут у неё даже цвет какой-то особенный. Вишнёвый, что ли.
— Ну, пошли, — бодро сказал я, а сам почему-то подумал, что вот сейчас Таня присядет на ствол поваленного дерева, рядом с которым мы стояли, и скажет: «Знаешь, давай здесь посидим, поболтаем. Ну, чего тащиться в такую даль по лесу». Но она промолчала, и мы вошли в лес. Казалось, там было ещё темнее и тише. Свет фонаря едва освещал дорогу под самыми ногами, и приходилось всё время смотреть вниз, чтобы не спотыкаться о корни и не залезать в лужи, которых после дождя полно было.
— Серёжа, ты не боишься? — шёпотом спросила Таня.
— Ещё чего! — нарочно громко ответил я. — Да я по этой дороге с закрытыми глазами ходить могу. А у нас фонарик. Батарейки, конечно, не ахти, но светит же…
И только я это сказал, как со всего хода зацепился ногой за упругий корень и плюхнулся на землю. Фонарь выскочил у меня из руки и погас.
— Серёжа, ты где? — испуганно спросила Таня.
— Да тут я. Упал. А теперь фонарь не могу найти.
Когда я наконец отыскал фонарь в мокрой придорожной траве, он оказался испорченным. Сколько я его ни тряс и ни крутил, он не желал загораться.
— Ну, что же ты молчишь? — спросила Таня.
— Я не молчу.
— А почему не говоришь ничего? Я же тебя не вижу.
— Я говорю. Фонарь вот, проклятье, испортился. Лампочка, наверное, встряхнулась.
— Что же делать?
Тут я подумал, что неплохо бы и вернуться, потому что идти без света в такой темнотище казалось невозможно. Я молчал, бессмысленно тряся в руках фонарь и не зная, на что решиться. Постепенно глаза привыкли к темноте, и я стал различать чуть желтеющую дорогу, идущую на подъём.
— Ладно, — сказал я. — И так дойдём. Теперь уже близко.
— А мы не заблудимся?
— Не бойся. Дорога сама нас к озеру выведет.
— Можно, я возьму тебя за руку?
Таня протянула мне сухую, горячую ладонь, и мы пошли дальше. К счастью, сквозь деревья на дорогу стал пробиваться слабый лунный свет, а с неба исчезли последние облака и появились звёзды. Скоро подъём стал круче, и через несколько минут перед нами открылось озеро.
В первый момент мне даже показалось, что это не наше, а какое-то совершенно другое, незнакомое озеро. Лунный свет до краёв заливал неподвижную гладь воды, и, казалось, озеро превратилось в огромное серебристое зеркало, в которое с молчаливым любопытством глядели притихшие сосны. В застывшем, густо усыпанном звёздами небе луна горела так ярко и была такой огромной, что, казалось, стоит забраться на макушку высокого дерева — и, протянув руку, можно будет дотронуться до её прохладной поверхности.
Мы спустились к берегу и присели на наш камень, который сверху походил на большого, дремлющего кота.
— Как здорово! — сказала Таня и, помолчав, добавила: — Ну, теперь веришь?
— Теперь верю, — сказал я. — А во что?
— Ну, в то, что здесь русалки живут?
— Ясное дело, живут. Они и рыбу всю съели.
— Неправда. Русалки рыбу не едят.
— А что они едят?
— Разве ты не знаешь? Русалки едят яблоки.
Таня встала, подошла к озеру и, присев, опустила руку в серебристую воду.
— Ты знаешь, — не оборачиваясь, сказала она, — иногда я почему-то жалею, что по луне люди ходили и всякие вездеходы ездили. Однажды я даже придумала для себя, что две луны существуют. На одну ракеты летают, спутники, её сверлят, кирками по ней бьют, фотографируют. Ну, в общем, покоряют. А на другой, на той, которая людям по ночам светит, никто никогда не бывал и побывать не сможет. А вообще, будь моя воля, я бы записала луну в Красную книгу.
— Чудик ты, — сказал я. — Тебя бы саму в Красную книгу записать.
— Папа тоже говорит, что я «ненормальная». Поехали в прошлом году с ним в Москву. Зашли в Третьяковку. Я там встала около одной картины и отойти не могу. А потом вдруг реветь начала. Стою и реву как дура. И сама не знаю почему. Все решили, что я заболела.
— А как называлась эта картина?
— «Оттепель». И ничего вроде бы особенного. Поле, дорога размытая, избушка-развалюха с крышей под снегом. А на дороге две крохотные фигурки: старик вроде какой-то и рядом мальчонка маленький… Ни за что бы эту картину у себя дома не повесила.
— Почему? Разве она плохая?
— Дело не в этом. Картина прекрасная. Но смотреть на неё невозможно. Больно как-то. А вообще, если честно, ни за что бы не хотела стать художником.
— А кем бы ты хотела стать?
— Ведьмой. Построила бы себе здесь, на озере избушку, собирала бы всякие волшебные травы и варила бы из них приворотные зелья. Знаешь, что это такое?
— Знаю, — сказал я. — Наркотики вроде какие-то.
— Дурачок ты, — засмеялась Таня. — Никакие это не наркотики. Вот захочу я, к примеру, чтобы ты в меня влюбился. Соберу лунной ночью волшебных трав и корней, наварю из них приворотного зелья и дам тебе выпить.
Таня сложила ладони ковшиком, зачерпнула из озера и медленно, чтобы не расплескать, подошла ко мне:
— Пей.
Я наклонился и осторожно дотронулся губами до воды, в которой плавали серебряные лунные искорки.
6
Колька Шпынь был добрый парень, ничего не скажешь. Когда родители купили ему мопед «Рига-12», он не стал важничать и задирать нос, а честно и по справедливости давал прокатиться всем ребятам. Мопед с диким рёвом и вонью носился по посёлку, осыпаемый проклятьями дачников.
Мы с ребятами сидели на бревне, валявшемся около Колькиного забора, и болтали о том о сём. На мопеде поехал Генка, а моя очередь была как раз после него.
— Коль, а сколько у твоего кубиков? — спросил Славка.
— Да полста всего, — ответил Колька. — Конечно, это не ИЖ-«Юпитер» и не «Ява», но шестьдесят по хорошему асфальту он запросто делает. А как в гору прёт — ну, зверь! Движок у него супер — приёмистый.
— У моего дядьки на Украине «Цундап» с коляской, — сказал Никита. — Довоенный ещё. Дядька его после войны из реки вытащил. Вот это, скажу вам, машина! У него даже задняя передача есть, представляете!
— Ну и что, — сказал я. — У нашего «Днепра» тоже задняя передача.
— Нет, мужики, — сказал Лебедь, — что ни говорите, а лучше «Хонды» мотоцикла нет. У него один движок чего стоит — больше семисот кубов. А скорость — двести. Вообще, у японцев сейчас самая крутая техника.
И в это время на дороге появилась Таня. Ребята замолчали, с любопытством поглядывая на её приближение. А у меня почему-то сразу вспотели ладони, а в ногах появилась противная слабость.
— Здравствуй, Серёжа, — сказала Таня, подходя.
— А, привет, — небрежно бросил я, будто только сейчас её заметив. И до чего же гнусным и фальшивым показался мне собственный голос!
— Ты знаешь, — сказала Таня, — дедушка починил свой старый велосипед. Пойдём кататься. Я на багажник сяду. Можно даже и на озеро съездить.
Как мне хотелось в тот момент вскочить и сказать, что да, конечно, я согласен, что я жутко люблю кататься на велосипеде и что мы домчим с ней до озера в пять минут! Но я посмотрел на молчаливо ухмыляющихся ребят и словно прирос к проклятому бревну. Я ненавидел себя в эти секунды. Отвратительно чужим, пакостным голосом я сказал:
— Да не, неохота. Сейчас моя очередь на мопеде ехать. А на дедушкином велосипеде в другой раз.
Ребята одобрительно заржали.
Таня хотела что-то сказать, но передумала и, посмотрев на меня так, что мне захотелось исчезнуть с этой планеты, быстро, не оглядываясь, ушла.
Через несколько минут подлетел сияющий Генка.
— Ну, машина! Высший класс! Давай, Серёга, гони. Только не газуй сильно. Она и так прёт, будь здоров!
Я вскочил в седло и помчался по посёлку. Я долго кружил по пыльным узким улицам в надежде встретить Таню. Но её нигде не было. «Ладно, ничего, — говорил я сам себе. — Встану завтра утречком пораньше, пойду к ней, поговорю, и всё образуется. Всё будет хорошо. А потом мы обязательно пойдём на наше озеро». Именно так я и думал, с рёвом несясь по ухабистой дороге. Но на душе было тоскливо.
Утром, когда Генка ещё спал, а Анастасия Петровна едва начала варить манную кашу, я выскочил из дома. Всю дорогу до Таниного дома я бежал, хотя сам же твердил себе: «Ну, куда ты несёшься. Спят же ещё люди. Наверняка спят».
В саду возле дома у кустов красной смородины с корзиной, привязанной к поясу, стоял Танин дедушка. Он неторопливо срывал спелые рубиновые гроздья и что-то недовольно бормотал.
— Здравствуйте! — крикнул я. — А Таня уже проснулась?
— Таня? — старик обернулся и удивлённо на меня посмотрел. — Опоздал, сынок. Уехала Таня.
— Как уехала?! — закричал я, не поверив своим ушам.
— Да так вот, уехала. Сегодня рано утром, с первой электричкой, за ней родители прикатили. Путёвку, видишь ли, им семейную дали. В эту, как её, Ег… Евг… в Елгаву. Тьфу ты, господи, и не выговорить. Будто ребёнку здесь с дедом, с бабкой плохо. Нет, им обязательно Прибалтику подавай. А я так скажу, что у нас ничуть не хуже ихней Прибалтики.
Я повернулся и пошёл прочь.
— Эй, паренёк, постой! — крикнул старик. — Тебя, часом, не Сергеем зовут?
— Сергеем, — ответил я и замер.
— Тогда погоди. Таня тут кое-что передать тебе велела. — Старик вошёл в дом и вскоре вышел, держа в руках плоский, размером с портфель, пакет.
Я схватил пакет и, даже забыв поблагодарить старика, опрометью побежал на поляну. На ту поляну, откуда начиналась дорога на озеро. Там я сел на поваленную сосну и торопливо развернул пакет. В нём лежала картина. На тёмном вишнёвом небе застыла огромная зелёная луна. Луна, по которой никогда не ступала нога человека. Внизу, под горушкой, словно волшебное зеркало, серебрилось маленькое лесное озеро, похожее на запятую. А на берегу озера, рядом с камнем, чем-то походившим на дремлющего кота, виднелись две крохотные фигурки.
На Аптекарском острове
П о в е с т ь
Глава 1. В САДУ
Ничего хорошего от этих субтропиков я не ожидал. Так оно и вышло. Было душно и влажно, а от растений шёл такой терпкий, одуряющий запах, что я начал непрерывно зевать. К тому же я был в зимнем пальто и в свитере — одежда для прогулки в субтропиках самая неподходящая. «Хоть бы раздевалку при входе сделали», — подумал я и решил, что пора идти домой. Но пошёл, видно, не в ту сторону. Одна оранжерея переходила в другую, пальмы и эвкалипты сменили колючие кактусы, а выхода не было видно. Я уже собрался спросить у женщины, вынимавшей из тёплой земли огромный градусник, где у них выход, и вдруг как вкопанный остановился и даже зажмурился. Передо мной, словно снежное морозное облако, возник большой куст, сплошь усыпанный мелкими, необычайно белыми цветами. Цветы были настолько чистыми и свежими, что, казалось, от куста тянуло прохладой, как из распахнутой дверцы холодильника. Только что я изнывал от тропической жары, а тут даже плечами передёрнул, и по спине пробежали мурашки.
— Изумительно, не правда ли? — услышал я вдруг и обернулся. Позади меня, опираясь на палку, стоял высокий, худощавый старик с лёгкими седыми волосами. — Говорят, некрасивых цветов не бывает, — продолжал он. — Так оно, бесспорно, и есть. Но каждый раз, когда я гляжу на эти азалии, то думаю, что тут не просто красота, тут прямо чудо какое-то. Фантастика, если хотите. Впрочем, здесь и слов никаких не подберёшь. Да и не нужно, наверное. Вы со мной согласны?
Честно говоря, я не очень-то понял, что сказал старик, но почему-то я ему сразу поверил.
— Я согласен, — сказал я.
Старик одобрительно закивал головой и продолжал:
— А ведь куст этот мне ровесник, можете себе представить?! Он ещё до революции родился и стоял тогда в церкви. Его в пасху на всенощную выносили. Ну, а уж потом передали сюда, в Ботанический сад.
— Вы здесь работаете? — спросил я.
— Работал, — ответил старик. — Теперь на пенсии. Но каждую весну обязательно прихожу, смотрю, как азалии цветут. — Старик помолчал, а потом неожиданно добавил: — Помните, у Достоевского: красота спасёт мир.
Я посмотрел на старика, подумав, что он смеётся надо мной. Да и откуда мне, в самом деле, знать, что сказал Достоевский, про которого я только и слышал, что у него есть книга со странным названием «Идиот».
— Красота спасёт мир? — повторил я. — Но разве мир нужно спасать?
Старик мягко улыбнулся и спросил:
— Сколько вам лет? Если не секрет, конечно.
— Не секрет, — сказал я. — Мне одиннадцать.
— Во время войны, — сказал старик, — сюда, на Ботанический сад, упало больше трёхсот немецких снарядов и бомб. Все оранжерейные растения погибли. Уцелели только кактусы да вот этот куст. Сотрудники разобрали их по домам и спасли.
— Но ведь вы сказали: красота спасёт мир. А тут наоборот получается — люди красоту спасали, когда цветы домой уносили?
— Правильно. А как вы думаете, для чего они это делали? Кругом война идёт страшная, голод. А цветы эти не съешь, ни печку ими не растопишь? Наверное, они понимали, что мира без красоты быть не может. Погибнет красота — и мир погибнет. — Старик помолчал, задумавшись о чём-то, потом сказал: — Знаете, есть такое растение — кипрей. В народе его иван-чаем называют. Растёт он обычно по вырубкам, просекам, гарям. Везде, одним словом, где с землёй, с лесом беда случилась и ничто там расти не может. А кипрей растение яркое, медовое. Вот уже пчела вокруг него вьётся, шмель жужжит, да и земля, на которой кипрей стоит, подлечилась, окрепла. Глядишь, другие цветы появились, кусты зазеленели, деревца поднялись. И нет больше пустоши, снова лес шумит, живой и сильный. Вытеснила его новая, молодая жизнь.
Мы ещё немного молча постояли около белых нежных цветов, потом вышли из оранжереи и пошли по узкой асфальтовой дорожке, вдоль которой густо росли кусты с уже набухшими почками. Синий воздух был чистый и чуть морозный. За кустами в парке по талому снегу важно разгуливали большие серьёзные вороны. Старик остановился и, постучав палкой по земле, сказал:
— А знаете, что здесь было раньше, двести пятьдесят лет назад? Аптекарский огород.
— Огород?
— Именно. Говоря современным языком — питомник лекарственных растений. И создан он был по личному указу Петра Первого. Ведь Россия вела в то время Северную войну, нужны были лекарства. А пенициллина или там ацетилсалициловой кислоты тогда, сами понимаете, не было, лечили главным образом травами. Вот и решили здесь, на этом острове лекарственные растения разводить. Кстати, и остров поэтому Аптекарским назван. Ну, а уж потом, через сто с лишним лет тут императорский ботанический сад основали. Из теплиц графа Разумовского привезли сюда первые редкие растения. По сути дела, отсюда русская ботаническая наука и пошла. А сад стал знаменитым на весь мир. Да… Потом война. После войны почти всё заново пришлось создавать… А вы, кстати, тут часто бываете?
— Не очень, — сказал я. Почему-то мне не хотелось говорить старику, что я здесь первый раз в жизни, да к тому же пришёл по самому дурацкому поводу.
— Мой вам дружеский совет — приходите чаще. Приходите, когда просто хорошее настроение. Когда плохое или трудности там какие — тоже приходите. Вот скоро рододендрон зацветёт, прямо тут в саду на открытом воздухе. Тоже, скажу вам, удивительнейшее зрелище. Ну, а уж в конце июня, когда распускается Виктория регия, надо быть непременно. Только представьте: на тихой, гладкой воде басейна плавают огромные круглые листья, а над ними, прямо у вас на глазах, раскрываются белые или чуть розоватые цветы. Воздух вокруг пряный, влажный, густой. Сколько раз уж видел, и каждый раз, поверьте, дух захватывает.
Мы бродили со стариком по узким, уютным дорожкам, а он всё рассказывал про цветы и травы, про диковинные деревья и кусты, про древние, давно вымершие растения, следы которых навеки отпечатались на камнях. И я совершенно забыл дурацкий повод, из-за которого пришёл сюда, забыл я и про глупую записку, оставленную дома на кухонном столе, я забыл даже про тайну, которую сегодня вечером мне собирался открыть Клочик.
Глава 2. ТОВАРИЩИ, НЕЛЬЗЯ ЛИ ПОТИШЕ!
Честно говоря, никак не ожидал, что из-за какой-то записки поднимется столько шума. Не успел я вставить ключ в замочную скважину, как дверь резко распахнулась, едва не заехав мне по лбу.
— Так и убить можно, — сказал я. — Хорошо, что двери теперь из картона.
— И надо бы убить, — грозно сказала мама и, не дав мне войти, замахала перед моим носом обрывком ватмана, на котором жёлтым фломастером было крупно написано:
УЕХАЛ В СУП-ТРОПИКИ.
— Что это за бред?! Тебе что, больше делать нечего?! Оставлять такие идиотские безграмотные записки?! Решил на недельку в Сочи съездить, отдохнуть от родителей?
— Я же говорил, что это несерьёзно, — послышался из комнаты папин голос. — Человек, который поехал в СУП-тропики, далеко не уедет.
— Ты говорил… — раздражённо повторила мама, пропуская меня в квартиру. — Кто может знать, что взбредёт этому бездельнику в голову!
В комнате был ужасный кавардак.
Папа работал дома. На обеденном столе, выдвинутом на середину комнаты, лежал большой прямоугольный стенд, обклеенный белым ватманом. На нём красной темперой был написан заголовок: «Динамика роста надоев от каждой коровы совхоза «Луч». Рядом с заголовком была нарисована толстая добродушная корова. В зубах она держала голубой василёк.
Папа у меня работает художником-оформителем на катушечной фабрике. Он пишет плакаты, соцобязательства, клеймит прогульщиков и бракоделов, оформляет библиотеку, а иногда, случается, и забор красит. Однажды, когда папа тащил из мастерской огромный плакат с надписью: «ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА ДЕРЕВООБРАБОТЧИКОВ!», он упал ему на ногу, и папе выписали больничный лист. С тех пор мама стала звать его «передвижником» и ещё больше невзлюбила его работу. «Художники, — говорит она, — картины пишут или, на худой конец, витрины в гастрономах украшают. А «НЕ КУРИТЬ» по линейке и Алёшка написать сможет. Если, конечно, с грамматикой справится». Наша мама работает в аптеке. У неё серьёзная профессия — фармацевт, и она очень надеется, что папа наконец одумается и найдёт себе настоящую, «мужскую» работу. Каких только идей у неё не возникало! То она предлагает папе пойти на курсы машинистов башенных кранов, то советует устроиться на железную дорогу или докером в морской порт. Папа обычно отмалчивается, будто не слышит. Но иногда вдруг взрывается. «Может, мне на мясокомбинат забойщиком скота пойти? — говорит он. — Или на курсы ассенизаторов? Нет уж, увольте. Я, по крайней мере, людей порошками и таблетками не травлю». — «Дикарь», — говорит мама, и потом они неделю не разговаривают. Иногда папа берёт заказы от какой-нибудь жилконторы или клуба, а то и от пригородного совхоза. Тогда вечерами он работает дома.
Мама решительно направилась в глубь комнаты к окну, у которого стояла гладильная доска, и яростно принялась разглаживать мои трусы. На краю доски лежал мой дневник. Уж не знаю, почему так происходит, но если в комнате стоит раскрытая гладильная доска — жди головомойки. Или, если хотите, наоборот: раз начался скандал — мама тут же за утюг хватается, гладить начинает.
Я уже хотел потихоньку улизнуть в свою комнату, но мама, не оборачиваясь, сказала:
— Где ты был?
— Так я написал, где был, — невинно сказал я.
— Не болтай чепухи!
— Да честно говорю, я в субтропиках был. В Ботаническом саду. Там даже тропики есть. Влажные…
Мама отставила утюг и села на стул.
— Потрясающе! — шёпотом сказала она. — Просто невозможно представить, до чего может довести человека безделье! Посреди трудовой рабочей недели, когда дневник полон двоек и замечаний, он идёт в Ботанический сад! А почему бы тебе не сходить ещё на выставку крупнопанельного строительства или в Музей железнодорожного транспорта?
— А где он находится? — с интересом спросил я.
Но мама, не обратив внимания на мои слова, схватила дневник и, открыв его, протянула мне.
— Что здесь написано?
На полях дневника красными чернилами было написано: «Ваш сын ловит мух на уроке русского языка».
— Я вся краской залилась, когда прочла это. Дурачок мой сын, что ли? Слабоумный? Ловит мух на уроке! — Мама схватилась за голову.
— Да никаких я мух не ловил, — сказал я. — Там моль летала. Я ещё удивился: откуда, думаю, в школе моль? Ну и хлопнул её. Она ведь шерсть пожирает. А Валентина сразу — дневник на стол…
Мама замахала руками.
— Замолчи! А двойку по математике ты когда собираешься исправлять?
— Вспомнила! Я давно её исправил, на той неделе ещё. Просто дневник я тогда забыл, а в журнале уже четвёрка стоит. Факт.
— А по географии?
— Так меня не вызывают, что я, виноват? Я тяну руку; тяну…
— Брось! Так я тебе и поверила! Руку он тянет! Жилы ты мне тянешь, это факт.
— Товарищи, нельзя ли потише! — вскипел папа. — Я из-за вас «надуи» вместо «надои» написал!
— Ну, конечно, тебя поведение этого лодыря не интересует, — сказала мама. — У тебя творческий порыв. Молчи уж, передвижник!
— Горит что-то, — сказал я.
— Господи, мой халат!
Мама рванула с доски утюг, не удержала, утюг полетел на пол и врезался в стеклянную банку с гуашью. Гуашь зашипела, папа выронил кисть и поставил кляксу на коровьем хвосте.
В этот момент в окне за стеклом возник призрак. Призрак таращил глаза, шевелил губами и вдруг моментально исчез, словно провалился.
Глава 3. КЛОЧИК
Если зимой на улице в двадцатиградусный мороз вы встретите человека без шапки и в домашних тапочках, читающего на ходу «Остров сокровищ», то можете не сомневаться — это Витя Клочиков. Стреляйте в этот момент над его головой дуплетом из двустволки или, если хотите, превратитесь в кенгуру и прыгайте перед его носом на задних лапах — он не обратит внимания. Если в кино на комедийном фильме ваш сосед хохочет так, что у вас, как в самолёте, уши закладывает, а он ещё и норовит шлёпнуть вас по колену или пихнуть локтем в бок, — значит, опять вы встретили моего друга Клочика. Клочик не знает и не понимает, как можно что-то делать или чувствовать вполсилы, спокойно или равнодушно. Увидев на улице лоток с мороженым, он не представляет, что можно съесть меньше трёх порций — ведь вкусно! А если по телеэкрану бродит бездомная собака, голодная и одинокая, то даже слёзы могут запросто побежать по Клочиковым щекам. И он их совершенно не стесняется. Он их просто не замечает.
В том, что голова Клочика появилась в нашем окне, ничего фантастического или сверхъестественного не было. Мы живём на первом этаже или, как говорит мама, у нас бельэтаж. И если поставить пару ящиков, залезть на них и встать на цыпочки, то как раз голова и будет торчать в окне.
Клочик сидел под окном на опрокинутых ящиках и потирал ушибленную ногу.
— Рухнул я, — сообщил он. — Ящик ломаный попался. Ну как, крепко тебе всыпали? Я три раза заходил. Где ты пропадал?
— В Ботаническом саду, — сказал я.
— В Ботаническом? Здорово! Ни разу не был. Бананы там есть?
— Не видел.
— Ух как я бананы люблю! Могу тонну сразу съесть. А баобаб?
— Что баобаб?
— Растёт? У меня дядя в Африке был — такие, говорит, баобабы видел! Из них, кажется, резину делают. Или нет, резину из каучукового дерева. А из баобабов — джонки. Или эти, пироги, что ли. А зачем ты в Ботанический пошёл?
— Да так, — сказал я. — Прогуляться.
Мне хотелось рассказать Клочику и о встрече со стариком, и об азалиях, и о писателе Достоевском; сказать, что красота спасёт мир. Но я чувствовал, что у меня не получится, что выйдет скучно и неинтересно и Клочик не поймёт.
— Ладно, — сказал Клочик, — пошли на Неву. Там всё скажу.
— Тайну, что ли?
— Ну.
— А зачем на Неву?
— Не торчать же под твоими окнами. А в садике грязь по колено. Весна опять.
Нева почти совсем освободилась ото льда. Но в залив ещё плыли потемневшие, чёрные льдины, а с воды тянуло свежим весенним холодом. Бронзовый адмирал Крузенштерн, опустив голову, строго посматривал на нас со своего гранитного постамента. Сырой балтийский ветер дул ему в спину, и Иван Фёдорович, поёживаясь, скрестил на груди руки.
— Выкладывай, — сказал я, присев на гранитный парапет.
Клочик расстегнул молнию на куртке, вынул из кармана какую-то фотографию.
— Вот, — сказал он.
Фотография была тёмная и мутная. Можно было только разглядеть, что на ней изображён человек не то с портфелем, не то с сумкой.
— Я всегда говорил, что ты не умеешь фотографировать, — сказал я. — И тайны тут никакой нет.
— Она, — сказал Клочик.
— Кто «она»? — не понял я.
— Гречанка.
— Ворожева, что ли?
— Угу.
— Ну и что?
— И то. — Клочик посмотрел на адмирала, словно спрашивая, говорить дальше или нет.
— Да что ты резину-то тянешь, баобаб! — закипятился я. — Начал говорить, так говори.
— Я — это… Мне кажется… В общем, она мне нравится.
— Влюбился, что ли? Так бы и говорил.
Клочик даже вздрогнул от моих слов и снова посмотрел на бронзового флотоводца, будто испугавшись, что тот может услышать.
Ленка Ворожева училась в нашем классе всего третий месяц. До этого она вместе с родителями два года жила в Греции, где её отец строил плотину. Там во время рытья котлована Ленка нашла какой-то древнегреческий горшок. Горшок оказался очень ценным, и про Ленку даже напечатали в греческой газете, поместив её фотографию с горшком в руках. А потом заметку перепечатали в газете «Пионер Востока». Только вместо Ворожева написали Коржикова. Ошиблись, наверное, когда с греческого переводили. Но заметка была. Факт.
Вот в эту знаменитость и влюбился мой Клочик. Я уж было хотел пошутить и сказать что-нибудь остроумное, например любовь зла, полюбишь и козла, но, взглянув на Клочика, сказал:
— Знаешь, если честно, она мне тоже нравится.
— Тебе?! — Клочик даже подпрыгнул. — Вот здорово! Бывают же в жизни совпадения!
Казалось, он даже обрадовался моим словам, и меня это, по правде сказать, удивило. Как-никак, но я вроде бы становился его соперником. Но такой уж Клочик человек. У него всё шиворот-навыворот. Однажды у нас в школе выступал математик-феномен. Он запросто в уме перемножал четырёхзначные числа, с ходу запоминал тридцать быстро произнесённых цифр и шутя извлекал кубические корни. Ещё он мог моментально прочесть любое слово или даже предложение наоборот. Скажете вы, к примеру: «Как ныне сбирается вещий Олег». А феномен тут же: «гело йищев ястеарибс енын как». Мы все разинув рты сидели. Только Клочик толкал всех в бока, мешая удивляться, и шептал: «Вы только посмотрите, какие у него уши! Ну точно как морские раковины. И такие же розовые!». Потом, когда кто-нибудь вспоминал про феномена, Клочик тут же говорил: «Да, уши у него потрясающие, ничего не скажешь».
Я спрыгнул с парапета и, посмотрев на проходивший буксир, сказал:
— А знаешь, зачем я в Ботанический ходил? Субтропики хотел посмотреть. А то Ленка всё время твердит: «До чего же у вас холодно и сыро. И почему Ленинград не субтропики. Как в Греции». Схожу, думаю, узнаю, что за субтропики такие.
— Правильно сделал, — сказал Клочик. — Я тоже схожу. Жаль, конечно, что бананы там не растут. А теперь скажи мне: как ты относишься к трубе?
— К трубе? К какой ещё трубе?
— Не к печной же. К музыкальной, конечно.
— Положительно отношусь. А что?
— Понимаешь, раз ты говоришь, что я влюбился…
— Как это я?! Это ты говоришь, что ты влюбился.
— Ну, неважно. Так вот. Раз такая история, завтра идём записываться в духовой оркестр. Надо научиться играть на трубе. У нас в Доме пионеров такой кружок есть, я узнавал.
— Оригинально мыслишь, — сказал я. — А почему бы не переплыть Атлантический океан в корыте? Или, ещё лучше, вскарабкаться на Казбек на ходулях?
— Потом будешь острить, — сказал Клочик. — Ты просто не понимаешь, что такое музыка. Это ж колоссальная вещь! Другой раз смотришь какое-нибудь кино. И вдруг как музыка трагическая заиграет, так сразу тебе ясно, что дело дрянь, убьют кого-нибудь. Или там вулкан начнёт извергаться. А то и наоборот — заиграла весёлая музыка, значит, конец хороший, все живы-здоровы. И всё понимаешь, сказано без слов, одними звуками!
— Ну и что?
— Как что?! Раз у человека чувство, он должен играть на трубе! Неужели не ясно? Во Франции в старину даже люди такие были — трубадуры. Они ездили на лошадях и серенады на трубах играли. А духовой оркестр — это ж сила! Только представь…
Клочик взмахнул руками, и в ту же секунду гулко бухнул барабан, со звоном разлетелась тарелочная медь и, расколов сырую тишину набережной, грянули бравые звуки марша. Мы с изумлением повернули головы. Из ворот морского училища, печатая шаг, чёткими рядами выходил военный оркестр. Яркие серебряные трубы горели на фоне чёрных бушлатов. Вслед за оркестром шли плотные шеренги курсантов.
Я посмотрел на обалдевшего от удивления Клочика, засмеялся и, хлопнув его по плечу, сказал:
— Ну, трубадур, ты даёшь! Ладно уж, сходим завтра в этот твой духовой кружок. Раз у человека чувство, он должен играть на трубе.
Глава 4. СЛЕДУЮЩИМ УТРОМ В ЧЕТВЕРГ
Обычно по утрам Клочик поджидает меня у витрины фотоателье, около своего дома. Иногда, правда, мне приходится подниматься к нему и чуть ли не за уши вытаскивать из квартиры. Чаще всего это случается в те дни, когда его мама рано уходит на работу и Клочик вдруг вспоминает, что ему срочно надо заклеить велосипедную камеру или проявить фотоплёнку.
Вот и на этот раз Клочика на его обычном месте у витрины не было. Я подождал минутку и решительно поднялся на четвёртый этаж.
— Кто там? — послышался за дверью голос Клочика.
— Японский император. Открывай живей!
— Не могу, — сказал Клочик.
— То есть как это, не можешь? Обалдел, что ли! Мы ж опаздываем.
— Заперли меня. Графиня опять дверь на старый замок закрыла.
— Ну так поищи ключ.
— Искал. Не нашёл.
Графиней Клочик называл старушку соседку Клавдию Александровну Верёвкину. Маленькая и сухая, с тонкой, почти прозрачной кожей, с бледно-голубыми, полинявшими глазами и совершенно белыми волосами, она и вправду походила на графиню из фильма «Пиковая дама». Каждый раз, когда Клавдия Александровна отпирала мне дверь в своём неизменном тёмно-синем платье с белым кружевным накрахмаленным воротничком, мне казалось, что вот сейчас она достанет перламутровый веер или лорнет и заговорит со мной по-французски. Клочика она называла Виктором и всегда дарила ему на Новый год открытку с Дедом Морозом и запонки, которые он отродясь не носил.
Когда Клочикова мама устраивала ему хорошую чистку мозгов за очередную двойку или замечание в дневнике, Клавдия Александровна приходила на помощь, говоря: «Нина Петровна, дорогая, ну разве можно так волноваться. Вспомните Песталоцци. Никакого насилия над личностью ребёнка. Главное не образование, а нравственное воспитание». И Нина Петровна, вспомнив Песталоцци, успокаивалась.
Я подёргал за ручку старой тяжёлой двери, за которой томился мой друг, и сказал:
— Что ж, считай, тебе повезло. Встреча с японским императором отменяется. Я пошёл в школу.
— Как это, пошёл? — заволновался Клочик. — А я?
— А ты сиди, изучай Песталоцци. Или ложись спать.
— Да ты знаешь, что я вчера до двенадцати корпел! Математику всю сделал, стих даже выучил, за который в прошлый раз кол получил. Меня же по трём предметам спросить должны!
— Не расстраивайся. Твои глубокие знания пригодятся тебе в будущем. Кланяйся Графине!
Я повернулся и хотел было идти, но Клочик отчаянно закричал из-за двери:
— Леха, стой! Друг ты мне или не друг?
— Друг, — сказал я. — Но колоть дверь топором не буду.
— Да не надо ничего колоть. Сбегай поищи Графиню. Она или на Андреевском рынке петрушку покупает, или в Румянцевском садике голубей кормит. Зуб даю!
— Я же в школу опоздаю.
— Да ничего. Ну, придём ко второму уроку, скажем, так, мол, и так, несчастный случай…
— Да, не ожидал от тебя такой тяги к знаниям. Вот ведь что любовь с людьми делает. Ладно. Сбегаю. Но учти: если я соседку не найду, придётся взрывать дверь динамитом.
Найти человека на рынке дело сложное. Но я добросовестно прочесал пёстрые шумные ряды и даже, как заправская хозяйка, спрашивал, почём картошка. Не найдя Графини, я двинул на набережную к Румянцевскому садику. И вот там, в садике, меня ожидал первый сюрприз. На скамейке, окружённой голубями и воробьями, неторопливо разбрасывая хлебные крошки, сидела моя мама! Она рассеянно глядела вверх, на макушку Румянцева обелиска, где, растопырив крылья, торчал бронзовый орёл. Моя мама посреди трудовой недели праздно сидела в садике и кормила голубей! Это было невероятно! К тому же сколько раз собственными ушами я слышал, как мама, глядя на старушек, кормящих голубей, говорила: «И куда смотрит санэпидемстанция. Разводят в городе заразу». Не зная, что подумать, я незамеченный выскочил из садика и дунул по набережной. Через триста метров меня ожидал сюрприз номер два. На спуске к Неве, между двумя египетскими сфинксами, стоял мой папа. Рядом с ним была какая-то женщина в светло-коричневом плаще с капюшоном. Сначала я не обратил на неё внимания, а смотрел только на папу, удивляясь, почему он не на работе. Но когда папа взял женщину под руку, и они пошли по направлению к мосту Лейтенанта Шмидта, я понял, что они вместе. «Ну и что тут особенного? — почему-то сразу услужливо сказал я сам себе. — Ничего тут нет особенного. Встретил коллегу по работе. Бывает. А то, что он её под руку взял, так культурные люди всегда женщину под руку берут, когда по улице идут. Нам об этом Сергей Сергеевич, наш историк, говорил». Но эти объяснения тут же показались мне ужасно глупыми. И вообще у меня было такое чувство, что я не объяснял себе, а бессовестно врал.
Не успел я хорошенько обо всём подумать, как мне на голову свалился сюрприз номер три. К трамвайной остановке с авоськой в руках подходила Клочикова соседка Клавдия Александровна Верёвкина. Рядом с ней шла… Ленка Ворожева! Подкатил тридцать седьмой трамвай, они сели в него и уехали. В голове у меня образовался сумбур, и я, ни о чём больше не думая, побежал к Клочику.
— Да, дела… — сказал Клочик из-за двери, выслушав мой отчёт. — Откуда Ворожева знает Графиню?
— Это я хотел у тебя спросить, — ответил я.
— Понятия не имею, — сказал Клочик. — Тут какая-то тайна! Ну а ключ ты взял?
— Нет, конечно. Они же сразу уехали. В общем, ты сиди, размышляй, а я пошёл.
— Погоди, — сказал Клочик из-за двери. — У меня идея. Раз уж мне не выбраться, я тебе сейчас свой портфель из окна спущу. Придёшь в школу, покажешь мои тетрадки. Ведь там же всё сделано. Ну неужели я зря вчера, до двенадцати…
— Ладно, не ной. Спускай портфель.
Когда я вышел во двор, в воздухе уже качался портфель Клочика.
— Чего же ты на нитке спускаешь! — крикнул я. — Оборвётся же!
— Не оборвётся, — ответил Клочик. — Нитка суровая.
Когда портфель был на уровне второго этажа, дунул сильный порыв ветра, портфель потащило в сторону, нитка чиркнула о чей-то карниз, лопнула, и портфель, туго набитый Клочиковыми знаниями, не долетев метров трёх до земли, повис на водосточной трубе.
— Вот же балда! — крикнул я. — Неужели не мог верёвку найти или леску, что ли!
— Лёш, да тут низко, — просяще закричал Клочик. — Мы ведь с тобой и повыше залезали. А?
Делать было нечего. Я снял пальто и полез на трубу. До портфеля я добрался довольно легко, но вот оторвать руку от трубы и снять его мне было почему-то боязно. Так я и висел как павиан на ржавой трубе, не зная, что делать. Клочик, видно, почувствовал мои сомнения и крикнул:
— Леха, ты головой, головой его спихивай! Пусть он падает.
Это была дельная мысль. Я продвинулся выше и боднул портфель головой. План удался. Портфель снялся с крюка и полетел вниз.
— Порядок! — крикнул Клочик.
Я спустился вниз. Портфель при падении раскрылся, и все тетрадки Клочика высыпались в грязную лужу. А когда я надевал пальто, то заметил, что правая штанина у меня порвана.
— Порядок, — повторил я и, собрав мокрые, грязные тетрадки Клочика, побежал в школу.
На второй урок я всё-таки опоздал. Наверное, я произвёл неплохой эффект, когда запыхавшись ввалился в класс, весь измазанный ржавчиной, с порванной штаниной и с двумя портфелями в руках.
— Вот, — сказал я и поставил портфель Клочика на стол учительницы. — Витя Клочиков.
Валентина Сергеевна схватилась за сердце:
— Боже, что с ним?!
— Да вы не волнуйтесь, пожалуйста. Всё в порядке. Он жив. Только прийти не смог. Его Графиня на старый замок закрыла.
— Какая графиня, какой замок? Что ты несёшь?!
— Ну, соседка его. Вот он свой портфель из окна и выбросил. То есть, не выбросил, а на верёвочке спустил.
И я кое-как объяснил, что произошло. Без подробностей, конечно. Валентина Сергеевна успокоилась, села за стол и сухо сказала:
— Очень интересная история. Что ж, раз ты такой верный друг, то, пожалуйста, к доске. Будешь отвечать за двоих.
Но как можно собраться с мыслями после такого сумбурного утра?
Глава 5. СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
После уроков, злой и голодный, я направился к Клочику. Дверь мне открыла Клавдия Александровна. «Уже смылся, паразит, — подумал я. — Я портфель его проклятый таскаю, двойки из-за него получаю, а он…»
— Здрасьте, Клавдия Александровна, — рявкнул я. — А Вити разве нет?
— Дома, дома. Заходи, голубчик. Мы как раз тебя поджидаем, — заговорила Графиня. — Я ужасно перед вами виновата. Это ж надо — запереть Виктора в квартире! Какая чудовищная рассеянность. Ну, ничего, я обязательно пойду в школу и всё объясню вашим педагогам.
Говоря это, она провела меня на кухню, где я увидел такую картину: за столом, уставленным чашками, банками с вареньем, тарелками с вафлями и сухарями сидел Клочик. Физиономия у него была такая довольная и счастливая, что, казалось, он сразу поглупел на пять лет. Напротив от обалдевшего от счастья Клочика, ловко уплетая вишнёвое варенье, сидела Ленка Ворожева.
— Семеро с ложкой, один с сошкой! — сказал я, плюхнув портфель Клочика прямо ему под нос, чуть не опрокинув банку с вареньем.
— А, Лёш, привет, — рассеянно ответил Клочик. Ну, конечно! Ему было не до меня!
— Садись, Алёша, садись, — засуетилась Клавдия Александровна. — Сейчас мы тебе — чайку. Варенье бери.
— Ленка, а ты чего не в школе? — спросил я. — Ну, этому трубадуру повезло — его заперли. А ты-то чего?
— А я болею, — вызывающе ответила Ленка, отправив в рот вишнёвую ягодку. — У меня ангина.
— А почему же ты с ангиной по улицам шастаешь?
— А у меня в лёгкой форме.
— Так ангина же заразная болезнь!
— Боишься — можешь уйти. Тебя никто не держит.
От такой наглости я даже дар речи потерял и только и смог, что посмотреть на Клочика. Но от него в тот момент проку было мало. Клочик сидел и млел, глядя Ленке в рот. Я уж и впрямь хотел уйти, но тут вмешалась Графиня. Она поставила передо мной чай и заговорила:
— Алёша, голубчик, я надеюсь, у тебя не было неприятностей? Я никак не могу успокоиться.
— Ничего, обошлось, — зло сказал я.
— И тебе не поставили нотабену?
— Чего, чего не поставили?!
— Ах, прости, голубчик! — Клавдия Александровна всплеснула руками. — В последнее время у меня ужасно работает голова. Сегодня я даже трамвай назвала конкой. А нотабена — это раньше так в гимназиях называли замечание.
— Нет, не поставили, — сказал я. — Два шара вот по русскому зарисовали.
— Прости, что зарисовали?
— Ну, двойку поставили.
— Какой ужас! Нет, я обязательно пойду к вашим педагогам и всё-всё объясню. Неужели в теперешних школах не понимают, что важны не баллы и не спряжения латинских глаголов, а важно…
— Нравственное воспитание, — вставил я. — Нет, они этого не понимают. Куда им. У меня даже есть подозрение, что они не знают, что такое Песталоцци.
— Кто такой, — поправила меня Графиня.
— Вот именно, — сказал я. — Да вы, Клавдия Александровна, не волнуйтесь. Перебьёмся. Виктор меня на буксир возьмёт. Вы его только почаще запирайте. Он тут романсы сочинять начнёт. Из жизни трубадуров.
Но Клочик на мои иронические слова — ноль внимания. Он видел перед собой только Ворожеву. А Ленка вдруг повернулась ко мне и, глядя на меня своими глазищами, сказала:
— Мне кажется, Нечаев, что почаще запирать надо тебя. Уж больно ты злой.
Честное слово, если б Ленка не была девчонкой, я бы в тот момент встал и дал бы ей как следует!
А Клочик, видно, почувствовав моё настроение, вдруг встрепенулся и закричал:
— Идея! Гениальная идея! Сейчас я вас всех сфотографирую. Это будет исторический кадр!
— Прекрасная мысль, — подхватила Клавдия Александровна. — Вы не представляете, как я любила в молодости фотографироваться. Конечно, в то время это было целое событие. К нему готовились как к празднику. Но Виктор, что же ты заранее не предупредил? Я ведь совсем не подготовилась!
— Мне тоже нужно причесаться, — сказала Ленка и удалилась вместе с Графиней.
— Не забудь выщипать брови! — крикнул я ей вдогонку.
— Леха, ну чего ты всё время к Ленке придираешься? — насупившись, сказал Клочик.
— Молчи уж, трубадур, — ответил я. — И вообще, я гляжу, любовь плохо подействовала на твои умственные способности. А лично я в духовой кружок записываться не пойду. Могу, конечно, с тобой сходить. Для моральной поддержки.
— Жаль, — вздохнул Клочик. — Я хотел вместе.
Странный всё-таки человек. Другой бы радовался, что так легко от соперника отделался. А он жалеет. О чём?
Потом Клочик нас фотографировал, истратив, наверное, целую плёнку. Клавдия Александровна страшно развеселилась, всё время повторяя: «Ах, Виктор, я даже не подозревала, что ты такой замечательный фотограф!» «Замечательный фотограф» так вошёл в раж, что свалился с табуретки, когда хотел найти неожиданный ракурс. На этом фотосъёмки закончились. И тогда Клавдия Александровна сказала:
— А сейчас я вам кое-что покажу.
Она вынесла из комнаты большую толстую книгу в кожаном переплёте, которая наподобие шкатулки запиралась двумя медными застёжками.
Это наш семейный альбом.
Не знаю, как вам, а мне ужасно нравится смотреть семейные альбомы. Например, наш альбом я знаю наизусть. Есть там одна фотография, где моему папе одиннадцать лет. На голове у него большущая шапка-ушанка, одно ухо которой смешно оттопырено в сторону, а из расстёгнутого пальто торчит книга под названием «Родная речь». Когда я гляжу на эту фотографию, мне всё время кажется, что сейчас папа сдёрнет с головы шапку и запыхавшись скажет: «Леха, дай русский скатать». И я бы ему обязательно дал. Если бы сам сделал.
С пожелтевших фотографий Графининого альбома на нас глядели строгие бородатые мужчины, дамы в длинных тёмных платьях, суровые седобородые старцы, чем-то походившие на известный портрет писателя Льва Толстого. Всё они точно смотрели в объектив аппарата и были очень серьёзны.
— Это мои родители, — говорила Графиня. — Брат Николай. Он погиб в первую мировую войну под Перемышлем. А это я в госпитале вместе с красноармейцами. Посмотрите внимательно. В центре Николай Александрович Семашко. Первый нарком здравоохранения. Тогда его называли Главный доктор Республики.
Когда мы дошли до середины альбома, Ленка вдруг ткнула пальцем в фотографию какого-то молодого человека с острыми усиками и гладкой короткой причёской.
— Ой, Клавдия Александровна, кто это?!
— Да так, один старый знакомый, — смутилась почему-то Графиня.
— Но ведь это… — начала было Ленка и вдруг запнулась.
— Посмотрите лучше, какой смешной я была в день выпуска из гимназии, — сказала Клавдия Александровна и быстро перевернула страницу.
Когда мы распрощались со старушкой и вышли на улицу, я сказал:
— Виктор, ты можешь проводить даму. Она покажет тебе древнегреческий горшок. А я домой.
— Алёша, ты ведь прекрасно знаешь, что я нашла амфору, — тихо сказала Ленка. — Объясни, почему тебе сегодня всё время хочется грубить? Что-нибудь случилось?
Честно говоря, я растерялся от этих слов и промямлил что-то невразумительное. А Ленка сказала:
— Ребята, знаете, чью фотографию я видела в альбоме? Моего деда. Представляете?!
— Твоего деда? — удивился Клочик. — Но откуда она у неё?
— Понятия не имею. Может быть, я ошиблась? Вот что: давайте сейчас зайдём ко мне.
— Да, тут какая-то тайна, — второй раз за сегодняшний день изрёк Клочик и посмотрел на Ленку коровьими глазами.
Глава 6. ТАЙНА
Почему-то я думал, что Ленкина квартира будет сплошь уставлена древнегреческими амфорами, глиняными черепками и мраморными бюстами с отбитыми носами. Но ничего подобного там не оказалось.
Квартира была самая обыкновенная. Только на полках рядом с книгами лежало множество разноцветных морских раковин, которые можно собрать в тёплых южных морях.
Встретил нас Ленкин дедушка. И я, откровенно говоря, сразу подумал, что Ленка ошиблась насчёт фотографии. Узнать в нём того молодца с острыми усиками было трудновато. Дедушка был завёрнут в длинный клетчатый плед, а на голове у него был смешной колпак, какие в мультфильмах носят добрые гномы.
— Алёна, ты не представляешь, как мне сегодня повезло, — заговорил дед. — Мне удалось поспать целых сорок минут! И если бы во дворе не начали палить из гаубиц, я бы наверняка ещё спал.
— Дедуля, какие гаубицы? Что ты говоришь! — сказала Ленка, усаживая старика в кресло.
— Потом-то я разобрал, что это были не гаубицы. Просто во дворе разгружали мусорные бачки. Но во сне я решил, что началась осада Порт-Артура. И проснулся. И всё-таки сорок минут! Представляешь, я даже сон видел. Мне снилось, что я еду по Невскому в трамвае. В вагоне толкучка и кто-то стоит у меня на ноге. Это было замечательно!
— По Невскому трамваи не ходят, — сказал Клочик, во всём любивший точность.
— Это сейчас не ходят, — ответил дед, видно только теперь нас заметив. — А совсем недавно, до сорок девятого года, ещё как ходили. Ну, не буду вам мешать. Занимайтесь.
— Иди, деда, — сказала Ленка. — Может, ещё поспать удастся.
Старик вышел. Мы с Клочиком чинно присели на краешек дивана и вежливо огляделись.
— У дедушки бессонница, — сказала Ленка и неожиданно добавила: — Кстати, Алёша, почему ты зовёшь своего друга трубадуром?
Клочик вздрогнул, покраснел и на всякий случай ткнул меня в бок.
— Потому что он трубадур, — сказал я. — Разве не похож?
— А кто такие были эти трубадуры? Вы сами-то знаете?
— Да были такие бездельники. Что-то вроде рыцарей… Ездили по свету на лошадях, играли на трубах и всё такое.
— И ещё, если не ошибаюсь, воспевали любовь к даме сердца? Ведь так? — ехидно добавила Ленка.
— Ещё как воспевали! — охотно подтвердил я, решив довести бедного Клочика до белого каления. — У них это серенадами называлось.
Клочик больше не мог выдержать этой пытки. Он заёрзал и хрипло сказал:
— Лена, дай чего-нибудь поесть.
— Поесть? — переспросила Ленка и хмыкнула.
— То есть попить, — сказал Клочик и совершенно смутился.
— А может, всё-таки поесть? — сказала Ленка. — Я могу борщ разогреть.
— Не, спасибо, я уже пообедал, — сказал Клочик, и я видел, что он готов провалиться сквозь землю. Пора было выручать моего трубадура.
— Ленка, так кого же ты всё-таки разглядела там, в альбоме у Графини? — спросил я. — Что-то твой дедушка не очень похож на ту фотографию.
— А вот мы сейчас проверим, — ответила она. — Я просто не могла ошибиться.
Ленка соскочила со стула, открыла шкаф и вскоре вытащила оттуда альбом, немного похожий на тот, что мы видели у Графини. Только без медных застёжек. Быстро пролистав его, она достала небольшую пожелтевшую карточку и протянула нам. С карточки на нас глядели два молодых человека в одинаковых кожаных куртках. Один был в фуражке с длинным козырьком и в круглых очках с тонкими дужками, у другого были небольшие острые усики и короткие гладкие волосы, расчёсанные на прямой пробор. Сомнений не оставалось: это был тот же человек, что и в альбоме у Графини. Только здесь он весело улыбался, слегка наклонив голову к своему товарищу.
— Ну, что я говорила! — торжественно сказала Ленка. — Вот он, мой дедуля. В молодые годы. Сейчас мы ему допросик учиним.
И словно угадав Ленкино намерение, в комнату опять вошёл дедушка.
— Алёна, ты не видела вчерашней «Вечёрки»? — спросил он.
Ленка выхватила у меня фотографию и протянула старику:
— Деда, это ты?
Старик поднёс карточку близко к глазам, заулыбался и закивал головой.
— Ну, конечно, Алёна, конечно. А слева Васька Сухоруков. Это мы с ним на последнем курсе снимались. Потом, после выпуска, он уехал в свой Мелитополь, да так и сгинул. Хоть бы письмо, чёрт, написал. А ведь, как ни говори, пять лет дружили. Если бы вы слышали, как он на гитаре играл! Запоёт, бывало: «Отойди, не гляди…».
— Да погоди ты, деда, про своего Ваську, — прервала старика Ленка. — Ты лучше скажи, знал ты когда-нибудь Клавдию Александровну Верёвкину?
— Верёвкину? — дедушка наморщил лоб и подёргал себя за усы. — Ну, как же! Конечно, знал. Верёвкин, Степан Кузьмич. Помнится, я тогда сменным инженером на «Дизеле» работал, а он был старшим мастером. Мы его ещё Левшой звали. Золотые, скажу вам, руки у человека были. Пил только, подлец, крепко.
— Дедушка, ну что ты такое говоришь? Я тебя про женщину спрашиваю. Верёвкина, Клавдия Александровна.
— Нет, женщину не знал. А Кузьмич был человек уникальный, это точно. Возьмёт, бывало, в руки деталь и скажет: «Десятки не хватает. Брак». Измерят — и точно, на одну десятую миллиметра меньше. Да-а. Жаль, спился… Так, Алёна, ты не видела газету? Пойду на кухню поищу.
Дедушка вышел, а мы растерянно посмотрели друг на друга.
— Тут что-то не так, — сказала Ленка. — Ведь не может у Клавдии Александровны случайно лежать фотография моего деда?
— А как ты сама с Графиней познакомилась? — спросил я.
— Очень просто. Мы тогда только приехали из Греции. Я гуляла в Румянцевском садике и остановилась около колонны. Вижу, рядом какая-то старушка стоит и так странно на меня смотрит. Я хотела уйти, но тут старушка вдруг стала мне рассказывать про эту колонну, про князя Румянцева, про сфинксов. Так мы и познакомились.
Я ещё раз взглянул на фотографию, потом на Ленку, и вдруг меня осенило.
— А сказать, почему она вдруг решила с тобой познакомиться? Всё совершенно ясно. Графиня знает твоего деда. И знает очень давно. Да ведь ты на своего дедушку как две капли воды похожа!
— И верно похожа! — закричал Клочик, посмотрев на фотографию, а потом на Ленку.
— Но почему же дедушка-то говорит, что не знает Клавдию Александровну? Ведь не скрывает же он?
— Вот здесь-то и тайна, — сказал я. — Загадка Бермудского треугольника.
— А может, он просто забыл? — сказал Клочик. — Пожилой всё-таки человек.
— Не может этого быть, — обиженно сказала Ленка. — Какого-то алкоголика Кузьмича помнит, а женщину, которая хранит его фото столько лет, — не помнит!
Вдруг дверь резко распахнулась, и в комнату вбежал сияющий дедушка.
— Вспомнил! Ну, конечно, я знал ещё одного Верёвкина! Альберта. Он был племянником директора гимназии, в которой я учился. Худенький такой блондин. Потом мне говорили, что он застрелился от несчастной любви. — И совершенно довольный, дедушка торжественно покинул комнату.
— Пора уходить, — сказал я. — А то он ещё с десяток Верёвкиных вспомнит.
Я встал, посмотрел в окно и вдруг увидел папу, неторопливо шагавшего по другой стороне улицы. Папа обернулся и помахал кому-то рукой. Я проследил за его взглядом и заметил, как за углом мелькнул и пропал коричневый плащ с капюшоном. «Что же он со своей коллегой целый день разгуливает?» — подумал я, и в груди у меня пробежал холодок.
Глава 7. «АМУРСКИЕ ВОЛНЫ»
Найти кружок духового оркестра — дело не хитрое. Лишь только мы переступили порог Дома пионеров, как тут же услышали разноголосую перебранку труб, глухие барабанные удары и звон тарелок. Сразу было ясно — идёт репетиция. Каждый играет что-то своё, и получается такая весёлая и бестолковая неразбериха, какая бывает в классе, когда вдруг объявляют, что урок не состоится.
Поднявшись на второй этаж, мы осторожно заглянули в комнату. Там за расставленными в беспорядке столами сидело много ребят с инструментами в руках. Казалось, каждый из них только и делает, что старается передудеть соседа. Перед музыкантами стоял огромного роста мужчина в защитного цвета рубашке и тёмно-синих брюках.
— Сидоров! — вдруг рявкнул он, да так, что сразу заглушил все инструменты. — Тебе приказ играть арпеджио. А ты мне что тут за ноктюрны выводишь? И врёшь на каждой ноте. Я ведь всё слышу, ты меня знаешь.
— Орест Иванович, ну сколько можно это арпеджио, — ответил Сидоров, ничуть не испугавшись. — Вон Брындин «Жили у бабуси» играет.
— До «бабуси» ты ещё не дорос, — отрезал преподаватель и наконец заметил нас с Клочиком. — Почему посторонние в зале? Закрыть дверь и не мешать!
— А мы к вам, — сказал я. — Вот он в ваш кружок хочет записаться.
— В наш кружок?! У нас, молодые люди, не кружок, а духовой оркестр. А кружки — это, знаете ли, ниже, на первом этаже. Там и кройки и шитья, и мягкой игрушки, и лобзиком можно по фанере… Вот туда и ступайте. А в наш оркестр набор только осенью.
— Орест Иванович, вы уж, пожалуйста, сделайте исключение, — сказал хитрый Клочик. — А то мне до осени, ну, никак нельзя. Очень вас прошу.
— Любишь духовую музыку?
— Обожаю, — сказал Клочик.
— Ну, хорошо. Я тебя послушаю. Проходи, — смягчился преподаватель.
В углу комнаты стояло пианино. Орест Иванович открыл крышку, быстро проиграл какую-то мелодию и кивнул Клочику:
— Давай!
— Что давать? — не понял Клочик.
— Ну, пой.
Клочик улыбнулся.
— Так я же слов не знаю, Орест Иванович.
— Каких слов?
— Ну, слов этой песни, которую вы сейчас сыграли.
Брови преподавателя поползли на лоб.
— Что за бред? Какие слова? Пой мелодию — и всё.
— Но как же без слов-то?
Орест Иванович как-то странно дёрнул головой и ущипнул себя за нос.
— Да так и пой без слов! — закричал он. — Ля-ля-ля! Та-ра-ра! Бу-бу-бу! Неужели не ясно, чёрт побери!
— Понял, понял, — поспешно сказал Клочик. — Только вы, пожалуйста, ещё раз эту песню сыграйте. А то я уже забыл.
Преподаватель проиграл мелодию ещё раз. Клочик подумал, потом промычал что-то невообразимое и как бы в оправдание сказал:
— Трудно всё-таки без слов. Давайте я вам лучше песню какую-нибудь спою.
— Нет, нет, — сказал Орест Иванович. — Песен не надо.
Он вынул из нагрудного кармана карандаш и простучал им по крышке пианино.
— Простучи то же самое, — сказал он.
Клочик деликатно постучал костяшкой пальца по пианино — тук-тук-тук, — словно спрашивая: можно войти?
Преподаватель сморщился, будто лимон надкусил, потом ткнул в меня пальцем и сказал:
— Теперь ты.
— Но ведь я не…
— Пой!
Я не стал спорить, тем более мне самому было интересно, сумею ли? Я быстро спел вновь проигранную мелодию и отстучал карандашом. Орест Иванович помолчал несколько секунд, потом задумчиво сказал:
— Ну что ж! Тебя я, пожалуй, возьму.
— А меня? — спросил Клочик, почувствовав неладное, и голос у него задрожал. — У меня по пению четвёрка, честное слово! Вы меня ещё спросите, со словами… Пожалуйста!
— Нет, мой друг, не могу, — неожиданно мягко, но твёрдо сказал преподаватель. — У тебя, увы, нет музыкального слуха. Абсолютно нет!
Видели бы вы в тот момент моего Клочика! Весь он вдруг словно потух, а у меня внутри сжалась какая-то пружина.
— Пошли, Витя, — сказал я. — Спасибо, до свидания.
Орест Иванович развёл руками.
— Как хотите.
Мы вышли в коридор и направились к выходу. Вдруг Клочик остановился и горячо заговорил:
— Леха, не отказывайся, я тебя очень прошу, слышишь. Я с тобой на репетиции ходить буду, чтоб тебе веселее было. Только не отказывайся. Пойдём, пойдём, скорее назад. Пока он не передумал.
Через минуту мы снова вошли в комнату, и я сказал:
— Пожалуй, я согласен.
— Ну, спасибо, — сказал Орест Иванович и обычным своим голосом рявкнул: — Будешь играть на альте.
Он подошёл к шкафу и достал оттуда слегка помятую средних размеров трубу, скрученную наподобие кренделя.
— Орест Иванович, а можно, я лучше на тромбоне буду? У меня дедушка в детстве как раз на тромбоне играл.
— Что?! — вскипел вдруг преподаватель. — Да ты знаешь, что такое альт?! Ты вообще представляешь себе, что такое духовой оркестр? Ты вслушайся в это слово: ду-хо-вой! Оно же от слова «дух» происходит. Душа, значит! А музыка без души — это бред, какофония. Дай-ка сюда инструмент!
Он выхватил у меня трубу, прошёл на середину комнаты и громовым голосом объявил:
— Оркестр, тишина! Новенькие молчат. Старикам приготовиться! Композитор Макс Кюсс. «Амурские волны».
Он взмахнул рукой, и оркестр заиграл. Из неказистого на вид альта поплыли мягкие, глуховатые звуки вальса. А весь оркестр, словно поддерживая мелодию, выводимую альтом, бережно играл: «пу-па-па, пупа-па…». И мне вдруг показалось, что музыка неторопливо плывёт куда-то, слегка покачиваясь, будто на волнах. И в лицо мне дует тёплый, пушистый ветер, наполненный чуть сладковатым и каким-то щемящим запахом белых азалий. И от этих звуков, так неожиданно увлёкших меня за собой, в груди у меня вдруг всё опустилось, словно я в автомобиле на большой скорости промчался по крутому мосту у Летнего сада… А потом всё замерло и наступила тишина.
Орест Иванович подошёл ко мне и торжественно протянул инструмент.
— Вот что такое альт, — сказал он. — Теперь понял? То-то же… Ноты знаешь?
Как ни странно, ноты я немного знал.
— Чуть-чуть, — сказал я.
— Это хорошо, — сказал Орест Иванович и положил передо мной лист нотной бумаги. — Вот гамма. Внизу каждой ноты стоят цифры. Это пальцовка — показывает, какие клапаны для какой ноты следует нажимать. Понял?
— Понял.
— Тогда играй. Сначала нижнее «до». Губы распусти, не напрягай…
Я набрал в грудь побольше воздуха и что есть силы дунул в трубу. Альт неохотно ответил мне низким ломающимся голосом.
— Ура! — закричал Клочик и захлопал в ладоши.
Впервые в жизни мне аплодировали.
Глава 8. НИЖНЕЕ «ДО»
— Почему так поздно? — холодно спросила мама, когда я вернулся домой.
— Вот, — сказал я и вынул из мешка трубу. — Ваш сын теперь музыкант: я записался в духовой оркестр.
— Чудесно, — сказала мама. — Теперь будет кому сыграть на моих похоронах.
— Хорошее дело, — сказал папа. — Я тоже в детстве играл на корнете. И у меня неплохо получалось: брал две октавы.
— Ну, и где теперь твои две октавы? — зло спросила мама.
— То есть, как это — где? — не понял папа. — Нигде.
— Вот именно, что нигде.
— Ну, зачем так, Оля?
— Я устала.
— Устала? От чего?
— Не знаю. От всего. Иногда мне начинает казаться, что каждый день понедельник. Понедельник, понедельник, понедельник!.. Это какой-то кошмар! Помнишь такую детскую забаву: если какое-нибудь самое простое слово очень долго произносить вслух, оно становится бессмысленным. Понимаешь, бессмысленным!
— А что бы ты хотела? Чтобы каждый день был воскресеньем?
— Да нет, хотя бы вторником. По крайней мере, звучит по-другому…
«Поехали», — с тоской подумал я.
Когда я шёл домой, то думал, что мои здорово обрадуются, узнав, что я записался в духовой оркестр. Я думал, меня сразу начнут расспрашивать, о том, как это мне пришло в голову, где находится кружок и какой там преподаватель. А потом обязательно попросят что-нибудь сыграть. И я расскажу им об экзамене, об Оресте Ивановиче и об альте, на котором так здорово можно сыграть «Амурские волны». А папа скажет, что сегодня совершенно случайно он встретил одноклассницу, которую не видел двадцать с половиной лет, и что ему пришлось целый день ходить с ней по городу и вспоминать, за какой партой сидел Иванов и куда пропал Петров, который так хорошо играл на мандолине. И тогда у нас, как это часто бывало раньше, станет шумно и весело.
Именно так я и думал, когда возвращался домой. Но я ошибся.
И уже ничего больше не хотелось рассказывать и тем более выслушивать истории о несуществующих одноклассницах. Я молча взял свой холщовый мешок с трубой и хотел уйти.
— Постой, — сказала мама. — Объясни, почему ты, как бездомный кот, бегаешь по чердакам вместе с этим нелепым Клочиком? Почему я должна выслушивать жалобы не только от твоих учителей, но и от дворников?
Конечно, я сразу понял, в чём дело. Действительно, на той неделе мы с Клочиком залезли на крышу. Клочик уверял, что оттуда можно запросто увидеть Кронштадт. Погода была пасмурная, и Кронштадта мы не видели. А на обратном пути, на чердаке напоролись на дворничиху. Вот она-то, выходит, и накапала про нас маме. В другое время я бы всё спокойно объяснил, и дело с концом. Но сейчас я стоял и собирался молчать, даже если бы с меня собирались снять скальп.
— А я знаю, для чего вы туда ходите, — продолжала мама. — Вы там курите. Ну-ка, выверни карманы!
Это было уже слишком. Я даже вздрогнул, будто меня ремнём хлестнули.
— Прекрати! — сказал папа и встал.
— А ты не вмешивайся! — крикнула мама. — Я не хочу, чтобы мой сын вырос таким же никчёмным человеком, как отец.
И в эту секунду раздался телефонный звонок. Мы все трое стояли и не двигались с места. Потом папа сказал:
— Алексей, послушай.
Я вышел в коридор и снял трубку.
— Леха, ну как ты, репетируешь? — услышал я голос Клочика.
— Ещё как! — ответил я. — Репетиция в полном разгаре.
Если бы мой трубадур знал, как я был ему благодарен сейчас за этот звонок! Нет, совсем не потому, что он, сам того не подозревая, стащил меня с эшафота. Просто я был страшно рад именно в этот момент услышать его голос. У меня даже внутри потеплело.
— Ты смотри, Леха, не ленись, — продолжал Клочик. — Начинай давай репетицию. Только как же ты играть будешь? У тебя ведь этой нет, ну… на которую ноты ставят. Во, вспомнил: пюпитры!
— Да успокойся ты, пюпитр! — засмеялся я. — Иди лучше уроки делай. Контрольная завтра.
— Ну, уроки — святое дело. Только мне надо ещё в фотомагазин сходить, бумагу купить, проявить плёнку. Интересно, как Ленка получилась?
Я пошёл в свою комнату, достал тетрадки и учебники, вынул из мешка трубу и положил перед собой. Альт дремал, свернувшись, словно кот. Но я-то уже знал, что он может проснуться и сыграть «до». А если захочет, то сыграет даже «Амурские волны». И как, должно быть, хорошо станет в моей маленькой комнате, которая непременно начнёт покачиваться, как лодка на волнах.
Я сидел и смотрел на свой альт, и мне совершенно не хотелось делать уроки. Я вспомнил Ботанический сад, белые цветы, высокого старика… И тут я услышал из родительской комнаты голос папы:
— Мне предлагают поехать в Туркмению в археологическую экспедицию. Художником. Сначала я отказался, а теперь решил ехать.
— Можешь ехать куда угодно, — сказала мама. — Только не забудь каждый месяц высылать деньги, чтобы за тобой не гонялась милиция.
Родители замолчали, и в квартире стало тихо. И так мне вдруг захотелось взять трубу и заиграть «Амурские волны»! Но я не умел. Не умел я играть «Амурские волны». Я даже «Жили у бабуси…» и то не умел играть. Тогда я взял в руки альт, вставил мундштук и громко, изо всех сил сыграл нижнее «до».
Глава 9. СОЛЁНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ
— Ну как ты репетировал вчера? Ты смотри, Леха, не ленись, — говорил мне Клочик, когда мы утром поднимались в класс. — Для музыканта самое главное — репетиции. А я вчера плёнку проявлял целый вечер. Ну, ту, что у меня на кухне снимали. Кадры получились — закачаешься! Уже по негативам видно. Вот Графиня-то обрадуется. И Ленка тоже.
— Это всё хорошо, — сказал я. — Но вот ответь мне, мой друг, ты хорошо подготовился к контрольной?
— К какой ещё контрольной?
— По математике.
— Ух ты, а я и забыл! Совсем из головы вылетело. Леха, мы погибли.
Клочик судорожно полез в портфель и вытащил оттуда учебник математики.
— Бессмысленно, — сказал я. — Неужели ты серьёзно собираешься за десять минут выучить то, что тебе вдалбливали в голову в течение трёх месяцев? Не дури. Надо пошевелить мозгами и придумать что-то другое.
— Эх, жаль эпидемия гриппозная кончилась. Во время было! Только скажешь врачу, что, мол, голова побаливает — тебя сразу домой. Вёз всяких там подозрений и градусников.
Мы замолчали. Но я чувствовал, что в голове у Клочика шевелится какая-то мысль. И не ошибся. Клочик почесал макушку и задумчиво сказал:
— Знаю я вообще-то один способ. Ну, чтоб вроде как заболеть, с температурой.
— Да ты не тяни, — сказал я. — Знаешь — так говори. Время уходит.
— А ты не побоишься? Способ, понимаешь, такой, что, может, и потерпеть придётся.
— Да я что угодно вытерплю — только бы не контрольная!
— Тогда слушай. Надо натереть подмышки солью. Тогда там, под мышкой, всё, понимаешь, гореть начинает. Ну, прямо кочегарка! А остальное — дело техники. Идёшь к врачу, ставишь градусничек, вынимаешь — тридцать восемь и восемь. И все дела.
— А не врёшь?
— Вот ещё! — обиделся Клочик. — Думаешь, мне охота на контрольную?
— Так бежим! — сказал я.
— Куда?
— В столовку, за солью.
Через три минуты все солонки в нашей столовой были пустые. Потом мы рванули в уборную.
— Натираем левые подмышки, — сказал Клочик. — Градусник всегда под левую ставят.
— Нет уж, — сказал я. — Давай обе, на всякий случай.
Мы расстегнули рубашки и принялись натираться.
— Эх, соль хороша! «Экстра», наверное, — приговаривал Клочик. — Ну, гореть будет! Как в доменной печи. Градусник расплавится, помяни моё слово!
— Очень много-то не надо, — сказал я. — А то ещё в больницу на «скорой» увезут.
— Ничего, ничего! Лучше пересолить, чем недосолить. Слыхал такую поговорку?
Натеревшись, мы побежали в медкабинет.
— Здрасьте, Ирина Викторовна, — вежливо сказал Клочик, когда мы вошли. — Что-то мы с Лехой того, заболели. Ломает, прямо сил нет.
— Так сразу вдвоём и заболели? — недоверчиво спросила врачиха.
— Ага, — сказал Клочик, — сразу вдвоём. У меня вчера, понимаете, день рождения был, ну вот мы и отметили. Мороженого грамм по триста срубали, пепси-колы из холодильничка. Пепси-колу, её обязательно охлаждённой пьют. Там даже на бутылке написано: пейте охлаждённой.
— Короче, Клочиков, — перебила врачиха.
— Вот я и говорю, — продолжал Клочик нести околесицу, — выпили пепси, потом прогулка на свежем воздухе. А сейчас к вечеру бывает так подморозит — ой-ой-ой!
— Мы бы, конечно, потерпели, — вступил я. — Но коллектив не хочется заражать, эпидемии разводить.
Врачиха вынула из стакана деревянную палочку и, направив на нас лампу, осмотрела наши горла.
— Всё совершенно чисто, — сказала она. — Но у тебя, Нечаев, выпала пломба. А у тебя, Клочиков, два очень плохих зуба. Сейчас я выпишу вам направления, и после уроков обязательно пойдёте в стоматологическую поликлинику.
Да, такое начало не предвещало ничего хорошего. Уж лучше десять контрольных, чем один зубной врач.
— Ирина Викторовна, — не растерялся всё-таки Клочик, продолжая гнуть свою линию, — вы пока пишете, нам бы температурку померить. Худо совсем.
Врачиха поставила нам градусники и, бросая на нас бдительные взгляды, застрочила направления. А я сидел и уже совершенно ясно понимал, что дурацкая затея с натиранием провалилась. Потому что никакой доменной печи у себя под мышкой я не чувствовал. Моя догадка оправдалась полностью. Через пять минут со словами «Марш на урок, симулянты!» врачиха вытолкнула нас за дверь. Тут же и звонок на урок прозвенел.
— Трепло! — сердито бросил я Клочику и направился в класс.
Трубадур уныло поплёлся за мной, на контрольную.
Когда я прочитал условие задачки, то мне показалось, что нечто похожее я уже встречал. «Так, так, так, — сказал я сам себе. — Главное — без паники. Может ещё и выплывем».
И только я по-настоящему задумался над первым действием, как ощутил под мышками лёгкий зуд и еле заметное жжение. Поначалу я не обратил на это внимания и продолжал думать над задачкой. Но уже через несколько минут у меня под мышками начался настоящий пожар. Доменная печь, о которой твердил Клочик, разгоралась вовсю. Ни о какой задачке я больше не думал. Я крутился, извивался, хлопал, как крыльями, локтями, тряс рубашку и дул себе за воротник. С Клочиком происходило то же самое!
— Нечаев, Клочиков, вы чего дёргаетесь как ненормальные? — строго спросила Елена Александровна, заметив наши странные ужимки.
Ещё через несколько минут я не выдержал, встал и сказал:
— Елена Александровна, можно выйти?
— И мне! — вскочил Клочик.
— Да вы что?! У нас, кажется, контрольная идёт.
— Очень надо! — сказал Клочик и, схватив себя за курточку, начал её трясти, будто ему душно было.
В классе раздался смех.
— Что ж, идите, — сказала учительница. — Но имейте в виду: до конца урока осталось десять минут.
Мы пулей вылетели из класса и бросились в уборную. Там, сорвав с себя одежду, мы как одержимые принялись отмывать проклятую соль.
— Эх, досада! — говорил Клочик, поливая себя водой. — Такая температура — хоть чугун выплавляй! И всё насмарку!
Когда мы вернулись в класс и сели за парту, я уже точно знал, как решить задачу. Наверное, первый раз в жизни мне ужасно хотелось, чтобы урок потянулся подольше. Но тут прозвенел звонок.
Глава 10. ГРАФИНЯ ВО ВСЁМ ПРИЗНАЛАСЬ
— Графиня во всём призналась, — торжественно изрёк Клочик и замолчал, разжигая наше любопытство.
Мы стояли на набережной около памятника Крузенштерна.
Вечер был тихий и уже по-летнему тёплый. Солнце навалилось на крышу Горного института, и в Неве дрожали фиолетовые блики.
— Да говори же ты, — нетерпеливо сказала Ленка, и мы невольно придвинулись к Клочику. Даже бронзовый Иван Фёдорович с любопытством наклонил голову, желая, наверное, узнать, в чём призналась Графиня.
— Жуткое дело, — сказал Клочик. — Только я ей намекнул, что мы видели одну очень-очень загадочную фотографию, как она сразу меня за стол усадила, достала банку с клубничным компотом — ух, вкусно! — и всё-всё рассказала. В общем, твой дедушка и Графиня были знакомы.
— Как здорово! — Ленка захлопала в ладоши. — Значит, у них любовь была?
— По всем данным этот факт можно констатировать, — важно ответил Клочик.
— А почему дедушка скрывает, что знал Графиню? — спросил я.
— Да ничего он не скрывает, — сказал Клочик. — Всё очень просто: у Графини раньше другая фамилия была, Крылова. А Верёвкина она по мужу, которого на войне убили.
— Но ведь мы Ленкиному дедушке её имя и отчество говорили? А он всё равно не вспомнил?
— Ну, а если я у Лены спрошу, кто такой Алексей Александрович, она скажет? А ведь это, между прочим, ты. Вот и дедушка тогда Графиню звал просто Клава. Она ж не намного старше Лены была.
И тут я вдруг понял, какая огромная пропасть времени отделяет нас от тех событий! Просто Клава. Я знал, что Графине очень много лет, видел в её альбоме фотографию, где она стоит в коротком платьице, держа в руках смешной матерчатый зонтик с кружевами, но как-то совсем не связывал эту фотографию с Клавдией Александровной Верёвкиной, Клочиковой старушкой соседкой. Мне казалось, что она всегда была такой вот маленькой, худенькой и седой, так похожей на графиню из «Пиковой дамы». А её детство представлялось чем-то сказочным, не бывшим в действительности. Об этом детстве можно было вспомнить и поговорить, посмотреть фотографии, как можно вспомнить о давно прочитанной книге с картинками. А сейчас я вдруг ясно осознал, что Графиня когда-то была такая же, как Ленка, прыгала через скакалку, играла в куклы и плакала, когда ребята вроде нас с Клочиком дёргали её за косу.
— Витя, но почему же они расстались? — спросила Ленка и тут же сама себе ответила: — А, понимаю. Наверное, дедушку срочно взяли на войну, потом ранение, госпиталь. Они ищут друг друга, пишут письма, страдают, но всё напрасно.
— Вот те на! — Клочик удивлённо захлопал глазами. — Откуда ты знаешь?!
— Ничего я не знаю, — сказала Ленка. — Я так думаю. А что, угадала?
— В общем, да. Последний раз они виделись на выпускном бале в гимназии у Графини. Столько лет прошло, а она мне всё рассказывала, будто это вчера было! И какие ей твой дедушка цветы подарил, и как они танцевали. Она говорит, у них военный оркестр был приглашён, и в тот вечер все «Амурские волны» играли. Тогда этот вальс жутко модным был. А на следующий день они в Ботанический сад собирались.
— В Ботанический?! — вырвалось у меня.
— Ну да. Только в сад они не пошли. На другой день дедушку забрали в армию и сразу на фронт отправили. Но перед этим… — тут Клочик вдруг замолчал, с важным видом посмотрел по сторонам и даже зачем-то подмигнул адмиралу.
— Ну, что, что перед этим? — нетерпеливо закричала Ленка и потрясла Клочика за плечо.
— Перед этим дедушка написал Графине письмо. Вот оно. Мне его Клавдия Александровна сама дала и разрешила вам прочитать. — С этими словами Клочик достал из кармана сложенный пополам, пожелтевший лист плотной бумаги, исписанный крупным, размашистым подчерком. — Слушайте.
И Клочик стал читать:
«Милая Клава! Когда ты будешь читать это письмо, я буду уже далеко. Меня призвали на фронт. Вчера в гимназии на вашем выпускном вечере я не нашёл в себе силы сказать тебе об этом. Ты была такая весёлая, лицо твоё светилось таким счастьем, что я не посмел омрачить его. Но что бы со мной ни случилось, знай, я всегда буду помнить и любить тебя. И если богу будет угодно, мы снова встретимся с тобой и, как в тот первый раз, будем гулять в Румянцевском саду, а военный оркестр сыграет для нас чудесный вальс «Амурские волны». Прощай. Нежно тебя целую. Навеки твой Митя».
Клочик кончил читать, а мы все стояли и молчали. Потом Ленка спросила:
— Витя, но когда же это всё было? В каком году?
— Посмотри. Вот тут дата стоит. Двадцать третьего мая тысяча девятьсот семнадцатого года. Такие дела. Ну, а потом революция началась, гражданская война. Графиня закончила курсы медсестёр, и её отправили на Урал. Так они и растерялись.
— И никогда больше не встречались?! — изумлённо спросила Ленка.
— Никогда, — трагическим голосом сказал Клочик.
— Какой ужас! — сказала Ленка, и глаза у неё сделались круглыми. — А как они, наверное, любили друг друга!
— Но почему же дедушка не нашёл Графиню? — спросил я.
— Я совершенно уверена, что он искал, — сказала Ленка. — Он писал длинные письма во все концы страны, ходил на вокзалы встречать поезда, не спал ночами. Может, у него с тех пор бессонница и осталась. А бедная Клавдия Александровна в это время страдала там у себя на Урале. Вот это, я понимаю, трагедия! В общем так, мальчики, я считаю, мы должны устроить им свидание.
— Обязательно устроим, — сказал Клочик. — Только надо всё сделать так, чтобы они ни о чём не знали. Это будет грандиозный сюрприз: встреча через века.
— У меня есть план, — сказал я. — Надо устроить им свидание в Румянцевском садике. Ведь судя по письму, они именно там и познакомились. Ты, Клочик, назначаешь Клавдии Александровне встречу в этом садике. Ну, скажешь, что тебе жутко хочется узнать про князя Румянцева. Или про египетскую мумию — что хочешь придумай. А Ленка тоже под каким-нибудь предлогом подговорит прийти туда своего деда. Только запомните: третья скамейка от входа с правой стороны.
— А почему именно третья и справа? — спросил Клочик.
— В том-то и весь фокус. Рядом с этой скамейкой стоит деревянная будка. Там дворники держат грабли, метёлки, скребки. Мы туда заберёмся и через щель всё увидим. А если мы вместе с ними будем, то никакого сюрприза не получится.
— Но ведь подсматривать нехорошо, — сказала Ленка.
— Нехорошо — согласился я. — Но мы же только чуть-чуть. Посмотрим, как они друг друга узнают, и уйдём потихоньку. Пусть себе вспоминают.
— Я согласна, — сказала Ленка.
— И я согласен, — сказал Клочик. — Это будет свидание века! А сейчас предлагаю сходить в мороженицу. У меня есть рубль. Лён, хочешь мороженого?
Ленка закатила глаза и вздохнула:
— Вообще-то я бы лучше выпила шампанского. Но раз у тебя только рубль… Ладно, давай мороженое.
Глава 11. ТРУБАДУР БЕЗУМСТВУЕТ
Когда мы уже доедали вторую порцию, Ленка сказала:
— И всё-таки, что ни говорите, мальчики, любовь должна быть безумной. Вот я читала в одной книжке про художника, который увидел во сне девушку и безумно в неё влюбился. Утром он встал и написал её портрет. А потом всё бросил и поехал по всему миру разыскивать эту девушку.
— Значит, он всё-таки знал её до этого? — спросил я.
— Не знал. Я же сказала: он видел её только во сне.
— Так кого же он искать поехал?
— Девушку.
— Бред. А если бы ему марсианка приснилась или русалка какая-нибудь, он бы тоже поехал?
— Поехал бы.
— Делать ему больше нечего было.
Но Ленка махнула на меня рукой и продолжала:
— И так он ездил много-много лет, истратил все деньги и стал совершенно нищим. Тогда один вельможа предложил ему продать портрет девушки за сто тысяч. Но художник отказался и умер от тоски и голода. И тут сразу в гостиницу, где жил художник, приехала девушка, которую он искал. Оказалось, что она тоже много лет искала его. Представляете! Когда она обо всём узнала, то приняла яд и умерла. Их похоронили вместе на высоком холме.
— Чушь, — сказал я. — Сама небось придумала.
— Ничего ты, Нечаев, не понимаешь, — сказала Ленка и, посмотрев на Клочика, слушавшего её с открытым ртом, добавила: — Витя, а ты способен на безумный поступок?
— Я способен, — хрипло сказал Клочик.
— А мог бы ты вот прямо сейчас встать и громко при всех прочитать какое-нибудь стихотворение? Про любовь?
Безумный Клочик недолго думая поднялся и уже было раскрыл рот. Потом, наверное, решив, что так его будет плохо слышно, вскочил на стул.
— Стихотворение! — диким голосом выкрикнул он.
Люди в кафе с любопытством повернули головы в нашу сторону. А Клочик вдруг замолчал, мучительно что-то соображая. Потом нелепо взмахнул рукой и крикнул:
— Утопленник!
Послышался смех, со звоном упала чья-то ложка, я потащил Клочика за штанину, но он взбрыкнулся, и со стола полетела розетка с недоеденным мороженым.
— Прибежали в избу дети! — уже падая, закричал мой трубадур. Какой-то мужчина подхватил его на руки, нас окружили, послышались голоса: «Чей это мальчик? Он болен. Надо сообщить родителям!»
— Товарищи! — закричал я, протискиваясь к трубадуру. — Это мой мальчик! Сейчас я отведу его домой, не волнуйтесь, у него свинка.
Я схватил Клочика за рукав и потащил к выходу. Ленка побежала за нами.
Когда мы были уже совсем далеко от мороженицы, она сказала:
— А ты молодец, Витя. Не испугался. Только ведь я просила тебя про любовь, а не про утопленника.
— Не сообразил, — ответил Клочик. — Мне надо было сначала подумать, а потом на стул лезть.
— Вот это верно, — сказал я. — Скажи спасибо, что тебя не успели отправить в сумасшедший дом.
Мы вышли к Большому проспекту. Был час пик. Переполненные автобусы с трудом отъезжали от остановок, окутывая прохожих фиолетовыми облаками. По тротуарам неслось такое количество людей, что казалось, весь город вдруг высыпал из гигантского кинотеатра и заспешил по домам. На перекрёстке раздавались отрывистые свистки милиционера, а из огромного динамика агитационного автобуса через каждые тридцать секунд гремел сердитый металлический голос: «Закончили переход Большого проспекта! Гражданин с контрабасом, немедленно сойдите с проезжей части!».
— Ой! — вдруг вскрикнула Ленка. — Я забыла в мороженице варежки!
Ну, конечно, этого было достаточно для Клочика. С криком «Я мигом!» он, как гончая, кинулся через дорогу. Но успел добежать только до середины. Милиционер схватил его за руку и принялся что-то сердито ему выговаривать. Потом к ним подошёл мужчина с повязкой общественного инспектора ГАИ и, взяв трубадура под руку, повёл к агитационному автобусу.
— Влип трубадур, — сказал я. — Сейчас ему будут читать лекцию о правилах дорожного движения. И в школу могут бумагу прислать. А ведь это ты, Ленка, всё время его с панталыку сбиваешь.
— Тебя, конечно, не собьёшь, — сказала Ленка. — Ну, что же ты стоишь. Его же надо выручать.
Дождавшись зелёного, мы перешли улицу и направились к автобусу, на крыше которого был прикреплён плакат, призывающий к соблюдению правил дорожного движения.
И вот тут случилось невероятное! Над мигающим разноцветными огнями проспектом, над головами спешащих людей вдруг зазвучал взволнованный, прерывающийся голос Клочика, многократно усиленный могучим, похожим на колокол, динамиком: «Мне вас не жаль, года весны моей, протёкшие в мечтах любви напрасной», — звенел голос трубадура. И мне вдруг показалось, что все вокруг на какое-то мгновение остановилось: изумлённо застыли люди на тротуарах, остановились машины и автобусы, замер длинный, переполненный трамвай, так и не успев проехать перекрёсток. «Мне вас не жаль, о таинства ночей…» — неслось из динамика, и улица, позабыв, что ей всё время надо двигаться, молча и неподвижно слушала.
Потом голос оборвался, и все вокруг снова задвигалось, зашумело, словно кто-то заново включил остановленную киноплёнку.
Из агитационного автобуса два парня с красными повязками вытащили сияющего Клочика.
— Во, псих, — сказал один из парней. — Что с ним теперь делать? Сдадим в детскую комнату?
— Да не стоит, — сказал другой. — Заучился, видно, студент. У них теперь в школе такая программа, что и свихнуться недолго. Пусть домой идёт.
Дружинники отпустили Клочика, и смущённый, но жутко довольный трубадур подошёл к нам. Ленка смотрела на него блестящими глазами.
— Витя, ты… ты настоящий… — начала она, но, так и не найдя слова, вдруг взяла и поцеловала его в щёку.
Клочик вспыхнул как маков цвет и сказал:
— Я бы всё до конца прочитал, да на меня сразу двое навалились.
— Всё равно ты молодец, — сказала Ленка. — Только, Витя, я же послала тебя за варежками.
Глава 12. СВИДАНИЕ ВЕКА
За двадцать минут до начала свидания мы были в Румянцевском садике. Погода была чудесная. Солнце золотило бронзовые крылья орла, сидящего на макушке обелиска, воробьи в кустах устроили невообразимый гвалт, а в воздухе пахло чем-то очень свежим и чистым так, что хотелось как можно чаще вдыхать этот удивительный воздух.
— Вот она будка, — сказал я. — Прямо как по заказу стоит. Мы из неё не только увидим, мы и слышать всё будем.
— Ребята, но она же закрыта! — сказала Ленка.
И действительно, на двери будки висел большой, ржавый замок. Этого я совсем почему-то не ожидал. А ведь надо было!
— Вот и посмотрели свидание века, — сказала Ленка скисшим голосом. — Что же делать? Не под скамейку же, в самом деле, нам забираться.
— Пустяки, — сказал Клочик. — Сейчас я домой сбегаю, притащу ломик. В два счёта откроем.
— Спокойно, трубадур, не горячись, — сказал я. — Никаких взломов и взрывов. Доставайте-ка ключи от дома. Сейчас мы эту старую рухлядь быстро откроем.
Но ни один ключ не подошёл. Потом я испробовал Ленкину шпильку, Клочиков перочинный ножик и большой ржавый гвоздь, валявшийся тут же. Но проклятый замок не поддавался. И вот, когда мы уже думали, что всё пропало, Ленка вдруг сказала:
— Ну-ка, мальчики, отойдите.
Она взялась за ручку, слегка дёрнула, и дверь со скрипом открылась! Я чуть не завыл от досады и стыда. Оказалось, что дверь была просто не заперта, а замок висел на одной скобе. Для балды, что называется.
В будке пахло кошками и нагретой пылью. Мы устроились на каком-то ящике и приготовились. Через большую, в три пальца шириной щель нам было всё отлично видно.
Принято считать, что на свидания всегда опаздывают женщины. Но на этот раз первой на горизонте появилась Графиня. Она неторопливо подошла к скамейке, аккуратно присела на краешек, и, достав из сумочки сухарь, принялась рассеянно кормить птиц, которые будто только её и ждали. А через пять минут на горизонте появился дедушка. Мы затаили дыхание. Наступал критический момент свидания века. На дедушке был длинный тёмно-серый плащ-реглан, широкополая шляпа и в руках большой чёрный зонт. Вдруг мы с ужасом увидели, что он повернул не налево, как было предусмотрено нашим планом, а направо. Неужели всё пропало! К счастью, оказалось, что дедушка просто решил сделать круг. Через несколько минут он уже подходил к скамейке, где сидела Графиня. Мы замерли. Дедушка неторопливо приблизился, рассеянно скользнул взглядом по Клавдии Александровне, потом уселся в метре от неё и развернул газету. Графиня подняла голову, вздрогнула и вдруг вся напряглась, будто внутри неё сработала какая-то пружина. Сухарь выпал у неё из рук, и она судорожно вцепилась в сумочку, неотрывно глядя на дедушку. А тот как ни в чём не бывало продолжал читать газету и даже чему-то улыбался. И вот в этот момент Клочик, видно наглотавшись в нашем сарае пыли, чихнул, громко и надрывно!
— Будьте здоровы! — сказал дедушка, подняв голову.
— Спасибо, — растерянно ответила Графиня. — Но я не чихала. — И она беспомощно огляделась по сторонам.
— Да? А мне показалось, вы чихнули. Простите, ради бога.
Тут из-под скамейки вдруг выскочил огромный чёрный кот. Голуби и воробьи, клевавшие Графинин сухарь, в панике взмыли вверх.
— Ах, вот, оказывается, кто чихал, — сказал дедушка, смеясь. — Никогда бы не подумал, что коты могут так громко чихать.
— Я бы тоже никогда не подумала, — тихо сказала Графиня и грустно опустила голову.
— Вот вы лучше послушайте, что пишут эти так называемые синоптики, — сказал дедушка и с негодованием ткнул пальцем в газету. — Во второй половине дня дождь, возможен с грозой. Я надеваю плащ, беру с собой зонт, а на небе ни облачка. Ну да, бог с ними. Бумага всё терпит. Тут ещё есть прелюбопытнейшая статья. Вы знаете, отчего, оказывается, вымерли динозавры?
— Динозавры? Разве они вымерли? — дрожащим голосом спросила Графиня.
— Полностью, — радостно ответил дедушка.
— И давно?
— Порядком. Шестьдесят пять миллионов лет назад. Оказывается, на землю упала огромная комета. И так разогрела океан, что на земле стало как в хорошей парилке. Ну, они все от жары и скончались.
— Какой ужас, — тихо сказала Графиня, и мне показалось, что она вот-вот расплачется.
— Да, хорошенького мало, — сказал дедушка. — Но есть и другая гипотеза. Резкий скачок магнитного поля. Представляете, полюса вдруг в один прекрасный день взяли и поменялись местами. Ну а динозавры…
Но договорить он не успел. Графиня резко встала и быстро, не оглядываясь, пошла к выходу. Дедушка удивлённо посмотрел ей вслед и в лице его что-то дрогнуло. Он тоже встал и сделал несколько неуверенных шагов вслед за Графиней. Потом остановился, и газета выпала у него из рук. Вдруг совершенно неожиданно дунул сильный порыв ветра, стремительно швырнув газету в глубь сада. В одно мгновение небо потемнело, будто на него легла чья-то тень, потом грохнул оглушающий раскат грома. А вслед за этим на землю стремительно полетели тяжёлые капли, поднимая с земли облачка пыли. Дедушка продолжал потерянно стоять на дорожке сада. В одну секунду он был совершенно мокрый. А нераскрытый зонтик так и лежал на пустой скамейке.
— Он не узнал её, не узнал! — говорила Ленка. И в глазах у неё стояли слёзы.
Глава 13. ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ НА БЛЮДЕ
На этот раз Клочик и вправду превзошёл самого себя: фотографии получились приличные. Во всяком случае, глядя на них, было ясно: это — Клавдия Александровна. Это — Ленка, а это — я. И даже чайник, стоявший на столе, нельзя было спутать с газовой плитой или умывальником. И я, честно говоря, пожалел, что во время съёмок корчил рожи, думая, что ничего путного не выйдет.
— Леха, ты на эту, на эту карточку погляди, — говорил Клочик, бледный от гордости. — Хоть в «Огонёк» для обложки посылай.
На фотографии, про которую говорил он, Ленка тащила в рот ложку с вишнёвой ягодкой, искоса поглядывая на камеру и тихонько улыбаясь. Ни меня, ни Графини в этом кадре не было.
— Успел-таки отдельно щёлкнуть, — сказал я.
— Успел, — ответил довольный Клочик. — Эх, увеличить бы её тридцать на сорок! Во был бы портретик. Да жаль у меня бумаги такой нет.
— А ты в фотоателье снеси. Благо, что ходить далеко не надо. Там тебе хоть метр на метр сделают. А потом можешь на крыше его устанавливать. Вроде транспаранта.
— Ну, кто же мне даст портрет на крыше поставить, — сказал Клочик, будто я ему всерьёз такую чушь предлагаю.
— Тогда у нас в классе приколоти. Между портретами Льва Толстого и Софьи Ковалевской.
— Не то. А что, если… — Клочик вскочил со стула и запрыгал как ненормальный. — Придумал! Колоссальная мысль! Витрину в нашем фотоателье помнишь?
— Ну, помню.
— Там кто висит? А? Моряк с висячими усами висит. Первоклашка какой-то прилизанный с букварём и девица рыжая с выпученными глазами. И вот висят они там, наверное, сто лет. Как себя помню, они там висят.
— Уж не хочешь ли ты… — начал я, не поверив своим ушам.
— Ну, конечно! — перебил меня Клочик. — Ты только представь: идёт Ленка в школу и вдруг видит на витрине свой портрет! Ух, что будет!
Клочик даже зажмурился от удовольствия.
— Бред, — сказал я. — Никто Ворожеву на витрину не повесит.
— Ну, почему не повесят. Сам ведь говоришь, что карточка хорошая. Её только увеличить надо. Да чего гадать — пошли и проверили.
Я понял, что безумная любовь требует безумных идей и что спорить с трубадуром бесполезно.
В ателье было совершенно пусто. Лишь за столом дремал старичок приёмщик, а из глубины помещения доносились вопли какого-то малыша.
Когда мы подошли к столу, старичок пробудился и взял ручку:
— На документы? На паспорт? Или художественный портрет желаете заказать? Можем даже на тарелочках.
— Нет-нет, мы не фотографироваться, — сказал Клочик. — Мы бы хотели поговорить с фотографом. У нас к нему дело. Личное.
Старичок сразу потерял к нам интерес.
— Пройдите по коридору и подождите, пока мастер освободится, — сказал он, зевнул и снова закрыл глаза.
Мы пошли по узкому коридорчику и подошли к проёму, завешанному тяжёлыми шторами. Из-за штор неслись отчаянные крики малыша. Мы заглянули. В ярко освещённой комнате, на площадке, огороженной маленькими деревянными перильцами, стоял белобрысый карапуз и отчаянно ревел. Рядом суетилась его мама, безуспешно пытаясь сунуть в руку малышу огромный разноцветный мяч. Напротив стоял высокий бородатый фотограф, с длинными растрёпанными волосами, чем-то похожий на постаревшего д'Артаньяна.
— Мамаша, да успокойте же вы наконец ребёнка! — кричал он, хватая себя за волосы. — У меня уже сил нет!
— Ах, товарищ фотограф, ради бога, простите, — отвечала женщина. — Он у нас почему-то ужасно боится брюнетов. Особенно бородатых. Вы знаете, в нашей семье все блондины.
— Что же, побриться прикажете?! Волосы выкрасить? Мальчик, да замолчи ты хоть на секунду! Посмотри в эту дырочку. Сейчас оттуда птичка вылетит. — И фотограф замахал своими длинными руками, изображая, наверное, как вылетит птичка.
Малыш закричал с удвоенной силой.
Мы с Клочиком потихоньку продвинулись в глубь комнаты. Заметив, что малыш нас видит, я скорчил рожу и подмигнул ему левым глазом. А Клочик показал ему «козу».
И до чего же удивительный народ эти маленькие! Не успела ещё последняя пара слёз скатиться с толстых щёк малыша, а он уже не кричал. Будто кто-то нажал кнопку и выключил звук. Тогда Клочик показал ему язык, а я подмигнул правым глазом.
И малыш вдруг потешно засмеялся, сразу позабыв, что он боится бородатых брюнетов.
— Великолепно! — закричал фотограф и бросился к аппарату.
Через минуту он сердечно тряс наши руки, приговаривая:
— Вы спасли меня от инфаркта! Честное слово, эти дети когда-нибудь сведут меня в могилу.
— Пустяки, — отвечал Клочик, довольный, что всё началось так удачно.
— Нет, нет, это не пустяки. Инфаркт — это очень серьёзно. И потому я решил вас отблагодарить. Я сделаю ваши портреты на блюде. «Групповой портрет двух друзей на блюде». Гениально!
— На блюде? — удивлённо переспросил Клочик.
— Да, да, именно на блюде! Впрочем, можно и на тарелочках. Так что прошу садиться. Под лучи, так сказать, юпитеров.
— Нет, спасибо, — сказал Клочик. — Мы к вам совсем по другому делу.
— Жаль, — сказал фотограф. — И что за народ такой недалёкий пошёл. Все кричат: старина, «ретро», гоняются за бронзовыми канделябрами, набивают плечи ватой и при этом совершенно забыли о старой доброй фотографии. Да что там блюдо — портрет обычный заказать не желают. Паспорт и пропуск — вот и вся палитра. А портрет на блюде — это же песня! Ренессанс!
— А мы к вам как раз насчёт портрета, — нашёлся Клочик. — Вот у вас на витрине фотографии висят…
— Ну, висят. Бездарная, скажу вам откровенно, работа. Но их выставили ещё до того, как я сюда пришёл. Надо заменить, да руки не доходят.
— Конечно, заменить! — радостно подхватил Клочик и достал из кармана Ленкину карточку. — У нас как раз есть отличный портрет. Вы его только увеличьте, ну и подретушируйте, если, конечно, нужно.
Фотограф мельком взглянул на карточку и обиженно отвернулся.
— Шутите. Тут и не видно ничего толком. Обычная любительская халтура.
— Как это, халтура? — оскорбился Клочик. — Да вы, пожалуйста, внимательно посмотрите. Всё прекрасно видно! Даже чайник!
— Чайник, может, и видно, — сказал фотограф. — Но у нас же не магазин хозтоваров. Нет, нет, не выдумывайте. Давайте лучше я сделаю вас на блюде. Бесплатно. Поверьте моему слову, через год-два вам в очередь придётся записываться, чтобы портрет на блюде заказать.
— Товарищ мастер, — занервничал Клочик. — Вы даже не представляете, какая это замечательная девочка! Отличница! В Греции два года жила!
— Ну и что. Я тоже пять лет жил в Кирово-Чепецке. Но это не даёт мне оснований вывешивать свой портрет на витрине.
— Значит, вам фотография не нравится? — угрюмо спросил Клочик.
— Не нравится.
— А если я вам её живую приведу?
— Кого?
— Ну, девочку эту. Повесите вы тогда её на витрину?
— Живую?
— Ну, зачем. Вы сами её портрет сделаете.
— Не знаю, не знаю. Надо посмотреть.
— Отлично! — сказал Клочик. — Мы будем у вас через полчаса. Ждите.
Когда мы вышли из ателье, я сказал:
— Ты что, рехнулся, трубадур? Ты давай безумствуй, но меру знай. Неужели и вправду собираешься тащить сюда Ленку?
— Конечно, — ответил Клочик. — Да фотограф только её увидит, сразу согласится.
— А если нет?
— Что нет?
— Если он не захочет Ленку на витрину вешать? Ох, Клочик, худо тебе будет! Да Ворожева тебя на пушечный выстрел не подпустит.
Но я понимал, что спорить с Клочиком было бесполезно. Да и вообще, разве можно разговаривать с человеком, у которого чувства.
Ленку мы увидели, когда она выходила из парадной своего дома.
Заметив нас, она сказала:
— Хорошо, что я вас встретила. Просто не знаю, что с дедушкой делать. Ни с кем не разговаривает, на улицу не выходит и даже газет не читает. Мучается, прямо ужас. А Клавдия Александровна как?
— Болеет она, — сказал Клочик. — Грипп у неё.
— Никакой это не грипп, — сказала Ленка. — Это у неё на нервной почве. Витя, надо что-то придумать. Нельзя же всё так и оставить.
— Придумаем, — сказал Клочик. — Пошли быстро!
— Куда?
— Да тут недалеко. В фотоателье.
— Это ещё зачем?
— У меня там фотограф знакомый работает, — сказал Клочик. — Увидел он у меня твою карточку и говорит: вот наконец то, что я искал. Ты, говорит, обязательно мне эту девочку приведи. Я сделаю её портрет и повешу на витрину. А то, говорит, такая там любительская халтура висит — смотреть тошно.
— А ты не врёшь? — подозрительно спросила Ленка.
— Вот ещё. Что мне, делать больше нечего? Да ты вон у Лехи спроси.
— Всё точно, — сказал я. — Он ещё сначала на блюде хотел тебя сделать. А потом говорит: нет, говорит, такой портрет на витрине висеть должен.
— Но так сразу, — неуверенно сказала Ленка. — Мне же надо подготовиться…
— Ничего не надо, — сказал Клочик. — Главное — быть естественным. Пошли. Мастер ждёт.
Через пять минут мы снова были в ателье.
К счастью, посетителей там не оказалось. Фотограф сидел в кресле и ел бутерброд с сыром.
— Вот и мы, — сказал Клочик. — Как договаривались.
Мастер поперхнулся и, отряхнув с бороды сырные крошки, пробурчал:
— Нет, дети всё-таки сведут меня в могилу.
Потом он поставил стул на середину комнаты, усадил в него Ленку и включил прожектора. Походив вокруг и покачав головой, он сказал:
— Нет, не подойдёт. Мало экспрессии.
— Как это мало! — взвился Клочик, ещё не понимая, что он погиб. — Очень даже много!
— Не годится, — упрямо повторил фотограф, разглядывая Ленку будто рыбу в аквариуме. — Она, как бы это попроще сказать, слишком позитивна, ординарна. В лице не хватает ностальгического подтекста. Одним словом — нет загадки. Ну, вы вспомните хотя бы Мону Лизу — это же тайна! Мистерия! А тут… тут всё ясно. Так что, друзья, давайте-ка я лучше сделаю вас троих на одном блюде. Совершенно бесплатно.
— Мне тоже всё ясно, — сказала Ленка и встала. — Ты, Витя Клочиков, не безумный. Ты просто дурак. — И она выбежала из комнаты.
Клочик как ошпаренный побежал следом. Фотограф замахал руками и закричал:
— Куда же вы, куда?! Постойте! Можно сделать портреты на чайных блюдцах! Каждому по блюдечку!
Клочика я нашёл во дворе. Он сидел на ящике и ковырял палкой в луже.
— И почему так странно всегда выходит, — сказал он. — Когда очень хочешь сделать что-то хорошее, обязательно плохо получится. Хуже некуда.
Я не стал ничего ему говорить. Я просто сел рядом с ним на ящик.
Глава 14. СЕРЕНАДА НА ВОЛЬНОМ ВОЗДУХЕ
Занятия в духовом оркестре проводились два раза в неделю по вторникам и пятницам. И каждый раз я с нетерпением ждал этих дней. Не только потому, что я здорово успел полюбить свою альтушку, на которой мне так хотелось сыграть «Амурские волны». Просто я знал, что в эти дни домой я приду поздно и могу сразу, ни о чём не разговаривая, завалиться спать.
А дома у меня царила такая тишина, что хоть уши затыкай. Все вдруг стали ужасно вежливыми, тихими и чужими. В коридоре в углу появился огромных размеров вещевой мешок грязно-зелёного цвета. Всякий раз, когда я видел этот мешок, я почему-то вздрагивал и мне хотелось тут же бежать из дома.
В ту пятницу, возвращаясь из Дома пионеров, я увидел во дворе на скамейке знакомую фигуру трубадура.
— Поговорить надо, — сказал он.
Я сел рядом и положил на колени альт. Клочик долго молчал и наконец сказал:
— Вот, Леха, ты музыкант.
— Ну, в общем, да, — скромно подтвердил я.
— Согласись, музыка — это всё-таки сила. Ты когда, к примеру, на своей альтушке играешь, у меня мороз по коже идёт. А почему — чёрт его знает! Мне кажется, я даже звук вижу, который из твоей трубы выходит. Он, знаешь, такой синий и немного пушистый…
Клочик замолчал. Я хлопнул его по плечу и сказал:
— Давай уж, мыслитель, выкладывай, что задумал.
Клочик вынул из кармана листок бумаги и протянул мне:
— Читай. Это я из толкового словаря выписал.
Я взял листок и прочитал:
— «Серенада — вечерняя приветственная песнь трубадуров, исполнявшаяся на вольном воздухе, а также песня в честь возлюбленной, исполняемая под её балконом».
Ну, конечно! Мне стало совершенно ясно, куда клонит Клочик. Раз у человека чувство, он должен играть на трубе. И не где-нибудь, а под балконом возлюбленной!
— Сыграешь? — спросил Клочик.
— Серенаду, что ли?
— Ну. Ты думаешь, это для Ленки?
— Конечно. А для кого же?
— Помнишь, Графиня рассказывала, что когда они с Ленкиным дедушкой в последний раз на выпускном вечере виделись, там оркестр всё время «Амурские волны» играл. Вот я и подумал: как заиграешь ты «Амурские волны», так дедушка всё сразу и вспомнит. И они… Ну, в общем, у них всё тогда хорошо будет. А может, и у меня…
— Так я же плохо ещё играю. Может, подождём полгодика?
— Да ты что?! Полгода! Сегодня пойдём! Надо торопиться.
И тут меня охватило какое-то странное возбуждение. Мне вдруг показалось, что именно сегодня должно решиться что-то очень важное. «Да, да, Клочик тысячу раз прав, — думал я. — Надо торопиться. Потом будет поздно». Если бы в тот момент меня кто-нибудь спросил, почему надо торопиться и что будет поздно, я бы вряд ли ответил. Но я твёрдо сказал:
— Хорошо. Я согласен. Пошли!
— Нет, — сказал Клочик, — сейчас рано. Люди кругом. Дворники. Разве они дадут серенаду сыграть. Ночью пойдём. В двенадцать.
— В двенадцать?! Так нас же не пустят!?
— Всё продумано. Моя мама в ночь работает. Я подхожу к твоему окну, ты потихоньку вылезаешь, пробираемся к Ленкиному дому, играем серенаду и расходимся. Смотри не проспи только. На всякий случай оставь окно приоткрытым.
Дома, стараясь не глядеть на зелёный мешок, я сразу прошёл в свою комнату и закрыл дверь. Никто даже не спросил меня ни о чём. В начале двенадцатого в нашей квартире погас свет и повисла тишина. До прихода Клочика оставалось сорок минут. Я прислушивался к каждому шороху под окном, и во рту у меня было почему-то сухо. Тогда я прилёг на кровать и решил расслабиться по системе йогов. Но в жизни всё ужасно странно устроено. Другой раз полночи крутишься, уснуть хочешь — и никак. А когда не надо, глаза не успеешь закрыть, как уже дрыхнешь. Одним словом, я лёг на кровать и уснул. И сразу увидел сон. Мне снилось, будто Клочик стоит возле памятника Крузенштерну и играет на моём альте «Амурские волны». И так здорово у него получается — просто блеск! А бронзовый адмирал, чем-то похожий на Ореста Ивановича, держит в руках мою удочку и дирижирует. Сам я стою рядом с Клочиковым фотоаппаратом в руках. Напротив, на скамейке, как всё равно в партере в первом ряду, сидят и слушают музыку мои родители, Клавдия Александровна с Ленкиным дедушкой и сама Ленка. У папиных ног лежит зелёный вещмешок, доверху набитый какими-то вещами. Из мешка торчит наш торшер с зелёным абажуром. А моя мама почему-то сидит в мотоциклетном шлеме.
Клочик кончил играть. Все захлопали и закричали «браво». Я тоже стал кричать «браво», а потом добавил: «По такому случаю я сейчас сниму всех на блюде. Бесплатно». Но на меня замахали руками, затопали и закричали, что сниматься на блюде они не желают. А Крузенштерн протянул удочку и стал щекотать мне кончик носа. Я чихнул и проснулся.
Из открытого окна торчала длинная ветка. И тут же я услышал громкий шёпот Клочика:
— Уснул всё-таки. Вставай.
— Сколько сейчас? — спросил я.
— Полвторого, — ответил Клочик. — Проспал я. Будильник почему-то не зазвонил. Ну, ничего. Это даже лучше. Вылезай!
Я взял альт и вылез из окна. Ночь была совсем тёплая и светлая. А вокруг стояла такая необыкновенная тишина, что даже слова, произнесённые шёпотом, казалось, разносились по всему городу.
На груди у Клочика я заметил фотоаппарат, а сбоку висела ещё какая-то сумка.
— Зачем это? — тихо спросил я.
— Так, на всякий случай, — ответил Клочик. — А это вспышка. У соседа попросил. В полной темноте снимать можно.
Мы вышли на непривычно пустую, притихшую улицу. На углу светофор бессмысленно переключал свои огни. Большой серый кот чинно и неторопливо переходил дорогу на красный свет. «Ночью все кошки серы», — почему-то подумал я. Вдруг впереди отчётливо послышались чьи-то шаги. Шаги в этой тишине казались жутко тяжёлыми и громкими, будто бронзовый адмирал Крузенштерн, покинув свой пьедестал, решил размяться. Мы кинулись в ближайшую парадную и притихли. Мимо нас прошла девушка с букетом тюльпанов в руках. Снова стало тихо. Наконец через несколько минут мы стояли напротив Ленкиного дома. Где-то далеко, за мостом Лейтенанта Шмидта, лязгнул трамвай, и от этого далёкого звука вокруг стало ещё тише. Клочик глубоко вздохнул, словно собираясь нырнуть, и сказал:
— Давай, Леха!
Мне казалось, что стоит сейчас вынуть трубу и сыграть хотя бы одну ноту, то сейчас же проснётся весь-весь город.
«Ну и хорошо, — почему-то подумал я. — И пусть проснётся!»
Я достал из мешка альт и вставил холодный мундштук.
— А что играть?
— Как что? «Амурские волны».
— Я же плохо ещё играю. Собьюсь!
— Всё равно, — сказал Клочик. — Играй!
И я заиграл. Сначала я старался играть как можно тише. Но постепенно так увлёкся, что уже не думал ни о какой осторожности. Звуки весело запрыгали по старым кирпичным стенам, по уснувшим окнам, отдаваясь гулким эхом в длинных подворотнях. Вдруг стало ужасно весело и шумно. И никакой тишины над городом больше не висело. А совершенно довольный Клочик, с горящими глазами лихо притоптывал ногой и даже пытался подпевать!
Потом всё понеслось так стремительно быстро, что в голове моей остались лишь отдельные яркие вспышки. В окнах дома вдруг замелькал свет, послышались голоса, лай собак, хлопанье оконных рам. Балконная дверь квартиры Ворожевых с шумом распахнулась и оттуда в зелёном колпаке и в полосатой пижаме выскочил Ленкин дедушка.
— Милиция! — в отчаянии закричал он. — Где милиция?! Первый раз за неделю уснул! Первый раз! Да что же это такое!
А Клочик, сбитый с толку такой каруселью, схватился за аппарат и ослепил дедушку вспышкой. Потом ещё раз! И ещё!
— Пожар! Горим! — послышались крики из соседнего дома.
Мы кинулись бежать; Позади нас завизжали автомобильные тормоза. Хлопнула жёлтая дверца с надписью ПМГ-13. Сильные руки милиционеров подхватили нас и повели к машине, на крыше которой бешено крутился тёмно-синий фонарь.
— Это, что ли, твоя квартира? — спросил сержант.
— Эта, — сказал я.
— Ну так отпирай.
— К-ключа н-нету, — заикаясь, ответил я.
— Что же ты, артист, по ночам гуляешь, а ключа с собой не берёшь? — И милиционер нажал кнопку звонка. В нашей тихой, вежливой квартире он прозвучал как сигнал тревоги.
Послышались голоса, шарканье ног, и в дверях появились встревоженные лица моих родителей.
— Боже, что случилось? — всплеснула мама руками.
— Ваш мальчик? — строго спросил милиционер.
— Наш, — сказал папа.
— Непорядок, товарищи родители. Форменное, скажу, безобразие. Разгуливает по ночам с духовым инструментом, общественный порядок нарушает. Шутка ли, целый дом разбудил! Надо бы протокол составить. Но, учитывая малый возраст задержанного, ограничимся предупреждением. А вообще, я бы на вашем месте выдрал бы его хорошенько.
— Но он же был дома?! — воскликнула мама. — Он спал!
— Спал да встал, — усмехнулся милиционер. — И в окошко, на свежий воздух. А там уже его дружок поджидал с фотоаппаратом и лампой-вспышкой. Так что советую вам хорошенько во всём разобраться.
Милиционер козырнул и вышел.
— Чтобы я больше в доме этой иерихонской трубы не видела! — закричала мама. — Или я — или труба!
Мама бросилась на кухню, но споткнулась о зелёный мешок и чуть не упала. Она пнула мешок ногой и крикнула:
— Вот твоё мерзкое воспитание! Хоть бы ты поскорей уехал!
— Не беспокойся, — сказал папа. — Через три дня уеду.
— Господи, неужели я доживу до этого счастливого дня, — сказала мама и заплакала.
— Алексей, в чём дело? — спросил папа сухим и каким-то совершенно чужим голосом.
Я молчал.
— Если ты сейчас не объяснишь, то я… Я начну относиться к тебе по-другому.
И в этот момент я вдруг понял, что я не должен молчать. Что молчать я не имею права. И я рассказал им всё. И про Графиню, и про фотографию Ленкиного дедушки, которая лежит у неё в альбоме, и про свидание века. Я рассказал им про Клочика, так мечтавшего научиться играть на трубе, и про трубадуров, исполнявших свои приветственные серенады под балконами возлюбленных. Я рассказал им даже про то, как далёкой весной тысяча девятьсот семнадцатого года военный оркестр играл «Амурские волны» на выпускном вечере в гимназии у Клавдии Александровны Верёвкиной. Потом я лежал на кровати с открытыми глазами и смотрел в потолок. Рядом дремал альт, свернувшись калачиком. Почему-то мне вспомнился Ботанический сад, белый куст азалий, вороны на талом снегу. Я вспомнил старика, который рассказывал мне про аптекарский огород, про Петра Первого, про цветы… Как это он ещё тогда сказал: красота спасёт мир…
Я лежал и не мог уснуть, а в комнате родителей всё горел и горел свет.
Глава 15. КРАСОТА СПАСЁТ МИР
Утром я стоял на стрелке у Ростральных колонн и ждал десятого автобуса.
Ярко светило солнце, и в голубой невской воде играли золотые искорки.
Вчера я написал четыре письма. Одно опустил в наш почтовый ящик, одно — в Ленкин и два в квартиру Клочика. В письмах было написано: «Очень прошу сегодня в одиннадцать часов утра приехать на Аптекарский остров в Ботанический сад. Я расскажу что-то очень-очень важное. Буду ждать. Ваш друг Алёша».
Подкатил новенький «Икарус», и через несколько минут я был уже у знакомой железной ограды, за которой уже зеленела густая молодая трава. Я остановился у главного входа и стал ждать.
Первым, конечно, появился мой трубадур. Он шёл вместе с Клавдией Александровной, которая держала его под руку. На плече у Клочика висел фотоаппарат.
— Алёша, голубчик, здравствуй, — заговорила Графиня. — Какая чудесная мысль — пойти в Ботанический сад! Последний раз я была здесь до войны, в тридцать девятом году. Или нет, пожалуй, в сороковом. И тоже, представь, весной.
— А я так и вообще не был, — сказал Клочик. — А тут ничего. Красиво. Жаль только, бананы не растут.
В саду и вправду было хорошо. На зелёных лужайках, усыпанных малюсенькими голубыми васильками, копошились грачи, солнце играло в прозрачных струях фонтанов, а на деревьях уже появились молодые листочки.
И тогда мы заметили, что к нам приближаются Ленка с дедушкой. На дедушке был строгий тёмный костюм и голубая рубашка с галстуком в горошек. Я с опаской посмотрел на Графиню. Но она оставалась спокойной и даже улыбалась. Ленка приветливо замахала нам рукой, а дедушка, подойдя к Клавдии Александровне, молча поцеловал ей руку.
— Наконец-то, — тихо сказала Графиня.
— Прости, Клава, — сказал дедушка и виновато улыбнулся. — Я ведь тогда в саду не узнал тебя. Правда, когда ты уходила, мне вдруг показалось… А тут ещё гроза началась…
— Ничего, Митя. Всё хорошо. Всё хорошо.
Я думал, что они сразу начнут много говорить, наперебой вспоминая прожитые годы. Но они молча стояли и только пристально смотрели друг на друга.
Мы деликатно отошли в сторону и Ленка сказала:
— Сегодня утром, когда я получила письмо и сказала деду, что мы идём в Ботанический сад, он сразу всё понял. Ничего не сказал, а понял. Видели бы вы, как он заволновался, брюки сразу стал гладить. Я ему говорю: «Деда, давай я выглажу». А он ни в какую. Да разве, говорит, ты сможешь. Так и не дал.
И тут позади себя я услышал голос папы:
— О, да у вас, я погляжу, большой сбор.
— Не хватает только Алёшкиной трубы, чтобы сыграть нам «Амурские волны», — добавила мама и улыбнулась.
И все начали раскланиваться, говорить, что сегодня чудесная погода и что весна в этом году наступила совсем незаметно.
Тогда я подбежал к будке, где сидела старушка и продавала билеты.
— Скажите, пожалуйста, в какой оранжерее цветут азалии? — спросил я.
— Поздненько, молодой человек, пришли, — ответила старушка. — Отцвели азалии.
— Как отцвели?! — закричал я.
— Да так вот. Время, стало быть, пришло. Но вы не расстраивайтесь. Сейчас много всего цветёт. Налюбуетесь.
И тут я вдруг вспомнил, что старик говорил мне ещё про рододендрон, который первым зацветает на открытом воздухе.
— Скажите, — снова обратился я к старушке, — а где у вас рододендрон растёт?
— Да вон, пройдите чуток по дорожке — и налево. Там он и растёт.
Через минуту мы все стояли около небольшого кустика, сплошь усыпанного нежными фиолетовыми цветами.
— Вот, — сказал я. — Я хотел показать вам эти цветы.
— И всё? — спросила мама.
— Всё, — ответил я.
Я думал, что вот сейчас мама начнёт ругаться, говорить, что у меня очередная дурацкая затея, что я отрываю людей от важных дел… Но мама молчала. И все остальные тоже молча стояли и смотрели на цветы. А потом заговорили разом. Заговорили о том, что тут хорошо и красиво, о том, что не были в Ботаническом саду тысячу лет и что такой зелёной травы они уже давно не видели.
А мама вдруг сказала:
— Саша, почему ты совсем перестал писать? У тебя ведь неплохо получались пейзажи.
— Было время, — сказал папа. — А во всём Алёшка виноват: почему он не водит нас сюда, в Ботанический. Сам, понимаете ли, идёт в СУП-тропики, а родители должны загорать у газовой плиты. Ну да я вижу, он уже осознал свои ошибки. Осознал, Алёшка?
— Осознал, — сказал я.
— Но что же мы все стоим на одном месте! — сказала Клавдия Александровна. — Пойдёмте. Помнится, там дальше, в сторону Невы был чудесный пруд. Интересно, сохранился он или нет.
Мы пошли по узкой извилистой дорожке сада, и тут я заметил бородатого фотографа, меланхолически сидевшего на одной из скамеек. Он тоже нас заметил, а когда мы проходили мимо, вдруг встрепенулся и стал делать нам с Клочиком знаки, чтобы мы подошли.
— Мальчик, — сказал он и нервно затряс Клочика за плечо. — Ты знаком вон с теми двумя пожилыми людьми?
— Знаком, — ответил Клочик. — А что?
— Ты должен и меня с ними познакомить! Какой типаж! Какой стиль! Я мечтал о такой паре всю жизнь!
— Могу познакомить, — ответил Клочик, уже догадываясь, куда клонит фотограф. В конце концов это было даже очень кстати.
— Позвольте представиться, — обратился фотограф к Графине. — Мастер художественной фотографии. У меня к вам предложение. Мне бы очень хотелось сделать ваш совместный портрет. Если не возражаете, я бы выполнил его на блюде.
— Молодой человек! — восторженно воскликнула Клавдия Александровна. — Вы прочли моё сокровенное желание. Я всю жизнь мечтала заказать портрет на блюде! Митя, это просто чудо!
— Вот и отлично, — сказал фотограф и прямо весь засветился от радости. — Я сразу почувствовал, что вы меня поймёте. Виден стиль. А мой салон вам мальчики покажут.
И почтительно поклонившись, мастер художественной фотографии удалился.
Потом мы вышли к очень маленькому заросшему пруду, через который был перекинут горбатый деревянный мостик. И мне вдруг показалось, что там, на другой стороне пруда я вижу высокого седого старика с палкой.
Но когда я подошёл ближе, там уже никого не было.
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёфикация — творческая студия БК-МТГК.
|