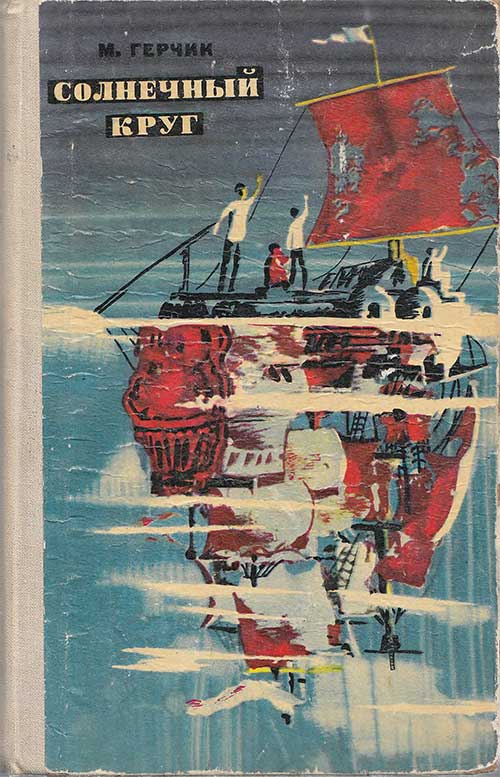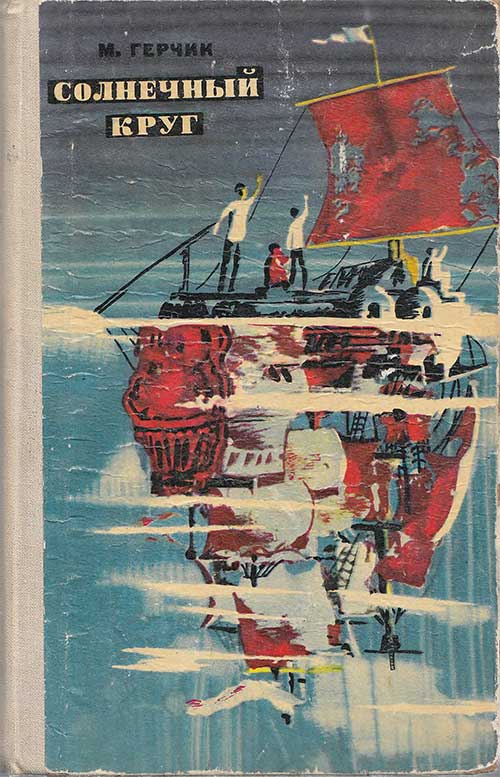Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_______________
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ КНИГИ
Часть первая
Я ДЕЛАЮ ОТКРЫТИЕ
Теперь я понимаю, что пережил Христофор Колумб, когда открыл Америку. Со мной самим недавно случилось что-то похожее. Правда, я открыл не огромный материк, а небольшой поселок на окраине нашего города, и открыл не для других, другие, может, про него давно знали, а для себя, но… Но все равно я долго чувствовал себя именинником и ни капельки не страдал от того, что мое открытие не будет записано золотыми буквами в анналы истории. Уверен, что Колумб тоже особенно не думал об истории. Он больше думал о всяких там сокровищах да пряностях, а уж история сама позаботилась, чтоб люди и через сотни лет помнили его имя.
В большом городе можно, наверно, прожить всю жизнь, но все равно обязательно найдется такое местечко, где ты не только ни разу не бывал, но никогда о нем и не слышал. Я, например, и понятия не имел, что у нас есть такой Северный поселок, пока мы туда не переехали, хотя был уверен, что знаю свой город вдоль и поперек.
Отец рассказывал, что Северный поселок вырос в последние годы, когда нашему городу стало тесно в старых границах. Его и теперь строят — куда ни глянь, всюду в небо тянутся долговязые краны, высятся горы разрытой, развороченной земли, а от рева панелевозов в окнах жалобно звенят стекла.
Раньше на месте Северного поселка была деревня Слепня. Кое-что от нее еще уцелело: несколько кособоких деревянных домишек, которые лепятся, дожидаясь сноса, возле пятиэтажных корпусов, и старые сады. В Слепне когда-то жили знаменитые садоводы, их яблоки славились на всю республику, и строители — вот молодцы! — постарались сохранить все деревья, какие только было можно. Например, у нас во дворе осталось двенадцать яблонь, четыре вишни и груша. И еще одна яблоня росла под окнами. Правда, к тому времени, когда мы переехали, она засохла, видно, от старости, зато остальные были хоть куда: зеленые, развесистые, с толстыми, узловатыми ветками. Не то что чахлые прутики, которые садят во дворах других новых домов!
Во всем остальном Северный поселок ничем не отличался от новых городских микрорайонов. Такие же широкие улицы и разноцветные скамеечки возле автобусных остановок, магазины с огромными, во весь этаж, окнами, и крупнопанельные дома-близнецы: того и гляди, заблудишься да по ошибке в чужой зайдешь… И все-таки было на Северном что-то свое, особенное, чего не найдешь ни в одном уголке города. Не планировка, не архитектура и даже не сохранившиеся во дворах старые деревенские сады, а названия. Именно из-за них я и почувствовал себя Колумбом.
Сообразить, почему поселок назвали Северным, не составляло особого труда — он расположен на северной окраине города. Глянули строители на компас и назвали, чего там мудрить. Ну, а потом…
В первый же день, когда мы переехали, отец сказал:
— Запомни наш новый адрес, Тима: Арктическая, 8, квартира 41.
Я засмеялся.
— Поселок Северный, улица Арктическая… И захотел бы, так не забудешь.
После обеда, кое-как расставив по углам вещи, мы пошли погулять. Вернее, не столько погулять, сколько разведать, где магазины, школа, сапожная мастерская, — у меня как раз запросили каши ботинки.
С Арктической мы свернули направо. Я прочел на угловом доме табличку и зачмыхал носом: «улица Таймырская». Отец погрозил мне пальцем и сделал каменное лицо. Однако не успели мы дойти до конца квартала, как его губы растянулись в улыбке: впереди простирался проспект Челюскинцев.
Возле продуктового магазина «Айсберг» я уже засмеялся, ничуть не заботясь о приличии. Отец как-то тоненько захихикал, но тут же оборвал себя и на всякий случай торопливо оглянулся. Зато в проезде Георгия Седова он захохотал во все горло, а у кафе «Снежинка», на улице Ангарской, мы оба долго выли от восторга.
Обессиленные, изнемогающие, мы добрались до автобусной остановки «Роза ветров» и повалились на скамейку. Я визжал, а может, даже хрюкал, потому что смеяться больше просто не мог, и старушку, рядом с которой мы уселись, словно ветром сдуло: наверно, она посчитала нас за сумасшедших.
Немного отдохнув, мы мужественно продефилировали по улицам Руальда Амундсена и О. Ю. Шмидта, потом купили мороженого в павильоне «Белый медведь» возле кинотеатра «Енисей», новые ботинки в детском магазине «Пингвин» и порошки от головной боли в аптеке, которая называлась просто «Аптека». В этой «Аптеке» мы пришли к выводу, что «крестным отцом» Северного поселка был или какой-то морской волк, всю жизнь проплававший в арктических и антарктических водах, а под старость бросивший якорь в нашем городе, или человек необычайно последовательный и целеустремленный. Раз поселок Северный, значит, никакими другими частями света здесь и пахнуть не должно! И точка. Интересно, какое название он придумает для аптеки? «Полярная звезда» или «Тунгусский метеорит»?.. А может, так оставит? Без названия?
По дороге домой мы заглянули в 4-й переулок Лазарева и Беллинсгаузена. Был он узеньким — двум машинам не разойтись — и тихим, со старыми дуплистыми липами вдоль скрипучих дощатых тротуаров — сквозь щели выбивались зеленые чубчики травы. В палисадниках перед деревянными домиками буйно цвели мальвы, георгины, сквозь кусты сирени не разглядеть было окон. Казалось, этот переулок перенесли сюда из какой-то сказки, со сцены театра, что ли, и отгородили невидимой стеной от всего остального мира, так был он непохож на все, что мы до сих пор увидели на Северном поселке. Только телевизионные антенны над крышами были одинаковыми и там и тут. Последний целиком сохранившийся уголок старой Слепни…
Мы прошли немного вглубь. У невысокого забора на лавочке дремал старик. Несмотря на жару, старик был в потёртой зимней шапке и толсто подшитых рыжих валенках. Услышав наши шаги, он открыл глаза и добродушно кивнул, словно старым знакомым.
Мы поздоровались, сели на нагретую скамейку, и я осторожно спросил:
— Дедушка, а почему ваш переулок так называется — Лазарева и Беллинсгаузена? Как он раньше назывался?
— Раней? — Дед пожевал ввалившимися губами и полез в карман за куревом. — Раней он, сынок, Липовым прозывался. Вишь, липы какие! Лет по сто, а то и болей. А перехристили, чтоб, значит, не забывали хороших людей, Лазарева и этого самого… Белисгазена. Про него я тебе, к примеру, ничего не скажу, такого не ведал, брехать не буду, а вот товарищ Лазарев, Петр Егорыч, правильный был мужик. Отсюдова родом, со Слепни. Мы в империалистицкую разом службу служили, а как вышла революция, Петр Егорыч всем нашим полком комиссарил. Под Перекопом голову сложил, вечная ему память.
Мы с отцом молча переглянулись. Старик перехватил мой взгляд и насупился.
— Не веришь? Вот и внуки мои не верють. Смеются над старым. Это, говорят, мореплаватели такие были, в их честь, мол… Выходит, красный комиссар Петр Егорыч Лазарев, который за Советскую власть голову сложил, недостойный, чтоб его именем какой-то переулок назывался?! Да я самую лучшую улицу Лазаревской прозвал бы! А то придумают — прошпект «Роза ветров»… Тьфу, чтоб ты провалилась!
Старик сплюнул себе под ноги и, шаркая валенками, ушел во двор.
Эх, встречусь я когда-нибудь с его внуками, я им задам историю с географией. Будут знать, как над таким мировецким дедом смеяться!
И вновь мы шагали по нашему слишком уж «Северному» поселку, и я думал, что, будь моя воля, уже сегодня сделал бы так, как говорил дед. Переименовал бы ну хоть вот эту, зеленую и прямую, как стрела, Таймырскую в улицу красного комиссара Петра Егорыча Лазарева и доску такую повесил, чтоб с тем, с другим Лазаревым, не путали, хотя я его, конечно, тоже очень уважаю. Все-таки человек Антарктиду открыл, не шуточка. Но родился-то он не здесь, не в бывшей Слепне, которая вот-вот начисто исчезнет с лица земли, и Перекопа он не брал. Куда там Антарктиде с Перекопом равняться! Ну, а что от этого наш «север» чуть-чуть «потеплеет», так ведь ничего страшного не произойдет. Правда?
Видно, встреча со стариком растревожила и отца. Когда мы вернулись домой, он сказал:
— Такие пироги, Тима, давай мы про этого деда и его комиссара в райисполком напишем. Вон сколько новых улиц строится, скоро для них «северных» слов не хватит.
И мы написали. А через неделю получили ответ. Что-то в таком роде, что, мол, нецелесообразно дублировать названия улиц, а то от этого проистекает одна путаница и неудобство для почтальонов.
Такие пироги, как говорит отец.
НЕМНОГО О ПРОШЛОМ
На Северный поселок мы переехали примерно через год после того, как умерла мама. Отцу долго не удавалось обменять нашу старую квартиру, а оставаться в ней мы не хотели. Слишком уж плохо нам жилось в этой квартире в последнее время. Куда ни ткнешься, все напоминает о маме. Зажжешь газ, чаю согреть — тут она стряпала, а вмятинка на краю стола — это след от мясорубки. Сколько раз просила: «Тима, сынок, перекрути мясо, котлет нажарю». А я — ломоть в руки и — дёру на улицу. Эх, дурак, дурак, трудно было тебе помочь ей, да? Сейчас, кажется, день и ночь эту машинку крутил бы, да никто не попросит… Или выйдешь на балкон — в этих ящиках мама цветы сажала. Летом оплетет фасоль весь наш балкон, аж до четвертого этажа по веревочкам взберется; жара, а у нас — тень, пчелы гудят… А я в цветах ничего не смыслю, отец тоже; вот и торчат эти ящики пустые, как бельмо на глазу.
А вон в том углу мы с мамой ставили елку. Новый год был у нас самым главным праздником: мамин день рождения. Мама пекла пироги — ух, вкусные! — а мы с папой ей подарки готовили да под руками вертелись, особенно я. Теперь ничего этого нет — ни мамы, ни елки, — не ставим мы больше с отцом елку. Правда, пироги случаются, тетка Горислава, папина сестра, иногда приносит, но что это за пироги… Их с мамиными даже сравнивать нельзя.
Я долго не мог привыкнуть открывать дверь своим ключом. Прибежишь из школы и к звонку: дзынь, дзыиь! Открывай, мама, есть хочется! И вдруг словно громом тебя ударит и ты похолодеешь весь: да там же нет никого, дома! Хоть на весь мир звони, никто не откроет! И так жутко станет, что вылетишь на улицу и слоняешься, пока отец не придет с работы, только бы одному в пустой квартире не быть.
Отчетливо, будто вчера это случилось, помню, как маму привезли из больницы, как тетка Горислава зачем-то обтягивала наше зеркало черной материей. Кусок был мал, материя трещала под теткиными короткими толстыми пальцами, и нестерпимо блестело на черном ее золотое кольцо. В квартире толпились соседи. Мужчины вздыхали и мяли в руках шапки, женщины плакали… А я забился в ванную, натянул на голову старое пальто и заткнул пальцами уши, чтоб ничего не видеть и не слышать. Я знал, что люди умирают, что миллионы людей погибли на войне, но никогда не задумывался над этим. Мама казалась мне вечной, как солнце, как река, как я сам. И вдруг я понял, что на земле нет ничего вечного, что я тоже когда-нибудь умру, и это было так бессмысленно и страшно, что мне захотелось умереть сейчас же, немедленно, чтобы не видеть маминого заостренного, какого-то чужого лица и сложенных на груди желтых рук. Зачем жить, если все равно тебя где-то подкарауливает смерть, и тебя, и самых лучших на свете людей, таких, как моя мама, и какого-нибудь бывшего эсэсовца, и никто, никто не сможет от нее отвертеться!..
Не знаю, что я с собой сделал бы, если б не отец. Он зашел в ванную, опустился рядом на пол, мы оба накрылись с головой моим пальто и сидели, прижавшись друг к другу, долго-долго. Он ничего не говорил, только дышал часто и тяжело, как загнанная лошадь, и я чувствовал, что у него вздрагивают плечи. И мне так жалко его стало, и его, и себя, и всех, что я заплакал. Заплакал навзрыд, задыхаясь под душной теснотой пальто, потому что это страшно несправедливо, когда умирают люди, когда умирает мама, а тебе всего двенадцать, и ты не знаешь, как без нее прожить даже день…
Потом в ванную зашла тетка Горислава. Она сдернула с нас пальто и сердито прошипела:
— Глеб, это неприлично. Ты должен принимать соболезнования. Ивановы принесли такой красивый венок…
— Иди ты к черту вместе с ними, — хрипло выдохнул отец.
Мама терпеть не могла этих Ивановых, лучших теткиных приятелей, — и тетка выскочила из ванной, громко хлопнув дверью. Отец еще немножко посидел и тоже вышел, больно сжав мое плечо. Я очень боялся, что сейчас он произнесет какие-нибудь деревянные слова насчет того, что надо держаться, надо быть мужчиной, но он промолчал, и я буду всю жизнь благодарен ему за это.
После похорон отец уговорил меня пожить у тетки Гориславы.
— Квартира у нее большая, своих детей нету, тихо-спокойно… Она за тобой знаешь как смотреть будет! И постирает, и заштопает, и накормит вкусно. А главное — не будет так одиноко, Тима, такие пироги. Я к вам каждый вечер заходить буду, хоть на душе спокойнее станет, что ты присмотрен. А что она немного нудная, так не обращай на это внимания, она ведь тебя любит… Все-таки не чужой человек.
Я поддался на эти уговоры, меня тогда чему хочешь уговорить можно было, но уже через неделю здорово об этом пожалел. Потому что в большой теткиной квартире хорошо жилось только немецкой полированной мебели. Она холила свои шкафы, секретеры и серванты, словно маленьких детей: натирала их всякими пастами, прикрывала чехлами и кружевными салфетками, осторожно снимала пыль специальными байковыми тряпочками. Стоило мне невзначай облокотиться на какую-нибудь тумбу, как тетка менялась в лице, — это ж может помутнеть полировка! У нее было два глубоких мягких кресла и чертова дюжина стульев, но сидели мы на табуретках; на стулья в особо торжественных случаях усаживали гостей. Уроки я делал на кухне, но и там она подстилала на стол по три газеты, чтоб, не дай бог, на пластик не капнули чернила.
Она так и ходила за мной с тряпкой, как за шкодливым котом, и я чувствовал, что если поживу здесь подольше, то однажды не выдержу: возьму молоток — и от всего этого музейного великолепия только щепки полетят.
Как-то я простудился, и ко мне пришли ребята из нашего класса. Они не знали, что у нас нужно разуваться у порога, потому что польский лак для паркета — это «ужасный дефицит», и ввалились в комнату прямо в ботинках. Они бесцеремонно подтащили к моей тахте стулья и кресла, и мы весело болтали, пока тетка не пришла с работы: она работала бухгалтером в каком-то строительном тресте. Увидев ребят, тетка остолбенела. Я подумал, что она сейчас раскричится на весь дом, но вместо этого она вдруг… улыбнулась.
— К нашему Тимочке ребятки пришли… — Голос у тетки был мягким и ласковым, а пальцы торопливо и зло мяли ремешок сумочки. — Какие хорошие, сознательные ребятки… Такие никогда не бросят товарища в беде, правду я говорю? — «Ребятки» побагровели и уныло повесили головы. — Я очень рада, Тимочка, что у тебя такие замечательные друзья. Только почему вас так мало? Раз, два, три… всего восемь. Вы в следующий раз всем классом приходите. Это ничего, что вы натопчете, я потом приберу, мне ведь не привыкать — убирать…
— Тим, мы, пожалуй, пойдем, — тихонько сказала Натка — от обиды у нее задрожали губы.
— Обождите меня на дворе, я пойду с вами, только оденусь…
Ребята гуськом потянулись в коридор. Не попадая руками в рукава рубашки, я начал торопливо одеваться. Тетка бросила сумочку в кресло и накинулась на меня:
— Ты куда? С ума сошел, а?! У тебя температура, сейчас же ляг в постель!
Я молча рванул рубашку так, что посыпались пуговицы. Тогда тетка заплакала.
— Ну и уходи, уходи… Ты злой, неблагодарный человек. Я из кожи лезла, чтоб тебе было хорошо, чтобы ты научился любить и ценить красивые вещи, а ты… Тебе ничего не дорого! Даже не предложил этой орде разуться! Правду говорят: какая матка, такое и дитятко…
Я сглотнул слюну и поднял голову. Она стояла посреди комнаты, прижимая руки к груди, — чем-то неуловимо похожая на папу: то ли мягким овалом лица и большими синими глазами, то ли вот этим жестом — он тоже прижимал руки к груди, когда волновался, и я, ни к селу ни к городу, подумал, что наверно, вот так она стояла и тогда, когда от нее ушел муж, дядя Сережа, и говорила ему такие же обидные и подлые слова.
Не зашнуровав ботинки, я выбежал на улицу. Что с того, что она родная папина сестра и они одинаково прижимают к груди руки, когда волнуются? Все равно — она похожа на отца, как банное мыло на реактивный самолет!
Отец был дома. Увидев меня, расхристанного, взлохмаченного, он испугался, а когда я все рассказал ему, долго сидел за столом, обхватив руками голову. Потом негромко проговорил:
— Ладно, Тима, будем жить одни. Как сумеем, так и проживем. Ложись в постель, я врача вызову, ты весь горишь…
Мой отец — человек очень добрый, но слабохарактерный. Тетка Горислава не раз говорила ему: «Если б тебе мой характер, ты бы горы свернул!» Но он посмеивался и отвечал, что не собирается сворачивать горы, потому что от этого бывают землетрясения.
Я не вникал в их разговоры; пока жила мама, мне не было до этого никакого дела. Я любил своего отца, нам было хорошо и радостно с ним, а кому принес хоть капельку радости железобетонный характер тетки Гориславы?
Но вскоре после того, как я удрал от нее, я понял, что слабый характер — это плохо.
Мне тяжело об этом вспоминать, да тут уж ничего не сделаешь — я хочу во всем разобраться, а помочь некому. И вот что не дает мне покоя. Когда отцу было четырнадцать лет, гестаповцы за связь с партизанами замучили и расстреляли бабушку, его маму. Тогда он отвел Гориславу на хутор к дальним родственникам, а сам ушел в партизанский отряд. Он мог отсидеться на том хуторе до конца войны, но вместо этого чистил котлы на партизанской кухне, помогал ухаживать за ранеными, а потом стал разведчиком и связным. В шестнадцать его взяли в подрывники: у меня и теперь мурашки ползают по телу, когда отец начинает вспоминать, как они взрывали фашистские эшелоны. Значит, тогда у него не был слабый характер, слабохарактерные — трусы, а отца наградили орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу», пусть только кто-нибудь попробует сказать, что он трус! А потом, после войны… Ремесленное, вечерняя школа, завод, заочный институт… Помню, засыпаю — он сидит за чертежной доской, просыпаюсь — шуршит страницами учебника. И так — шесть лет подряд… Отец смеялся, что за это время я посмотрел куда больше фильмов, чем он; и правда, у него всегда не хватало времени, он зубрил какие-то немецкие глаголы, даже когда брился. Намылит щеки, а сам смотрит в бумажку — она возле зеркала кнопкой была приколота. А на кой черт, спрашивается, ему нужна была такая мука, он ведь и простым рабочим зарабатывал не мало! Разве мог слабохарактерный человек все это осилить? Это я — слабохарактерный, не получается задача — сдую у ребят, сам ни за что над ней биться не стану, а он-то ни у кого не сдувал! Так что, может, это вовсе и не слабохарактерность, что он запил после смерти матери, может, это что-то совсем другое?
Впрочем, как бы оно ни называлось, мне от этого было не легче.
Раньше я сроду не видел отца пьяным. Когда у нас собирались гости, он выпивал рюмку-другую и становился еще более веселым, оживленным, любил петь песни… Но чтоб он напился, как, например, напивался Бабуськин, наш сосед, мастер по ремонту холодильников, — этого я даже представить себе не мог.
Зимние вечера были длинными и тоскливыми. Пока жила мама, я и не предполагал, как тоскливы могут быть зимние вечера. Отец надумал перебрать нашего «Москвича». Особой нужды в этом не было. Машину мы купили лишь прошлым летом, когда он получил на заводе большую премию… И я понимал, что он просто хочет чем-то занять время. Правда, я обрадовался: вот уж когда изучу все как следует! Баранку крутить я уже немного умел, а вообще-то в шоферском деле ничего не смыслил.
Вот тогда я стал замечать, что отец все позже и позже приходит с работы. Спотыкаясь, он брел за мной в гараж, показывал, как устроено рулевое управление или водяной насос, но у него заплетался язык. Иногда, запнувшись на полуслове, он замолкал, прижимался щекой к рулю и плакал. Беззвучно, страшно, трясясь всем телом. Наплакавшись, он обнимал меня и, запинаясь, говорил:
— Такие пироги, Тима, такие пироги, сынок… — И от него несло водочным перегаром.
Ну что я мог с ним сделать?.. Тоже плакать? Уговаривать?
Плакал. Уговаривал.
А толку…
Вскоре мне надоело ходить в гараж — кому это нужно… Сидеть, ничего не делая, можно и дома. По крайней мере, тепло. Пропади она пропадом, та машина!..
Вначале отец стеснялся меня и дома не пил. Потом стал приносить водку домой. Он совсем перестал за собой следить. Я сам кое-как стирал ему сорочки и гладил костюмы, но он, казалось, не замечал этого; ходил в грязном и мятом, даже побриться забывал.
Однажды прибежала тетка Горислава — она не заглядывала к нам с тех пор, как я от нее ушел, — и со злорадством рассказала мне, что у отца неприятности на работе. Тетка дождалась его, долго и уныло пилила, а он смотрел куда-то в угол мутными трезвыми глазами и послушно кивал головой — жалкий, с грязновато-серой щетиной. Я чувствовал, что ее слова отскакивают от него, как от стенки горох.
Когда она наконец убралась, отец крепко потер руками виски и молча пошел на кухню. Достал откуда-то из-за буфета бутылку водки, отломал кусок хлеба и колбасы и присел к столу. Я взял второй стакан и сел напротив. Открыл бутылку, налил дополна ему, потом себе, приподнял стакан и сказал:
— Будь здоров!
Он оторвал от стола воспаленные глаза и с интересом посмотрел на меня, словно впервые увидел. Водка была холодная, но стакан обжигал мне пальцы, будто я держал раскаленный уголь. Я чувствовал — еще мгновение, и я его уроню. Но тут он вздрогнул, словно проснулся:
— Сейчас же поставь стакан! Ты что, ошалел?
— Ни капельки. — Я пожал плечами. — Будем пить вместе. Вместе веселее… К тому же я сегодня ничего не жрал, ты не оставил мне ни копейки на еду. Поехали, что ли, а то у меня от твоей колбасы слюнки текут.
Резким ударом отец выбил у меня из рук стакан, водка прыснула на стену, зазвенело разбитое стекло.
— Убью! — Он схватил меня за грудки и рванул так, что рубашка расползлась, будто бумажная. — Убью паразита!
Поднатужившись, я разжал его руки — он здорово сдал в последнее время, а главное, был еще совсем трезвый, и я ни капельки его не боялся.
— Пожадничал, да? — Я подобрал осколки покрупнее и бросил в помойное ведро. — Побоялся, что тебе мало останется?
Отец вытер со лба пот, подергал засаленный галстук — на шее у него кручеными веревками набрякли жилы — и глухо сказал:
— Тима, как ты со мной разговариваешь?
Но меня будто бешеная собака укусила.
— А как ты мне прикажешь с тобой разговаривать! — заорал я. — Как мне дальше жить, если мамы нету, а ты каждый день приходишь пьяный?! Ты будешь пить, и я буду, так и знай! Думаешь, я денег не достану? Украду, а достану. Пропадать, так с музыкой. Или в детский дом меня отдай, по крайней мере, буду знать, что ни матери у меня нет, ни отца!
Я выпалил все это ему в лицо, словно пулю за пулей всаживал в него, думая только об одном — чтоб не разреветься, иначе все пропало. Я смотрел ему прямо в глаза, и он первым отвел взгляд в сторону. Осторожно перелил водку из своего стакана в бутылку, взял ее двумя пальцами за горлышко и поставил в буфет.
— Ладно, хватит болтать. — Острый кадык вспарывал кожу на его горле, словно он никак не мог сглотнуть что-то вязкое. — Хватит болтать, когда-нибудь ты все это поймешь. Я любил маму больше всех на свете, это единственная женщина, понимаешь?.. Единственная! Больше нету и никогда не будет. Ты еще маленький, ты не понимаешь, что это такое: потерять самого любимого, самого верного человека. — Он отвернулся и втянул голову в плечи. — Я себе места не могу найти, Тима, будто все заледенело во мне. А напьюсь — и вроде оттаивает, и вроде легче становится. Хоть заснешь ночью…
— У меня ведь тоже не десять матерей было — одна… — Я стянул с себя порванную рубашку. — Одна-единственная, и больше никогда не будет… И я понимаю, что это такое: потерять самого дорогого человека, не такой я уж маленький, ты не думай… Я здорово вырос за это время, ты просто не заметил.
Отец задумчиво катал в руках хлебный шарик.
— А ты и впрямь вырос, — наконец сказал он. — Я действительно этого просто не заметил. Прости меня, Тима…
Ночью меня разбудил какой-то шорох. Я чуток приоткрыл глаза и увидел отца. Он подошел к моей кровати, сел и тихонько погладил меня по голове. Рука у него была горячая и влажная, и мне захотелось прижаться к ней щекой, но я сдержался и притворился, что сплю. Он сидел возле меня долго, пока не рассвело. Я заснул, а когда проснулся, он уже собирался на работу: до синевы выбритый, в отглаженном костюме и начищенных туфлях, подтянутый и строгий, как при маме. Только лицо у него было каким-то помятым и глаза красными, воспаленными, — наверно, от бессонной ночи.
С тех пор я каждый вечер поджидал его у заводской проходной. Мы вместе шли домой, обедали, а затем отправлялись то в кино, то на каток, то снова в гараж. А по воскресеньям уезжали за город на лыжах.
Больше я отца пьяным не видел. Та бутылка так и стояла в буфете, пока я ее однажды не выкинул. Но иногда на него находила такая тоска, что было страшно смотреть. Он метался из угла в угол, трогал всякие безделушки, перебирал старые мамины фотокарточки, какие-то полуистлевшие письма… Как загипнотизированный, часами смотрел в одну точку. И глаза у него становились мутными, будто он силился увидеть что-то далекое-далекое…
Но все это было еще на старой квартире. А как раз к тому времени, когда я закончил шестой класс, мы переехали на улицу Арктическую. Там я и открыл для себя Северный поселок.
НАШ ДВОР. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Это только скучные люди считают двор обыкновенным куском земли между домами. Для таких людей все дворы одинаковы. Один побольше, другой поменьше, на одном растут яблони, на другом — тополя, тут есть беседки для забивания «козла», зато там оборудованы спортивная площадка и песочницы для малышей… А вообще, какая разница! И не знают они, эти скучные люди, что дворы отличаются друг от друга больше, чем боровики от мухоморов. Ведь каждый — это целая страна, маленькая, но независимая и свободолюбивая. Как всякая страна, двор имеет свои границы, бдительно охраняемые от врагов, свои законы и порядки, которые никто не вправе переступить, если не хочет за это поплатиться. В ней живут свои герои — об их подвигах сочиняют легенды! — и свои трусы, которых все презирают, свои работяги и тунеядцы, задиры, фантазеры, чемпионы и даже те, о ком говорят: «Ни рыба ни мясо». Дворами управляют свои вожаки, одними — сильные, другими — умные, а иногда их с треском свергают и назначают новых. Без никакого обсуждения и голосования. Просто так. Я и сам толком не понимаю, как получается, что вчерашний вожак, которому никто слова поперек не решался сказать, вдруг становится нулем без палочки.
Свой старый двор на Комсомольской я знал куда лучше, чем правописание безударных гласных. Я был его подданным с тех пор, как начал что-то соображать, и к шестому классу чувствовал себя в нем как рыба в воде. Но он остался далеко, на противоположном конце города. Теперь мне предстояло принять другое подданство, жить совсем в другой стране.
И я стал внимательно и настороженно присматриваться к «аборигенам».
Наш новый двор имел форму квадрата, его очерчивали четыре длинных стоквартирных дома. Один выходил фасадом на Арктическую, другой — на Полярную, третий — на разрытый пустырь: там строили новый корпус завода электроприборов. Сам завод тянулся на добрых полкилометра справа, сверкая стеклянными стенами цехов; с юго-запада к нему подходила железнодорожная ветка. Время от времени на ней появлялся игрушечный тепловозик с несколькими вагонами и платформами и свистел простуженным свистком, пока перед ним не распахивали железные ворота. Четвертый дом, тот, в котором жили мы, пялился окнами на молодой парк, в глубине которого белел заводской Дворец культуры с бетонным козырьком над главным входом.
Спланирован наш двор очень просто. Под окнами — узкая лента цветников, кусты, тоненькие тополя, выщербленный зеленый штакетник. Вкруговую — асфальтовая дорожка с выходом на Арктическую и Полярную. За ней, островком, те самые яблони, вишни и груша, о которых я уже говорил, правее — детская площадка с песочницами, беседкой, тремя поломанными качелями и горкой, на которой протирают штаны малыши. В восточном углу лепятся три металлических гаража (средний наш), перед ними — ровная выбитая площадка. Для футбола маловата, но побегать за мячом можно. Вот, пожалуй, и все.
Первый, с кем я познакомился, был Витька Крысевич.
Я стоял в очереди за молоком, когда к прилавку вдруг протиснулся какой-то рыжий лохматый паренек в расстегнутой клетчатой ковбойке с закатанными рукавами, прямо перед моим носом сунул продавщице чек и бидон и проникновенным голосом сказал:
— Тетенька, поскорее, пожалуйста, а то мне завтра в кино, так я вчера на поезд опоздаю… Скорее-е-е…
Продавщица с удивлением посмотрела на него, налила три литра молока и только тогда громко расхохоталась. Вслед за ней рассмеялась оцепеневшая от такого веселого нахальства очередь. Но рыжий уже подхватил свой бидон и, даже не улыбнувшись, с достоинством направился к выходу.
Я догнал его, мы пошли рядом. Вдруг он крутнул головой, будто хотел меня боднуть, и озорно подмигнул. У него были разноцветные глаза: левый серый, а правый голубой.
— Ловко я ее?
— Ловко, — улыбнулся я. — Мне на самом деле показалось, что ты на поезд опаздываешь.
— Всем так кажется. — Он перекинул бидон в левую руку, и молоко плеснуло ему на линялые техасы — когда-то, похоже, они были черными. — Дай-ка мне лучше в зубы, чтоб дым пошел.
— Что-о? — Я вытаращился, точь-в-точь как та продавщица.
— Закурить дай, что-о… — передразнил он. — Эх ты, темнота!
— А ты рыжий и конопатый, — обиделся я: скулы у мальчишки были усыпаны крупными веснушками.
— За рыжую волосину дают литр керосину, а за каждую веснушку — самолет, ружье и пушку, — ловко отфутболил он. — Вот тресну тебя сейчас по кумполу, станешь зеленым в фиолетовую полосочку.
Я смерил его глазами: мы были одинакового роста, правда, он пошире в плечах, поплотней, но ничего, голыми руками меня не возьмешь.
— Попробуй!
— А чего пробовать? Тресну и — привет от рваных штиблет. Меня Виктором зовут, а тебя?
— Тимкой, — вконец растерялся я. Ну и человек! То драться собирается, то знакомится. — Тимофеем.
— Значит, Тимох! — Витькина физиономия аж залоснилась от удовольствия. — Тимох, Тимох посеял горох, сел на порог и ловит блох! — заорал он на весь двор, подпрыгивая и кривляясь. — Ох, Тимох, слопал целый пирог, залез в сапог, полежал и сдох!
— А ты, оказывается, поэт, — с деланным безразличием произнес я — глупые частушки задели меня за живое.
— Я, брат, все, что хочешь: и швец, и жнец, и в дуду грец! — Витька шмыгнул облупленным носом и далеко цвыркнул сквозь редкие зубы. — Тимох, а, Тимох, это вы в квартиру старой Ковалихи переехали?
Я остановился и поставил бидон с молоком на траву.
— Ну, мы. А если ты еще раз меня так назовешь, будем драться.
— Вот тебе раз! — искренне удивился Витька. — На дразнилки одни только дураки обижаются. Ты что, дурак, да?
Я не выдержал и рассмеялся.
— Значит, не совсем дурак, — удовлетворенно заметил он. — Меня, например, хоть горшком называй, только в печь не ставь. Зеленая лайба — это ваша?
У меня опять вытянулось лицо — нет, с ним просто невозможно разговаривать!
— Ну, машина! «Москвич». — Витька подфутболил порванной кедой камень и запрыгал на одной ноге. — Уй, машина-паровоз, айн кабина, цвай колёс! Нет, Тимох, ты не темный. Ты серый… Серый, как валенок! Совсем не понимаешь человеческого языка. Ничего, мы тебя просветлим…
Слова из этого рыжего клоуна сыпались, как пшеница из порванного мешка, но чувствовалось — он парень что надо, и я решил с ним не ссориться.
— А ты в ней что-нибудь кумекаешь, в машине? Баранку крутить умеешь?
— Учусь, — неопределенно ответил я. — А «Москвич» наш не зеленый. Называется — цвета морской волны.
Витька не обратил на мою поправку никакого внимания.
— А я ушами умею шевелить. Не веришь? Во, смотри!
Он надул, щеки и быстро-быстро зашевелил оттопыренными ушами.
Они у него тоже были облеплены веснушками, только меньшими, чем на скулах.
У меня, наверно, был довольно глупый вид, потому что Витька прыснул от удовольствия.
— Ты в какой класс перешел? В седьмой? И я в седьмой. Хочешь, будем вместе сидеть? Только ты в «А» записывайся, а то в «Б» одни зубрилки да подлизы. А в нашем — ничего народ: один плачет, другой скачет, третий песенки поет.
У него была какая-то потребность говорить в рифму. К месту, не к месту, лишь бы фраза получалась круглая и звонкая, как мяч.
— Идет, — согласился я, — запишусь в ваш, в «А». Если там еще хоть пара таких, как ты, с вами не соскучишься.
— Порядок в танковых частях! — Витька довольно улыбнулся. — А скучать я не люблю, это ты прав. Ну, я побег, а то мамка с меня шкуру сдерет и зонтик сошьет. Я в третьем подъезде живу, квартира 67-я. Заходи в гости, пиши письма, только не доплатные. Правда, заходи. Я тебя с Калерией-Кавалерией-Артиллерией познакомлю, с сестричкой своей. Вместе учиться будем, она тоже в седьмой перешла.
Последние слова он выкрикнул уже из своего подъезда. А минут через двадцать ворвался к нам и потащил меня во двор.
На площадке возле гаражей четверо ребят играли в деньги. Витька перехватил тяжелую свинцовую биту, поставил на кон пятак, отошел к черте и, почти не прицеливаясь, метнул. Бита попала прямо в столбик монет, и они разлетелись в разные стороны.
— Буц! — завистливо воскликнул мальчишка с длинными поповскими волосами: смешная челка лезла ему в глаза, и он то и дело дергал головой, как конь. — Тебя, Крыса, ни в какую игру нельзя принимать, в два счета облопошишь.
Витька собрал пятаки и небрежно сунул в карман.
— Не век же тебе над Казиком измываться, — насмешливо кинул он. — Любишь кататься, люби саночки возить. Знакомьтесь, братики-матросики, это новенький из 41-й квартиры. Тимкой зовут. А это, — он кивнул в сторону длинногривого, — Африкан-младший.
— Младший? — удивился я. — А что, есть еще и старший?
— Есть! — радостно завопил Витька. Казалось, он только и ждал этого вопроса. — Его папаша, Африкан Гермогенович Боровик. Между прочим, наш домоуправ, не кто-нибудь.
— Кончай! — Африкан-младший сжал кулаки.
— Уже кончил, — тут же согласился Витька. — Ну, ладно, ладно, не дуйся. Отдам я тебе твой поганый пятак, больно надо… Это — Казик-Хлеборезка. Если б он так играл в футбол, как решает задачки по алгебре, мы бы кубок «Кожаного мяча» завоевали, а так фигу с маслом, даже в районный финал не пролезли. Вон тот фитиль — Ростик. Полностью — Ростислав. «Расти и славься», значит. Вот он и вырос с коломенскую версту. Запросто в кино «Детям до шестнадцати…» ходит. А еще наш Ростик филателист, аквариумист, моделист, велосипедист…
— Мели, Емеля, твоя неделя, — лениво перебил его Ростик, дочерна загорелый, мосластый, в белой шелковой майке, шароварах и синих прорезиновых тапочках. — Вот бы к твоему языку моторчик приспособить, ты б, наверно, не меньше Братской ГЭС энергии вырабатывал.
Ребята захохотали, Витька — громче всех.
— Ну, про Братскую — это ты загнул. Что ни говори — крупнейшая в мире. Днепрогэс — другое дело? Кто там у нас остался? Ты, Жека? Жека, подай мальчику ручку. Не хочет, а! Не желает! Ладно, черт с тобой, грубиян невоспитанный. Вот и вся наша компания, Тимох.
— Что ж ты про Калерию-Холерию забыл? — Африкан подкинул биту, поймал и протянул мне. — Слышь, ты… Тимох. Сыграем, а? По пятачку или по гривенничку?
Я сразу скис и принялся вдумчиво изучать носки своих ботинок.
— На деньги не играю.
Я понимал, что отказ ставит меня перед ребятами в неловкое положение, но ничего не мог с этим поделать.
— Вот как? — Африкан пригладил свою пижонскую челку и повернулся к Витьке. — Зачем ты привел к нам этого маменькиного сынка? Отве…
— Моя мама умерла, — перебил я Африкана. — А отцу я дал слово, что не буду играть на деньги, и не буду.
— Слово дал! — широко усмехнулся Африкан. — Знаем мы эти штучки. Лучше скажи, что трусишь.
— Чего пристал к человеку? — примирительно сказал Жека. — Ты, Тим, не обращай на него внимания. Он на деньги жадный, оттого всех и уговаривает играть. Сколько ты сегодня выиграл, Таракан?
— Не твое дело. — Африкан дернул за козырек Жекиной кепки. — Больше, чем ты проиграл.
— Бросьте цапаться. — Ростик растолкал их. — Нашли из-за чего…
— Тогда пусть хоть стойку на турнике сделает, — не унимался Африкан. — Может, он и турника боится? Чего ж нам с таким гусем знаться…
Ребята как-то странно переглянулись.
Я вскипел.
— Стойку? Сейчас я тебе покажу стойку!
— А может, в другой раз? — неуверенно пробормотал Витька, но я уже повернулся и решительно пошел к турнику.
Турник был как турник, не очень высокий, с железной перекладиной. Правда, под ним стояла лужина, нужно было прыгать с разбегу и, соскакивая, следить, чтоб не угодить в воду. Я подумал, что именно здесь зарыта собака: Африкан, наверно, ждет, что я сорвусь. Не дождется, не на того напал! Не такие лужи перепрыгивали.
Я поплевал на руки, разбежался, подпрыгнул и… грохнулся вниз под оглушительный хохот, свист и мяуканье всей пятерки. В турнике была перепилена трубка, они, паразиты, вставили в нее тонкую палочку, чтоб держалась, вот в чем дело. А как я повис, она и хрустнула.
— Не злись, — сказал Витька, помогая мне выбраться из лужи. — Водяные процедуры закаляют организм и способствуют лучшему перевариванию пищи.
— Сам дурак! — Я мрачно растер на лице грязь и поплелся домой мыться, а они ржали мне вслед.
«РЫЖАЯ КОМАНДА» И ОСТАЛЬНЫЕ
Было самое начало июня, первые дни каникул. Солнце жгло так, что листья на тополях вдоль дорог пожухли и свернулись в трубочки. Деревья стояли серые от пыли. В нашем дворе спасали яблони — каждый вечер мы перетаскивали под них целый океан воды. Асфальт таял, словно мороженое, казалось, что тротуары больны оспой, так их истыкали острые женские каблуки. Небо будто выгорело: ни облачка, ни тучки аж до горизонта, одна только белесая синь да уже с самого восхода раскаленное, красное, как кирпич, солнце.
По утрам я забегал к Крысевичам.
Во дворе, за глаза, Крысевичей называли «рыжей командой». И на самом деле все они, как на подбор, были ну просто удивительно рыжие. Павел Петрович, Витькин отец, — червонно-рыжий, чуть ли не черный, Людмила Мироновна — огненно-рыжая, будто пламя костра, сам Витька — какой-то буровато-рыжий, Калерия — золотисто-рыжая, а маленький Вовка — просто рыже-рыжий. Все рыжие, и все конопатые, и все говорили в рифму, даже маленький Вовка. Едва я появлялся на пороге, он начинал молотить ложкой по столу и вопить во все горло:
— Лела-холела, встлецай кавалела! — Вовка не выговаривал буквы «р» и «ч».
Вначале я готов был от этих воплей сквозь землю провалиться, но потом привык, тем более что тут-то начиналось самое интересное. Лера немедленно хлопала Вовку по круглой толстой физиономии и заявляла:
— Замолчи, дурак, а то получишь еще не так!
Вовка кидался в рев. Из кухни выглядывала Людмила Мироновна и принималась наводить порядок:
— Тише, подшиванцы, батьку разбудите. Кому сказано — не вой… У человека выходной, а ему в родном доме покоя нету! Проходи, Тимочка, не обращай на этого беса внимания, поорет да перестанет.
— Не беса, а балбеса, — поправляла Калерия. — Бес-балбес, под кобылу подлез…
Но Вовка и не думал сдаваться.
— Зених и невеста — кислое тесто! — выкрикивал он, тараща на меня круглые, как пуговки, глаза. Букву «ж» этот розовый чумазый поросенок тоже не выговаривал.
Калерия награждала Вовку подзатыльником и убегала к матери на кухню. Витька падал на диван и катался от хохота.
— Цирк! — стонал он. — Фольклор! Устное народное творчество! Мам, а, мам, давайте этим летом выпускать стенгазету! Такие таланты пропадают, и никто о нас, бедных, не знает…
— Ты сначала научись диктовки без двоек писать, а потом будешь газеты выпускать! — из второй комнаты выходил заспанный Павел Петрович. Он весело подмигивал мне и потирал руки. — За вами разве что на кладбище отдохнешь, башибузуки несчастные. Что-то я проголодался, мать. Что есть в печи, все на стол мечи…
Я довольно скоро сообразил, что это у Крысевичей такая игра, и начал с удовольствием подыгрывать им. Ну конечно, игра. Вот тетка Горислава — она ведь тоже играет. Разве можно как-нибудь еще назвать ее беготню с тряпками вокруг своих шкафов, сервантов и пуфиков?! Правда, тетка Горислава играет в музей, где любая ерунда — это не ерунда, а экспонат, где все вещи спрятаны под стеклянными колпаками, и люди надевают на обувь тряпичные тапочки, чтоб не поцарапать какой-нибудь распрекрасный паркет, а рыжие Крысевичи играют в рифмы. Играют с удовольствием, подзадоривая друг друга, потому что они веселые и счастливые люди и им хочется, чтобы рядом с ними все были тоже веселыми и счастливыми.
А теткина игра нудная, тоскливая.
Потому что она сама такая.
Каждый играет в свою игру.
Но первое время я принимал все это за чистую монету и с ужасом пытался себе представить, как Павел Петрович выступает на профсоюзном собрании у себя в стройтресте — он маляр и председатель месткома, или Витька и Калерия отвечают уроки. Ну, историю и географию — это еще хоть с трудом, но понять можно. «На нас напал Наполеон, а мы его прогнали вон!» — Отечественная война 1812 года. «На Урале есть у нас нефть, руда, свинец и газ», — полезные ископаемые Уральского хребта. Но как быть с физикой, спряжением глаголов, геометрией? Ага, вспомнил: «Пифагоровы штаны во все стороны равны». Так, что ли?
Чепуха это все! Когда Крысевичи не играют, они разговаривают как обычные нормальные люди. Все. Даже маленький Вовка. Только иногда что-нибудь само собой срифмуется — по привычке…
Витька и Калерия — близнецы. Однако они очень разные, даже рыжи по-разному. И вообще, Витька плотный, коренастый, лицо у него круглое, как сковородка, и оттопыренные уши. Калерия же тоненькая и длинноногая, и глаза у нее вовсе не разноцветные, а зеленые, как трава. «Кошачьи глаза», — посмеивается Людмила Мироновна.
Собственно, Калерией ее никто не называет, даже мама. Зовут Лерой, Калей. Зато я не знаю ни одной девчонки, у которой было бы столько кличек. Основная: «Калерия-Кавалерия-Артиллерия». И дополнительные: «Холерия» и просто «Холера» или «Холела», как говорит Вовка. Правда, кроме Витьки и Вовки, ее почти никто не дразнит. Жека как-то рассказывал мне, что Лера дерется не хуже брата; однажды за «холеру» она так отлупила Казика, что он после этого ее по имени-отчеству называл. Соврал, наверно…
Прошла всего неделя, как я лягушкой шлепнулся с турника, и я держался настороже, опасаясь нового подвоха. Однако, то ли ребята пока ничего не придумали, то ли решили оставить меня в покое, молчаливо признав за своего, но больше никто меня не задевал. Видно, еще и потому, что я очень быстро подружился с Крысевичами — главными в этой компании заводилами.
Постепенно я узнал поближе и других: Казика, Жеку, Ростика и Африкана. Сейчас я обо всех о них немного расскажу.
Казик — добрейшее на свете существо; маленький, толстый, как кадушка, с пухлыми румяными щеками и узенькими щелками-глазами. Глядя на него, никогда не скажешь, что он уже перешел в седьмой класс, от силы — в пятый. У Казика вечно оттопыриваются карманы, набитые булками, бубликами, печеньем или просто кусками батона: совершенно фантастический у человека аппетит. Когда ни встретишь, обязательно что-нибудь жует. Из-за этого его и прозвали «Хлеборезкой». На кличку он не обижается, он вообще, кажется, не обижается ни на что и ни на кого, кроме своей мамы, которая от утра до ночи твердит о том, что ему надо похудеть. Заслышав разговор на эту тему, Казик начинает краснеть, пыхтеть и тут же старается куда-нибудь удрать.
Он очень любит малышей, и все малыши с нашего двора ходят за ним табуном. Казик рассказывает им сказки, мастерит деревянные пистолеты и делится своими неисчерпаемыми запасами булочек и пряников. Может, это потому, что он в семье один? Хотя нет, я ведь тоже один, а терпеть не могу возиться с малышами. Помню, назначили вожатым октябрят, так я от них на второй день сбежал. Просто Казик очень добродушный, вот в чем дело. И у нас им все командуют. А малыши сами подчиняются ему беспрекословно.
Родители Казика преподают русский и белорусский языки в электротехникуме. Их квартира похожа на библиотеку: книжные полки стоят даже в коридоре. Узнав, что я люблю читать, Казик затащил меня к себе. Я взял «Белое безмолвие» Джека Лондона. Хорошая книжка. А еще у них пропасть всяких приключенческих книг: Жюль Верн, Майн Рид, Беляев, Мавр, Ефремов… Они всем дают читать, не жалеют. Только Валентина Ивановна, мама Казика, просит, чтоб не рвали и не пачкали. Тут она, как скала: увидит, что измазал книгу, — больше не проси, не получишь.
С Жекой меня подружила машина. Дело в том, что Жекин отец собирается купить «Москвича», после работы он частенько заглядывает к нам в гараж потолковать с моим отцом. Сам Антон Александрович шофер, работает на пятитонном автокране. Раньше, в каникулы, он частенько брал Жеку с собой, чтоб не болтался во дворе без дела, рассказывал ему о разных машинах, давал подержать баранку. Наверно, поэтому Жека просто помешался на автомобилях. Он знает все марки автомашин и различает их по звуку мотора, как некоторые различают по голосам птиц. Любимая Жекина книга — «Автомобиль „Москвич“ модели 407. Конструкция и техническое обслуживание». Он таскает здоровенный замусоленный том на пляж и в лес и, по-моему, уже вызубрил его наизусть, как стихотворение. Не человек, а автомобильный справочник. Своими вопросами Жека даже моего отца иногда ставит в тупик, хотя он куда как хорошо машину знает, а обо мне уж и говорить нечего. Едва он открывает рот, я тут же поднимаю руки. Жека сердится и называет меня лоботрясом: как же, иметь свою машину и до сих пор не выучить ее назубок! Уж он-то бы…
С кем мне немного не по себе, так это с Ростиком. Ему тринадцать, как и мне. Ростик длинный — на голову выше любого из нас, худой, как «шкилет». Рубашка и шаровары висят на нем, словно на вешалке. Рядом с Ростиком можно пробыть целый день и не услышать от него даже десяти слов: насупится и молчит, будто воды в рот набрал.
Я думал, что он чем-то болен. Оказалось, ничего подобного — здоров, как бык. Однажды мы затеяли бороться, так он, шутя, припечатал нас к земле одного за другим, даже пикнуть никто не успел. Только с Африканом они разошлись вничью, но ведь Африкан на два года старше.
Меня смущал его взгляд, долгий пристальный взгляд, от которого я невольно оборачивался. Казалось, Ростик присматривается ко мне, старается понять, что я за птица. А согласитесь, это не очень приятно, когда тебя рассматривают, словно какую-то амебу под микроскопом: так и тянет сморозить что-нибудь глупое.
Куда быстрее, чем к Ростику, я привязался к его отцу. Дядю Костю знала и любила вся ребятня из нашего и соседних дворов: он продавал мороженое в стеклянной будочке возле магазина «Айсберг» Целыми днями он сидел в своей будочке, весело расхваливая эскимо, пломбир и молочное, и возле него всегда толпился народ. А за будочкой стояла коричневая инвалидная коляска — дяде Косте на фронте немецким снарядом оторвало обе ноги.
По утрам и вечерам Ростик, как аист, вышагивал за этой коляской, помогая отцу перебираться через рытвины и незасыпанные канавы: возле «Айсберга» заложили новый дом и перекопали все вокруг. Он отмыкал стеклянную будочку, и пока отец устраивался там на высоком табурете, выносил из магазина пакеты с мороженым, сухой лед, собирал и сжигал в большом жестяном ящике бумажки-обертки. Иногда, когда дяде Косте нужно было отлучиться, набросив на плечи белый халат, Ростик сам занимал его место и продавал мороженое, только никаких шуток-прибауток от него нельзя было услышать. Он деловито пересчитывал медяки, давал сдачу, выуживал из пакетов батончики, эскимо, пломбир, как всегда угрюмый и молчаливый, и мы старались в это время не подходить к будочке, потому что чувствовали: ему будет неприятно. Да и другие ребята, взяв мороженое, торопливо отходили, будто не покупали его, а крали. И лишь когда возвращался дядя Костя, возле стеклянной будочки вновь становилось весело и шумно.
В жаркие дни мы объедались мороженым чуть не до ангины, Ростик никогда не попробовал ни кусочка. Казалось, он ненавидит мороженое. А может, так оно и было на самом деле?
— Трудно ему, — уклончиво ответил Витька, когда я однажды спросил, почему Ростик всегда замкнутый и хмурый. — Очень он за отца переживает. Это дядя Костя на людях такой веселый, а дома бывает по-всякому…
Если мы все свои карманные деньги оставляли в будочке дяди Кости, то Ростик просаживал их в тире. А деньги у него бывали: отец частенько давал то полтинник, а то и рубль. И тогда Ростик отправлялся стрелять.
Тир устроили в старом автобусе возле кинотеатра «Енисей». Одна пулька стоила две копейки. Ростик сразу брал два-три десятка, становился за обитую железом стойку, широко расставив ноги, и прижимал к плечу отполированный приклад пневматической винтовки. А затем, побледнев от напряжения, он всаживал пулю за пулей всегда в одну и ту же мишень: толстомордого фашиста в болотном френче со свастикой и железным крестом. В тире было полно всяких интересных мишеней: игрушечные самолетики сбрасывали взрывавшиеся с треском бомбы, искусственные спутники после удачного выстрела вращались вокруг земли, прыгали звери и взлетали птицы, но Ростик стрелял в одного и того же фашиста, и когда фашист падал, перевертываясь кверху ногами, заведующий тиром, ставил его на место, потому что знал: никакие другие мишени Ростика не интересуют.
Он никогда не радовался меткому выстрелу и не огорчался, если случалось промазать. Он стрелял так же хмуро и сосредоточенно, как продавал вместо отца мороженое или гонял с нами на площадке мяч. Истратив все деньги, откладывал винтовку и уходил, и мы молча уходили вслед за ним.
Вот ты и попробуй подружиться с таким человеком…
То ли дело — Африкан! Этот — весь как на ладони. Едва увидев его в первый раз, я тут же понял, что Африкан — обыкновенный пижон, из тех пижонов, которые водятся в любом дворе. Все в нем было не настоящее, пижонское: и поповская грива под знаменитых «битлов», и гитара, обклеенная лакированными красотками, вырезанными из журналов, — он всюду таскал эту гитару с собой, хотя почти не умел играть, — и расклешенные внизу штаны с широченным поясом, и даже манера говорить, чуть картавя и растягивая слова.
Африкану было лет пятнадцать, в четвертом и шестом классах он сидел по два года и еле-еле переполз в седьмой.
Больше всего на свете он мечтал бросить школу и выучиться на мастера по ремонту телевизоров.
— Вот это, братцы, работенка! — захлебываясь, говорил Африкан. — Знаете, как они калымят! Ни один профессор столько не имеет. А что! Очень даже просто. Телевизор — машина сложная, а люди — лопухи, что они в этом деле понимают?! Он придет, поковыряется, проводок запаяет, а потом в квитанциях рисует, что себе хочет. Будто он там всю требуху перебрал. Пойди проверь! Или новую деталь вытащит, а старую — на ее место. А те, дураки, его благодарят, на радостях трояк лишний сунут. Так что чихал я на вашу науку, еще посмотрим, кто лучше жить будет.
— Как же ты без науки мастером станешь? — посмеивался Витька. — Телевизор — это ж физика, радиоэлектроника, а не просто трояки сшибать. А у тебя что по физике? Тройка с двумя минусами? Так что пустые твои мечты, Африкан. Ты лучше на гитаре научись играть прилично, в какой-нибудь оркестр запишешься. Говорят, гитаристы тоже ничего зарабатывают. Конечно, не так, как мастера по телевизорам, но подходяще.
Мы хохотали, а Африкан обиженно встряхивал гривой и уходил.
— Ну и тип! — удивленно таращил глаза Казик. — Вот бы сюда какого мастера телевизионного, чтоб ему за такие слова морду набил. А то он все человечество готов в подлецы записать.
Африкан очень заботился о своей внешности. Его страшно огорчало красное родимое пятно на левой щеке, похожее на растопыренную ладошку. Однажды он сказал мне, что нынешним летом поедет с отцом в Москву, и там ему сделают пластическую операцию.
— Зачем это тебе? — удивился я. — Ты и так писаный красавчик.
Африкан покраснел от удовольствия.
— Честно?
Я вспомнил, как шлепнулся из-за него в лужу под гогот всей компании, и с готовностью подхватил:
— Факт, честно! Ты знаешь, на кого похож? На Квазимодо. Только у него такой шикарной прически не было и гитары. Помнишь?
— Помню, — неуверенно ответил Африкан. По-моему, он вспомнил какого-то киноактера с похожей фамилией, только не героя романа Виктора Гюго, он и не слыхал, наверно, об этом романе. — Но без пятна будет еще лучше, правда ведь?
— Разумеется! — Я клятвенно прижал руки к груди. — Без пятна ты будешь похож на самого Полифема.
Африкан подергал себя за гривку — вот кто был серым, как валенок! — и смущенно пробормотал:
— И я так думаю. А вообще ты хороший парень, Тимох. Зря я на тебя взъелся. Дай лапу.
Я пожал его потную руку, и мне вдруг стало неприятно, что я так зло над ним пошутил. Но совесть грызла меня недолго. Через полчаса этой же рукой Африкан пребольно заехал мне в ухо: Лера подробно растолковала ему, что Квазимодо и Полифем вовсе не звезды американского кино.
Даже на речку Африкан ходил в шерстяных штанах, в белой шелковой рубашке с отложным воротничком и в желтых польских сандалетах, хотя все мы, от Леры до Казика, щеголяли в кедах, выгоревших ковбойках и тренировочных шароварах или техасах. Самое смешное, что и рубашка, и штаны у Африкана всегда были в жирных пятнах.
Ну, что еще можно сказать о таком человеке? Пижон, да и только.
АФРИКАН РАЗВЛЕКАЕТСЯ
Обычно, отправляясь на реку, мы брали с собой какой-нибудь еды. А потом складывали все кульки, и каждый ел, что хотел.
В тот раз, когда случилась вся эта история, Витька и Лера выпросили у мамы добрый кусок сала и с полведра картошки.
Не знаю, как вы, а я ничего на свете не едал, вкусней печеной бульбы и жареного на рожнах сала. Только вспомню — слюнки бегут. Вкуснятина…
До Березы было километра два с половиной — полчаса ходьбы. Серовато-синяя, еще не замутненная сточными водами, река огибала наш поселок плавной дугой, вся в зарослях верб и лозы, между которыми, как желтые заплаты, лежали песчаные пляжи. Левый берег был низким, плоским, далеко к самому горизонту тянулись вдоль него заливные лута, правый обрывался к воде крутыми глиняными террасами. Ласточки-береговушки источили эти террасы своими гнездами, со стороны казалось, будто на них развесили сушить огромную рыбачью сеть. На поверхность, словно сказочные змеи, выползали узловатые корни деревьев. Между ними били роднички с такой холодной водой, что от нее даже в самый знойный день начинали ныть зубы и деревянел, становился непослушным язык.
По реке деловито ползали буксиры, таская длинные плоты или толкая огромные баржи, груженные рудой, углем, минеральными удобрениями. Рядом с баржами буксиры выглядели козявками. Их рубки были выкрашены в ядовитый канареечный цвет, а над палубами трепыхало выстиранное белье или покачивались, вялясь на солнце, длинные вязанки рыбы.
Река расступалась перед баржами, перед грузовыми и пассажирскими теплоходами и обрушивала на берег высокие стеклянные валы воды. Они вдребезги разбивались о песок и звенящим потоком сбегали назад, а мы, отплыв подальше, раскачивались на волнах, как на качелях.
Все было хорошо, да только Витькин рюкзак с салом и картошкой не давал Казику покоя. Он все крутился на берегу, чмокал губами, а часов в одиннадцать не выдержал и заканючил:
— Братцы, пошли за хворостом. Кишки марш играют.
— Кишки марш играют, бульбы с салом желают! — эхом откликнулся Витька. Он весь зарылся в горячий песок, только вихры пламенели на макушке. — Потерпи, солнце высоко, до вечера далеко…
— А чего терпеть? — неожиданно поддержала Казика Лера. — Пока хвороста насобираем, пока картошка испечется… Вставайте, лежебоки!
Набрать на нашем берегу хвороста для хорошего костра было и впрямь не так-то просто. Рыбаки и всякий туристский люд уже давно прочесали все вокруг, подобрали каждую сухую веточку.
— Махнем на тот берег, — предложил Ростик. — Там хвороста — завались.
На правом, высоком берегу, за узкой полоской лозняка темнел густой сосновый бор.
— За морем телушка — полушка, да перевоз дорог, — засмеялся Жека. — Как мы его переправим? Лодки-то нету.
— Вплавь, — бросил Ростик, вытянул ремень из брюк и пошел к берегу: он уже, видно, израсходовал всю дневную норму слов.
Не скажу, чтобы предложение Ростика очень уж пришлось мне но вкусу. Река тут широкая, с сильным и быстрым течением, а я хотя и не плохо плаваю, но устал ведь уже. Вот сколько в воде барахтаемся! Подхватит, закрутит — поминай как звали!
Я неохотно приподнялся, раздумывая, что лучше: откровенно струсить или все-таки попробовать переплыть, но тут Африкан дернул меня за руку.
— Не ходи, я знаю, где можно набрать дров. Здесь близко. Пойдем вместе.
На воде дрожали солнечные блики, похожие на радужные мазутные пятна. Среди них, как поплавок, ныряла черная голова Ростика: он плыл брассом, делая ровные, мощные гребки. Витька, Лера, Казик и Жека тянулись за ним на саженках в облаке сверкающих брызг. Они заметно отставали. Но даже их я уже не догнал бы. Мне не очень хотелось идти с Африканом, но неудобно же валяться па пляже, когда все работают…
— Пошли, — я тоже вытянул из штанов ремешок, — показывай, где твои дрова.
Срезая дугу, мы двинулись напрямик к повороту. На Африкане были полосатые плавки и скрученное чалмой полотенце, шел он легко, быстро, я еле за ним поспевал. За поворотом берег еще больше понизился, и мы вышли на луг. Луг был кочковатый, болотистый, трапа вымахала такая, что мы спрятались в ней с головой. Над редкими купами лозы кружили белогрудые чибисы, где-то рядом надрывался дергач, от треска кузнечиков закладывало уши. Сухие желтые метелки щекотали кожу, обсыпали какой-то липкой пыльцой, вскоре от нее начало зудеть все тело. Неподвижный воздух был густым и приторно-сладким, будто мы попали на парфюмерную фабрику. Торфяная тропинка пружинила и проседала под ногами, ямки от следов наливались черной коломутной водой.
Постепенно становится суше, выходим на бугорок. Вдруг Африкан поднимает палец: тс-с! Еще несколько шагов — и за густыми кустами лозы я вижу полевой, вернее, луговой стан. На круглой вытоптанной площадке под двумя черными закопченными котлами дымит костер, невдалеке — какие-то ящики, наверно, с продуктами, цинковый блестящий бидон, пара ведер. Левее — навес: на березовые колья натянут большой кусок выгоревшего брезента; под навесом — сколоченные из обструганных досок стол и лавки, сосновые чурбачки. Горкой высится посуда, прикрытая полотняным полотенцем. Ближе к кустам, возле двух похожих на недометанные стога шалашей, стоит телега; пегая кобыла, привязанная за недоуздок к колесу, лениво отмахивается хвостом от надоедливых оводней. На стане ни души, только какая-то пичуга нахально прыгает по ящикам в поисках съестного.
— Вон дрова, видишь, — шепнул Африкан.
Аккуратно уложенная поленница виднелась справа от нас, кустами к ней можно подобраться вплотную, не рискуя быть замеченными.
— Еще чего придумал — дрова воровать, — разозлился я. — Пошли назад.
Африкан улыбнулся.
— Псих ненормальный, какое ж это воровство! Смотри, сколько у них — на месяц хватит. А тут работы на неделю, от силы на десять дней, я знаю. Все равно потом рыбаки растаскают.
Из дальнего от нас шалаша вышла пожилая женщина в белой, с синими горошинами косынке, завязанной узлом под подбородком. Подошла к котлам, приподняла крышку на одном, помешала поварешкой, попробовала, шумно дуя на варево. Подцепила на коромысло ведра и пошла к реке по воду.
— Давай, — подтолкнул меня Африкан. — Теперь в самый раз.
Отступать было некуда. Мы быстро набрали по охапке дров и потащили назад. Отойдя шагов десять, Африкан положил свои дрова на траву.
— Погоди минутку, я сейчас. — И исчез.
Ждать его я не стал. Правда, через несколько минут он меня догнал, веселый и запыхавшийся.
— Шире шаг!
Мы уже были недалеко от своих, когда повстречались с белобрысым мальчонкой, чуть побольше Витькиного Вовки. Он тащил ореховые удочки и ведерко, в ведерке плескалось с десяток плотичек и окуньков и ладный, граммов на четыреста, голавль.
— На что ловил? — полюбопытствовал Африкан.
— На кузнечика, — шмыгнул носом мальчонка и покраснел от удовольствия.
Ребята встретили нас веселыми воплями. Они приволокли груду хвороста и несколько жердей, но их добыча даже в сравнение не шла с нашей. Хворост что — пшик! — и сгорел. А чтобы испечь как следует картошку, дрова нужны, жар.
— Где достали? — Витька тут же принялся сдирать кору со звонкого березового полешка.
— На кудыкиной горе, — подмигнул мне Африкан. — Где достали, там уже нету.
— На сенокосе украли, — проворчал Ростик, — обормоты… — Оказывается, у него еще было в запасе четыре слова.
Витька занялся костром, а мы с Африканом помчались купаться. Обжигающе-холодной показалась мне после душного лугового пекла вода, я яростно растирался песком, чтоб смыть желтую пыльцу и липкие крошки коры, а потом с разбегу нырял прямо в солнце, покачивавшееся на легкой ряби у берега, и, наверно, купался бы, пока не поспеет картошка, если б не услышал Лерин голос:
— Эй, ребята, сюда-а! — размахивала она косынкой. — Скорее!
Я обернулся, и у меня стало сухо во рту. Возле нашего костра стояла та самая женщина в белой, с синими горошинами косынке. За руку она держала мальчонку-рыболова.
Первая мысль, какая пришла мне в голову, — удрать. Выйти на берег и рвануть, чтоб ветер в ушах засвистел. Но я тут же понял, что ничего из этого не получится. Во-первых, там одежда, а во-вторых, почему из-за меня должен отдуваться один Африкан? Крали-то дрова: вместе… Да и в конце концов не такое уж мы преступление совершили, чтоб удирать. Вот ведь жадина эта тетка, из-за двух охапок дров в такую даль по жаре тащиться не поленилась!
— Это они, бабушка, они! — крикнул рыболов, едва мы вылезли из воды. — Я их своими глазами видел!
— Ах вы, сукины дети! — накинулась на нас женщина. — Где ж ваша совесть! Ну, дрова покрали, так уж черт с вами, если у вас ручки-ножки поотсыхали, чтоб всякого ломачья насобирать. А зачем же вы мне весь обед загубили?! Скоро ж косари придут, чем я их кормить буду? Жеребцы вы, тунеядцы несчастные, сами вон какие ряжки нажрали да на песочке прохлаждаетесь, а люди работают, аж с них по десять потов сходит, да из-за вас еще и голодными останутся…
— Какой обед? — растерялся я и посмотрел на Африкана. Он заботливо расчесывал свою гриву, будто все это его совершенно не касалось. — Что такое?
— Да кто его знает, — наконец ухмыльнулся он. — У нее там что-то подгорело или выкипело, наверное, а она на нас свалить хочет.
— Это у меня подгорело?! — Женщина уперла руки в бока и пошла на Африкана, как танк. Он благоразумно попятился. — Это у меня выкипело?! Ах ты, собачьи твои глаза… Да я тебя сей же час…
— Стоп, стоп, тетка! — закричал Африкан, подхватив гитару и заслоняясь ею, как щитом. — Ишь, расходилась…
— Тетенька, а что они сделали? — осторожно спросила Лера.
— Что сделали? — резко повернулась к ней тетка. — В котел с картошкой тушеной бутылку уксусной эссенции вылили и две пачки сахара всыпали, вот что. Все варево испоганили, в рот не возьмешь.
От изумления у меня отнялся язык, я даже слова не мог выговорить. А Африкан спокойно жмурился на солнце и дергал струны гитары. Ах, как мне вдруг захотелось трахнуть его этой гитарой но голове!..
— Ребята, — наконец выдавил я, — поверьте…
— Это тебе-то верить!.. — Женщина сдернула с головы косынку, волосы у нее были черные, с седыми прядями. — Пошли, Митенька, что с ними разговоры разговаривать…
— Погодите! — закричала Лера. — Погодите! У нас есть картошка. И сало. Может, еще не поздно что-нибудь приготовить? Правда, у нас маловато…
— Хватает у нас и картошки, и сала. — Повариха вытерла косынкой раскрасневшееся лицо. — Да только когда ты что теперь сготовишь? Вон уже где солнце, пока соберешься, ужинать пора — не обедать…
— Мы вам начистим целый воз картошки! — загорелась Лера. — Правда, ребята?! Вы нам только ножи дайте, у нас свои всего два. Нас семеро, да вы, да Митенька… Пока будем чистить, вода закипит. В кипяток опустим — раз! — и готово.
— А им что — так и обойдется? — непреклонно спросила повариха. — Это ж котел картошки с мясом — коту под хвост… И главное — за что?
— Не обойдется, — пообещала Лера и так глянула на меня, что я съежился. — Мы с них за это шкуру спустим. Потом. Сами.
— Ну, что ж, — повариха пригладила на макушке у мальчонки вихор, — ваши нашкодничали, вы и помогайте. Нельзя в сенокос людей на сухомятке держать, ног не потянут.
— Пошли, — вздохнул Витька. — Все на фронт! — Он сгреб в охапку рюкзак и одежду. — За мной, братики-матросики! Впере-е-ед!
На пляже остались только я, Африкан и Ростик. Ростик засыпал песком костер.
— Чего стоите? — буркнул он. — Догоняйте. Да дрова прихватите, шпана несчастная…
Я даже не подивился такому красноречию — не до того. Значит, Ростик считает и меня виноватым?! Нет, такого я стерпеть не могу. Я подошел к Африкану и изо всей силы стукнул его по физиономии. Он тут же дал мне сдачи, и мы покатились по песку.
Ростик кое-как растащил нас, наградив обоих увесистыми тумаками.
— Свинья ты, — тяжело дыша, сказал я Африкану. — Я думал, ты просто пижон, а ты грязная, бессовестная свинья.
— Лопух, — ухмыльнулся Африкан, облизывая разбитую губу. — Все вы лопухи. — Он подобрал отлетевшую в сторону гитару, заботливо сдул с нее песок и легонько тронул струны. — Подумаешь, уже и пошутить нельзя! Представляю, как она скривилась, когда попробовала эту картошку! Ха-ха-ха!
— За такие шутки людей нужно убивать на месте из рогатки… — Ростик закинул за плечо свой рюкзак и набрал охапку дров. — Пошли, Тим, разве ж это человек!..
И я поплелся за ним к костру.
…Мы чистили картошку в четырнадцать рук, не разгибаясь, а маленький Митя подкладывал в костер дрова. Бежали и бежали веселыми серпантинами очистки, с глухим стуком падали в ведро картофелины, солнечные зайчики прыгали на влажных лезвиях ножей. Жарило солнце, звенели кузнечики, пахло подсыхающей травой, от костра тянуло горьковатым дымком. А на душе у меня было погано-погано. Я все думал и не мог понять, зачем он так поступил. Специально ведь вернулся, не поленился вернуться, чтобы навредить людям, которые не сделали ему ничего плохого. Зачем?..
Я отложил нож и недочищенную картофелину.
— Ребята, честное слово, я даже не видел, когда он это сделал, я отошел с дровами… Клянусь вам, если б я мог подумать, я не пустил бы его. Ну, поверьте…
— А чего не поверить? — Витька сосредоточенно выковыривал в картофелине глазки. — Будто мы этого Таракана не знаем… будто впервой он нас под монастырь подводит… Ну да ничего, теперь мы с ним за все рассчитаемся. — Витька взмахнул ножом, как саблей, словно показывая, как мы рассчитаемся с Африканом. — Поднажмите, братцы, мало осталось. — И пронзительно — наверное, в городе было слышно! — запел:
Эх, картошка, объеденье-денье-денье,
Пионеров идеал-ал-ал.
Тот не знает наслажденья-денья-денья,
Кто картошки не едал-дал-дал!
Мы начистили полный котел картошки, помогли перемыть, поднесли дров и воды и ушли, хотя оттаявшая повариха долго уговаривала нас остаться пообедать с косцами. Почему-то всем расхотелось есть, даже Казику.
ТАИНСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Я спускаюсь в подвал, нащупывая ногами ступеньки, и в душе ругаю себя за то, что не сообразил захватить фонарик или, на худой конец, коробок спичек, хотя запросто мог догадаться, что они мне понадобятся. Темно, хоть ты глаз выколи, а я не совсем уверен, что не нарвусь на какую-нибудь провокацию.
На тринадцатой ступеньке лестница кончается. Я поворачиваюсь направо, выставив вперед руки, делаю два коротких шажка и упираюсь в обитую железом дверь.
Пока все сходится с таинственным письмом, которое я получил сегодня утром. Прибыло оно довольно необычным способом: я читал на тахте, когда в открытую балконную дверь влетел камень, вдребезги разбил лампочку — хорошо, что мы с отцом еще люстрой не обзавелись, вот был бы номер! — и шлепнулся на пол. Камень был обернут листком бумаги в клеточку. Развернув ее, я увидел следующее послание:
«Шифровка, — догадался я и прикусил от любопытства кончик языка. — Сейчас разберемся, что в ней написано!»
Я очень люблю всякие ребусы и головоломки. Заразился я этим от отца: он может целый вечер рыться в словарях и энциклопедиях, отыскивая какую-нибудь гору в Африке из тринадцати букв или химическое соединение из девяти. У него это называется «гимнастика ума». Когда прибывает «Огонек», мы сразу же беремся за последнюю страницу, даже если в номере печатается новая повесть Жоржа Сименона о комиссаре Мегрэ.
Я достал бумагу, карандаш и принялся за работу. Итак, шифровка. Чтобы прочитать ее, нужно найти ключ — систему, по которой переставлены буквы. Четыре строчки букв, не разделенных на слова; ни одного знака препинания. Значит, знаки пропущены или тоже зашифрованы какими-то буквами — не может быть, чтоб в таком длинном предложении, если даже оно одно, не стояло ни запятых, ни тире, ни двоеточия…
Попробуем прочесть записку через одну букву: «сгдяда…» — не годится. Шифровал, определенно, Витька, больше некому, а уж он придумает что-нибудь посложней. Через две буквы… «саязц…» — какая-то тарабарщина! Через три, четыре и пять букв… Через одну, затем — через две, через три… ни одного нормального слова!
«Ах ты, рыжая команда!» — разозлился я и попробовал прочесть записку слева направо: «ииттрик…»
Любой другой пришел бы от этой белиберды в отчаяние, но я решил быть мужественным и терпеливым. Попробуем рассмотреть шифровку еще раз. Нет ли в ней хоть одной группы букв, которые образуют слово? Есть! «Трек», «трит» «той», «ум», «что», «все»… Прекрасно!.. А что, собственно, прекрасного? Что с ними делать, с этими словами? Каким образом в Витькиной записке может оказаться слово «той»? На «той» он меня приглашает, что ли? Или на «трек»?
Я еще с полчаса составлял слова, подбирая буквы произвольно, пока не понял, что это совершенно бессмысленное занятие: из букв шифровки можно насоставлять столько всяких слов, что их хватит на толстенную книгу, и еще тысяч пятьдесят останется.
«Спокойно, Тимка, спокойно! — сказал я сам себе, потому что мне вдруг отчаянно захотелось обернуть этим листком камень, который еще валялся на полу, и вышвырнуть его за балкон, туда, откуда прилетел. — Главное при разгадывании головоломок — система. А у тебя никакой системы нету. Хватаешься, за что придется, конечно, из этого ничего не получится».
Значит, система. А какая? С чего начинали разгадывать такие шифровки самые знаменитые детективы настоящего и прошлого? Например, судья Жаррикес из романа Жюля Верна «Жангада»?
Я быстренько разыскал книгу и открыл ее на том месте, где сын Жоама Дакосты Бенито приносит судье Жаррикесу зашифрованный документ. Так… Прежде всего судья сосчитал буквы и установил, как часто они повторяются. Что ж, это не так уж сложно. В моей шифровке сто двадцать букв: четыре строки по тридцать. Сейчас подсчитаем, как часто они повторяются.
Я расчертил лист бумаги и составил такую таблицу:
С—3 З—1 Р—8 Ч—3
Д—8 В—6 Е—9 М—2
Г—1 Ц—2 К—3 Ё—2
А—8 Т—12 Л—4 П—1
Ь—4 И—11 Ы—1 Щ—1
Я—2 О—9 Й—1 Ф—1
Н—11 X—2 Ш—1 Ж—1
У—2
Использовано 29 букв алфавита; всего 120 букв.
Что же дальше сделал всемирно знаменитый судья Жаррикес? Расположил все буквы в алфавитном порядке? Пожалуйста. По сравнению с подсчетами это семечки…
А—8 З—1 О—9 Х—2
В—6 И—11 П—1 Ц—2
Г—1 Й—1 Р—8 Ч — З
Д—8 К—3 С—3 Ш—1
Е—9 Л—4 Т—12 Щ—1
Ё—2 М—2 У—2 Ы—1
Ж—1 Н—11 Ф—1 Ь—4
Я—2
Затем я занялся гласными и согласными. По Жюлю Верну выходило, что нормальное соотношение гласных и согласных букв — один к четырем. А что у меня?
Еще одна таблица:
А—8, Е—9, Ё—2, И—11, О—9, У—2, Ы—1, Я—2.
Итого: 8 гласных, которые повторяются 44 раза.
120 и 44. Больше одной трети. Соотношение явно ненормальное.
Я сломал карандаш и забегал по комнате. Рыжий дурень! Конспиратор! «Золотой жук»! Составляет шифровку, а сам не знает даже такой чепухи, как нормальное соотношение гласных и согласных букв!
Какие буквы повторяются чаще всего? Значит, так:
Т—12; И—11; Н—11; О—9; Е—9; А—8; Д—8; Р—8; В—6; Ь—4; Л—4; С—3; К—3; Ч—3; Я—2; Ц—2; Х—2; М—2; Ё—2; У—2; Г, 3, Ы, Й, Щ, П, Ш, Ф, Ж—1.
Чаще всего повторяется буква «Т». Предположим, что «Т» — это не «Т», а какая-то другая буква. Если Витька выбрал шифр, при котором одна буква постоянно заменяется другой, — например, вместо «А» пишут «Я» или «Щ», или любую иную букву, но постоянно одну и ту же, — то буква «Т» должна соответствовать самой распространенной, наиболее часто встречающейся в русских словах букве. А какая буква самая распространенная? Заглянем в «Жангаду». Тем более что и там буква «Т» повторялась чаще всего. Итак: «…во французском и английском языках это, конечно, была бы буква „Е“; у итальянцев — „И“ или „А“; у португальцев же „А“ или „О“».
— А в русском?! — заорал я и грохнул книгой об стол. — В русском какая буква чаще всего встречается? Не мог же Витька писать эту чушь на французском, английском, итальянском или португальском… Он и русский-то знает на двойку с плюсом! — Меня такое зло разобрало, что я чуть не заплакал. — Эх, судья Жаррикес! Столько языков знал, не мог выучить русского!
Я завалился на тахту и взял «Тома Сойера». Но перед моими глазами так и прыгали все те же: С Д Г А Д Ь… Буквы казались мне маленькими хитрыми человечками, они злорадно ухмылялись, корчили рожи и говорили противным Витькиным голосом: «Что, выкусил? Эх ты, серый…»
Нет, не будет мне покоя, пока не разгадаю эту тарабарщину.
Пришел отец.
Вечером он должен был ехать в командировку и вернулся с работы пораньше.
— Чего накуксился, будто лягушку проглотил? — Он выложил из портфеля свертки с едой. — Давай перекусим, я копченой колбаски купил.
— Не хочется. — Я отвернулся к стене: рассказать или нет? Отец-то, пожалуй, разгадает. Но вдруг там что-нибудь такое… этакое…
— Ты что, заболел? — Отец пощупал мой лоб. — Температуру мерил?
«Рассказать! — решил я. — А то и впрямь свихнуться можно».
— Посмотри ту бумажку.
— Какую? Эту? А как ты лампочку разбил?
— Не я… Тот, кто ее сюда забросил.
— Интересно. — Он повертел в руках бумагу. — Шифровка. Буквы подсчитал?
— Там мои таблицы, посмотри.
Отец отодвинул локтем свертки и углубился в таблицы. Я стал за его спиной.
— Все правильно, — покусывая карандаш, наконец сказал он. — На чем же ты остановился?
— Нужно заменять одни буквы другими, делать новый алфавит. Ты знаешь, какая буква чаще всего встречается в русских словах?
— Понятия не имею. — Отец почесал карандашом висок. — Кажется, «К». А почему ты думаешь, что нужно составлять новый алфавит?
Я застонал:
— Это не я думаю! Это думает судья Жаррикес! Не мог же Витька сам придумать этот шифр, он его наверняка откуда-то слямзил! И скорее всего — из «Жангады».
— Это роман Жюля Верна? Ах, вот он! Ну-ка, дай сюда…
Чиркая карандашом на полях, отец внимательно перечитал главы, где судья разгадывает шифровку, и задумался.
— Слушай, Тима, давай рассуждать логично. Записка адресована тебе, я такие не получал уже лет двадцать. Она должна начинаться с обращения и заканчиваться подписью. Факт?
— Может быть, — уклончиво ответил я.
— Что тебя во дворе называют Тимофеем — исключается. — Он хитро взглянул на меня, я засмеялся. — Как тебя дразнят?
— Тимох.
— Гм… Не так уж плохо. Меня в детстве дразнили «Каланча».
— Почему? — удивился я.
— Кто его знает. Наверно, потому, что долговязым был. Ну, ладно, не будем отвлекаться. Предположим, записка начинается со слова «Тимох». А как она может быть подписана?
— Писал Витька, я в этом почти не сомневаюсь. Дразнят его «Крыса», «Рыжий»…
— «Крыса» — это от фамилии? Ну да, Крысевич… Глупо и обидно. Не думаю, чтобы он подписался такой кличкой. Остаются «Рыжий» и «Витька»… Добавим на всякий случай сюда «Виктор», хотя это весьма и весьма сомнительно. Итак, первые пять букв шифровки должны соответствовать слову «Тимох». Что мы там имеем? «С Д Г А Д…», где «С» — это «Т», «Д» — «И», «Г» — «М», «А» — «О»…
— А куда ты второе «Д» денешь? — ехидно спросил я. — Не может же одна буква обозначать и «И» и «X»! Это будет совсем другой шифр, цифровой! Тот, каким судья Жаррикес в конце концов и прочел записку.
— М-да, не пойдет… Ну, а слово «Рыжий»? Все пять последних букв разные: «Я, О, В, С, Е». Попробуем?
— Валяй, — уныло пробормотал я. — У меня уже голова раскалывается. Хоть бы какой намек на ключ… Бессмыслица…
— Вообще ты, конечно, прав, — согласился отец, торопливо записывая буквы. — Но ведь наши дешифровальщики находили ключи к самым сложным шифрам важнейших немецких документов… Опять ничего не вышло. Проверим слово «Витька».
— Так то — дешифровальщики, а то — мы с тобой, — вздохнул я.
— Так то — матерые фашистские разведчики и штабисты, а то — ученик шестого класса, — усмехнулся отец.
И так, усмехаясь, он составлял и переставлял эти проклятые буквы, и постепенно улыбка начисто сползла с его лица.
— Ничего не получается, — наконец признался он. — Использовать цифровой метод, не зная, какие цифры выбрал тот, кто писал записку, — дело безнадежное: можно набрать сотни и сотни тысяч вариантов. Чтобы все их проверить, нужна электронная вычислительная машина, на это даже самой длинной человеческой жизни не хватит. Так что, сынок, не огорчайся, давай лучше расшифруем нашу колбасу, думаю, что с этим мы справимся гораздо успешнее. А потом ступай к Виктору и скажи ему, что посылать друзьям шифровки без ключа — это просто… гм… не годится.
Отец отодвинул листки в сторону и нарезал колбасу. Пахла она так аппетитно, что я потянулся за куском. Задел рукавом записку и совершенно отчетливо увидел слово: «сегодня». Это было настолько неожиданно, что я зажмурился и замер, так и не дотянувшись до колбасы: а вдруг открою глаза и ничего не увижу!
— Хлеба возьми, — сказал отец, — и не стой столбом: голодный останешься.
Я осторожно приоткрыл глаза и в узкую щелочку разглядел все то же: «сегодня». Оно никуда не исчезло, не растворилось, не испарилось, но я на всякий случай прочел еще несколько слов, чтоб уж быть абсолютно уверенным, что разгадал шифр правильно, а потом бессильно шлепнулся на стул и захохотал, завизжал, зарычал, замолотил ногами по полу…
— Что с тобой, Тимка? Опять эта шифровка?
— Какие же мы, папка, дураки, — простонал я. — Считали, переставляли, придумывали разные системы… Да Витьке они и не снились! Это же обыкновенный зигзаг, шифр для первоклассников. Зигзаг, понимаешь?
— Ничего не понимаю. — Отец пожал плечами и потянулся к шифровке, но я быстренько сунул ее в карман.
— Извини, но это — секрет. Я не имею права его раскрывать. А шифр я тебе объясню на любом примере. Я почему-то сразу не обратил внимания, что буквы написаны в два ряда. Видал, строчки стоят одна под одной, а между рядами — две пустые клеточки. Теперь берется любая фраза. Например: «Сегодня папа едет в командировку», — и записывается в две строчки, вот так:
с г д я а а д т к м н и о к
е о н п п е е в о а д р в у.
Сообразил, как ее надо читать? По диагонали, вверх-вниз, вверх-вниз… А следующая фраза заполнит промежутки, и, если читать не зигзагом, а подряд, получается бессмыслица. Понятно?
— Понятно, — улыбнулся отец, щедро намазывая колбасу горчицей. — Все гениальные изобретения и открытия обычно предельно просты. Но я сегодня действительно уезжаю в командировку. Я уважаю твои секреты, однако, согласись, должен хотя бы знать, что в них нет ничего дурного. Иначе я просто не имею права уезжать.
— Я тебе даю честное слово, что в этом нет ничего плохого, — в рифму, почти как Витька, сказал я. — Поверь, я охотно дал бы тебе это прочесть, если бы не приказ. Это ведь не мой секрет…
— Ладно, ладно, — отец подвинул мне бутерброд, — я тебе верю.
В записке было написано: «Сегодня в двадцать один третий тринадцать вниз два длинных три коротких пароль щит и мечь ответ черная стрела шифровку уничтож немедленно все». Слова «меч» и «уничтожь» были написаны с ошибками. Теперь я мог голову дать наотрез, что автор шифровки — Витька, хоть он под ней и не подписался.
Значит, так: в девять часов вечера я должен зайти в третий подъезд, по тринадцати ступенькам спуститься в подвал, найти там железную дверь, постучать, как условлено, назвать пароль и…
…И вот она, эта дверь, холодит кончики моих пальцев, и я стучу два раза с расстановкой, три — подряд, готовый к тому, что сейчас за ней раздастся оглушительный хохот, но вместо этого слышу свистящий шепот:
— Пароль?
То ли это темнота на меня подействовала, то ли таинственный голос, но я вдруг почувствовал, что у меня мурашки поползли по коже. Я наклонился туда, где должна была находиться замочная скважина, и прошипел:
— Пароль — «щит и меч». Ответ?
— «Черная стрела».
ЗАГОВОРЩИКИ
В двери с тихим скрежетом повернулся клюя, я толкнул ее, шагнул вперед и услышал справа от себя чье-то прерывистое дыхание.
— Восемь шагов прямо и налево, — сказал все тот же голос, и я подумал, что дозорный положил камешек за щеку, чтоб его не могли узнать; вообще-то голос похож на Жекин.
Еще раз пожалев, что не взял фонарик, я коснулся левой рукой бетонной стенки, изрытой круглыми раковинами, и осторожно, шаркая ботинками по земле, пошел вперед.
«Неужели они снова решили меня разыграть? — думал я, напряженно всматриваясь в темноту. — Натянули поперек прохода веревку? Налили смолы или краски? А может, какая-нибудь яма? Нет, не должно бы. Где-то тут сарайчики, какая яма…»
Затхлый, застоявшийся воздух першил в горле, щекотал в носу. Стена была шершавой и пыльной, на руку налипала паутина, одни раз из-под ладони скользнуло что-то быстрое, противное, но я побоялся оторвать руку, чтоб не потерять направление. Держась у стены, я, по крайней мере, назад смогу выбраться, если почувствую, что дело плохо…
Под ботинками скрипели мелкие камешки, битое стекло. Над головой, в канализационной трубе, глухо булькала вода. Издали доносился непонятный, загадочный шорох. За спиной учащенно дышал невидимый часовой. И я почувствовал себя средневековым заговорщиком, который пробирается глухими катакомбами на встречу с друзьями. Не хватало только черного плаща и кинжала.
Сделав положенные восемь шагов, я нащупал вытянутой вперед рукой, что стена кончилась, осторожно повернул влево и… отшатнулся. Волосы дыбом встали у меня на голове, и я зажал рот, чтоб не закричать от ужаса: из чернильной темноты прямо на меня смотрел пустыми глазницами оскалившийся череп с перекрещенными под ним костями. Череп светился зловещим зеленоватым светом, словно срисованный с трансформаторной будки, но срисованный так здорово, что мог бы напугать кого угодно.
Но уже через мгновение я взял себя в руки. Вы ждете, что я закричу и ринусь назад, как сонливая девчонка? А сами будете ржать и улюлюкать мне вслед?! Дудки, не дождетесь! Знаем мы эти штучки, сами такие делали. Добавили в зеленую краску фосфора, вот он и светится в темноте. Конечно, от неожиданности испугаться можно, но вида я вам не подам, даже не ждите!
В это время за моей спиной раздался голос часового:
— Он пришел, командор!
— Пусть войдет! — откликнулся кто-то из глубины — Витька, наверно, кому ж еще у нас носить такой пышный титул! — и череп исчез. Распахнулась дверь, на которой он был нарисован, и в узком проеме блеснул свет.
Я вошел, готовый к любым неожиданностям, и остановился на пороге небольшого сарайчика. Его освещала только одна свеча, коптившая, как паровоз; по углам лежали густые тени, рассмотреть, что там находится, было невозможно. В центре стоял облупленный кухонный столик, немножко не соответствовавший торжественности момента, за ним, в полумраке, — четыре неподвижных, как статуи, фигуры со скрещенными на груди руками, в белых балахонах и с масками на лицах. Маски были тоже размалеваны фосфорной краской, и я невольно улыбнулся: эта мрачная компания словно сошла со страниц приключенческих книг о пиратах и привидениях, она запросто могла бы занять первое место на любом новогоднем карнавале! Но я тут же постарался придать своему лицу серьезное выражение, тем более что из-за моей спины выступил еще один тип и присоединился к стоящим за столом.
Ростислава и Казика я узнал мгновенно: один самый длинный, другой самый маленький. Похоже, что часовым была Лера — вот обормоты, не мог кто-нибудь из ребят в темноте поторчать, заставили девчонку, а сами тут из себя капитанов Флинтов и Робин Гудов изображают! Ну, а кто из оставшихся двоих Витька, а кто — Жека?
Несколько минут вся пятерка молча смотрела на меня, словно я с луны свалился, а не пришел по их приглашению, и я так же молча смотрел на них.
Игра начинала мне правиться: очень уж не похожа на те, в какие мы играли в моем старом дворе, в пионерском лагере, в школе… А он молодец, Витька, котелок хорошо варит! С выдумкой…
Молчание и взаимное разглядывание затягивалось. Наконец командор подал голос:
— Ты знаешь, где ты находишься?
Как я и предполагал, Витька стоял в центре, слева от него был Ростик, справа — Жека. Витька старался говорить мужественным басом, но это ему не удалось: голос сорвался и зазвенел, — наверно, командор волновался больше всех. Я великодушно сделал вид, что не заметил «петуха», скрестил, как и они, на груди руки и вздернул подбородок.
— Знаю! Я нахожусь в логове бесстрашных пиратов, заговорщиков и искателей приключений, командор!
«Бесстрашным искателям приключений» понравился мой ответ, и Витька восторженно завопил:
— Ага, что я вам говорил? Не такой уж он и серый…
Обидная для меня реплика явно не была предусмотрена церемониалом, и Ростик коротко ткнул командора кулаком в бок. Тот поперхнулся и закашлялся.
— Тимка, — Жекиным голосом сказала маска с оскаленными зубами и фосфоресцирующими кругами — дырками для глаз, — с тех пор, как ты появился у нас во дворе, мы все время следили за тобой. Ты не ябеда — никому не нажаловался, что мы тебе подстроили такую штуку с турником. Не жадина — делишься своими книгами и марками и не ешь на пляже из кулька. Не трус — не сбежал, когда случилась эта история с картошкой. Мы все — еще с пятого класса — члены тайной организации, которая называется «Вперед!». Хочешь ли ты быть членом этой организации?
— Хочу, — твердо ответил я. — Но название мне не нравится. Скучное.
— Правильно! — воскликнула Лера. — Я им все время твержу, что название скучное и никуда не годится, только разве они послушаются!
— Лерка, заткнись! — грозно рявкнул командор, раздосадованный тем, что мы так отозвались о названии, над которым он, наверно, не одну ночь ломал голову. — А то живо по шее заработаешь!
— А этого ты не хотел? — Под носом у отшатнувшегося Витьки вырос кукиш. — Я клятву давала? Давала! Значит, не имеешь никакого полного права…
Чувствуя, что вся церемония моего посвящения в «члены тайной организации» может оказаться под угрозой, командор капитулировал.
— А что ты предлагаешь?
— Не знаю, нужно подумать. Может, ответ на пароль? «Черная стрела». Ничего, а?
— Вот-вот… Я то же самое говорила! — подхватила Лера. — Такая книжка у Стивенсона есть, «Черная стрела». Я и пароль оттуда взяла…
— Замолчи, рыжая зараза! — Витька стукнул по столу и подул на кулак. — Поступило предложение переименовать тайную организацию «Вперед!» в «Черную стрелу». Кто за? Раз, два… пять. Кто против? Один я. По большинству голосов наша организация отныне называется «Черная стрела».
Не знаю, решались ли у пиратов и заговорщиков столь важные вопросы, как переименование организации, открытым голосованием, но, наверняка, такая демократия, как у нас, им и не снилась. Чтоб командор безропотно подчинился рядовым флибустьерам, для этого нужно было не только иметь широкую и покладистую натуру, но еще и глубоко уважать пионерские порядки.
— Повторяй за мной клятву. — Витька поднял сжатую в кулаке руку и торжественно произнес: — Вступая в тайную организацию «Впе…» Тьфу, ты… только путаницы наделали! Вступая в тайную организацию «Черная стрела», я клянусь быть смелым и справедливым, защищать своих товарищей, не подличать, бороться с ябедами и подлизами, любить свой двор и следить, чтоб в нем не заводились всякие гады. Клянусь хранить тайны «Черной стрелы» и беспрекословно подчиняться приказам командора. Если же я, как подлый предатель, нарушу эту клятву, пусть меня все презирают и никто даже руки не подаст. Все.
Я тоже произнес это «все». Лера тихонько прыснула, Витька молча погрозил ей кулаком.
Пока я говорил, Ростик достал из стола какую-то бумагу, почиркал в ней, а когда я кончил, вытащил булавку, подержал над свечой и старательно вытер копоть.
— Подпиши. Кровью.
Это был зашифрованный зигзагом текст клятвы, вместо слова «Вперед!» Ростик вписал: «Черная стрела». Выводя внизу свою фамилию, я еще подумал, что не мешало бы выбрать шифр посерьезнее, а то однажды у нас могут быть из-за этого серьезные неприятности, но вспомнил, как сегодня сам полдня бился над ним вместе с отцом, и успокоился. А собственно, чего опасаться? Что в ней плохого, в этой клятве?
Ростик подул на мою подпись и спрятал бумагу где-то в складках своего балахона. Витька хлопнул в ладоши. Лера н Казик натянули мне па лицо картонную маску с резинкой, на плечи набросили старую простыню. Я стал полноправным членом тайной организации «Черная стрела».
— Садитесь, — сказал Витька, — и давайте снимем эти балахоны. Душно, я уже весь вспотел. Ты можешь не снимать, — милостиво разрешил он мне, но я с удовольствием стащил с лица тесноватую маску: в подвале и так нечем было дышать. — Переходим ко второму вопросу. — Витька выхватил у Леры косынку и вытер лицо. — Об исключении из рядов организации Африкана-Таракана. Казик, доложи.
Мы расселись на хромоногие табуретки и продавленные стулья, которые жильцы выбросили за ненадобностью, а ребята притащили сюда.
— А чего тут докладывать?! — Казик достал сушку, повертел в руках, вздохнул и снова засунул в карман. — У Козловых из 21-й квартиры в почтовом ящике газеты сжег — это раз. Ткачукам шашку, которой клопов морят, подкинул, чуть не позадыхались все от дыма — два. Правда, его за эту шашку отец выдрал по первой категории, но все равно считается. Про школу говорить? — Казик обвел взглядом ребят.
— Не надо, когда это было… — проворчал Ростик.
— Две недели назад. — Злополучная сушка снова очутилась у Казика в руках. Глядя на него, можно было подумать, что он просто умирает с голоду. — Ну, тогда остается картошка…
— А почему вы его не позвали? — Стул подо мной заскрипел так жалобно, что я ухватился за край стола.
— Записку послали, не пришел. — Витька поплевал на пальцы и снял с оплывающей свечи нагар. — Вот что, братики-матросики, предлагаю Африкана-Таракана из наших славных рядов исключить. Разъяснительную работу с ним мы сто раз за последние два года проводили — плюет он на наши разъяснения. Кто за мое предложение, поднимите руки. Единогласно. А во-вторых, предлагаю составить против него хорошенький заговор.
— Какой заговор… — Ростик сжал костлявые кулаки. — Отлупить, чтоб десятому заказал, и весь разговор.
— Не годится! — возразил Жека. — Всем скопом на одного наваливаться нечестно, хоть он себе и Африкан, а поодиночке он любому надает, даже тебе.
Наступило молчание. Да, один на один нам с ним не справиться. Очень заманчивое предложение, но — не пойдет.
— Есть идея! — Казик чуть не подавился своей сушкой — он все же как-то умудрился ее схрустеть. — Давайте пошлем ему штук тридцать доплатных писем. Выберем какую-нибудь самую нудную книгу, будем переписывать по страничке и каждый день посылать. И смешно, и Африкапу насолим.
— Так ты ему и насолишь… — покрутил головой Витька. — Он одно-два письма получит, а потом раскусит это дело и брать не будет.
— У вас еще фосфор остался? — Я больше ни капельки не доверял своему стулу и решил лучше постоять. — Кто череп рисовал? Ты, Лера? Вот и нарисуй ему такой же на дверях. Днем не видно…
— …а вечером — тем более, — улыбнулась Лера. — Не знаешь, что ли, — у них на площадке днем и ночью лампочка горит свечей на двести. И потом, он сразу догадается, чья это работа. Дома баня такая будет… Слушайте меня, мушкетеры, я знаю, что нужно сделать! Я такое придумала, что никто из вас не придумает, даже если вы будете думать сто лет и три месяца. Недавно Африкан притащил домой лягушек и до смерти напугал Анну Михайловну, свою маму. Она рассказывала, что с ней чуть обморок не случился от страха. Давайте наловим сто… нет, двести лягушек, а если повезет, то и парочку ужей, и напустим ему полную квартиру. А за такие штучки…
— Африкану будет вздрючка! — с ликованием выпалил Витька.
Конечно, это была гениальная идея. Мы единогласно проголосовали за нее и пошли по домам. Как раз вовремя: с тихим шипением погасла догоревшая свечка. Зато череп на двери нашего штаба вспыхнул; он глядел нам вслед пустыми глазницами и скалил страшные зубы.
ОХОТНИКИ ЗА ЛЯГУШКАМИ
Далеко в луга уходит извилистая старица — бывшее русло Березы. Она густо забита камышом и аиром, затянута у топких берегов зеленой бархатистой ряской. Из ряски торчат желтые кувшинки и белые лилии. В воздухе толкутся комары, зудят, зудят… К вечеру комары сбиваются в высокие шевелящиеся столбы — будто серый дым из труб. Оглушительно бахают щуки — тут к ним не так-то просто подступиться. На спиннинг не возьмешь — по зарослям блесну не протянешь, разве что на живца с резиновой лодчонки. Да и ту о коряги распороть можно. Поэтому рыбаков на старице почти не видать.
Тут заповедное царство лягушек. И здоровенных, в два кулака, буро-зеленых, с круглыми выпученными глазами, и средних, и попрыгунчиков-лягушат, и юрких, похожих на черные лакированные шарики с хвостиками, головастиков. Хоть ты лопатой греби. Днем они больше молчат, занятые охотой на комаров и мошек, разве что иногда погорланят для разминки, зато на заходе солнца… На заходе солнца начинается большой лягушачий концерт. Лягушки орут на тысячи голосов, будто у них, у всех разом, разболелись животы, а доктор Айболит со своими лекарствами нестерпимо опаздывает, и от крика этого отчаянного даже птицы смолкают — куда им с этакой тьмутараканью тягаться!
Мы выбрались за лягушками не назавтра, как договаривались, а только на послезавтра: Людмила Мироновна затеяла стирку, Лера ей помогала, а по всей справедливости идти без нее не годилось. Свободный день ушел на то, чтоб как следует вооружиться для предстоящей охоты. Ростик и Жека раздобыли вместительную лозовую кошелку с крышкой, Витька где-то стащил несколько реек и моток медной проволоки, а Лера выпросила у матери кусок марли. Пока мы проводили на берегу рекогносцировку, она с Казиком смастерила четыре отличных сачка, а в корзину наложила мокрой травы.
Бедный, бедный Африкап-Таракан! И не знаешь ты и не ведаешь, какую страшную кару готовит тебе «Черная стрела»! А придумала ее, эту кару, рыжая разбойница в баскетбольных кедах «Два мяча», в такой же, как у брата, только в синюю и белую клетку, ковбойке с закатанными рукавами и в синих, подвернутых до колен шароварах. На голове у этой рыжей разбойницы желтый платочек, из-под него выбились и торчат в разные стороны две тощие косички, завязанные не капроновыми бантами, а какими-то вылинявшими тряпочками, и зеленые глаза ее горят жаждой мести. Я тебе не завидую, Африкан, честно, не завидую.
Я уже где-то говорил, что Лера и Витька — близнецы, по-моему, этого достаточно, чтобы понять, что она — свой парень. Не то что, например, Наташка Калита, в которую я по уши влюбился в пятом классе. Я ей даже записочки писал, хоть верьте, хоть нет. У нее такая коса была… Золотистая, как солома, ниже пояса… Увидишь, сразу руки чешутся, так и хочется дернуть. С этой косы все и началось. Я дергал, дергал, а однажды написал: «Наташа, давай с тобой дружить!» А она обрадовалась. «Давай», — говорит. Вообще-то я понимаю: кому охота, чтоб тебя за косу дергали?!
Так вот, эта Наташка была очень красивая девочка. А как шикарно одевалась! Она даже в поход пошла в узкой черной юбке и красных остроносых туфлях. «Девочкам неприлично ходить в шароварах», — сказала Наташка таким противным голосом, что все наши девчонки покраснели, будто они пришли голые. Зато ж и намучилась она в походе. Мозоли набила, как подушки. А как через ручей перепрыгивала! Мы чуть не надорвались. После этого похода вся моя любовь закончилась…
Нет, Лера не такая. Она в своих кедах и шароварах в сто раз красивее Наташки. Наташка — просто наряженная кукла, а Лера — человек!
— Эй, лягушатники! — вдруг заорал Жека, бесцеремонно прервав мои размышления о вещах куда более возвышенных, чем охота на лягушек. — Хватит лынды бить, работать пора!
— За работу, детвора, лягушат ловить пора! — тут же зарифмовал Витька и с сачком наперевес ринулся к воде. — Пусть дрожит Африкан, злой усатый таракан!
Мы бодро двинулись за своим славным командором.
После нескольких неудачных попыток, я подцепил сачком тощего захудалого лягушонка и с торжествующим воплем потащил на «приемный пункт» к Лере. Лера сморщилась и решительно забраковала мою добычу.
— Пусть плывет, подрастет, папу с мамой приведет… — Она вытряхнула лягушонка в воду и приоткрыла кошелку. — Смотри, какую здоровенную Ростик выловил! Давай, давай, Тима, работай…
Из Лериной мечты наловить сто или двести лягушек, как впрочем и из моей уверенности, что на старице их можно лопатой грести, получился пшик. Лягушек было много — тысячи! — но попробуй-ка их поймать, если ноги вязнут в грязи выше колен, того и гляди с головкой нырнешь, а они, проклятущие, прыгают ничуть не хуже олимпийских чемпионов! Часа через полтора, грязные, как трубочисты, с трудом наловив двадцать пять штук, мы закончили охоту — надоело. Решили, что и двадцати пяти более чем достаточно, чтоб надолго испортить Африкану настроение. Кое-как отмылись от грязи и развалились на траве. Нужно было придумать, как хоть этих доставить по назначению.
Африкан жил на четвертом этаже. Если бы речь шла о том, чтоб подкинуть одну-две лягушки, все было бы просто: Лера могла зайти к ним, будто по делу, и… порядок. Хотя все равно на нее могло пасть подозрение, а этого допустить никак нельзя. Наш заговор держится на том, чтобы родители Африкана были абсолютно уверены, что лягушек принес именно он. Как же проникнуть к ним в квартиру?
Весь гениальный Лерин план повис на тоненькой ниточке. Мы растерянно поглядывали на кошелку со своими пленницами и удивлялись, почему сразу не подумали, как доставить лягушек в квартиру Африкана. Казалось, главное — наловить, а там пусть хоть сами на четвертый этаж скачут…
— Давайте выпустим их в озеро к чертям собачьим, — вздохнул Витька. — Всю жизнь вам твержу: послушаем Лерку и сделаем наоборот, обязательно толк будет. А вы…
Лера даже не огрызнулась. Она лежала, подперев острыми кулаками подбородок, и покусывала камышинку. Казик с готовностью подхватил кошелку и потащил к воде. Но тут она вскочила и накинулась на него:
— Сейчас же поставь на место! Ну, кому говорю! Ишь, какие быстрые! Давайте еще подумаем.
Мы думали. Скорее, делали вид, что думаем. Во всяком случае, я.
Вечерело. За дальним лесом садилось солнце — огромный малиновый шар уже коснулся верхушек деревьев и поджег их. Комары были лютые, как тигры-людоеды; давно, видно, они не ужинали с таким аппетитом, как сегодня. Низко над водой плыли белесые клочья тумана. Лягушки голосили, оплакивая своих близких и дальних родственников, наши же пленницы сидели в кошелке тихо, наверно, с перепугу. Пролетел аист, медленно взмахивая розовато-белыми крыльями. В камышах, у того берега, испуганно закрякала дикая утка.
— Может, попробовать залезть с кошелкой по водосточной трубе? — негромко сказал Ростик. — Сейчас жарко, они на ночь балконную дверь не закрывают…
— А как ты до их балкона доберешься, когда водосточная труба метров на пятнадцать в стороне? — всей пятерней почесал затылок Витька. — Она возле пашей квартиры проходит, не перелезешь…
Лера выплюнула камышинку и села на корточки.
— Ребята, я придумала. Тима живет как раз под Африканом, с его балкона наверх залезть даже я, пожалуй, смогла бы. Ну, для подстраховки можно веревку привязать…
— А Тимкин отец? — Жека задумчиво строгал палочку. — Он же вытурит нас. И потом, лезть нужно поздно ночью, когда все спят. Я не смогу, ребята. И так в десять, в начале одиннадцатого придешь, мать тарарам устраивает, а если еще ночью… шкуру спустит.
— И я не смогу. — Казик извлек из кармана булку, разломал на пять равных частей и кинул нам по куску. — У меня от высоты головокружение. Горная болезнь называется, что ли… Мы пошли как-то раз с папой на «колесо обозрения», так я чуть живой оттуда выбрался.
— Какой может быть разговор! — с жаром воскликнул я. — Я сам это сделаю. Смотрите, как мирово получается! Отец сейчас в командировке, дома я один. Я к ним и залезу. А лишние люди тут только помешают.
— Дудки, я тебе не помешаю! — Витька подтянул к себе корзину и обхватил ее обеими руками. — Я пойду с тобой. Я — командор и отвечаю за всю операцию. Мало ли что… четвертый этаж все-таки. В крайнем случае хоть подстрахую. Да ты не фыркай, я у мамки отпрошусь. Скажу, что у тебя заночую: мол, один ты, и все такое…
— Вот это ты зря! — Лера громко хлопнула себя по щеке, и на свете доброй дюжиной комаров стало меньше. Правда, лично я этого но почувствовал. — У Африкана шум поднимется — мама сразу тебя на чистую воду выведет. А вместе с тобой и Тиму.
— Так что, по-твоему, он один должен лезть! — рассвирепел Витька. — А если сорвется? Я ловчее его, я по водосточной трубе сто раз лазил, и с балкона на балкон тоже. Помнишь, точно такой случай был: у Гвоздевых Томка замкнулась, ключ в двери оставила, а сама заснула. Они стучат, гремят, чуть дверь не высадили, а она спит себе без задних ног. Хотели уже за слесарем посылать, замок выламывать. А я с нашего на их балкон перелез и открыл. Было?
— Было, — согласилась Лера. По-моему, это первый случай, когда она хоть в чем-то согласилась с братом. — Но ты послушай: я же не говорю, чтоб Тима один лез. Ты ложись спать дома, а ночью я тебя разбужу. Ты к Тиме поскребешься, он тебя впустит. Только смотри, чтоб не заснул! — грозно повернулась она ко мне. — Потом я тебе снова дверь открою, и все будет тип-топ. В случае чего — я ни я и кошка не моя…
— Это «алиби» называется, — сказал Казик. — Железная штука. Все бандиты стараются таким алиби запастись.
Мы засмеялись. Витька вскочил, сгреб Леру, как медведь, и закружил вокруг себя.
— Золотая ты моя сестричка! — заорал он. — Рыжая, хорошая, на козу похожая!..
Лера хохотала и дрыгала ногами. А я вдруг с завистью подумал: жалко, что у меня нет такой сестры.
Наконец Витька отпустил ее. Лера подхватила кошелку и насмешливо бросила:
— А кто говорил: «Послушаем Лерку и сделаем наоборот»?
— Понятия не имею! — Витька недоуменно вздернул плечами. — Ты, Казик? Ну, тогда Жека. Нет? Ну, тогда… тогда, не знаю. Только не я!..
Когда мы возвращались домой, солнце уже скрылось за лесом, на мокрую от росы траву легли длинные тени.
Трепещи, Африкан, близится час расплаты!
ОПЕРАЦИЯ «КВА-КВА»
Предполагалось, что отец пробудет в командировке три-четыре дня, но когда мы все вместе ввалились к нам, уверенные, что в квартире никого нет, он был уже дома. Что-то у них там, куда он ездил, не было еще готово, кабели не подведены, что ли. Я всегда очень радовался, если он приезжал пораньше, а тут просто посинел от расстройства. Это ж надо, а! Родной отец, а так подводит…
Обескураженные, ребята столпились у порога.
— Что будем делать? — шепнул Витька. — Может, отложим?
— Ни в коем случае! Балкон в моей комнате, приходи, я буду тебя ждать. Давай кошелку.
Я поставил кошелку в ванной, в углу, для маскировки придвинул стиральную машину, а сверху положил грязное белье.
— О чем вы там шушукались? — спросил отец. — Против кого заговор затевали?
— Против земляники, — не моргнув глазом, ответил я. — Думаем завтра в лес сходить.
— А что, уже поспела? — Он потер колючую щеку. — Скоро в отпуск поедем, а то лето пролетит — не заметишь. Чем ты тут занимался без меня?
Мы немного поговорили, поужинали, и он лег спать: устал с дороги. А я отправился в свою комнату.
Убедившись, что отец заснул, я вытащил кошелку, немного раздвинул прутья, чтоб лягушки не задохнулись, и стал придумывать, как убить время, пока придет Витька. Операцию «Ква-ква» мы назначили на самую темную пору — половину третьего. Конечно, можно было не мучиться, а завести будильник и преспокойно лечь спать, но я побоялся, что трезвон разбудит отца и все пойдет насмарку. Значит, нужно бодрствовать.
Странно, но именно в эту ночь мне нестерпимо захотелось спать. От зевоты ломило челюсти, голова так и липла к столу. Меня даже зло взяло. Бывало, мама гнала в постель в девять, так я еще полночи крутился, думая о недочитанной книге или вспоминая всякие смешные истории, и завидовал взрослым, которые могут не спать хоть до утра, а теперь, когда нужно дождаться Витьку, готов захрапеть на голом полу, сунув под голову кулак.
В одиннадцать я до пояса вымылся холодной водой. Помогло, но ненадолго. В двенадцать сделал гимнастику с гантелями и еще раз умылся. В час сел решать задачу в четырнадцать вопросов из задачника для пятого класса. В задаче зерно пересыпалось из вагонов в элеватор, из элеватора в вагоны, шуршало, струилось, глаза слипались, а стрелку на часах, казалось, припаяли к одному месту — совсем не двигалась.
В половине второго я вынес в коридор табурет и сел под дверью. Теперь стоило мне задремать, и я тут же тюкался затылком в железную ручку. Перед носом я держал палку с зажимом, ее называют «хозяйка-лентяйка». Это на тот случай, если, засыпая, я не откинусь назад, а подамся вперед. Тогда я тюкнусь об эту палку.
И все-таки я заснул. Заснул самым бессовестным образом, упершись лбом в эту самую «хозяйку-лентяйку». Мне даже сон успел присниться. Будто бежит по лугу рыжая-рыжая Лера, в клетчатой ковбойке с закатанными рукавами, подбегает ко мне да как трахнет меня по спине, да как зашипит Витькиным голосом:
— Тимка-а, вставай, засоня, развалился, как фон-барон!
Я вскочил, чуть не перевернув табуретку, — это командор приоткрыл дверь, которую я предусмотрительно отпер, и угостил меня увесистым тычком.
— Скребусь, скребусь, чуть весь подъезд не разбудил! — проворчал Витька.
Я виновато промолчал, хотя между лопатками горело. А в другой, как говорится, ситуации я ему показал бы, как руки распускать.
Мы на цыпочках прошли в мою комнату. Зажженная настольная лампа для светомаскировки стояла у меня под кроватью. В зыбком полумраке я увидел, что Витькино лицо прикрыто размалеванной фосфором маской, а на руки натянуты длинные, до локтей, женские перчатки.
— А это зачем? — удивился я.
— Чтоб отпечатки пальцев не остались. Лерка где-то выкопала.
— Какие отпечатки?
— На балконе, балда! У этого Африкана отец знаешь какой! Милицию может вызвать, если что заподозрит. — Витька вытащил из-за пазухи моток бельевой веревки. — Давай лягушек.
Посвечивая фонариком, я принес из ванны кошелку.
— Уж не поснули ли они там? — Витька приложил к кошелке ухо. — Что-то больно тихо.
— Не может быть, — уверенно ответил я. — Я им немного прутья пораздвигал, чтоб воздух проходил.
— Что-о? — Витька подпрыгнул, будто его собака укусила, открыл крышку и сунул в кошелку руку. Пошарил, пошарил и — достал одного маленького лягушонка. — Все. Больше нету.
— А где остальные? — покрываясь холодным потом, спросил я. Вряд ли можно было придумать в моем положении более глупый вопрос.
— У вас в квартире, ясно где. Если только ты их за ужином не слопал, — съязвил Витька.
— Но я же думал…
— Индюк тоже думал, а потом из него суп сварили. — Витька посдвигал в кошелке прутья. — Сквозь такие дыры коты могли пролезть, не то что лягушки. Побоялся, что им воздуха не хватит! Да сюда тебя засадить — не задохнешься!
— Что же теперь делать! — с ужасом пролепетал я. — Они ж, наверное, разбрелись повсюду. Дверь-то в ванную была открыта…
— Что делать, что делать… Давай фонарик, попробуем выловить.
Витька снял маску, перчатки, и мы начали облаву.
Сначала, прикрывая фонарик полой куртки, обшарили ванную. Улов оказался обнадеживающим: восемь штук — два тритона, шесть квакушек. Забились под стиральную машину и сидят себе тихонько, с обстановкой осваиваются. А одна так даже в таз залезла, где отцовы рубашки намочены. Приспособилась…
У меня немного отлегло на сердце. С тем маленьким лягушонком уже девять, значит, осталось всего шестнадцать. В коридоре выудили еще три, четвертую — в моей комнате под кроватью. Уселась и таращится на лампу, как на солнце.
— Во второй комнате сам ищи. — Витька вручил мне фонарик. — Проснется отец — соврешь что-нибудь, а меня увидит — пропало дело. Еще подумает спросонья, что воришка какой… Да поживей, а то скоро светать начнет.
Я по-пластунски пополз в папину комнату, настороженно прислушиваясь к каждому шороху. А вдруг сейчас заорет какая-нибудь дурным голосом, вот будет номер! Откликнутся ей те, что в корзине, и пойдет потеха! Я шарил по углам, под шкафом и столом и проклинал в душе Лерину затею. Где-то рядом со мной притаилось еще двенадцать лягушек и тритонов, может, какая уже к отцу на тахту запрыгнула, — тахта низкая, одеяло до пола сползает, — попробуй сейчас всю эту гадость отыскать!
— Скоро ты, растяпа? — свирепо прошептал Витька из-за двери.
Я понял, что больше медлить нельзя, и пополз назад — от Витькиного шепота подозрительно заворочался отец. В кепке у меня трепыхалась жалкая добыча — две лягушки.
— Пятнадцать, — удовлетворенно заметил командор, усаживая их в кошелку. — Значит, у вас пасется еще десять. Ничего, это даже к лучшему. В случае чего вали на Африкана: мол, не только себе приволок, но и вам подкинул. — Витька натянул перчатки и маску. — Пошли.
— Я полезу!
Он покачал головой.
— Ничего не будет, полезу я. У меня с Африкашей старые счеты. Да и сорваться ты можешь без привычки.
Мы осторожно вышли на балкон — петли двери я еще с вечера щедро залил подсолнечным маслом. Ночь была душной, безветренной. Высоко в небе плавал осколок луны, перемигивались звезды. Где-то в 4-м или 5-м переулке Лазарева — Беллинсгаузена, как заведенная, тявкала собачонка; в тишине далеко разносился звонкий лай. Слева стояло зарево — это светились корпуса завода электроприборов, работала третья смена.
Я перегнулся через ограду, и у меня засосало под ложечкой. Глубоко внизу, куда глубже, чем днем, лежала земля, даже верхушки гонких тополей не достигали нашего балкона. Лезть нужно было еще выше, на четвертый этаж. А не случился бы и у меня приступ горной болезни, если б я все-таки настоял на своем? М-да…
Командор тоже посмотрел вниз, но вид темно-синей пропасти не произвел на него никакого впечатления. Он лихо цвыркнул сквозь зубы и приказал:
— Тащи табуретку.
Став на табурет, Витька дотянулся до Африканова балкона и продел за железный прут веревку. Сунул мне конец, стал, пошатываясь, на ограду, на мгновение повис на руках между небом и землей, извиваясь, как уж, и исчез. И почти тут же резко дернулась в моих руках веревка. Привязав к ней корзину с лягушками, я тоже дернул. Корзина плавно пошла вверх.
Я прижался к влажной от росы решетке, чувствуя, как в тело впиваются железные прутья, и затаил дыхание. Но ни звука не доносилось с четвертого этажа, все так же тихо было вокруг, одна лишь собачонка не могла угомониться. Только время вдруг ускорило свой бег: кажется, прошла уже целая вечность, почему же не возвращается командор?
— Вить, — не выдержал я и дернул за веревку.
И в это время раздался пронзительный визг:
— Ой, мамочка, мамочка!..
У меня все оборвалось в груди. От страха я даже не заметил, как Витька черной тенью скользнул вниз, выдернул веревку и растянулся на балконе.
— Ложись!
Повторять свой приказ дважды ему не пришлось.
Наверху послышались шаркающие шаги, и сонный женский голос испуганно произнес:
— Что с тобой, сынок? Или приснилось что?
— Приснилось… — жалобно захныкал Африкан. — Будто что-то холодное такое, липкое — шлеп! — по лицу…
— Я ж тебе говорила не есть столько блинчиков на ночь, — раздраженно сказала Африканова мама. — Наелся, вот и снится неведомо что, глупство всякое. Спи…
Я зажал рот рукой, чтоб не рассмеяться.
Снова зашаркали шаги, скрипнула дверь в спальню — сквозь открытый балкон был хорошо слышен каждый звук, — и Витька подтолкнул меня в бок. Мы переползли в комнату, сели друг против друга на пол и затряслись от беззвучного смеха.
— Чистая работа! — Витька сунул в карман перчатки и маску. — Я и не думал, что в него попаду. Сам перепугался, когда он заорал. Там, на балконе, Африканова куртка висела, так я в карманы по одной положил. Комедия! Ну, я пошел, а то еще Лерка заснет, как ты, — домой не заберусь. Корзина пусть у тебя постоит, Ростик как-нибудь заберет.
Я выпустил Витьку и запер за ним дверь.
Можно считать, что операция «Ква-ква» началась блестяще. Интересно, как она закончится?
ПОД НУЛЕВКУ
Вернувшись, я тщательно перетряс свою постель и с головой закутался в одеяло. Мысль о десяти невыловленных лягушках, которые сейчас преспокойно разгуливали по нашей квартире, не давала мне покоя, в ушах звучал жалобный голос Африкана, и заснул я, когда уже погасли звезды, а окно стало серым-серым.
Утром меня поднял растерянный, изумленный голос отца. Я открыл глаза и увидел, что он держит в руках свой шлепанец, а в шлепанце, важная и невозмутимая, как китайская императрица, сидит толстенная лягушка. «Осталось девять», — механически подумал я.
— Ты мне не скажешь, что это такое? — Отец подошел к моей кровати, держа перед собой шлепанец, словно редкую хрустальную вазу.
Я приподнялся на локте и как можно невозмутимее ответил:
— По-моему, лягушка. А ты как думаешь?
— Сам вижу, что лягушка, а не страус эму. — Отец поджал босую ногу и пошевелил пальцами. — Но почему она не в болоте, а в моем шлепанце?
— Совершенно не представляю. — Я сунул руку под кровать за своими тапочками и… кувыркнулся на пол. — Ай!
— Что такое? — присел на корточки отец.
Я разжал кулак.
— Лягушка.
— Как, еще одна? — От неожиданности он выронил свой шлепанец. Его лягушка сделала сальто-мортале и бодро поскакала в угол. — Держи ее!
Я поймал. Осталось восемь.
— Кошмар! — Отец пригладил взъерошенные волосы. — Представляешь, просыпаюсь, сую ногу в шлепанец, а там что-то как завозится, как зашевелится… Бр-р-р! Теперь вторая… Значит, ты вправду не знаешь, как они к нам попали?
— Вправду не знаю. — Я выудил свои тапочки и, прежде чем обуть, старательно вытряс их.
— Но это хоть все или еще не все? — не унимался отец.
— Ты мне задаешь смешные вопросы, папка. Откуда ж я знаю? Раз есть две, может быть и десять. — На всякий случай я решил его подготовить.
— Логично. Только это не логика, такие пироги, это же мистика чистейшей воды. Тимка, не заставляй меня ломать голову над такой ерундой. Признавайся, ты притащил их для террариума, и они у тебя разбежались или…
Я поднял кверху палец.
— Послушай. Кажется, мы сейчас все поймем.
В квартире у Африкана бушевал ураган в восемнадцать баллов. Знаю, знаю, что баллов всего двенадцать, но разве это были те баллы? Это были те еще баллы, и можете мне поверить на слово, что было их никак не меньше восемнадцати. Пусть мне даже поставят по географии двойку, все равно я от этого не отступлюсь.
Над нашими головами раздавался топот, словно сквозь чащу продиралось стадо бизонов. Скрипела сдвигаемая со своих мест мебель, слышался визг, писк, рев… Мамаево побоище, нашествие гуннов на Римскую империю, последний день Помпеи…
Мы выскочили на балкон и задрали головы. Над нами, словно реактивные самолеты, пролетели две лягушки, а затем загремел мощный бас Африкана Гермогеновича:
— Фулиган! Молчать! Я тебя кормлю, пою, одеваю, обуваю, а ты в дом всякую гадость таскать! Запо… — Африкан Гермогенович запнулся, и еще одна лягушка совершила путешествие с небес на землю, как ее знаменитая сестра из славной старой сказки.
— Папочка, это не я! — верещал Африкан-младший. — Честное слово, не я…
— Брешешь, стервец, не сами ж они залетели на четвертый этаж. Это ж тебе не вороны, у них крыльев нету! — громыхал Африкан Гермогенович. — И в тот раз ты эту гадость в дом приволок, и теперь — твоя работа. Мало над родителями измываешься, по два года в одном классе штаны протираешь, со всех сторон жалобы на тебя идут, так ты еще вон что вытворяешь! Лохмы отрастил, стиляга паршивый, дрынкалку себе завел… — Наверху снова что-то грохнуло, дзвынькнуло, и вдребезги разбитая гитара повисла на тополе, зацепившись порванными струнами за ветку, а вслед за ней вылетела еще одна лягушка. — Родного батьку на посмешище выставлять!..
Отец затащил меня в дом, но все равно было слышно каждое слово. Попробуй не услышать, если чуть ни на все балконы повыскакивали встревоженные люди.
— Теперь ты понимаешь, откуда лягушки? Африкан, видно, и нам подкинул. Двери-то все открыты, вот они и разбрелись по квартире, — сдерживая смех, невозмутимо сказал я.
— Скверный мальчишка, — пробормотал отец и схватил меня за руку. — Смотри, еще одна!..
«Семь!» — мысленно поправил я его и кинулся в погоню за беглянкой.
А наверху шторм не прекращался. Там тоже продолжалась охота, и Африкан Гермогенович драл Африкана-младшего, как Сидорову козу. Мы были отмщены, но вдруг мне стало как-то не по себе: ужасно, когда кто-то оказывается без вины виноватым, даже если это такой тип, как Африкан-Таракан.
История с лягушками на этом не закончилась. Не думаю, что Африкану удалось переубедить отца, но, отлупив его, Африкан Гермогенович решил заодно расправиться и со всеми нами. Ему уже давно мозолила глаза площадка перед гаражами, на которой мы гоняли мяч, и он решил соорудить там еще две беседки, чтобы навсегда покончить с жалобами на разбитые окна и вытоптанные клумбы.
С утра, расстроенный и хмурый, он пришел на площадку с несколькими рабочими, а вскоре на машине подвезли и выгрузили груду досок и столбов.
Весть о покушении на единственный принадлежавший нам кусок двора мигом облетела все четыре дома, и возле гаражей собралась целая толпа мальчишек. Нечего и говорить, что «Черная стрела» в полном составе прилетела одной из первых. Мы стояли и молча смотрели, как домоуправ собственноручно размечает площадку, выгораживая узкий проезд для машин.
Припекало. Просторный парусиновый пиджак на лопатках Африкана Гермогеновича потемнел, из-под капроновой, с дырочками, шляпы градом катил пот. Разметив место для беседки, он разогнул спину и обвел нас сердитым взглядом.
— Чего, понимаешь, стоите? А ну, марш гулять, не мешайте работать! Для вас стараешься, горб гнешь, дефицитный материал переводишь, а вы, понимаешь, только под ногами путаетесь да фулиганите…
Он полез в карман и вместе с носовым платком вытащил… лягушку: Витька ошибся, на балконе висела не куртка Африкана-младшего, а пиджак Африкана Гермогеновича. Лягушка мгновение посидела у него на ладони, словно прикидывая, куда лучше удрать, потом лихо соскочила и поспешила к кустам.
Толпа взорвалась оглушительным хохотом. Африкан Гермогенович дико посмотрел на лягушку, будто это была, по крайней мере, гремучая змея и он только что избежал смертельной опасности, выронил платок и попятился. И тут, на свою беду, на глаза ему попался Африкан-младший. Он не смеялся, нет — видно, еще не забыл об утреннем шторме, но все-таки ухмылялся, и челка тряслась у него над глазами.
Лицо Африкана Гермогеновича налилось кровью, а глаза засверкали.
— А-а-а! — Он цепко схватил сына за руку. — Смеяться?! Над батькой смеяться! Ах ты, поганец долгогривый! В парикмахерскую! Под нулевку! Я тебя научу, понимаешь, как родителей уважать!.. — И потащил Африкана-младшего в парикмахерскую.
Африкан пахал землю ботинками и ревел на весь двор! Еще сильнее, чем утром. Но отец не обращал на его слезы никакого внимания. Он тащил Африкана, как трактор, и все разбегались перед ними, а затем, посмеиваясь, шли сзади. Не одной только «Черной стреле» насолил Африкан, все хотели быть свидетелями его позора.
Вскоре на пятачке, где еще недавно разыгрывались футбольные баталии, выросли две новые беседки.
С неделю Африкан-младший отсиживался дома, наверно, привыкал к своей «лысине» и переживал. Потом, как-то утром, появился, в берете, надвинутом на самые брови. В руках он держал хозяйственную сумку. Помахивая этой сумкой, Африкан направился к нам.
Мы стояли возле Витькиного подъезда и рассматривали марки: Казику отец где-то достал монгольских марок, очень красивых — прямоугольных, ромбиками, квадратных… Когда Африкан подошел, Казик спрятал марки в карман.
Африкан облинял, как петух, у которого в драке выщипали хвост. Странно было видеть его большие оттопыренные уши и белую незагоревшую полоску вокруг берета.
Мы немножко постояли молча, словно рассматривали друг друга. Потом Африкан хрипло сказал:
— Радуетесь, да? Ладно, радуйтесь… Я вам этого никогда не прощу. Особенно тебе, рыжая крыса, так и знай.
А мы вообще-то нисколько не радовались. Нам было даже как-то неловко перед ним, мы никогда не думали, что отец так унизит его перед всеми, и, если бы Африкан заговорил с нами, как человек, мы бы от души ему посочувствовали. Но угрожать…
Витька сжал кулаки, и глаза у него стали узкими, как щелочки.
— Не ходите, детки, в Африку гулять! — кривляясь, проблеял он. — Там живет усатый, мрачный великан, страшный и ужасный таракан…
— Таракан, таракан, тараканище! — дружно подхватили мы — мы нисколечко его не боялись.
А зря…
ЧЕРНЫЕ КРЕСТЫ
Шло лето, знойное, душное, с редкими грохочущими грозами, с терпкой горьковатой земляникой и кислыми, как уксус, яблочками на яблонях в нашем дворе. В пионерские лагеря никто из нас не поехал. Жека и Казик собирались, но на третью смену, Ростик, Витька и Лера попозже думали съездить к бабушкам, а я ждал, когда пойдет в отпуск отец: мы решили махнуть на «Москвиче» в Ленинград. Ну, а пока мы держались своей компанией. По-прежнему каждое утро встречались у Крысевичей, ходили на реку, обменивались друг с другом книгами, марками, резались в лапту — никак не могли подыскать подходящий для футбола пустырь.
Отец разрешил мне брать ключи от гаража, и иногда мы собирались там. Железный гараж за день накалялся так, что нечем было дышать, удушливо пахло бензином и маслами, но зато на полках лежала пропасть всяких инструментов, сбоку стоял небольшой верстачок с тисками, и мы мастерили всякую всячину: самопалы, наконечники для стрел, парусные яхты, а Витька до слез смешил нас бесконечными рассказами о том, как он воюет с Лерой и Вовкой.
Однажды я снова получил шифровку. Она была короткой — всего семь слов: «Сегодня в восемь пароль Африка ответ Австралия». Я сразу догадался, что шифровала Лера. Витька никогда не позволил бы себе написать: «Сегодня в восемь». Он написал бы: «Сегодня в двадцать ноль-ноль». По-военному.
Захватив фонарик, я спустился в подвал. На этот раз часовым был Жека. Я назвал пароль. Жека впустил меня и с лязгом закрыл дверь.
— Опаздываешь! — недовольно прошипел он. — Торчи тут из-за тебя…
Я примерно догадывался, зачем командор собирает «Черную стрелу». В последние дни в нашем доме только и разговоров было, что о каких-то хулиганах, которые забрались в подвал и очистили несколько сарайчиков. Пробои повыдирали «с мясом», мы бегали смотреть. Видно, поддевали ломиком, как ты его иначе вырвешь…
Пропала куча всякой всячины. У кого — новенькие коньки с ботинками, у кого — санки, у кого — ящик с елочными игрушками. Но больше всего взломщики охотились за пустыми трехлитровыми банками. В которых всякие компоты консервируют. Тетя Вера из 19-й квартиры плакалась, что только у нее сперли двадцать одну штуку.
— Это ж шестьдесят три литра яблок со сливами можно было поставить!.. — всплескивала она руками. — Шестьдесят три скулы им в бок, паразитам, где ж я теперь банок напасусь?! Без ничего на зиму останусь…
Африкан Гермогенович вызвал милицию. Усатый старшина осмотрел развороченные косяки, записал, что у кого пропало, цыкнул на нас, чтоб не ходили следом, и ушел. Мы думали, что он сейчас вернется с собакой-ищейкой, будут снимать отпечатки пальцев, и вообще начнется интересное кино, но ничего не случилось — усатый старшина словно в воду канул. Как и тети-Верины банки. А раз так, Витька, очевидно, решил, что поисками преступников должны заняться мы сами.
Я не ошибся.
Все уже были в сборе. На столе оплывала новая стеариновая свеча. Мы напялили маски, завернулись в балахоны — так было интересней, таинственней, — и командор поднял руку, требуя тишины.
— Братики-матросики, — торжественно сказал он. — Объявляю «Черную стрелу» на военном положении. Боевая готовность номер один. Казик, убери ватрушку, а то я тебе в ухо дам. Все вы знаете, что в нашем дворе завелась шайка подлых людишек, которые бессовестно грабят мирных жителей. Подозрение падает на всех нас. Все прямо так и говорят, что это сделали пацаны. Милиция собаку пожадничала. Что из этого следует? — Витька обвел нас пылающим взглядом. — А из этого следует, что мы сами должны найти вредителей-банкопохитителей и устроить им харакири. Кто за это предложение, прошу поднять руки.
Предводитель тайной организации «Черная стрела» был неисправимым бюрократом!
— Единогласно. Поехали дальше. Предлагаю операции по выслеживанию и ликвидации вредителей-банкопохитителей присвоить кодовое наименование «Луч-1».
— А почему не «Звезда-2», — ехидно протянул Казик. Обычно он безропотно соглашался со всем, что предлагал командор, но сегодня его, видно, обидела Витькина реплика насчет ватрушки. — Или не «Север-3»? Я лично думаю, что это даже лучше — на Северном поселке проводить операцию с кодовым наименованием «Север-3».
— Ну, пускай себе «Север», — растерялся Витька. — А ватрушку ты все равно убери, иначе я ее реквизирую!
— «Луч» так «Луч», «Север» так «Север», — примирительно сказал Ростик и подтянул на плечи сползавший балахон. — Главное — как эту шпану выследить?
— Нужно поспрашивать ребят из других домов, — предложила Лера. — Не может быть, чтоб это кто-то из нашего. У нас, вроде, нету таких. Ну, Африкан… Так он сейчас тише воды, ниже травы…
— Я придумал, как их выследить! — Витька развернул на столе большой лист бумаги. — Смотрите сюда: это план нашего подвала. Сегодня целый день рисовал. У нас пять подъездов. В каждом подъезде по двадцать квартир и по двадцать сарайчиков. И еще по такому закоулку, как наш. В сараи ходы общие, а в закоулки — отдельные. Теперь так… Где стоят черные кресты, эти сарайчики взломали. Один в первом подъезде, один во втором и два в четвертом. Третий и пятый почему-то не тронули. Попасть в подвал можно двумя путями: через двери и через вентиляционные…
Договорить Витька не успел. Дверь в наш штаб с треском распахнулась, порывом ветра задуло свечу, и в то же мгновение два нестерпимо ярких фонаря ослепили нас, словно расстреляли в упор.
— Вот где они, понимаешь, голубчики! — загремел под низкими сводами бас Африкана Гермогеновича. — Попались, курицыны дети, ворюги паршивые! Полюбуйтесь, граждане родители, на ваших деток! Малолетние преступники, понимаешь, а не советские школьники! Именно преступники!..
Я отпрянул к стене и сорвал маску. Я ничего не видел: два снопа света выдавливали слезы, резали глаза, и я закрыл лицо краем балахона.
— Не закрывайся, не закрывайся, все равно, понимаешь, откроем! Бандиты, а?! Смотрите на них, граждане, смотрите!
— Опустите фонари! — крикнул Витька. — Постойте минутку, мы вам сейчас все объясним.
— Нет, это вы постойте! — Африкан Гермогенович опустил фонарь и оттолкнул Витьку. — Стоять, тебе говорят! Это что? Планик, понимаешь! — Он схватил со стола разрисованный лист. — Вот вам и вещественное доказательство, граждане родители! Первое! А скоро, понимаешь, еще будут.
Глаза привыкли к резкому свету, и я разглядел за Африканом Гермогеновичем своего и Витькиного отцов и тетю Веру из 19-й квартиры.
— Ну, какое ж это доказательство, — проворчал Павел Петрович и посветил на план. — Детская мазня…
— Мазня! — воскликнул Африкан Гермогенович. — А вы посмотрите на эти кресты! Это ж ограбленные сараи. 19, 34, 66 и 73… Планомерное, понимаешь, ограбление! Уголовщина!.. А какой вы сегодня очистить собрались?
— Это неправда, — сказал я, скорее обращаясь к своему и Витькиному отцам, чем к Африкану Гермогеновичу. — Мы никого не обчищали. Мы просто играем. А план… Мы сами хотели этих жуликов поймать, для того и составили.
— А вот сейчас мы проверим, понимаешь, проверим! — Африкан Гермогенович зажег свечу, она зыбко замерцала в сильном свете фонарей. — Становитесь сюда, к столу, и не трепыхайтесь. А то буду вынужден применить физическое воздействие! Глеб Борисыч, Павел Петрович, Вера Ивановна, давайте-ка сюда поближе. Сейчас мы обследуем эту бандитскую берлогу, и вы сами, понимаешь, убедитесь в правильности моей информации.
Фонари обежали голые стены и уперлись в левый дальний угол. Там горой был свален всякий хлам: старый продавленный диван, огромная кадка из-под фикуса, поломанные полки…
Мы как-то не обращали на этот хлам внимания — лежит и лежит, места в сарае хватало. К тому же пыли там было, паутины…
Африкан Гермогенович отважно сунул руку в кадку и вытащил оттуда… две трехлитровые банки.
— Видал-миндал! — Банки тоненько звякнули в тишине. — Что я вам говорил? Вот ваши баночки, Вера Ивановна, видно, понимаешь, реализовать не успели. Глядишь, и еще кое-что найдем… — И он ловко вытащил из кадки длинную елочную гирлянду. Прямо как фокусник в цирке.
— Тима, что это такое? — Отец наклонился надо мной. — Что это? Ты же дал честное слово, Тима… ты же поклялся…
— Сами видите, что — вещественные доказательства. — Африкан Гермогенович выудил из-за дивана тонкий кривой ломик. — А вот и орудие, так сказать, ихнего производства!
Ломик был наш. Только сегодня утром отец спрашивал, не видал ли я его — зачем-то понадобился; я ответил, что не видал. Как он здесь очутился?
Павел Петрович с интересом рассматривал ломик.
— Фомка, а! Настоящая бандитская фомка. И где только выпороли?..
И тут отец наотмашь ударил меня по лицу, повернулся и вышел.
Я отлетел к стене и схватился за вспыхнувшую щеку. Я не почувствовал боли, хотя рука у отца была тяжелая. Я стерпел бы любую боль, и заплакал я не от боли, а от обиды, потому что так несправедливо со мной еще никто и никогда не поступал. Я бросился за ним, чтобы объяснить, как все случилось, чтобы он понял, что нельзя так, не разобравшись, но Павел Петрович остановил меня:
— Постой, субчик-голубчик, успеешь с козами на торг. Давай уж до конца исследуем, каких вы тут дров наломали.
А Африкан Гермогенович выставлял на середину все новые и новые банки. Из-за дивана, из кухонного столика, из-за поломанных стульев…
Кто это сделал? Неужели Афрнкан? Конечно, он, кто же еще! Рассчитался с нами за лягушек!.. Но на кой ему понадобилось стаскивать сюда столько всякого барахла? Ведь достаточно было двух-трех банок, чтоб мы на весь двор прослыли взломщиками. Это ведь опасно — одному перетаскать из разных подъездов такую кучу всякой всячины, запросто засыпаться можно… А если он был не один?.. А если это вообще не Африканова работа?..
И вдруг мне все стало безразлично. Я опустился на пол и прижался щекой к холодной бетонной стене. Африкан — не Африкан… ну вас всех к шутам! Что хотите, со мной делайте, плевать я на это хотел! Но как мог отец мне не поверить, какое он имел право? Конечно, и ломик, и банки, и вообще все это так неожиданно… Но Павел Петрович не спешит лупить Витьку и Леру! Я ж никогда не обманывал его… Вернее, не то что совсем не обманывал, а никогда не обманывал подло, чтоб от этого стало плохо кому-то другому, — разве что эти дурацкие лягушки… Отец знает, что я не жулик, не хулиган… почему он так легко, так быстро поверил? Он не должен был верить, несмотря ни на что… Если бы он верил мне всегда. Значит, он всегда мне не верил, а только притворялся! Вот если бы пришли ко мне и сказали: «Твой отец вор!» Я рассмеялся бы им в лицо и сказал, что они его с кем-то перепутали. А если бы они сказали: «Смотри, вот какая-то чужая штука, мы нашли ее у твоего отца в кармане! Теперь ты веришь, что он вор?» И я бы ответил: «Нет, не верю и никогда не поверю! Лучше поищите того, кто подсунул эту штуку отцу в карман, потому что мой отец не может быть вором. Понимаете, не может! Как не может быть изменником Родины. Или не заступиться за слабого, или солгать!» И если бы они спросили: «Почему ты так веришь ему?» — я ответил бы: «Потому что он — мой отец. Я знаю его сто лет, он не может быть подлецом!» И больше я ничего не стал бы говорить, но я не отказался бы от своих слов, даже если б меня резали на куски.
А он мне не верит… И какая разница, что там еще найдет Африкан Гермогенович, скорей бы все это кончилось, чтоб вырваться отсюда, хоть в детскую комнату милиции, хоть в тюрьму, только бы вырваться!..
За столом, на обороте Витькиного плана, так старательно вычерченного и разрисованного, Африкан Гермогенович сочинял акт или протокол, не знаю, как это называется. Кончив писать, он прочитал нам эту длинную бумагу, из которой было ясно, что мы воры, бандиты, взломщики, и только учитывая малолетний возраст, нас нужно не колесовать или сварить живьем в смоле, а всего-навсего повесить. Бумага заканчивалась огромным списком найденных вещей, кои надлежало вернуть владельцам. Нечего и говорить, что мы наотрез отказались ее подписать.
— И не надо, понимаешь, и не надо! — Африкан Гермогенович бережно свернул бумагу в трубочку. — Свидетелей достаточно. Надежные свидетели, ваши ж папаши. В милиции живо подпишете, все, как есть, выложите. А в подвал вы больше и носа не сунете, уж я, понимаешь, об этом позабочусь. Все, можете идти.
ОДНИ НЕПРИЯТНОСТИ
Говоря словами древнего летописца, в тот вечер в квартирах членов «тайной организации „Черная стрела“» «…сеча была зла и ужасна».
Правда, меня отец больше не трогал, даже не зашел ко мне. Зарывшись лицом в подушку, я слышал сквозь стену, как он ходил по комнате, натыкаясь па стулья. Переживал…
«Так тебе и надо! — думал я. — Хоть всю ночь расхаживай, не жалко. И вообще… вот удеру я из дому, будешь тогда знать. А что, запросто удеру! Подговорю еще Витьку, чтобы одному не так скучно было, и махнем мы куда-нибудь в Сибирь. Поступим в ремесленное, выучимся на бульдозеристов или еще на кого… не пропадем! А тем временем усатый старшина найдет настоящих жуликов, которые сараи взломали, — хотел бы я тогда на тебя посмотреть! Что ты тогда скажешь? И будет тебе так плохо, как мне сейчас, и ты здорово пожалеешь, что при всех трахнул меня по лицу. А я, как узнаю про это, тебе из Сибири телеграмму пришлю. Что, мол, я тебя прощаю, и все такое прочее. Чтоб ты не очень-то переживал… А впрочем, ни в какое нас ремесленное не примут — мало каши ели. Словят на первой же станции и пришлют домой. А как теперь дома жить? Все пальцами будут показывать: „Воры! Воры!“ Это если не посадят. А то ведь и посадить могут, вон какой протокол, или как он там называется, Африкан Гермогенович настрочил… А что — все улики налицо. Все против нас, даже злосчастный план подвала с черными крестами над ограбленными сарайчиками. Хотя, нет, посадить вроде бы не должны… Милиция — она разберется! Она не такие дела распутывала! Эх, майора бы Пронина сюда! Или комиссара Мегрэ! Тот лишь огляделся бы, подумал, закурил свою трубку и сказал: „А подать сюда Ляпкина-Тяпкина… тьфу ты, Африкана-Таракана!“ И точка. Африкан сразу раскололся бы, как орех, — спорить могу, что он в эту историю замешан! Откуда, как не от него, Африкан Гермогенович все узнал?!»
Вот так я думал, ворочаясь в кровати, а отец ходил за стеной, как заведенный, натыкаясь на стулья. И мне вдруг стало жалко его, и Витьку с Лерой, и всех наших ребят. Ну, почему так несправедливо устроен мир? Ты хочешь — как лучше, а получается — наоборот! Если бы не зашел отец, я, наверное, додумался бы до того, что и Африкана пожалел…
Отец сел на край моей кровати, как когда-то, поправил скомканное одеяло и закурил.
— Тима, расскажи мне все-все. Только по правде.
— Я хотел рассказать там, в подвале… — Я отвернулся к стене. — Но ты даже слушать меня не стал. Все равно ты мне не веришь.
— Я всегда верил тебе и очень хочу поверить сейчас… очень! Я погорячился, извини. Ну, хочешь, я завтра позову всех ребят и при них попрошу у тебя прощения?! Я сам себя презираю за то, что ударил тебя, но когда я увидел этот ломик… это же наш ломик… у меня в глазах потемнело. Что вы там все-таки делали, в подвале? Что это за маски, черепа, балахоны? Откуда там появились краденые вещи? Это ведь какой-то ужас. Я думаю, ты гуляешь где-то во дворе, и вдруг врывается Африкан Гермогенович. «Ваш сын — грабитель!» — ни больше, ни меньше. «Идемте, сейчас мы их накроем на месте преступления, будете, понимаешь, свидетелем!» Можешь представить мое состояние! И мы приходим, и — «накрываем»… Я понимаю: если ты не виноват, тебе обидно. Но ты, пожалуйста, не молчи, потому что из одной несправедливости рождается другая, а когда их становится слишком много… — Он покрутил головой и прикурил новую сигарету. — Одним словом, выкладывай все как на духу.
Разыгрывать обиженного принца не было смысла, и я рассказал все без утайки. Как с Африканом дрова таскал и что из этого вышло, про «Черную стрелу», лягушек и Витькин план… Он слушал меня и курил сигарету за сигаретой — просто нечем стало дышать от дыма.
— И эту грязную конуру вы называете своим «штабом»? — Отец закашлялся и открыл форточку. — В этой дыре, среди хлама и мусора, вы обсуждали свои дела и давали торжественные клятвы?! Ну, мой милый, мне просто стыдно за вас! Тем более что среди вас есть девчонка. Как она могла мириться с такой грязью, со всей этой завалью? А Людмила Мироновна еще как-то говорила, что ее Калерия — трудолюбивая девочка и уж такая чистюля… Хороша, чистюля, нечего сказать!
— Да нет же, она сто раз предлагала нам все убрать! — кинулся я защищать Леру. — Это мы не соглашались: я, Витька… Ну как ты не понимаешь: если б мы начали выносить мусор, все сразу догадались бы про наш штаб. И не стало бы никакой тайны.
— М-да… — пожевал губами отец. — Тайна — это, конечно… — Он грустно усмехнулся. — Но ты понимаешь, Тима, подозрение будет висеть на вас, пока не найдут истинных виновников.
— Понимаю, — ответил я. — Но ведь ты мне в конце концов поверил?! Пожалуй, и Витьке с Лерой поверят — смешно же думать, что девчонка взламывала чужие сараи. Если что, ты поговори с их родителями, а, пап! Они мировые ребята, Витька с Лерой, клянусь тебе… А «вредителей-банкопохитителей» мы найдем. Обязательно!
— Ну что ж, мы с Павлом Петровичем постараемся вам помочь. — Отец встал и направился к двери. — Спокойной ночи. Между прочим, пока ваш штаб закрыт на «переучет», можете собираться у нас. Только ради бога не жгите свечей — пожар устроите. Правда, это не так романтично, как в грязном, душном подвале, но все-таки…
Назавтра по приказу Африкана Гермогеновича мы с родителями собрались в «доминошной» беседке. Я, Витька и Лера пришли с отцами, Ростик и Казик — с мамами. Наши — ничего, даже шутили, а у мам были испуганные, заплаканные глаза. Особенно у Казиковой, Валентины Ивановны, маленькой, худенькой… Казик определенно весил раза в два больше ее. Валентина Ивановна крепко держала Казика за руку, словно боялась, что вот сейчас он вырвется и тут же побежит грабить людей и взламывать чужие сараи.
Африкан Гермогенович вытащил «протокол» и торжественным басом сказал, что, учитывая наше чистосердечное раскаяние — когда и кто успел «покаяться», ума не приложу! — а также юный возраст, он решил дело в милицию не передавать, а отдать нас на поруки родителям. Родители обязаны в складчину или как договорятся возместить ущерб за ненайденные и приведенные в негодное состояние вещи — не нашли ботинки с коньками и была разбита пропасть елочных игрушек, — а также хорошенько выпороть нас, дабы впредь неповадно было. Ни нам, ни другим.
Он назвал сумму, и мамы торопливо полезли в кошельки за деньгами.
— Подождите, — сказал Павел Петрович, — мы с Глебом Борисычем не согласны. Мы расспросили своих детей и верим, что они ни в чем не виноваты. И от меня вы не получите ни копейки. Дело не в троячке или пятерке; если мы заплатим, мы согласимся, что наши дети — воры. А я с этим ну никак согласиться не могу.
— И я тоже. — Отец положил мне на плечо руку. — Конечно, очень великодушно с вашей стороны, Африкан Гермогенович, что вы решили не сообщать в милицию о столь блистательном разоблачении банды малолетних преступников, которое мы провели вчера под вашим руководством, но ведь там о факте взлома сарайчиков уже знают. И, наверное, разбираются. Правда, дело такое пустяковое, что и без милиции можно обойтись, мы в своем дворе лучше людей знаем, да и ребята вот… И мы должны не просто замять это неприятное для всех нас «дело», но обязательно найти настоящих виновников и снять с ребят несправедливое обвинение.
— Значит, понимаешь, того, что мы вчера видели, мало? — Африкан Гермогенович чуть не задохнулся от возмущения. — Я к вам с открытой, понимаешь, душой, чтобы неприятностей не было — все-таки, понимаешь, соседи! — а вы еще своих деток выгораживать! Да если это, — он угрожающе потряс «протоколом», — в милицию передать, их же запросто в трудколонию упекут…
— Не надо в милицию! — испуганно воскликнула Валентина Ивановна. — Миленький Африкан Гермогенович, не надо. Я заплачу, я сама заплачу за всех, только отдайте мне эту проклятую бумагу! — Она совала Африкану Гермогеновичу деньги, а тот растерянно хлопал глазами.
— Мама! — Казик, чуть не плача, потянул ее назад. — Что ты делаешь, мама?! Я ж тебе сто раз говорил, что мы ни в чем не виноваты!
— Виноваты ли не виноваты, я об этом и думать не хочу! Я хочу только одного — чтобы тебя оставили в покое. Эти хулиганы доведут тебя до тюрьмы, вот увидишь… Если ты меня хоть чуть-чуть жалеешь, ты больше никогда не будешь с ними связываться…
Казик покраснел и надулся так, что, казалось, вот-вот лопнет. На носу у него выступили капельки пота.
— Они не хулиганы, а мои друзья! — крикнул он. — А ты… а ты…
Казик выскочил из беседки как ошпаренный. Витька, Ростик и Лера бросились за ним. Я остался: интересно, чем закончится этот разговор?
Валентина Ивановна тоже было рванулась за ребятами, но бессильно опустилась на скамеечку, закрыла лицо руками и заплакала.
— Зря вы сына обидели. — Павел Петрович достал платок и принялся сосредоточенно протирать очки. — И наших — тоже. Хорошие они ребята и друзья настоящие. Да таким сыном, как ваш Казимир, гордиться можно, а вы плачете.
— Гладьте, гладьте их по головкам! — Африкан Гермогенович скомкал «протокол» и сунул в карман. — Гладьте больше, они вас, понимаешь, еще не так порадуют! Я своего через день деру, а вон каким балбесом растет! Одним словом, граждане, какое будет решение? Брать мне с Валентины Ивановны деньги на покрытие недостачи, чтоб, понимаешь, людям ущерба не было, или…
— Берите! — всхлипнула Валентина Ивановна. — Пожалуйста, возьмите…
Отец развернул меня на сто восемьдесят градусов и шлепнул пониже спины:
— Ступай к ребятам, здесь мы сами разберемся.
Ребят я нашел в парке завода электроприборов — там есть в заборе дырка, мы всегда через нее лазаем. Они сидели в рядок на скамейке под яблоней. Жека строгал палочку. Казик уныло жевал сплющенный пирожок — от огорчения он даже забыл поделиться с друзьями. Лера что-то чертила прутиком на земле. Витька и Ростик сидели просто так.
Я подсел сбоку. Витька скосил на меня разноцветные глаза.
— Дела… — шмыгнул on облупленным носом и взлохматил свою рыжую чуприну. — «Дело было вечером, делать было нечего…» А ведь нам теперь этих жуликов, кровь с носа, поймать нужно. Дома как дома, а пока их не выловят, во дворе нам житья не будет. Это факт.
— Давайте поговорим с Африканом, — предложил я. — Голову наотрез даю — это он нам подстроил.
— С Африканом говорить не о чем. — Казик повертел в руках огрызок пирожка и закинул в траву. — Ничего мы от него не добьемся. Сами давайте придумаем.
— Но Витька так и не досказал нам свой план! — вспомнила Лера. — Или он уже не годится?
— Почему ж… годится… — Витька оглянулся по сторонам и, убедившись, что нас никто не подслушивает, — разве воробей на ветке! — сгреб меня и Ростика за плечи: — Давайте поближе.
Мы сбились в тесный кружок.
В ЗАСАДЕ
Как Витька уже говорил, в наш подвал можно попасть двумя путями: через двери и через вентиляционные люки. Двери сейчас закрыты намертво — Африкан Гермогенович установил сверхпрочные и сверхнадежные замки и на каждый этаж дал по ключу. Кому надо, берут друг у друга. Детям ключи давать запрещено под страхом… уж не знаю чего. Значит, остаются лишь вентиляционные люки. Вообще это никакие не люки, а узкие щели в фундаменте, почти у самой земли. Правда, пролезть сквозь них можно запросто. Раньше эти щели были заделаны проволочной сеткой, сейчас она осталась только со стороны двора, с фасада — повыдирали. Таких незаделанных дыр четыре.
План командора был проще пареной репы. Он заключался в том, что «вредители-банкопохитители» еще обязательно к нам наведаются. Они не примирятся с тем, что почти вся их добыча пропала, и тут-то мы их выследим. Значит, нужно установить круглосуточное наблюдение за вентиляционными люками и за Африканом — может, хоть случайно, наведет на след.
При слове «круглосуточное» ребята приуныли.
— Постойте! — вдруг воскликнул Жека. — А зачем круглосуточное? Мы ведь как считаем? Что в сараюшки лазили такие же пацаны, как мы. Ну, может, немного постарше. Им ведь тоже родители по ночам разгуливать не дают. Да и вообще, почему вы думаете, что они взламывали замки ночью, а не днем? Ночью тихо, любой шорох слышен, а это ж надо пробои из гнезд драть… Треск, скрежет… А днем, когда все на работе, одни бабки да малые дома, — им лафа! И если уж следить, то нужно не по ночам, а днем.
— Умница ты, Жека! — Лера засмеялась и хлопнула Жеку по плечу. — Я всегда говорила, что ты — самый умный!
Жека просто расцвел от удовольствия. Витька фыркнул. Казик и Ростик с облегчением вздохнули. А в меня будто бес вселился. То ли оттого, что сам не смог додуматься до такой простой мысли, то ли оттого, что Лера ему так засмеялась, «умнице», а он покраснел…
— Чепуха, — сказал я. — Где это видано — чтобы днем!.. Нужно и по ночам дежурить.
— Ну и дежурь! — надулся Жека.
Еще бы! А то я на его месте не надулся бы!
— Ну и буду! — отрезал я.
Командор решил добиться порядка давно проверенным способом.
— Кто — чтоб дежурить только днем? Раз, два, три, четыре… Кто против? Один. По большинству голосов дежурим с утра до вечера, пока спать идти. Вопросы есть?
— Все равно буду ночью дежурить! — уперся я, как козел. — Я сам их выслежу, а вы…
Витька побледнел.
— Это что — бунт, да? Все — дураки, а ты один умный? Ты клятву давал?..
— Не кипятись, — хмыкнул Ростик. — Одно другому не мешает. Если отец его отпустит, пускай дежурит ночью. Зато мы его от дневного дежурства освободим.
Это счастье, что Ростик вмешался, мы бы с Витькой определенно поссорились. А сейчас это было совсем ни к чему. Он, наверное, тоже понял, что ссориться не стоит, и махнул рукой:
— Ладно, дежурь. Если что — сразу дуй к нам. Три звонка — и я буду во дворе.
…И вот, весь день прослонявшись с ребятами вокруг дома, — экая радость, что они освободили меня от дневного дежурства, в запас мне спать, что ли! — теперь я совсем один. Сижу, как ворона, в кустах за забором парка и пялю глаз на фасад нашего дома. Натянул на голову куртку и дрожу. Не от страха — от холода. Никогда не думал, что такие свежие стоят ночи. Впору не куртку — шубу надевать. Предлагал отец свитер — не послушался, балбес, а сейчас жалею.
Одно за другим в доме гаснут окна. Только наши светятся и будут светиться всю ночь. И балконная дверь будет открыта до утра, даже если вдруг ударит мороз. Так мы договорились с отцом: заметив что-нибудь подозрительное, я брошу камень. И отец тут же придет мне на помощь.
Это очень хорошо, что светятся наши окна и где-то за ними не спит папа. Он, наверное, стоит сейчас, прижавшись щекой к стеклу, смотрит в темноту и покуривает в кулак, для маскировки. А в руке у меня — приличный каменюка и в кармане два, на тот случай, коль вдруг не попаду. От этой мысли мне становится чуточку теплее и смелее. А что… Ночь темная, хоть глаз выколи, луны и в помине нет, да и звезд почти не видно — неужели завтра дождь будет? А деревья в парке шумят, шумят… А капли росы с куста мне за шиворот капают, капают… Холодные… Да, попробуй высиди целую ночь в такой обстановке. Нет, чтоб подменить товарища или вместе посидеть! Все веселее… Спят, обормоты, без задних ног, а еще друзья называются… Отец говорил вместе подежурить или сменить к утру, а я — куда там. Гордость, видите ли, не позволила! Тоже еще выискался испанский гранд! Может, те взломщики уже давно сами выследили меня. Вон как подозрительно кусты в том углу шевелятся! Подползут, накинутся, я и пикнуть не успею, не то что камень бросить! А ведь если б Лера Жеку не похвалила, я, наверное, тоже дрыхнул бы сейчас в своей постели. Между прочим, что мне до этой Леры, спрашивается, до этой Калерии-Кавалерии-Артиллерии и так далее? И чего я ею там, на старице, когда лягушек ловили, так восхищался? Подумаешь… Обыкновенная девчонка. Правда, шустрая, веселая, заядлая и вообще — свой парень, конечно. Но разве это причина, чтоб мелкой дрожью дрожать в насквозь мокром кусте?! Первая ночь… а сколько их еще может быть? Пять? Семь? Десять? Кто ж их знает, этих «банкопохитителей», когда они соизволят снова прийти, чтобы я их выследил, прославился на весь двор и чтоб Лера хлопнула меня по плечу, как Жеку, и сказала: «Ты у нас, Тима, самый смелый. Я в этом никогда не сомневалась».
Вдруг у меня екнуло и оборвалось сердце: из-за дома выскользнули два силуэта и, крадучись, пошли вдоль фасада. Они довольно отчетливо выделялись на фоне серой стены, во всяком случае я без труда разглядел, что одни долговязый, куда длинней нашего Ростика, а второй маленький, с меня.
Я сжал камень так, что онемели пальцы: они! Надо же, чтоб человеку так сказочно, так фантастически повезло! В первую же ночь накрыть преступников! То-то утру я им носы, этим «умникам»!
Между тем двое прошли вдоль фасада и остановились возле центрального вентиляционного люка. «Значит, сегодня решили взяться за сараи третьего подъезда! — прикинул я. — Конечно, ведь там они еще не бывали!»
Я весь подался из своего куста и затаил дыхание. Ну, давайте же! Лезьте ж скорее, субчики-голубчики, черт вас побери, сейчас мы вас накроем! Сейчас мы с вами расправимся!
Длинный снял с себя пиджак — смутно забелела в темноте его рубашка. «Пижон! — подумал я. — Он же там перемажется! Нашел куда наряжаться!» Теперь мне уже не было холодно, я весь пылал, будто сидел не в мокром кусте, а на раскаленной печи. Меня била дрожь, но это была совсем не та дрожь, что пять минут назад.
Вот оно… начинается! Долговязый накинул свой пиджак на плечи маленькому. Значит, полезет один. Второй будет стоять «на стрёме». Что ж, тем лучше, отец схватит долговязого, а с этим я справлюсь сам!
И тут, вместо того чтобы честно лезть взламывать сараи третьего подъезда, «подлые воришки»… принялись целоваться.
Они целовались и шептались, шептались и целовались, а я готов был от злости выть и кататься по земле, потому что по шепоту узнал тетю Машу, молоденькую продавщицу из нашего магазина, и брата Ростика — Александра, который недавно демобилизовался.
Выследил… Накрыл… Прославился…
Я долго ждал, когда Маше и Александру надоест шептаться и целоваться, но им почему-то не надоедало. Потом я ждал, что они найдут себе какое-нибудь другое место, получше, чем под окнами всего дома, но им почему-то не хотелось искать другого места. И тогда я понял, что мне здесь больше нечего делать: эти двое будут охранять наши сараи, как самые бдительные часовые, до утра. Так что, если даже взломщики и решат совершить набег нынешней ночью, ничего у них не выйдет.
И я с чистой совестью отправился спать. Тем более что снова замерз, как тютька.
Отец напоил меня горячим чаем и сказал, что я поступил разумно.
Прошло два дня. Это были какие-то глупые, бесконечно длинные дни, когда мы с утра до вечера валялись в парке, возле того куста, где я сидел в засаде, и таращились на вентиляционные люки. Мы даже есть ходили по очереди, и книжки командор запретил с собой приносить, чтобы случайно не прозевать этих растреклятых воришек. Скука была неимоверная. Думаю, если бы это продлилось еще с недельку, в «Черной стреле», как пишут в газетах, случился бы «государственный переворот». В крайнем случае — «правительственный кризис». Но на наше счастье вскоре все закончилось.
Тот самый усатый старшина, который, конечно, не был ни майором Прониным, ни комиссаром Мегрэ, который ни у кого не снимал отпечатки пальцев и даже не подумал вызывать собаку-ищейку, все-таки нашел виновников всех наших неприятностей. Ими оказались двое ребят из соседнего дома, Олег Пунтик и Алик Котел. Когда-нибудь я расскажу о них подробнее. Олег и Алик признались, что взломали в нашем доме сараи, а все барахло перенесли и спрятали в груде старой мебели, чтобы потом, когда утихнет шум, вынести. Как Жека и предполагал, делали они это днем, а вовсе не ночью. Ломик они подобрали возле нашего гаража: видно, либо я, либо отец забыли его убрать.
Родителей Пунтика и Котла оштрафовали, и они вернули Валентине Ивановне деньги, которые та отдала за разбитые игрушки. Нашлись и коньки — Олег припрятал их в другом месте для себя.
Мы ходили именинниками. Даже Африкан Гермогенович с чувством пожал нам руки и пробормотал что-то насчет одного битого, за которого двух небитых дают. Однако рассказать, откуда он узнал, что украденные вещи спрятаны в нашем «штабе», и как умудрился привести родителей именно тогда, когда мы там собрались, наотрез отказался, хотя и Павел Петрович, и мой отец долго распытывали его. «Служебная тайна, — усмехался Африкан Гермогенович. — Хороший домоуправ должен знать, что у него, понимаешь, в подвалах делается…»
Но через несколько дней раскрылась и эта «тайна». Котел и Пунтик жестоко отлупили Африкана.
— За что вы его? — спросил Витька.
Олег сплюнул себе под ноги.
— За то, что гад! Сам все барахло в вашей конуре спрятать посоветовал и ключ дал, а потом сам своего папашу навел, предатель! Зря мы про него тому старшине не рассказали, пусть бы и им штраф влепили…
«КОРОЛЬ УМЕР — ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!»
— Ну, теперь вы реабилитированы полностью! — У отца даже на лице было написано, как он рад, что вся эта история наконец закончилась.
— Нет, не полностью, — возразил я. — Нам еще не вернули штаб-квартиру.
— Эту конуру? — Отец удивленно вздернул брови. — Да зачем она вам? Чудаки… Какой смысл собираться в грязном темном подвале, когда у нас такой прекрасный, такой благоустроенный двор!
— Такой прекрасный двор… — с горечью повторил я. — Но для нас в нем нет ни кусочка места. Это же не двор, а одно сплошное «нельзя». Вроде немецкого приказа в оккупированном городе. Нас отовсюду гонят, ты просто этого не замечаешь. Возле деревьев играть нельзя — поломаете! Возле цветников нельзя — вытопчете! Возле столбов, где белье сушат, нельзя — перепачкаете? На площадке, которую вы называете детской, тоже нельзя — там одни песочницы да качели для малышей, стоит нам появиться, как няньки накидываются на нас, словно цепные собаки! У нас было что-то вроде футбольного поля, но и то Африкан Гермогенович застроил «доминошными» беседками… Наш «прекрасный благоустроенный двор» — просто липа, нам от вашего «благоустройства» нет никакой радости. А в подвале мы чувствовали себя хозяевами. Ни один Африкан Гермогенович не стоял у нас над душой, мы могли потрепаться, поиграть, придумать что-нибудь, интересное. Если его не вернут, нам будет житься в сто раз хуже и скучнее.
— М-да… — Мой пылкий монолог привел отца в замешательство. — Но ведь есть еще детский сектор Дворца культуры завода электроприборов. Ты сам как-то рассказывал, сколько там всяких замечательных кружков и секций для ребят. Есть стадион — там тоже работают с подростками. Наконец, насколько я знаю, при школе открыт городской пионерский лагерь. Почему бы вам не пойти туда?
— Потому что в городском лагере скучно, еще скучнее, чем в загородном. Мы пару раз ходили. Они пока на реку выберутся, полдня и нету. Слоняются по двору, как сонные мухи, книжки читают, играют в шахматы… Хватит с нас этого добра, когда учеба начнется… И вообще, если хочешь знать, по-моему, городские лагеря придумали не для детей, а для родителей: чтоб вам спокойней работалось, чтоб вы знали, что мы под присмотром и не болтаемся по улицам…
— Ну, это ты передергиваешь! — рассердился отец. — Страна тратит миллионные средства, чтоб организовать ваш отдых, а вы от всего носы воротите, как, извини меня, пресытившиеся свиньи от полного корыта. То вам плохо, это не нравится! Я помню, нас, деревенских ребят, привезли на экскурсию во Дворец пионеров. Мы все лето работали: пасли коров и телят, пропалывали лен, сгребали сено, собирали колоски, и колхоз премировал нас этой поездкой. Мечтали поехать все, а машина могла взять только двадцать человек. Сколько было споров, слез, переживаний… Мы ходили по этому Дворцу, как по музею, с открытыми ртами. У нас в школе даже электричества не было, все четыре класса сидели в одной комнате, каждый ряд — класс, и учила нас одна учительница, Ольга Константиновна… А тут ребята сами мастерили планеры и модели пароходов, у них был огромный зал, где они сами показывали кино, и оранжерея со всякими невиданными растениями… Я и сейчас помню, как мы возвращались домой и Ольга Константиновна говорила, что когда-нибудь такие Дворцы будут у всех советских ребят. У нас ничего не было, а мы жили весело, дружно и мечтали о таких Дворцах пионеров. У вас есть все, а вы только хнычете да брюзжите.
— Конечно, — усмехнулся я, — у вас ничего не было. Не было леса, где вы строили шалаши и играли в красных и белых… Не было коней, которых вы гоняли в ночное, и костров с печеной картошкой… Не было речки Живры, где вы ловили в норах раков, купались и путешествовали на плотах… Не было садов и огородов, которые вы опустошали по ночам… У вас ничего не было… Но у вас была свобода, а у нас ее нету. Нами все командуют: вы, вожатые, дворники, пенсионеры… И все считают, что они лучше нас знают, что нам интересно, а что нет, и чем мы должны заниматься утром, днем и вечером. Да ты пойми, я не могу ходить по Дворцу пионеров, как по музею, будь он распрекрасный! Я прихожу туда работать, тренироваться, заниматься в кружке — и больше мне там нечего делать. Я ведь тебе не говорил, что кружки — это плохо, кружки — это здорово, уж я-то знаю, сам штук восемь сменил. И секции — это здорово, особенно если попадется хороший тренер. Но сколько они занимают времени? Четыре, ну, шесть часов в неделю от силы. Зимой еще уроки, а летом?.. Летом мы целые дни во дворе. Во дворе, который называется: «Нельзя». И, пожалуйста, не думай, что наши ребята побоялись бы какой-нибудь работы. Ты же знаешь, что в Залесье я почти не отставал от местных мальчишек и на прополке, и на сенокосе, и гусей пас, и телят… Витька с Лерой и Ростик тоже рассказывали, что у бабушек в деревне они каждый день что-нибудь делали. Так это в деревне… Ну, а здесь что нам делать, в городе? Металлолом собирать? Макулатуру? А нам еще чего-то хочется, понимаешь? Поговори, папка, с Африканом Гермогеновичем, пусть вернет нам подвал. Страна миллионы тратит, а вам какого-то подвала жалко…
Отец слушал, не перебивая, и задумчиво барабанил по столу пальцами. Он-то хоть слушать умел. А другие, чуть что: «Цыц, заткнись, не твоего ума дело, сопляк!» И точка. И весь разговор. Потом он поднял голову, и глаза его как-то подозрительно блеснули.
— Какое у вас высшее командное звание?
— Командор, — растерялся я.
— А кто командор? Конечно, Виктор Крысевич!
Я кивнул.
— Ну так вот, пойди и передай своим мушкетерам, или как вы там себя называете: я добуду для вас ключи от подвала. Но при одном условии: если вы выберете меня командором вместо Виктора.
— Тебя? — Я чуть язык от удивления не проглотил. — Шутишь?
— Клянусь плавниками акулы, шпагой д’Артаньяна и картой капитана Флинта — грозы Южных морей, я говорю совершенно серьезно! — торжественно произнес отец, а глаза его смеялись.
— Или ты думаешь, что я буду худшим командором, чем Виктор?
Я пожал плечами.
— Ты все испортишь. Даже если не шутишь. Ты хочешь — будто вожатым, да? Так у нас вожатых хватает. И вроде тебя уже были. Производственники… Правда, немного помоложе. Пришли, наговорили с три короба, наобещали кучу всякой всячины — только мы их и видели. Раздразнили, а сами…
— Слушай, о чем мы с тобой дискутируем? — сердито оборвал меня отец. — По-моему, вопрос о том, быть мне или не быть командором «Черной стрелы», не в твоей компетенции. Я хочу сказать, что это решаешь не один ты, а вся организация. Вот и поговори с ними. А еще лучше — притащи их всех сюда.
Я пошел, но у меня заплетались ноги. Боялся, что ребята расхохочутся мне в лицо. К моему удивлению, они и глазом не моргнули. Будто взрослые люди, инженеры уже сто раз набивались к нам в командоры «Черной стрелы».
— Пусть побалуется, — усмехнулся Ростик. — Лишь бы подвал отвоевать.
— Правильно, — поддержал его Витька. — Глеб Борисыч — человек занятый, ну, поваляет дурака, вреда ж от этого не будет… А штаб-квартира нам — во! — и провел ребром ладони по горлу.
У меня от стыда горели уши, но я промолчал. Отец сам заварил эту кашу, сам пусть и расхлебывает.
Он встретил нас по-военному подтянутый и строгий. Даже не пригласив ребят сесть, с места в карьер спросил:
— Вам Тима передал мои условия?
— Передал, — за всех ответила Лера.
— Вы их принимаете?
Витька замялся.
— Говори, не бойся. Или жалко с высоким званием расставаться?
— Мне не жалко, — командор обиделся, — но есть порядок… Вы не можете стать нашим командором, пока вы не член тайной организации «Черная стрела». А за что вас принимать? Что вы такого для нас сделали?
Ну и нахал он, однако, этот Витька! А я что сделал, когда меня принимали?..
Но отец не обиделся.
— Ты прав, для «Черной стрелы» я еще ничего не сделал. Но у меня есть несколько предложений. Первое: я договорюсь с Африканом Гермогеновичем насчет подвала и, не позже чем через два дня, вручу вам ключи. — Он выглянул в окно. — Второе: вы уже завтра сможете играть в футбол на своей площадке. Третье: к осени я вас научу водить машину. Есть и четвертое, но я его приберегу — какой смысл раскрывать перед вами все карты, если я не знаю даже, примете вы меня в организацию или нет? Ну, как, этого достаточно уважаемым флибустьерам?
— Достаточно! — завопил Жека, которого одно слово «машина» делало невменяемым.
Но Витька тут же дернул его за руку:
— Не лезь вперед батьки в пекло! А вы нас не надуете, Глеб Борисович? А то ведь обещанка-цацанка, а дураку радость…
— Спросите у Тимы, обманывал ли я его хоть раз в жизни.
Ребята повернулись ко мне, я отрицательно покачал головой.
— А меня вы тоже научите водить машину? — осторожно спросила Лера.
— Обязательно. Я ведь сказал — всех. Разве что кроме Тимы, он уже водит нашего «Москвича» вполне уверенно.
— И вы дадите клятву и распишетесь кровью, как мы? — Казик аж запыхтел от удовольствия.
Вот тут-то отец смутился.
— Видите ли, я предпочел бы расписаться обыкновенной ручкой. Тем более что у меня есть шариковая ручка с красной пастой. Может, в порядке исключения…
— Никаких исключений! — сурово сказал Витька. — Это будет нечестно.
— Хорошо, — вздохнул отец, — я дам клятву и распишусь собственной кровью. Как все. Я хочу, чтоб у нас все было честно. Кстати, надеюсь, что такие вещи, как прием в организацию новых членов и весь ритуал, хранятся в величайшей тайне?
— Могила! — проворчал Ростик. — Можете не сомневаться.
Я стоял в сторонке и посмеивался про себя. Какое счастье, что Африкан Гермогенович «реквизировал» наши маски и балахоны, ребята обязательно облачили бы отца в этот дурацкий наряд. И еще я думал, что сейчас и у нас с ним появится своя игра. Только бы она в конце концов не стала такой же нудной, как игра тетки Гориславы. Съедят меня ребята…
Между тем все были чрезвычайно серьезны.
— Притащи ночник, — приказал мне командор.
Я зажег маленький грибок, и Ростик выключил люстру. Теперь мы стояли посреди комнаты в густом полумраке — черные лохматые тени колебались на светлых стенах.
— Тимка, говори, — послышался Лерин голос.
Я шагнул вперед.
— Ребята, я знаю своего отца давно. Столько, сколько знаю себя. По-моему, он достоин быть членом «Черной стрелы».
Лера недовольно поморщилась. Наверно, она ждала, что я произнесу целую речь.
— Я про тебя и то больше сказал, — раздраженно шепнул Жека — он всегда говорил то, что Лера лишь собиралась сказать.
Я отвернулся — стану я еще здесь комедию ломать…
— Так, — помолчав, произнес Витька. — Кто за то, чтобы принять-Глеба Борисовича Ильина в члены тайной организации «Черная стрела», поднимите руки. Единогласно. Повторяйте за мной слова клятвы. А ты, Ростик, зашифруй для подписи.
Отец повторял за Витькой клятву, подняв сжатую в кулак руку, а глаза его продолжали смеяться, хотя сам он был серьезен, будто приносил воинскую присягу. Он не улыбался даже там, где речь шла о подлизах и ябеда к. Потом невозмутимо проколол себе палец булавкой — Ростик «продезинфицировал» ее над зажженной спичкой, вывел внизу на листке: «Г. Ильин» и завитушку. Ребятам это понравилось, особенно завитушка.
— Поехали дальше. — Витька передал клятву на хранение Ростику. — Предлагаю вместо себя командором «Черной стрелы» выбрать Глеба Борисовича. Кто за? Единогласно. — Витька вздохнул и вдруг рассмеялся. — Вот и все, командор. Командуйте.
Точно как в «Принце и нищем» Марка Твена: «Король умер — да здравствует король!»
Новый командор с чувством пожал руку ушедшему в отставку.
— Первая команда будет такая — время уже позднее, идите-ка, друзья мои, спать. Завтра в восемь ноль-ноль встреча во дворе.
— Так я и знал, — уныло протянул Казик. — Старшим только дай власть, сразу спать погонят.
Поскучнели и остальные ребята. Почему-то все ждали, что отец сразу же выдумает порох или что-нибудь в этом духе. Во всяком случае спать не отправит. Отец заметил это.
— Ладно, мушкетеры, не вешайте носов. Как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. Назначаю операцию под кодовым названием «Статус-кво». Сегодня в час тридцать минут ночи приходите на бывшее футбольное поле. Приходят только те, кто не проспит и кому удастся незаметно… подчеркиваю — незаметно! — улизнуть из дому. Кого перехватят родители — оставайтесь в постелях, иначе поставите под угрозу срыва всю операцию. Сбор в беседке. Пароль: «Динамо», ответ: «Спартак». Все. Вопросы есть?
— Нет вопросов, товарищ командор! — гаркнули мы, хотя по недоуменным лицам нашим можно было запросто догадаться, что таинственное словечко «Статус-кво» для нас — тайна за семью печатями. Однако отец сделал вид, что не догадался, а спрашивать мы не решились, чтобы не попасть впросак.
— Вот кому сейчас лафа, так это Тимке, — с завистью сказал Жека. — Братцы, а что, если и моего батю в «Черную стрелу» вовлечь! — И первый расхохотался над таким нелепым предложением.
Жека даже не предполагал, как он недалек от истины. Кстати, этого не предполагал и никто из нас. Мы твердо договорились в половине второго ночи быть в беседке, чтобы принять участие в операции с мудреным названием: «Статус-кво» — и ребята разошлись по домам.
ЧТО ТАКОЕ «СТАТУС-КВО»
Я уже говорил, что Жекин отец, Антон Александрович, шофер по профессии и заядлый автомобилист в душе. Он очень подружился с моим отцом. Как я с Жекой. А может, и больше. Плотный, с головой круглой, как луковица, с короткими черными волосами «ежиком» и маленькими цепкими глазами, Антон Александрович нравится мне тем, что даже пяти минут не может посидеть спокойно. Суетится, трогает всякие инструменты, перекладывает их с места на место…
— Я в кабине целыми днями сижу, как мумия, — смеется он, — дома мне подвигаться надо, а то мхом обрасту.
Вместе с Жекой и моим отцом он часами ковыряется в моторе нашего «Москвича». Они горячо обсуждают разные модели машин, типы подвесок и смазочных масел. Иногда Антон Александрович раскрывает «Атлас шоссейных дорог СССР», и мы до хрипоты спорим о маршрутах наших будущих совместных путешествий. Нас с отцом тянет на запад — в Прибалтику, а их на восток — в Сибирь, на озеро Байкал. Думаю, к тому времени, когда они купят машину, мы как-то договоримся.
Антон Александрович часто ездил в командировки — мало ли на какой стройке может срочно понадобиться могучий автомобильный кран. И вот, когда ему нужно было уезжать рано утром, чтоб к началу работы уже быть на месте, Антон Александрович не отгонял свою машину в гараж, а ставил у себя под окнами — они жили на первом этаже, в 62-й квартире.
В ту ночь, на какую была назначена операция «Статус-кво», его машина тоже ночевала дома. Позже я догадался, что именно ее-то и высматривал отец, когда рассказывал, что сделает для «Черной стрелы».
Но все это, как говорится, не сказка, а присказка. Сказка будет впереди.
Ровно в половине второго ночи я, стараясь даже дверью не скрипнуть, вышел из дому. Отца уже не было, он ушел немного раньше, наказав мне до назначенного срока и носа на двор не казать.
Моросил дождь, теплый, не по-летнему мелкий. Дождинки шелестели в листьях яблонь. На асфальтовой дорожке масляно поблескивали лужи — свет падал с лестничных клеток. Пригибаясь, я двинулся к беседкам.
— Стой! — окликнул меня Лерин шепот. — Пароль?
— «Динамо». Ответ?
— «Спартак». Заходи, здесь сухо.
В беседке уже были Лера, Витька и Ростик. Вскоре подошли Казик и Жека.
— Еле удрал, — проворчал Жека. — Пришлось через окно лезть. Что-то на моего батьку сегодня бессонница напала. То — чуть головой к подушке — и спит, хоть ты из дома выноси, а то проснулся в двенадцать и какую-то книжку читает. Я под простыню одеяло свернутое засунул. Ну, если хватится, влетит мне, братцы!
— А я знаю, что такое «Статус-кво», — сказал Казик. — Это дипломатический термин такой, я в словаре вычитал. Означает: «Оставить все, как было, без изменений…»
— Чепуха на постном масле! — Витька оглушительно чихнул и испуганно схватился за нос. — Это я не тебе, Казик, мы с Леркой тоже в словарь смотрели. Это я к тому, как мы восстановим нашу площадку, чтоб без изменений? Что мы с этими беседками сделаем? А вдруг командор их подпалить задумал?! Вот это был бы цирк!
— Ошалел! — возмутился я. — Ты что же, моего отца дураком считаешь?!
— Может, Глеб Борисович их перенести хочет? — Лера зябко поежилась. — Эту — в тот угол, ту — под яблони, вот вам и «Статус-кво».
— Они ж тяжеленные, роту солдат надо, чтоб такую бандуру перетащить… — Необычно многословным был Ростик, от бессонницы, что ли?
— Пожевать бы сейчас… — Казик мечтательно чмокнул губами. — Ребята, никто с собой ничего не захватил?
В это время за домом глухо заурчал мотор.
— Батька! — испуганно прошептал Жека. — А вдруг заметил, что меня дома нет?!
Обогнув гаражи, машина подъезжала к нашей беседке. Шла она медленно, чуть покачиваясь на выбоинах и освещая себе дорогу одними только подфарниками. Как мощный хобот, несла она перед собой стрелу крана, подтянутую к бамперу стальными тросами.
— Братцы! — воскликнул Жека, но Ростик тут же ладонью зажал ему рот — от такого крика все четыре дома всполошиться могут! — Братцы! — прошептал Жека. — Да это ж…
Он оттолкнул Ростика и выскочил из беседки чуть не под колеса притормозившей машины.
— Пароль? — послышался из кабины строгий голос моего отца.
— «Пахтакор!» — обалдело выпалил Жека. — «Кайрат!»
От волнения он перепутал все на свете.
— «Динамо», лопух, — не выдержал Витька, опасаясь, что Жека, пока вспомнит пароль, чего доброго, переберет всю турнирную таблицу класса «А»!
Антон Александрович хрипло рассмеялся:
— Эх ты, конспиратор… И окно за собой не закрыл…
Мы, как кошки, вскарабкались на беседку по скользким от дождя переплетениям планок. Машина заурчала, и над нами повис ее мощный хобот с крючьями, на которые впору ловить китов. Мы надежно закрепили их под верхними перекладинами. Посвечивая фонариком, отец проверил и скомандовал:
— Вниз и — в сторону! Быстро! — Слез сам и махнул рукой: — Пошел помалу…
Натянулись тросы, и автокран мягко, как пушинку, приподнял беседку над землей. Даже доски не скрипнули. Убедившись, что крючья надежно удерживают ее, Антон Александрович медленно тронул машину с места.
Отец шел впереди, показывая дорогу, и через несколько минут они затащили эту беседку прямо под яблони, и поставили так здорово — ни одной веточки не сломали. Будто припечатали. Только капли с шумом обрушились на крышу. Не зря отец говорил, что Антон Александрович — классный специалист.
Точно таким же способом была переставлена в дальний угол двора и другая беседка. И наша площадка приобрела первоначальный вид. Лишь земля была чуть посветлее там, где они стояли, да груды щепок белели.
— Немедленно собрать до единой щепочки! — распорядился отец. — Не должно остаться никаких следов!
Антон Александрович осторожно развернулся и, помигав нам фарами, выехал со двора. Вскоре гул его машины растаял. А дождь все шел и шел, приглаживая площадку, и смывал следы беседок.
Когда все щепки были собраны и снесены за гаражи на пустырь, отец приказал нам построиться.
— За участие в успешном проведении операции «Статус-кво» объявляю личному составу «Черной стрелы» благодарность! А теперь — марш по домам, да постарайтесь не разбудить родителей. Отвага и верность!
— Дружба и честь! — хором ответили мы.
ДЕНЬ ЧУДЕСНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ
Около восьми утра мы заняли наблюдательный пункт за гаражами — очень уж не терпелось увидеть, как будет выглядеть Африкан Гермогенович, обнаружив, что беседки, будто «по щучьему велению», разъехались в разные стороны и снова высвободилась площадка для ненавистного футбола.
Африкан Гермогенович в это утро, как назло, не спешил на работу. Только в десятом часу он вышел из подъезда и бодро двинулся по дорожке к выходу на Полярную. Он был в своем неизменном пиджаке — уже начинало припаривать — и капроновой шляпе с дырочками, под мышкой — потрепанный ученический портфель. Наверно, с этим портфелем еще Африкан-младший ходил в первый класс, сейчас у него немецкая папка с квадратными ручками. Африкан Гермогенович шагал, не оборачиваясь по сторонам, целеустремленной походкой занятого человека, который хорошо знает, куда и зачем идет. Мы приуныли: неужели столько времени потрачено впустую и никакого «цирка», как говорит Витька, не будет?
Наверно, ничего и не было бы, если б не Витькина находчивость. Он сунул в рот пальцы и оглушительно, на весь двор, свистнул.
Африкан Гермогенович будто споткнулся об этот свист и резко повернулся.
Мы выглядывали из-за гаража и тряслись от смеха. Но главного-то он еще не замечал!
Наконец, кажется, заметил. Потому что вдруг протер глаза и быстро-быстро завертел головой. Растерянно переложил портфель из одной руки в другую и, приподнимаясь на цыпочки, пошел к площадке прямо по сверкающим лужицам. Казалось, он вынюхивал наши следы. Но следов не было — их смыл дождь.
Где до сегодняшнего дня стояли беседки, Африкан Гермогенович определил безошибочно. А потом… А потом он выронил портфель, побагровел и исполнил на этом месте что-то вроде военного индийского танца, которому можно было бы дать кодовое наименование «Бумеранг». Он приседал и кружился, подскакивал и размахивал руками, что-то угрожающе выкрикивал… Не хватало только головного убора из орлиных перьев и томагавка для снимания скальпов, чтобы сходство с индейцем, выходящим на военную тропу, было полным.
Затем Африкан Гермогенович помчался к беседке, которая очутилась под яблонями. Навалился на нее плечом так, что затылок стал малиновым, но беседка стояла нерушимо, как гранитный утес. Попыхтев, он понял, что сдвинуть это сооружение с места, а тем более перетащить метров на шестьдесят в сторону, не оставив никаких следов, не удалось бы даже всем мальчишкам нашего двора.
Напрасно в то утро дожидались в домоуправлении приема люди, напрасно надрывался телефон — Африкан Гермогенович и не собирался идти на работу. Он бегал от беседки к беседке, непонятно зачем измерял расстояние между ними коротенькими шажками, а портфель его сиротливо мок в лужице. И набегал бы он, видно, много-много километров, так и не сообразив, какая это нечистая сила закинула беседки в разные концы двора, если бы вдруг не появилась еще одна «фигура», круто повернувшая ход событий в другую сторону.
На «фигуру» просто невозможно было не обратить внимания. Во-первых, она прикатила в новенькой голубой «Волге». А во-вторых, скажите, много ли вы видели людей, у которых на левом боку болталось бы три фотоаппарата, причем один — с объективом в два кулака толщиной и полметра длиной, на правом — кинокамера и сумка на молниях со всякими кино- и фотопринадлежностями, а на груди — портативный магнитофон: белой и красной змейками выползали из-под черного футляра проводки, а маленький микрофончик был засунут в верхний кармашек пиджака. Мы, например, видели такого впервые. Думаю, что Африкан Гермогенович — тоже.
Навьюченный, как верблюд, человек вылез из машины, небрежно щелкнув дверкой, — казалось, «Волга» вздохнула от облегчения и приподнялась на рессорах! — и направился прямо к домоуправу. Выглядел он немного помоложе моего отца: здоровенный, с плечами чемпиона мира по классической борьбе, с толстыми оттопыренными губами и высокими залысинами.
— Если не ошибаюсь, управляющий третьей ЖКК Африкан Гермогенович Боровик? — «Фигура» достала из внутреннего кармана крохотный, утонувший в ладони блокнотик и шариковую авторучку размером с березовое полено и нацелила ее на нашего домоуправа, как копье.
Мы навострили уши.
— Так точно, Боровик! — Африкан Гермогенович вытянул руки по швам, глаза его блуждали, перебегая с диковинной авторучки на кино-фото-магнитоаппараты. — С кем, понимаешь, имею честь…
— Специальный корреспондент редакции программ для детей и юношества Белорусского радио Александр Лаптев. — «Фигура» что-то записала в блокнотике и сунула его вместе с авторучкой в карман, а взамен вытащила коричневую книжечку. — Вот мои документы.
Африкан Гермогенович замахал руками:
— Да что вы, понимаешь, какие могут быть документы! Хорошего человека за версту видать! В каком, извиняюсь, жанре работаете? Очерк, фельетон?..
— Во всяких, — пошевелил чемпионскими плечами Александр Лаптев. — Радиогазета «Юные ленинцы», «Романтики», сатирическая передача «Усмешка»… Надеюсь, слыхали?
— Еще бы! — Лицо Африкана Гермогеновича озарила лучезарная улыбка, будто он наконец-то встретил после двадцатилетней разлуки родного брата. — Частенько, понимаешь, слышу вашу фамилию, товарищ специальный корреспондент… Как, бишь?..
— Александр Лаптев, — повторил корреспондент.
— Правильно, Лаптев! — Африкан Гермогенович схватил его руку и затряс так, что все аппараты на корреспонденте ходуном заходили. — Рад, душевно рад! Вещаете, значит?
— Вещаем! — Александр Лаптев пошевелил пальцами, словно они у него слиплись от пылкого рукопожатия, вытащил из кармашка микрофон, расстегнул футляр магнитофона и щелкнул каким-то рычажком. Из своего укрытия мы видели, как медленно закрутились кассеты. — Так вот, дорогой Африкан Гермогенович, к нам на радио пришла весть о прекрасном начинании, которое родилось в вашем домоуправлении. По вашей инициативе вот в этом, например, дворе, где мы с вами сейчас находимся, была проведена большая работа по организации досуга детей. Расскажите нам, пожалуйста, с чего все началось? — И он сунул домоуправу под нос микрофон. — Прошу.
Африкан Гермогенович отшатнулся от микрофона, как от спущенного с цепи волкодава.
— Это что… так, понимаешь, сразу? Без подготовки? — испуганно пробормотал он. — Так сразу и говорить?
— Говорите, говорите, Африкан Гермогенович! Нужно, чтобы радиослушатели услыхали живой голос человека, не скованный шпаргалками, полный раздумий и эмоций. — Корреспондент зажал микрофон в кулаке. — Говорите. Что не надо, мы потом вырежем.
— Ну, раз так… — Африкан Гермогенович вытер лоб и откашлялся. — Уважаемые граждане и гражданки…
— Зачем же так официально? — Микрофон снова утонул в кулаке корреспондента. — Скажите просто: «Дорогие ребята…»
— Дорогие ребята… — Африкан Гермогенович вздохнул, закрыл глаза, собираясь с мыслями, и скороговоркой выпалил: — За истекший период вверенное мне ЖКК проделало некоторую работу. План сбора квартирной платы выполнен на…
— Да не так, — мягко остановил его корреспондент. — Детей не интересует, как вы выполнили план сбора квартирной платы. Расскажите, как вы позаботились об организации их досуга.
— Дорогие ребята…. — Африкан Гермогенович ошалело посмотрел на корреспондента. — Дорогие ребята… — В голосе его послышались рыдания. — Дорогой товарищ, выключи эту машинку, а то у меня, понимаешь, разрыв сердца случится…
— Да вы не волнуйтесь… — Корреспондент щелкнул рычажком, и магнитофон остановился. — Я ведь не прошу вас рассказать об устройстве синхрофазотрона, мы говорим о вещах, хорошо знакомых и близких вам. Вот есть двор, во дворе живут дети. Что делает вверенная вам ЖКК, чтобы детям жилось лучше, веселее?
— Да стараемся, понимаешь, в меру своих сил и возможностей… — пробормотал Африкан Гермогенович, затравленно глядя на вновь завертевшиеся кассеты. — Детишки, они что ж… они внимания требуют. Дети — цветы жизни, это я вам прямо скажу.
— Глубокая мысль, — улыбнулся Лаптев. — Надеюсь, вы знакомы с последним постановлением об организации работы с детьми во дворах и при домоуправлениях? Недавно было опубликовано.
— А как же, дорогой товарищ! — неожиданно взбодрился Африкан Гермогенович. — Прорабатывали, понимаешь, прорабатывали… Очень, я вам скажу, полезное и своевременное постановление! Где это оно у меня? — Он похлопал себя по карманам и скосился на лужу, где все еще квасился его портфель. — На работе забыл…
— Неважно, — поспешил его успокоить корреспондент. — Главное, что вы это постановление не только, как вы выразились, «проработали», а уже начали практически осуществлять!
— М-м… — Бедному Африкану Гермогеновичу явно не хватало кислорода. — Кое-что, конечно, есть. Песочницы соорудили, зеленые насаждения… Беседки вот… Маловато, конечно… текучка заедает! Ремонт, вывозка мусора, подготовка к отопительному…
— Не скромничайте, Африкан Гермогенович! — Возле них вдруг появился отец. Ума не приложу, откуда он взялся. — Извините, что вмешался, но наш домоуправ — человек чрезвычайно сдержанный, и нам было бы просто обидно, если бы из-за этого общественность не узнала, какую огромную заботу проявляет он о наших детях. Позвольте представиться, товарищ корреспондент, — инженер Ильин из дома номер восемь.
— Очень приятно. — Лаптев горячо пожал отцу руку. Мне почему-то показалось, что корреспондент страшно обрадовался, когда увидел моего отца. Уж даже не знаю почему. — Вы знаете, товарищ Ильин, это — примета времени: настоящие герои всегда скромны, заполучить у них интервью — огромный труд…
— Если позволите, я вам охотно помогу. — Отец говорил в микрофон живо и бойко, будто всю жизнь только этим и занимался. — Кстати, о конкретных делах. Вот здесь, на этом самом месте, еще вчера стояли две беседки. Конечно, для благоустройства двора беседки — вещь полезная. Но Африкан Гермогенович, как рачительный хозяин и друг детей, прикинул, что их запросто можно передвинуть туда и сюда, — отец помахал руками, — и таким образом для мальчишек высвободится превосходное футбольное поле, которое, со временем, можно превратить в небольшой дворовый стадион. И ведь что главное, товарищ корреспондент?! Главное — та потрясающая оперативность, с какой Африкан Гермогенович проводит свои планы в жизнь. Еще вчера поздно вечером я видел эти беседки вот здесь, а сегодня утром они уже оказались вон там. Это просто какое-то волшебство… Когда вы только успели, Африкан Гермогенович?
Домоуправ подозрительно взглянул на отца, но тот расплывался в такой восхищенной, такой искренней улыбке, что он снова полез в карман за платком.
— Сам не понимаю, — потерянно пробормотал Африкан Гермогенович и вытер лысину. — Убей меня гром, Глеб Борисыч, если я хоть что-нибудь понимаю…
— Великолепно! — воскликнул корреспондент. — Кстати, вы не находите, что с точки зрения архитектурно-планировочной перенос этих беседок совершенно закономерен. Для них найдено наиболее подходящее место; по-моему, сейчас они придают вашему двору какой-то неповторимый облик. Это свидетельствует не только о практическом уме, но и о тонком вкусе Африкана Гермогеновича!
— Совершенно верно! — подхватил отец. — Очень точно определены места. Наверно, не обошлось без совета с архитекторами, а, Африкан Гермогенович?
Африкан Гермогенович потупился.
— Да уж с кем надо посоветовались… Однако, товарищ Ильин, мы и сами с усами… понимаем, что к чему, футбол так футбол, что ты с этим будешь делать. Пацаны, они… простите, мальчишки, они такой народ: хлебом не корми, а дай кому-нибудь мячом окно вылупить. Или, опять же, зеленые насаждения поломать. Однако раз надо — что ж… Вот и в последнем постановлении, как совершенно правильно заметили товарищ специальный корреспондент… как, бишь, ваше фамилие…
— Александр Лаптев, — терпеливо повторил корреспондент.
— Вот-вот, как вы совершенно правильно заметили, так гори оно огнем… Постановления, они ж для того и принимаются, чтоб их выполнять! Пусть хоть все окна перебьют!..
— Не нужно сгущать краски, Африкан Гермогенович. — Корреспондент дружески похлопал его по плечу. — Кто в детстве не бил мячом окон! Расскажите нам лучше о других ваших начинаниях.
Крутилась пленка в магнитофоне, и микрофон торчал перед носом Африкана Гермогеновича, как голова кобры, изготовившейся для смертельного прыжка. Он отступил назад и умоляюще посмотрел на отца. И даже мы на расстоянии поняли этот безмолвный вопль о помощи, этот отчаянный SOS, последнюю надежду терпящего бедствие домоуправа.
Отец решительно взял из рук корреспондента микрофон.
— О конкретных начинаниях Африкана Гермогеновича можно было бы рассказывать много. Я приведу только один пример. По его предложению детям передано пустовавшее подвальное помещение. Скоро силами жильцов и самих ребят там будет оборудована пионерская комната. Вы представляете, сколько энергии и изобретательности придется приложить нашему домоуправу, чтобы достать необходимые для ремонта этого помещения половые доски, раствор, цемент, масляные и клеевые краски, провода для электроосвещения, лампы дневного света!.. А сколько забот у Африкана Гермогеновича впереди! Закончится ремонт, и потребуются столы, верстаки, наборы инструментов, настольные игры…
— Вы с ума сошли! — прошипел Африкан Гермогенович и дернул отца за полу пиджака. — Это же афера, где я вам все это возьму! — И он схватился за голову, забыв и о корреспонденте, и о микрофоне.
— Только без паники, — обернувшись, ответил отец. — Держите марку, на вас смотрит вся республика! — И снова улыбнулся в микрофон. — Конечно, вы сами понимаете, что на все это нужны средства, и при том средства немалые. Но Африкан Гермогенович прекрасно знает, как их изыскать, и сам вам об этом расскажет. — Он просто насильно сунул микрофон Африкану Гермогеновичу. — Пожалуйста.
Африкан Гермогенович зажал микрофон в кулаке и, дыша, как рыба, выкинутая на песок, завопил:
— Остановите эту машинку, прошу вас!
— Не могу, — невозмутимо ответил корреспондент и нацелился на него кинокамерой. — Нас интересует вопрос о средствах, так сказать, о материальной базе превращения убогих подвалов в прекрасные пионерские комнаты. Съемки для специального выпуска пионерского телевизионного журнала. Прошу вас.
Кинокамера застрекотала, и Африкан Гермогенович присмирел, как укрощенный мустанг.
— Средствá, конечно, есть, — одернув на себе пиджак, вдруг сказал он отчетливым человеческим голосом. — Средства у нас в ЖКК, понимаешь, для такого дела найдутся. На работу с детьми финансовые органы разрешают отчислять два процента от квартплаты, а это, скажу я вам, дорогие товарищи, сумма — дай бог… прошу прощения, немаленькая. Хватит и на верстаки, и на инструменты, и на эти самые… лампы дневного света. Ну, доски, гвозди, цемент и другой стройматериал, включая масляные краски, — это мы, конечно, у себя найдем. Вот насчет мягкого инвентаря сказать не могу, нужно с бухгалтером посоветоваться. Однако, чтоб не было это пустым пустозвонством, прямо заявляю: общественность должна крепко поработать — на такие ремонты фондá заработной платы не предусмотрены. И тут уж, понимаешь, как говорится, карты в руки нашему дорогому товарищу Ильину. Как он есть за это дело первейший болельщик, то пускай помогает домоуправлению поставить это дело на должную высоту. А иначе ничего, кроме разговоров, не получится. У меня все. Спасибо за внимание.
— Великолепно! — Александр Лаптев выключил кинокамеру и сунул в футляр. — Прекрасная речь, Африкан Гермогенович! А теперь я попрошу вас назвать сроки, когда мы сможем прийти и увидеть, как осуществляются ваши слова на деле. Вы знаете, я думаю не ограничиваться коротким репортажем. Похожу, понаблюдаю, как у вас пойдут дела, побеседую с детьми, с родителями… Дело в том, что у нас такие пионерские комнаты уже созданы при многих домоуправлениях, так что рассказывать просто о факте открытия еще одной было бы неинтересно. А вот показать, как она возникает, каких трудов это стоит, пожалуй, здорово. Так когда вы прикажете мне прийти, чтоб попасть в самый разгар работ? Только попрошу вас особенно не тянуть, такого материала с нетерпением ждут тысячи детей и взрослых во всех уголках нашей республики.
Африкан Гермогенович поскреб затылок и вопросительно посмотрел на отца.
— Если сегодня во второй половине дня начнут подвозить материалы, пожалуй, за недельку управимся, — подумав, сказал тот.
— Ничего не выйдет, понимаешь, — отрезал Африкан Гермогенович. — Мало — недельку… Давайте дней десять, товарищ специальный корреспондент, раньше, понимаешь, не получится.
— Все ясно, — улыбнулся Александр Лаптев. — Значит, товарищи, через десять дней я буду у вас, и мы продолжим этот чрезвычайно интересный разговор. А передачу с вашего двора я сегодня же включу в план работы редакции. Салют!
Он пожал руки отцу и Африкану Гермогеновичу, закинул свою амуницию на заднее сиденье машины и укатил. Исчез. Растаял. «Как мимолетное виденье, как…» Тьфу ты, черт!.. А отец и Африкан Гермогенович стояли посреди двора, растерянные и ошеломленные, и молча смотрели друг па друга. И, растерянные, ошеломленные, сгрудились мы за гаражом, не зная, смеяться нам или плакать.
Наконец Африкан Гермогенович подобрал свой портфель и в сердцах вытер его о полу пиджака.
— Эх, Глеб Борисыч, Глеб Борисыч, заварили мы с тобой, понимаешь, кашу, — уныло пробормотал он. — И кто тебя за язык тянул! Так все было тихо, спокойно, никаких тебе волнений, а ты…
— Что ж мне еще оставалось, дорогой Африкан Гермогенович! — Отец прижал к груди руки. — Сказать, что у нас ничего не делается? Так ведь ославят на всю республику! Я передачи этого Лаптева сколько раз слышал, язычок у него подвешен, дай бог! Видали, как вооружен! Одних фотоаппаратов три! Вон тем, с длинным объективом, за полкилометра можно снимать. Вы, скажем, и не знаете его, и не видите, а он — щелк, и готово! Такому палец в рот не клади — руку откусит. Да и неправда это, что у нас ничего не делается, зачем же прибедняться! Беседки перенесли, площадку ребятам высвободили…
— В том-то, понимаешь, и дело, что не знаю я, какой черт их перенес, — жалобно простонал Африкан Гермогенович. — Я ж их тоже вчера на своих местах видел, а сегодня… Какое-то наваждение… будь ты проклято, какая-то, понимаешь, нечистая сила…
— Ничего, Африкан Гермогенович, — протянул ему сигарету отец. — Что ни делается — все к лучшему. Без этих беседок нам с вами вообще не о чем было бы говорить.
— К лучшему, к лучшему… — Африкан Гермогенович взял сигарету и шумно высморкался. — Он же через десять дней снова приедет, паразит! Наставит свою механику: давай! давай! Не зря мне сегодня всю ночь вороны снились. Правильно жинка сказала: не к добру это, ох, не к добру!
— Не волнуйтесь, Африкан Гермогенович. Еще на всю республику прогремите! Давайте ключи от подвала да подвозите материалы. Все сделаем. Я с сегодняшнего дня в отпуске, Павла Петровича мобилизуем, Антона Александровича, пацанов соберем, — сделаем!
— Прогремлю… — Домоуправ сунул отцу ключи от подвала. — Не прогремлю, а загремлю… С должности загремлю, это, понимаешь, точней. Так ты уж тут шуруй, Глеб Борисыч, шуруй, милый. Одной мы с тобой веревкой связаны… лентой этой магнитофонной, чтоб она у него по дороге сгорела… А я побег, это ж еще голову скрутишь, пока материалы достанешь да машину выцарапаешь!
Он умчался, мелко семеня ногами и прижимая локтем намокший портфель.
А отец докурил сигарету, затоптал окурок и повернулся к гаражам:
— Давайте сюда. И — живо, я ведь знаю, что вы подслушивали!
КОНЕЦ «ЭПОХИ ПЛАЩА И КИНЖАЛА»
Мы вышли. Отец посмотрел на меня и улыбнулся.
— Чего скис? Жалеешь, что в Ленинград не поедем? Не жалей, лето еще длинное, может, поспеем. — Он покрутил на пальце ключи и кинул Витьке: — По-моему, я выполнил и второе свое обещание, товарищ экс-командор. Правда, мне помог случай в лице этого симпатичного корреспондента, однако и случаем не каждый сумеет воспользоваться, не так ли?
— Я не сумел бы, товарищ командор! — У Витьки даже веснушки от радости сияли, как новенькие копеечные монетки. — А откуда этот Александр Лаптев узнал про нашу площадку?
— Сорока на хвосте принесла! — засмеялся отец. — Журналисты, они, брат, все знают, такая у них профессия.
— Хорошая профессия, — вздохнула Лера. — А сколько у него аппаратов всяких!.. Все, ребята, вырасту — обязательно журналисткой стану!
— Ну и становись! — ни с того ни с сего разозлился Жека. — И не такая уж она хорошая, как тебе кажется! Подумаешь, навешал цацок… По-моему, шофером куда интересней!
— Факт! — промычал Казик с набитым ртом. — Вон у меня отец…
— Погодите, не ссорьтесь! — поднял руку отец. — Сейчас главное — побыстрее оборудовать нашу штаб-квартиру. Куй железо, пока горячо…
— Какая ж это будет штаб-квартира… — Ростик сморщился, будто надкусил яблоко-дичку. — Вы ж сказали — пионерская комната.
— А ты хотел, чтобы я тут же выложил ему про «Черную стрелу»?! — рассердился отец. — Кукиш с маслом мы б тогда получили, а, не ключи от подвала. Да еще с придачей в виде горы стройматериалов, которых мы не достали бы ни за какие деньги! Надо мозгами шевелить, а вы в основном ушами хлопаете. Тимка, дуй за фонариком.
…Мы не были в подвале с того самого вечера… ну, вы помните с какого. И вот снова дохнуло на меня землей, спертым воздухом, запахом гнилой картошки. Я шел впереди, светил; ребята и отец двигались за мной.
За поворотом я уже не ахнул, как когда-то при виде оскаленного черепа. Сорванная с петель дверь валялась в стороне. На столе стоял оплывший огарок свечи. Грязной грудой тряпья валялись наши балахоны и маски.
Отец чиркнул спичкой, зажег огарок.
— Да, при таком освещении не очень разгонишься.
Взял у меня фонарик и вышел. Походил, светя на стены, потом крикнул:
— Тима, у нас в гараже моток шнура есть. Притащи его сюда. Заодно захвати отвертку, плоскогубцы, молоток, зубило и изоляционной ленты. Казик, ступай с ним, поможешь. Виктору раздобыть патрон, лампочку побольше, ватт на сто пятьдесят — двести и полдесятка роликов. Хоть из-под земли! — прикрикнул он, заметив, что Витька открыл рот, чтоб что-то сказать. — Только в подъездах не шарить, узнаю — голову оторву. Ростик, сбегай на стройку, выпроси пару горстей алебастра. Лере подобрать в этом хламе несколько табуреток покрепче. Все. Действуйте.
— Есть! — хором ответили мы и сыпанули из подвала.
Я и Казик со своим поручением справились довольно просто: моток провода лежал на третьей полке слева, там же была и лента, инструменты — в двух ящиках. У отца в гараже порядок — не то что в нашей штаб-квартире! Однако Витька обернулся быстрее. Когда мы пришли, он уже был там. Патрон Витька выдрал из старой настольной лампы, ролики «конфисковал» у Вовки-маленького — представляю, какой там сейчас стоит рев! Завозился только Ростик. Но минут через десять появился и он, как мукой обсыпанный алебастром.
— Споткнулся, — проворчал Ростик. — Пришлось возвращаться…
В глубине подвала отец нашел выход электропроводки. Померили — провода хватало.
— Присоедините патрон. Только заизолируйте как следует.
К столу, где лежали патрон, шнур и лента, никто не бросился — мы нерешительно переминались с ноги на ногу.
— Интересно! — ядовито засмеялся отец. — Корсары… бронзовый век… Давай, Тима, мы ж с тобой электротехнику проходили…
— Так то — в машине, а патроны я не собирал, — уклонился я от почетного поручения.
Кто его знает, еще подсоединишь не там, где надо…
— Ученье — свет, а неученых тьма, — вздохнул отец. — Эх вы, братики-матросики. Смотрите, здесь же делать нечего…
Мы посмотрели: действительно, нечего делать!.. М-да…
Отец продернул второй конец шнура под верхний наличник двери и вытащил в проход. Возле разводной коробки стал на табурет.
— Тим, посвети.
На плоскогубцы были натянуты толстые резиновые трубки. Я знал, что это — изоляторы, они не пропускают тока, но все-таки, когда отец начал сдирать с концов провода старую изоляционную ленту и голубые искры посыпались у него из-под рук, у меня по коже мурашки поползли — а вдруг трахнет! Я светил ему фонариком, тонкий луч вырывал из темноты лишь его длинные крепкие пальцы, желтые от сигарет, и тоненькие концы проводов, а ребята стояли у меня за спиной и дышали мне в затылок. Было жарко и щекотно.
Потом, взгромоздившись на кухонный столик, я, Витька и Ростик по очереди долбили дырки, а Жека выстругивал из деревяшки пробки для роликов. Зубило неохотно вгрызалось в железобетон, в глаза сыпалась цементная крошка, и мы вытягивали шеи и крутили головами, как гусаки. А отец стоял сбоку и спокойно покуривал.
Свеча догорела. Свет от фонарика был совсем слабым, мы посбивали пальцы. А ведь достаточно было ввинтить лампочку, и стало бы светло, как днем. Но отец об этом даже слышать не хотел.
— Успеется, — посмеивался он. — Могли же вы при таком свете составлять заговоры и чесать языки, умейте и поработать. Это так, времянка, внутреннюю проводку заделаем, вот тут вы у меня поработаете!
Я уж не знаю, сколько времени прошло: наверно, с полдня, потому что, когда мы наконец закончили работу, у Казика уже не осталось ничего съестного, и он только чмокал губами. Пробки были поставлены на алебастре, ролики — на шурупах, натянут шнур. В хлипком свете фонарика с потолка сползала белая витая змея с черной головкой — патроном.
Грязные, измученные, мы молча столпились вокруг стола. Отец достал из кармана лампочку и выключил фонарик. Стало темно и тихо, только в проходе, в канализационных трубах, булькала вода.
— Слушайте меня, флибустьеры и мушкетеры! — тихо и торжественно сказал отец. У меня под ложечкой засосало от его голоса. — Слушайте своего командора. Сейчас я зажгу электрический свет. Люди шли к нему многие тысячелетия через муки и страдания, и чего только не было у них на пути… Рабство, нагайка надсмотрщиков и костры инквизиции, эпидемии и страх перед таинственной и непонятной природой… Они шли через героические восстания и величайшие открытия, когда человек учился познавать себя и окружающий мир. Одно поколение сменяло другое, а люди шли и шли к свету. Потому что люди не могут в темноте, в темноте себя хорошо чувствуют только кроты.
Слушайте меня, члены «Черной стрелы», слушайте своего командора, а вы уже имели возможность убедиться, что я слов на ветер не бросаю. Сейчас я зажгу электрический свет. И в то мгновение, когда цоколь лампочки коснется щеток патрона, произойдет огромное историческое событие: закончится эпоха «плаща и кинжала», оскаленных черепов и мусорной свалки, клятв, скрепленных кровью, и балахонов, разрисованных фосфорными красками. Все это казалось интересным и таинственным при свете стеариновой свечи, при свете двухсотваттной электрической лампочки это так же нелепо, как, например, космический корабль, построенный из досок и фанеры, — он никогда не взлетит.
Но не думайте, что электрический свет убивает романтику, и тайну, и приключения. Если бы это было так, люди никогда не стремились бы к свету. Ведь каждому хочется прожить жизнь ярко и интересно, и не только детям снятся алые паруса бригантин… Мы с вами придумаем сотни по-настоящему интересных дел, от нас будут трепетать все подлизы и ябеды, трусы и лжецы. Мы не назовем благородным словом «операция» какую-нибудь ерунду, вроде уборки мусора во дворе: если понадобится, мы будем просто убирать свой двор, потому что это действительно нужное дело, но операция — это совсем другое. Это риск и опасность, хитрость, смелость и находчивость.
Я все сказал. Выбирайте сами: свет или тьма? Если тьма — я снимаю с себя звание командора «Черной стрелы»: мне неинтересно командовать людьми, которые хотят загнать жизнь под обложки старых книг, я хочу, чтобы книги делались по жизни. Этот подвал останется за вами — я никогда не нарушаю своих обещаний. Собирайтесь, напяливайте свои балахоны, занимайтесь чепухой. А я соберу других ребят, и точно в таком же помещении, например в первом подъезде, мы оборудуем новую штаб-квартиру. И вы жестоко позавидуете нам, потому что вам очень скоро осточертеют деревянные кинжалы и охота на лягушек, — клянусь плавниками акулы, шпагой д’Артаньяна и картой Острова сокровищ, которую составил капитан Флинт!
Вы выбрали, флибустьеры? Свет или тьма?!
Мы молчали. Мы понимали, что сейчас, в эти мгновения, от нас уходит что-то большое и важное, и очень светлое, несмотря на тусклые свечи… Это «что-то» сдружило нас и как-то отличало от других ребят в нашем дворе. Нам до боли жалко было «эпохи плаща и кинжала, оскаленных черепов и мусорной свалки», как сказал отец, и в то же время мы понимали, что вырастаем из всего этого, как вырастаем из старых штанов и курток.
Я верил отцу. Конечно, он может напридумывать столько всякой всячины, что нам и не снилось, и это будет действительно интересно, но ребята не знали его так, как я, а главные здесь были они — ребята. И я решил: как они, так и я.
Вот когда я впервые понял Витьку с его вечным голосованием, которое порой смешило, а порой раздражало меня: хотелось просто услышать приказ командора! Но Витька знал, что на одних приказах далеко не уедешь, что стоит нам хоть разок расколоться — и пропала вся игра. Он знал, он чувствовал это, наш славный экс-командор!
И он же первый сказал:
— Я — за свет.
— Свет!
— Свет!!
— Свет!!! — заорали мы на весь подвал: видно, все ждали Витькиного решения.
Отца, наверно, тоже поволновали эти бесконечные минуты в густой чернильной тьме: он с облегчением вздохнул и засмеялся:
— Да будет свет!
И ввинтил лампочку.
Будто само солнце вспыхнуло и разорвалось под потолком на тысячи кусочков, и я зажмурился, потому что свет таким тугим полотнищем хлестнул по глазам, что, казалось, можно ослепнуть.
— Да здравствует солнце, да скроется тьма! — завопила Лера.
Я открыл глаза.
Для ликования не было никаких причин.
При мне мы собирались в штаб-квартире три раза, но только сейчас я смог ее по-настоящему рассмотреть. Это было довольно просторное, вытянутое в длину помещение с низким нависающим потолком из железобетонных перекрытий. Толстые, источенные раковинами плиты ограничивали его с трех сторон, четвертая стена, внутренняя, была выложена из красного кирпича, дверная коробка сколочена из неоструганных досок. Отец не зря назвал наш штаб грязной конурой — не один, наверно, год служил он свалкой для отживших свой век, ненужных вещей. Собственно, мы и раньше знали, что это — не Голубой зал Дворца пионеров, но тусклый свет свечей и фонариков не позволял нам увидеть все помещение целиком. Двухсотваттная лампочка беспощадно высветила даже самые дальние углы, затянутые лохмотьями серой паутины, и открывшаяся картина не наполнила наши сердца восторгом и энтузиазмом.
На земляном полу валялись выдранные ржавые пружины, битый кафель, кирпич, осколки стекла, клепки от рассохшихся бочонков, у стен, в глубине, было настоящее кладбище припудренных пылью старых диванов, железных кроватей, кособоких шкафов и прочей рухляди.
— Мерзость запустения… — оглядевшись, пробормотал отец и потер подбородок. — Авгиевы конюшни… Вот что, мушкетеры, ступайте-ка домой обедать и переодеваться. Захватите с собой всех ребят, какие только встретятся, — сами мы тут слишком долго провозимся. Задача ясна?
— Ясна, — вразнобой ответили мы.
В это время в подвале послышался громкий мужской голос:
— Эй, кто тут старшóй? Идите материалы принимать!
— Иду, иду! — повеселел отец.
И ШТУКАТУРЫ МЫ, И ПЛОТНИКИ…
На пустыре за домом мы разожгли костер и кидаем в него весь хлам, который вытащили из подвала. Огонь жадно лижет сухое дерево, жарко трещит, плюется искрами, а мы стоим вокруг, чумазые, только зубы блестят, и довольно улыбаемся.
— Гори, гори ясно, чтобы не погасло! — затягивает Витька козлиным голосом, доламывая колченогую кушетку. — Превратят сарай в дворец смелые мальчишки… — Витька замолкает с открытым ртом и отчаянно стучит себя по лбу: ему явно не хватает рифмы.
— Замолчи ты наконец, рыжий хвастунишка! — заканчивает Лера, и мы только что в костер не валимся от хохота.
Весь хлам и мусор вынесены, паутина сметена. В нашей штаб-квартире пусто и голо, как в осеннем лесу. Остались лишь стол и две табуретки понадежней — они нам служат вместо кóзел, да груда стройматериалов: раствора, мела, цемента, красок, шпаклевки… На днях подвезут доски.
Руководит ремонтом Павел Петрович, Витькин отец, «главремрук», как мы его называем. Он снабдил нас инструментом: шпателями — маленькими железными и деревянными лопаточками, мастерками, кистями, паралоновым валиком на длинной палке, которым красят стены, — и теперь только похаживает да покрикивает.
Мне достается чаще всех.
— Ну кто ж так работает, глиняные твои руки, деревянная голова! Что же ты шпатель двумя пальчиками держишь, возьми его как следует, не бойся, не сломается!! Это ж тебе не эскимо на палочке… рабочий инструмент!! Не ленись, не зевай, поровнее растирай…
Я и Витька подшпаклевываем потолок, Ростик, Жека и Лера — стены, Валик, Андрей и Наташа — ребята, которые помогали нам вытаскивать мусор, — штукатурят кирпичную перегородку. Мы еще не рассказали им о «Черной стреле», это для них вроде испытательного срока. Если пройду! — примем, хотя вся троица перешла всего в шестой класс. «Вы закиснете, если не будете расти», — сказал отец. Видимо, он прав: больше ребят — интереснее.
Шпаклевать — это очень просто. Набираешь шпателем шпаклевки — такая серая вязкая каша — и шлеп на раковину. Потом растираешь. Бетон делается гладким-гладким. Вот только шея здорово болит, потому что голову приходится все время задирать, когда потолок шпаклюешь, и пальцы быстро немеют. Немножко поработаешь — шпатель из рук валится. Будто он целый пуд весит. Тогда Лера устраивает «физкультминутки».
— Внимание! — кричит она и вытягивает руки. — Делай за мной! Потолок мы шпаклевали, наши пальчики устали, а сейчас мы отдохнем — шпаклевать опять начнем!
Мы сжимаем и разжимаем пальцы, как первоклашки. А что — помогает…
В самый разгар работы в подвал заглядывает Африкан Гермогенович.
— Здорово, орлы? Как дела? — бодро спрашивает он.
— Дела идут, контора пишет… — хмурится Павел Петрович.
— Какую имеете нужду? — Африкан Гермогенович с готовностью достает из кармана пухлую записную книжку.
— Доски нужны. Пока не настелем пол и не сделаем дверь — никакого фронта работы. Топчемся на пятачках.
— Все ясно! Завтра, понимаешь, будут доски. Что еще?
— Срочно нужен электрошнур для внутренней проводки, иначе задержится перетирка потолка и стен, четырехметровая жестяная труба или листов десять оцинкованной жести, вентилятор, чтоб сделать вытяжку, клеевая лимонная краска… — перечисляет Павел Петрович, и Африкан Гермогенович хватается за голову.
— Вентилятор! — стонет он. — Оцинкованная жесть!.. Лимон! А мраморные колонны вам не нужны? У меня на складе парочка завалялась, могу, понимаешь, подбросить!.. Да это ж дефицит, понимаешь, дефицит, ты ж сам строитель, должон знать!
— Колонны нам не нужны, — пожимает плечами Павел Петрович. — Архитектурными излишествами, а также ненужным украшательством не занимаемся. А без вытяжки тут дышать нечем Детворе нужны всегда…
— Солнце, воздух и вода! — не сговариваясь, подхватываем мы.
Африкан Гермогенович багровеет.
— Издеваетесь! — Его громыхающий бас прокатывается по всему подвалу. — Шуточки строите?!
Мы хором кидаемся его успокаивать:
— Да что вы, Африкан Гермогенович! Да у нас и в мыслях не было!.. Да разве мы себе такое позволим!..
— Ладно, ладно, фармазоны, — отходит он. — Грабьте меня, пользуйтесь случаем — транжирьте государственные денежки. А почему моего жеребца здесь нету? Непорядок, непорядок, нельзя от коллектива отрываться. Сейчас взашей пригоню. Уж ты, Павел Петрович, его тоже вовлеки, нечего хвосты собакам крутить, раз, понимаешь, общественность вкалывает. А вентилятор я вам добуду, валяется где-то списанный. Антон Александрович его до дела доведет. Физкульт-привет и наилучшие пожелания!
Он исчезает, а вскоре в берете, натянутом на самые брови, является Африкан-младший.
Хмуро оглядывается.
— Зачем звали?
— Звали? — удивляется Павел Петрович. — По-моему, ты сам пришел…
Африкан ковыряет носком туфли землю.
— Так я и уйти могу…
— Пожалуйста, мы никого силой не держим. — Павел Петрович поправляет на голове пилотку из газеты, берет молоток и зубило — он рубит канал для внутренней проводки.
Мы молча работаем. Все делают вид, что не обращают на Африкана никакого внимания. Он идет к двери, останавливается. Потом садится на табуретку, закидывает ногу на ногу, насмешливо щурится.
— На, помахай! — вдруг говорит Павел Петрович и сует ему молоток. — Гони строго по этой линии, мне с твоим отцом насчет досок поговорить нужно. — И выходит.
Африкан вертит в руках молоток, косится на нас. Мы отворачиваемся. Тогда он подходит к стене, приставляет зубило, нерешительно бьет. Скользнув по бетону, зубило с лязгом падает. Смешно, но мы терпим. Он поднимает зубило, бьет еще раз. По пальцу. С яростью швыряет инструмент и, сунув палец в рот, убегает.
— Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка! — вопит ему вслед Лера. — Это тебе не уксус в тушеную картошку лить!
Вкалываем мы, как невольники на плантации. Правда, у нас все это немного иначе организовано. Рабочий день начинается в половине девятого. Опоздал — штраф: сегодня за баранку машины ты уже не сядешь, даже если все остальное время будешь показывать образцы трудового героизма. Перевыполнил норму — премия: лишних двадцать минут наш «Москвич» в твоем распоряжении. На лугу у реки, куда мы уезжаем с двенадцати до четырех, — отец отвозит нас двумя рейсами — ты можешь, сколько влезет, терзать его под руководством командора, а это — такое удовольствие, что нам то и дело повышают нормы. Мы, понятно, орем и возмущаемся, но у отца ничего не выкричишь — дисциплина. Не нравится — уходи, никто не держит. Африкан ведь ушел, и — ничего…
С реки возвращаемся в четыре и работаем до семи. Но это только так считается. Если ребята не заняты дома, все, поужинав, снова приходят в подвал, напяливают газетные пилотки, рабочую одежду и — поехали до девяти вечера. После девяти остаются только родители, нам запрещено.
Больше всего мы намучились с полом. Вернее, настилать пол было не очень сложно, а вот подготовить для него доски — слезы горькие. Привезли их нестроганые, разной длины, сыроватые. Пока перетаскали — замучились, а потом попробуй-ка вручную острогай!
— Дареному коню в зубы не смотрят! — сказал Павел Петрович и принес с работы три рубанка и два фуганка. — Давайте в две смены, что ж ты сделаешь…
Он сколотил что-то вроде верстака, и мы принялись день за днем набивать себе на руках кровавые мозоли. Сырое дерево забивало рубанки и фуганки, оно то струилось теплой шуршащей стружкой, то рвалось, дыбилось, и доску приходилось крутить так и этак, чтоб хоть немножко привести в подходящий вид. А главное, сколько мы ни пыхтели, груда досок не убывала, хоть ты ее керосином облей и подожги.
Отчаявшись, мы принялись уговаривать отца и Павла Петровича, что нам вовсе ни к чему деревянный пол, что мы вполне успешно обойдемся земляным, но они обозвали нас лодырями и тунеядцами, и на этом дискуссия закончилась.
Через пару дней к нам снова завернул Африкан-младший. Постоял, прислонившись плечом к дверям и засунув руки в карманы, огляделся…
У Леры забило рубанок. Она выковыривала стружку щепочкой, но стружка засела плотно, и Лера только порезала себе руку. Со зла бросила рубанок на верстак, села и заплакала.
Африкан подошел, взял рубанок. Легонько стукнул по корпусу молотком — ножи выскочили. Продул, вставил ножи, зажал клин.
— На, шуруй!
— Не видишь, что у меня рука порезана! — накинулась на него Лера. — Трудно тебе одну доску дострогать!
— Не надо, я сделаю, — сказал Жека. Он работал рядом, за вторым верстаком.
— Без сопливых обойдется. — Африкан поглубже натянул берет. — А ну-ка, подвинься…
Он работал до двенадцати. Не поднимая головы, не откликаясь на шутки — строгал и строгал, а из-под его берета грязными дорожками стекал пот. В двенадцать отец сказал:
— Первым сегодня машину водит Африкан. Заслужил.
— Нужна мне ваша машина, как зайцу стоп-сигнал, — лениво ответил Африкан и вразвалочку пошел к двери. — После обеда когда приходить? К четырем? Ладно, приду.
Однако не пришел, хотя Лера специально сбегала за ним.
— С Олегом Пунтиком в карты дуется, — сказала она. — Смеется: ишачьте, ишачьте, работа дураков любит…
Когда пол был настлан, Павел Петрович съездил с отцом к себе в ремстройконтору и привез строгальную машину. За два часа он начисто выстрогал весь пол. Доски стали гладкими, как стекло.
Мы просто позеленели от злости: целую неделю занимались бессмысленной работой!
— Что же ты ее сразу не мог привезти?! — орал Витька и тряс машину, будто она была виновата, что мы набили себе полные пригоршни мозолей и уставали так, что едва добирались до кроватей.
— Мог, — усмехнулся Павел Петрович. — Не хотел. Зато вы теперь с рубанком умеете обращаться, с фуганком, с рейсмусом… От работы, субчики-голубчики, еще никто не умирал, целы будете и вы. Лучше подметите и вынесите стружку, олифить будем.
Не буду описывать, как мы белили потолок и красили стены, — Африкан Гермогенович все-таки раздобыл нам пару килограммов «дефицитного лимона», и штаб-квартира стала желтенькой с чуть приметным зеленоватым оттенком, — как устанавливали люминесцентные лампы, монтировали вытяжку и красили пол — это была обычная работа, трудная, грязная, до седьмого пота, насквозь просолившего наши рубашки, и заняла она не десять, как предполагалось, дней, а добрых полмесяца. За это время у нас дважды появился Александр Лаптев, «товарищ специальный корреспондент». Правда, теперь он приезжал не на шикарной «Волге», а на автобусе и из всей кучи аппаратов возил только магнитофон. И мы рассказывали ему, как идет работа, а Африкан Гермогенович произнес целую речь, посвященную «нашим замечательным общественникам» — отцу и Павлу Петровичу, а также самому себе.
А что — справедливо. Ничего бы мы без его помощи не сделали. И дощечки не достали бы…
Наконец наступил день, когда мы замкнули штаб-квартиру, чтоб прийти в нее только через неделю, когда высохнет на полу краска. Мы уже мечтали о том, как целую неделю беззаботно проваляемся на пляже, но не тут-то было. Командор придумал нам новую работу.
Часть вторая
ЧЕТВЕРТАЯ ЗАТЕЯ КОМАНДОРА
По-моему, научиться водить машину не сложнее, чем, например, научиться кататься на велосипеде. Что ни говорите: одно дело — два колеса, а другое — четыре. Опять же, ногами педали крутить не нужно. Помню, сколько я синяков и шишек набил, сколько спиц из ободов высадил, сколько «восьмерок» сделал, пока наловчился с горем пополам объезжать все столбы, ямы и деревья, которые почему-то упорно лезли под колеса моего велосипеда, — страх! А машина… Отец несколько раз показал мне что к чему, и я поехал. Не верите? Ну, смотрите…
Наш «Москвич» стоит на большом, ровном, как стол, лугу, с которого уже скошена трава, и мы толпимся сбоку, поглядывая сквозь опущенное стекло на Жеку. Жека сидит за рулем. На щеках у него от волнения горят красные пятна, и руки на пластмассовой баранке чуть вздрагивают. Это — плохо. Шоферу волнение противопоказано. Шофер должен быть спокойным и уверенным в себе и в своей машине, — вот первая заповедь, которую отец вдалбливает нам каждый день. Поэтому он и не дает Жеке команды трогаться, ждет, пока тот успокоится, и рассказывает ему что-то смешное. Что — мы не слышим, отец говорит вполголоса. Он сидит рядом с Жекой, для страховки, хотя на этом лугу никакой страховки не нужно — вокруг ни души, ни столба, ни камня, а тормоза надежные.
Постепенно Жека успокаивается. Отец кивает: «Поехали!» Жека включает зажигание, отпускает ручной тормоз. Затем выжимает сцепление, включает первую скорость и нажимает на акселератор. Машина трогается, Правда — толчком: Жека слишком резко отпустил педаль сцепления. Мотор глохнет. Ну, что ж, все сначала: зажигание, сцепление, скорость, газ. Порядок. Счастливого пути.
Самое трудное для меня лично — переключать скорости: никак не могу научиться отпускать сцепление плавно, мягко. Как ни странно, лучше, чем у всех, это получается у Леры. И машина у нее не «рыскает», как вот сейчас у Жеки, из стороны в сторону, а идет по кругу ровненько, как по ниточке. Только мне да ей отец разрешает включать четвертую передачу и ездить со скоростью до 40 километров. Ребята пока держат километров 20–30.
Сделав два круга, Жека тормозит. И тормозит он пока очень резко, нужно было чуть пораньше сбросить газ, тогда машина сама остановилась бы прямо возле нас. Видно, об этом ему отец и говорит. Но все равно Жека счастлив. Его губы так растягивает улыбка, что он сам себе на ухо пошептать может.
— Ребята! — кричит Жека, вытирая о штаны потные ладони. — Она же слушается руля лучше, чем Витька нашей классной! Чуть тронешь влево — и она влево, вправо…
— И она вправо! — насмешливо подхватывает Витька.
Мы все уже привыкли к тому, что машина послушна каждому твоему движению, один Жека никак не может привыкнуть.
— Садись, Ростик, твоя очередь, — говорит отец и устало улыбается.
Так вот, научиться водить машину по широкому и ровному, как стол, лугу — дело не хитрое. А ты попробуй провести ее по дороге, где мимо проносятся сотни других машин, где на каждом шагу висят грозные знаки, где прямо тебе под колеса может выскочить коза или какая-нибудь растяпа-девчонка, которой начихать на всякие там правила уличного движения… Или в городе, по улицам… Нет, об этом мы и не мечтаем. Для этого нужно дождаться, когда тебе исполнится восемнадцать лет и ты закончишь автошколу. Потому что водить машину — это даже не полдела, а так — одна десятая. Нужно знать ее, нужно уметь по гулу мотора определить, чем она больна, от любой болезни вылечить, нужно… Впрочем, далеко я зайду, если начну перечислять все, что нужно, чтобы стать настоящим шофером.
И все-таки нам интересно. Чертовски интересно водить по кругу нашего «Москвича», уступая друг другу очередь за баранкой, и смазывать его, и свирепо надраивать восковой пастой, и до оранжевых кругов в глазах накачивать колеса, и клеить старые камеры… Особенно когда рядышком — река и ты можешь в любую минуту окунуться в прозрачную воду.
Так вот, замкнув на замок нашу штаб-квартиру, мы до самого вечера только этим и занимались: гоняли по лугу машину и купались. Затем Лера достала наши кульки с едой, и тут командор сказал:
— У нас в запасе дней семь-восемь, нужно дать краске высохнуть как следует. У меня идея: давайте отправимся на это время путешествовать.
— На машине? — У Жеки загорелись глаза.
— Нет, на плоту, — ответил отец. — Во-первых, в машине всем нам будет тесновато, а во-вторых, на плоту интереснее. Увидим больше. Рыбу будем ловить, загорать, купаться. Если доберемся до Крупицы, свожу вас в наш бывший партизанский лагерь. Согласны?
— Еще бы! — выдохнул Витька. — Только на плот бревна нужны, а где их возьмешь?
— Бревна есть. — Ростик сжал в руке вареное яйцо так, что оно хрустнуло и сплющилось. — Возле кинотеатра старые бараки рабочие рушат, неужели десяток бревен пожалеют?
— Не пожалеют, — сказал отец. — Я тоже эти бараки имел в виду. Утром с прорабом говорил: можно хоть два десятка бревен взять. И досок старых, и гвоздей. Только одно условие: самим выломать и самим вывезти.
— Я папу попрошу, пусть грузовую машину достанет, — вскочил Жека. — У них на базе любые машины есть, договорится…
— Вот и прекрасно, — улыбнулся отец. — Так что — поработаем?
У нас еще ныли мозоли па руках от шпателей, рубанков и кистей, но хотел бы я видеть человека, который откажется от такой работы! Наверно, это самый выдающийся тунеядец на всем земном шаре. К счастью, среди нас таких не водится. Отправиться в путешествие на плоту по Березе — да об этом можно было только мечтать!
Все сразу засобирались домой. Про ужин забыли. Один лишь Казик уныло жевал бутерброд.
— Не отпустит меня мама, — сказал он с набитым ртом. И глаза у Казика были такие, словно он вот-вот заплачет.
— Ничего, я с ней поговорю, — пообещал отец. — Под мою ответственность, может, отпустит.
— Не отпустит. — Казик упрямо мотнул головой и взял пирожок с капустой. — Я ее знаю… — Он откусил полпирожка и басом прогудел: — А я тогда удеру из дому, вот и все.
— Там видно будет, — уклончиво сказал отец. — Ну, собирайтесь. Нужно еще инструмент раздобыть, голыми руками там много не наработаешь.
Назавтра, часов в восемь утра, до зубов вооруженные ломами, кирками, топорами и гвоздодерами, мы пришли к старым баракам. По два в ряд, они стояли в низине, за кинотеатром, друг против друга, четыре длинных, приземистых барака с розоватыми облезлыми стенами. Местами со стен обвалилась штукатурка, сквозь частую решетку дранки виднелись черные, подгнившие доски. Людей из бараков уже выселили, поснимали рамы и двери, и теперь они смотрели на нас черными провалами оконных проемов, словно дожидаясь, когда их разберут на дрова, а бульдозеры разровняют площадку под новый дом.
Несколько рабочих снимали битый шифер и куски проржавевшей жести с крыши крайнего барака. Снизу им что-то говорил невысокий плотный человек в куртке и сбитой на затылок серой кепке.
Это и был прораб.
Завидев нас, он подошел и пожал отцу руку.
— Подмога пришла? Однако, ничего не будет, братцы. Идите в домоуправление, договаривайтесь с начальством. Получил вчера строжайший приказ: ни одной щепки отсюда на сторону не давать.
— Как же это так, — растерялся отец. — Да мы ж с вами вчера…
— Правильно, — перебил его прораб, — вчера утром говорили. А приказ я получил вечером. Да вы не смотрите на меня так, — взмолился он. — Что мне, гнилья этого жалко, что ли? Разрешит Боровик — хоть все четыре барака вывозите; баба с воза, коню легче. А не разрешит — не обессудьте. Знаете его… Припишет расхищение социалистической собственности, ходи потом, доказывай, что ты не верблюд…
Прораб дернул за козырек свою кепку и отошел к бараку.
— Дела-а, — озадаченно протянул отец. — Ну, что ж, пошли к Африкану Гермогеновичу.
В узком коридорчике перед дверью домоуправа толпились люди. Мы заняли очередь. Стоять пришлось долго. А когда перед нами остался только один человек, Африкан Гермогенович сам выкатился из кабинета.
— Товарищи, больше сегодня приема не будет! — с порога сказал он. — Вызывают на совещание.
— Товарищ Боровик, — поймал его за рукав отец, — всего два слова…
Африкан Гермогенович щелкнул ключом в двери.
— Не могу, дорогой, в следующий раз. Начальство вызывает, и без того, понимаешь, опаздываю.
— Тогда пойдемте, — вдруг усмехнулся отец. — Дела у нас такие, что мы их и на ходу сможем решить.
Африкан Гермогенович вздернул подбородок и снисходительно посмотрел на отца.
— Ничего я, дорогой, на ходу решать не буду. У меня для этого служебный кабинет есть. Видишь, — он ткнул коротким пальцем в жестяную табличку, — прием посетителей ежедневно от 9 до 13. Завтра в это время и приходите. Общий привет!
Боровик энергично махнул рукой и засеменил по коридору. Но мы сгрудились у дверей, наставив на него свои ломы и кирки, и он, побагровев, заорал на все домоуправление:
— А это что еще здесь, понимаешь, за детский сад? А ну, марш по домам, не мешайте людям работать!
Мы стояли, как глухонемые, загородив проход, и вид у нас был, наверно, достаточно решительный, потому что Боровик растерянно затоптался на месте: не расшвыривать же нас, чтобы выйти из домоуправления, а уступать дорогу мы явно не собираемся.
Кто-то из женщин из начавшейся было расходиться очереди засмеялся. Африкан Гермогенович густо побагровел и нервно глянул на часы.
Отец снова осторожно тронул его за локоть.
— Разрешите нам взять десяток старых бревен и досок со старых бараков, — сказал он. — Нам больше ничего не надо.
Африкан Гермогенович подозрительно закрутил головой.
— Опять, понимаешь, какую-то авантюру затеяли? Под моими окнами голубятню построить хотите? Или космодром?..
— Что вы, — засмеялся отец. — Наоборот, я хочу ребят со двора увезти. В путешествие на плоту. А материала нету. Разрешите, Африкан Гермогенович. Мы и вашего сына с собой возьмем.
— А он у меня к брату в деревню едет, так что нам, понимаешь, это дело ни к чему. — Боровик снова посмотрел на часы. — Ни бревен, ни досок я вам не дам. Они денег, понимаешь, стоят. Люди на дрова покупают. Или как материал для ремонта. Имеете желание, выпишите в бухгалтерии, оплатите, потом возьмете. Вот так. — И он с такой прытью ринулся к двери, что мы невольно расступились.
— Да, — вздохнул Витька, — плакало наше путешествие…
— Ничего подобного, — резко сказал отец. — Погодите, я зайду в бухгалтерию.
В бухгалтерии отец пробыл минут пятнадцать. Вышел веселый, с бумажкой на три кубометра старых бревен и досок.
— Сейчас оплачу, к вечеру нужно будет у Африкана Гермогеновича подписать и — порядок. Завтра начнем работу.
— Много платить? — проворчал Ростик.
— Мало, — засмеялся отец. — Больше разговоров, чем денег.
— Все равно, — сказал Ростик, — мы вам все отдадим. До копейки. Я на почте объявление видел. Им почтальоны нужны, «Вечернюю газету» разносить. Берут и школьников. Вернемся, заработаем денег и рассчитаемся.
— Очень рад, — пожал плечами отец. — Но об этом мы поговорим потом.
День пропал впустую. Заседание у Африкана Гермогеновича затянулось, на работу он так и не вернулся. Пришлось идти к нему домой, чтоб подписал разрешение.
Назавтра мы снова направились к баракам. Прораб, не читая, сунул бумажку в карман.
— Больше вопросов не имею. Отбирайте все, что вам нужно. Только глядите не поубивайте друг дружку. Вон с того крайнего барака и начинайте.
Прежде чем приступить к работе, мы облазили весь барак, прикидывая, что пригодится для плота. Годились половые доски, потолочные балки, угловые столбы.
— На целую флотилию трех кубов хватит, не то что на один плот. — Отец достал складной метр и занялся какими-то подсчетами. Потом расставил нас по местам. Он, Ростик и Витька должны были подпиливать столбы и балки, я и Жека — взрывать полы, Лера — выравнивать гвозди.
Мы с Жекой зашли в крайнюю комнатку. Была она небольшой, шага три с половиной в длину, четыре в ширину, поклеенной еще не успевшими выгореть голубыми, с серебристыми цветочками, обоями. В левом углу стояла печка с плитой, плита и дверцы уже были выдраны. На полу валялись какие-то бумажки, мусор, пластмассовый голыш с оторванной рукой. Совсем недавно здесь жили люди. У них была маленькая девочка. Она играла с этим голышом, а когда уезжала, наверно, забыла. А может, просто бросила? В новой квартире у нее будут новые игрушки. А вот я почему-то больше люблю старые. Мы, когда переезжали, все оставили, но я несколько своих самых старых игрушек взял…
— Ну, давай начинать, что ли, — сказал Жека. — Чего ты задумался?
— Да так как-то… — Я поднял голыша и выкинул в окно. — Тут люди жили, а мы — ломать…
— Эх ты, чудак! — Жека всадил лом в хрустнувшую доску. — Сразу видно, что сам в бараке не жил. А мы жили, знаю… Когда наш барак сносили, у всех просто праздник был. Мамка плакала от радости. Да я их все готов поломать, чтоб ни одного на земле не осталось!
— Я вовсе не об этом… — пробормотал я. — Ладно, поехали. Да не кроши доски, они нам еще пригодятся.
Ломать — не строить, ломать легче. Подцепил киркой доску, подналег — трррр! — трещат, вылазят из балки гвозди. Щипцами их — раз, два! — и за окно, Лере. А она себе железяку какую-то приспособила и стучит молотком — на весь Северный поселок звон идет. Веселый звон, серебряный…
К концу дня мы запасли столько бревен, досок и гвоздей, что их и впрямь хватило бы на целую флотилию. Затем подкатил ЗИС-130 — Антон Александрович уговорил приятеля-шофера помочь нам. Мы быстро погрузили свою добычу в кузов и через четверть часа очутились на реке.
У нас уже давно было на примете подходящее местечко для «верфи» — узкий заливчик с песчаным дном, надежно укрытый от посторонних глаз густыми зарослями лозы. Когда шофер уехал, мы тут же торжественно назвали заливчик «бухтой Удачи», будущий плот — «Кон-Тики-2» и с жаром принялись обсуждать проект строительства, предложенный командором.
ПОДНИМАЕМ ПАРУСА
— Внимание! Команде «Кон-Тики» по местам стоять! — на всю округу разносится зычный голос отца, и эхо подхватывает: «ать», «ать», «ать»! Он высится на корме, у бизань-мачты, едва не упираясь головой в рею, — никогда в жизни не видел я отца в таком удивительном наряде. Голова наискосок повязана огненно-красной косынкой, на груди — и где только выкопал? — трещит полосатая матросская тельняшка, на ногах — высоченные рыбацкие ботфорты. На широком кожаном поясе с надраенным якорем болтается вместо кортика охотничий нож в чехле, за плечом — малокалиберка, в уголке рта торчит погасшая трубка с головой какого-то страшилища. Насмешливые глаза сурово прищурены и устремлены вдаль.
Наш командор похож на предводителя шайки отважных корсаров, и в смысле живописности мы мало чем ему уступаем. Правда, у нас нет таких шикарных косынок, наши головы прикрыты от палящего солнца завязанными по углам носовыми платками, зато мы по пояс голые, черные, будто начищенные гуталином, от загара, босые, в подкасанных до колен штанах. Общий вид несколько портит Лера — на ней круглая соломенная шляпа с огромными полями, ковбойка в желтую и зеленую клетку и синие велосипедные штаны на молниях. На боку у Леры толстая сумка с красным крестом. Медикаментов столько, будто каждый из нас всю эту неделю должен питаться только пилюлями и антибиотиками.
— По местам стоять, с якоря сниматься! — рявкает командор, и мы с Витькой, поднатужившись, выволакиваем из воды угловатую булыжину, которая служит «Кон-Тики-2» якорем.
— Вперед помалу!
Жека и Ростик налегают на шесты.
— Поднять флаг и парус!
Лера, сломя голову, кидается к мачте и дергает за хитроумно переплетенные концы. Над мачтой взлетает голубой треугольник флага с черной стрелой, а следом медленно разворачивается сшитый Людмилой Мироновной из четырех простыней и перекрашенный алый парус, в центре которого нарисована белилами симпатичная физиономия Кон-Тики. Парус мы подняли для форсу — ветер заблудился где-то у «ревущих сороковых», не ближе.
Торжественное отплытие нашего плота происходит, как говорится, при огромном стечении народа. Надо ж было, чтоб именно в это время в «бухту Удачи», где обычно, кроме нас, не бывало ни души, нелегкая принесла ребят из городского лагеря купаться. Рассыпавшись по берегу, они смотрят на плот, на нас, на нашего командора и на все, что мы делаем, как на бесплатное цирковое представление с участием Карандаша, Олега Попова и Никулина.
— Эй вы, мокроступы! На полубаке кашу раздают!
— Капитаны кислых щей! Будете топиться, держитесь за воду!
— Пижоны, коров на берегах не распугайте!
— Откройте Америку! Через форточку!
Это еще далеко не самые обидные шуточки, которыми они нас осыпают, как репейником. Мы с молчаливым достоинством несем тяжкое бремя славы. Кричат-то они отчего? От зависти, понятно!
Вообще-то, по-честному говоря, если бы мы были не на плоту, а на берегу, вряд ли и мы сохранили бы серьезность и невозмутимость, столь подобающие незабываемому моменту отплытия отважного экипажа из пяти корсаров и командора в неизведанные голубые просторы. Я говорю: из пяти, потому что родители Казика все-таки вырвали из наших славных рядов своего рыдающего сына и влепили ему двадцать с гаком суток… пионерского лагеря «Сосны». Ходатайство отца о передаче Казика «на поруки» было отклонено Валентиной Ивановной самым решительным образом.
Так вот, мы готовы были поверить, что «Кон-Тики-2» способен вызвать, мягко говоря, улыбку: несмотря на все наши старания, плот получился излишне громоздкий и неуклюжий. Конечно, окажись у нас под руками бальсовые деревья, все было бы по-другому. Но, поскольку снаряжать экспедицию на Амазонку нам не по карману да и времени маловато, пришлось обойтись «местным материалом». Он страдал только одним недостатком: очень уж разнокалиберными были бревна и по длине, и по толщине, и это не могло не сказаться на конструкции.
В силу разных важных причин манильские тросы для вязки плота нам пришлось заменить обыкновенными бельевыми веревками, а медные гвозди — необыкновенно ржавыми железными. Так нужно ли удивляться, что «Кон-Тики-2» похож на своего знаменитого предка, как балалайка на гусеничный трактор! Тем более что мы вовсе не собираемся покорять Тихий или там Атлантический океан. С нас хватит и акватории Березы. Сами понимаете, зазнайство, переоценка собственных сил — это к добру не приводит…
Сооружая свой плот, мы не столько заботились о красоте его линий, сколько об устойчивости и плавучести. Переворачиваться, утешая себя мыслью, что в Березе не водятся аллигаторы… нет уж, увольте! Поэтому мы оснастили его своеобразной воздушной подушкой — четырьмя камерами от трактора «Беларусь». Конечно, от этого плот проигрывал в смысле маневренности — камеры торчали по бортам, как огромные бублики, — но уж зато устойчивость у него была — мое почтение! Эти камеры могли спасти нас даже от самого свирепого шторма, если таковой вдруг случится, но… не от насмешек нечаянных «болельщиков». И мы мужественно решили не обращать на них внимания.
Итак, наш плот имел метров шесть в длину и три с половиной в ширину, водоизмещение, вернее, вес груза, который плот мог нести, не затонув, я даже не берусь подсчитать. Во всяком случае, по-моему, мы могли прихватить с собой слона средних размеров, и ему не угрожала бы опасность завершить свой жизненный путь на дне Березы.
В центре, завернутые в брезент и принайтованные веревками, лежали наши рюкзаки с запасом продуктов на неделю и одеждой; самые необходимые вещи: палатка, спички, фонарь, ножики, котелки и ведро — были уложены в два ящика, надежно приколоченные к палубе, чтобы случайно не смыло водой. В третьем ящике стояла паяльная лампа и канистра с бензином — на тот случай, если мы решим варить еду, не причаливая к берегу. Для этого на корме обит жестью специальный пятачок.
— Лево руля!
Я немного отвлекся воспоминаниями и описаниями — ведь отплытие продолжается!
Мы с Витькой налегли на румпель — длинную жердину с приколоченной на конце доской-лопастью, но плот, как капризный жеребец, почему-то повернул не налево, а направо. Потом его вообще развернуло поперек течения и стало потихоньку крутить на одном месте.
— Шесты! — Отец сам бросился к румпелю и мощным гребком выровнял плот. Но в это время Жека вогнал свой шест в песчаное дно. Плот дернулся влево, выскользнул из-под Жеки, и он повис на своем шесте посреди реки к неописуемому удовольствию «болельщиков», как соломенное чучело, вопя дурным голосом и дрыгая ногами.
Если бы Жека не дрыгал ногами, мы тут же сняли бы его, а так шест медленно наклонился, и он плюхнулся в воду, окатив нас целым водопадом брызг.
— Человек за бортом! — Лера схватила надувной резиновый круг, «конфискованный» у Вовки-маленького (по-моему, они только тем и занимаются, что «конфискуют» у него все игрушки!) для нужд экспедиции, и ловко кинула Жеке.
Смех на берегу перешел в рев. Командор схватился за голову и протяжно застонал. Мы с Витькой повалились на корму, как парализованные. Плот снова начало разворачивать.
— Внимание! — Лицо у отца стало цвета его косынки. — Право руля!
Жека подплыл к плоту. Ростик подал ему руку и вытащил на палубу.
Отфыркавшись, тот запрыгал на одной ноге, чтоб вытряхнуть из уха воду.
Берег уже не смеялся и не выл. Берег сопел и икал.
— Пр-р-р-р-р-екратить! Еще право руля! Пр-р-р-рямо!
— Прямо пойдешь, голову свернешь! — вдруг громко, с подъемом произнес густой мужской голос: это неожиданно заговорил транзисторный приемник «Атмосфера-2», привязанный к мачте. Утром мы полчаса не могли выжать из него ни звука и, наверно, оставили включенным, теперь его прорвало! — Налево повернешь…
Командор метнул на транзистор такой злобный взгляд, что тот испуганно поперхнулся, будто живой человек, прохрипел еще что-то и замолчал.
На этот раз уже, как потом выяснилось, до самой своей гибели.
— Лево руля! Еще лево!
Наконец-то маневр был выполнен по всем правилам. Плот выровнялся, легкий ветерок зашлепал обвисшим парусом, и течение медленно потащило нас вперед, подальше от хохота, свиста и оскорбительных воплей всякой сухопутной публики.
Отец стащил с головы пиратскую свою косынку и вытер пот.
— Команда… Босяки вы, а не мореходы! Отплыть по-человечески не сумели! Перед всем честным народом опозорились!
Мы промолчали и дружно налегли на шесты.
Плот идет нормально.
Командор снова повязывает голову косынкой — жарко! — и уже мягче, добрее говорит:
— Авральное состояние отменяется. Жеке и Ростику заступить на вахту. Остальным отдыхать.
Я уступаю Жеке скользкий шест, боком прохожу на нос, ложусь на теплые доски и опускаю в воду руки. Медленно, словно во сне, на меня наплывает зыбкая линия горизонта. Где-то за отмелями, за кучерявыми кустами лозы, за вербами, которые по колено забрели в воду, небо сливается с рекой. Река там синее неба, на быстрине она завивается белыми бурунчиками. Слева медленно тянутся уставленные стогами луга; стога похожи на каких-то огромных серых птиц, присевших отдохнуть перед дальней дорогой. Правый берег и здесь крутой, лесистый, кое-где на поворотах подмытые деревья обрушились вниз, их зеленые вершины купаются в реке, а корни еще изо всех сил цепляются за землю. Солнечные блики дрожат на воде и слепят глаза, и вода чуть слышно журчит между бревен, обгоняя нас, и по ней косматыми табунами плывут облака…
И так тихо, так хорошо было вокруг, что, уж не знаю отчего, у меня к горлу комком подступили слезы. Наверно, оттого, что я подумал о маме: как здорово было бы, если б сейчас она сидела на плоту рядом со мной… Все на свете: и облака эти, и реку, и солнечные блики, и звонкие голоса птиц — отдал бы я, чтоб только увидеть ее… это так жестоко, так несправедливо, что ее нет с нами…
Я лежал, прижавшись щекой к влажным от брызг и теплым доскам, и солнце жгло мне затылок, а потом на него опустилась тяжелая папина ладонь. Видимо, он догадался, о чем я думаю, а может, и сам в это время думал о маме, потому что сел рядом и чуть слышно сказал:
— Вот так, Тимка… Вот такие пироги, сынок… И ничего с этим не сделаешь. Давай, брат, ополосни лицо и смени Ростика, он устал.
ПО ОБВИНЕНИЮ В ШПИОНАЖЕ
К первому прибрежному селу, Нивкам, мы подплываем с трепетом — еще слишком свежи в памяти проводы, которые нам устроили в «бухте Удачи», и мы опасаемся, что встреча будет не лучше. Мы давно свернули парус: из-за полного безветрия он абсолютно бесполезен, а зверская морда бога солнца лишь привлекает к нам повышенное внимание. Жека предложил спустить флаг — может тогда нас оставят в покое, но тут уж мы возмутились. Дудки! Пусть свистят, пусть орут, пусть тычут пальцами — флаг мы не спустим!
Растерявшийся от дружного отпора, Жека поспешно взял свое купитулянтское предложение назад.
Как мы и предполагали, наш «дредноут» очень заинтересовал местных мальчишек. Примерно за полкилометра от деревни нас встретила целая армада плоскодонок, челнов-долбленок и даже одна моторка. Они окружили плот кольцом, как почетный эскорт. Мы внутренне приготовились отбить первую атаку.
Однако ребята были настроены миролюбиво. Они наперебой расспрашивали, кто мы и куда держим путь, сколько бревен ушло на плот и как устроено рулевое управление, рассказали, где нужно опасаться мелей. Они проводили нас до первого поворота и умчались, ловко выгребая против течения, а у нас отлегло на душе: все-таки неприятно быть мишенью для насмешек.
— Это ж люди! — сказал Ростик. — А то — дикари!
И мы охотно с ним согласились.
Солнце уже клонилось к закату, когда мы причалили и стали на привал. Отдали якорь, надежно привязали плот к скрипучей, изогнутой, как лук, сосне и вышли на сушу. Мы пробыли на шаткой палубе больше полдня, и первое время нас покачивало, как заправских морских волков.
Мы быстро насобирали хвороста и разожгли костер. Пока дежурные, Лера и Жека, варили кашу из гречневых концентратов со свиной тушенкой, разбили палатку, натаскали сена. Пообедали, а заодно и поужинали — полведра каши как корова языком слизнула, напились чаю.
Спать еще было рано. Отец и Ростик разбирали удочки и спиннинги, дежурные спустились к реке с посудой. А мы с Витькой пошли в разведку — нужно же осмотреть место, где мы проведем первую ночь!
Между соснами вилась усыпанная хвоей тропинка. Вечерело. На западе сбились в кучу легкие розоватые облака, солнце садилось в них, как в подушку. Тени от деревьев стали длинными, они покачивались на потемневшей у берега воде. Над рекой потянулись прозрачные паутинки тумана. Вдалеке глухо рявкнул гудок теплохода — мы даже вздрогнули от неожиданности.
Попетляв над берегом, тропинка круто нырнула в лес и неожиданно вывела нас к высокому кирпичному забору. За ним был пионерский лагерь. Мы догадались об этом еще до того, как услышали голоса ребят, разглядели флаг, обвисший на тонкой мачте, и разноцветные домики под соснами. Просто мы хорошо знали, что такие неприступные, как стены средневековых замков, заборы строят только вокруг пионерских лагерей.
Мы решили обойти лагерь — а вдруг наткнемся на что-нибудь интересное? — и осторожно двинулись вдоль забора.
Территорию лагерь занимал большую. Мне уже надоело зря бить ноги, как Витька дернул меня за рукав.
— Тс-с-с…
На углу, упиравшемся в густой молодой ельник, виднелось какое-то сооружение. Покатая крыша чуть-чуть поднималась над забором. Оттуда доносились два голоса: один — изнутри сооружения, унылый, и страшно знакомый, другой — со двора, петушиный и задиристый.
Мы с Витькой подползли поближе и прижались к стене.
— Слушай, Толик, будь человеком, раздобудь что-нибудь пожевать… — отчетливо услышали мы ноющий голос, посмотрели друг на друга и улыбнулись: да это ж Казик! — И что это у вас за лагерь такой паршивый, что человека голодом морят! Называется, ужин принесли — даже коту червяка заморить не хватит!
— Вот обжора! — удивился Толик. — Тебе ж нормальную порцию дали. Я, например, свою не съел. Котлета осталась…
— Котлета… — застонал Казик. — Где она? Давай ее сюда!
— Нету, — засмеялся Толик. — Дежурные унесли.
— Ну да, лучше собакам выкинуть, чем человеку отдать, — с горечью вздохнул наш бедный голодный друг.
— А ты не человек. Ты шпиён и диверсант, — злорадно ухмыльнулся Толик. — Тебя вообще кормить не нужно. Чтоб не шпиёнил.
Мы с Витькой насторожились. Вот тебе раз! Казик — шпион и диверсант! Кажется, что-то интересное…
— Толик, я больше никогда не буду шпионить! — торжественно и мрачно сказал Казик. — Чтоб мне больше ни одного пирожного не съесть, если вру. Добудь мне где-нибудь кусок колбасы и батон, и, когда меня выпустят, я отдам тебе за это свой ножик. У тебя в жизни не было такого ножика. В нем два лезвия, вилка, ложка, шило, штопор и ножницы. И перламутровая ручка с колечком.
— Пой, пташечка, пой… — недоверчиво протянул Толик. — Хочешь, чтоб я с поста ушел. А слыхал, что мне начальник штаба приказал? «Глаз с двери не спускай, потому что это очень важный шпиён и диверсант». Расскажи свои военные тайны, тогда, может, я тебе и принесу колбасы. Мне мамка в воскресенье краковской привезла. Целое кольцо.
— Да ты что, ошалел! — возмутился Казик. — Чтоб я своих ребят предал?! Да я лучше с голоду опухну и покрою ваш лагерь несмываемым позором. А колбаса у тебя сгниет, ты ж ее и за всю смену не съешь. Принеси, а… Никто не заметит, что ты с поста уходил. Я буду тихо сидеть, как мышь. А ножик отличный, тебе все завидовать будут.
Наступила пауза: Толик задумался.
— Ладно, кидай свой ножик, — наконец сказал он.
— Я ж тебе сказал: после игры. Когда ваши на меня накинулись, я его под камень сунул. Выпустят — возьму и сразу тебе.
Толик присвистнул.
— Так я тебя тогда и увижу! Нет, посиди уж голодный. Мне колбаса самому пригодится. Она копченая, долго не портится.
— Значит, ты мне не веришь? — заревел оскорбленный до глубины души Казик. — Да знаешь ли ты, кот в сапогах, что я еще никогда не нарушал своего слова! — Казик громко, на весь лес, сглотнул слюну. — Ну и подавись ты своей колбасой. Дождусь, пока ты сменишься, потерплю, пусть другому мой ножичек достанется. Не все ж такие недоверчивые ишаки, как ты.
Ругань подействовала — Толик заколебался.
— Почему ж — другому? — протянул он. — У другого, может, и нет ни фига. Вечером в воскресенье наши ребята все в кучу свалили, что родители привезли, и зараз поели. А я свою колбаску припрятал. Мало когда пожевать захочется…
— Знаешь что, — перебил его Казик, — не хочу я твоей припрятанной колбасы. Понятно? Меня от нее вытошнило бы, вот что я тебе скажу.
— Ладно, ладно, — проворчал часовой, чувствуя, что перламутровый ножик с двумя лезвиями, вилкой, ножницами, шилом и штопором безвозвратно уплывает от него. — Сейчас притащу. А ты мне скажешь, где тот камень, под которым ты ножик спрятал, я его сам найду.
Казик промолчал.
Под ногами у Толика зашуршала хвоя, затрещали сухие ветки. Витька подсадил меня, и я осторожно заглянул за забор. Чернявый мальчишка, класса, должно быть, из четвертого-пятого — нашли кого поставить караулить Казика! — повесив за плечо деревянное ружье, вприпрыжку шел в глубь лагеря.
Витькина голова тоже вынырнула над забором. Мы огляделись.
Казик сидел в кирпичной будке, пристроенной прямо к забору. Видно, раньше в ней был какой-то склад, потому что дверь закрывалась на тяжелую завалу, а узкое оконце над дверью было зарешечено. Решетку затянула паутина. Надежная каталажка, ничего не скажешь. Можно и такого растяпу-часового ставить.
Мы спрыгнули назад. Витька осторожно постучал камешком в стену.
— Казик, ты нас слышишь?
— Ну вот, уже от голода слуховые галлюцинации начинаются, — пробормотал Казик. — Нет, не возьму я его колбасу. А может, взять?.. А ножик не отдам. Будет знать, жадина…
— Казик, это не галлюцинации. — Я тоже постучал камешком. — Это мы с Витькой. Наши все на плоту, мы стали на привал недалеко отсюда и случайно на тебя нарвались. Как ты сюда попал?
— Тимка! — заорал Казик. — Витька! Неужели это вы, ребята?!
— Не ори, а то сюда сбежится весь лагерь, — прошипел Витька. — Скоро вернется тот лопух, твой часовой, а нам еще нужно выработать план действий. За что тебя посадили?
— Я вам сейчас все расскажу, ребята! — Голос у Казика вздрагивал от возбуждения. — А у вас с собой пожевать ничего нету? В этом лагере так погано кормят. В нашем мне всегда давали две порции…
— Ты зря теряешь время… — разозлился я. — Сейчас тебе принесут еды. Отвечай на наши вопросы.
— А что тут отвечать… — вздохнул Казик. — Это лагерь «Орленок», наш подальше, километра за полтора. Прямо по этой тропинке. У нас с ними военная игра. Завтра утром — решающий штурм. Я — начальник разведки. Мы у них сегодня все разнюхали — и где засады, и где огневые точки, и минные поля… А потом я влопался…
— Как?
— Черт меня к столовой понес… Понимаете, дело к обеду, есть охота — ужас! А у них пончики жарили. Самые мои любимые, с яблочным повидлом. Ну, я и не выдержал. Пробрался кустами, а на подоконнике, в кухне, целая гора. Окно открыто, я — раз! — штук пять, а тут на меня их ребята как навалятся! Оказывается, они уже давно за мной следили. Вот и все. А пончики в песок упали, так их и затоптали…
— С тобой еще кто-нибудь был? — спросил Витька.
— Саша и Костя, они удрали. А план со всеми обозначениями у меня остался. Я его под стельку сандалеты засунул, они не нашли… Слушайте, ребята, вы меня отсюда не вызволите, это факт. Иначе, чем через дверь, из этой каталажки не вылезешь, а ключ у их начальника штаба, у физрука…
— А как же ты собираешься колбасу получить? — перебил я Казика.
— Через решетку, тут стекло выбито. Послушайте, дело не в этом. Мой план обязательно должен попасть к нашим, от этого зависит завтрашнее наступление. Посмотрите: если Толика еще не видно, пусть кто-нибудь перелезет через забор. Я выброшу мою сандалету. Дуйте в наш лагерь. Пароль: «Ракета», отзыв: «Подосиновик». Там все нарисовано понятно, они разберутся. А после игры обменяют пленных, и я прибегу к вам.
— Лады! — ответил Витька. — Тимка, подсади.
Я сел на корточки. Он залез на меня и потянулся к краю забора. И в это мгновение на нас набросилась целая толпа мальчишек. Мы и ахнуть не успели, как оказались связанными по рукам и по ногам.
— Ни звука! — грозно сказал парень в синем тренировочном костюме. — Дима, Андрей… реквизируйте у лазутчика сандалеты.
— Казик, уничтожь план! — заорал Витька, ужом извиваясь под тремя мальчишками, которые, мешая друг другу, зажимали ему рот. — Уничто…
Когда нас втащили в каталажку, двое мальчишек терзали новые Казиковы сандалеты. Сам он стоял в углу и что-то торопливо жевал.
— Растяпы! — крикнул парень. — Сейчас проглотит план. Забрать!
Мальчишки бросили подранные сандалеты и навалились на Казика. Он сопел и пыхтел, а потом вдруг выплюнул на пол целый ком бумаги.
— Вот дурак… Если б это наш план, а чего мне ваш есть? Фу, гадость… Можете брать, теперь он мне ни к чему.
— Верно, — согласился парень и повернулся к своим. — Ну, я был прав, когда велел оставить засаду? Я ведь вам говорил, что это, — он кивнул на Казика, — важная птица, и они обязательно попробуют его выручить. Значит, пароль — «Ракета»? А отзыв — «Подосиновик»? — Парень нехорошо усмехнулся. — Немедленно направить разведчиков в расположение противника. Выберите ребят поменьше, прошмыгнут — никто и не заподозрит.
Мы с Витькой потирали намятые бока и подавленно молчали. Вот так влипли! Не только Казика не выручили, а еще больше подвели: ведь это из-за нас они узнали пароль! И как теперь самим выбраться?
— Послушайте, — сказал я парню, — мы не имеем к вашим лагерям никакого отношения. Мы приплыли на плоту «Кон-Тики-2» и должны завтра на рассвете двинуться дальше. Раз так все получилось, вы нас отпустите и играйте сами. Мы обещаем хранить полный нейтралитет.
— Вон как ты заговорил! — засмеялся мальчишка, которого называли Андреем. — А чего ж вы сразу о нейтралитете не подумали? Ведь если бы мы вас не поймали, они бы завтра нас разгромили. И только потому, что вы бы передали план. Так что по законам военного времени вы арестованы до окончания боевых действий.
— Но тогда хоть сообщите на плот, что вы нас арестовали, — проворчал Витька. — Темнеет, они будут волноваться. Еще, подумают, что с нами что-нибудь случилось…
— Это другое дело, — согласился парень в спортивном костюме. — Передадим. Ну, все, ребята, засада снимается. Пойдемте разрабатывать операцию. Замкни их как следует, Андрей. Принесите батона и колбасы главному шпиону. А Толика, за то что пост оставил, от игры отстранить. С выговором на линейке.
— Нового часового поставить?
— Не нужно. Отсюда они не выберутся, даже если те, с плота, решат их выручить.
Они вышли. Залязгали запоры. Мы все трое переглянулись и понурили головы.
— Когда эта вся ерунда закончится? — сердито спросил я у Казика.
— Завтра часов в одиннадцать, — ответил он.
— Вы не огорчайтесь, ребята… Вместе веселее, одному мне совсем плохо было. А еды они скоро много притащат! На всех хватит!
— Иди ты со своей едой! — отмахнулся Витька. — Неужели отсюда невозможно удрать?
— Абсолютно! — пробормотал Казик. — Как из Петропавловской крепости. Я уже тут все осмотрел.
Принялись за осмотр и мы: к счастью, перед уходом Андрей нас развязал. Никакой это был не склад, а просто сторожка: вдоль стен стояли ведра для мытья полов, бачки с керосином, лампы… На полке я нащупал коробку спичек и зажег одну лампу: в сторожке уже было сумеречно.
Витька подергал дверь, подтянулся и потряс решетку. С таким же успехом он мог трясти высоковольтную мачту. Витька спрыгнул и заметался по «кутузке».
— Думайте, — прошипел он. — Думайте! Мы обязательно должны удрать! Нужно предупредить твоих, чтоб сменили пароль, — хорошенькую свинью мы им подложили!
Мы думали. О чем? Я, например, о головомойке, которую нам устроит отец, — из-за нашего ареста срывался весь график движения. Витька, конечно, о том, как отсюда выбраться. О чем думал Казик, я не знаю, но спорить готов, что не о побеге.
— Эй вы! — вдруг послышалось за дверью. — Держите! — И в оконце влетел объемистый сверток.
Казик поймал его и зашуршал бумагой.
— Не хотите? Ну, ладно, тогда я сам перекушу.
— Я знаю, что нужно сделать! — шепотом сказал Витька, когда Казик расправился со свертком и затих, растянувшись на полу. — Нужно рыть подкоп. Тут кладка в один кирпич, ну, в полтора… Запросто подкопаем. Только как оторвать доску от пола?
— А это что? — вскочил Казик и ткнул пальцем под полку.
Под полкой, будто специально для нас приготовленные, лежали кирка с длинной ручкой и куча граблей.
— Чудаки! — Витька аж затрясся от смеха. — Куда они нас посадили! Вот умора!.. Не пройдет и двадцати минут, как мы будем на свободе…
Пронзительно звонко пропел горн свою песню: «Спать, спать, спать по палатам! Спать, спать, спать всем ребятам!» Но нам было не до сна. Мы поставили зажженную лампу на пол и уселись вокруг нее. Нужно было обождать, пока лагерь заснет.
— Ну, как тебе в твоих «Соснах» живется? — спросил Витька у Казика.
— Нормально. — Наевшись, Казик заметно повеселел.
— Вожатый хороший. Купаться водит, игру вот затеял. Ну, и шамовка соответствующая. Конечно, не то что у вас на плоту, но жить можно.
Мы немного поболтали, а затем Витька встал и осторожно поддел киркой крайнюю от стены доску.
— Лезь к окну и следи за лагерем, — приказал он Казику.
— Есть, — ответил тот, подтянул какой-то ящик и прилип к решетке. — Давай действуй, никого нету.
Витька налег на кирку. Доска сухо затрещала.
— Смелей, — подзадорил его Казик. — Они уже все дрыхнут без задних ног.
Витька так рванул доску, что кирка слетела с ручки, и он грохнулся на пол, чуть не опрокинув лампу. Я помог ему встать. Морщась от боли, Витька протянул мне ручку кирки.
— Попробуй ты. Ну и инструмент…
Я насадил кирку, подергал в одном месте, в другом, и доска отскочила. Под ней была земля. Можно рыть подкоп.
— Сдери верхний слой, — шепнул Витька. — Дальше должен быть песок. Место высокое, сосняк…
Разрыхлив киркой верхний слой и обрубив старые сосновые корни, я выгреб землю. Получилась приличная ямка.
Вскоре мы уже углубились настолько, что кирку пришлось снова снять с рукоятки, иначе было не повернуться. Песок выгребали руками, щепками, крышками от банок с керосином.
Работали по очереди, на всякий случай кто-нибудь торчал у решетки.
Если разобраться, мы подкапывались под забор. Он ведь и служил нашей темнице задней стеной. Здесь даже фундамента не было, так что дело у нас шло довольно быстро. Минут через двадцать — тридцать лаз был готов. Я первым протиснулся сквозь него, за мной — Казик, замыкающим — Витька. Прижимаясь к мокрой от росы траве, мы заползли в ельник и только там почувствовали себя в полной безопасности.
— Ну, теперь держитесь! — Витька взъерошил волосы, вытряхивая из них песок и шильник, и погрозил кулаком в сторону лагеря. — Мы вам устроим военную игру…
— Ничего не будет, — послышался в темноте голос отца, такой неожиданный, что мы от испуга прижались друг к другу. — Мы сохраним нейтралитет. — Отец посветил фонариком, и мы увидели рядышком с собой под елочками Ростика, Леру и Жеку. — Мы как раз ломали голову, как вас выручить, но коль вы выбрались сами, — тем лучше. Казик пусть отправляется в лагерь, а мы — на плот. На рассвете снимаемся с якоря. Не будем вмешиваться в чужую игру, мы только все испортим.
— Глеб Борисович, — взмолился Казик, — возьмите меня на плот.
— Не могу, брат, — ответил отец. — Дисциплина есть дисциплина. И потом — завтра ваш лагерь пойдет в бой. Если ты не вернешься, это будет просто дезертирство.
Казик запыхтел от огорчения.
— Тогда погодите, — прошептал он. — Там ведь остался план всех укреплений «Орленка», правда, он немного пожеванный, но я все восстановлю! Сейчас я за ним слазаю.
— Но это будет несправедливо… — начал было отец, однако я перебил его:
— Это будет справедливо. Им удалось узнать пароль, Казик унесет план. Постой, я сам его притащу, а то ты еще застрянешь в дырке…
Уходя, мы забыли погасить лампу, и я без труда нашел мокрый комок бумаги. Эх, и пожалеет завтра тот Андрей, что не унес его!
А потом мы проводили Казика до лагеря и сами обходной тропинкой двинулись к плоту.
Жалко, что отец объявил нейтралитет, мы б этому «Орленку» показали, как нужно играть!
ВЫСТРЕЛ НА ЗАРЕ
Отплыли мы на рассвете: побоялись, что ребята из «Орленка» хватятся, прибегут и всыплют нам за подкоп и все остальное. Быстро уложили палатку, собрали одеяла, посуду и снялись с якоря.
Река подхватила плот на свои упругие плечи и медленно понесла его сквозь зыбкий вязкий туман к далеким кострам, разгоравшимся на востоке. Вдоль реки, как вдоль длинного коридора, тянуло влажным низовым ветром. Мы накинули на плечи одеяла, вывернули поближе к фарватеру, чтоб случайно не наткнуться на мель, и поставили парус. Парус поймал ветер и надулся от радости, наверно, ему уже давно надоело висеть толстой колбасой под реей. В предутренних сумерках он казался не алым, а черным, и отсыревший флаг хлопал над ним тяжёлым глухариным крылом. Веселее зажурчала под бревнами стылая вода, и вскоре наша стоянка, оба лагеря с их «войной», «шпионами» и «каталажкой» остались далеко за поворотом.
Отец с Ростиком ладили на корме спиннинги. Витька выбивал чечетку в «вороньем гнезде», высматривая встречные суда и баржи, чтобы заблаговременно отвернуть к берегу, — бочка гудела где-то вверху глухо, как барабан. Лера дремала, свернувшись калачиком на сене, мы с Жекой несли вахту у руля.
Так мы плыли без происшествий и приключений, а небо над нами серело, словно какой-то добродушный толстяк-маляр подмешивал и подмешивал в густую синеву белила, и костры на востоке разгорались все жарче, подсвечивая снизу перистые облака, и в этом дрожащем свете одна за другой медленно гасли звезды. Слева и справа от фарватера покачивались бакены, у них слезились и мутнели зеленые и красные от бессонницы глаза. Со свистом рассекая воздух, звонко шлепались блесны, а потом Витька перестал выбивать в бочке чечетку и закричал:
— Ребята, солнце всходит!
За черными ольховыми кустами, за серым луговым разнотравьем, за фиолетово-сизым ячменным косогором медленно всходило солнце. Оно проклюнуло горизонт, как желтый пушистый цыпленок яйцо, и во все стороны от него брызнули веселые лучи, до блеска отмытые холодной росой. Будто подожженный, вспыхнул наш парус, и бог солнца древних полинезийцев, намалеванный на нем, широко улыбнулся солнцу, и зыбкая дорожка перечеркнула реку, словно ножом вспоров порозовевший туман.
— Солнышко, солнце, выгляни в оконце! — Витька в своей бочке словно ошалел; я подумал, что вот сейчас он высадит днище и рухнет на палубу. — Там твои детки кушают котлетки! А у нас котлеток нет, у нас тушенка на обед…
В этой восторженной пулеметной трескотне я расслышал, как кто-то сдавленно прошептал:
— Ой, мамочка-мама…
Голос был незнакомым, хриплым. Я скосился и увидел Леру. Она стояла у мачты, вытянувшись на цыпочках, словно хотела заглянуть за линию горизонта, туда, откуда выкатывался и выкатывался мохнатый огненный шар, и прижимала кулаки ко рту, наверно, чтобы не закричать, а глаза у нее были — как два солнца, и растрепанные рыжие волосы, в которые набились сухие травинки, — солнце, и даже веснушки — по маленькому круглому солнцу. Меня просто жаром обдало, такая она вся была солнечная. И мне захотелось сделать что-то такое… такое… Что-то необыкновенное! Засвистеть во всю мочь, чтобы над рекой закачались кусты! Заорать, чтоб эхо донесло мой голос до самого Черного моря! Забраться к Витьке в «воронье гнездо» и ласточкой прыгнуть оттуда в воду! Чтоб Лера оторвала глаза от солнца, и взглянула на меня, и улыбнулась мне, а может, даже похлопала по плечу, как когда-то Жеку. Но я не засвистел, не закричал и не прыгнул в воду. На костыле, вколоченном в мачту, висела малокалиберка. Я сорвал ее и, не целясь, выстрелил.
Я не видел пролетавшую над плотом чайку — она вынырнула откуда-то из-под солнца, белая, с черными перышками на груди, с поджатыми красными лапками, — и не думал, что попаду в нее. Я вообще ни о чем не думал, нажимая на крючок малокалиберки. Просто нажал, и чайка, даже не сложив крыльев, вдруг изменила линию полета: пошла круто вниз и камнем рухнула в воду прямо у нас за кормой.
И стало тихо, будто все оцепенели. И чайка медленно плыла за нами, не приближаясь, но и не отставая, но теперь это уже была не белая птица с черными перышками на груди, а что-то непонятное, похожее на ком смятых газет.
— Что ты наделал! — Лера закричала так пронзительно, что у нее сорвался голос, она поперхнулась и засипела: — Что ты наделал?!
Лера стояла у мачты, прижав кулаки ко рту, как и несколько секунд назад, но все ее веснушки погасли, и глаза погасли, и рыжие лохматые волосы с сухими травинками погасли, и была она не солнечная, а серая, будто не в чайку, а в нее выстрелил я в упор из этой проклятой малокалиберки.
Отец бросил спиннинг, даже не выбрав из воды всю жилку, и взял у меня винтовку. Он взял ее за ствол двумя руками, размахнулся и изо всей силы ударил прикладом о бревна. Удар был что надо — приклад разлетелся вдребезги, а ствол у прицельной рамки согнулся дугой. Затем он молча выкинул остатки малокалиберки в воду.
— Зря вы это, Глеб Борисыч, — не оборачиваясь, сказал Ростик. Он широко отвел правую руку со спиннингом, и тяжелая блесна, рыбкой сверкнув на солнце, шлепнулась под самыми кустами у берега. — И ты, рыжая коза, не голоси, тут и так воды хватает. Ружья для того и делаются, чтоб стрелять. Хорошая была винтовочка… И выстрел хороший. Отличный выстрел… Я ж видел — он даже не прицелился.
За один раз Ростик сказал больше, чем порой за целый день. Но, кажется, никто, кроме меня, не обратил на это внимания.
— Подлый выстрел… — угрюмо ответил отец, подобрал свой спиннинг и принялся сматывать жилку. — Бессмысленный, никому не нужный, а оттого подлый вдвойне.
— Никому не нужный… — повторил Ростик. — Значит, если бы это была не чайка, а утка, которую можно съесть, все было бы в порядке?
— Нет, — отрезал отец. — Это была бы подлость, даже если бы над нами летел ястреб-стервятник…
— Ну… — протянул Жека, — это вы загнули. Тоже сравнили…
— А я не сравниваю. Я удивляюсь. Неужели вы не понимаете, что оборвать в такое утро дурацким выстрелом жизнь… неважно, чью: птицы, зверя — на это способен только ничтожный, жестокий человек…
— Только фашист… — просипела Лера и вытерла рукавом лицо.
— Я не нарочно, — подавленно пробормотал я. — Я не думал…
— Погоди, — перебил меня Ростик. — Такое утро, другое утро… Вы меня извините, Глеб Борисыч, но это смешно… Тысячи охотников в «такое» утро убивают тысячи всяких птиц и зверей. Что ж, по-вашему, все они подлецы?
— Я этого не говорю. — Отец потер небритую колючую щеку; я вдруг заметил, что щетина у него серая и виски будто солью присыпаны: седой… — Я никогда не охотился и не понимаю этой страсти, хотя, наверно, в ней что-то есть. Я не понимаю этого, я выбросил бы все ружья к чертям собачьим, если уж тебя интересует мое мнение. Я признаю только два случая, когда человек может убивать: защищаясь от хищного зверя или добывая себе пищу. Все остальное — дерьмо: слепой азарт и мясозаготовки. А стрельба по тому, что просто украшает землю — вдвойне дерьмо, подлость и преступление.
— Я с вами не согласен. — У Ростпка сузились глаза и еще больше заострилось лицо. — Мы ведь мужчины. А у настоящего мужчины должны быть твердая рука и меткий глаз.
— И доброе сердце, — сказал отец. — Обязательно доброе сердце. Иначе никакой это не настоящий…
— Но ведь на земле еще полным-полно фашистов… — Ростик оперся на спиннинг, как на палку, и исподлобья смотрел на отца. — Они могут снова полезть на нас. И мы должны уметь стрелять, чтоб они опять не дошли до самой Москвы… Чтоб отцы других ребят не ездили на инвалидных колясках, как мой… А мы хнычем над убитой чайкой, будто девчонки… — Ростик презрительно покосился в Лерину сторону; она стояла, привалившись к мачте и закрыв лицо руками. — Вы ведь взяли винтовку не затем, чтоб она висела на мачте для украшения нашего плота?
— Конечно, нет. — Отец сел на бревна и свесил в воду босые ноги. — Я тоже хочу, чтоб вы умели стрелять и росли настоящими мужчинами. И малокалиберку я взял, чтоб научить вас стрелять. Но не по птицам, Не по зверью, а по мишеням. Вот ты говорил о фашистах… У нас в отряде был Миколка Лунев, сын командира. Чуть постарше вас, в 1943 году ему исполнилось пятнадцать, и Миколку приняли в комсомол. Однажды в разведке он подобрал и притащил в лагерь щенка. Уж не знаю, чья пуля раздробила ему заднюю лапу, партизанская или немецкая, одним словом, когда Миколка подобрал щенка, тот истекал кровью. Миколка разорвал рубашку и перевязал ему лапу. А в лагере доктор Софья Максимовна сделала щенку операцию. Гипса у нас не было и в помине, и она положила его лапку в лубки — Миколка сам выстрогал две подходящих дощечки. Он возился со своим щенком, как нянька: кормил, купал, на ночь брал к себе на нары. Он жалел его — ведь щенок был инвалидом! Молока у нас не хватало даже для тяжелораненых, но Софья Максимовна каждый день приносила Миколке кружечку: весь госпиталь оставлял по капельке для щенка… Господи, боже мой, и хоть бы тот щенок был каким красивым, породистым, что ли! А то пегий, лопоухий, шелудивый, а морда, ну такая глупая, глянешь — оторопь берет! Это ж надо такой уродиной родиться! К тому же лапка плохо срослась, так и ковылял на трех.
Отец замолчал и поболтал ногами в воде. Долго раскуривал свою трубку.
— А что дальше? — спросил Витька из «вороньего гнезда».
— Ничего. — Отец окутался облаком дыма. — Осенью сорок третьего началась блокада. Мы уходили Мурашковскими болотами, группа, в которой был Миколка, прикрывала отряд. Они бились до последнего патрона, а стрелять Миколка умел… Сколько их там полегло, фашистов, пока его вражья пуля не нашла… А ведь он за всю свою жизнь ни одного воробья из рогатки не подстрелил, ни одной белки не «ухлопал», ни одной утки не «срезал», хотя и был ворошиловским стрелком. Нет, Ростислав, нельзя ради баловства стрелять в птиц и зверей и быть хорошим, честным человеком. Если хочешь знать, самыми лучшими солдатами бывают не злые и жестокие люди, а добрые: им есть за что воевать. Например, такие, как твой отец. Он ведь очень добрый человек. А солдатом был настоящим. Вот такие пироги…
— Кончайте, — сказал я. — Кончайте этот разговор, я ведь не хотел ее убивать. Я сам не знаю, как это получилось, я хотел просто выстрелить… ну, вроде как салютовать солнцу. Она вылетела прямо из-под солнца, я ее даже не видел. В жизни я не стал бы в нее стрелять… что ж мне теперь — топиться, что ли?! Ну, дайте мне по морде, но перестаньте тянуть душу…
— А все-таки хорошая была винтовочка, зря вы ее поломали… — проворчал Ростик, он будто и не слышал моих слов.
— Пожалуй, зря, — неожиданно согласился отец. — Я и Тиму когда-то ударил зря, выходит, опять погорячился. Думал, что нарочно. Нервы, брат… Понимаешь, я просто бешеный становлюсь, когда такое вижу. Вот, думаю, паразиты! Научи их стрелять, так они… Ладно, давай спиннинговать, неужто ни одной щучки на поджарку не вытащим?
Я лег на палубу и с головой завернулся в одеяло. «На палубе матросы курили папиросы, а бедный Чарли Чаплин окурки подбирал…» — вынырнула откуда-то и намертво прилипла веселая песенка, и я замотал головой, чтоб от нее избавиться, но из этого ничего не вышло. Песенка звучала все громче и громче, ее насвистывал маленький грустный человечек с усиками, в мятом котелке и в подранных штиблетах, а потом подхватили скрипки, и это было так невыносимо, что я зажал зубами край одеяла. Почему я, черт меня подери, такой невезучий! Вечно влипну в какую-нибудь историю… Я даже переживать не умею, как все люди: хочу ругать себя за чайку, а в голову лезет всякая дребедень, и никуда от нее не деться, хоть ты волком вой! «На палубе матросы курили папиросы, а бедный…» — будто в каждом ухе по маленькому патефончику, а иголки заело, и пластинки крутятся на одном месте. С чего бы это Ростик так разговорился? Он ведь сам муравья не обидит, обойдет. У него в сарайчике два кролика живут. Ангорские. Толстые, пушистые, как подушки. Как-то крольчиха заболела, так Ростик чуть с ума не сошел. Вычитал в какой-то книжке, что полынь помогает, к черту на кулички за той полынью бегал. В ветеринарную лечебницу возил… «…а бедный Чарли Чаплин окурки подбирал. Тара-тара-та-там…» Как это он сказал: «…чтоб они опять не дошли до самой Москвы…» Я вспомнил Ростика в тире. Вот он стоит, широко расставив ноги и прижав к плечу приклад винтовки, бледный от напряжения, и целится не в зверя, не в птицу — в того толстомордого фашиста, который принес столько горя и дяде Косте, и Ростику, и всем нашим людям. Вот кого он ненавидит: того фашиста! И всех фашистов на земле, тех, кого не перебили до конца в сорок пятом. И все мы их ненавидим, хоть и не всаживаем пулю за пулей в жестяную мишень. Нет, Ростик, больше они никогда не дойдут до Москвы! Мы им переломаем ноги раньше, чем они сделают хоть один шаг по нашей земле. Это точно. Не веришь моему отцу, спроси у своего. И вообще… «На палубе матросы курили папиросы…» Ой, мамочка-мама, чего я поучаю Ростика, если сам в себе разобраться не могу? Ну, что, мне так уж жалко ту чайку? Нет, винтовку жальче, если по совести. И выстрел был мировецкий. Правда, нечаянный, и гордиться тут особо нечем, а подумаешь, и вроде защекочет что-то: приятно. Выходит, я на самом деле скверный человек, только притворяюсь хорошим? «…а бедный Чарли Чаплин окурки собирал. Тара-тара-татам…»
Под байковым одеялом было душно, колко и потно. В рот налезли тысячи волосинок и кололись, словно я проглотил ежа или гнездо с осами. И я подумал, как это было бы здорово, если бы ученые сделали такую машину, вроде рентгеновского аппарата. Чтоб запихнуть в нее человека, посветил, поколдовал и — все ясно-понятно и не над чем голову ломать. Этот — хороший человек, а этот — гад и подонок, и никаких дураков, то есть никаких сомнений. И чтобы каждому выдавали такую табличку: «отл.», «хор.», «поср.», «пл.». А для всяких предателей, доносчиков, убийц, фашистов: «очень пл.». Одним словом, кол с минусом. Вот такие пироги. И какая бы тогда настала замечательная жизнь! Всех «пл.» и «очень пл.» собрали бы в кучу и отправили на необитаемый остров, чтоб они там перевоспитывались. А если они и поубивают друг друга — тоже не беда, человечество от этого не пострадает. «На палубе матросы курили папиросы, а бедный Чарли…» Ну, тех, кто «поср.», подтягивали бы до уровня четверочников и пятерочников, как у нас в школе. Конечно, они бы исправлялись, а куда ты денешься, если тебя будут окружать одни только хорошие и очень хорошие люди! И вообще, как влепят тебе табличку «пл.», тогда запоешь!
Интересно, а какую табличку выдала бы та машинка мне? Конечно, я не самый распоследний гад, это ясно. Но и на «хор.», пожалуй, не вытяну. Вот чайку убил, и вообще… Пожалуй, больше, чем на «поср.», рассчитывать не приходится. Да, не очень весело… «…а бедный Чарли Чаплин окурки подбирал. Тара-тара-татам…»
Уж не знаю, до чего я додумался б, видно, вообще заехали бы шарики за ролики, если бы вдруг не раздался восторженный голос Ростика:
— Есть! Щука есть! Щу-ка-а!
Этот торжествующий вопль будто разбудил меня. Я выпырнул из-под своего одеяла и задышал всей грудью, словно с другой планеты вернулся. Солнце уже поднялось куда как высоко — с самой гонкой сосны не дотянешься! Туман таял под ним, как снег, и росой с прибрежных кустов стекал в реку. За кормой что-то плюхалось, взметало брызги, удилище в руках у Ростика ходило ходуном и выгибалось дугой, тормоз катушки визжал, как моторный катер, видно, щука попалась здоровенная! Все толпились на корме, только Витька сверху, из «вороньего гнезда», подавал советы и указания:
— Отпусти, отпусти чуток, а то жилку порвет! Поводи, поводи ее! Чтоб воздуха заглотнула, она тогда сразу мягче станет! Ох, и крокодилище ж! Держите его, иначе эта зараза в воду стянет!
Ростик стоял, широко расставив ноги и чуть откинувшись назад, и метр за метром накручивал на барабан звенящую жилку. Щука то уходила в глубину, то резко бросалась к берегу, к кустам, и тогда Ростик немного отпускал, чтоб она и впрямь не порвала жилку, но затем снова подтягивал «крокодила» все ближе и ближе. Когда до плота оставалось метров пятнадцать, щука вдруг свечой выпрыгнула из воды и ввинтилась в воздух. Мы ахнули, когда увидели ее: не рыба — полено. Изогнувшись, она замотала головой, словно хотела избавиться от блесны, и тяжело плюхнулась назад. Ростик резко наклонил удилище вниз и отпустил катушку.
— Врешь, не уйдешь! — шептал он, и у него горели уши.
Видно, рыбина потратила на прыжок все свои силы, потому что всплыла и пошла за жилкой, как бревно, только хвостом чуть пошевеливала. Отец подставил сак, щука равнодушно вошла туда до половины, и он, поднатужившись, вывернул ее на плот.
— Килограммов двенадцать, не меньше, — отдуваясь, сказал отец. — Поздравляю, брат, и завидую: сроду таких не ловил.
Я таких не только сроду не ловил, но и не видел, да и все наши ребята тоже. Это и не щука даже была, а вправду крокодил. Наверно, на Березе такая разновидность щучьих крокодилов водится, а ученые о них и не подозревают! Ну, подумайте сами, что это за щука: больше метра в длину, чешуя у хребта — в трехкопеечную монету, сама зеленовато-бурая, будто мхом обросла, пасть — футбольный мяч войдет, а из пасти, как усы, оборванные поводки свисают. Да она железом нашпигована, будто в нее прямой наводкой из пушки лупили! И как она Ростиков поводок не порвала!
— Я забросил, а тут — «борода»… — Ростик все еще сжимал в руках спиннинг, он просто задыхался от счастья, от редкостной своей удачи. — Ну, распутал кое-как, а блесна-то тянулась потихоньку. Поднял рывком со дна, вдруг как ударит! Чуть удилище не вышибло! Все, думаю, плакала моя блесенка! Засела, видно, на корче, буду тянуть, пока не оборвется или якоря не обломаются. А потом повернул ручки — сама пошла. Пронесло… А она как рванет, как рванет…
Он осторожно провел рукой по хребту рыбины, стряхнул слизь и счастливо рассмеялся. А щука тяжело шевелила жабрами и судорожно зевала: не хотел бы я сунуть руку в эту пасть, до отказа набитую острыми, как бритва, зубами.
Отец косился на щуку, а сам шлепал и шлепал блесной. Вытащил щуренка, граммов на триста, еще одного, такого же, потом окуня. Смотал жилку и усмехнулся.
— Да, такое чудо не часто удается заарканить. Ишь, и меня зуд разобрал!
— А может, мы ее назад в реку выпустим? — У Ростика хитро блеснули глаза. — По вашей же теории… Тоже — украшение… ну, не земли, так воды, какая разница…
Отец выбил о палубу трубку.
— А что, — спокойно сказал он, — можно б и выпустить. Толку с нее, как с козла молока. Мясо жесткое, деревянное, на уху мелочь, что я вытащил, в сто раз вкусней. Вреда от этой щуки особого в реке не было, она ж там вроде как санитар… Но теперь выпускать опасно. Блесна твоя глубоко засела, пока тащил, все у нее там порвало. Достать не достанешь, обрезать — голодной смертью помрет. Болеть будет, еще других рыб заразит… — Отец сунул пустую трубку в рот. — Щуки и всякой другой рыбы в реке много, спиннингами да удочками ее не повытянешь. А зверя или птицу любую можно выбить. Дай только ружья таким шалопутам… Думаешь, зря государство заповедники да заказники создает? Чтоб люди и через сто лет могли увидеть зубра или там осетра не только на картинке. И спорить тут не о чем, такие пироги. Охота есть охота, рыбалка есть рыбалка… А убийство есть убийство, и иначе это не назвать. Давайте поворачивать к берегу, вон местечко подходящее. Пора завтрак готовить. Кто у нас сегодня главные кашевары? Тима и Виктор? Ну-ну… А из щуки мы чучело сделаем. Поставим в своей штаб-квартире, пусть все любуются и завидуют.
БРАКОНЬЕРЫ
К полудню жара и духота стали просто невыносимыми. Мы разделись до плавок, но все равно было такое ощущение, что ты в парной, закутанный в горячие влажные простыни. На плоту оставался только вахтенный, остальные, уцепившись за бревна, мокли в воде, вялые и сонные, словно рыбы на кукане. Ветер снова улетел к «гремящим сороковым», флаг обвис, парус сморщился — старым и брюзгливым стало у «Кон-Тики» лицо, будто и ему было жарко. Ласточки-береговушки черными тенями летали над самой водой, предвещая дождь, но небо было чистым и блеклым, как застиранная простыня. Только где-то за тридевять земель, у самого горизонта, громоздились безобидные рыхлые облака, похожие на стадо давно не стриженных баранов. Отец то и дело с тревогой поглядывал на них и наконец приказал дневальному, Жеке, поворачивать к берегу. Мы было взбунтовались: ведь нам еще плыть да плыть! — но отец, видно, вспомнил про свое командорское звание и мигом подавил бунт.
— Разговорчики! — рявкнул он. — Идет гроза, нужно выбрать защищенное место, разбить палатку, хорошенько заякорить плот, натаскать хвороста. Работы часа на полтора — успеть бы… Вы мне свои анархистские замашки бросьте, флибустьеры, на рее вздерну!
Можно смело сказать, что с того «исторического» мгновения, когда вспыхнувшая в подвале двухсотваттная лампочка положила конец «эпохе плаща и кинжала», мы все реже и реже вспоминали о тайной организации «Черная стрела», а отца называли командором, только когда хотели подразнить. Слишком много всякой всячины навалилось на нас: ремонт штаб-квартиры, езда на «Москвиче», разборка барака, строительство плота, а теперь еще это путешествие, с приключениями и без… Будешь тут помнить о каких-то детских играх!
Из-за дальнего поворота навстречу нам выскочил пассажирский теплоходик. Был он весь такой аккуратный, беленький, чистенький, словно игрушечный. Пассажиры толпились на палубе, махали нам руками, смеялись. Капитан, молодой, загорелый, с тоненькими черными усиками, в белой нейлоновой рубашке с подвернутыми рукавами и щегольской фуражке с крабом и лакированным козырьком — картинка, а не капитан! — высунулся из рубки, сдернул с носа зеркальные светофильтры и крикнул:
— Эй, на плоту! Куда путь держите?
— К острову Пасхи! — сложив руки рупором, заорал Витька.
— Счастливого плаванья! Не напоритесь на рифы в проливе Лаперуза!
Ах, какой он был остроумный, этот лакированный капитан! Лера даже сделала ему книксен и послала грациозный воздушный поцелуй. Люди на палубе схватились за животы, а капитан скрылся в рубке и сердито загудел. Обиделся… Не понимает, чудак, изящного обращения!
Волны, разбежавшиеся от теплоходика, захлопали по нашему плоту упругими ладонями, изо всех сил пытаясь взобраться па палубу. Дудки, мало каши ваша посудина ела! Вот когда утром и вечером «Ракета» пролетает — это другое дело. Тут мы сами удираем подальше. В первый раз не успели — все барахло намокло. Пришлось потом по вантам развешивать, сушить. «Цирк!» — хохотал Витька.
Нет, тут и доказывать нечего: путешествовать на плоту — это здорово. Особенно когда лежишь на палубе, подстелив душистого сена и чуть не уткнувшись лицом в воду, и ловишь взглядом шустрых, как ртутные шарики, мальков, слюдяной блеск песчинок на дне, мерное пошевеливание водорослей, протянувших откуда-то из глубины осьминожьи щупальца… Или когда запрокинешься на спину, и река укачивает тебя, и кажется, ты ощущаешь, как медленно поворачивается земля вокруг своей оси, и река, и плот вместе с нею, и все плывет, плывет, а жаворонок как повис над головой черной точкой, так и висит, будто гвоздем к небосводу прибитый… Но когда мимо проносятся «Ракеты», а обычные тихошлепы-теплоходы и даже буксиры-толкачи проходят по фарватеру воплощением человеческой мечты о скорости, потому что сам-то ты ползешь медленней, чем на волах, ты вдруг начинаешь завистливо цокать языком и с ученым видом рассуждать о дизельных и реактивных двигателях, лошадиных силах, воздушных подушках и прочих достижениях отечественного, а также зарубежного судостроения. И счастье твое, если в это время капитан или командор плота — называй, как хочешь! — сидит на корме, посасывая трубку. Потому что тихоходнейший десяток обшитых досками бревен опять начинает тебе казаться самым уютным, надежным и интересным местом на земле… извиняюсь, на воде.
Так вот, мы подвернули к правому берегу и поползли, подталкиваясь шестами и высматривая место для стоянки. И вдруг оттуда, где река словно бы уходила под землю, потому что прямо по курсу широкой полосой поднимались лозовые и ивовые джунгли, донесся протяжный и глубокий, как вздох, взрыв: бум-м-м!
— Уже гремит? — удивилась Лера и, приложив к глазам козырьком ладонь, посмотрела на небо.
— Не похоже. — Отец выбил о край бревна трубку и бросил на брезент. — Или у берега рвут корчи, или… Или это своеобразное завершение нашего утреннего разговора. Слушайте приказ. Виктору, Жеке и Лере подогнать плот вон к тому лесочку и стать па привал. Времени не терять, готовиться к грозе, и нешуточной. Старшим назначаю Виктора. Ростик и Тима — за мной.
Пригнувшись, он нырнул с плота и размашисто поплыл к берегу. Мы с Ростиком переглянулись и бросились за ним.
Цепляясь за коренья, отец выбрался наверх и подал мне руку.
— Бежим наискосок, срежем дугу.
Если бы мы сообразили обуть кеды! Про носки, например, я уже не говорю, хотя они тоже нисколько не помешали бы нам доплыть до берега, но коды… Их и искать не нужно было, стояли возле ящика с паяльной лампой и бензином, ну, что стоило хоть на ходу схватить!.. А так — колючая иссохшая трава, острые камни, растопыренные, словно ежи, сосновые шишки… И некогда присматриваться, куда лучше поставить ногу, быстрей, быстрей, длинными прыжками, и вдруг будто током прошьет — такая боль! Подожмешь на мгновение ногу, а на одной далеко не ускачешь, и снова во весь дух вперед! Потому что еще раз бумкнуло там, за поворотом, здорово бумкнуло…
Вот и лесок, где приставать Витьке с ребятами, молодой сосонник, чистый, будто подметенный. Но это только кажется, что он будто подметенный. Сквозь междурядья вдали проблескивает река, но какие ж они длинные, эти междурядья! И как больно, наотмашь, хлещут ветки, а хворост стреляет под ногами, и каждая хворостинка сделана из одних лишь острых сучков, а шишек в тысячу, нет, в миллион раз больше, чем там, на открытом месте. И губы сухие, шурпатые, по ним больно провести языком, и дышишь, как та Ростикова щука на плоту, потому что расстояние в полкилометра с такой скоростью мы не бегали даже на школьном стадионе. Мы вообще не бегали на стадионе расстояний в полкилометра, — шестьдесят метров, сто от силы, а где они остались, те сто? Не там ли, где я споткнулся о камень, сбил ноготь и содрал кожу с локтей? Или там, где Ростик наступил на колючую проволоку? Краем глаза я видел, как он подпрыгнул и вскрикнул, а потом отбросил эту проволоку и, прихрамывая, побежал дальше. Кажется, именно тогда я его обогнал. Он здорово бегает, ничего не скажешь, да и я не слабак — стометровку за 12,6 по секундомеру, но за отцом мы оба не смогли угнаться. Ноги у него железные, что ли, у отца, — шишки так и выпрыгивают из-под пяток, будто выстреленные…
Мы отстали от отца метров на двадцать. Задыхаясь, скатились с обрыва и очутились по пояс в воде: здесь глубина начиналась прямо у берега. С ногами творилось что-то непонятное: сначала будто обдало кипятком, через мгновение стало так легко, хоть ты беги этой же дорогой назад, а затем они тупо заныли.
Но прислушиваться к этому не было ни времени, ни возможности.
Мимо нас вниз по течению медленно плыла рыба. Мы стояли не в воде, а в рыбном месиве, в котле с ухой, только больно уж необычной формы был этот котел, и выхлебать его не смог бы ни один обжора в мире. Вывернутые взрывом из омута, оглушенные, покачивались в этом «котле» лещи, плоские и широкие, как лопаты; тусклым старинным серебром отливала их чешуя. Догорали ярко-красные плавники окуней-горбылей Полосатые щуки и щурята казались деревянными и раскрашенными — хоть бы одна зашевелилась! Под силу это оказалось только золотистому язю, он вдруг сделал несколько судорожных движений хвостом и плавниками и опустился вниз, исчез, но метров через восемь вода снова вытолкнула его на поверхность, словно не принимала, словно не нужен он был реке, такой беспомощный, такой вялый, и язь, и уже не язь…
И всех этих королей, принцев, князей и разбойников речных глубин окружала блистательная свита из плотвы, красноперок, подъязиков и подлещиков, уклеи и прочих безродных верховодок. И было их — маленьких, очень маленьких, крохотных, совсем мальков — как шильника в сосновом бору: белая дымчатая полоса.
Остолбеневшие, мы смотрели на эту рыбную похоронную процессию, когда снизу, из-за кустов, послышался скрип уключин и вынырнула синяя плоскодонка. В плоскодонке было двое. Один в стянутом к затылку коричневом берете и желтой шелковой майке, греб, он сидел к нам спиной. Второй — чернявый, в расстегнутой на волосатой груди зеленой тенниске, заправленной в черные, до колен, трусы, стоял на корме. В руках у него был сак. Этим саком, как огромным дуршлагом, он торопливо процеживал реку и швырял рыбу в лодку. Он был так занят этой работой, что даже не заметил нас.
— Поворачивайте к берегу. — Отец был бледным и спокойным, только голубая жилка часто-часто билась на шее. — Вы арестованы.
Чернявый от неожиданности присел. Второй выронил весла и обернулся.
— Африкан! — Я почувствовал, что задыхаюсь, как в том сосняке, когда в междурядьях уже проблескивала река, а воздуха не хватало даже на пять шагов. — Афри-ка-а-ан!
— Тимка… Ростик… — Африкан вскочил. Лодка угрожающе закачалась, и он снова шлепнулся в лодку, успев повернуться к нам лицом. — Глеб Борисыч… Как вы сюда попали?! Откуда вы?
— К берегу! — повторил отец и шагнул поглубже — течение потащило лодку назад, к кусту.
— Что, племяш, никак, знакомые? — просипел чернявый, удерживая лодку коротким кормовым веслом, и я вдруг догадался, что это — брат Африкана Гермогеновича, тот самый, к которому Таракан уехал в деревню: то-то удивительно знакомым показалось мне его лицо! — Суседи?! Слава те, господи! До смерти напужали… Орут, что тебе рыбоохрана. — Он снова заработал саком. — Лады, лады, не надсаживайтесь — поделимся. Чего уж там… Одно слово — суседи. Не стойте, раззявившись, подбирайте, что покрупней, да на берег… Тут на всех хватит! Подгреби, Африкаша, вон еще сколь несет. Свои люди — помиримся.
Африкан поерзал на лавке и взялся за весла. Он не верил, что мы — «свои люди», он знал, что этому никогда не бывать: мы чужее чужих. Но рыба еще плыла, и жаль было упускать добычу. И он начал грести, неудобно занося вперед весла и забирая к фарватеру, а сам не сводил с нас настороженных, юлящих глаз.
И тут мы совершили ошибку. Нужно было прикинуться, что от нас и впрямь можно откупиться десятком-другим рыбин, и мы взяли бы их голыми руками: руки-то у нас, действительно, были голые. Но отец не умел или не захотел прикидываться.
— Немедленно поворачивайте к берегу, а то я утоплю вас вместе с вашим корытом! — сжав кулаки, гаркнул он. — Ах ты, тварь ползучая, свояков вздумал искать! Считаю до трех. Раз!..
— Вона ты как заговорил! — набычился чернявый. — Хреновые у вас суседи, Африкаша. Ну-ну, попробуй утопи… Только гляди, чтоб самому раков не кормить!
— Два!
Чернявый отложил сак, нагнулся и вскинул ружье.
— Где два, там и три! Валяй, если жить надоело.
Сухо щелкнули взведенные курки, и два черных ствола, как два застывших зрачка, уставились на отца. Между нами не было и пятнадцати метров, промахнуться с такого расстояния невозможно.
— Ах ты, сволочь! — глухо сказал отец и шагнул вперед и в сторону, чтоб отойти от нас. — Ружьем грозишь…
Он пригнулся, словно для броска, но я схватил его за руку. Я вцепился в его руку мертвой хваткой, я повис на нем, чуть не сбив его с ног, и тут пронзительно заверещал Африкан:
— Дядя Клава, положь ружье! Положь ружье!
Африкан закачал лодку, и чернявый пошатнулся.
— Так ведь я понарошке, Африкаша, — хрипло засмеялся он. — Стану я об это дерьмо гадиться…
У меня почему-то стали ватными ноги. Я разжал пальцы на отцовской руке, и на меня начала медленно опрокидываться Береза. Она вставала на дыбы вместе с плоскодонкой, с прибрежными кустами, с поредевшими рыбами на воде, и я отступил перед этой громадой, споткнулся и упал. Ростик подхватил меня под мышки и потащил к берегу, а отец глубоко вдохнул воздух и нырнул. В то же мгновение чернявый дернул пускач — впопыхах мы даже не заметили подвесного мотора, прикрытого пиджаком, — и лодка рванула к левому берегу во все свои лошадиные силы.
— Съел?! — захохотал чернявый, когда отец вынырнул и растерянно закрутил головой. — То-то жа, голоштанная команда…
Отец повернул назад. Пошатываясь, вышел на берег. У него глубоко запали глаза и дергались губы.
— Все равно не уйдете… Хоть сто моторов ставьте. Под землей найдем.
— Не докажете! — Лодка описала дугу и лихо пролетела мимо нас. — Не пойман — не вор! А вам нас споймать — кишка тонка!
Набирая все большую скорость, плоскодонка скрылась за кустом. Африкан торопливо вытаскивал из уключин весла.
— Хоть бы катерок какой… — заскрипел зубами отец, сел на песок и сжал руками виски. — Хоть какая бы посудина. И как только решились, гады, — средь бела дня… Вот они, твои «настоящие мужчины», Ростик. Сильные, смелые… С ружьями, с моторами, со взрывчаткой… Всю землю готовы себе в карман запихнуть, после них хоть трава не расти…
Ростик угрюмо молчал. На потемневшей реке редкими искрами вспыхивали оглушенные мальки. Обычно оживленная, как большая дорога, сейчас река была пустынной — ни тарахтения буксирного движка, ни комариного звона катерного мотора. Будто вымерло все от истока до устья или заснуло.
— Из какой он может быть деревни, этот «дядя Клава»? — вслух подумал я. — Много тут до Крупицы деревень, отец?
— Четыре, — не поднимая головы, ответил он. — Заречье, Хвойники и Сычково на правом берегу, Бобры на левом.
— Зайдем во все четыре! — проворчал Ростик. — Не иголки, не затеряются. Тем более — фамилию знаем.
— Верно, — встрепенулся отец. — А теперь — к плоту. Вон какая туча наползла…
Сизая набрякшая туча уже затянула полнеба, в ней глухо ворочался с боку на бок гром. Тугим полотнищем хлестнул ветер, закачал кусты, погнал по воде крупную рябь. Мы побежали вдоль берега назад к повороту, где над густыми сосенками лисьим хвостом метался столб рыжего дыма: ребята разожгли костер.
КРУГОМ ВОДА…
Пока мы добежали до плота, от ясного солнечного дня не осталось и следа. Стало темно и зябко, будто сумерки опустились на землю. Потом вдруг послышался протяжный треск. Казалось, что ветер выдирает на крутояре огромное дерево; не выдержав напора, трещат, рвутся его корни. На бегу я задрал голову и увидел это дерево: его густая огненно-зеленая крона, искрясь, раскачивалась прямо над нами, ствол раскалывал небо, а перепутанные оборванные корни свешивались за горизонт. Дерево пульсировало, но по ветвям, стволу, корням его бежал не живой сок земли, а разряд электричества, наверно, он был мощнее всех электростанций мира, вместе взятых. Когда молния наконец погасла, из края в край прокатился такой грохот, что мы, не сговариваясь, прижались к глинистому обрыву. Вот так, наверно, грохотало, когда тысячи наших орудий разом повели огонь по Берлину. Или когда стартует космический корабль… Или когда взрывают атомную бомбу…
Подхлестнутая ветром, река бежала к устью, словно тоже спешила удрать от грозы. На серой воде крутились вырванные кусты, охапки сена, доски, коряги. Звонко щелкнули первые капли дождя, упругие, как мячики, они подскакивали вверх-вниз, примериваясь, как бы это получше, поудобнее устроиться. А затем, будто из дырявой бочки, хлынул ливень.
Река вспенилась, побелела, как крутой кипяток, аж пар закурился над ней. Она приступом шла на наш берег, валила с ног, и мы поскорей вылезли по осклизлому склону наверх.
— В палатку! — приказал отец, а сам побежал к плоту: взбесившаяся река готова была утащить наш «дредноут» вместе с сосной, к которой он был привязан.
Палатка темнела чуть в стороне от берега, между деревьями, но мы и не подумали свернуть туда, пока вместе с отцом не убедились, что плот закреплен надежно. Разве что лопнут все три каната или впрямь выкорчует сосну, но ведь тогда и мы ничего не сделаем — руками такую махинищу не удержишь. Нет, не похоже, высоко стоит сосна, воде туда не добраться. Да и канаты надежные…
Продрогшие, исхлестанные дождем и ветром, исцарапанные, мы на четвереньках вползли в палатку. И как же там было тепло, сухо, уютно! Ребята разбили палатку по всем правилам: туго натянули, глубоко забили колышки, обкопали ровиком, чтоб сбегала вода, устлали еловыми лапками и сеном. В центре, подвешенный за сучок, весело подмигивал фонарь «летучая мышь», в термосе был горячий чай, и вся наша одежда, совершенно сухая, горкой высилась на рюкзаках с харчами. Когда они все это успели, черти еловые!
— Молодцы! — Отец присел на корточки и растирался полотенцем. — Объявляю благодарность с занесением в судовой журнал.
Витька подкрутил в «летучей мыши» фитиль.
— А что у вас?
— А у нас в квартире газ, — не выдержала, откликнулась Лера. — Рассказывайте поскорее, не томите…
Мы прихлебывали из кружек обжигающе горячий чай и рассказывали про встречу с Африканом и его «дядей Клавой». А дождь стегал по упругим бокам палатки, и от блеска молний лица у ребят становились синими, страшными, как у книжных привидений, и без остатка растворялся в этом полыхании желтый язычок фонаря.
Гроза прошла так же внезапно, как и налетела. Вдруг разом выгорели молнии, словно полностью разрядились небесные аккумуляторы. Отдалился гром — теперь это была не артиллерийская канонада, не старт космического корабля, а просто где-то за рекой, на лесных делянках, разваливались штабеля бревен. Только ветер гнал по небу рваные тучи, как пастух гонит стадо коров, да шумел в сосоннике, собирая с хвоинок себе на бусы дождевые капли.
Мне казалось, что гроза бушует целую вечность, что уже, наверно, ночь или поздний вечер, но в палатке вдруг начало светлеть, светлеть, и, когда мы вылезли наружу, из-за последней тучки вынырнуло солнце. Оно было еще куда как высоко. Небо на глазах набрякало синевой, будто гром выколотил из него всю пыль, а ливень хорошенько выстирал и выполоскал, и после утреннего удушья было так свежо, что покалывало внутри.
Река потемнела, вздулась, по всему откосу наперегонки в нее сбегали мутные ручейки. На другом берегу, вытянув длинные клювы и высоко поднимая голенастые ноги, важно расхаживали два аиста, время от времени они задирали головы и громко клекотали.
— Что будем делать? — Отец глядел на реку и почесывал затылок. — Хорошо бы остаться здесь на ночлег, место обжитое. Да и вода к утру спадет. Оставайтесь, а…
— А вы? — Жека расковырял пошире сток и спустил воду, собравшуюся в ровике вокруг палатки.
— А я скакну в Заречье, в сельсовет. Это недалеко, километров пять-шесть. К ночи вернусь. Если задержусь — не маленькие, сами заночуете. Надо ж браконьерской ухи отведать, такие пироги.
— Не пойдет, — надулся Витька. — Берите и нас с собой. А то как самое интересное, так без нас…
— Что ж тут интересного? — удивился отец. — Это ж не цирк. Это — нужда, понимаешь? Нельзя мимо таких вещей проходить…
— Вам нельзя, а нам можно, да? Мы из этого Африкана-Таракана котлету сделаем!
— При чем тут ваш Африкан… Он, что ли, взрывчатку доставал? Наоборот, выстрелить не дал.
— Потому что струсил. — Ростик выдернул кол-распорку, палатка сразу обвяла, завалилась одним боком. — Он трус. Такой же, как его дядька. Поплыли, Глеб Борисыч, чего время терять.
— Поплыли так поплыли! — махнул рукой отец. — Давайте укладываться.
Уложились.
Увязались.
Отдали концы.
Плывем.
Но это уже не беззаботная прогулка, когда можно лежать, свесившись над водой, и высматривать, как на дне вспыхивают песчинки. Тихую, ленивую Березу словно подменили. Она крутит наш плот, как ей только хочется, швыряет от одного берега к другому, она смеется над нашим румпелем и жалкими потугами отца хоть как-то держаться курса. Как угорелые, носимся мы вдоль бортов, отпихиваясь шестами от рогатых корчей и обросших мхом валунов — лишь по белым бурунчикам можно догадаться, где они подкарауливают нас. Отец тревожно глядит вперед и хмурится: для любого встречного судна мы сейчас, как для машины пьяный велосипедист посреди шоссе, — попробуй угадай, куда его понесет в следующее мгновение.
Резкий толчок валит пас на палубу. Румпель выбило — тяжелая жердина пролетает над плотом, как копье, и вспахивает воду впереди нас. Бревна скрипят, словно их дерут тупые пилы, — мы с ходу влетели на каменистый перекат, — сквозь разъехавшиеся доски пузырями выдавливается вода.
Соскакиваем. Воды чуть повыше колена. Валуны скользкие от водорослей, оступишься — запросто сломаешь ногу.
Облегченный, плот чуток приподнимается, мы толкаем его, а за перекатом карабкаемся наверх.
— Без руля и без ветрил! — смеется Витька, и у него блестят разноцветные глаза. — А мачта гнется и скрипит!
Нет, мачта не гнется. Скрипит, это точно, но не гнется. Пока…
— Надо кончать это безобразие! — Отец выхватывает у Леры шест. — К берегу заворачивайте, к берегу.
Мы тычемся в воду шестами и не достаем дна.
— Ах ты, матушка Береза-река, до чего ж ты широка, глубока! — горланит Витька, размахивая бесполезным шестом.
— Сделай нам, Береза, одолжение! Помоги нам избежать плотокрушения! — словно только и ждала, подхватывает Лера.
Крутой поворот. Мы проходим его по прямой, как набравший скорость на спуске паровой каток. Река остается справа, а нас несет в заболоченную старицу. Ростик и Жека пробуют удержать плот, но у них вырывает шесты — увязли в грязи, не вытащишь.
Подминаем под себя правым бортом ольховый куст. Левый утюжит остролистый аир, топит желтые кувшинки, ножом-секачом врубается в камыш.
Стоп!
Приехали.
Дальше, как говорится, некуда.
Вода, вода…
Кругом вода.
Кругом вода,
Но это не беда! —
поет Витька. Он весь, словно изнутри подожженный, так и светится. Рад-радешенек, что мы попали в такой переплет. Да и все мы, пожалуй, рады. Это ж все-таки путешествие по реке, а не по карте! Один лишь отец не разделяет нашего развеселого настроения.
— М-да… — ворчит он, оглядываясь и уминая пальцем в трубке табак. — Трепачи вы несчастные, послушал вас — теперь покукуем. Подвязывайте штаны у щиколоток да обувайтесь, чтоб ноги не поранить, полезем в болото тянуть бегемота… Ты оставайся, — кивает он Лере, заметив, что та тоже затягивает шнурки на кедах. — Хватит и этих ломовиков, сиди.
— Ну да! — Лера независимо встряхивает косичками, лихо прыгает с плота и по грудь проваливается в трясину. — Ой, мамочка!
Мы хохочем. Отец вытаскивает Леру, испуганную, сверху донизу облепленную жирной торфяной грязью, и машет нам кулаком.
— Не огорчайся, выберемся на реку — помоешься. Сейчас они все через эту процедуру пройдут. Предположим, что эти грязи лечебные и мы приехали на курорт…
Он поспихивал нас с плота, как лягушек, и ухнул следом.
…Да, нелегкая это работа — из болота тащить бегемота. Грязь вязкая, как расплавленный асфальт, она засасывает нас, сдирает штаны, расшнуровывает кеды. Сделаешь полшага, всунешь руки до плеч в липкую кашу, подтянешь, и — еще полшага.
— Раз-два, взяли! — кричит Жека, красный от натуги.
— Три-четыре, сама пошла! — откликается Витька, шмыгая облупленным носом.
А «сама» идти не хочет. Не желает, и весь сказ.
До чистой воды метров пять-шесть. Надсаживаются насмерть перепуганные нашим вторжением лягушки. Под руками шныряет всякая любопытствующая живность: жучки, паучки…
«Др-р-р!..» — трещит на корче Ростикова рубашка.
— Букси-и-и-ир!
Лера влетает по перекладинам на мачту, стукается головой о «воронье гнездо», кричит и машет косынкой, а грязь стекает с нее и комками шлепается на палубу.
Шум движка стихает, сквозь траву мы видим, как буксир подворачивает к нашему берегу и останавливается на почтительном расстоянии.
— Что там стряслось? — На носу стоит старик в соломенном брыле и серой косоворотке. У него дремучая спутанная борода от самых глаз и трубный сиплый голос — чисто водяной!
— Кораблекрушение! — кричим мы. — Помогите!
— Плыви который, дам конец, — гудит «водяной».
Чавкая грязью, отец продирается к реке. Подплывает.
— Чего вас нелегкая в старицу занесла? — Старик кидает на воду «конец» — тонкий железный трос.
— Руль сорвало! — Отец вылавливает трос. — На браконьера охотимся. Рыбу глушил. Клава Боровик — может, слыхали?
— Какой Клава… Клавдий он. — Старик мнет свою бороду, кулак у него размером с кочан капусты. — Посудина у вас неподходящая для такой охоты. За ним той неделей рыбный надзиратель Фроликов за сети на моторке лётал — не уловил. Вяжи конец, выдернем — тады погуторим.
Отец привязал трос, мы влезли на плот.
— Держитесь, ребята. Дава-а-ай!
Дед повернулся к рубке:
— Помалу, Янка, а то растребушим всю ихнюю сооруженню.
Буксир запыхтел погромче и попятился. «Кон-Тики-2» с хрустом и скрипом пополз на чистую воду. Старик повернул ручку лебедки и перевесился через черный облезлый борт.
— Сычковский он, той «Мухомор». Над берегом, на круче, пятистенка его стоит, спытаете — любой покажет. Как дело было?
Отец рассказал.
— За Глуховским перекатом рванул. — Старик пожевал впалыми губами. — Богатеющее на всю Березу место. Виры там, лещ жирует, в стаи сбивается. Ведает реку, не нашего бога сын, при ней выкормился. Лезьте наверх, доставим вас до Сычкова. А то еще в какое болото занесет.
За буксиром тянулась лодчонка. Рядом с ней мы привязали плот. Цепляясь за размочаленную узловатую веревку, взобрались на палубу. Обшитая железными листами, она была заставлена бухтами троса и толстого кабеля, какими-то бочками и мерно вздрагивала под ногами. Мы протиснулись между бочками и подошли к рубке.
— Давай, Янка, припаздываем, — махнул рукой дед и поглубже насунул свой брыль.
Молодой парень в пятнистой от масла тельняшке кивнул нам из-за четырехугольного стекла, и буксир затарахтел на всю реку.
— Мы тому «Мухомору» прошлым летом за взрывчатку крепкую баню делали. — Старик упрямо называл Боровика «Мухомором». — Аж слезу пустил, каялся. Правда, с того часу вроде не гремело. Теперь, гляди, опять за старое взялся, нечистая сила.
Отец сел на бухту, набил трубку и протянул деду кисет. Тот покачал головой.
— Не балуюсь, девятый год как кинул. Кашель забивает. А взрывчатку он, видать, у лесников достал: им выдают — корчи рвать. Там и следы шукайте. На реке «Мухомора» ущучить трудней. У него мотор — зверь, другого такого на всю Березу днем с огнем не сыщешь. Как врежет — соли ему на хвост насыпь. Особливо с вашей посудины. Вот так, братка… Пока мы до Сычкова доскрипим, он рыбу сховает и — чихал на тебя с высокой колокольни. Вещественной доказательствы нету? Нету…
— Будут доказательства, — упрямо сказал отец. — Найдем.
— Дай бог. — Дед сделал рулевому какой-то знак, и буксир начал забирать к левому берегу. — Мужик он хитрый, как змеюка, голыми руками не возьмешь. Я вам так скажу — нечего вам в Сычкове делать. Хочешь, доставим прямо в Крупицу, к рыбному надзирателю Фроликову. А с ним уж добивайтесь до прокурора. Судить «Мухомора» за браконьерство надо — от это будет правильно!
Старик замолчал и вдруг весело чмыхнул:
— Да отмойтесь хоть, а то ненароком самих заарестуют. Чисто черти болотные…
БРАТЬЯ
Мы не послушались совета капитана буксира деда Кастуся и под вечер причалили неподалеку от Сычкова. Только попросили его рассказать обо всем инспектору Фроликову — пусть подъедет сюда. Не то чтоб мы все-таки рассчитывали найти у «дяди Клавы» «вещественную доказательству», но…
— Я в глаза его подлючие посмотреть хочу, — сказал отец. — Он же на меня ружье поднял, гад.
Хата Боровика стояла на отшибе от деревни: дед Кастусь показал нам ее еще издали. И вовсе никакая не хата, а здоровенный домище под железной крышей, обшитый тесом и покрашенный масляной краской. Он смотрел на реку с высокого бугра пятью большими окнами, в них дрожало и плавилось заходящее солнце, и отблески желтыми пятнами лежали на синих наличниках и зеленых кустах сирени в палисаднике. Палисадник обнесен невысоким штакетником, зато сразу за ним — вдоль всего двора с садом — тянулся глухой горбылевый забор, опутанный поверху двумя рядами колючей проволоки.
— Хоромы, — проворчал дед Кастусь, помогая нам отвязывать плот. — А сам с семьей в истопке ютится. От мая, почитай, и до сентября. Набил катухов — все под дачниками. Зашибалистый «Мухомор»…
На якорь мы стали в узкой бухточке. Над самой водой свешивали ветви старые дуплистые вербы. У них были такие корявые, скрученные-перекрученные стволы, будто деревья от долгого и слишком уж близкого соседства с водой заболели ревматизмом.
— Кто подежурит? — Отец вытащил из рюкзака чистую рубашку, встряхнул н, поморщившись, сунул назад — мятая, словно теленок изжевал. — Ладно, сойдет и так, не на свадьбу, — буркнул он.
— Я, — напросился Жека. — Ребята с Тараканом и без меня общий язык найдут, почитаю лучше.
Жека читал все ту же увлекательнейшую книгу под названием: «Автомобиль „Москвич“ модели 407. Конструкция и техническое обслуживание». Ну, как не пойти навстречу такому целеустремленному человеку!
Подъезд к дому «дяди Клавы» был со стороны деревни. Хорошо накатанная дорожка ответвлялась от проселка и упиралась в высокие ворота, как веснушками, осыпанные черными шляпками болтов; слева к воротам лепилась калитка, окованная полосками железа. Все добротное, тяжелое, ставленное на века.
Отец толкнул калитку, и мы вошли во двор.
Двор размером с футбольное поле делился на две неровные части плетнем. На меньшей, прилегавшей к дому, вдоль противоположной стороны забора, стояли в ряд рубленый сарай, обтянутый толью навес и низенькая хатенка с высокой трубой — баня. Немного сбоку — колодец с воротом, на добела выскобленной скамеечке стояло окованное толстыми обручами ведро с водой: вдруг нестерпимо захотелось пить. Чуть в сторонке — сложенная из кирпича печурка. Печурка топилась, две женщины в сарафанах колдовали над кастрюлями. Мужчина в пижаме сидел на корточках перед открытой дверцей и подкидывал в огонь щепки. У крыльца играли ребятишки лет четырех-пяти.
За плетнем с нацепленными на палки глиняными гладышами тянулся молодой сад. Под ближней к нам яблоней виднелся стол, накрытый белой скатертью и уставленный всякой снедью. «Дядя Клава», Африкан Гермогенович, Африкаша, толстая женщина в цветастом платье и толстая девчонка в сарафане ужинали.
Но все это мы рассмотрели потом, а вначале, когда вошли, я, например, вообще ничего не увидел, кроме оскаленной и жаркой собачьей пасти. Бурая овчарка с белым треугольником на груди беззвучно рванулась к нам, но короткая цепь отбросила ее назад, к конуре. Она перевернулась в воздухе и снова прыгнула — так и клацнули желтые клыки! — и столько силы, столько ярости было в ее прыжке, что, казалось, вот-вот лопнет цепь или ошейник, и пес бросится на нас.
— Джек, назад! Назад, тебе сказано! — «Дядя Клава» встал из-за стола и неторопливо направился к нам: красный, будто распаренный, все в той же зеленой, расстегнутой на груди тенниске, в темно-синих штанах-галифе и в хромовых сапогах. Он не семенил, как Африкан Гермогенович, ставил ноги твердо, вбивая каблуки в землю, и прищуренные глаза его смотрели спокойно, выжидающе.
Овчарка глухо заворчала и попятилась. «Дядя Клава» потрепал ее по жесткому загривку.
— Зачем пожаловали? Ежели насчет дачи, то не могу, до конца сезона все сдадено. — Он прикидывался, что впервые нас видит. — Попытайте по селу, может, где пристроитесь.
— Нам дача не нужна, — ответил отец. — Мы так… в гости. Или не ждал?
— Незваный гость хуже татарина, — ухмыльнулся он и открыл калитку. — Скатертью дорожка.
— Вон ты какой, Клавдий Боровик… — Отец весь подобрался. — Думаешь, что и управы на тебя но найдется?
— Глеб Борисыч, дорогой, какими судьбами! — послышалось радостное восклицание. Африкан Гермогенович в своем неизменном полотняном пиджаке колобком катился через двор, сладко жмурясь и облизывая жирные губы. Он с жаром потряс отцу руку и подмигнул нам. — А я гляжу, понимаешь, кто там препожаловал? А это ты! Да не один — с целым выводком. Проходите, дорогие вы мои, знакомьтесь… Клавдик, брат мой младший.
— Уже знакомы. Удосто…
— Вот и распрекрасно, — перебил отца Африкан Гермогенович. — Путешествуете, значит?! Хорошее мероприятие. Вот бы всех башибузуков с нашего двора пособирать да в лес, да на речку… Все бараки на плоты поотдавал бы! А то, которые в лагеря не поехали, только фулиганят… У нас же, понимаешь, чистый рай для всяких путешествиев! Какие места есть…
— Одним сегодня меньше стало. Ваш брат, Африкан Гермогенович, постарался. Сколько он рыбы сегодня за Глуховским перекатом уничтожил — никто и сосчитать не сумеет. Судить его будем.
«Дядя Клава» коротко засмеялся.
— А ты сначала докажи, потом пужай.
— За тем и пришел, чтоб доказать.
— С чем пришел, с тем и уйдешь!
Африкан Гермогенович всплеснул руками.
— Глеб Борисыч, милый, да что ты, понимаешь, говоришь! Какой же тебе Клавдик браконьер?! Не браконьер он, а тракторист-механизатор, труженик, можно сказать, колхозного изобилия. Господи, да что тебе — делать нечего, чтоб свой заслуженный трудовой отпуск, понимаешь, на всякое глупство портить! Половину ты на подвал угробил, а вторую — по судам будешь тягаться?! Ах, чудак ты, чудак, орден тебе за это, что ли, навесят? Ты лучше послушай, какой этот корреспондент прохвост! Ходил, ездил, одной пленки, понимаешь, с пуд перевел, тоже ж, наверно, штука дефицитная. А передал про нас, ну, двадцать слов. Я-то думал — распишет! — а он, кошкин сын, даже фамилий не назвал. Ни твоей, ни, понимаешь, моей… Вот тип, а? Мы к нему с чистой душой и, понимаешь, энтузиазмом, а он…
Африкан Гермогенович подхватил отца под руку и потащил к плетню. Гремучий бас его притих, стал мягким и вкрадчивым.
— Глеб Борисыч, брось ты это дело, по-соседски, по-товарищески тебя прошу. Ну, побаловался человек, так ведь, кроме тебя, свидетелей нету… А нам с тобой, понимаешь, рядом век вековать. Как это говорится: живи сам и давай жить другим. Вот, скажем, квартирку тебе подремонтировать — так это я с дорогой душой. И лаку польского добудем, и белилов югославских. Или там картошечки на зиму припасти, яблочков, той же рыбки к столу — Клавдик завсегда обеспечит, и цену божескую возьмет, не то что некоторые шкуролупы. Плюнь ты на эту самодеятельность, в реке рыбы много, на наш век хватит. Пошли, понимаешь, лучше к столу, тяпнем по маленькой, закусим, чем бог послал. Рыбка, она, понимаешь, плавать любит…
И Африкан Гермогенович жизнерадостно хохотнул.
Отец стряхнул его руку, как стряхивают черт знает откуда взявшегося клопа, и потер локоть.
— Послушайте, Африкан Гермогенович, — медленно, с расстановкой сказал он, — это я корреспонденту посоветовал к нам приехать. Чтоб легче и быстрей с его помощью детям подвал отвоевать. И беседки я с Антоном Александровичем той ночью переставил… Я вас обхитрить хотел, жалко было нервы и время тратить, чтоб убедить вас сделать то, что вам по службе положено. Сколько это за вами походить пришлось бы, чтоб килограмм белил или доску выпросить? Ой, много! А мы — люди занятые, нам на ерунду тратиться жалко. Вот я, грешным делом, и подумал: зачем стену лбом пробивать, если ее обминуть можно? Хитрил я с вами, а с вами хитрить нельзя! И обходить вас нельзя! С вами, Африкан Гермогенович, и с братцем вашим драться надо. Так, чтоб кровь из носу фонтаном… И не жалеть на это ни времени, ни нервов…
Он говорил и шел на Африкана Гермогеновича, будто вот сейчас, немедленно собирался осуществить свою угрозу, и тот пятился, пятился назад, пока не уперся в колодезный сруб. На лбу у него выступил пот, губы вздрагивали, словно он силился что-то сказать, но перезабыл все слова.
— Ты мне за это заплатишь! — наконец выкрикнул Африкан Гермогенович, брызгая слюной. — Ты мне за все заплатишь, и твой корреспондент тоже! Жулики… Прохиндеи!..
— Поговорили? — Клавдий Гермогенович дернул пса за ошейник, и он упруго вскочил на лапы. — Слышу, важнецкий получился разговор. А теперь — вон! Да поживей, голоштанная команда, собаку спущу!
— Не таким собакам хребты ломали, — спокойно ответил отец. — Пошли, ребята.
Мы медленно брели напрямик к плоту. Отсюда, с косогора, сквозь черные изогнутые вербы виднелась его мачта с подвязанным под реей парусом. От реки тянуло сырым ветром и гниющими водорослями. Где-то за деревней зазвенел катер.
Отец пригладил ладонью волосы.
— Ставьте палатку, ужинайте, да про меня не забудьте. Фроликов, видно, только завтра утром приедет, пойду пока кое с кем переговорю. — И легко зашагал к дощатой пристани.
РАЗГОВОР У КОСТРА
Сидим перед палаткой у костра, едим все ту же гречку с тушенкой и кормим комаров. Если бы кашей… С радостью всю отдали бы. Не жрут они каши, кровопийцы! А главное — ничего не боятся. Ни дыма, ни огня, ни репудина. Акклиматизировались! Приспособились!
Отца нет, дежурить никто не пошел — чего там дежурить, если до плота метров пятнадцать — двадцать, кому он нужен… Потрескивает хворост, стреляет в небо искрами, а за круглым освещенным пятачком топчется ночь. Словно стеной, отгородились мы костром от всего мира, и ничего не видно сквозь эту стену. Зато слышен каждый шорох. Никакой звукоизоляции. Скрипят вербы над бухтой — на ревматизм жалуются, сыро им, тоскливо. Река берег обшлепывает, приглаживает — шлеп да шлеп… На косогоре, у Боровиков, петух заголосил — голос заспанный, с хрипотцой. Наверно, вспугнули, рано еще петь петухами, ни один в селе не откликнулся. Где-то ниже по течению буксирный движок залопотал: ни днем ни ночью нет покоя речным капитанам.
Острый Лерин локоть упирается мне в бок. Лера лежит, подкорчившись и сунув под щеку руку, и смотрит в костер, а завитушки у нее над лбом тугие и рыжие, как жар.
— Ты на меня не злишься за чайку?
Лера молчит. Словно не слышит.
— Не злись…
Она вздергивает подбородок. Завитушки откидываются, но тут же, как тугие пружинки, возвращаются назад.
— Тимк, а, Тимк… Вот ты когда-нибудь думал, отчего все так получается?
— Что получается?
— Ну… одни люди хорошие, а другие — плохие. Одни — смелые, добрые, честные, а другие — трусливые, жадные, обманщики. Те — умные, а те — дураки. А еще есть пьяницы, бандиты, браконьеры… Отчего это так получается, а, Тимк?
— По-всякому, — уклончиво отвечаю я. — Умные — это просто. Учатся здорово, читают много — потому и умные. А которые наоборот — те дураки.
— Не скажи. — Жека сует в костер сухую еловую лапку, она взрывается, как ракета. — Вот у меня дед — он только свою фамилию подписывать умеет. Да и то печатными буквами. Выходит, по-твоему, он дурак? Да к нему, если хочешь, ученые агрономы на «Волгах» приезжают. Он каждую травинку по фамилии знает, каждую птаху по голосу. И когда дождь будет, и когда жито сеять, и как корову отходить, если она молодым клевером объелась…
— А про синхрофазотрон не знает! — смеется Витька, выскребая миску. — Эх ты, каша — пища наша, кто тебя выдумал…
— Много ты про синхрофазотроны знаешь, — пожимает плечами Жека. — Я ж сказал — неграмотный он. А умный. Умнющий! А можно быть ученым и таким дубарем, поискать — не найдешь.
— Он умный потому, что старый. — Ростик подтянул к подбородку колени и ссутулился. — Сколько твоему деду? Семьдесят восемь? Он всю науку от жизни взял. А ты попробуй найди сейчас молодого, но неграмотного — обязательно серый. Точно, точно!
— А я не согласный, — фыркает Витька. — Это люди просто родятся такими. Я где-то читал, что в каждом человеке есть такие штучки, гены называются. От них все зависит. Как они там, в тебе, перетасуются, такой ты и получишься. Дурак или умный, трус или смелый, рыжий или черный, сапожник или профессор по атомной энергии. И точка.
— Закрой поддувало и не сифонь, — вспоминаю я вычитанную где-то на железнодорожной станции смешную фразу. — Ну, может, еще черным или рыжим — это твои гены умеют. А чтоб сапожником или профессором — ими люди сами делаются. Вот пусть хоть сто раз в тебе все перетасуется на профессора, а упрут тебя в джунгли, как Маугли, и останешься лопухом недоразвитым. Таблицы умножения знать не будешь, не то что атомов.
— Слушай, — говорит Витька, и у него смеются глаза; в зыбком свете костра они кажутся не разноцветными, а черными, — вспомни ты «Конька-горбунка», если уж про Маугли вспомнил. «У крестьянина три сына. Старший умный был детина. Средний был и так и сяк. Младший вовсе был дурак». Он, конечно, самый умный оказался, но это неважно. Почему они такие разные? У одного ведь крестьянина… А нас с Леркой возьми. У нее по арифметике пятерки, задачки, как семечки, грызет, а я, бывает, аж посинею, пока решу. Думаешь, она больше меня арифметикой занималась? Ничего подобного. Или вот по музыке. Она на пианино дрынкает, а я только на пении рот открою, Марья Константиновна в сумочку за валерьянкой лезет. Так прямо и говорит, что у Лерки к музыке природные способности, а мне слон на ухо наступил. Если б это от одних только людей зависело, завтра все стали бы хорошими и передовыми, кому охота плохим жить! Все в космонавты записались бы…
— Не… — замотал головой Жека. — Мой батька так на своем автокране и остался бы. Ни фига мы еще не знаем, чтоб в этом разобраться. Тут и от природы, и от этих самых генов, наверно, и от людей. Но вот Пушкиным, Циолковским либо Репиным, это, по-моему, народ родиться. Потому что вон сколько всяких людей — и поэтов, и ученых, и художников. А Пушкин — один. И Циолковский — один. И Репин…
— Ну, ладно… — Лера прикусывает губу. — Пушкин, Репин, Циолковский… Но ведь это так просто: не красть, не подличать, не обижать слабых, не жить чужим горбом, не рвать себе куска пожирней… Ведь для этого вовсе не нужно быть гением, нужно быть просто человеком. Самым обыкновенным. Почему есть люди, которые не хотят быть людьми? Неужели не настанет время, когда на земле не будет ни одного «дяди Клавы»? Ни одного подонка, предателя, фашиста?!
— Обязательно настанет, Лера, обязательно! — Отец вошел в освещенный круг — мы даже не заметили, когда он вернулся, — сел на корточки и протянул к огню руки. — Это будет время прекрасных людей. Они и тогда, наверно, будут разными: умными и недалекими, красивыми и не очень, спокойными и вспыльчивыми… Но всех их объединит самое замечательное человеческое качество — доброта. Ты сможешь подойти к любому человеку, ты впервые в жизни увидишь его и ничего не будешь о нем знать, кроме главного — это хороший человек. Люди не свалились с луны, люди живут на земле тысячи и тысячи лет. От того первобытного человека, который жил в пещере и ел сырое мясо, до нас — дальше, чем до самой далекой звезды. Но разве назовешь людьми тех дикарей, что придумали душегубки и Майданек, делали абажуры из человеческой кожи и сбросили атомную бомбу на Хиросиму?! Вот ведь какая штука получается… Мир, в котором мы живем, меняется куда быстрее, чем мы сами, и ни сверхзвуковые самолеты, ни телевидение, ни атомные электростанции, ни умнейшие машины и станки, какие только создало человечество, сами по себе никого еще не сделали счастливым, умным, добрым, честным. Они служат добру или злу одинаково равнодушно. А людей делают счастливыми и несчастными другие люди. Мир всегда разделяла баррикада, по одну ее сторону те, кто хочет, чтоб все были братьями, а по другую — те, кто мечтает превратить людей в рабов, кто хотел бы заграбастать всю землю. И битва между ними идет тысячи лет. Но никогда еще на земле не было столько прекрасных людей, как сейчас, и с каждым годом их становится все больше. Худо, неуютно возле них всякой нечисти. Она приспосабливается, пятится в свои норы, и вымирает в них, как вымерли мамонты…
Костер догорал. Из-под раскаленных угольев еще вырывались хлипкие языки пламени, но по краям они уже затягивались золой. Возле палатки чернела груда хвороста, — но никому не хотелось за ним подниматься. Было тихо, ночная темень все туже и туже стягивала кольцо.
— И коммунизм наступит не тогда, когда у нас будет много машин, у нас их и теперь немало, и не тогда, когда молочные реки потекут в кисельных берегах, а когда на земле не останется ни одного плохого человека. Потому что коммунизм — это, прежде всего, хорошие люди, а уже потом — все остальное.
Отец потирал над костром озябшие руки. Ростик сгорбился, уткнув подбородок в колени. Жека и Витька лежали головами друг к другу, опершись на локти. Лера свернулась калачиком, у нее были закрыты глаза.
Я тоже закрыл глаза. И увидел перед собой баррикаду. Она пересекала весь земной шар, как черный обруч меридиана на глобусе. Мы стояли за этой баррикадой, плечо к плечу, — отец, Лера, Витька, Ростик, Жека, Казик, я, миллионы и миллионы людей. Белых, желтых, черных. Всех национальностей, какие только есть на свете. А по другую сторону баррикады жались всякие подонки. Белые, желтые, черные, в полоску, в крапинку… И мы — не мальчишки, а солдаты. Потому что любому гаду когда-то было тринадцать лет, и, может, он стал бы совсем другим, если бы еще тогда с ним беспощадно сражались его товарищи.
Набив свою трубку, отец прикурил от уголька. Усмехнулся.
— Что ж вы плот без охраны бросили? Сколько сейчас? Ого, без малого двенадцать. Тима, Виктор, заступайте на вахту. В три вас сменят Жека и Ростик, общий подъем в шесть, завтра у нас горячий день. Пароль: «Костер», отзыв: «Звезда». Все. Перекусить вы мне что-нибудь оставили или сами все слопали?
— Оставили, — глухо ответила Лера. — Сейчас подогрею.
…Посвечивая фонариками под ноги, идем с Витькой на вахту. «Собачья вахта» — так ее называют моряки, с двенадцати до трех больше всего спать хочется. Да ладно уж, в крайнем случае окунемся.
От плота на сушу мы перекинули доску. Точно помню. Но где она? А где сам плот?
Тонкие лучи фонариков обегают заливчик, дробятся на дегтярной воде.
Нету нашего плота.
Исчез.
Испарился.
Улетучился.
— Сюда-а! — отчаянно кричим мы с Витькой и сами бежим к палатке.
ПОЖАР
Ростик и Жека выхватили из костра горящие головни. Смоляки коптили, как неисправные керогазы, но света давали побольше наших фонариков. Желтые вытянутые языки дрожащими пятнами легли на воду, и мы столпились у берега, словно надеялись рассмотреть следы «Кон-Тики-2» или того, кто похитил наш плот.
Что его угнали, в этом мы не сомневались. Швартовался Витька. Никто лучше его не умел вязать хитрые морские узлы; уж коль они удержали плот во время грозы, когда взбесившаяся река, казалось, вот-вот в клочья порвет канаты, то теперь… В узкой бухточке почти не ощущалось течения. Жека бросил на середину кусок коры, и, освещенная факелами, она покачивалась на месте. Даже если бы мы не привязали плот к вербам, сам он уплыть отсюда никак не смог бы.
— Интересная история… — озадаченно проговорил отец.
Мы подавленно молчали.
— Это они! — Ростик кивнул в сторону косогора, на котором стоял дом «дяди Клавы». — Ну, я им, гадам, сейчас… — И серой тенью нырнул под вербу.
Отец в два прыжка догнал его и притащил назад.
— Еще чего не хватало! — сердито проворчал он. — Доказательства у нас есть? Никаких. А без доказательств, сами видели, как с ними разговаривать. Да и не они это, может… Какой им смысл? Если бы мы их уже на чистую воду вывели — другое дело, хоть как отомстить постарались бы. Но мы ведь еще ничего не сделали… Нет, с нами задираться Боровикам никакого расчета нету.
— Африкану расчет не нужен, он и без расчета любую пакость сделает! — рвался Ростик. — Плохо вы его знаете…
— Хватит! — прикрикнул отец. — Давайте лучше решать, что делать. Видимо, нужно подождать до утра, в такую темень вести поиски бессмысленно.
— Его до утра черт-те куда уволочет, — хмуро бросил Жека. — Ищи-свищи…
— Не думаю, — пожал плечами отец. — Разве что кто-то будет управлять. Река здесь извилистая, если пустили по течению, обязательно где-то близко к берегу прибьется. Что у нас там осталось?
— Все… — упавшим голосом произнесла Лера. — Продукты, рюкзаки с одеждой и обувью, аптечка, паяльная лампа, бензин… Никто ведь не думал…
— М-да… — запыхтел трубкой отец. — Ну, что ж, утро вечера мудренее. Дежурство за ненадобностью отменяется, пошли к палатке. А то и ее утащат.
— Постойте! — Витька не принимал участия в разговоре. Вооружившись фонариком, он ползал на брюхе по песку. — Ростик прав — это сделал Африкан. У меня есть доказательство.
— Да ну?! — Мы чуть не навалились на него всей гурьбой. — Какое?
— Вот какое! — Витька посветил себе на руку, и мы увидели выпуклую черную пуговицу, облепленную блестками песка. — Это пуговица с куртки Африкана. Видите, на ней рисунок, как на футбольном мяче, только у него такие пуговицы на куртке.
— Нат Пинкертон, — сказал я и пробежал пальцами по своим пуговицам, как по клавишам баяна. — Шерлок Холмс…
— Ну-ну… — Витька сжал кулаки. — Кто еще?
— Майор Пронин! — Я просто не мог остановиться. — Комиссар Мегрэ! Спасибо за находку, а то я думал, что так и придется без пуговицы щеголять. А может, это я угнал плот?
Витька подергал меня за полу куртки, тщательно сравнил пуговицы и плюнул.
— Держи, неряха… Нашел где терять!
— Пойдемте спать, сыщики, — засмеялся отец. — На рассвете двинем вниз по течению на поиски.
— На своих двоих? — вздохнул Жека.
— На своих двоих.
С шипением погасли в воде догоревшие факелы, и мы уныло поплелись наверх. Поднялись на бугор, и тут я увидел вдали на реке какую-то яркую точку. Не знаю почему, но у меня вдруг тревожно заныло сердце.
— Смотрите! — крикнул я. — Что это?
Отец оглянулся и схватил меня за плечо.
— Что-то горит! Неужели наш плот? Ростик, к палатке! Не оставляй ее ни на секунду! — И он побежал к берегу.
Мы ринулись за ним.
Вдоль берега шла хорошо утоптанная тропинка. Она смутно белела в темноте. Бежать было легко, не то что утром, и теперь я почти не отставал от отца.
Миновали пристань — черный пустой дебаркадер со сходнями, справа потянулись огороды, слева — густые кусты. Они начисто заслонили от нас реку. Было тихо. Слышался лишь топот ног и тяжелое дыхание.
Наконец огороды кончились, начался затяжной подъем. Я оглянулся: ребята растянулись цепочкой. Лера отстала. Ничего, как-нибудь дотопает, уже недалеко.
Обогнули поворот. У противоположного берега полыхал огромный кострище. Отец не ошибся: засев в камышах, горел наш плот. Огонь был таким ярким, что за ним исчезли звезды: пригодилась поджигателям наша канистра с бензином! Языки пламени вырывались из центра и тянулись к мачте, перевивая ее тугими бездымными жгутами. Веревки, поддерживающие на рее толстую колбасу паруса, перегорели, и он развернулся: когда ветер сбивал огонь в сторону, можно было разглядеть в тлеющем тряпье суровую сморщенную физиономию Кон-Тики. «Растяпы, — казалось, говорил он нам. — Проморгали плот…»
Всплеснула вода — это отец нырнул с берега, по тут раздался глухой взрыв: наверно, взорвалась паяльная лампа. В небо взметнулся огненный дождь. Огонь вспыхнул еще жарче, в воду обрушились горящие обломки, река зашипела. Красные тени заметались по ней, как испуганные птицы.
В воде было теплей, чем на берегу. Дегтярно-черная под кручей, она синела к середине и казалась багровой у плота. Подплыть к нему было невозможно — метрах в восьми уже забивало дыхание, обжигало лицо. Я попробовал поднырнуть: может, хоть что-нибудь удастся спасти! Высунул голову у самого борта, но тут же рванул назад: возле плота вообще было сущее пекло. К тому же он во все стороны стрелялся раскаленными угольями, они летали над рекой, как трассирующие пули.
Рядом со мной плюхались Витька, Лера и Жека. Сильное течение сносило их к повороту, к черным зарослям камыша и осоки.
Пронзительно заскрипела и наклонилась подгоревшая мачта.
— Осторожно! — крикнул отец: его голова виднелась в стороне от нас, у кормы. — Выходите на отмель.
Мы поплыли к берегу, возле которого засел плот. Едва успели выбраться на песок, как мачта рухнула. Сизый дым задернул все вокруг, а когда он рассеялся, огонь опал.
По мелководью мы подошли к плоту.
«Кон-Тики-2» больше не существовал. Дощатая палуба обгорела, у кормы, где были сложены наши рюкзаки с одеждой и припасами, еще плясали огоньки. Обгорели и лопнули огромные камеры, сгорел парус. Сгорели удочки и спиннинги, Ростикова щука, из которой мы так и не успели сделать чучело, отцовы ботфорты и Витькин транзистор «Атмосфера-2» — нам не удалось больше заставить его заговорить, несмотря на все Витькины старания.
Черпая ладонями воду, мы залили тлеющие уголья. Нечего было и думать тащить обгоревший плот ночью против течения к месту стоянки. Да и какой от него был бы нам теперь прок… Ведь не только плот — все наше путешествие сгорело. Никуда мы дальше этого Сычкова не уплывем и в партизанском лагере не побываем, да и как еще домой доберемся — вот вопрос…
По знаку отца мы поплыли на другой берег. За кустами я выкрутил одежду: меня знобило. Куртку отдал Лере: платье прилипло у нее к телу, а переодеться было не во что — шаровары и ковбойка там остались, в рюкзаке.
Еще несколько минут мы стояли на берегу и молча смотрели, как дымится наш плот.
— Теперь вы верите, что это сделал Африкан? — наконец сказал Витька.
Отец коротко кашлянул.
— Он или «дядя Клава», больше некому.
— А вы ж говорили — им с нами задираться расчета нету…
Отец вздохнул и обвел нас долгим взглядом.
— Выходит, ошибся. А может, нам и вправду не нужно было с ними связываться? Ну, устроили они за Глуховским перекатом рыбье кладбище, а нам-то какое дело? Наша она, что ли, рыба? Общая она, вроде как ничейная. Плыли бы себе да и плыли… Еще, глядишь, возле них на поджарку разжились бы… И плот был бы целый, и барахлишко наше…
— Что вы говорите, Глеб Борисович! — Голос у Леры дрожал, несмотря на мою куртку, у нее зуб на зуб не попадал. — Как это мы могли бы плыть да плыть… Да мы ж себя на всю жизнь за людей перестали бы считать! Чтоб у нас на глазах такая подлость делалась, а мы отворачивались!..
— Значит, все правильно. — Отец обнял Леру и прижал к себе. — В одном только мы виноваты: сразу дежурных у плота не поставили. С дисциплиной у нас пока слабовато, мушкетеры, вот что я вам скажу. Да и кто мог предположить… Зато крепче запомните, что зло — оно с кулаками. Ну да ничего, и у нас кулаки есть, так что еще повоюем. Посмотрим, кто кого… А пока пошли назад, тут больше делать нечего. Обсушимся, что-нибудь придумаем. Да и Ростику там не так тоскливо будет. Умирает, наверно, бедняга, от любопытства…
ИНСПЕКТОР ФРОЛИКОВ
Есть такая поговорка: «Беда одна не ходит, с собой другую водит». Эту поговорку будто специально для нас придумали. Вот уж и вправду, как посыпались на нас неприятности в день отплытия, так и провожают всю дорогу. Только успевай поворачиваться. «Каталажка», подстреленная чайка, встреча с «дядей Клавой» и его племянничком, гибель плота со всеми нашими припасами и снаряжением — было от чего пасть духом.
Но больше всего нас угнетало чувство собственного бессилия. У нас на глазах эти гады опустошили за Глуховским перекатом реку, у нас из-под носа увели и сожгли плот, а мы ничего не можем доказать. Мокрые, озябшие, мы молча сидим у костра, не зная, что делать, а они где-то за забором посмеиваются над нами или, насмеявшись, уже храпят, и чихать им на нас с самой высокой колокольни.
Да, тяжелые оказались у зла кулаки, а наши… Что в них проку, в наших кулаках, после драки…
От нашей одежды валил пар. Ночь медленно плыла над нами, высвечивая себе путь яркими точками звезд, и лунная дорожка пробивалась к реке сквозь черные кусты, стекая с неба дрожащим серебристым ручьем.
— Они должны сегодня ночью вывезти рыбу, — вдруг сказал отец. — Затащили они ее домой или припрятали где-то на берегу? Скорее всего, припрятали, квартирантов побоялись бы. Там у них снимает дачу один инженер, мой знакомый, он говорил, что Клавдий и Африкан рыбы домой не приносили. Они должны вывезти ее сегодня, иначе рыба пропадет… — Отец говорил вполголоса, будто советовался сам с собой, не зная, какое принять решение. Казалось, он просто забыл о нас, о том, что мы сидим рядом с ним у костра. — Не для себя ведь глушили, для рынка… На себя два заряда тратить не стали бы, одного б хватило. Значит…
— Значит, — перебил его Витька, — их нужно перехватить. Давайте устроим возле дома засаду. Они выйдут к утреннему теплоходу с рыбой, а мы их — цап! — и готово!
— Нашел дурачков, — послышался из кустов густой басовитый голос. — Так они тебе теплоходом и поплывут…
Ошеломленные, растерянные, мы вскочили на ноги. Отец направил в кусты тонкий луч фонарика.
— Кто идет? — хрипло крикнул он.
— Свои, свои! — В кустах затрещало, и к костру вышел невысокий мужчина в телогрейке, подпоясанной ремнем с якорем на бляхе, в кепке, надвинутой на самые глаза, и в блестящих резиновых сапогах. За плечом у человека, стволом вниз, висело охотничье ружье, на левом боку — потрепанная полевая сумка. Он окинул нас быстрым взглядом и подал отцу руку. — Инспектор рыбоохраны Фроликов. Явился, так сказать, по вашему вызову.
— Здравствуйте, — улыбнулся отец. — Ну и напугали вы нас! Значит, вы считаете, что они повезут рыбу автобусом?
— У него мотоцикл есть. — Фроликов снял ружье и присел поближе к огню. — ИЖ с коляской. Ну, рассказывайте…
Фроликов слушал и покусывал травинку. При свете костра я увидел, что он еще совсем молод, не старше Александра, брата Ростика. Круглолицый, с золотистым пушком на щеках, с белыми выгоревшими бровями, «рыбный надзиратель» нисколько не походил на грозных инспекторов, каких я рисовал в своем воображении. Он, видно, и сам чувствовал это, оттого и кепку так низко на лоб надвинул и говорить старался рокочущим басом, чтобы выглядеть постарше.
— Ясно, — сказал Фроликов, когда отец закончил рассказ. — Это ваша бригантина там, у поворота, догорает?
— Наша, — кивнул отец.
— Их работа. — Фроликов поскреб подбородок. — Ну, ничего, и за это ответят. А вы не горюйте, братва, — весело подмигнул он нам. — Сейчас главное — «рыбачков» не проворонить. Возьмем их, я вас на своей моторке до самой Крупицы подкину. Палатка у вас есть, ложки-миски уцелели, рюкзаков и харчей на дорогу добудем. Сходите в партизанский лагерь, а назад вас дед Кастусь на своем буксире отвезет. За милую душу прокатитесь… — Фроликов усмехнулся, и на щеках у него появились глубокие ямочки. — Вот так. Давайте лучше прикинем, что делать будем. Скоро светать начнет, самое время «Мухомору» свою добычу вывозить.
— А у вас какой-нибудь план есть? — осторожно спросил Витька.
— Есть. — Фроликов встал и снова забросил за плечо ружье. — Вдоль реки, вверх по течению, метров на четыреста тянутся кусты; если они припрятали рыбу — значит, где-то здесь. Дальше не спрячешь — открытое место. Вот там-то вы, Глеб Борисович, устроите засаду. Ваша задача — не пропустить мотоцикл. Дорога вдоль самого берега идет, справа — вода, слева — круча, никуда он не денется. Выйдете на дорогу — остановится, людей давить не осмелится. Люди — не рыба, шкурой отвечать придется… Я с двумя Шерлоками Холмсами буду его тут выслеживать. Все ясно?
— Ясно, — ответили мы.
— Кто останется со мной?
Мы с Витькой первыми вскочили на ноги. Фроликов снова подмигнул нам и сдвинул свою кепку на затылок.
— Годится. Гасите, хлопцы, костер. А вы, — кивнул он отцу, — идите на дорогу и шпарьте, пока кусты не кончатся.
— Есть! — ответил отец, как солдат отвечает командиру. — За мной, ребята. Только — тихо, а то вспугнем раньше времени.
Через мгновение они растаяли в кустах.
Мы с Витькой тут же забросали костер дерном и вытянулись по стойке смирно, ожидая дальнейших приказаний.
— Сворачивайте палатку. — Фроликов размял в пальцах сигарету. — Вы знаете, что мне покоя не дает? Зачем им ваш плот угонять понадобилось, поджигать его? Вы ж их заметить могли?! Скажем, могли дежурного оставить… Почему они на такой риск пошли, вы над этим задумывались, а?
— А чего тут думать, — проворчал Витька, выдергивая колышки. — Отомстить они нам хотели, это ж как дважды два… Вот и отомстили!
— А мне думается, ты не совсем прав. — Фроликов закурил, пряча огонек в кулаке. — Только ради того, чтобы отомстить вам, не стали бы они себя под удар подставлять. Никакого им расчета не было сейчас с вами связываться. Наоборот, чем быстрее вы отсюда убрались бы, тем для них лучше. А они, выходит, сами вас к Сычкову привязали: куда вы денетесь без плота? Еще больше против них обозлитесь… Что-то тут не то, братцы вы мои, что-то не то. Мне кажется, совсем другой вывод из этого можно сделать. А вот какой?
Мы с Витькой молча переглянулись: нам даже в голову не приходило — искать какие-то другие выводы. И чего он мудрит, этот Фроликов? Ясно же, что Африкан и его дядюшка просто рассчитались с нами, воспользовавшись тем, что мы, растяпы, не оставили на плоту дежурного.
— А вывод мы можем сделать лишь один, — задумчиво сказал Фроликов, — они вас отсюда хотели выкурить. Очень вы неудобное, с их точки зрения, место для стоянки выбрали. Нежелательно им было, чтобы вы на этом месте оставались, понятно? А ради этого и рискнуть стоило. Они ведь на что рассчитывали? Что вы возле плота и заночуете. Ну, какой вам на самом деле смысл был оттуда сюда тащиться? Никакой логики… А в чем логика? Чтоб дождаться рассвета да побыстрей увидеть, что осталось, что погибло, что можно в порядок привести… Так я рассуждаю или не так?
— Так, — ответил я и прикусил губу. Смутная догадка обожгла меня. Я уже понял, к чему клонит Фроликов, но боялся в это поверить. Слишком уж просто все получалось, неожиданно просто, и было обидно до слез, что мы сами не смогли до этого додуматься, что ничего бы, наверно, не сделали, если бы не вылез медведем из кустов к нашему костру «рыбный надзиратель», которого, на наше счастье, прислал из Крупицы капитан буксира дед Кастусь. — Выходит, они спрятали рыбу где-то здесь, неподалеку от нашей стоянки…
Фроликов кашлянул и прикрыл рот рукой.
— Все-таки дошло! Вот и я так думаю. Иначе в этом поджоге нет никакого смысла. Хулиганство, да и только. А «Мухомор» слишком хитер, чтобы бессмысленно рисковать. За одно боюсь: не забрали ли они свою добычу, пока вы к плоту бегали?
— А у нас Ростик оставался, — сказал Витька. — Он-то не пропустил бы…
— Ну, что ж, значит, нужно все изобразить так, будто вы клюнули на их удочку. — Фроликов затоптал окурок и набрал охапку хвороста. — Нагружайтесь топливом, там собирать времени не будет.
Лохматые облака задернули луну, ветер шумел в кустах, заглушая наши шаги, и ни огонька не было в окнах угрюмого дома на бугре, и ниже, там, где темнели дома деревни. На повороте, где виднелись неясные очертания нашего плота, мы быстро установили палатку и разожгли костер. Сухой, как порох, хворост ярко вспыхнул в ночи, и Фроликов удовлетворенно сказал:
— Вот теперь порядок. А они знали, где плот палить: сверху это место — как на ладони. Погодите, я сырого подкину, чтоб до утра огонь не погас. Чтоб уж «Мухомор» не сомневался, что вокруг пальца вас обвел.
Он притащил с берега два толстых сосновых чурбака и кинул в огонь. Затем сделал знак рукой, и мы пошли назад.
Неподалеку от бухточки, где вчера вечером «Кон-Тики-2» стал на свою последнюю стоянку, Фроликов остановился.
— Поднимись вверх к дороге, — сказал он мне. — Замаскируйся в кустах и наблюдай. Если что-нибудь заметишь — тихонько свистни. Витька будет неподалеку, я тоже, услышим. Нужно взять под обзор побольше места, чтобы ни со стороны деревни, ни с реки незамеченным никто подойти не мог. — Фроликов положил мне на плечо руку. — Не боишься один остаться?
— Еще чего, — разозлился я. — Да что я вам — девчонка, что ли!
— Тогда давай действуй.
Он с Витькой пошел дальше вдоль берега, а я нырнул в кусты.
Есть такое время перед рассветом, когда особенно сгущается темнота. Блекнут звезды, и луна скрывается где-то за дальним лесом, и не темно-синим, а черным кажется небо, и Млечный Путь тает на нем, как иней под первыми лучами солнца. Холодом тянет с реки, и холодная роса стекает за ворот при каждом неосторожном движении, и все вокруг наполнено шорохами, вздохами, чьими-то таинственными неразличимыми голосами. И ты прекрасно понимаешь, что это не волки и не медведи крадутся сквозь чащобу за твоей спиной, и не разбойники, готовые тебя убить, — скорее всего бормочет и хлопает спросонья крыльями какая-нибудь птица, но все равно как-то неуютно становится и хочется к ребятам, к отцу, к живому и радостному свету костра…
Я выбрал себе наблюдательный пункт за толстенной сосной, которая высилась неподалеку от дороги: сквозь редкий подлесок можно было различить серую ленту, сползавшую вниз, к реке. Отсюда хорошо был виден дом «Мухоморов»: огромным стогом сена темнел он на бугре, вот-вот его должна была осветить первая зорька. Я долго не сводил глаз с этого бугра, прижавшись к теплой шершавой коре сосны, а потом почувствовал, что у меня от усталости подкашиваются ноги, и сел на мягкий шильник. Мы обязательно поймаем «Мухомора». Поймаем с «вещественными доказательствами», и тогда он получит по заслугам. «Не таким собакам хребты ломали!» — вспомнил я слова отца и усмехнулся: никуда не денешься, «дядя Клава», сломаем и тебе хребет.
Сосна была теплой, казалось, она впитала в себя днем солнечные лучи, а теперь понемножку отдавала их. Моя рубашка высохла у костра, но все-таки меня знобило. Скорей бы солнце встало, окоченеешь до утра…
И вдруг я услышал вверху какой то подозрительный шорох. Я задрал голову и обмер: сверху по сосне, цепляясь за сучья, ко мне спускался… Африкан. Он держал в зубах огромного золотистого язя, и язь бил его хвостом по лицу: шлеп, шлеп… «Вот чудеса, — подумал я, — откуда он тут взялся? Когда он залез на эту сосну, ведь я уже вон сколько времени сижу под ней! Неужели они там, наверху устроили свой тайник?»
Нужно было свистеть и звать на помощь, но я не мог даже руки поднять, даже привстать. Я лежал на боку и смотрел па Африкана и на красавца язя, которого он сжимал зубами, и Африкан смотрел на меня и ухмылялся. На нижнем сучке он присел и сверху вниз бросился на меня.
Я рванулся в сторону и… открыл глаза.
Уже рассвело. Ветер торопливо гнал по небу набрякшие облака, стирая последние остатки ночи. По земле стлался туман, реденький, прозрачный, как паутина. На дороге, неподалеку от меня, стоял мотоцикл. Какой-то человек в длинном брезентовом плаще торопливо укладывал в коляску мотоцикла черный мешок. С мешка на дорогу тоненькими струйками стекала вода.
«Проспал! Проспал, проворонил, — подумал я. — Про-воро-ни-и-ил!»
Я вскочил на ноги. Человек уже застегивал ремни чехла. Видимо, подо мной хрустнула ветка — он оглянулся.
Это был «дядя Клава».
— Стой! — сдавленно крикнул я и бросился к дороге. — Сто-о-ой!
«Мухомор» вскочил в седло. Пронзительно, на весь лес застрекотал мотор. Мотоцикл рванул с места, как вчера рванула моторка, и… заглох. Прокатился с десяток метров по инерции и замер.
Я выбежал на дорогу.
— Сюда-а! — кричал я. — Все сюда а!
Вдали на дороге выросла фигура Фроликова. Он бежал к нам, срывая с плеча ружье.
«Дядя Клава» лихорадочно крутил ручки мотоцикла. Но машина стояла, как мертвая. Тогда он вдруг соскочил с нее и двинулся на меня.
Я был всего в нескольких шагах от него и уже не мог остановиться. На какое-то мгновение я увидел его глаза, налитые кровью, а вслед за тем его кулак обрушился мне на голову.
ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Идем по болоту, перепрыгивая с одной истлевшей кладки на другую, спотыкаясь на кочках, и черная густая жижа чавкает и хлюпает у нас под ногами. Стоит чуть оступиться, сойти в сторону, и она взрывается, забрасывая нас грязью, словно шрапнелью. Пот заливает глаза. Рюкзак с такой силой оттягивает плечи, будто набит кирпичами или сырым речным песком. Чтоб не упасть, сгибаюсь крюком. Тупо ноет в затылке — хорошо треснул меня «дядя Клава», ничего не скажешь. Если бы не подоспели Фроликов и Витька, убил бы, наверно…
Трудна дорога в бывший партизанский лагерь. Тучей звенят комары, какая-то мелкая мошкара забирается за шиворот, сквозь прилипшую от пота рубашку жигают оводни. Как ударит, словно током все тело прожжет. И до привала еще далеко, километра два, не меньше.
Давно осталось позади Сычково, голубая лента реки, наш черный, обуглившийся плот, на котором уже никто никогда не отправится в дальнее плавание. Его разберут па дрова, чтоб не вынесло течением на фарватер да не наскочил какой-нибудь буксир. Всего три дня нес он нас на своей широкой спине по красавице Березе, а жалко, словно бросили не груду обгоревших бревен и досок, а живого человека, верного и надежного друга.
Наверно, оттого, что нужно вглядываться в каждую кочку, прежде чем сделать следующий шаг, оттого, что жарит солнце и губы пересохли от жажды, вчерашние события кажутся далекими-далекими, будто их вовсе не было, будто они приснились мне там, под сосной, как приснился Африкан с золотистым язем в зубах. Не было ни короткой свалки на дороге, ни перевернутого мотоцикла, ни глухо прогремевшего выстрела, ни запыхавшихся ребят и отца, прибежавших нам на подмогу, ни здоровенных рыбин, хлынувших из мешка в песок, ни толпы возмущенных людей, которые провожали нас до самого сельсовета по длинной деревенской улице… Но все это было, было, и истошно голосила жена «Мухомора», призывая на нас все земные и небесные напасти, и брызгал слюной Африкан Гермогенович, размахивая кулаками перед лицом отца, и «дядя Клава» долго не мог подписать бумагу, которую составил инспектор Фроликов, — у него дрожали руки. А потом это все наконец закончилось, и Фроликов повез нас на своей моторке в Крупицу, хотя, по совести говоря, нам уже никуда не хотелось, ни в какие походы — только домой, так все устали и измотались.
Моторка неторопливо скользила по реке, огибая золотые плесы, солнце дробилось в прозрачной воде на тысячи маленьких солнц, и встречные буксиры весело гудели нам, словно знали, что это именно мы помогли Фроликову поймать «Мухомора», и благодарили нас за это от имени Березы. И потихоньку мы пришли в себя и развеселились. Особенно всех потешал «фонарь», который мне успел «подвесить» «дядя Клава». Я смеялся вместе с ними, пока не увидел свою физиономию в осколке зеркала, которое нашлось у инспектора; после этого мне стало не до смеха: здоровый синяк, лиловый с фиолетовым отливом, превратил мой левый глаз в узкую щелочку…
В Крупице Фроликов достал три вместительных рюкзака, притащил нам с десяток банок консервов и груду всяких концентратов. Кое-что мы прикупили: к счастью, бумажник с деньгами отец не оставил на плоту, а взял с собой. Переночевали в палатке на сене и рано утром, когда солнце еще не высушило росу, пошли к партизанскому лагерю. А теперь оно уже вон куда забралось, то солнце, чуть не в зенит, но до Сухой выспы еще далеко — у самого горизонта синеет сосновый остров, окруженный унылой равниной. Тускло блестит вода в предательских «окнах», попади в такое — засосет, если никто не поможет выбраться. Шуршат сухие метелки ситника. Купами зеленеет осока. Там, где чуть посуше, полно брусничника и клюквы. На ходу срываем твердые зеленые ягоды, от них деревянеет язык, но зато пропадает жажда.
В зарослях кустарников, на редких кривых березках звенят птицы. Им-то что, им-то не нужно месить эту грязь.
Нет, как хотите, а на плоту путешествовать куда интереснее!
— Это позавчерашняя гроза нам аукается, — говорит отец, с трудом выдирая ногу из трясины. — До нее тут суше было. И вообще — не пищать! Вам еще что — полдороги посуху прошли. Часть болот уже осушили, видали, какие возле Крупицы хлеба! А раньше кругом такие пироги были… Весной да осенью чуть не вплавь от самой околицы пробирались.
Редкими купами по болоту стоят осины, их стволы заплыли серыми осклизлыми лишаями, обросли мхом.
— Если мне не изменяет память, — останавливается отец, — вон в той осине есть небольшое дупло. Там во время войны был наш «почтовый ящик» — связные оставляли записки с разными сведениями. Ну-ка, проверьте, а вдруг и сейчас что лежит.
Мы бредем к одинокому дереву, хотя никто не верит, что в его дупле может что-нибудь сохраниться. Прошло чуть не четверть века — шутка сказать! Но проверить интересно, отчего ж не проверить!
Лера подходит к осине немножко раньше нас. А вот и дупло. Ничего себе — небольшое! Дырища — залезть можно. Влажная, черная… А вдруг в ней уж притаился или гремучка?..
Лера переминается, затем решительно сует руку вглубь. Рука погружается выше локтя. Лера шарит, шарит в дупле, а мы обступили ее и заглядываем через плечо.
— Есть! — вдруг кричит она и выхватывает руку, словно нечаянно нащупала проводок от мины. Осторожно разжимает пальцы, и мы видим у нее на ладони винтовочный патрон. Боевой патрон с пулей, бурый от ржавчины.
Витька выхватывает патрон и выворачивает пулю. Она выходит легко: металл проржавел и разлезается, как картон. В патроне ничего нет, пусто.
— Вовнутрь клали записку. — Отец отвернулся и смотрит куда-то в сторону. — Тут ведь сыро, а в патроне записка оставалась сухой…
Он берет патрон и прячет в карман.
И снова — болото, без конца и края. Хотя нет, уже виден край: все ближе и ближе молодой подлесок, все меньше пружинит земля.
С трудом волоча ноги, входим в рябую ольховую тень.
…И вот он перед нами — бывший партизанский лагерь. Большая, вытянутая в длину поляна. В центре — братская могила, обнесенная невысокой железной оградой. Остроугольный цементный обелиск с красной звездой, за ее левый луч зацепилась сухая сосновая ветка с шишкой, — и длинный ряд фамилий на белой, в розовых прожилках, мраморной доске. Третья сверху: «Лынев Н. А.», Миколка Лынев, сын командира, тот самый, который подобрал и выходил подстреленного щенка. Это он со своими товарищами прикрывал огнем партизан, пробивавшихся из огненного кольца.
Я закрыл глаза и вдруг отчетливо увидел в этом скорбном списке свою фамилию. Вернее, фамилию моего отца. «Ильин Г. Б.» Она вполне могла стоять рядом с фамилией Миколки Лынева: Миколка и отец были друзьями и одногодками и на все операции ходили вместе. А в тот раз командир оставил сына в группе прикрытия, а отца послал в группу, выносившую раненых. Отец уперся, он хотел остаться вместе с Миколкой, но командир сказал, что расстреляет его за невыполнение приказа. Вот как это случилось, мне сам Андрей Никитич Лынев когда-то про это рассказывал. Я еще маленький был, а помню. И отец выполнил приказ, и группа прикрытия тоже выполнила приказ, и вот все они лежат в братской могиле, все до одного, и отец лежал бы с ними рядом, если бы его не послали выносить раненых, и на доске была бы выбита его фамилия…
Сколько раз я слышал эти слова: «Они погибли за вас, за ваше счастье…» Но только здесь, у этой братской могилы, я до жути отчетливо понял, что это такое. Вот похоронены люди, которые погибли за моего отца, за его боевых товарищей, за меня. Все они погибли за меня. Чтоб я мог жить, учиться, радоваться солнцу, путешествовать на плоту. Чтоб мой отец стал инженером, налаживал свои автоматические линии, рассказывал мне о далеких боях… Они погибли за меня, а я… я должен за них жить. Я должен сделать все, что смогли бы, что должны были сделать они. Я — их вечный должник, и мой отец, и все мои друзья.
«Они погибли за вас…» — это, оказывается, очень понятно. Нужно только молча постоять возле невысокой оградки и немного подумать. О жизни. О людях. О себе. И еще нужно спросить самого себя: «А ты, если придется, сможешь так? Не струсишь?» И ответить: «Не струшу. Смогу».
По краю поляны, под рыжими соснами, стоят обвалившиеся, взорванные немцами землянки. За много лет землянки совсем заплыли песком. Толстым одеялом лежит на них прелая хвоя. Обугленные бревна торчат в разные стороны, как орудийные стволы.
— Тут был наш штаб. — Отец показывает на длинный бугор, по которому разбежались молодые елочки. — А вот тут, — он поворачивается к северу, — жили мы, подрывники и разведчики.
Две сосны, две родные сестры растут от одного корня над бывшей отцовской землянкой, — одна толстенная, другая тонкая, как хлыст. Тонкая змеей обвила толстую, и где-то вверху густо переплелись их кроны. Отец подходит к соснам, прижимается небритой щекой к шершавой коре и гладит ее, а я не свожу с него глаз. Я представляю, как он вместе с Миколкой Лыневым возвращался с задания, как вон там, за опушкой, их окликали дозорные, а затем, доложив командиру про взорванный эшелон, они шли сюда, под эти сосны. Мне не нужно раскапывать землянку, пусть ребята раскапывают, я и так знаю ее не хуже, чем нашу квартиру. Слишком часто вспоминал про нее отец. Я знаю, что дверь была низкой, чтоб войти, даже им, мальчишкам, приходилось сгибаться в три погибели. Вела она в яму, обыкновенную яму с бревенчатыми стенами, чуть поднимавшимися над землей, — единственное оконце пропилили в крыше. Долго не могли достать стекла, в дожди дыру затыкали тряпками. К зиме бревна, служившие крышей, засыпали землей и шильником. А с оконца по очереди сметали снег.
В землянке жило шесть человек, нары стояли вдоль узкого прохода в два этажа. В центре — печурка из железной бочки. Хорошая печурка, чуть-чуть хвороста подбросишь — аж загудит, докрасна раскалится. Зато к утру остынет — иней на трубе. Отец спал на «втором» этаже, под самой крышей: сколько он себе шишек во время тревог набил — ужас! Никак привыкнуть не мог, что бревна — над самой головой.
А что это там Витька нашел? Котелок помятый… Может, отцов? Нет, свой он узнал бы.
В лагере мы пробыли весь день. Раскапывали землянки, бродили по оплывшим траншеям, лазили в окопы, на сосны, служившие партизанам наблюдательными пунктами, слушали воспоминания отца о блокаде сорок третьего года. Как-то незаметно зашел разговор о том, что мы будем делать, когда вернемся домой. Надо разметить футбольное поле, отремонтировать качели и сделать «гигантские шаги». И еще — собрать книги для библиотеки — отличную библиотеку можно устроить в нашей штаб-квартире, весь двор за книгами приходить будет! — и организовать всякие кружки: фото, радио, ну и, конечно, автомобильный. Игры купим и фильмоскоп — малышам кино пускать. Потом — обязательно собаку завести, овчарку, хоть одну на всех, и рыбок, и кроликов, и голубей… Голубятню во дворе построим, у нас под окнами. А что, очень даже просто. Столбов натаскаем, досок и — построим. Павел Петрович поможет, такую голубятню отгрохаем — весь Северный поселок позавидует. А зимой каток зальем во дворе. Проводку протянем, чтоб свет был, и ворота хоккейные, настоящие… Хватит нашим портфелям за все отдуваться!
И так это мы здорово размечтались, что даже не заметили, как над лесом опустилась темнота. И тогда отец старыми партизанскими тропами повел нас на «железку».
Я никогда не забуду той ночи. Какая-то фантастическая машина времени вдруг перенесла нас почти па четверть века назад, и я почувствовал себя не Тимкой Ильиным, обычным мальчишкой из обычного двора, а Тимофеем Ильиным, партизаном-подрывником. Лямки рюкзака, как и утром, резали плечи, но теперь мне казалось, что в нем лежат не консервы и концентраты, а желтые бруски тола и моток бикфордова шнура. Стоило треснуть под ногой ветке, как я невольно вздрагивал, — вот сейчас из-за того куста полоснет немецкий автоматчик. А когда мы вышли к железнодорожному полотну и на нем внезапно вырос силуэт человека, я тут же отпрянул в кусты. Словно это был не путевой обходчик, неторопливо возвращавшийся домой, а фашистский часовой. По-моему, со всеми ребятами происходило что-то похожее. Во всяком случае, все тут же залегли.
— Вот так мы лежали в кустах, а часовые ходили вдоль насыпи навстречу друг другу, — шепотом говорил отец. — Пост размещался вон там, в будке, мы ее два раза забрасывали гранатами, а немцы отстраивали. Поворот, и место высокое, оттуда обзор хороший. Вот так… Мы оставались в кустах, а кто-нибудь один полз к самому полотну, чтоб снять часового.
Ветер гнал по небу облака, время от времени они мягкой шторой задергивали луну, и тогда становилось темно, хоть ты глаз выколи. Но затем луна выныривала, и мы видели, как дрожат на рельсах маслянистые блики. Где-то далеко, у самого горизонта, упала звезда. Она прочертила небосклон, как ракета, как сигнал к бою. И в то же мгновение за поворотом вспыхнули три огненных глаза и глухо застонала земля: шел поезд.
Он пролетел мимо нас, весело постукивая на стыках и сверкая освещенными окнами, — дальняя у него дорога… А когда-то… Когда-то точно так же спешил на восток немецкий поезд. Он вез на фронт танки, пушки, солдат… И отсюда, с того места, где я сейчас лежу, прижимаясь к жесткой траве, мой отец рывком метнулся на полотно, а его товарищи сжали автоматы, чтобы в случае чего прикрыть огнем. Глухо вскрикнул часовой, и на насыпи выросли расплывчатые тени. А затем они исчезли в этих же кустах, потому что за поворотом уже тяжело стонала земля. И тот поезд никуда не ушел. Огненный взрыв партизанской мины расколол ночную тишину, вздыбились и полезли друг на друга вагоны и платформы, со страшным грохотом обрушиваясь под откос…
Счастливого тебе пути, поезд! Как это здорово, что ты мчишь по мирной земле, что ты везешь ваших людей, а не чужих солдат, что мы лишь представляем себя партизанскими подрывниками…
«ТОЛЬКО НИКАКИХ ГЛУПОСТЕЙ…»
Ровно через неделю после исторического отплытия «Кон-Тики-2» в голубые просторы Березы мы возвратились домой.
Фроликов, как и обещал, устроил нас на буксир. Правда, не к деду Кастусю, дед ушел далеко в низовья, а к другому капитану, молодому парню, и тот доставил нас прямо в «бухту Удачи», откуда мы так недавно отчаливали.
— Завтра соберемся в штабе, — сказал отец, когда мы ввалились во двор. — А сейчас — всем мыться и отдыхать. — Он до хруста потянулся и мечтательно добавил: — Двадцать часов просплю, не меньше. За весь отпуск отосплюсь.
Ребята сочувственно переглянулись: действительно, спать нашему командору пришлось маловато. И во время ремонта, и во время путешествия.
К нашему возвращению у отца от отпуска осталось всего восемь дней. Однако отоспаться как следует ему не удалось. Помешало письмо, которое я выудил вместе с кипой газет из почтового ящика. Отец прямо в подъезде прочел письмо и поскреб затылок.
— Вовремя прибыли. — Он обиженно оттопырил губы и сунул письмо в карман. — Отзывают из отпуска. Просят завтра утром быть на заводе, такие пироги. Придется ехать в Гомель, срочная работа.
Я засмеялся.
— Что ж ты — такой незаменимый?
— Да ну тебя! — Отец забрал газеты и пошел по лестнице. — Иван Сергеевич, напарник мой, заболел. Белье в прачечную отнесешь?
— Отнесу, не беспокойся. Не забудь ключ от штаба оставить. Начнем пока сами что-нибудь делать.
— А он в буфете, там же, где ключи от гаража и машины.
Мы по очереди долго плескались в ванне, вначале отец, затем я, и когда я вылез, растираясь мохнатым полотенцем, отец уже спал, уткнувшись лицом в подушку.
Лег и я. Не включая света, долго лежал в сгущающейся темноте и день за днем вспоминал все путешествие. И хохот ребят-«болельщиков» на берегу при отплытии «Кон-Тики-2», и чайку, камнем рухнувшую в воду на восходе солнца, и взрыв, всколыхнувший реку, и унылое болото, по которому мы пробирались на Сухую выспу, и долгие разговоры у вечерних костров… И мне казалось, что за одну эту неделю я повзрослел больше, чем за весь минувший год.
Когда я проснулся, отца уже не было. На письменном столе лежали деньги и записка: «Убери квартиру, отнеси в прачечную белье, купи еды. Вернусь дней через пять-шесть. Будь здоров. Папа».
Я умылся, застлал постель, затем принялся за уборку. Повсюду — на полу, на подоконниках, на книжных шкафах — толстым слоем лежала пыль. Удивительно, откуда она берется? Как проникает сквозь двойные рамы, сквозь плотно закрытые двери? Всего неделю не были дома, а теперь — только успевай тряпку прополаскивать да воду менять.
Стоя среди сверкающих лужиц, я раздумывал, с какого угла начать мыть пол, когда в квартиру без стука ворвался Витька.
Взлохмаченный, взъерошенный, он еще из коридора крикнул:
— Отец дома?
— Уехал, — ответил я. — В командировку.
— Надолго? — Витька поскользнулся на мокром полу и чуть не влетел в таз с водой. — Он же в отпуске.
— Отозвали. Дней на пять. — Я предусмотрительно отодвинул таз. — А что случилось?
— Все пропало… Африкан в нашем штабе склад устроил.
— Какой склад? — удивился я. — Когда он успел? Да и вообще — ключ от подвала ведь у нас.
— Успел, пока мы в Крупице по болотам лазили. А ключ… У него таких ключей завались! Наш замок гвоздем можно было отомкнуть. А ты его попробуй! Запломбировал…
— Подожди, не кричи. — Я торопливо натянул кеды на мокрые ноги. — Пошли посмотрим.
Подвал был ярко освещен. У двери штаба, запертой на висячий замок, стояли Лера, Жека и Ростик. Они уныло поглядывали на эмалированную табличку, привинченную к доскам:
«Склад. Посторонним не входить».
Я подергал замок.
Железо глухо лязгнуло.
— Вот так… — вздохнул Жека. — А мы, дураки, старались…
Витька сжал кулаки.
— Это он нам за своего братца мстит. Мало плота показалось. Вот возьму сейчас ломик и выдеру этот замок к чертям собачьим вместе с пломбой, будет тогда знать…
— Не стоит, — рассудительно сказал Ростик. — Хочешь, чтоб нас опять в краже со взломом обвинили? Кто его знает, что он сюда понаставил, пришьет что-либо, тогда оправдывайся…
— А может, Африкан Гермогенович в городе? Давайте сходим к нему, — предложила Лера. — Поговорим… Должна ж у него быть хоть капля совести!
— Была у собаки хата, а у «Мухоморов» совесть, — проворчал Витька. — Он с нами и говорить не станет. Сами мы ничего не добьемся, нужно Глеба Борисовича ждать.
Витька грохнул со зла ногой в замкнутую дверь и пошел домой. А мы с Лерой все-таки отправились в домоуправление: лучше же, чем просто сидеть и ждать. Но там никого не было, кроме старенькой бухгалтерши. Заглядывая сквозь очки в какую-то длиннющую ведомость, она неторопливо перекидывала на счетах костяшки.
— В отпуске Африкан Гермогенович, — сказала бухгалтерша, оторвав глаза от своей ведомости. — С неделю назад к брату в деревню уехал. На двадцать четыре рабочих дня. Правда, дня два назад, было заглянул на часок, но опять уехал. А вы по какому вопросу?
Мы не стали объяснять ей свой «вопрос», а поскорей выскочили на улицу.
— Мы — туда, он — оттуда, мы — оттуда, он — туда! — ухмыльнулся Жека. — Ну, куда мы теперь? Может, тоже в Сычково?
— В райком комсомола, — предложила Лера.
Секретарь райкома, загорелая девушка в белой блузке с комсомольским значком, усадила нас вокруг своего стола. Покусывая кончик карандаша, внимательно выслушала длиннющий Лерин рассказ. Что-то записала у себя на календаре. Улыбнулась.
— Все уладится, ребята. Но придется обождать, пока ваш домоуправ вернется из отпуска.
— Но ведь это еще дней двадцать ждать! — завопил я.
— Что ж поделаешь, ребята. — Секретарь тряхнула коротко подстриженными волосами. — Сами понимаете: склад, материальные ценности… Без него никто не откроет. Правда, мы попробуем вашего Африкана Гермогеновича вызвать, но твердо не обещаю. — Она встала и пожала нам руки. — Только никаких глупостей не делайте, а то сами себе навредите. Договорились?
— Договорились, — за всех ответила Лера.
Прошло два дня. Два длинных скучных дня. Мы собирались то у нас, то у Крысевичей, пытались чем-то заняться, но все валилось из рук.
В довершение ко всему испортилась погода. Зарядил нудный, совсем осенний дождь. Даже мяч не погоняешь.
Не унывала только Лера. Чтобы растормошить нас, она где-то выкопала две старые географические карты и предложила сделать большого змея. Я открыл гараж, и мы принялись клеить раму. Вдруг Витька присвистнул и отложил стамеску: из своего подъезда вышел Африкан-младший.
Мы думали, что он в Сычкове, оказывается, нет, вернулся в город.
Африкан постоял, задрав голову и поглядывая на низкие тучи, затем поднял ворот плаща и направился прямо к нам. Подошел, прислонился к косяку.
— Здорово, братики-матросики!
— Привет от рваных штиблет, — буркнул Витька.
— Что, накрылся ваш штаб? — Африкан ухмыльнулся и щелчком сбил с рукава плаща дождинку. — Делали штаб, а получился склад…
Мы молча переглянулись. Витька засопел, но тоже сдержался.
— Это — что, это еще цветочки… — Африкан изо всех сил старался вызвать нас на разговор. — Вот вернется батя из отпуска, ягодки будут. Он вам устроит веселую жизнь! Осенью на площадке деревья посадят. Точно-точно. Это не беседки, их автокраном на другое место не перетащишь. И гаражи снесут. Придется Глебу Борисовичу свою машину под балконом ставить…
— Чему ты радуешься? — в упор глядя на Африкана, сказал я. — Что твой отец — плохой человек, этому, да? Так тебе ж плакать надо, а не радоваться. Если б у меня был такой отец, я от него в детдом удрал бы. Дурак ты, Африкан, и больше никто.
— От дурака слышу! — взвизгнул Африкан — видно, мои слова задели его за живое. — Батя к вам, как к людям отнесся, а вы… Доносчики, вот кто вы!
— Врешь! — Витька схватил стамеску и так решительно шагнул к Африкану, что тот отшатнулся. — Врешь, мы не доносчики! Мы прямо сказали, что вы — подлецы! Мелочные вы людишки, и месть ваша мелочная. Чихали мы на нее! Проваливай отсюда, пока по шее не надавали, не о чем нам говорить.
— Мало каши ели! — Африкан сунул руки в карманы и повернулся на каблуках. — Адью, братики-матросики. Ауфидерзейн.
Он ушел.
А мы еще немного повозились со змеем и отправились в кино: работа явно не клеилась.
СКВОЗЬ ДОЖДЬ И ТУМАН
На время, пока отец в командировке, Людмила Мироновна разрешила Витьке ночевать у нас, чтоб мне не было так скучно. Пришел он поздно, часов в девять, и мы засели за шахматы. Не успели доиграть вторую партию, как пронзительно зазвенел звонок. Кто б это мог быть? Неужели Ростик или Жека?
Я открыл. За дверью стояли Африкан-младший и Анна Михайловна, его мама.
— Заходите, — растерялся я.
Они вошли, и Анна Михайловна тут же прислонилась к стене, хватая открытым ртом воздух. Казалось, она вот-вот упадет. Промокший платок сбился у нее на затылок, пряди волос прилипли к щекам, с плаща стекала вода. Африкан стоял чуть сзади, насупившись и прикусив нижнюю губу. Видно было, что оба чем-то взволнованы.
— Папа дома? — отдышавшись, спросила Анна Михайловна.
— В командировке, — ответил я.
— Пошли, — сказал Африкан и дернул мать за рукав. Анна Михайловна закрыла лицо руками и заплакала. Громко, навзрыд. Я аж перепугался.
— Что случилось? Зачем вам отец?
— Долго рассказывать, — покачал головой Африкан. — Пошли, ма…
— Куда ты ее тащишь? — крикнул Витька. — Она ж чуть на ногах держится! Пройдите, Анна Михайловна, присядьте. — Он взял ее за руку и повел в комнату. Вздрагивая от слез, она послушно пошла за Витькой и тяжело опустилась в кресло. — Тимка, подай воды. Что с вами?
— У Африкана Гермогеновича… сердечный приступ. — Стакан дрожал в руках Анны Михайловны, и вода выплескивалась ей на плащ, будто он был еще недостаточно мокрым. — Это ж в такой спешке выехал — лекарства не взял. А как его сейчас отвезешь? Мы с Африкашей уже полгорода обегали. Последний теплоход в семь сорок ушел, а автобус — еще раньше, в пять пятнадцать. Такси не идут — далеко, мол, им всего на сорок километров от города разрешается, а в Сычково почти шестьдесят. Вот мы и подумали: может, Глеб Борисович…
— Пошли, мам… — Африкан шмыгнул носом и оглушительно чихнул. — Чего ты им все это рассказываешь? Они ж рады…
— Замолчи! — крикнула Анна Михайловна. — Не могут люди чужой беде радоваться. — Она затрясла головой и снова начала плакать. — Дай хоть минутку посидеть, а то у самой сердце выскочит.
— Да вы не волнуйтесь, Анна Михайловна, — сказал я. — В Сычкове медпункт есть, фельдшер, а в Крупице — целая больница. Найдут там для Африкана Гермогеновича лекарство.
— То-то, сынок, и дело, что такого не найдут. — Анна Михайловна вытерла краем платка лицо. — Раз уж телеграмму отбили: вези, мол, срочно лекарство, значит, ихнее не помогает. — Она подняла голову и с надеждой посмотрела на меня. — Тимочка, голубчик ты мой, а может, ты сам нас подкинешь? Дорога туда хорошая, асфальтовая, всей-то езды часа два в оба конца, а Африкаша говорил, что ты машину не хуже шофера водишь. Выручи, милый. А уж я тебе за это, сколько скажешь, заплачу… Помрет ведь Африкан Гермогенович, не доживет до утра…
У меня гулко, на всю комнату, стукнуло и оборвалось сердце.
— Боюсь, Анна Михайловна, — запинаясь, ответил я. — Дождь сейчас, туман… Я еще сам, без отца, никогда не ездил, даже в хорошую погоду. А в такую он меня и близко к баранке не подпустил бы. Вы не думайте, мне машины не жалко… Я вас боюсь не довезти.
— Пошли! — в четвертый раз крикнул Африкан. — Чего ты перед ними унижаешься?! Я ж тебе говорил не ходить сюда! Это из-за них отец, из-за них…
— Постоите! — Витька усадил привставшую Анну Михайловну в кресло. — У нас же есть хороший, настоящий шофер. Сейчас я сбегаю за Антоном Александровичем.
— Попробуй, — я почувствовал, что сердце у меня вернулось на прежнее место и стало легче дышать. — Это было бы самое лучшее. Скажи, что ключ от зажигания и технический талон дома. Но он не поедет на чужой машине, не имеет права.
— А оставлять умирать человека он имеет право? — рявкнул Витька и выскочил из квартиры.
Африкан все еще топтался у двери.
— Пройди, — сказал я. — Сядь.
Он покачал головой и отвернулся. По его лицу текли слезы. А может, это были следы дождя?
В подъезде хлопает дверь, и мы, все трое, вздрагиваем. Нет, шагов на лестнице не слышно, это кто-то с первого этажа. Что он, заблудился, Витька? Квартиру Антона Александровича найти не может? Почему они так долго не идут? А вдруг и Жекиного отца нет дома? Тогда что делать? Сесть за руль самому? Да я же врежусь в первую встречную: полоснет фарами включенными по глазам, ослепит и — вдребезги! Или — на мокром асфальте раскрутит, вынесет на левую сторону да какому-нибудь грузовику — под колеса… И пикнуть не успеешь. Мало что я там хвастался, какой из меня водитель… Это когда знаешь, что отец рядом, что он в любую секунду руль вывернет и с тормозами управится, тогда и повоображать можно. Но если все-таки Антона Александровича нету? Или он откажется? Да нет, не должен отказаться, не такой on человек! А все же? Останусь только я… Поведу или струшу?
Снова хлопает дверь, и снова мы вздрагиваем. Бух-бух-бух! — грохочут на лестнице шаги, и в квартиру влетает Витька. За ним входит Антон Александрович.
— Лекарство с собой? — спрашивает он у Анны Михайловны.
Она поспешно достает из кармана пузырек.
— Давай ключи. — Это уж мне. — Машина заправлена?
— Не знаю. Во всяком случае, в багажнике должны быть две запасные канистры.
Антон Александрович проводит рукой по своему ежику и стряхивает с ладони дождинки.
— Поехали. Если инспектор остановит, скажем, пусть сам везет. — Он подмигивает мне и берет ключи. — Слупит с нас твой батька шкуру за такое самоуправство. Квартиру замкни как следует.
Мы выходим к гаражу. Антон Александрович звякает в потемках ключами. Дождь еле моросит, но зато туман такой, что освещенные окна домов расплылись пятнами.
— Погодка… — ворчит Антон Александрович, хлопая дверцей машины. — Хороший хозяин собаку не выгонит.
Едем. Анна Михайловна сидит впереди, рядом с Антоном Александровичем, мы втроем — сзади. Сидим, тесно прижавшись друг к другу плечами, и я чувствую, что Африкан дрожит, словно ему холодно. Еще бы, такая у человека беда! Я не думаю, я просто не могу думать о том, сколько раз он нас подводил, сколько мы перетерпели из-за него и Африкана Гермогеновича, все это чепуха по сравнению с тем, как сейчас должно быть горько и трудно ему: где-то в Сычкове, за шестьдесят километров отсюда, умирает отец… И я крепче прижимаюсь к Африкану плечом, я чуть не наваливаюсь на него, чтоб передать ему часть своего тепла: мне кажется, что от возбуждения я весь горю, как раскаленная печь. И Африкан постепенно перестает дрожать, он откидывается на сиденье и закрывает глаза.
«Дворники» старательно и неутомимо сгребают со смотрового стекла дождевую пелену. Антон Александрович подался вперед, он похож на черную нахохлившуюся птицу. Большие, как лопаты, руки спокойно лежат на баранке, плечи сведены, чуть серебрится в тусклом свете лампочек на приборной доске короткий ежик. Вокруг — белесое месиво. В нем растаяли очертания улиц — по какой это мы едем, не могу узнать, — утонули дома. Редкие встречные машины идут медленно, словно наощупь, время от времени они тревожно вскрикивают, будто заблудившиеся в лесу дети. От крика этого у меня по спине ползут мурашки: все еще никак не могу избавиться от ощущения, что не Жекин отец, а я сам сижу за рулем и вглядываюсь в вязкий туман.
Выходим на магистраль.
— Сейчас пост ГАИ, — негромко говорит Антон Александрович. — Если пронесет — тогда все в порядке. Если нет… — И включает четвертую скорость.
Мы цепенеем. Мы боимся дышать, будто по шуму нашего дыхания там, в милицейской будке, смогут определить, что нас обязательно нужно задержать. А это — лишние объяснения, это потерянное время: сколько его уже потеряли Африкан и Анна Михайловна, пока метались по городу!
Справа от дороги, пробивая туман, светится желтый фонарь. Под ним смутно темнеют силуэты каких-то машин. Вот они уже остались позади. Растаяли. Исчезли.
— Пронесло! — Антон Александрович вытирает рукавом лоб и добавляет газа. — Через часок будем на месте.
И тут рука Африкана клещами сжимает мою руку.
— Ребята, — бормочет он, и я вижу, как блестят белки его глаз, — это все я, ребята… И с сарайчиками, и с плотом, и со штаб-квартирой… Но я больше никогда, слышите, никогда…
— Ладно, кончай, — свистящим шепотом отвечает Витька. — Будто мы не догадывались! А мы тебе лягушек подкинули. Вот так…
* * *
Лето пролетело как один день. Не успели оглянуться, а сверкающий солнечный круг уже замкнулся. «Детки, в школу собирайтесь, петушок пропел давно…» Сколько мы со своим командором когда-то планов насочиняли, а успели сделать — с гулькин нос. Ну, качели для малышей, книжек с полсотни собрали, рыбок завели — три аквариума. А голубятню еще не достроили, нигде мелкой железной сетки не достанем. И собаки еще нету. Правда, Африкан пообещал привезти из Сычкова щенка — помните, какой у «дяди Клавы» на цепи волкодавище сидел? Ну, вот, чтоб от такой собаки щенка заполучить, можно и потерпеть, пока Африкан к своему дядьке выберется. Во всяком случае, конуру мы уже соорудили. Роскошная конура, просто дворец, а не собачья будка!
За браконьерство Клавдия Гермогеновича судили. Мы выступали на суде как свидетели. В тюрьму его не посадили, но оштрафовали как следует. Десятому закажет!
Вот и все. А сегодня мы идем в школу: Витька, Лера, Ростик, Жека, Казик, Африкан и я. Все вместе. В 7-й класс «А». Мы выходим из своих подъездов медленно и важно, чуть помахивая новенькими портфелями, проходим мимо качелей, мимо покосившихся футбольных ворот, мимо яблонь, на которых уже давным-давно нет ни одного яблочка, а потом срываемся и бежим во весь дух, как первоклашки, которым не терпится поскорее сесть за парты. И когда я оборачиваюсь, я вижу возле беседки наших отцов. Они стоят, курят и молча глядят нам вслед.
|