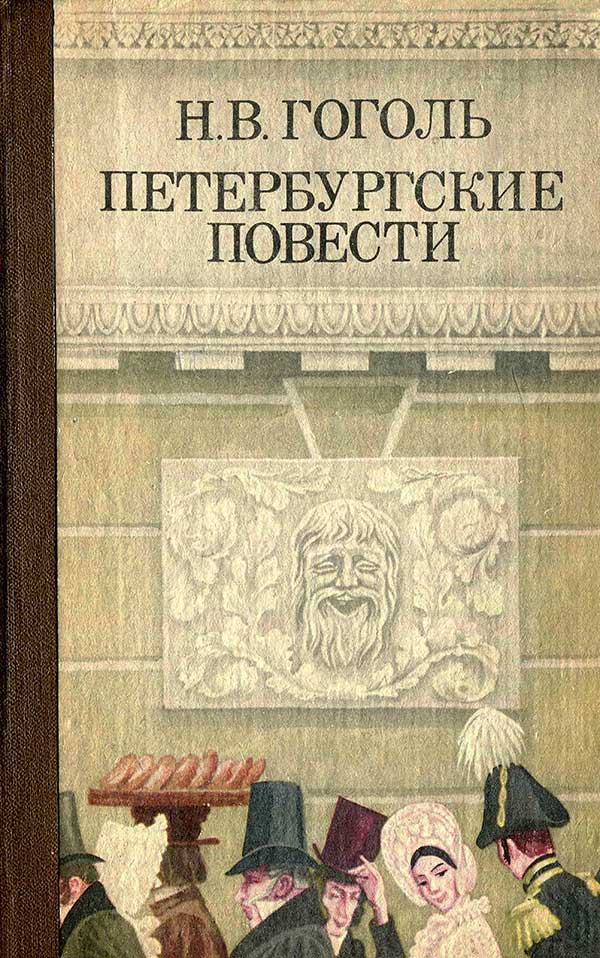С. Бочаров
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОВЕСТИ ГОГОЛЯ
Осенью 1833 года был написан пушкинский «Медный всадник»; поэма имела подзаголовок: «петербургская повесть». И в это же время начинал свои петербургские повести Гоголь*. Пушкин и Гоголь одновременно в поэзии и в прозе открывали большую петербургскую тему в нашей литературе (продолженную за ними Некрасовым, Достоевским, Блоком); эта тема даже произвела у Наших писателей особый жанр «петербургских» произведений. Русской литературе северная столица виделась «фантастическим» городом: в его едином образе совмещались и переходили друг в друга до крайности противоположные облики — величие и ничтожество, бюрократическая махина императорской власти и темная жизнь «петербургских углов». «Город пышный, город бедный...» — так Пушкин в одной стихотворной строке и в простых словах продвинул одно к другому эти контрастные петербургские «лица». Мы видим, читая повести Гоголя, как это противоречие разрастается у него в непомерных гиперболах, в колоссальном размахе гоголевского смеха и в лирическом напряжении скорби.
Молодым человеком Гоголь приехал в 1828 году из родной Малороссии в Петербург и за короткое время успел на собственном опыте познакомиться с жизнью столичных чиновников и петербургских художников — будущих своих персонажей**.
* Название «Петербургские повести» не принадлежит самому Гоголю; но давняя и прочная традиция скрепила этим названием цикл из пяти повестей.
В 1833—1834 гг. написаны «Невский проспект», первая редакция «Портрета» и «Записки сумасшедшего»; все три повести опубликованы в сборнике «Арабески» в 1835 году. В следующем, 1836 году появился в пушкинском «Современнике» «Нос». Значительно позже написана «Шинель» и сильно переработан «Портрет»; эти две повести вышли в свет в 1842 году.
** В 1829—1831 гг Гоголь служил в департаментах государственного хозяйства и уделов и дослужился до должности помощника столоначальника. Тогда же он посещал класс в Академии художеств.
Писатель Гоголь словно повторил этот маршрут, перенеся «мир» своего творчества из Диканьки н Запорожской Сечи на Невский проспект. Впоследствии третьей «географической областью» гоголевского творчества станет глубокая Россия «Ревизора» и «Мертвых душ». И герои Гоголя путешествуют в этих же направлениях, связывая таким образом разные периоды и «миры» его творчества между собой: кузнец Вакула из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» верхом на черте летит в Петербург, Хлестаков из столицы является «ревизором») в уездную глушь.
«Трудно схватить общее выражение Петербурга,—писал Гоголь в статье «Петербургские записки 1836 года», — потому что в городе этом царит разобщение: «как будто бы приехал в трактир огромный дилижанс, в котором каждый пассажир сидел во всю дорогу закрывшись и вошел в общую залу потому только, что не было другого места». Столица словно большой постоялый двор, где каждый сам по себе и никто не знаком хорошо друг с другом. Как отличается этот образ от «общего выражения» малороссийского хутора или ярмарки гоголевских «Вечеров»! Вот мы читаем в финале «Сорочинской ярмарки»:
«Странное, неизъяснимое чувство овладело бы зрителем при виде, как от одного удара смычка музыканта в сермяжной свитке, с длинными закрученными усами, все обратилось, волею и неволею, к единству и перешло в согласие... Все неслось. Все танцевало»,
А теперь перед нами Невский проспект — «всеобщая коммуникация Петербурга». В начале одноименной повести сделано полное обозрение этой главной улицы главного города во всякое время суток. Картина полна движения, но у каждого лица и у разных «кругов и кружков» свое обособленное движение в свои часы; все объединяются только местом — Невским проспектом. Здесь тоже «все несется», но по-другому, чем на Сорочинской ярмарке.
Читая Гоголя, мы замечаем, как часто встречаются у него обширные обобщения: «всё» или его излюбленное «всё что ни есть». Можно сказать, что это понятие было формулой его идеала, вмещавшей его представление о неком всеобъемлющем согласованном целом. В идеальном народном мире «Вечеров» и «Тараса Бульбы» это гоголевское «всё что ни есть» звучит патетически — здесь оно охватывает как бы единую грандиозную личность целого коллектива. Но вот Гоголь стал измерять свой Невский проспект этой идеальной меркой, и она наполнилась пустотой, а всеобъемлющее слово становилось раздутым комическим словом. Оно теперь освещало внутреннее строение социально и человечески разобщенного петербургского мира.
«Все, что вы ни встретите на Невском проспекте...», а именно: «Вы здесь встретите бакенбарды единственные...- Здесь вы встретите усы чудные...» В этих похвалах неумеренных, выраженных в превосходной степени, читатель слышит подвох, Как будто бы та же самая восклицательная, восторженная интонация звучала и в «Вечерах» («Как упоителен, как -роскошен летний день в Малороссии!», «Чуден Днепр при тихой погоде...»), и она же гремит сейчас. Но теперь за восторгом мы слышим иронию, и в самой интонации похвалы на первой странице повести уже нам слышится та, что автор скажет в конце: «О, не верьте этому Невскому проспекту!» Так сразу же «тон делает музыку»; в этом несоответствий интонации смыслу мы сразу воспринимаем «на слух» несоответствие внешнего и внутреннего — тему всей повести «Невский проспект».
В «Ночи перед рождеством» Вакула, слетав в Петербург, выразил свое «сказочное» впечатление такими словами: «чудная пропорция». В петербургской же повести именно как-то странно нарушенная «пропорция» бросается нам в глаза. «Усы чудные», поданные как «всё», выскакивают из целой картины и занимают несоразмерное место. И вообще на Невском проспекте вместо людей какие-то внешние признаки — наружный вид («бакенбарды единственные»), положение в обществе (чин, звезда, эполет) — разрастаются и становятся «всем». А так как со всей этой видимостью сливаются представления о достоинстве, ценности и значительности — то это и есть источник всяческой наполняющей повести путаницы и «чепухи». Читатель и в изложении чувствует некую несоразмерность, как будто и здесь спутана правильная «пропорция», отношение части и целого, значительного и мелкого, важного и ничтожного в этом мире возможно такое странное явление, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры непременно примут на свой счет («Нос»). Это значит, что для такого оскорбленного человека «всё» заключается в том, что он коллежский асессор. В самом изложении повествователя мы замечаем и какую-то странную логику: то и дело важное «всё» оборачивается в пустое «ничто»;* например, о таланте поручика Пирогова смешить девиц говорится, что «для этого нужно большое искусство или, лучше сказать, совсем не иметь никакого искусства», как будто одно и то же большое искусство и никакого искусства, «Внутреннее строение» мира петербургских повестей открывается в видении бедного Пискарева: «Ему казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе». Но «демоническая» картина эта уже не смешная картина. Раздробленная «фантастическая» действительность имеет у Гоголя две стороны, два лица: одно из них — пошлое, комическое, другое — трагическое.
В повести Гоголя есть Невский проспект дневной и ночной. Днем это выставка, где «бакенбарды единственные» выступают в качестве всего человека. Вечернее освещение порождает новые точки зрения, и новые проблемы. От вечернего фонаря расходятся в разные стороны художник Пискарев и поручик Пирогов, образуя две параллельные линии сюжета, на сопоставлении которых строится «Невский проспект». Одного влечет красота, другого интрижка; обоих ждет неудача, и каждый по-своему переживает свое поражение и находит свой, выход: один погибает, другой продолжает жить, легко забывая стыд и позор, за пирожками в кондитерской и вечерней мазуркой.
Такие разные читатели Гоголя, как Белинский, Аполлон Григорьев и Достоевский, одинаково восторгались его Пироговым «бессмертным» образом пошлости. Нам всем понятен непреходящий смысл этой сюжетной и жизненной параллели между хрупкой неспособностью помириться с несовершенством жизни и торжествующей пошлостью, которую «ничем не прошибить». «Вечный раздор мечты с существенностью!» — восклицает гоголевский художник. Однако сам Гоголь только наполовину соединяет свой голос с этим возгласом романтика, который не хочет видеть действительности, спит наяву и живет во сне для того, чтобы удержать свою мечту. Но что такое его мечта? Ведь она зарождается там же, на Невском проспекте: незнакомку Пискарева, «Перуджинову Бианку», породило ночное неверное освещение, от которого на мостовой выползают длинный тени, достигающие головой до Полицейского моста.
Гоголь дает поразительную картину (предвосхищающую позднейшую живопись) ночного города, как он чудится летящему за своей мечтой и отуманенному этим полетом художнику: «Тротуар несся под ним, кареты с скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз», Этому миру ночной петербургской фантастики принадлежит и мечта Пискарева, его прекрасная дама, так жестоко его обманувшая эстетическая иллюзия. В заключении повести слова «мечта» и «обман» идут заодно: «Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется!» (Курсив мой. — С. В,)
Чтобы понять Гоголя, надо хорошо слушать его необыкновенную речь. В «Невском проспекте» повествовательная речь растекается на два потока, движущихся в параллельных руслах сюжета. Повествователь объединяет свой голос то с художником Пискаревым, то с поручиком Пироговым и поэтому в разных местах говорит на ту же самую тему противоположные вещи и совершенно различным тоном. Как примирить печальной размышление о красоте (пускай бы еще безобразие дружилось с пороком, «но красота, красота нежная...») с другим, гораздо более легким рассуждением (в красавице все недостатки становятся привлекательны и самый порок дышит в них миловидностью)? И там и здесь повествователь как будто бы говорит от себя, и повествование таким образом само по себе становится полем действия, в ротором с особенной непосредственностью проявляется тот «раздор», о котором написана повесть. Настоящий же автор выступает Открыто в заключительном монологе, «снимая» обе принятые им на себя интонации и своим, полным голосом подводя итог параллельному действию: «Все не то, чем кажется... Он лжет во всякое время, этот Невский проспект...» (Курсив мой. — С. Б.)
Пушкин нашел очень верные слова, когда назвал гоголевский «Невский проспект» «самым полным из его произведений»*. В самом деле, в художественном «спекторе» этой повести соединяются гоголевский комизм и гоголевская лирика, пошлое и трагическое лицо гоголевского Петербурга. В «Невском проспекте.» заключены темы и краски двух других петербургских повестей — «Портрета», повести о художнике, в которой почти нет смеха, и «Носа», где мы снова встречаем как будто того же поручика Пирогова, и где особенно много смеха.
В каждой из петербургских повестей Гоголя есть кто-то один — «существо вне гражданства столицы»**, кто ощущает себя исключенным из общей нормы, кто пропадает и гибнет.
* В заметке (без подписи) по поводу второго издания «Вечеров на хуторе близ Диканьки» («Современник»,. 1836, № 1), «Самым полным», конечно, из того Гоголя, которого мог знать Пушкин: он не знал «Шинели» и «Мертвых душ».
** Это определение взято из неоконченного гоголевского отрывка начинающегося словами: «Фонарь умирал...» С этим отрывком связана история замысла повести «Невский проспект».
Эту судьбу одинаково разделяют и петербургский художник, и самый мелкий чиновник. Художник был любимой фигурой у писателей-романтиков (у немецкого писателя начала XIX столетия Э. Т. А. Гофмана или из русских современников Гоголя у В. Ф. Одоевского) как человек не от мира сего, во всем отличный от обычных людей. Но петербургские художники в «Невском проспекте» — добрый, кроткий и очень робкий народ, звезда и толстый эполет приводят их в замешательство, они отвечают несвязно и невпопад. Словом, у мечтателя Пискарева и убогого Акакия Акакиевича Башмачкина оказывается много общего. Это сходство бросает свет на них обоих? в Пискареве становится лучше заметна его человеческая простота и демократизм, внутренняя близость с последним из «малых сих», а Башмачкин оказывается, своего рода мечтателем и «романтиком».. Обычное и необыкновенное очень тесно соединяются в их судьбе.
«Портрет» рассказывает о художнике, уступившем соблазнам богатства и славы, продавшем свой дар за деньги, продавшем дьяволу душу. Этот фантастический фольклорный сюжет внедряется в петербургскую повесть. В «Портрете» Гоголь высказывает наиболее полно свою эстетическую программу. Проникновение зла в душу художника заражает самое искусство. Искусство — это не легкая способность, но подвиг трудного постижения жизни. Поэтому для искусства мало только искусства: если бы — читаем мы о Чарткове — он был знаток человеческой природы, он много прочел бы в лице молоденькой Девушки, которую он рисовал на заказ; но художник видел только нежность и почти фарфоровую прозрачность лица, которую силилось передать его искусство. Очень важно, что «соблазнило» Чарткова тоже произведение живописи — необычайный портрет с живыми глазами. «Это было уже не искусство? это разрушало даже гармонию самого портрета». Загадка портрета возбуждает в повести размышление о природе искусства, о различии в нем создания, где природа является «в каком-то свету», и копии, где «однако же натура, это живая натура», но она вызывает в зрителе какое-то болезненное, томительное чувство — как эти глаза на портрете, как будто вырезанные из живого человека. «Живость» изображения у художника-копииста для Гоголя — это не просто поверхностное искусство: это орудие мирового зла (и его конкретного социального воплощения — денежной власти: с портрета глядят живые глаза ростовщика), отвращающего искусство от глубины, которую призвано оно раскрывать в явлениях жизни.
Поэтому наряду с конкретными социальными мотивировками, которые у Гоголя очень ясны (Гоголь называл Петербург городом «кипящей меркантильности»), в повести первостепенную роль получает мотив дьявольского соблазна. В чем значение этого мотива? Автор рассказывает, что у благочестивого живописца, нарисовавшего странный портрет с живыми глазами, после этого вдруг без всякой причины переменился характер: он стал тщеславен и завистлив. Но такие же необъяснимые на поверхности факты случаются в жизни повсеместно: «Там честный, трезвый человек делался пьяницей... там извозчик, возивший несколько лет честно, за грош зарезал седока». Вскоре после Гоголя и Достоевский будет изображать подобные прозаические, распространенные факты как чрезвычайные, фантастические. Там, где корни лежат очень глубоко и нет видимых причин для происходящих на глазах превращений, — там бессильно простое наблюдение и описание, «копия» (она даже оказывается тем средством, которое используется злом для того, чтобы не дать искусству проникнуть в глубину зла и раскрыть его), там нужна проникающая сила воображения художника, которому в этих случаях может именно послужить фантастический образ...
После серьезной фантастики «Портрета» «необыкновенно-странное происшествие», что случается в повести «Нос», кажется, «чепуха совершенная». Заметим, что так удивляется происходящему и сам рассказчик повести, который вместе со своими персонажами тоже не знает, что и подумать обо всем этом. Тем самым каждому, кто упрекнет его в полном неправдоподобии, рассказчик заранее говорит: да, чепуха совершенная, никакого правдоподобия. Автор заранее отказывается объяснять, как это может быть, что нос майора Ковалева оказался запечен в тесте, был брошен в Неву, но в то же время разъезжал по Петербургу в ранге статского советника, а потом возвратился на законное место — «между двух щек майора Ковалева». В тех местах, где обрывки даже такого невозможного сюжета могли бы все-таки как-то связаться, автор вдруг заявляет: «Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно».
Всеми этими своими маневрами автор внушает нам, что я не надо доискиваться правдоподобия, ибо суть дела как раз не в нем, в «правдоподобных» границах никак не сойдутся концы и начала рассказа. Автор в итоге все же вступает с точкой зрения правдоподобия в иронический компромисс, решая трудный вопрос таким образом, что подобные происшествия «редко, но бывают».
Интересно, что в первоначальной редакции повести происшествие в конце концов разъяснялось как сон Ковалева. Но в опубликованном тексте Гоголь исключил эту мотивировку, и, таким образом, все стало происходить в действительности, хотя и вправду как будто во сне. И надо сказать, что повесть много бы потеряла в своем комическом эффекте и в серьезном значении, когда бы дело кончилось, как в рукописной редакции, пробуждением Ковалева. Ибо сон — хотя бы и «со значением», «вещий» и «в руку» — это все-таки сон, где всякая фантастическая логика в порядке вещей. Другое дело — действительное событие, происходящее «как во сне». Здесь по ходу события герою приходится несколько раз ущипнуть себя и убедиться, что это не сон. Вся странность «Носа» в том, что это действительность, в которой невиданное событие совершается в самой обычной, будничной обстановке.
В первой петербургской повести Гоголя на Невском проспекте самостоятельно выступают усы и бакенбарды; но это в «Невском проспекте» еще метонимия, словесный образ такого рода, где часть называется вместо целого — хотя метонимия эта уже, так сказать, на полдороге к своему воплощению. Герой «Записок сумасшедшего» открывает, что его директор департамента — «пробка, а не директор... Вот которою закупоривают бутылки». Мы понимаем, что в его безумном сознании происходит реализация сравнения (глуп как, пробка). В неосуществленном замысле комедии «Владимир III степени» герой, сошедший с ума на том, что не получил ордена Владимира III степени, себя самого воображал этим орденом. Художнику Пискареву грезится в сновидении какой-то чиновник, который в то же время чиновник и фагот. Художественный мир Гоголя полон подобными превращениями человеческого образа во что-то внешнее, неодушевленное, вещественное. Но если в этих уподоблениях, в сновидениях и сумасшествиях кроется действительная правда, то писатель может сделать следующий шаг и представить эту глубже лежащую правду прямо как фантастическую действительность. Погружается в сновидение Пискарев, сходит с ума Поприщин, но майор Ковалев, представитель общественной нормы, не может знать таких болезненных уклонений, с ним все должно случаться в действительности.
В повестях западноевропейских романтиков рассказывалось о том, как человек потерял свою тень или отражение в зеркале; это знаменовало потерю личности. Гоголевский майор потерял нос со своего лица: разумеется, характер утраченного предмета, дает истории совершенно другой колорит. Однако для самого майора случившееся имеет тот же смысл утраты всей личности: пропало все что ни есть, без чего нельзя ни жениться, ни получить место, и на людях приходится закрываться платком. Ковалев «потерял лицо» и очутился вне общества, «вне гражданства столицы», представляя сатирическую параллель другим отверженным и действительно гибнущим героям петербургских повестей.
Гоголь в одном письме шутил насчет человеческого носа, «что он нюхает все без разбору, и зачем он выбежал на средину лица». Именно это особое, выдающееся, центральное положение носа на лице «играет» в гоголевском сюжете. Ковалев так и объясняет в газетной экспедиции, что ему никак нельзя без такой заметной части тела и что это не то ,что какой-нибудь мизинный палец на ноге, которую можно спрятать в сапог, если его нет. Нос — это некое средоточие, «пик» внешнего - достоинства, в котором и заключается все существование майора. (Заметим для сравнения, что в трагическом «Портрете» роковую роль играли живые глаза.)
Таким образом, нос становится представителем всей внешней жизни и внешних понятий о личности и ее достоинстве. Поэтому нос уже — заместитель всего лица, он становится сам лицом — в том более широком (переносном) значении, в каком, например, начальник в «Шинели», распекший Акакия Акакиевича, называется тоже не как-нибудь, а значительное лицо. Вот уже нос и лицо поменялись местами: «Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился». И по этой логике внешней жизни очень естественно, что господин собственный нос майора оказался чином вы* ще его самого. Так- «все происходит наоборот» в этой повести Гоголя.
Цирюльник Иван Яковлевич в начале повести удивляется, обнаружив в хлебе знакомый нос: «...ибо хлеб — дело печеное, а нос совсем не то». Происходит «совсем не то», поэтому и «нормальный» сюжет никак не может связаться. Ковалев обращается » «милостивому государю» носу: «Вы должны знать свое место», а тот сам ставит Ковалева на место: «Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить в сенате, или, по крайней мере, по юстиции. Я же по ученой части». Нос отвечает «совсем не то»: выходит, что у человека нет тесных отношений с собственным носом, потому что они подменяются служебными отношениями. Так же в все участники, включая самого майора, относятся к происшедшему как-то совсем нё так: конечно, они удивляются, не знают, что и подумать, но больше всего беспокоятся, как спрятать, как выбросить, как объявить в газете, а газета боится потерять репутацию и т. п. На несбыточное событие, выходящее за в се возможные рамки, люди отвечают своими ежедневными привычками, как на бытовое происшествие; все надеются, подобно Ивану Яковлевичу, «так как-нибудь» выйти из этого странного положения.
Итак, чепуха «Носа» имеет свою логику. Дело идет, оказывается, о важных для человека вещах: как «сохранить лицо», «не потерять себя»; дело идет о человеческой личности и «собственном месте». Чепуха происходит от превращения этих понятий в какие-то самодовольные внешние вещи. Нос как видная часть становится в центре их превращений: из части тела в целого господина, из вещи — в лицо.
Вокруг тех же самых вопросов о личности и ее достоинстве кружатся «Записки сумасшедшего». В творчестве Гоголя это единственное произведение, написанное как исповедь, как рассказ героя о себе. Поприщин ведет свой внутренний монолог, говорит «сам в себе», о внешней же жизни, - перед генералом и его дочкой, он и хотел бы много сказать и спросить, но у него язык не повернется. Это противоречие внешнего положения и внутреннего самосознания, можно сказать, раздирает его записки, оно и сводит его с ума.
Поприщина мучит вопрос о собственной человеческой ценности. Так как никто за ним таковой не признает, он должен это сам решить для себя. По сути, он разговаривает в записках а самим собой. Вот, например, игривое замечание: «Что это за бестия наш брат чиновник! Ей-богу, не уступит никакому офицеру: пройди какая-нибудь в шляпке, непременно зацепит». Этот тон легкой пошлости должен показывать, что «все у меня в порядке и люблю пошутить». Однако Поприщин не поручик Пирогов или майор Ковалев, у которых действительно все в порядке и это действительно их тон. Поприщин только хотел бы быть, как они. Замечания его слишком резки, и в них сквозит неуверенность, которая его выдает. Многие суждения автора записок кажутся пошлыми и грубыми, но ведь таким звучит для него тон независимого» человека. А он сам с собой пытается разговаривать независимым тоном. Если в других петербургских повестях пошлость и трагизм, две краски петербургского мира, выступают раздельно и сложно сочетаются в повествовательной интонации автора, то в «Записках сумасшедшего» прямо в каждом пошлом слове героя слышен трагизм его попытки сознать себя человеком. «...Вы еще смеетесь над простаком, но уже ваш смех растворен горечью», — писал Белинский о «Записках сумасшедшего».
В этой попытке Поприщину не на что опереться, кроме известных ему понятий о человеческой ценности, измеряемых чином и званием. Поэтому ему хочется «рассмотреть поближе жизнь этих господ», и он фантазирует, что «станем и мы полковником и заведем себе репутацию». Но его «бедное богатство» достается камер-юнкеру, и Поприщину приходят на ум вопросы • поглубже: «Отчего происходят все эти разности. Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник?» Это критический момент поприщинского самосознания: человеческое и чиновное достоинство, которые у него сливались до этого, здесь отделяются друг от друга. Может быть, он только кажется титулярным советником. «Может быть, я сам не знаю, кто я таков». Все это зарождающееся чувство своей свободной и еще неизвестной личности (он в этом мире — «инкогнито») и возносит его в. испанские короли. В Испании нет короля; пропал, как нос майора Ковалева: совершенно гладкое место. И Поприщин еще не знает, кто он и где его место. И следующим прыжком сознания он совмещает свою свободную личность с этим свободным местом. Одним прыжком превзойдены все, прежде робкозаносчивые мечтания о том, чтобы быть полковником: теперь они мелки и несоизмеримы с его человеческой ролью. В испанские короли Поприщин возводит свое человеческое превосходство над всеми мерками, какими в известной ему жизни другие мерят свое над ним превосходство. Такова логика его самосознания, которая и есть его сумасшествие.
И поэтому на испанском короле не кончаются записки сумасшедшего. Именно здесь, на вершине бреда, через страдание человек прорывается наконец к £ебе самому и к вселенскому горизонту вокруг себя. В заключительном монологе, как было уже в одной из повестей «Вечеров», «вдруг стало видимо далеко во все концы света» («Страшная месть»). Заключительный монолог уже не речь прежнего Поприщина, но лирика самого Гоголя (об этом писал в статье «Дитя Гоголя» Александр Блок). Сознание чела веком своего несчастья рождает любимый у Гоголя образ дороги тройки и колокольчика; дорога мчится через весь свет в каких-то космических далях, куда несет она человека? «...Взвейтесь кони, и несите меня с этого света!» Так разрешаются поиски бедным человеком своего места в мире: не титулярный советник, и не полковник, и не испанский король, а — ему нет места на свете!»
Человек, который, кажется, не занимает никакого места среди людей, — герой «Шинели», совершенного творения зрелого Гоголя («Шинель» писалась одновременно с первым томом «Мертвых душ»). В департаменте относились к Акакию Акакиевичу без всякого уважения и даже на него не глядели, когда давали что-нибудь переписать. Когда же он умер, го «Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его никогда не было». (Курсив мой. — С. Б.) Унизительное положение Акакия Акакиевича начинается прямо с имени, по поводу которого рассказчиц даже объясняется перед читателем, что оно покажется странным и выисканным, «но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вот как»: родительнице предложили на выбор целую серию неслыханных имен, которые, как нарочно, «сами собою» открылись в календаре, так что не было выбора, как только лишь повторить Акакия по отцу, переписать еще раз это имя, и получился Акакий Акакиевич, предопределенный тем самым всю жизнь переписывать. В департаменте и полагали, что он родился на свет совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове.
Положение Башмачкина в жизни заключается в том, что он только, переписывает, не заявляя о себе никаким самостоятельным делом или намерением. У него и слова нет, чтобы так заявить о себе: он высказывается обычно предлогами и частицами, не имеющими решительно никакого значения. И рассказ про Башмачкина особенным образом соответствует его бессловесности и безответственности, всему бесчеловечию его жизненной ситуации. Как звук его имени, по уверению автора, получившегося само собой и «совершенно по необходимости», а на самом деле именно выисканного* то есть подчеркнуто специально придуманного автором, уже несет в. себе отношение к этому человеку, так очень много уже говорит о нем самый слог его первой характеристики: «в одном департаменте служил чиновник, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат...» Сам способ выражения, не правда ли, самый рассказ здесь не менее содержателен, чем то, о чем он нам сообщает?
Этот гоголевский рассказ действительно кажется «выисканным»: «И только разве если неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на середине улицы». Зачем так непросто надо сказать о самом простом? Но «целый ветер» из лошадиной морды дает почувствовать тот масштаб, в каком соотносится с окружающим пространством маленький человек. «Целый ветер» из лошадиной морды, — можно сказать, что он здесь исходит прямо из гоголевской речи, из способа выражения, и переходит тонко в действительный петербургский ветер, которого много на страницах «Шинели». Он даже надувает его фабулу: злой петербургский ветер «пропекает» героя и вынуждает таким образом все предприятие с шинелью. И развязку тоже преподносит ветер, довершив генеральское распеканье: «...ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех четырех сторон, из всех переулков» (курсив мой. — С. Б.). Фантастический этот ветер сдувает Акакия Акакиевича со света (как будто его и не было), являясь, как бы метафорой его полностью незащищенного положения в гоголевском пространстве. Так ситуация повести непосредственна выступает в слоге повествовательной речи.
Гоголевская речь в «Шинели» особенно «полная» (если вспомнить слова Пушкина о «Невском проспекте»). Рассказ о бедном герое исполнен комизма и даже, пожалуй, к нему жесток: этим способом сам рассказ принимает в себя и выражает собой бессердечное отношение мира к герою. Но в смешное повествование вторгается могучая волна, сочувствия и лирического пафоса. И в этом «гуманном месте» (как оно было названо в критике) мы вдруг слышим голос Акакия Акакиевича, произносящего внятно, без междометий: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» На фоне его абсолютного косноязычия в жизни это звучит так чисто, и так пронзительно ясно. И у нас является чувство, что мы слышим неслышный внутренний голос героя, с которым автор соединяет свою проповедь сострадания и братства.
Кажется, странно и говорить о внутреннем голосе у такого ничтожного существа. Но заметим, вчитываясь внимательней в повесть: Акакий Акакиевич не только не лишен внутреннего мира, но даже только в нем и живет. И в разговоре он не оканчивал фразы, начавши: «Это, право, совершенно того...» — а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, «думая, что все уже выговорил. Что-то, значит, есть у него сказать, что, однако, останется навсегда никому не известно. В повести то и дело мелькает намек на этот безвестный внутренний мир. Например, почему усмехнулся Акакий Акакиевич, рассматривая игривую картину в витрине? Рассказчик пытается (будто бы) угадать и отказывается. Гоголь дает нам почувствовать, что в этой словно и не существующей жизни есть таинственная глубина, совершенно непроницаемая для обступившего внешнего мира. Они абсолютно Друг другу чужды и закрыты наглухо друг от друга: петербургский внешний мир и неизвестный внутренний мир Акакия Акакиевича Башмачкина.
Внешний мир унижает, его всеми способами, облепляя «со всех четырех сторон» всяким вещественным «вздором»: здесь и «сенца кусочек» на его вицмундире «какого-то рыжевато-мучного цвета», и всякая дрянь из окна, под которое он всегда поспевает. Но вот является в его жизнь особая, «идеальная вещь», отделяющаяся от всего остального, угнетающего его вещного мира, — шинель. Посмотрим, какими титулами ее награждает повествователь. Шинель — это «вечная идея», «подруга жизни» и «светлый гость», вещь философская, и любовная, заместительница всего интеллектуального и эмоционального мира, представительница молчаливого внутреннего мира Акакия Акакиевича: «...И подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу». Так в этой особой вещи сталкиваются «два мира». Вот почему утрата ее равносильна утрате всей жизни: «рыцарь бедный» своей шинели погибает так, как романтический идеальный герой, потерявший свою возлюбленную или свою мечту. Как сказал Достоевский в одной из своих статей, Гоголь был «колоссальный демон», который «из пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужаснейшую трагедию».
В «Испанцах», юношеской трагедии Лермонтова, романтический герой воскликнул: «Весь мир против меня: как я велик!» У Гоголя повесть построена так, что незаметная жизнь Башмачкина оказывается лицом к лицу со всем его окружающим миром и даже всемирной историей. В надгробном авторском слове Акакию Акакиевичу совмещаются измерения и масштабы — самый мелкий и самый крупный: он Даже не обратил на себя внимания естествоиспытателя, рассмотревшего в микроскоп и обыкновенную муху, «но на него же обрушилось так же нестерпимо несчастие, «как обрушивалось на, царей и повелителей мира...» Так оказывается велик в масштабах гоголевского гуманизма самый последний из малых людей.
Вот отчего рассказ про Акакия Акакиевича не кончается со смертью его, «и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание». Забитый чиновник является призраком-мстителем. В гоголевской критике можно прочитать об этом, что погибший Акакий Акакиевич тревожит совесть значительного лица и в его воображении является призраком. Однако таким объяснением с точки зрения правдоподобия нарушается логика гоголевского мира — так же, как она была бы нарушена, когда бы действие «Носа» объяснялось как сон Ковалева. Значительное лицо в самом деле теряет шинель с плеча, и Акакий Акакиевич шумно живет за гробом — как бы в награду за его никем не примеченную жизнь, объясняет автор. «Бедная» история обращается Гоголем в фантастическую действительность. Фантастически осуществляется потенциальная реальность, в которой «первые» становятся «последними», а «последние» — «первыми». Замечательно, как в привидении соединились «действительный» и «возможный» Акакий Акакиевич: привидение выговаривает свое требование внятно и резко, однако все-таки с прибавлением «того».
«Шинель» оказала огромное воздействие на нашу литературу. Современники и следующие - поколения писателей и читателей — русских, а позднее и зарубежных (из произведений Гоголя «Шинель» получила, вероятно, наибольшую международную известность и сейчас оказывает наиболее сильное влияние на зарубежное искусство) — поняли значение этой повести очень широко. Ее воздействие определило самый гуманизм русской литературы. Сделалась знаменитой фраза: «Все мы вышли из гоголевской «Шинели». Говорил ли действительно эти слова Достоевскйй, которому их приписала традиция, мы достоверно не знаем. Но кто бы их ни сказал, не случайно эти слова стали «крылатыми»; очень многое и важное в нашей литературе «вышло» из гоголевской «Шинели», из петербургских повестей Гоголя.
|