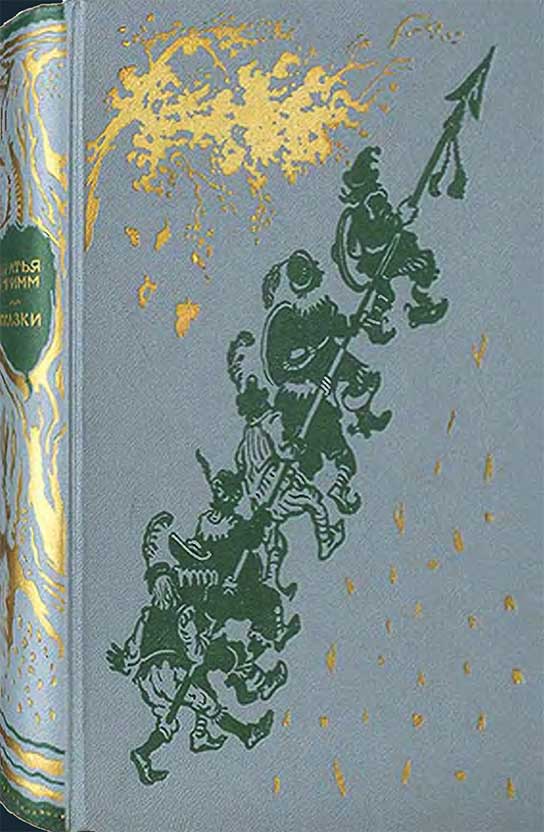Сохранить как TXT:
grimm-skazki-1949.txt
Сделала и прислала Светлана Сибирцева.
_________________
СОДЕРЖАНИЕ
Номера сказок в содержании и в закладках книги соответствуют номерам международной классификации сказок братьев Гримм. Несколько сказок, добавленных после издания классификатора, обозначены буквой a, поэтому после номера 2 указано «191а», а не 3.
1. Король-лягушонок, или Железный Гейнрих 3
2. Кошка и мышка вдвоем 7
191а. Разбойник и его сыновья 9
4. Сказка о том, кто ходил страху учиться 14
5. Волк и семеро козлят 23
6. Верный Иоганнес 27
7. Удачная торговля 36
8. Чудаковатый музыкант 41
9. Двенадцать братьев 44
10. Всякий сброд 50
11. Братец и сестрица 52
12. Рапунцель 58
13. Три маленьких лесовика 62
14. Три пряхи 68
15. Гензель и Гретель 71
16. Три змеиных листочка 80
17. Белая змея 83
18. Соломинка, уголек и боб 86
19. Сказка о рыбаке и его жене 87
20. Храбрый портняжка 95
21. Золушка 102
22. Загадка 109
23. О мышке, птичке и колбаске 112
24. Госпожа Метелица 113
25. Семь воронов 118
26. Красная Шапочка 120
27. Бременские уличные музыканты 126
28. Поющая косточка 131
29. Чорт с тремя золотыми волосами 132
30. Вошка и блошка 138
31. Девушка-безручка 140
32. Смыш ленный Ганс 145
33. Три языка 150
34. Умная Эльза 152
35. Портной на небе 155
36. Столик-накройся, золотой осел и дубинка из мешка 157
37. Мальчик-с-пальчик 165
38. Свадьба госпожи Лисы 174
39. Домовые 176
40. Разбойник-жених 179
41. Господин Корбес 182
42. Кум
43. Фрау Труда 185
44. Смерть в кумовьях 186
45. Странствия Мальчика-с-пальчик 189
46. Чудо-птица 194
47. Сказка про можжевельник 198
48. Старый Султан 208
49. Шесть лебедей 210
50. Шиповничек 214
51. Птица-Найденыш 219
52. Король-Дроздовик 223
53. Снегурочка 228
54. Ранец, шапочка и рожок 238
55. Румпелыптильцхен 243
56. Милый Роланд 246
57. Золотая птица 249
58. Собака и воробей 256
59. Фридер и Катерлизхен 260
60. Два брата 268
61. Мужичок 287
62. Пчелиная матка 292
63. Три перышка 293
64. Золотой гусь 296
65. Девушка-Дикарка 300
66. Заячья невеста 304
67. Двенадцать охотников 306
68. Вор и его учитель 308
69. Йоринда и Йорингель ЗЮ
70. Три счастливца 314
71. Шестеро весь свет обойдут 316
72. Волк и человек 321
73. Волк и лиса 322
74. Лиса и кума 324
75. Лиса и кот —
76. Гвоздика 325
77. Умная Гретель 329
78. Старый дед и внучек 331
79. Ундина 332
80. Про смерть курочки 334
81. Брат-Весельчак 336
82. Ганс ль-Игрок 345
83. Ганс в счастьи 347
84. Ганс женится 353
85. Золотые дети 354
86. Лиса и гуси 359
87. Бедняк и богач 360
88. Певчий попрыгун-жаворонок 363
89. Гусятница 368
90. Юный великан 375
91. Подземный человечек 382
92. Король с Золотой горы 385
93. Ворона 391
94. Умная дочь крестьянская 395
95. Старый Гильдебранд 400
96. Три птички 403
97. Живая вода 407
98. Доктор Всезнайка 411
99. Дух в бутылке 415
100. Портов чумазый брат 419
101. Медвежатник 421
102. Королек и медведь 426
103. Сладкая каша 430
104. Умные люди —
105. Сказки про жерлянку 435
106. Бедный работник с мельницы и кошечка 436
107. Два странника 441
108. Ганс мой Еж 450
110. Монах в терновнике 454
111. Ученый охотник 459
112. Цеп с неба 464
113. Королевские дети 465
114. Про умного портняжку 472
115. Солнце ясное всю правду откроет 476
116. Синяя свечка 477
118. Три фельдшера 481
119. Семеро швабов 484
120. Трое подмастерьев 486
121. Королевич, который ничего не боялся 489
122. Салатный осел 493
123. Лесная старуха 499
124. Три брата 501
125. Чорт и его бабушка 503
126. Ференанд Верный и Ференанд Неверный 506
127. Железная печь 510
128. Ленивая пряха 515
129. Четверо искусных братьев 517
130. Одноглазка, Двуглазка и Трехглазка 521
131. Красавица Катринелье и Пиф Паф Польтри 528
132. Лиса и лошадь 529
133. Стоптанные туфельки 531
134. Шестеро слуг 534
135. Белая и черная невеста 540
136. Железный Ганс 545
137. Три черные принцессы 552
138. Кнойст и трое его сыновей 554
139. Девушка из Бракеля —
140. Домашняя челядь 555
141. Ягненок и рыбка 556
142. Зимели-гора 557
143. Как по белу свету скитаться 559
144. Ослик 560
145. Неблагодарный сын 563
146. Репа 564
147. Кованный заново человек 566
148. Звери господни и чортовы звери 567
149. Петушиное бревно 568
150. Старая нищенка 569
151. Три лентяя 570
151а. Двенадцать ленивых работников 571
152. Пастушок 573
153. Звездные талеры 574
155. Смотрины 575
156. Очески —
158. О блаженной стране небывалой 576
159. Сказка-небылица 577
160. Сказка-загадка —
161. Белоснежка и Алоцветик 578
162. Умный работник 584
163. Стеклянный гроб 585
164. Ленивый Гейнц 590
165. Гриф-птица 592
166. Могучий Ганс 598
167. Мужичок на небе 603
168. Тощая Лиза 604
169. Лесная избушка 605
170. Любовь и горе поровну 609
171. Королек 610
172. Камбала-рыба 613
173. Выпь и удод 614
174. Сова —
175. Луна 616
176. Срок жизни 618
177. Посланцы смерти 619
178. Мастер Пфрим 621
179. Гусятница у колодца 624
181. Русалка в пруде 632
182. Дары маленького народца 637
183. Великан и портной 639
184. Гвоздь 641
185. Бедный пастух в могиле —
186. Настоящая невеста 644
187. Заяц и еж 650
188. Веретенце, челнок и иголка 653
189. Мужичок и чорт 655
190. Хлебные крошки на столе 656
191. Морская рыбка 657
192. Ловкий вор 659
193. Барабанщик 666
195. Могильный холм 674
196. Старый Ринкранк 678
197. Хрустальный шар 680
198. Дева Малейн 682
199. Сапог из буйволовой кожи 687
200. Золотой ключик 691
194а. Верные звери —
Сказки братьев Гримм. В. Неустроев 695
В. Неустроев
СКАЗКИ БРАТЬЕВ ГРИММ
Первый сборник немецких народных сказок, изданный братьями Гримм в 1812 году, не был «новинкой» среди изданий европейского и, в частности, немецкого сказочного фольклора. Традиция в области собирания, переработки и издания памятников народного творчества имела в Германии широкое распространение и в предшествующую эпоху Просвещения, не говоря уже об использовании сказочно-повествовательного материала в художественной прозе и поэзии эпохи средневековья и Реформации. Однако наряду с увлечением народными сказками и стремлением сохранить их национальные особенности и социальные мотивы было немало случаев искажения фольклора в дворянской и буржуазной среде, «переработки» и использования его даже в церковных проповедях.
Ко второй половине XVIII века уже твердо установилось суждение о народной сказке только как о развлекательном жанре. В литературных обработках для аристократических салонов из сказки изгонялись реализм и социальная сатира. Галантная аристократическая сказка имела иное назначение: в твердо установившейся схеме «волшебных» или «фейных» сказок нарочито не было места реальной действительности; при помощи чудесных превращений создавался иллюзорный сказочный мир фей, даже особое «сказочное государство» со своими королями и принцами. В подражание «модным» и, конечно, не связанным по существу с народной традицией сказкам французских писателей и в Германии появляется большое количество нередко анонимных «фейных сказок для детей», печатавшихся, в частности, в многотомных изданиях аристократической «Голубой библиотеки всех наций».
Рассчитанная на вытеснение народной сказки, эта тенденция не была остановлена и появлением переводов народных восточных сказок. Немецкое издание арабских сказок 1001 ночи, осуществленное в 1730 году по примеру известного французского (в переводе Галлана) издания, серьезной роли в этом отношении не сыграло. Литераторы увлеклись яркостью красок восточных сказок, их экзотикой: стали появляться «ориентальные» приключенческие романы, рассказы о чудесных «странах утренних зорь» и т. п.
Пренебрежительное отношение к народным сказкам как к жанру «низшему», наподобие «площадной» литературы бурлеска и ярмарочного театра, продолжало иметь место, несмотря на усиливавшуюся борьбу ряда немецких просветителей, и прежде всего Лессинга, за демократизацию литературы и искусства. В политически отсталой и раздробленной феодальной Германии издатели «Всеобщей немецкой библиотеки» отваживались рекомендовать лишь обработанные «нянины сказки», и то только «для простого народа и детей», а сравнительно популярный «Народный календарь» уже более откровенно предостерегал своих читателей от увлечения политическими идеями и сатирой народных сказок, рекомендуя смотреть на них только как на развлекательные прибаутки, способные удовлетворить лишь «непритязательные» вкусы крестьян и солдат.
Таким образом, значение изданных текстов «Детских и домашних сказок» братьев Гримм состояло в их народности, в том, что они в основной своей массе — по словам молодого Энгельса — были «воплощением чувств», «творениями народной фантазии». «Только с тех пор, как я познакомился с северно-немецкой степью, — писал в 1840 году Энгельс,— я по-настоящему понял «Детские сказки» Гриммов. Почти на всех этих сказках заметен отпечаток того, что они зародились здесь, где с наступлением ночи исчезает человеческая жизнь, и жуткие бесформенные творения народной фантазии проносятся над местностью, пустынность которой пугает даже в яркий полдень. Они — воплощение чувств, которые охватывают одинокого жителя степи, когда он в подобную бурную ночь шагает по земле своей родины или же с высокой башни созерцает пустынную гладь ее. Тогда перед ним снова встают впечатления, сохранившиеся с детства от бурных ночей степи и принимают форму этих сказок. На Рейне или в Швабии вы не подслушаете тайны возникновения народных сказок, между тем как здесь каждая молнийная ночь... твердит об этом языками громов».
Среди фольклорных изданий, осуществленных немецкими романтиками, «Сказки» братьев Гримм заняли особое место. В них в большей степени, чем в сборнике народных немецких песен «Чудесный рог мальчика» (1805), составленном писателями Арнимом и Брентано, в «Старинных немецких народных книгах» (1807) Герреса, а также в сборниках литературных сказок Музеуса, Гауфа и др., сказались, по определению Энгельса, «достаточная критическая проницательность и вкус при выборе и умение пользоваться старинной речью»2. Поэтому именно братьев Гримм Энгельс считал способными заняться «разумной переработкой» народных книг; Но дальнейшая деятельность Гриммов пошла по другому пути.
Выступая против субъективного и эстетского подхода немецких реакционных романтиков к народным книгам, Энгельс боролся не только против искажения фольклора, но и против его канонизации в наиболее архаических формах. «…мы, — писал он, — кроме того, вправе требовать, чтобы народная книга отвечала своему времени, иначе она перестанет быть народной книгой. В частности, если обратить внимание на наше время, на характеризующую его борьбу за свободу, на развивающийся конституционализм, на сопротивление гнету аристократии, на борьбу мысли с пиетизмом, ясности духа с остатками угрюмого аскетизма, то я не вижу, почему мы не вправе были бы требовать от народной книги, чтобы она в этом отношении оказывала содействие малообразованным кругам, показывала им... истинность и разумность этих стремлений, — но ни в коем случае не потворствовала бы лицемерию, подхалимничаныо перед знатью, пиетизму. Само собою разумеется, однако, что народной книге должны остаться чужды обычаи прежних времен, являющиеся в нашу эпоху бессмыслицей или несправедливостью».
Отвечают ли этому требованию гриммовские сказки? В полной мере, конечно, нет. В отличие от реакционных романтиков, обрабатывавших фольклор нарочито в определенных политических целях, Гриммы-сказочники стремились сохранить сказочные сюжеты в их «первоначальных», наиболее древних формах и вариантах. На языке Гриммов, в ту пору буржуазных либералов, это называлось «возвращением» текстам сказок «утраченной» ими народности. Но не трудно убедиться в ошибочности и ограниченности их фольклористических приемов. С одной стороны, в своем рвении дать «нетронутыми» именно наиболее древние сказки, возродить примитивные формы мышления и языка, народные суеверия и т. п. они не заметили, а позднее и сознательно не хотели замечать того, что описываемые в некоторых сказках чуждые современности обычаи прежних времен, религиозные верования, жестокость средневекового варварства были действительно, как их определял Энгельс, «бессмыслицей или несправедливостью».
С другой стороны, дело было не только в отборе сказочного материала. В противовес реакционно-аристократическим и эстетским принципам в области фольклористики было необходимо раскрыть подлинную социально-политическую функцию народной сказки, ее роль в конкретно исторических национальных условиях. Понятно, что сказочный материал часто сам говорил за себя, — сквозь загадочные древние письмена и фантастику настоятельно пробивала себе дорогу едкая сатира на богачей и попов, правда о тяжелой доле бедняка, реальная мечта народа о счастьи, — то, что В. И. Ленин определил в сказке как выражение «чаяний и ожиданий народных». Однако этот ценный материал в гриммовских сборниках часто буквально утопал в потоке словесной архаической шелухи, и вина в этом случае падала прежде всего на собирателей с их объективистским методом. К тому же позднее осуществлявшаяся ими «стилистическая обработка» ряда сказок фактически не была только делом техники, — в обработанных сказках нередко романтически идеализировалось «доброе, старое время» и сглаживались классовые противоречия, что вводило рассказ в схему сказок «со счастливым концом».
И тем не менее свою (хотя и ограниченную) роль в борьбе с салонной аристократической сказкой, в отстаивании фольклора «Сказки» братьев Гримм несомненно сыграли. Естественна также популярность и жизненность большинства из них. Маркс при определении места, занимаемого братьями Гримм в истории немецкого романтизма, именно благодаря наличию этих народных «Сказок» в их творческом активе, счел возможным сделать в отношении их существенную оговорку. «Первая реакция против французской революции и связанного с нею просветительства была естественна, — писал Маркс, — все получало средневековую окраску, все представлялось в романтическом виде, и даже такие люди, как Гримм, не свободны от этого».
Как ни разнообразно богатство национальных сказочных сюжетов, народные сказки и в бытовом повествовании и в волшебном обрамлении несли в себе в конечном счете нередко сходные социальные функции. Еще в статье о немецких народных книгах Энгельс весьма определенно сформулировал общие задачи народных книг: они должны не только «развлечь крестьянина», выразить в фантастических образах его мечту о счастливой жизни и справедливости, но и более конкретно «прояснить его нравственное чувство, заставить его осознать свою силу, свое право, свою свободу, пробудить его мужество, его любовь к отечеству».
Несмотря на свою нарочитую охоту за древностями, братья Гримм рассматривали издание народных сказок именно в 1812 году — то есть в год разгрома армии Наполеона в России — как актуальный политический факт для Германии. Однако по существу из круга романтических увлечений древностью гриммовское издание все же не вышло. Малейшее проявление просветительского демократизма во взгляде на народную сказку резко порицалось реакционными романтиками. Даже классицист Готтшед в ряде его суждений о сказке казался романтиком слишком радикальным, так как, указывая на сходство «волшебной сказки» с «Дон-Кихотом» Сервантеса, он отмечал их особенность — подчеркнутый показ разрыва между мечтой и мрачной прозой жизни; причем народная сказка выигрывала в социальном оптимизме, ибо она подсказывала читателю мечту о возможности претворить в жизнь думы и чаяния народа о социальной справедливости.
Правда, и сами романтики говорили о разрыве между мечтой и действительностью, но переносили осуществление своих мечтаний в область «потустороннего мира», снимая тем самым вопрос о необходимости борьбы народных масс за свои насущные интересы. В связи с этим один из ведущих представителей немецкой романтической реакции, Новалис, сформули ровал абстрактную идею о «мировой мечте» в сказке таким образом: «...все сказки выражают мечту о некоем мире, существующем повсюду и нигде».
Лишая сказочную фантастику и мечту социальной направленности, романтики именно в таком плане широко использовали сюжеты волшебных сказок в своем творчестве. При этом они охотно признавали другое, противоречившее прежнему утверждению Готтшеда о «движущих началах» сказки. Таковыми являлись, по мнению Готтшеда и романтиков, «наивность» и «глупость», которые не только определяли характер сказочной фантастики, но открывали также возможности для объяснения сверхъестественных волшебных превращений. В подобном «безобидном» аспекте стремились позднее толковать сказку и братья Гримм.
Говоря о фольклоре эпохи крестьянских войн, Энгельс подчеркивал его действенный характер в определенных социально-исторических условиях. «Марсельезой» крестьянской войны, — писал Энгельс, — был гимн: «Господь — наша крепость». И хотя текст и мелодия этой песни проникнуты уверенностью в победе, тем не менее в настоящее время ее нельзя и не следует воспринимать в этом смысле». В этих словах Энгельса — призыв увидеть в фольклоре действительное его содержание во всей его сложности, с достоинствами и недостатками.
Наряду с этим существенным является еще одно обстоятельство. В той же работе Энгельс указал на наличие в народном творчестве и чуждых ему классовых влияний: «Уже в то время ландскнехт занял значительное место в нашей народной поэзии... Вообще говоря, поэзия прошлых революций, за исключением «Марсельезы», редко производит революционное впечатление в позднейшие времена, так как, для того чтобы воздействовать на массы, она должна отражать и предрассудки масс того времени. Отсюда — религиозная чепуха даже у чартистов».
Поэтому ссылки романтиков на подлинность древних фольклорных текстов, на точность воспроизведения ими мельчайших деталей не могут служить «доказательством» в поддержке их реакционных воззрений при помощи фольклорных материалов. Наоборот, в порядок дня должна была войти работа по очищению фольклора и, в частности, народной сказки от вредных инородных элементов. Такую работу по очищению народной сказки от чуждых ей налетов и возвышению национального сказочного фольклора впервые последовательно провел в России великий русский писатель А. С. Пушкин. Именно под пером Пушкина народная сказка, по словам В. Г. Белинского, становилась живым памятником современности. Умение Пушкина с предельным реализмом вскрыть и показать демократизм народной сказки, отражение в ней подлинных народных идей и чаяний было в последующем подхвачено и развито в новых условиях прежде всего М. Е. Салтыковым-Щедриным и А. М. Горьким, литературные сказки которых, как известно, весьма высоко ценились В. И. Лениным.
Эта передовая традиция русской литературы помогла не только разоблачить субъективно-эстетский подход консервативных романтиков в их суждениях о народной сказке, но и обнаружила в отношении к фольклору действительно «достаточную критическую проницательность и вкус», о которых мечтал Энгельс, не доверявший романтикам. «…что значит авторитет Тика, Герреса и всех прочих романтиков, — взволнованно писал он, — когда разум говорит против него и когда дело идет о немецком народе».
Деятельность братьев Вильгельма (1787—1859) и Якова (1785—1863) Гримм не ограничивалась собиранием народных сказок, саг и легенд. Сложившаяся у них уже к 30-м годам система мифологических взглядов свидетельствовала об эволюции братьев Гримм в сторону политической реакции, национализма и мистики. Глава «мифологической школы», Яков Гримм стремился почти все вопросы происхождения и истории языка, фольклора, литературы, права и т. д. свести к древнегерманским мифам. Я. Гримм считал, что мифологические схемы покрывали собою все объекты общественной и личной жизни древнего человека и исключали, таким образом, из рассмотрения не только вопросы социального и исторического порядка, но и необходимое материалистическое «объяснение явлений природы».
На позднем этапе общественно-литературная деятельность Гриммов носила противоречивый характер. В конце 30-х гг. братья Гримм в числе других профессоров были отрешены от исполнения своих служебных обязанностей. Причиной этого было их выступление против самоуправства ганноверского короля, отменившего конституцию. В пору опалы Гриммы занялись составлением «Немецкого словаря», создание которого (как отмечал Я. Гримм в предисловии к «Словарю» в 1854 г.) ученые считали своим патриотическим долгом, справедливо полагая, что издание словаря будет способствовать национальному объединению страны. Мечтали они и о развитии культурных связей Германии с другими странами. В «Комментариях» к сказкам В. Гримм в 1856 г. дал не только многочисленные варианты сюжетов собственно германских сказок, но провел параллели «сказочных мотивов» немецких сказок со сказками романскими, славянскими, индийскими и персидскими. Вместе с тем мифологизм и компаративизм часто лишали сказку (в представлениях Гриммов) социальной и национальной основы. Концепция «мировой сказки» и «бродячих сюжетов» по существу приходила в противоречие с конкретным материалом собранных сказок.
Реакционную методологию Гриммов, получившую у них развитие в 30-е и последующие годы XIX века, нельзя, естественно, в полной мере распространять на собранные к изданные ими ранее народные сказки.
Конечно, в гриммовских сказочных сборниках не все было равноценно. В ряде сказок, как было отмечено выше, на первом плане фигурировали религиозные «откровения» и мещанская мораль смирения перед «нерушимыми обстоятельствами». Показательными в этом отношении были суждения издателей гриммовских сказок об их принципах отбора сказочного материала для изданий. После осуществленных самими Гриммами полных «канонических» изданий собранных ими сказок, а также саг и легенд, издатели, как правило, не стремились давать полных собраний сказок.
В настоящее время, в условиях Германской Демократической Республики, произведения национального фольклора, в том числе и сказки братьев Гримм, идут к массовому читателю без ограничений. В деле популяризации социальных сказок братьев Гримм много сделано советскими издательствами.
В настоящее издание, представляющее достаточно полно разнообразный мир сказок братьев Гримм, не включены, естественно, легенды и сказки, олицетворяющие своим религиозным содержанием «бессмыслицу или несправедливость» (Энгельс) отжившей средневековой морали и верований.
Но что представляют собою сказки, собранные братьями Гримм? Двести номеров основного издания гриммовских сказок (без литерных номеров и множества вариантов) обнимают обширный сказочный материал как в идейном, так и в сюжетно-тематическом планах. Принятое до сих пор в сказочных указателях1 деление сказочных сюжетов на группы, конечно, не исчерпывает всего богатства сказочного материала даже таких сборников, как гриммовские, не говоря уже о более фундаментальных собраниях национальных сказок, как, например, русских сказок А. Н. Афанасьева и многих других. Деления указателей не показывают идейного состава национальных сказок, эволюции их социальных мотивов. Поэтому деление сказок на «животные», «волшебные» и реалистические новеллы и анекдоты могут быть приняты крайне условно, так как для всякого ясны их близкие связи между собою, переплетение в них мотивов и т. д.
1 Н. П. Андреев. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне, Л., 1929.
Необходимость утверждения социальных басенных аллегорий, условного «эзопова языка» в «животных сказках» отстаивал и Я. Гримм. Однако трактовал он эти вопросы националистически, в духе своих поздних реакционных воззрений. В работе 1834 года о Рейнеке-Лисе, он, вопреки фактам, «доказывал», что сказание это сохранялось и развивалось только среди германских племен и является «чисто немецкой животной сагой». По его утверждению, в «животной сказке» на немецкой почве лев, как чуждый немецкому эпосу, заменяется медведем (или волком, в сюжетах об Изегриме), которому и приписывается царская власть в лесу: он царь зверей, под эгидой правления которого развертывается идиллическая картина «звериной жизни», а также своеобразная твердая иерархия в системе отношений между животными.
Однако собранный самими же Гриммами сказочный материал, в частности в области так называемой «животной сказки», резко противоречит тем выводам, которые позднее односторонне утверждались ими. Тематика сказок о животных крайне разнообразна. Почти в каждой сказке есть свой «всесильный» зверь. Очень часто это — умная лиса, помогающая юноше преодолеть в борьбе с волшебными силами все препятствия и опасности. В сказке «Три счастливца» (№ 70) каждый из трех сыновей получает от старого умирающего отца свое наследство — петуха, косу и кошку. Казалось бы, наименее полезной в хозяйстве из всего оставленного наследства была кошка. Но в выигрыше оказывается «младший брат» — обладатель именно кошки. Благодаря умению ловить мышей кошка становится «всесильной» во всем королевстве. Медведь или волк (№ 73, 74 и др.), несмотря на их силу, оказываются обманутыми лисой или другими более слабыми, но умными или хитрыми животными.
Появляются в немецком сказочном материале и «запретные» львы. В сказке «Два брата» (№ 60) после зайца, лисы и медведя на вершине «лесной иерархии» появляется лев>, вид которого должен был бы приводить всех в трепет. Однако не всегда так бывает, так как вопрос о господстве в лесном царстве сказки неоднократно и весьма последовательно решают в пользу человека. В названной выше сказке «всесильный» лев просит охотников его не убивать, в другой (№ 72) волк говорит, что он «не представлял себе, чтобы человек был так силен».
Это принципиальное суждение о подчинении всей жизни на земле всесильному человеческому разуму чрезвычайно показательно и важно. Оно свидетельствует не только о том, что животные в своих «действиях» в сказке руководятся идеей полезности человеку, но и что проявлению «самостоятельных» зверских инстинктов здесь нет места. Цикл «бестиарных» («животных») сказок, таким образом, получает свое назначение в общей системе. «Животные сказки» всем своим содержанием входят в состав басенной традиции. Жизнь и «поступки» животных в аллегорической форме воспроизводят отношения в человеческом обществе. И здесь часто большую роль играли не только соображения о занимательности сюжета с персонажами из мира животных, с их интересами и повадками, но главная причина обращения сказочников к «животным сказкам» лежала в плоскости социальной. В такой сказке представлялось возможным в ряде отрицательных свойств и повадок животных изобличить общественные пороки и «повадки» представителей ненавистной народу крепостнической системы. В гриммовских сказках эта обличительная социальная сатира в «животном цикле» представлена, правда, несколько ограниченно, но и в них ясно вырисовываются определенные, хотя и двойственные тенденции.
В одних случаях социальная сатира достигает больших высот. Лев, как и «всякий король», характеризуется прежде всего охотником до хмельного (№ 60), хотя виночерпий резонно замечает, что «такое глупое животное» не может ничего понимать и в вине. Злодея, превращенного в собаку, сказка (№ 76) заставляет терпеть справедливые наказания. В час возмездия «госпоже лисе» не помогает и ее «мешок хитростей» (№ 75). Только в трусливом заячьем обществе приобретают значение ворона-поп и лиса-причетник (№ 66). Достается в «животной сказке» и представителям прусской военщины, «потерявшим человеческий облик» (№ 101). В сказке говорится о «бритом медведе, который выдавал себя за человека» и носил «гусарскую шинель и белые перчатки». В сказке «Королек и медведь» (№ 102) народная мудрость учит, что в военном сражении спесь и чванство не дают победы. Назначенная генералом лиса проигривает сражение именно в силу высокомерного отношения к противнику и игнорирования его возможностей. Такое же социальное значение имеют и популярные сказки о волке и козлятах, о лисе, воровавшей рыбу с воза, о волке в «Красной Шапочке» и др.
В других случаях «животные сказки» повествуют о «безобидных историях»: об обмане, например, мышки прожорливой кошкой (№ 2), волчихи — ее кумой лисой (№ 74) и т. д. Однако сквозь этот внешне «безобидный» тон рассказов о жизни животных и птиц нередко проступает тенденция утверждения существующего общественного порядка, мысль о том, что бороться с ними не следует, так как зло отпадет само собой. В этих случаях несомненно наличие в сказках того чуждого идеологического налета, о котором, применительно к песням эпохи крестьянских войн, говорил Энгельс. В сказке «Господин Корбес» (№ 41) странствующие петушок с курочкой, мышка, утка и другие оказываются мстителями злому господину Корбесу. Мысль сама по себе резонная и весьма положительная, свидетельствующая об определенной народной основе сказки. Но в повествовании большое место отводится случайностям, месть путешественников не объяснена логикой предшествующих событий и порою (за исключением концовки) кажется невинной забавой расшалившихся зверушек.
Но существенное значение В1 этой группе приобрела именно вторая тенденция, проповедующая идеи смирения и покаяния. Вот, например, сказка о старой и много послужившей своему хозяину собаке (№ 48). Бессердечный хозяин решает, что Султан «службу свою теперь отслужил и может убираться». В трудный момент «добрым товарищем» и советчиком пса является волк. Его совет создать у хозяина мнение, будто Султан еще может быть ему полезен, представляется «единственным» и «универсальным»: после инсценированного нападения волка хозяин оставляет у себя «отличившегося» Султана, а тот на радостях перебарщивает в своей верности хозяину и платит позже черной неблагодарностью другу.
Как видно, «животная сказка» отнюдь не была «неподвижной» и «устойчивой», как считал Я. Гримм, утверждавший, что в течение самых грандиозных переворотов в народной жизни она служила целям «невинного развлечения». Наоборот, в сказках о животных типичность образов по-разному формировалась в различных конкретных исторических условиях. Сказка не двусмысленно издевается над ослом — королевским наследником (№ 144), сатирически изобличает чванливую и завистливую камбалу-рыбу, стремившуюся стать королем в царстве рыб (№ 172).
Разнообразна «животная сказка» и в стилевом отношении. Часто собственно волшебно-фантастические мотивы и приемы описания непосредственно переключаются в ней в план социально-реалистический. Использование в повествовании разговорной речи, присущее сказке вообще, — в сказках о животных получает широкое распространение. Это понятно и вполне оправдано. Предоставляя «слово» непосредственно каждому из животных — лисе, волку, льву, лошади и др., сказка стремится сохранить и в их речи те характерные особенности, которые свойственны их повадкам и привычкам. Эти качества животных сказка распространяет и на людей, в результате волшебных превращений принимающих облик птиц и животных. Таковы многочисленные сказки о братьях-лебедях, о «превращенном женихе»: короле-лягушонке, короле-дроздовике, принце-льве и др.
Большинство гриммовских сказок строится на волшебно-фантастических приключениях и превращениях. Однако фантастика и в них очень часто носит ярко выраженный социальный и местный этнографический характер. Одни сказки — это страшные повести о жестокостях и кровавых злодеяниях эпохи раннего феодального средневековья, рассказы о злых ведьмах и чертях, образы которых жили в поверьях и легендарных преданиях. Другие сказки не уступали в мрачности колорита по иным причинам. В сказках Падерборнской степи, из Гессена, Померании и ряда других областей сказываются характерные особенности природных условий, быта и нравов людей, каждодневно борющихся со стихиями природы. Упоминание Энгельса о «молнийных ночах», о которых сказки говорят «языками громов», раскрывает действительные условия жизни людей и «тайны возникновения народных сказок».
Так называемые «волшебные сказки» составляют основной материал гриммовских сборников. Как в идейной проблематике, так и в сюжетном строении они чрезвычайно разнообразны. Созданные в разное время, волшебные сказки отражали различные фазы и состояния народных воззрений. В одних случаях сказка предписывала герою при помощи собственной ловкости и силы или при посредстве «чудесного помощника» («таинственного незнакомца») преодолеть все препятствия, стоящие на его пути. В других — и это относится к сказкам, примыкающим к христианским легендам, — наоборот, сила и воля героя обескрыливались поучением о смирении и покаянии. В первом случае считалось за обязательную норму для героя проникнуть в тайны бытия, познать действительный смысл происходящих вокруг него событий, несмотря на их внешне кажущуюся таинственность; во втором явно проступала идея о необходимости пресечь все пути для пытливого ума, о необходимости сохранить без изменений «на вечные времена» установленный существующий порядок.
Сказка «Чудо-птица» (№ 46) внешне входит в традицию сказок «о запрете»: девушка, попавшая в лесной дом колдуна, не должна открывать запретной двери в кровавую комнату. Однако по обнаружении героиней «тайны» сказка немедленно переключается в бытовой план, завершающийся в конце повествования трагикомическим эпизодом. Таким образом, гриммовская сказка не вырастает до того социального протеста, который был дан еще в интерпретации Шарля Перро в сказке «Синяя Борода», герой которой был уже не отвлеченным колдуном, а богатым дворянином, самовластью и деспотизму которого наконец наступает предел.
Фольклорный мотив «запрета» в большинстве гриммовских сказок (№ 9, 49, 85, 97 и др.) разработан как обет молчания, причем беспрекословное выполнение требования увенчивается ожидаемой наградой (снятие волшебных чар, возвращение жизни при помощи «живой воды» и т. п.). Вместе с тем нетрудно увидеть в этом «обете молчания» и утверждение идеи смирения и покорности человека «судьбе», воле обстоятельств. Лишь только в некоторых сказках (№ 100, 136) «запрет» трактуется более свободно, обыгрывается даже в сатирическом плане. Отставной солдат (распространенный образ героя и в гриммовских сказках), вступая в выгодную для себя сделку с «самим чортом», соглашается на его странный запрет — «не мыться, не чесаться, не сморкаться, не стричься, не обрезывать ногтей и глаз не вытирать». И характерно, что в награде солдату фигурирует не только традиционное в сказках золото, но прежде всего получение свободы: «чортов чумазый брат» становится «сам себе королем». С другой стороны, обращает на себя внимание утверждение в сказке именно чаяний народных о воплощении справедливости: хозяин батрака-солдата должен по заслугам отправиться в ад, а солдат, женившийся на королевне, получает королевство. В сказке о лесном человеке Железном Гансе герой отправляется странствовать по свету с определенной задачей: «узнать, как бедноте живется».
Тема активного действия героя разработана в сказках, повествующих о борьбе героя с препятствиями, о силе воли и характере падчерицы или пасынка в их борьбе против злой мачехи, о бедной Золушке, о простоватом «младшем брате» и, в особенности в сказках весьма острого социального и бытового характера, — о бедняке и богаче.
Героями, преодолевающими трудные препятствия, часто выступают люди сильные и умные, истинные представители народа. Это — сын бедняка, умная дочь крестьянская, солдат, храбрый портняжка, трудолюбивая служанка, пастух и др. Однако именно в этой связи необходимо отметить и такую черту волшебной сказки, когда она народных героев стремилась возвысить при помощи принятых в то время сравнений и олицетворений, делая их «королевичами», «заколдованными принцами» и «принцессами». В этих случаях волшебная сказка, по словам Энгельса, нередко имела своей задачей превратить в мечте каменистое поле крестьянина в благоухающий сад, «заставить его забыть свой тягостный труд,... обратить мастерскую ремесленника и жалкий чердак замученного подмастерья в мир поэзии, в золотой дворец, а его ядреную красотку представить в виде дивно-прекрасной принцессы...».
Показательно и то, что многие препятствия, которые предстоит преодолеть героям, не всегда даны в сказке реально существующими, но измышляются злыми врагами, нарочито неестественно усложняются. Если храброму портняжке (№ 20) приходится воевать с великанами, единорогом и диким кабаном, то другим смельчакам нужно под угрозой смерти отгадывать трудные загадки, вычерпывать воду из большого озера дырявой ложкой или наперстком, сражаться с драконами и оборотнями. Чрезвычайно важной в сказках является уверенность в победе героя над всеми злыми силами, несмотря на кажущуюся невозможность выполнить стоящие перед ним сложнейшие задачи и преодолеть препятствия. Такие сказки важны своей тенденцией уверенности в историческом прогрессе и победе народа над силами мрака и социального зла. Воспитательная роль этих сказок раскрывается в убедительном показе формирования героического характера, верности другу и данному слову, уверенности в победе над врагом.
В волшебных сказках, отводящих большое место «чудесному помощнику» (№ 17, 31, 39, 40, 42, 44, 62, 89 и др.), вместе с тем подчеркивается, что герои не должны рассчитывать только на «чудесную» помощь извне, но сами должны быть храбрыми, мужественными (№ 4, 83 и др.), способными, на взаимопомощь (№ 18, 23, 27, 41, 48, 58, 62, 78 и др.). Уверенность в себе и своем правом деле всегда связана в народной сказке с показом беспредельных возможностей человека, преодолевающего колоссальные расстояния в семиверстных сапогах или в волшебном седле, побеждающего численно превосходящего противника и даже преодолевающего смерть.
Идею торжества справедливости сказка нередко переключает в план бытовой. Здесь в первую очередь необходимо отметить примыкающие к «Золушке» сказки, повествующие о тяжелой жизни и судьбе падчерицы й пасынка. Внешняя «схема» такой сказки проста. Она развивается в основном в двух аспектах: изгнанные злой мачехой в «дремучий лес» («на мороз», «в степь») падчерица или пасынок возвращаются домой с наградой, чем вызывают зависть мачехи и ее родных детей; в других случаях границы повествования расширяются введением рассказа об уходе падчерицы из дома злой мачехи (вступление в брак с королевичем), — однако «счастливый конец» сказки усложняется мотивом мести и рассказом о мачехе, происки и преступления которой в конце концов обнаруживаются и наказываются.
В конкретном повествовании каждая сказка по-своему разрабатывает и углубляет социальные и психологические мотивы. Гессенская народная сказка о Золушке (№ 21) трогательно рассказывает историю забитой девушки-служанки в богатой семье. В сказке нет того налета светской галантности, который был присущ многим литературным обработкам этого сюжета, чего не избежал в частности и вариант Перро. В сказке о госпоже Метелице (№ 24) подчеркивается трудолюбие падчерицы, которое и награждается по заслугам. «Сказка про можжевельник» (№ 47), как и «Поющая косточка» (№ 28), сосредоточивает внимание читателя на картине жестокого преступления. Однако трагическая тема убийства мачехой нелюбимого пасынка во второй половине сказки фактически оттесняется на второй план введением образа чудесной птицы и ее много раз повторяемой песни, так что наказание жестокой мачехи в конце сказки уже не вызывает должного эффекта.
Группа сказок об умном «младшем брате», нередко прикидывающемся «дурачком», повествует об обиженном судьбою и в семье младшем брате или младшем сыне. Однако «дурак», забитый и молчаливый в одних условиях, показывает свой ум и храбрость, Как только ему представляется возможным действовать свободно, сообразно со своими способностями и склонностями. Попранная правда и справедливость восстанавливаются в сказке не только в указании, что такой, например, «чудаковатый музыкант» (№ 8) является «настоящим человеком», а простак сказки «Ранец, шапочка и рожок» (№ 54) умнее и сильнее короля. Сказки многократно и настоятельно подчеркивают жизненную целесообразность передачи управления государством (в условиях феодально-монархического строя это управление и в сказке мыслилось в форме королевской власти) именно такому «настоящему человеку», солдату или бедному крестьянину, хорошо знающему о тяжелой жизни трудового народа и способному по-настоящему помочь ему, облегчить его участь. В морализующей концовке сказка, как правило, не преминет указать, что такой народный герой, получив королевство, «долгие годы правил мудро».
В одних сказках (№ 54) «младший брат» быстро делается счастливцем, похожим на героя восточных сказок Аладина, владевшего волшебной лампой. В других дурень легко получает королевство после того, как рассмешит Несмеяну-царевну (№ 64). Но таких случаев легкой борьбы за право и свои интересы сравнительно мало. В большинстве случаев трудная борьба героя идет поистине не на жизнь, а на смерть. Типично эта борьба раскрывается, например, в сказке «Подземный человечек» (№ 91), герой которой, простак Ганс, проходит множество испытаний и выходит из них победителем по праву. Нередко в глазах окружающих такой герой действует «нелогично» (№ 83): он последовательно меняет большой слиток золота на коня, коня на корову, корову на поросенка, поросенка на гуся и, наконец, гуся на точильный камень. Но логика трудового человека оказывается простой: только трудовая деятельность (точильщика в данном случае) может сделать человека по-настоящему счастливым.
Ряд сказок этого цикла говорит о младшем сыне и в королевской семье, однако королевич, для того чтобы стать «настоящим человеком», должен пройти немало испытаний, узнать жизненные трудности. И наряду с этим .народная сказка настоятельно отмечает реальные классовые интересы дворянства. Подлинного дурака, единственного сына старого графа (№ 33), жизнь ничему не может научить. Бесплодность его «учебы» народная мудрость клеймит уничтожающе: он научился по-собачьи лаять, по-птичьи беспечно петь и по-лягушечьи квакать. Этих знаний оказалось вполне достаточно для того, чтобы в Риме именно его избрали папой. Так в сатирическом гротеске сказка объединяет непривлекательные образы дворян и попов.
Сказки с комплексом религиозных воззрений и суеверий в гриммовских сборниках резко делятся на две группы, противоположные в социально-политическом отношении. Близкие по своему характеру к легендам и отражающие слабые и ограниченные стороны воззрений и суеверия народных масс, находившихся в ряде случаев под влиянием чуждых им классовых представлений, некоторые гриммовские сказки не упускают случая указать на необходимость смирения человека перед «всемогущим богом» и ангелами. Искусственность построения морали на основе церковного кодекса очевидна и во многих случаях явно противоречит естественному и здоровому в сказке материалистическому объяснению явлений природы и общественной жизни. Не отрицая в целом той или иной легенды, сказки второй группы тем не менее исподволь иронизируют над глупым «святым Петром» (№ 81) и даже над самим недогадливым богом (№ 82). Сказка при этом неоднократно критикует учение церковников о создании мира, иронизирует по поводу несправедливости бога к людям, легкомысленно играющего их судьбами или жестоко насылающего на них смерть. Даже чорту в этой связи нередко приписываются в сказке черты гуманности гораздо большей, нежели у бога. Сказка «Смерть в кумовьях» (№ 44) прямо говорит о «несправедливости бога», подчеркивая тем самым классовый характер религии. Характерен в сказке разговор: «Говорит бедняк: — А ты кто такой? — Я господь бог. — В таком случае я тебя в кумовья не хочу, — сказал человек, — ты все отдаешь богачам, а нас, бедняков, голодать заставляешь».
Сказки, близкие по своему характеру к антиклерикальным народным шванкам, смело и сатирически обличают проделки хитрых церковников (№ 95, НО и др.), показывают их трусливыми и даже готовыми в критические для себя моменты отказаться от пропаганды вымышленных ими для устрашения народа ужасов о страшном суде и т. п. (№ 193). Показательна в этом отношении и известная померанская «Сказка о рыбаке и его жене» (№ 19), доводящая исполнение чудесной камбалой-рыбой желаний ненасытной старухи до превращения ее в римского папу. Небезинтересно отметить, что некоторые мотивы этой сказки получили развитие в ряде других сказок (№ 85, 186).
Нагромождение деталей в сказке (целых пять исполненных желаний старухи) в фольклорном обрамлении по-своему было оправдано. Взятые в единстве, они последовательно несли в себе функцию отрицания стяжательства в его конкретных проявлениях. И вместе с тем, важные и интересные в местном плане, эти детали были совершенно излишни в сказке в литературной обработке, имевшей уже всеобщее значение. Вот почему, например, пушкинская поэтическая «Сказка о рыбаке и рыбке», в отличие от местных народных сказок, блестяще решает общие социальные проблемы более компактно, оправданно психологически, поднимая одновременно русскую национальную сказку на новую ступень художественного реализма.
Сказки о батраках, бедняках и слугах в силу остроты их социальной проблематики выходят далеко за пределы волшебной сказочной рамки, хотя чудесные приключения и превращения имеют место и в них. Как в волшебном, так и бытовом новеллистическом обрамлении такие сказки часто противопоставляют классовые интересы бедняков и богачей (№ 60, 87, 90, 110, 167, 185, 195 и др.). Однако решения этих противоречий в сказках предлагаются различные, порою совершенно неожиданные.
Идея последовательной социальной борьбы народа за свои права гриммовской народной сказке почти неизвестна. В лучшем случае она оказывается способной открыто говорить о классовой розни или помочь бедняку (батраку, солдату) при посредстве волшебных средств преодолеть темные силы. Наиболее сильной из всего цикла гриммовских сказок о работнике и хозяине является, пожалуй, сказка о молодом великане (№ 90). Договор работников со скрягой управляющим о плате за труд — давать управляющему «каждый год по три тумака, которые тот должен выдержать», — несомненно свидетельствует о жажде справедливой мести эксплоатируемых богачам-мироедам.
Симпатии в народной сказке всецело на стороне угнетенных людей труда. Скудные средства на существование они «зарабатывают кровавым потом» (№ 99), инстинктивно тянутся к знаниям (№ 98 и др.). Желая «помочь» им, сказка дает им в руки волшебные предметы (скатерть-самобранку, плащ-невидимку, ранец, и т. д.), считая, что только у них эти предметы найдут себе настоящее применение. И наряду с этим сказка настоятельно призывает героев оставаться людьми труда, порицает лень (№ 14, 128). В своеобразной «трилогии» — сказках «Умный работник» (№ 163), «Ленивый Гейнц» (№ 165) и «Тощая Лиза» (№ 169) — тема труда трактуется уже крайне противоречиво. С одной стороны, призыв к батракам «не заботиться о своем хозяине и его распоряжениях» в определенных социальных условиях вполне оправдан, с другой — нетрудно убедиться и в том, что сказка вышеприведенный совет облекает в ироническую форму. Ссылаясь на ленивых Ганса и Гейнца, сказки, однако, не подчеркнули различия их положения: один попросту решил больше не батрачить у прежнего хозяина, другой проявлял нерадивость к своему хозяйству. И характерно, что третья сказка в связи с этим признает, что трудолюбивые тощая Лиза и ее муж, думавшие «совсем по-иному, чем ленивый Гейнц», вместе с тем едва сводят концы с концами: «все было понапрасну, ничего у них не было, и они ничем не обзавелись». Гриммовские сказки в этом случае не только не сделали попытки указать выход из создавшегося положения, но не ответили и на острый вопрос о его причинах. Ограничивается сказка (№ 84) лишь только слабым намеком на ничтожные крестьянские земельные наделы, напоминающие заплаты.
Еще более ограниченность гриммовских сказок видна в случаях утверждения социальной гармонии в обществе, раздираемом классовыми противоречиями. В этих случаях бедняк и богатей выступают «братьями», жизненные пути которых разошлись (№ 60), социальные противоречия снимаются комической концовкой в повествовании (№ 87). В ряде сказок (№ 1, 6, 17, 22, 126 и др.) в пример другим ставятся «верные слуги», их бескорыстная преданность господам. Но сознавая слабость этих «доводов», сказка под влиянием церковной и мещанской морали обращается в ряде случаев к последнему прибежищу — к суевериям. Она советует бедняку не завидовать богатым, так как «бедные мужички попадают на небо каждый день, а богатый вельможа за целое столетие лишь раз» (№ 167), проповедует идею господства судьбы и необходимости без ропота подчиняться ей; ибо недаром «у крестьян говорится: не заглядывай назад, все равно ведь ты горбат» (№ 179) и т. д. В сказке «Могильный холм» (№ 195) делается попытка воздействовать на жестокого и скупого богача, заставить его сердце смягчиться и перед лицом смерти признать, что оно «было жестоким и надменным и ни разу не сделало добра близким, ...отворачивалось от бедняка, думало об увеличении богатств». Однако в этот поток лицемерных слов неожиданно врывается крик отчаяния. Здравый рассудок народной сказки не может примириться с суеверными иллюзиями, хотя и не намечает еще путей борьбы с социальными несправедливостями, рисуя трагическую гибель затравленного бедного мальчика-пастушка (№ 185).
Собственно реалистические сказочные жанры гриммовских сборников по существу представляют собою бытовые новеллы и анекдоты. Эту группу сказок, понятно, нельзя отгораживать от всех предшествующих сказочных циклов, тем более, что и в аллегорических «животных сказках», как и в сказках «волшебных», обнаруживались не только реальные бытовые сюжетные линии, но и реалистический стиль в описаниях, попытки дать более или менее глубокие социальные обобщения и типические картины действительности.
Новеллы и анекдоты не только сатирически изобличают проделки хитрых купцов или попов, лентяев королей и дворян, но и юмористически рассказывают о приключениях каких-нибудь гессенских крестьян, бременских музыкантов и т. д. Нередко в бытовой сказке появляется ловкий вор или разбойник. Сказка не преминет при этом указать на вынужденность их профессии, переключить внимание читателя на то, с каким искусством этот «ловкий вор» расправляется с богатствами, награбленными богачом-мироедом. Иногда сказка пытается даже морально утвердить это «право» ловкача. В сказке «Вор и его учитель» (№ 68) крестьянин объявляет сыну, что «должен тот воровству обучаться, что сказал ему это сам господь бог». И вместе с тем разбой и воровство как таковые не поощряются в народной сказке. Разбойники нередко рисуются жестокими и кровожадными (№ 40, «Разбойник-жених»).
Бытовая сказка стремится представить событие как действительно случившийся факт в жизни. Отсюда в ней и бытовые подробности, ссылки на более или менее определенное место и время происшествия. Однако новеллистическая сказка и анекдот не развертывают широкого полотна общественной жизни, нередко в небольшом по объему эпизоде запечатлевают самое существенное и яркое в событии, минуя «предисторию» и не говоря о последующей судьбе героев. В волшебной же сказке, как правило, дается вступление, правда, туманное (большей частью традиционное: «Жил-был однажды старый король...» или: «В стародавние времена, когда желания легко исполнялись, жил-был...» и т. п.), а в благополучном конце рассказа утверждается, что герои «стали жить да поживать счастливо вместе».
В тех случаях, когда реалистическая сказка строится по типу сказки волшебно-фантастической, внешние атрибуты ее приобретают реальный смысл: дается реальная мотивировка кажущихся иногда таинственными событий, чудесный помощник делается реальным помощником-другом и т. д. Но наиболее близкими реалистической сказке являются картины домашнего быта, вопросы брака и семьи, воспитания и труда, нравов и общественных отношений в деревне.
В утверждении высоких нравственных принципов сказка часто пользуется приемом доказательства от противного. Называя смышленным Ганса (№ 32) и умной Эльзу (№ 34), сказка действительно хочет их видеть таковыми, высмеивая их поступки, несообразующиеся со здравым смыслом. Порицая ленивую невесту (№ 14), сказка многократно с любовью рассказывает о трудолюбивой девушке из народа, по заслугам оцененной женихом (№ 156, 157 и др.). Редко в гриммовских сказках рассказываются анекдоты «о неверной жене». И это понятно: сказочные сборники предназначены в основном для детского чтения. Юмористический эпизод об отношениях мельничихи и попа (№ 61) превращен в небольшую деталь в сложном сказочном повествовании.
Маленькие сказки «Старый дед и внучек» (№ 78) и «Неблагодарный сын» (№ 145) умно воспитывают в детях уважение к престарелым родителям, порицая жадность и лицемерие. Необходимой нормой в сказке является любовь к народу, признательность1 людям труда. С точки зрения народной морали, резко отрицательно оцениваются ложь, несправедливость, злость и жестокость людей, независимо от их «высокого» общественного положения. Таковы разоблачения преступлений и наказание маршала (№ 60), мечта солдата о наказании ненавистных ему чуждых и жестоких офицеров и генерала (№ 100), проклятие «всемогущему» золоту, сеющему зло и раздоры в условиях феодально-капиталистической системы, и т. д.
Таким образом, события общественной жизни в реалистической сказке представляются в обобщенном, типическом описании. В этих случаях — правда, как бы мимоходом — В ней раскрывается определенная заинтересованность в изучении и решении самим народом научных и общественно-политических вопросов. Традиционный народный герой — умный «дурень» — раскрепощается в своей свободной мечте, делается способным изобрести «корабль, что мог бы плавать по воде и по суше» (№64). Сильной социальной сатирой в условиях раздробленной феодальной Германии звучали слова сказки (№ 191), помещенной в гриммовском сборнике в издании 1857 года, о карликовом королевстве, границы которого можно легко обозреть из дворцовых окон. Однако практического решения вопроса о борьбе народа за национальное объединение на демократической основе гриммовские сказки фактически не дали.
Рассказчик гриммовских сказок, в отличие от народных сказок многих других фольклорных сборников, редко обращается непосредственно к читателю. Отчасти это является результатом стилистической обработки сказочного материала собирателями. Лишь в немногих присказках сохранилось традиционное обращение («Хочу я вам кое-что рассказать...») или заключительная мораль («... и вы поступите так же умно, как и этот вот умный Ганс»), В одних случаях рассказчик заинтересован в том, чтобы слушатели (читатели) поверили его правдивому рассказу («Кто сказку последний сказал, тот все это своими глазами видал»), в других, наоборот, настоятельно подчеркивает вымысел («А теперь открой-ка окошко, чтобы все небылицы в него улетели»).
Некоторые сказки даже основного гриммовского собрания, повидимому, представляют сходные между собой варианты. И тем не менее в этих случаях можно говорить не только об их сходстве, но и о различиях. В конкретном художественном воплощении каждая сказка представляет собою законченное целое. В сказках о мальчике-с-пальчик (№ 37 и 45) обращает на себя внимание различие социального фона, на котором действует герой. Сказки «Кум» (№ 42) и «Смерть в кумовьях» (№ 44) существенно дополняют одна другую, волшебно-фантастические картины одной сказки раскрываются в другой в реальной возможности. В одной из сказок о братьях-лебедях (№ 9 и 49) сквозит явная ирония в отношении к чудесным превращениям, в то время как в другой повествование, наоборот, усиливает их. В этих и ряде других «сходных» сказок можно увидеть одну из особенностей народных сказок братьев Гримм — тягу к цикличности, которая является дальнейшим развитием бытовавших в отдельных сказках повторов. Рассмотрение таких сказок в циклах позволяет глубже проникнуть в их материал и правильнее понять идейные замыслы сказок, а также и их многогранные формы.
Народные сказки в собраниях братьев Гримм необходимо рассматривать в совокупности, — только при этом условии они раскрываются перед читателем во всем многообразии, со своими сильными сторонами и слабостями. К ним самим может быть применена аллегория последней в гриммовских сборниках сказки «Золотой ключик» (№ 200): железный ларчик наполнен чудесными сказками простой народной мудрости. Советский читатель, понятно, отвергнет мещанскую филантропию и наивную мораль некоторых из гриммовских сказок, но вместе с тем и оценит познавательный смысл большинства из них, а также выраженную в них веру в человека, его отрицание темных сил прошлого и борьбу за счастье народа.
|