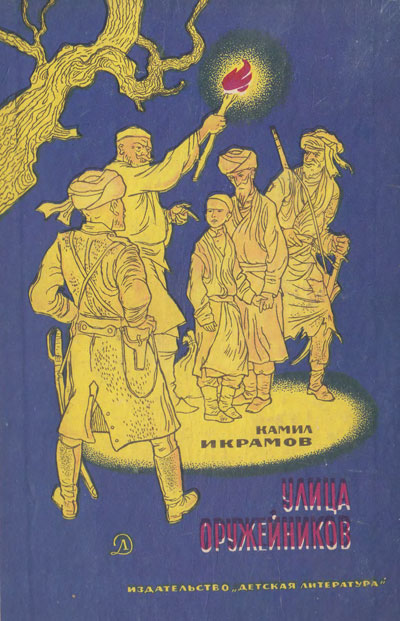Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
Эта частично автобиографическая повесть послужила основой для знаменитого советского 4-серийного чёрно-белого детского фильма «Завещание старого мастера» (1972). Фильм кончается такими словами: "50 лет, подобно Фархаду, я искал клады в земле моих предков. Голодая и терпя холод, вызывая злые насмешки и скрытую зависть, я исходил эти края от реки Пили на восходе до Аму на закате. Всё, что мог запомнить, запоминал, всё, что мог забыть, записывал, а теперь, у порога смерти, и то и другое доверяю этой тетради. Пусть она откроет клады, способные превратить сто тысяч бедняков в сто тысяч хозяев.
- Значит, клад есть. А почем ж Усман-бай, сколько ни искал, ничего не нашёл?
Учитель отвечает: не о золоте писал Уста-Тиля. Давайте прочтём тетрадь до конца: «Пусть всё это будет для улицы оружейников, для тех, кто не утратил мастерства, для настоящих трудовых людей». Понимаете?
Отец писателя А. Икрамов (Икрамович) — в 1921—1922 годах заведующий организационным отделом и секретарь ЦК Компартии Туркестана. С 1922 года учился в Москве в Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова, затем работал секретарём Ташкентского обкома партии. С марта 1925 года — секретарь ЦК КП(б) Узбекистана. Кандидат в члены Президиума ЦИК СССР , кандидат в члены ЦК ВКП(б) (дек. 1925), с 1929 был 1-м секретарём ЦК КП(б) Узбекистана и секретарь Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б). Член ВЦИК. Арестован в июле 1937 года, по другим данным арестован 20.09.1937 года. На допросах признал себя виновным. На суде по собственному делу признал (5 марта 1938 г.), что «на путь антисоветских действий я вступил в 1928 году». Расстрелян.
Мать писателя — Евгения Львовна Зелькина, зам. наркома земледелия Узбекской ССР. Познакомились во время учебы в "институте красной профессуры". От этого брака родился будущий узбекский писатель Камиль Акмалевич Икрамов (публиковал в журнале "Знамя" повесть "Дело моего отца"), который узбекского языка не знал, потому что воспитывался после смерти родителей у дедушки-врача в Москве, который упоминается в повести под своим именем.
Написание повести связано с глубокими душевными переживаниеми. Писатель признаётся в воспоминаниях: "В первом варианте книги я писал, что после процесса 1938 года мой дед по матери, известный московский врач Лев Захарович Зелькин, усиленно лечил меня, месяцами давал какие-то лекарства и в конце концов вынужден был положить в детскую психиатрическую клинику. Я даже пропустил учебный год. Ночные кошмары я помню, но почему мудрый врач был вынужден обратиться к профессиональным психиатрам — понимаю только теперь. Видимо, были основания. Из первого варианта книги эту историю я убрал. Умудренный товарищ сказал, что упоминание о детском психическом расстройстве опасно, это может дать основание теперь упрятать меня в психушку. На основании анамнеза".
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава первая. Наследник
Глава вторая. Где были полицейские?
Глава третья. Кожаный человек
Глава четвертая. Не без добрых людей
Глава пятая. Чужой город
Глава шестая. Новая школа
Глава седьмая. Тени
Глава восьмая. Капкан в зверинце
Глава девятая. Еще один капкан
Глава десятая. Ученик палача
Глава одиннадцатая. На веревке
Глава двенадцатая. Возьми свою тетрадь
Глава тринадцатая. Для тех, кто не утратил мастерства
Глава четырнадцатая. Москва
Глава пятнадцагая. Квартира №36
Глава шесттшдцатая. Чувства добрые
Глава, которая вместо эпилога
Глава первая НАСЛЕДНИК
Все знали, что так будет, что надежды нет. Говорили: «Такая молодая! А как с сыном теперь?»
И вот в полдень, в ясный и прохладный октябрьский полдень, вырвавшись из тесного дворика, взметнулся над плоскими глиняными крышами и повис между небом и землёй пронзительный женский крик:
— О сестра, оставившая сироту! Пусть в райских садах найдёт приют твоя душа!
Соседки, второпях набрасывая платки, шли к дому, где случилось несчастье.
Седая и сгорбленная старушка, бабушка Джамиля, распоряжалась похоронами. Она была самой уважаемой женщиной на улице Оружейников, и здесь её слушались все. Одного она посылала за муллой, чтобы читать коран, другого — в лавку за бязью для савана, третьего — за общественными носилками.
Такие носилки — одни на всю улицу. Они хранятся у квартального старосты. На них уже унесли из квартала, может быть, сто, а может быть, и тысячу человек.
Все чем-нибудь заняты на похоронах. Кто занят, тому легче. Один Талиб молча стоит на коленях возле матери, не зная, что ему делать.
Первый раз в жизни ему очень нужно заплакать, первый раз он сам очень хотел бы заплакать, как плакал раньше, как плачут маленькие. Но он не может. Словно всё в нём окаменело. Словно всё остановилось. Даже сердце не стучит.
— Талибджан, — сказала бабушка Джамиля. — Ты один мужчина. Иди к воротам, встречай людей. По обычаю. Слышишь, ты у нас один мужчина.
Талиб встал, постоял немного и пошёл к калитке.
— Куда? — остановила его бабушка Джамиля. — Ты же большой. Тебе уже двенадцать лет. Надень камзол, опояшься платком...
Старуха кинулась к сундуку, сама достала почти новый широкий отцовский камзол.
Талиб встал у калитки, как должен стоять хозяин дома, когда собираются на похороны: в отцовском камзоле ниже колен, шёлковый платок узлом завязан на поясе, тюбетейка старенькая, своя, в левой руке посох. Таков обычай.
Каждому приходившему он кланялся, приложив руку к животу — знак «салам», пожелание здоровья.
Всем он желал здоровья, разные люди приходили — вся улица Оружейников.
Первыми пришли самые близкие соседи, такие же бедняки, как и семья Талиба. Потом явился кондитер Кадыр-ака, живший на углу. Пришёл настоятель квартальной мечети, всегда хмурый имам Карим, за ним медленно, закусив нижнюю толстую губу, шествовал Усман-бай — самый богатый человек на их улице, купец. Усман-бай — рослый, широкоплечий, в двух халатах, надетых один поверх другого; оба халата шёлковые, переливающиеся.
Он остановился возле калитки, посмотрел на Талиба пристально и внимательно.
— Почему не плачешь? — спросил он, стараясь заглянуть мальчику в глаза. — Неужели у тебя сердца нет? Отец пропал, мать родная умерла, а ты не плачешь. Ты же маленький ещё, не мужчина ещё, ты должен плакать. Нехорошо.
Усман-бай приходился Талибу дальним родственником по отцу. В его словах была правда. Действительно, почему Талиб не плачет? Это действительно нехорошо, но мальчик не ответил.
— Заходите, Усман-ака. Пожалуйста! — Талиб ещё раз поклонился. — Заходите.
Потом пришёл единственный в Ташкенте родственник матери, человек, которого все звали Юсуп-неудачник или Юсуп-чахоточный. Юсуп-неудачник держал маленькую лавчонку возле мечети Шейхантаур. Он брал товары в кредит и продавал их с небольшой наценкой. Он был худенький, бледный, с большими, чёрными, всегда грустными глазами. Он дружил с отцом Талиба, часто бывал у них прежде и во время болезни матери, в последнее время, заходил каждый день. Дядя Юсуп знал много такого, чего не знали другие, у него были знакомые русские, потому что он служил когда-то кондуктором конки, а потом кондуктором трамвая.
— Ой, Талибджан, Талибджан, большой ты стал. Совсем большой. — Юсуп-ака коснулся плеча Талиба и, отвернувшись куда-то в сторону, добавил: — Иди во двор. Отдохни. Я постою.
Во дворе было много народу, а в комнате, где лежала мать, плечом к плечу стояли самые близкие друзья и соседи.
Талиб стоял в дверях позади всех, его не видели, и потому он услышал такой разговор.
— Плохо, когда нет родственников, — сказал кто-то. — Вот и получилось, что мальчишка теперь один.
— Усман-ака не оставит его. Дальняя родня, а всё же... — возразил кто-то ещё.
— Может, и отец скоро вернётся: говорят, война кончается. Дай бог, вернётся, — сказала бабушка Джамиля. — Отца никто не заменит.
— Может, и вернётся, — возразил первый голос. — От всех письма есть, а Саттар не пишет. Неграмотные дали о себе знать, только Саттар, грамотный, молчит. Много наших померло на войне. Холодно там — пять месяцев снег идёт. Там плов не поешь.
— Саттар упрямый очень был, — сказал Усман-бай. Его голос Талиб узнал сразу. — Из упрямства в Намангане женился, из упрямства со мной поссорился, из упрямства и там ему, конечно, плохо. И сын у него такой же упрямый... Прямо волчонок. Я ему говорю: почему не плачешь? А он молчит. Волчонок...
Талиб выскользнул из комнаты, не поднимая глаз, прошёл по двору в кузницу, которая пустовала уже два года, закрыл дверь за собой и огляделся.
В отверстие под крышей светило солнце. Яркое пятно света лежало на давно остывшем горне, на больших кузнечных клещах, на молоте и молотках, на разных оправках и наборе зубил, на мотках проволоки, которую отец принёс перед самой мобилизацией за день или за два дня. Талиб подёргал верёвку меха, и над горном поднялась стая седого пепла.
И тут неожиданно для себя Талиб заплакал. Тихо, почти беззвучно. Просто у него дрожали губы и текли слёзы. Никогда раньше он не плакал так. Он плакал, стоя у горна, и всё время тянул верёвку меха. Всё больше пепла реяло в воздухе, и дышать стало совсем трудно, но Талиб всё качал и качал мех, а потом вдруг опустился на корточки между горном и наковальней, в холодную и пыльную тень. Он плакал беззвучно и долго, но тяжесть на сердце не проходила, как это часто бывает, когда прольются слёзы. Нет, не проходила.
* * *
Несчастья в семье начались с того дня, когда по приказу царя Николая узбеков стали брать на тыловые работы. Сначала мастера Рахима не взяли в армию. У него с детства болела нога, и он прихрамывал. Недруги отца называли его Саттар-хромой. Правда, таких людей на улице Оружейников было мало, большинство и в глаза и за глаза звали его уста-Саттар, мастер-Саттар»
Врачи посмотрели его на комиссии и сказали: «Негоден»,
Отец смеялся: «Зайца спасают четыре сильных ноги, а меня — одна больная».
В тот же день у отца вышла большая ссора со старостой квартала и с полицейским Рахманкулом. Староста вместе с полицейским составляли списки для мобилизации и вписали туда всех, кто был им неугоден, кто взятку дать не мог, кто им роднёй не приходился. До врачебной комиссии уста-Саттар ничего не говорил старосте квартала: боялся, что люди подумают о нём плохо. Ведь каждый, кто не хочет уезжать, другого подводит. Если нужно от квартала двадцать человек, то двадцать и возьмут. Не одного, так другого.
Но когда русские врачи не взяли уста-Саттара, он пошёл к старосте квартала и при всех обозвал его и его друга Рахманкула взяточниками и злодеями.
— Почему ни одного байского сыночка в списках нет? — спрашивал отец. — Почему только бедняки должны ехать в холодную страну? Что, у них кожа толще? Нет, у них кошелёк тоньше. Почему за царя Николая должны страдать те, кому царь ничего не давал, а не те, кто у царя в любимых слугах был? На словах все богачи за царя, все войну хвалят, все «ура» кричат, а помогать белому царю воевать с немецким царём Вильгельмом должны бедняки?
Может быть, эти неосторожные слова и решили судьбу отца, а может быть, ещё и ссора с Усман-баем. Характер у отца был упрямый.
Когда Талиб был совсем маленький, отец начал ковать клинок для сабли. Он ковал его очень долго, наверное, несколько лет. Впрочем, возможно, что Талибу это только так казалось. Во всяком случае, разговоров об этом клинке было много.
Отец неплохо зарабатывал в мирное время, он подковывал лошадей, делал топоры, мотыги, узбекские ножи — пчаки, ножницы для стрижки овец, чинил арбы.,
Иногда он уезжал на месяц, а то и на полтора к уста-Рахиму, к своему тестю, который тоже был известный кузнец и ювелир в городе Намангане. Отец всегда возвращался довольный и рассказывал про свои поездки, про то, какой замечательный человек уста-Рахим, дедушка Талиба, про то, что дедушка пешком обходил все земли от Тянь-Шаня до Аму-Дарьи. В Ферганской долине дедушку звали уста-Тилля — мастер-Золото.
— Смотри, какая будет сабля: настоящий булат, — говорил отец, когда, оторвавшись от очередных дел, брался за клинок. — Раньше это было просто железо, просто проволока разная, даже гвозди подковные сюда пошли, а если всё это сварить и долго ковать, древесным углём хорошо посыпать, то получится дамасская сталь.
И действительно, из полосы железа, ничем вроде бы не отличавшегося от того обычного железа, из которого делают шумовки для плова или подковы, получалась тонкая кривая сабля, гладкая, упругая и острая. Сама сталь была тёмная, почти чёрная, а по чёрному полю вдоль всего клинка тянулись волнистые узоры. Узоры эти отливали червонным золотом, как шёлк бекасам.
— Зульфикар получается, — гордился отец. — Как сабля у святого пророка Али.
— Откуда здесь золото? — спросил однажды Талиб. Отец усмехнулся.
— Ты что же, не видел, сколько золота сюда пошло? — ответил он вопросом.
— Не видел, — признался Талиб. — Ты золото, наверное, без меня ковал?
— При тебе. Всё при тебе делал. Вот оно, золото, — всё так же усмехаясь, ответил отец и показал свои чёрные мозолистые ладони.
Так Талиб и не понял, правду сказал отец или пошутил.
Первое время о сабле никто не знал. Отец показывал её только дедушке и дяде Юсупу. Тот заходил к ним, когда работал кондуктором трамвая, а с тех пор как его уволили из-за чахотки, приходил особенно часто. Дядя Юсуп иногда брал у отца готовые вещи и продавал их в своей лавчонке возле мечети Шейхантаур.
— Зачем тебе эта сабля? — спросил он как-то отца. — Продать хочешь?
— Нет, не собираюсь, — отвечал тогда отец. — Это я, чтобы себя уважать, выковал. Человек должен знать, что он может. Я посмотрю на клинок и вспоминаю, кто я такой на земле, почему я живу на улице Оружейников.
До того разговора о сабле Юсуп и не знал, почему их улица называется улицей Оружейников. Кругом никаких оружейников не было. Жили там и сапожники, и торговцы, и водоносы, и ткачи, и учёные муллы, а никаких оружейников не было. Оказалось, что это название очень старинное, пошло оно ещё от великого Тимура, покорителя мира. В те давние времена здесь жили мастера по изготовлению луков, стрел, копий и кинжалов, а сам Талиб происходил из тех людей, кто эту улицу основал.
Конечно, трудно было удержаться и не похвастаться ребятам: я, мол, по родству самый старший на этой улице. Если бы не мои деды и прадеды, может, и не было вовсе этой улицы, называлась бы она улицей Ткачей, а то и хуже: улицей Водоносов. Вот есть же за два квартала от них улица Воров.
И как тут не похвастаться саблей, настоящей саблей, какой ни у кого из ребят нет.
Один раз всего привёл Талиб соседских ребят, показал им клинок, когда никого дома не было, и с каждого взял клятву хранить тайну. Так и не узнал Талиб, кто не сдержал клятву, но на улице стало известно о сабле. Из-за этой сабли и вышла шумная ссора отца с Усман-баем.
Когда узбеков, подлежащих мобилизации, подготовили к отправке и день отъезда назначили, пришёл к отцу Талиба Усман-бай с полицейским Рахманкулом. О чём они вначале говорили, Талиб не знал. Больше часа они сидели в комнате, потом вышли на айван — маленькую террасу перед домом, и у отца в руках был тот клинок.
— Глядите, — говорил отец гостям. — Глядите, а руками не трогайте. Есть у вас платок шёлковый? Давайте сюда.
Отец наклонил саблю, повернув остриём вверх, кинул на неё платок, и тот сполз на пол. Только теперь уже не было платка, две тряпочки лежали на земляном полу айвана.
— И ещё смотрите, — сказал отец. Он подбросил половину платка в воздух и на лету снова разрубил его пополам.
Усман-бай и Рахманкул угрюмо смотрели на саблю.
— Это мы знаем, — сказал Усман-бай. — Это мы видим, но зачем тебе сабля? В армию тебя не берут, в полиции ты не служишь, зачем тебе сабля? А мне она нужна. Я её одному человеку в подарок отнесу. Мы же родственники с тобой, неужели такой ты чёрствый, такой жадный? Мало тебе ста рублей, дам полтораста.
— Нет, — сказал отец. — В жизни таких денег в руках не держал, но сабля дороже стоит.
— Не спорьте с ним, уважаемый Усман-бай, — вмешался в разговор полицейский. — Он такой же упрямый, как его наманганский учитель Рахим. Этот уста-Тилля никому ничего не говорил, от всех всё скрывал, только в тетрадку писал. А что тетрадка...
— Двести рублей, — перебил полицейского Усман-бай. — О семье подумай. Двести рублей! Согласен?
Но отец не слушал его. Он двинулся к полицейскому и, видимо, забыл, что в руках у него клинок. Рахманкул даже ногу отдёрнул, побоялся, что поранит его чёрная сталь.
— Тетрадка? Какая тетрадка? — наступал на Рахманкула отец. — Зелёная сафьяновая, с серебряной пряжкой?
Отец побелел от волнения, губы его дрожали. Полицейский был совсем прижат к стене. Его чёрные длинные усы как-то сразу опустились, медно-красное, сальное лицо побледнело, а маленькие, не по голове, прижатые ушки с приросшими мочками покраснели.
Талиб видел, как, стоя за спиной отца, Усман-бай вытаращил на полицейского глаза и показал кулак.
— Тетрадка... — с трудом выдавил из себя Рахманкул. — Просто тетрадка. Маленькая тетрадка.
— Где тетрадка? — не отставал отец. — Говори, где тетрадка...
— В полиции тетрадка, — раздался из-за спины отца спокойный голос Усман-бая. — Правда, Рахманкул, тетрадка в полиции?
Отец резко обернулся на голос, клинок в руке дрожал.
— Видишь ли, — спокойнее, чем прежде, очень спокойно продолжал Усман-бай. — Наш уважаемый Рахманкул ездил в прошлом году в Наманган, там в полиции он видел тетрадку, которую нашли у всеми уважаемого уста-Тилля. Что в той тетрадке написано, никто в полиции понять не мог. Вот и осталась она там.
Пока отец стоял, обернувшись к Усман-баю, полицейский одёрнул задравшийся на животе мундир, закрутил усы и боком, осторожно стал пробираться к выходу.
— Вот это новость, дорогие гости, — с угрозой в голосе сказал отец. — Почему же Усман-бай знает об этом, а я не знаю?
— Усман-бай — самый уважаемый человек улицы... — снова было заговорил полицейский, но тот прервал его.
— Мы же родственники, дорогой Саттар, — сказал Усман-бай отцу. — Хотя и дальние, но родственники. Рахманкул пришёл ко мне посоветоваться, говорить тебе или не говорить. Я рассудил так: если тебе сказать, ты расстроишься, пойдёшь в полицию, будешь требовать тетрадку, а тебе её не дадут. Ты сам знаешь: в полиции без взятки и говорить не станут. Взятки, конечно, берут все. Но не у всех. Ведь давать взятки нужно уметь. И ещё подумал я, зачем тебе эта тетрадка, если в ней всё равно никто ничего не может понять. Вот мы и решили ничего тебе не говорить. Не сердись на меня, послушай. Я открою тебе ещё одну тайну. Для кого я покупаю у тебя клинок? Не для себя — для полицмейстера Мочалова. Это хорошая взятка, а когда он эту взятку возьмёт, я могу потом и просто деньгами дать. Так что ты продай мне саблю для общей пользы. Думаю, рублей тридцать — пятьдесят и всё дело-то будет стоить. Получишь ты свою тетрадку.
Пока Усман-бай говорил всё это, отец Талиба немного успокоился. Он стоял понурившись, исподлобья наблюдая за гостями.
— Ладно, — сказал отец. — Пусть будет так. У меня другого выхода всё равно нет. Я отдам тебе саблю за сто рублей, остальные — стоит тетрадка. Только если не будет тетрадки, вы оба берегитесь. Видите этот кинжал? — Отец выдернул из-за пояса большой узбекский нож. — Он из той же стали, что и клинок. Вот этим кинжалом я обрежу вам обоим уши. Клянусь аллахом, да будет так! Несите деньги.
Деньги у Усман-бая оказались с собой, он быстро пересчитал сотню и сунул отцу. Уста-Саттар отдал ему клинок.
Однако, хотя полицейский явно спешил убраться из этого дома, Усман-бай не торопился уходить. Он взял клинок, осмотрел его внимательно и вежливо спросил:
— А клеймо, дорогой, ты какое поставил?
— Наше клеймо, как у дедов и прадедов. Клеймо правильное, — отвечал отец.
— Спасибо, дорогой, это хорошо, — так же вежливо отвечал Усман-бай. — Только рукоятка у тебя плохая, придётся новую заказывать. Рукоятка у тебя очень простая.
— Какая есть, — отрезал отец. — Помните, что сказал, то и сделаю. Обрежу уши.
Трудно гостям после таких слов не потерять достоинства, но два дружка, купец и полицейский, вышли со двора как ни в чём не бывало. Талиб услышал, как, закрывая калитку, Усман-бай тихо сказал полицейскому:
— Кто кому уши отрежет, один аллах знает, а твой длинный язык укоротить давно надо...
Прошло два дня, и за отцом явился какой-то незнакомый полицейский.
— Собирайся, тебя сам Мочалов вызывает, быстро!
— Брать с собой что-нибудь или не нужно? — осторожно спросил отец.
— Не нужно, вечером дома будешь, — отвечал полицейский.
Ни вечером, ни завтра утром отец не вернулся. На третий день пришёл русский солдат и передал записку, в которой отец сообщал, что по приказу высшего начальства его как кузнеца взяли на тыловые работы. Отец просил передать ему еды на дорогу и тёплую одежду.
«Принесите всё это на вокзал сегодня вечером, — писал отец. — Там поговорим».
Вокзал долгое время вспоминался Талибу, как сон: бессвязный, страшный и далёкий. Толпы народа на перроне, на путях товарные вагоны, набитые людьми до отказа, крики мужчин, плач женщин, звуки оркестров — русского, сверкающего медью, и узбекского, состоящего из длинных труб, хриплых карнаев, под которые обычно пляшут на базаре канатоходцы, и звонких сурнаев, выводящих — некстати сейчас — свадебные мелодии. А по лицам людей видно, что не на свадьбу идут, а скорее на похороны. На лицах у них тревога и боль, скорбь и отчаяние. Чёрные паровозы и красные вагоны неподвижны — стена. Всё замерло, замолкли оркестры. Несколько богатых узбеков в белых праздничных халатах и в ослепительно белых чалмах движутся среди толпы. Рядом с ним начальство в мундирах с золотыми погонами, с золотыми шнурами на мундирах, с золотыми кокардами на высоких фуражках.
— Джигиты! — начинает речь один из богатых узбеков. — Наш добрый царь Николай, его императорское величество, оказал нам большое доверие.
Только это и успел выслушать Талиб. Мать потянула его за рукав: «Идём, сынок, идём».
Они протиснулись сквозь поток людей, хлынувших послушать, что скажет узбек про царя Николая и далёкую войну.
Вторым от паровоза стоял вагон, отличавшийся от всех. У других вагонов широкие двери были сдвинуты, а у этого закрыты на замок. Возле вагона ходила охрана.
— Здесь, наверно, — сказала мать. И не ошиблась.
В маленьком окошке под самой крышей они увидели отца. Лицо у него было встревоженное, но когда он увидел их, засиял улыбкой и стал вытирать глаза рукавом.
— Нашли меня, милые! — дрожащим голосом начал отец. — Хорошо, что нашли! Вот увозят, говорят, кузнецы очень нужны, потому и взяли. Вы не бойтесь за меня: если здоровы будете, и со мной ничего не случится. Я за себя не боюсь, только за вас боюсь...
Мать плакала, а Талиб смотрел на отца и не мог понять, что так вдруг изменилось в нём. Слёзы на глазах, улыбка грустная, как у больного, говорит сбивчиво. Что ещё говорил отец, Талиб так и не запомнил, только последние слова: «Я обязательно, обязательно напишу, где я. Береги маму, Талибджан!»
Так пришло первое горе, а через несколько месяцев заболела мать. Сначала она ещё управлялась по дому и ходила на базар, жаловалась только на боль в животе, потом стала худеть. Еды в доме хватало, сто рублей они долго тянули, и другие запасы были, но мать почти ничего не ела, часто плакала. По ночам боли у неё усиливались, и она тихо стонала и бродила по дворику. Потом мать совсем слегла. Соседки водили к ней знахарок и учёных лекарей — табибов. Они читали молитвы, давали ей пить воду из святых источников, есть землю со святых могил. Мать не сопротивлялась, но и не верила своим лекарям, а русского врача принимать не хотела.
— Умру я, сынок, не увидать мне нашего отца; Ты слушайся дядю Юсупа, больше никого не слушайся, — говорила она.
Однажды дядя Юсуп вопреки её желанию привёл из города русского врача. Мать уже не могла говорить: совсем не было сил.
Врач посмотрел, послушал через коротенькую трубочку, что у неё внутри происходит, помял живот и сказал, что ничем помочь не может. И развёл руками:
- Рак!
* * *
Талиб сидел на земле между давно остывшим горном и давно замолчавшей звонкой наковальней. Слёзы высохли, и от них остались только солёные полоски на щеках, и губы тоже были солёные.
Он не слышал, как отворилась дверь кузницы и вошёл дядя Юсуп.
— Талиб! — позвал он, ничего не видя со света. — Ты здесь?
Он взял мальчика за руку, поднял, отряхнул камзол:
— Тебя ищут, ты нужен.
Во дворе людей было ещё больше. Все они разделились на две группы: мужчины отдельно, женщины тоже. Квартальный мулла стоял на ступеньках террасы.
— Кто из близких есть у этой женщины, чтобы по законам шариата отвечать перед всеми? Муж есть?
Все знали, что муж покойной Хадичи где-то далеко, если и вовсе не помер. Мулла знал это не хуже других, но древний обычай нарушать было нельзя.
— В Ташкенте её мужа нет. Он в России, — ответили из толпы тоже по обычаю.
— Есть у неё отец? — опять спросил мулла.
— Её отец, наманганский мастер уста-Тилля, умер три года назад, — опять ответили из толпы.
— Есть у неё единокровные братья? — громко продолжал вопросы мулла.
— У неё есть только дальний родственник Юсуп-чахоточный, — ответил из толпы Усман-бай.
— Есть у неё взрослые сыновья?
— Нет, у неё только маленький и несмышлёный сын Талиб, — опять ответил Усман-бай.
— Кто будет наследником этой женщины?
— Я буду, — неожиданно для всех сказал Усман-бай. — Я буду наследником и опекуном мальчику, я родственник её мужа.
В толпе зашумели, раздались недовольные голоса, но слова были какие-то глухие, невнятные.
— Так не годится, — из группы женщин возразила бабушка Джамиля. — Так не годится.
Мулла стоял невозмутимо и ждал, что будет дальше.
— Я буду наследником, я опекуном буду. Мне ихнего имущества не надо, я из любви к родственнику возьму всё на себя, — сказал опять Усман-бай.
В это время к мулле подошёл дядя Юсуп и указал на Талиба, стоявшего в дверях кузницы.
— Вот сын Хадичи — Талибджан. Ему двенадцать лет. Он умный мальчик.
— Правильно! — крикнула бабушка Джамиля.
— Пусть сын будет наследником, по закону! — прозвучал из толпы мужчин голос Тахира-подёнщика — сына бабушки Джамили. — Усман-бай никому добра не сделал. Только живот свой любит.
Мулла ещё минуту помедлил и взял Талиба за руку.
— Талибджан будет наследником этой женщины без всяких опекунов. Он теперь отвечает за всё, как взрослый, — сказал мулла и начал опять задавать вопросы толпе: — Кому из вас была должна покойная Хадича? У кого она брала в долг деньги или муку, мясо или рис? Кому она не отдала?
— Она всегда отдавала долги, она никому не должна, — отвечали люди.
— Может быть, она обидела кого-нибудь?
— Никого она никогда не обижала, — был ответ.
— В своём ли доме она живёт, не имеет ли кто ещё права на этот дом?
— Нет, — ответили мулле. — Она живёт в доме, который всегда принадлежал дедам и прадедам её мужа.
— О-омин, — сказал мулла и провёл руками по лицу от глаз к бороде. — Сын Саттара и Хадичи — наследник всего, Он отвечает за всё перед вами и богом!
Не дожидаясь конца этой торжественной церемонии, Усман-бай протиснулся сквозь толпу и боком вышел со двора через распахнутую калитку. На улице его ждал полицейский Рахманкул. Вернее, бывший полицейский, потому что теперь он работал почтальоном. Вот уже восемь месяцев, как он не носил полицейскую форму,
Шёл октябрь 1917 года, а ещё в марте, когда в Петрограде свергли царя Николая, всех ташкентских полицейских выгнали с работы. Рахманкул стоял в своём мундире и в сапогах, но без шашки-селёдки, и без форменных блестящих пуговиц, и без свистка на красном шнуре.
— Наш квартальный мулла совсем не знает законов, — сказал Рахманкулу Усман-бай. — Что толпа говорит, то он и делает.
— Не говорите так, почтенный, — возразил бывший полицейский. — Вы знаете, какие сейчас времена. Какой-нибудь плотник или штукатур может оказаться главнее начальника полиции. Мне сказали, что в Петрограде опять революция...
— Опять революция? Какая ещё революция? — искренне удивился Усман-бай.
— Ещё одна революция, но какая, не понял, — сказал Рахманкул. — На почте сказали.
— Царя Николая, может, вернули? — с надеждой спросил Усман-бай.
Рахманкул сокрушённо помотал головой.
— Говорят, что новая революция много хуже старой.
— Для нас? — встревожился Усман-бай.
— Для нас, — подтвердил бывший полицейский.
В тот же день, к вечеру, мать положили на общественные носилки и понесли на кладбище. Похоронная процессия была невелика, путь на кладбище долог. Дядя Юсуп и трое близких соседей несли носилки, а Талиб шёл позади и смотрел на четыре пары ног, ступавших по уличной пыли, чуть-чуть прибитой вчерашним осенним дождём. Талиб старался не поднимать глаз, чтобы не видеть укутанное в белый саван Тело.
Говорят, будто дети не знают, что такое смерть. Это правильно. Но взрослые ведь тоже этого не знают. Просто взрослым чаще приходится хоронить близких, и они привыкли скрывать своё смятение перед случившимся.
Никто не знает, что такое смерть. Недаром даже люди, верящие в бессмертие души и в райское блаженство, не хотят умирать, боятся смерти. Если есть действительно «тот свет» и на «том свете» есть жизнь, то она наверняка отличается от этой жизни, вернее, ничем не похожа на эту, земную, порой трудную, тяжёлую, страшную, но — жизнь. Трудно, например, представить себе, что покойник на том свете может засмеяться весёлой шутке, огорчиться из-за порванной одежды, угощать гостей пловом, печь лепёшки в раскалённом тандыре, ходить на базар. Если есть какая-то другая жизнь, то откуда взялась смерть? И если есть другая жизнь, то зачем и кому нужна смерть?
На кладбище, когда в могилу с глухим стуком стали падать комья земли, Талиб опять зарыдал. Нет, никто не может понять, что такое смерть, но каждый знает, что это навсегда. Талиб плакал, уткнувшись мокрым лицом в халат дяди Юсупа, плакал громко, не стесняясь окружающих, Дядя Юсуп гладил Талиба сухой и плоской ладонью по плечу.
— Ничего, Талибджан, ничего.
Смеркалось, когда они возвращались с кладбища. Они шли рядом, дядя и племянник, и молчали почти всю дорогу.
— Ты прости меня, что я не пришёл с утра, — заговорил дядя Юсуп. — Я буду сегодня ночевать у тебя. Или пойдём со мной на Шейхантаур.
— Лучше дома, — ответил Талиб. — Я так ждал вас утром, я видел, что мама умирает. Она сказала: «Я сегодня умру».
— Я не мог прийти раньше. Я рано утром приехал на железную дорогу, за ламповыми стёклами. Их сейчас хорошо покупают, а на станции был такой шум, никто не работал, потому что в Петрограде опять революция. Я сам тоже хотел всё узнать и хотел обрадовать твою маму. Говорят, что теперь войне конец — все солдаты и с тыла и с фронта вернутся домой. Значит, и наш уста-Саттар вернётся. Слышишь? Отец вернётся!
Талиб промолчал. Очень часто говорили ему, что вот-вот вернётся отец.
Они вошли в пустой дом, на дворе уже было темно, небо, днём такое ясно-голубое, сейчас заволокли тучи. Дядя Юсуп зажёг лампу и сразу прикрутил фитиль. Керосин дорожал с каждым днём.
— Пойду приготовлю чай, — сам себе сказал дядя.
В комнате было темно и тихо. Пахло пылью и лекарством, которое принёс русский врач. Мать не принимала это лекарство, обычно оно стояло в нише, на полке рядом с праздничным китайским чайником и пиалами. Видно, кто-то из приходивших на похороны из любопытства открыл бутылочку с длинной этикеткой, а заткнуть забыл. А может быть, бутылочка опрокинулась и лекарство вытекло.
Талиб сидел на краю ковра и оглядывал комнату, будто видел её в первый раз. Рядом с нишей, где стояла посуда, была другая ниша; там лежала стопка лоскутных одеял и не оконченная матерью работа — стёганый мужской халат из яркого, в мелких цветочках ситца. Третья ниша пустовала. Отец приготовил её для ножной швейной машины, которую не успел купить на деньги, вырученные от продажи клинка...
— Бери, — сказал дядя Юсуп, протягивая Талибу пиалу с крепко заваренным чаем. Он разломил лепёшку, разложив куски на маленькой скатёрке — дастархане. — Бери. Чай хороший, свежий, крепкий. Лепёшки сегодня купил, мягкие.
Талиб молча жевал лепёшку, отхлебнул чай из пиалы. Дядя говорил ещё что-то неважное, необязательное, и Талиб не~ слушал его. Он понимал, что дядя хочет отвлечь его и себя от мыслей. Но мыслей и не было. Была тоска. Эта тоска жила в сердце мальчика, она виделась ему в больших и добрых глазах дяди Юсупа, в сумраке пустой комнаты...
Дядя расстелил одеяла, кину\ две подушки; они помолились и легли спать. Они укрылись одним одеялом и лежали неподвижно, стараясь не мешать друг другу. Лежали молча.
За окном сначала медленно, а потом всё быстрей и быстрей застучали капли дождя.
Глава вторая
ГДЕ БЫЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ?
Утром они проснулись от выстрелов. Впрочем, может быть, они проснулись от холода. По ночам теперь иногда выпадал иней.
Небо опять, как и вчера утром, было голубое, солнце освещало дворик и стену кузницы, а в воздухе то и дело раздавались выстрелы. Во всяком случае, это было первое, что они услышали.
— Что это? — спросил Талиб.
— Не знаю, — ответил дядя Юсуп. — Наверно, то, о чём я вчера тебе говорил.
Они быстро выпили вчерашний холодный чай с лепёшками, и дядя Юсуп ушёл.
— Я хотел взять тебя в лавку, но сегодня не нужно выходить в город, — сказал он на прощание. — Мало ли что может случиться. Вот тебе деньги, купишь поесть.
Сначала Талиб сидел дома. Он убрал пиалушки и чайник, сложил на место одеяла, закрыл пробкой пузырёк с пахучим лекарством, подмёл во дворе, нашёл где-то висячий замок и впервые за два года запер кузницу. Потом он оглядел себя, снял отцовский камзол и аккуратно уложил его в сундук вместе с шёлковым поясным платком. Он надел свой старенький халатик, вытер тряпочкой ичиги и кауши — кожаные галоши, в которых ходят только на улице, и, прислушиваясь к нестихавшей стрельбе, вышел со двора.
На углу, где обычно располагался крохотный базарчик — три-четыре продавца сушёных фруктов, кислого молока и овечьего сыра, было пусто. Только в чайхане сидела кучка завсегдатаев. Увидев Талиба, чайханщик позвал его:
— Эй, грамотей, иди-ка сюда! Талиб подошёл ближе.
— Заходи, Талибджан, заходи, — вежливо, как взрослому, сказал чайханщик. — Мы вот сидим сейчас и думаем: пришёл бы Талибджан, он по-русски читать умеет, всё бы нам объяснил.
Талиб был единственным мальчишкой на улице, который умел читать и по-узбекски и по-русски. В домашних частных школах, какие были почти на каждой улице в старом городе, обучали только чтению корана по-арабски, изучали религиозные книжки, наизусть заучивали молитвы, и мало кто выходил из такой школы грамотным. Даже те взрослые, кто в детстве умел с грехом пополам прочесть текст из старинной духовной книги, с годами забывали всё и становились такими же неграмотными, как и большинство узбеков в то время. Талиб тоже ходил в такую школу, но выучился писать и читать по-узбекски и по-таджикски не там, а дома. В отличие от большинства женщин их улицы, его мать была довольно образованной и сама учила сына. Она была даже грамотнее своего мужа, кузнеца Саттара.
По-русски Талиб научился читать совсем недавно, после отъезда отца. Этим он был обязан своему дяде Юсупу. Тот и раньше брал Талиба с собой в европейскую часть города, поручал ему разносить мелкие покупки в дома, где жили русские, читал ему вслух русские газеты и в прошлом году подарил русский букварь с картинками.
— У тебя светлая голова, — говорил дядя Юсуп. — Ты можешь стать большим человеком, управляющим, доктором или переводчиком. Ты даже большим купцом можешь стать.
Дядя Юсуп знал русский язык много лучше, чем Талиб, но большим человеком почему-то не стал. Почему? Талиб не спрашивал. Недаром дядю звали Юсуп-неудачник.
У входа в чайхану Талиб снял кауши и вежливо остановился на пороге.
— Заходи, заходи, не стесняйся, — повторил чайханщик.
По тому, как люди в чайхане смотрели на него, Талиб понял, что здесь действительно говорили о нём и ждали его.
Талиб сел, подобрав под себя ноги, ему протянули пиалу с чаем, он отхлебнул, вернее, только слегка замочил губы и, поставив пиалу на ковёр, стал ждать, что ему скажут.
— Вот стреляют, — сказал старик Касымходжа, занимавшийся в летнее время заготовкой камыша на озёрах, а зимой сидевший без дела. — Зачем стреляют, мы не знаем.
— Почему не знаем? — возразил другой завсегдатай чайханы, ночной сторож из соседнего казённого склада. — Стреляют, чтобы власть захватить. Власть без стрельбы не возьмёшь. Всегда так было.
Остальные трое посетителей: ломовой извозчик Нурмат, сын бабушки Джамили подёнщик Тахир и продавец овечьего сыра Раджаб — не поддержали разговор.
— Все говорят: революция, — сказал чайханщик. — Скоро год, как все говорят: революция. Теперь Николая нет, теперь Керенский стал. Опять говорят: революция. Давай лучше почитай нам русскую газету.
Он протянул Талибу номер газеты «Туркестанский курьер». На первой странице, сразу под заголовком, очень крупными буквами были напечатаны всевозможные объявления. Талиб, не читая, знал, что там не может быть про революцию, но в левом нижнем углу первой страницы он, кажется, нашёл то, что искал.
«Петроград, — прочёл он. — Нам сообщают, что премьер-министр Керенский заявил, что война будет продолжаться до победного конца и революционное Временное правительство не пойдёт на уступки требованиям большевиков во главе с Ульяновым»...
— Нет, это не про революцию, — сказал Талиб. — Это я уже знаю... «до победного конца». Сейчас в другом месте посмотрим.
Талиб перевернул страницу и прочёл ещё одну заметку: «Сарты на приёме у Керенского».
В заметке рассказывалось о том, что в приёмной Керенского ожидают аудиенции делегаты из Ташкента, просящие вернуть на родину мобилизованных царским правительством двадцать пять тысяч джигитов местных национальностей. «Мы не знаем, сумеет ли наш премьер-министр принять делегатов, ибо у него сейчас много других государственных забот, но надеемся, что каков бы ни был его ответ, он будет благоприятен» — так заканчивалась заметка. Талиб добросовестно, как мог, неревел содержание прочитанного и сказал:
— Мне кажется, об этом я тоже слышал уже от дяди. Это свежая газета? — Талиб посмотрел на дату и добавил: — Это же старая газета. Она вышла пять дней назад. В ней ничего не может быть о новой революции.
— Э-э, — обиженно протянул чайханщик. — Газета не молоко, за пять дней не скиснет. Просто ты читать не умеешь. Вот прочти лучше, что здесь написано. — И он ткнул пальцем в крупное объявление на первой странице.
Театр летняя «Хива»: Мировой боевикъ! Роскошная картина! Въ 4-хь частяхъ
Забыты нњжныя лобзанья
— ЭТО не про революцию, — сказал Талиб.
— А это? — ткнул пальцем в другое объявление упрямый чайханщик.
ТЕАТРЪ» Гелiос»
Только три дня!
гвоздь сезона! въ 4-хъ частяхъ
Голубая Кровь
— И это тоже не про революцию, — уверенно сказал Талиб.
— А про революцию так ничего и нет? — ядовито усмехнулся чайханщик. Недоверие своё он не скрывал. — Так во всей газете ничего нет про революцию?, Ты давай переведи нам вот это. А!
Театръ МАКСЪ: Ешё одинъ день
Только для взрослыхъ!
Дамочка с мухой.
Пикнатный фарсъ въ 44-хъ частяхъ
Прочёл объявление Талиб довольно легко, но перевести оказалось куда труднее. Некоторых слов он не знал, это точно. «Гвоздь» — слово понятное, но к чему здесь гвоздь, совсем неизвестно. Дамочка — это красивая женщина, но почему с мухой? Неясным был и «пикантный фарс».
— Это трудно перевести, — сказал Талиб.
— Трудно! Конечно, трудно, — не унимался чайханщик. Видимо, газету достал он, и, ему казалось обидным такое пренебрежение к его усилиям. — Может быть, как раз здесь и сказано про революцию. Тогда дальше читай. Не может быть, чтоб совсем не было. Крупные буквы читай.
Талиб не хотел разочаровывать слушателей, не хотел обижать чайханщика и стал читать все объявления подряд.
Объявления были такие:
«На Ташкентском ипподроме, за кадетским корпусом, правее свалки, ЗАВТРА СКАЧКИ».
«Н У Ж Н А грамотная горничная. Обращаться по адресу...»
«ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ БАРЫШНИ со средним образованием ищут место горничных. Адрес в редакции для Р.С.Т.С».
«БАРС спешно продаётся, ручной, ласковый, как котёнок...»
«3УБ-врач Д. С. ЕДВАБНАЯ, вернувшись, возобновила приём».
Талибу понравились два последних объявления. Во-первых, ему захотелось иметь собственного барса, а во-вторых, он почему-то заинтересовался ЗУБ-врачом ЕДВАБНОЙ.
Интересно, что такое ЗУБ-врач, откуда она возвратилась и почему у неё такая фамилия.
— Хватит читать, — сдался наконец чайханщик. — Вот идёт наш Рахманкул-полицейский. Он больше знает, чем газета.
Рахманкул действительно принёс новости. С его приходом посетители чайханы совсем забыли о существовании Талиба.
— В Петрограде, — начал свой рассказ бывший полицейский, — в Петрограде было Временное правительство. Оно жило во дворце царя Николая. Это, говорят, очень большой дворец, Зимний. Там даже зимой тепло. Вчера по речке Неве, которая, говорят, больше, чем Сыр-Дарья, к дворцу подошёл пароход, как называется, я забыл, и стал стрелять по дворцу из пушек. А с другой стороны всякая голытьба, всякие там подёнщики и солдаты тоже стали стрелять. Тогда Керенский убежал...
— Подожди, — перебил Рахманкула подёнщик Тахир. — Почему ты сказал «всякие там подёнщики»? Что, подёнщик не человек? Бывший полицейский лучше? Интересно, где были в то время бывшие петроградские полицейские, когда пароход стрелял из пушек?
— Не знаю, — сказал Рахманкул. — Не знаю, где были полицейские, а за подёнщиков прошу прощения. Теперь у каждого надо просить прощения, — зло добавил он. — Если обижаетесь, я не буду рассказывать.
— Продолжайте, уважаемый, — попросили Рахманкула чайханщик и продавец овечьего сыра.
Рахманкул сделал вид, что обиделся, и стал пить чай и есть сахар.
Сахар он не клал в чай, а грыз зубами, и Талиб, сидевший за спиной бывшего полицейского, слышал хруст, видел, как движется большая челюсть Рахманкула и шевелятся его маленькие уши, похожие на пельмени.
— Ну вот, — опять стал рассказывать Рахманкул. — Эту голытьбу подговорили боль-ше-ви-ки.
— Кто это? — спросил продавец овечьего сыра.
— Неужели не знаешь? — вмешался в разговор извозчик Нурмат. — И у нас есть большевики, даже среди мусульман есть большевики. Сын учителя из квартала Укчи — большевик...
— Пусть их всех покарает аллах, если они плохие! Пусть аллах будет им защитой, если они хорошие! — сказал осторожный чайханщик.
— Эти самые большевики — немецкие шпионы, — с чувством собственного достоинства продолжал Рахманкул. — Они хотят всю Россию отдать царю Вильгельму и кричат: «Вся власть Советам!» и «Долой войну!» Когда наши ташкентские смутьяны узнали об этом, они тоже стали кричать и тоже захотели свергнуть власть. Вот теперь идёт стрельба. В новом городе по улицам пройти нельзя.
— Что же будет после?.. — спросил продавец овечьего сыра.
— Этого никто не знает, — отвечал Рахманкул. — Потому что умные люди ещё в марте говорили, нельзя разгонять полицию, а Керенский — глупый человек — взял всех полицейских и уволил. Ты спрашиваешь, — обратился Рахманкул к Тахиру-подёнщику, — где были полицейские? Полицейские сидели дома и пили чай с халвой. Потому так и получилось. Ну ничего, какая бы власть ни пришла, если она хочет быть крепкой, непременно всех бывших полицейских обратно возьмёт. Каждой власти такой кулак нужен. — И Рахманкул показал присутствующим свой огромный кулак с золотым кольцом на среднем пальце.
Кулак бывшего полицейского выглядел убедительно. Посетители чайханы не стали возражать, но и соглашаться с Рахманкулом им почему-то не хотелось. Они только вздохнули. Сила солому ломит, это каждый знал.
Талиб чуть не спросил Рахманкула, где же были полицейские, когда прогоняли царя Николая. Ведь тогда они всё ещё ходили в мундирах с шашками и свистками и царь Николай их не прогонял. Но взрослые молчали, промолчал и он.
Талибу захотелось уйти, но он всё сидел, поджав
под себя ноги, и слушал, как стреляют в новой, европейской части города.
— Это из крепости стреляют, — заметил чайханщик.
— Из крепости и в крепость, — уточнил Тахир.
— Кто победит, посмотрим, — вздохнул продавец овечьего сыра.
Талиб встал, вежливо поклонился присутствующим и вышел из чайханы.
* * *
Вечером пришёл дядя Юсуп. Он был взбудоражен событиями дня и долго рассказывал Талибу о том, как генерал Временного правительства Коровиченко не хотел уступить власть Советам депутатов, вооружил учащихся кадетского корпуса и гимназистов, захватил крепость, и поэтому на улицах города льётся кровь.
— Народ войны не хочет, народ хлеба хочет. Сейчас все только и говорят о Ленине, который у большевиков самый главный. Помнишь, я тебе говорил про Ленина?
— Помню, — ответил Талиб, хотя не мог точно сказать, говорил ему дядя про Ленина или про кого-нибудь другого. Дядя часто рассказывал ему новости, и все имена упомнить было бы просто невозможно.
— Этот Ленин очень хороший, говорят, человек, только один у него недостаток. В бога не верит, ни в русского, ни в мусульманского, ни в еврейского — ни в какого бога не верит. Это очень плохо.
Несмотря на то, что дядя Юсуп был человеком по тем временам довольно образованным, он свято верил в аллаха, читал коран, пять раз в день совершал молитву, каждую пятницу ходил в мечеть. Он сам больше года учился в духовном училище — медресе. Дядя не любил вспоминать об этом, а когда его спрашивали, отвечал коротко: «Везде есть хорошие люди и везде есть плохие люди, но аллах в этом не виноват».
— А Усман-бай верит в бога? — спросил Талиб.
— Верит, — ответил дядя Юсуп. — Почему ты спрашиваешь?
А Он нам сто рублей должен за клинок. Сто рублей или отдать тетрадку дедушки Рахима, уста-Тилля. Обещал достать тетрадку, а не достал.
Дядя очень удивился:
— Откуда ты про тетрадку знаешь? Мы с твоей мамой тоже про это говорили, но она не хотела напоминать Усман-баю. Она боялась его. Пусть, говорила она, отец вернётся, тогда сами мужчины всё решат между собой.
— У нас совсем нет денег, — сказал Талиб. — Потому я вспомнил. Пусть деньги отдаст.
— Не огорчайся, Талибджан, мне удалось достать два ящика ламповых стёкол, это хороший товар. Стрельба кончится, тогда я продам стёкла, ещё что-нибудь достану. Проживём. — Дядя Юсуп был человеком покладистым и робким. Он ни с кем не хотел портить отношения.
— А может, Усман-бай тетрадку достанет, — не унимался Талиб. — Пусть тетрадку отдаст. Или деньги.
Дядя Юсуп внимательно посмотрел на племянника, вздохнул и сказал с уважением:
— Ты теперь наследник, твоё право требовать. Если хочешь, завтра пойдём с тобой к Усман-баю. — И добавил: — Ты решительный, как твой отец.
* * *
Возле высокой глиняной стены с резной калиткой из толстых дубовых досок дядя и племянник остановились. Эта стена и эта калитка с начищенным медным кольцом невольно внушали уважение. Усман-бай был самым богатым человеком не только на улице Оружейников, весь Ташкент знал Усман-бая.
На двух базарах Усман-бай держал мануфактурные магазины, его доверенные люди занимались скупкой шерсти и кож в Ташкенте и во многих других городах. Злые языки говорили, что Усман-бай в молодости занимался конокрадством и грабежом на караванных дорогах, а потом, накопив денег, занялся торговлей. Так это или не так, но Усман-бая уважали и боялись. Наверное, больше боялись, чем уважали.
Дом Усман-бая огромный, двухэтажный, с террасами и балконами, с амбарами и конюшней на шесть лошадей; посреди двора протекает арык, а перед домом клумба с цветами. Это мужская половина, куда могут зайти посторонние, А по ту сторону дома — женская половина. Что там находится, этого и не видел никто. Четыре жены есть у Усман-бая. Ровно столько, сколько позволяет священная книга «Коран».
— Почтенный Усман-бай дома сейчас? — искатель^ но и робко спросил дядя Юсуп у работника, чистившего лошадь возле конюшни.
— Дома, кажется, — ответил работник, молодой плечистый парень с выбитыми передними зубами.
— Не будешь ли так любезен, друг, не скажешь ли ему о нашем приходе?
— Мне нельзя входить в дом. Там чисто, а я грязный, — сказал работник и опять принялся скрести лошадь. — Там есть верёвка, дёрни за неё, и в доме будут знать.
Действительно, у калитки с внутренней стороны стены болталась верёвка, которая тянулась через весь двор к дому.
Дядя Юсуп дёрнул за верёвку, но, видимо, недостаточно сильно. Он подождал и дёрнул сильнее. Через минуту или через две на террасу вышел сам Усман-бай, из-под ладони, против солнца, поглядел на вошедших и спустился на одну ступеньку. На этой ступеньке он задержался, повернулся задом к гостям и старательно надел кауши.
— Прошу вас, прошу вас, пожалуйста, — заговорил он, с протянутыми руками двигаясь навстречу дяде и племяннику. — Рад видеть вас вместе. Как здоровье, как самочувствие? — сыпал он обязательными приветствиями, не давая гостям и рта раскрыть. — Горе, кругом теперь одно горе, велик аллах, — продолжал Усман-бай. — Заходите, рады вам, заходите. У всех теперь горе. Цены растут, три дня в городе стрельба, убийства, три дня ни одна лавка в городе не торгует, вы тоже не торгуете, почтенный Юсуп-ака. Одно разоренье. И холодно уже становится. Вот завяли у меня розы, совсем осыпались. Приходите весной, какие розы у меня, знаете? Из дворца эмира благородной Бухары у меня розы. Мой друг, садовник эмира, под большим секретом продал мне три куста. Для вас, уважаемые, самый лучший бутон срежу...
Он так сыпал словами, был так радушен и суетлив, что у Талиба в голове слегка загудело. Дядя Юсуп смущался всё больше и больше.
— Мы к вам по делу... — вставил наконец слово и дядя Юсуп.
— Дела, дела, — прервал его Усман-бай, — у всех теперь дела. Ох, тяжёлое время настало! Заходите, посидим поговорим о делах. Рад вам, очень рад. Пословица есть: гость в дом — радость в дом...
Усман-бай провёл дядю Юсупа и Талиба в комнату для гостей, большую и просторную, с круглой высокой железной печью, какие Талиб видел только в русских кварталах новой части Ташкента.
Стены были разрисованы всякими рисунками, похожими на павлиньи перья, потолок лепной, там тоже всякие узоры, гирлянды из роз и лепестков. На полу лежал мягкий и яркий туркменский ковёр, горы атласных подушек.
Усман-бай быстро и звонко защёлкал пальцами. Тотчас откуда-то вынырнула служанка и расстелила шёлковый дастархан. Печенье и прозрачный сахар, кишмиш и изюм с косточками, фисташки и миндаль, европейские конфеты в обёртках и матовые гроздья винограда появились на дастархане под звонкое щёлканье байских пальцев.
— Быстрей, быстрей, — приговаривал Усман-бай. — Разве ты не видишь, глупая, какие сегодня у нас дорогие гости!
Чем больше Усман-бай говорил, чем больше расхваливал гостей и чем больше угощенья появлялось на разостланной шёлковой скатерти, тем больше неприязни к хозяину испытывал Талиб. Он и сам не понимал, почему так получается. Даже чайники с раскосыми китаянками под цветистыми зонтиками вызывали неприязнь мальчика. Дядя Юсуп совсем растерялся и сник.
— Берите, берите, угощайтесь, — рассыпался Усман-бай, время от времени бросая быстрые взгляды то на дядю, то на племянника.
Дядя Юсуп оторвал одну виноградинку от кисти и положил в рот, не решаясь раскусить. Талиб тоже оторвал одну ягоду и держал её в руках.
— Мы по делу, — опять начал дядя Юсуп, с трудом проглотив виноградинку. — Вот Талибджан сейчас остался сиротой, ему нужны деньги, а вы должны...
— Сто рублей, — перебил дядю Юсупа Усман-бай. — Да, я обещал ещё сто рублей за клинок, хотя он никогда не стоил и четверти этой суммы. Саттар обманул меня, но я всё равно согласен уплатить, раз обещал. Только не сейчас. Сейчас совсем нет денег.
— Вы обещали сто рублей или тетрадку моего дедушки, — сказал Талиб.
— А, наследник! — вроде бы обрадовался Усман-бай. — Ты настоящий наследник, молодец! Зачем тебе старая тетрадка твоего дедушки? Я дам тебе десять таких тетрадок, только совсем новых. Зачем?
— Вы обещали сто рублей или тетрадку моего дедушки, — не умея скрыть неприязнь, повторил Талиб.
Дядя Юсуп даже покраснел оттого, что племянник такой невежливый. Он пытался что-то сказать, но Усман-бай теперь смотрел только на Талиба.
— Ты, наследник, совсем большой и упрямый, как твой отец, — сказал Усман-бай совсем другим тоном. — Тетрадку я не смог добыть. Не смог, понимаешь? Спроси у Рахманкула. А теперь полиции нет, где же я достану тетрадку? И денег у меня сейчас нет. Ни копейки!
Талиб смотрел на Усман-бая в упор. До этой минуты он не решался посмотреть в глаза самого уважаемого человека их улицы, а теперь смотрел прямо и уверенно. Тут уж сам Усман-бай отвёл глаза и обратился к дяде Юсупу:
— Конечно, я обязательно отдам долг. Не такой я человек, чтобы не отдавать долги. Но рассудите сами, зачем вам эти деньги сейчас? Теперь деньги сильно подешевели, в то время сто рублей — богатство, а нынче на базаре фунт мяса шестьдесят копеек, картошка — по восемь рублей за пуд... Погодите, вот установится новая власть, деньги опять подорожают, тогда отдам.
Юсуп знал, что деньги не могут подорожать, наоборот, с каждым днём дорожали продукты, но так прямо возразить Усман-баю он не решился.
— Тяжёлые времена, — только и сказал он.
— Вот видишь, наследник, — вздохнул Усман-бай. — Твой дядя, как и я, торговый человек, он понимает. Ты у него учись, как с людьми разговаривать.
Талиб посмотрел на своего робкого родственника, понял, как тот стыдится собственной слабости, и обиделся на него.
— Тогда давайте тетрадку, — упрямо сказал Талиб. — Вы же обещали.
Он понимал, что нарушает законы гостеприимства, что не должен так разговаривать со старшим по возрасту человеком, но Талибу почему-то вспомнился тог спор отца с баем и полицейским, вокзал, красный вагон, растерянное отцовское лицо в крохотном окошке под крышей и слёзы на его глазах.
Усман-бай смотрел прямо перед собой и осуждающе качал головой.
— Невежливо. Невежливо, — бормотал он про себя, но так, чтобы слышали все.
Тогда Талиб, не в силах сдержать себя, вскочил с ковра и неожиданно громким голосом спросил:
— А помните, что говорил папа, когда вы с Рахманкулом уходили с нашего двора?
— Не помню, дорогой, — с усмешкой отвечал Усман-бай, — твой отец был умный человек, царствие ему небесное уже наверно, но он очень много тогда говорил.
— Не помните?
— Нет. Не помню и не хочу помнить. Я даже не знаю, что ты имеешь в виду, дорогой Талибджан. Знаю только, что ты больше похож на своего горячего отца, царство ему небесное, горемыке, чем на свою добрую мать, да будет ей земля пухом. Не помню.
— Насчёт ушей, — выпалил мальчик, еле сдерживая слёзы, — насчёт ваших ушей и ушей Рахманкула...
Больше сдерживаться не было сил, и Талиб бросился вон из комнаты. Остановился он только за калиткой и стал ждать дядю Юсупа. Тот вышел смущённый, на племянника старался не глядеть и сказал скорее жалобно, чем укоризненно.
— Вот, обидели почтенного человека. Конечно, он нехороший человек, но уважаемый, а мы его обидели... Пришлось мне за тебя прощения просить.
— Ну и зря! — пробормотал мальчик себе под нос.
Они довольно далеко отошли от байского дома, когда Талиб заметил, что в руках у него та самая виноградинка, которую он взял с дастархана. Он вернулся назад и швырнул её обратно через высокую глиняную стену, окружавшую двор Усман-бая.
Глава третья
КОЖАНЫЙ ЧЕЛОВЕК
На другой день с утра в городе уже было тихо, стрельба прекратилась. Все знали, что победили большевики и солдаты и вся власть перешла к Советам.
Дядя Юсуп взял Талиба с собой, помогать в лавке. Дул прохладный ветер, поэтому всю дорогу они шли по солнечной стороне улиц, и позднее осеннее солнце ласково грело их.
Лавка дяди Юсупа была совсем крохотной. Два ящика с ламповыми стёклами занимали ровно половину пространства за прилавком. На узеньких полках лежали пакетики с синькой для белья, несколько кусков мыла, нитки, иголки, в углу стояла связка веников — вот и весь товар.
Сначала подошла какая-то женщина, в парандже с новой волосяной сеткой — чачваном, поторговалась насчёт пакетика синьки, потом приценилась к ламповому стеклу, пересчитала деньги и купила одну только синьку. Подходили и другие покупатели, внимательно рассматривали товар и уходили. Появился русский рабочий в высоких сапогах и фуражке с лакированным козырьком, увидел ламповые стёкла, удивился и сразу купил не торгуясь.
— Гляди-ко, — сказал он дяде Юсупу. — Весь новый город обошёл, и нигде нету, а у тебя пожалуйста. И дёшево.
Когда рабочий отошёл, дядя Юсуп сказал с гордостью:
— Видишь, я знаю, что брать. Теперь бы оконных стёкол достать, они хорошо пойдут. Сходи, Талибджан, в новый город, посмотри, много ли стёкол выбито. Стрельба ведь была сильная.
Талиб обрадовался. Походить по новому городу, посмотреть, послушать, что люди говорят, — это очень интересно. С независимым видом он прошёлся мимо других лавок и направился в сторону большого арыка Анхор, разделяющего старый и новый Ташкент.
С одной стороны находился старый азиатский город, которому тысяча лет от роду, с кривыми пыльными улочками, немощёными дорогами, с приземистыми глиняными домиками без окон. А по ту сторону Анхора за короткое время были построены красивые дома, окна большие, за стёклами занавески, почти возле каждого дома палисадник с цветами, тополя по обе стороны улицы, а сами улицы вымощены булыжником.
Талиб хотел прокатиться на трамвае, но жалко было денег, ехать же на подножке, как он часто делал раньше, он счёл теперь для себя неприличным и пошёл пешком. Возле керосинной лавки у самой дороги внимание Талиба привлёк мотоцикл, очень красивый и совсем новенький тёмно-зелёный мотоцикл, сверкавший на солнце огромным никелированным рулём со множеством рычажков и с начищенными до сияния медными трубочками под баком, на котором был изображён тоже никелированный, сверкающий горный козёл, застывший в яростном прыжке.
Хозяин мотоцикла выглядел весьма необычно. Он весь был в новой коже, сверкавшей на солнце почти так же, как и его мотоцикл. На нём была кожаная фуражка, кожаная куртка, кожаные штаны, на ногах кожаные ботинки, а икры обтягивали странные кожаные чехлы с пряжками. Потом Талиб узнал, что такие кожаные чехлы называют крагами. Вся кожа одного цвета — коричневая. Сам человек был невысокого роста, рыжеватенький, под носом рыжеватенькие усики. Как щёточка.
Хозяин мотоцикла что-то купил в лавке, может, масло, а может, бензин. Он стоял возле своего сверкающего мотоцикла и вытирал руки тряпкой. Потом он сунул тряпку куда-то под высокое сиденье с пружинами, надел кожаные перчатки и крутанул какую-то ручку.
Мотоцикл затрещал. Мотоциклист сел на него верхом, тронул длинный рычаг с костяной шишечкой, и мотор мотоцикла вдруг замолк. Тогда хозяин снова слез, опять крутанул ручку, завёл мотор, сел за руль, тронул тот же рычаг, и мотоцикл опять заглох. Так повторялось четыре раза. Тогда кожаный человек обошёл мотоцикл вокруг, почесал в затылке, сдвинул фуражку в прежнее положение, опять завёл мотоцикл, сел за руль, теперь он нажал левой рукой какой-то рычажок на руле и только тогда взялся за костяную шишечку. Тут мотоцикл рванулся вперёд и, виляя по улице, направился вверх, к Анхору, к новому городу. Талибу тоже нужно было туда, и он побежал следом.
Мотоциклист ехал не быстро, Талиб бежал изо всех сил и не отставал. Только за мостом мотоцикл заметно опередил Талиба и, проехав немного прямо, свернул в первую улицу направо. Талиб огорчился и сбавил ход, но когда он добежал до поворота, то сразу же снова увидел зелёный мотоцикл. Он стоял, прислонённый к тополю, возле арыка. Кожаного человека поблизости не было: вероятно, он вошёл в дом, видневшийся за деревянным растрескавшимся забором. Талиб подошёл к забору и прильнул к щели, но ничего не увидел, кроме голого осеннего сада, красных опавших листьев на дорожках и желтеющей травы. Он вернулся к мотоциклу и, подобрав полы халата, сел перед ним на корточки. Вблизи мотоцикл был ещё красивее, чем издали. На баке рядом с прыгающим козлом вилась какая-то надпись. Буквы были похожи на русские, но не все. Из бака вниз тянулись две медные трубочки. Но они не просто тянулись, а были красиво изогнуты. Одна из них подходила к какой-то штуке, сделанной из белого металла, другая шла ниже, к такой же белой коробке, на которой были буквы, три буквы, тоже непонятные. От этой коробки к другой тянулась цепь, как у велосипеда. Велосипед Талиб видел несколько раз. На них катались богатые гимназисты.
Талиб долго не решался дотронуться до мотоцикла, но потом пощупал медную трубочку и нажал на какую-то кнопочку. Кнопочка эта была в той штуке из белого металла, куда входила трубка. Нажималась она легко. Талиб несколько раз нажал на кнопку, и от этого сильнее запахло бензином. Больше он ничего не стал трогать, а просто сидел и нюхал бензин. Запах ему нравился.
Через некоторое время из калитки вышел кожаный человек и, внимательно оглядев узбекского мальчика в тюбетейке и халате, принялся заводить мотоцикл.
— Каерга кетяпсыз? — неожиданно для самого себя бухнул Талиб по-узбекски.
— Чего? — переспросил человек. Талиб перевёл свой вопрос на русский:
— Куда вы едете?
— А тебе зачем?
— Я за вами побегу. Я от керосинной лавки бежал.
— Понравился? — кивнул человек на свой мотоцикл.
— Да! — ответил мальчик.
— Понимаешь, — сказал кожаный человек, — я бы тебя посадил на багажник, но сам ещё плохо езжу. Боюсь, уроню тебя.
— Я буду крепко держаться.
— Понимаешь... (Скоро Талиб убедился, что человек этот все слова говорил только после слова «понимаешь».) Понимаешь, этот мотоцикл мы реквизировали у офицеров. Ездить на нём я не обучился как следует. На автомобиле могу, а на этом никак не освоюсь.
— Я буду крепко держаться, — повторил Талиб. Человек ещё немного подумал и сказал:
— Понимаешь, а тебя дома не хватятся?
— Нет.
— Понимаешь... — замялся человек в коже. — Садись сюда и держись крепче.
Талиб уселся верхом на багажник и, чтобы успокоить несколько озадаченного хозяина мотоцикла, серьёзно сказал ему:
— Я понимаю.
Сначала они подъехали к большому белому зданию, где помещался Совет рабочих и солдатских депутатов. Там было много народу, шум, суета. Ходили солдаты с винтовками и какие-то рабочие. Стояли лошади под сёдлами и сразу два автомобиля.
Хозяин мотоцикла ушёл по делам и долго не возвращался. Потом он вышел с какой-то бумажкой в руках, перечитал её и сунул в наружный карман своей сверкающей куртки. Что-то изменилось в его облике. Талиб не сразу даже понял. На правом плече у него висел большой пистолет в деревянной кобуре.
— Понимаешь, — сказал он Талибу, — порученьице дали. Надо произвести обыск у одного генерала. Бекасов. Не слышал? Солдаты туда пошли.
Ехать пришлось довольно далеко, по пути они догнали двух солдат, старого и молодого, которые, как выяснилось, шли к тому самому генералу Бекасову. Генерал уже несколько лет был в отставке, но на всякий случай у него нужно изъять оружие, и если при обыске у него найдётся что-либо предосудительное, то генерала тоже нужно изъять. Мало ли что может случиться.
Человек в кожаной форме и Талиб подъехали к генеральскому дому раньше, чем подошли солдаты. Они уселись на скамейку у арыка на другой стороне улицы.
Мотоциклист с удивлением, будто в первый раз, оглядел свои ботинки, краги, штаны, куртку, положил на колени деревянную кобуру, пощёлкал по ней пальцем и сказал:
— Понимаешь, какое удивительное дело. Год назад в это самое время я ходил в кандалах и полосатом халате, гонял тачку на прииске, и каждый надзиратель с одной лычкой или даже без лычки мог дать мне в морду. Не в лицо, а в морду, ведь у каторжника лица нет. Понимаешь? И вот сижу я теперь с тобой на лавочке, в кожаной куртке, и в кармане у меня ордер на арест и обыск генерала Бекасова. Мне дано решать, ходить этому генералу по земле или сидеть ему в кутузке.
Талиб слушал и кивал в ответ, понимая, что человек говорит что-то очень важное для себя, говорит не ему, а себе. Не будь здесь никого, он всё равно говорил бы это про себя или даже вслух своему мотоциклу:
— Понимаешь, жизнь, оказывается, очень длинная вещь. Я и не думал, что доживу до этих дней. Просто не верилось. Вот и этот генерал. Командовал он, наверно, сначала взводом или ротой, потом, допустим, полком, дивизией... или в штабе служил. Били его японцы, ругали старшие начальники, сам государь император его в отставку выгнал за глупость, допустим... Жил себе генерал и не думал, что царя прогонят, что Керенский убежит, а будет судьбу его решать бывший каторжник Фёдор Пшеницын.
Мотоциклист порылся в кармане кожаных брюк, вытащил трубку и сунул её в рот.
— Курить, понимаешь, бросил, сосу теперь пустую, как грудной младенец. Чахотка у меня.
— У дяди Юсупа тоже чахотка, — сказал Талиб.
— Плохое дело. Я в тюрьме две вещи приобрёл: образование и чахотку. Вернее, образование в тюрьме, а чахотку на каторге. Мне очень повезло. Был я литейщиком на заводе в Москве, книжки иногда почитывал, а в тюрьме меня жизнь свела с образованнейшими людьми. Три года я с ними пробыл, они занимались со мной по очереди, подготовили за гимназию. И алгебру, и геометрию, и русский язык с литературой. Говорили: выйдешь на поселение, сможешь сельским учителем быть. Мне это очень по душе — быть сельским учителем. Глухая такая деревня в лесу, молоко, ягоды, картошка своя, речка недалеко, вода синяя, а по берегу, по зелёной траве ходят белые гуси. Понимаешь, синяя вода, зелёная трава и белые гуси. Это мне на каторге так мечталось. А вот вышло всё иначе, партийный долг иного требует. Да и не смог бы я в деревне, я городской человек, толпу люблю, сутолоку... — Твой отец кто? — спросил он, пряча трубку обратно в карман брюк.
— Кузнец, — ответил Талиб.
— Самая пролетарская профессия. Ты ему помогаешь в кузне?
— Он два года в России, его на работы взяли.
— Теперь вернётся скоро, небось написал уже.
— Он ничего не пишет, ни одного письма.
— Понятно, — сказал мотоциклист. — Ты меня зови дядя Федя. Пшеницын. А мать чего делает?
— Умерла она три дня назад, — сказал Талиб.
— Понятно. — Фёдор опять вытащил трубку и сунул её в рот. Больше он ничего не говорил до тех пор, пока не подошли те два солдата, которых они обогнали в пути.
— Понимаете, хлопцы, — сказал Пшеницын солдатам. — Мы должны вежливо войти, предъявить ордер и на законном основании произвести обыск. Чтобы всё было аккуратно. Пошли. И ты иди с нами: посмотришь, как генералы живут.
Они подошли к парадному, и Фёдор с силой крутанул вертушку звонка, на котором было написано: «Прошу повернуть». Дверь приотворилась, и в щёлку выглянула пожилая женщина в фартуке и косынке.
— Ох, господи! — испугалась женщина. — Вы к кому?
— Обыск! — сказал Пшеницын.
Дверь тут же захлопнулась, и Фёдор опять с силой крутанул звонок. В доме послышались голоса, и хриплый бас прогудел:
— Минуточку, господа.
Вскоре дверь распахнулась настежь.
Маленький лысый старичок с венчиком серебристого пуха вокруг лысины, с большими и пышными седыми усами стоял в передней. На нём была домашняя курточка со шнурами на груди, генеральские брюки с красными широкими лампасами и мягкие войлочные шлёпанцы.
— Прошу вас, господа большевики. Я долго ждал вас.
Фёдор Пшеницын пропустил солдат вперёд, а сам прошёл вместе с Талибом.
— Вот ордер, — сказал он генералу.
— Даже ордер? — иронически удивился генерал. — Зачем такие формальности? Я готов ко всему.
Фёдор нахмурился и очень резко сказал:
— Откуда вам известно, что будет всё?
За спиной генерала стояли две женщины, одна пожилая, в фартуке, та, что в первый раз отпирала дверь. Другая — очень молодая, красивая, в чёрном платье с белым воротничком и белыми манжетами.
— Кто это? — кивнул Фёдор на женщин.
— Моя невестка Вера Павловна, — ответил генерал. — Учительница. А это кухарка Лизавета.
— Хоть бы ноги вытерли, — сказала кухарка.
— Тише, Лиза, не надо, — прошептала генеральская невестка.
Солдаты ухмыльнулись и посмотрели на свои пыльные сапоги, Фёдор тоже.
— Правильно, — сказал он. — Ведь ей убираться. Все вытерли ноги о коврик, а Талиб снял кауши.
— Этот мальчик, очевидно, представитель туземного населения? — с той же иронической миной спросил генерал. — Представитель народа?
— Разговорчив ты больно, ваше высокопревосходительство, — ответил ему один из солдат, тот, что был старше. — Будет тебе ехидничать, поехидничал своё.
Обыск начали со столовой. Заглянули под стол, растворили дверцы большого буфета, набитого таким количеством посуды, какого Талиб ни в одном магазине не видел; отодвинули от стены диван, заглянули в стоящие в углу высокие часы с золотым циферблатом, сверкающим золотом маятником и двумя тяжёлыми гирями. Едва Пшеницын отвернулся от часов, как в них раздалось шипение, затем какая-то музыка и они пробили шесть раз. Стрелки показывали два часа дня.
— Это почему они шесть раз бьют? — спросил у генерала молоденький солдатик, стоящий у входа в столовую.
— Испорчены, сбился бой, — ответил генерал.
— Починить надо, — строго заметил солдатик.
— Вы часовщик? — спросил генерал.
— Нет. Непорядок это. Два часа всего, а они шесть бьют.
Потом все прошли в гостиную. Там стоял рояль, столики, крытые зелёным сукном, много мягкой мебели и виолончель без чехла.
— Кто играет? — спросил Фёдор.
— Сын, — коротко ответил генерал.
— Тут нечего искать, — сказал Фёдор. — Покажите кабинет. Да не ходите вы за нами, — сказал он женщинам. — Мы лишнего не возьмём.
Невестка покраснела и отвернулась. Обе женщины остались в гостиной.
В кабинете было полутемно, тяжёлые шторы закрывали окно, пропуская лишь тонкую полоску света.
Фёдор потянул за верёвку, оканчивавшуюся пушистой кисточкой, и штора раздвинулась. Все стены были заставлены книжными шкафами. Фёдор внимательно оглядел корешки книг.
— Артиллерист? — спросил Фёдор.
— Фортификатор, — с достоинством ответил старый генерал. — Инженер.
Фёдор кивнул и продолжал осмотр кабинета. Солдаты ходили за ним и не знали, что им делать. Пожилой заглядывал туда, куда уже смотрел Пшеницын, а молодой ходил просто так. Наконец Фёдор сел за большой письменный стол и стал выдвигать ящики. В одном из них лежали письма, аккуратно связанные пачками. Фёдор спросил, от кого письма.
— От сыновей, — ответил генерал.
— Это они? — указал Пшеницын на портреты двух молодых людей в офицерской форме.
— Пётр и Леонид. — Старик старался отвечать исчерпывающе.
— Где служат? — опять спросил Фёдор. Ему было ясно, что старый сапёрный генерал не представляет серьёзной опасности для Советской власти. Эти молодые бравые офицеры — совсем другое дело.
— Погибли в Августовских болотах. Оба, — сказал генерал и закашлялся.
Старый и молодой солдат с уважением поглядели на старика. Они знали о том, сколько русских солдат и офицеров погибло в знаменитых Августовских болотах, на западной границе России, в первый год империалистической воины.
Талиб посмотрел на фотографии генеральских сыновей. Они были молодые и красивые.
— Оружие есть? — сухо спросил Фёдор.
Талибу не понравилось, что тот так строго разговаривает со старичком, у которого оба сына погибли.
— Есть, — спокойно ответил старичок. — В диванной.
В другой небольшой комнате не было ничего, кроме двух диванов и двух огромных стенных ковров. На коврах висело всевозможное оружие: старинные ружья с очень длинными стволами и узкими прикладами, старинные пистолеты, сабли в кожаных и металлических ножнах, кинжалы, тесаки, кортики и даже алебарда.
— Ого! — сказал старый солдат. — Целый взвод можно вооружить.
— Оружие придётся изъять, — сказал Фёдор.
— Очень жаль, — сказал генерал. — Но я ко всему готов. Прошу только учесть, что это коллекция старинного оружия, которую я собирал всю жизнь. Это не должно пропасть. Да, я совсем забыл: в кабинете в нижнем ящике лежат два современных пистолета. Я сейчас принесу.
Старичок очень проворно вышел и вернулся с наганом и браунингом. Без всякого сожаления он протянул их Пшеницыну. Тот передал их солдатам.
— Я бы хотел, чтобы на коллекцию была составлена опись, — довольно настойчиво заявил генерал. — Это моё право.
Фёдор посмотрел на солдат и сказал, что это займёт много времени, а им надо спешить.
— И всё-таки, — сказал генерал, — я позволил бы себе настаивать, господа большевики.
Фёдор достал из кармана лист бумаги и карандаш. Старичок стал диктовать.
— Первое, — начал он. — Пищаль стрелецкая времён Алексея Михайловича с кленовым ложем. Второе. Кремнёвое ружьё дальнего боя, работа уральских мастеров...
Фёдор писал мелко и быстро. Генерал диктовал размеренно и чётко.
— Пятое. Пара дуэльных пистолетов французской работы. Мастер Лепаж. Из таких пистолетов стрелялись во времена Пушкина. Это можно не писать... Особо прошу отметить клинок дамасский.
Старик снял со стены кривую саблю в дорогих, осыпанных самоцветными камнями ножнах и выдвинул клинок. Чёрная сталь и золотые волнистые узоры заиграли на свету.
— Это мой отец делал, — тихо сказал Фёдору Талиб. — Мой отец...
— Что? — переспросил генерал. — Нет, дорогой, это старинный клинок настоящей дамасской стали. Сварной булат. Здесь есть клеймо мастера и на нём слово «Дамаск». Если бы твой отец, мальчик, мог делать такие вещи, он стал бы самым богатым человеком в Ташкенте. Сейчас есть подделки — в основном германского происхождения, Золинген и Клингенталь; но это настоящий Дамаск. Полюбуйтесь.
Фёдор взял клинок в руки и сказал Талибу:
— Как металлист, говорю тебе, это старинная штука. Ей цены нет. Тысяча рублей ей цена.
— Простите, я заплатил две тысячи триста, — заметил генерал. — И не переплатил. Но пойдём далее. Какой там номер?
— Шестой, — ответил Фёдор Пшеницын.
— Шестое, — продолжал генерал. — Алебарда парадная, Франция, шестнадцатый век. Седьмое...
Оружие снимали со стен и клали на пол. Когда дошли до двадцать восьмого, последнего номера, старый солдат сказал:
— Тут же десять пудов будет, как их тащить? Действительно, оружия набралось много, и вряд ли они могли бы унести всё. Фёдор посмотрел на это оружие, на солдат, на старого генерала и сказал так:
— Есть два предложения. Первое — унести с собой оружие, оставив в доме опись. И второе — унести с собой опись и письменное поручительство генерала Бекасова, что он обязуется хранить эту коллекцию как народное достояние...
— Простите... — Генерал с саркастической улыбкой развёл руками. — С каких пор моя личная коллекция стала народным достоянием?
— С этого момента, ваше высокопревосходительство, или как вас там величали, — рассердился Фёдор. Он хотел, как лучше, а тут... — Неужели не ясно?
Улыбка сошла с генеральского лица. Он потёр лысину двумя пальцами, и лицо его стало сердитым и надменным.
— Может быть, вы объясните несознательному генералу, что значит народное достояние и что значит народ?
— Народ — это он, он, я и вот он, — сказал сурово Фёдор, последовательно указывая на старого и молодого солдата, на себя и на смущённо стоявшего Талиба. — Но не вы!
— Благодарю вас, — заволновался генерал. — Значит, это будет принадлежать тебе, мальчик. Ты народ?
Талиб молчал. Он понимал, что дело сейчас совсем не в нём, и не знал, как ответить.
— Значит, это всё теперь твоё? — не отставал генерал.
Талиб с деланным равнодушием поглядел в окно.
— Вот видите, господин большевик, народ безмолвствует, — подпрыгивая на месте, сказал генерал Фёдору.
— Не надо, папа, — раздался из-за спины генерала голос невестки. — Ты не прав. Пусть они забирают, что положено. Революция.
Фёдор опять посмотрел на груду оружия, на солдат, на генеральскую невестку, стоявшую в дверях.
— Видите ли, — сказал он невестке, — тут есть два предложения. — И он повторил то, что казалось ему вполне справедливым и разумным. — Я согласен оставить это временно и под вашу ответственность.
Никто не вмешивался в этот разговор. Солдаты, видимо, думали о том, как им тащить через весь город такую тяжесть, Талиб смотрел в окно, а генерал стоял, заложив руки за спину, и раскачивался с пятки на носок. На висках его вздувались жилы.
— Папа очень разволновался, — сказала невестка. —
Вы простите, ему семьдесят восемь лет. Он всю жизнь собирал эту коллекцию и не думает ею спекулировать. Ему просто обидно... Я согласна взять коллекцию под свою ответственность. Всё будет цело.
Она подошла к генералу и погладила его, как маленького. Генерал перестал раскачиваться и стал вроде бы меньше ростом. Лицо его сморщилось и от этого стало добрее. Невестка подвела старичка к окну, где стоял Талиб, и сказала:
— Посмотри, как красиво. Червонное золото. В России небось снег выпал, слякоть, холод. Симпатичный мальчик, — указала на Талиба, который отвернулся от окна, чтобы не мешать взрослым.
— Да-да-да, — сказал старичок. — Народ, народ. Народ безмолвствует. Без-мол-вству-ет!
Действительно, все молчали, потому что старичок и невестка Вера вызывали у каждого какое-то смутное, неосознанное чувство жалости.
Невестка перехватила чей-то взгляд, ей стало неловко, и неестественно бодрым голосом она предложила всем пообедать:
— У нас просто. Сядем все, поедим щи и варёную говядину. Прошу вас.
— Спасибо, — отказался за всех Фёдор Пшеницын. — Это не входит в наши полномочия.
Солдаты переглянулись было, но слова Фёдора отрезали им путь к обеду.
— Мы сытые, — сказал молоденький. — У нас паёк. Старичок и невестка не стали настаивать. Они подписали составленный Фёдором документ, Фёдор сунул опись в карман, и все гуськом направились к выходу. В передней старичок взял за рукав молоденького солдата и шепнул:
— Если бы не революция, приказал бы я тебе у себя отобедать, ты бы «слушаюсь!» — и всё. Вот так. Меняются времена.
Солдат не ответил и вышел на крыльцо, громыхнув винтовкой о дверь.
— Видишь, Вера, — услышали Фёдор и Талиб, когда дверь закрылась за ними. — Народ безмолвствует. Безмолвствует!
— Ехидный старикашка! — сказал старый солдат.
— А барышня хорошая, добрая, — сказал молодой.
— Вот что, ребята, — сказал Фёдор. — Вы свободны. Пистолеты сдать не забудьте. А мы с парнем поедем поесть. Жрать хочется, сил нет.
— Поехали к нам в казарму, тут рядом, — предложили солдаты.
Фёдор отказался. Солдаты простились и пошли по усыпанному осенними листьями кирпичному тротуару.
— Дядя Фёдор, а что он говорил про народ: «Народ без-мол-вству-ет»?
— Это он так. У Пушкина есть такие слова. Но они сюда не относятся. Это он от старости спутал всё. Пушкин — это знаменитый русский поэт, стихи писал.
Фёдор завёл мотоцикл и, перед тем как сесть, спросил:
— Как тебя звать, парень? Пора уж и познакомиться.
— Талиб, — сказал Талиб.
— Толя по-русски, значит. Поехали, Толя, обедать.
* * *
Обедали они в том самом доме за дощатым забором, возле которого Талиб догнал зелёный мотоцикл Пшеницына.
Очень высокая, худая и некрасивая женщина лет сорока молча накрыла на стол, поставила корзинку, в которой был хлеб, каждому положила по блестящему и, как выяснилось впоследствии, очень тупому ножу, по вилке и по ложке.
Сначала они съели суп-лапшу. Он был прозрачный, блёстки жира светились на солнце, но самой лапши было мало, на донышке тарелки. Талиб, не торопясь, стараясь не обогнать Фёдора, съел всё, что ему дали, и собирался уже встать из-за стола, как вдруг рослая женщина, сидевшая до сих пор по другую сторону стола и смотревшая в стену за спиной Талиба, порывисто вскочила, убежала и вернулась с двумя плоскими тарелками, на которых лежали куски жареного мяса с румяной картошкой. Вот тут-то и выяснилось, что ножи были очень тупые. Дядя Фёдор никак не мог разрезать кусок, и тогда Талиб вытащил из-под халата свой узбекский пчак — ножик, подаренный отцом. Каждый взрослый узбек носит такой нож на поясе, им он режет дыни и арбузы, мясо, морковку для плова или лук,
— Пожалуйста, — протянул Талиб свой нож Фёдору. — Мой острее. А ваши я наточу на кирпиче.
Фёдор ничуть не удивился, разрезал мясо и вернул нож Талибу.
— Отличный нож. Отец делал?
— Да, — сказал Талиб. — Возьмите его себе. Фёдор отказался. Он брал маленький кусок мяса вилкой, намазывал его толстым слоем горчицы, густо посыпал солью и отправлял в рот. Талиб поступил так же, но женщина сказала:
— Мальчик, не надо во всём подражать дяде. Есть столько горчицы — дурная привычка.
Талиб охотно послушался, ибо горчица только портила, по его мнению, замечательно вкусное жареное мясо. Потом дали компот из свежих яблок.
Хозяйка дома так же молчаливо, как она делала всё, убрала со стола, Фёдор пересел на диван, усадив Талиба рядом, вынул трубку и стал её сосать.
— Отдохнём немного, а потом я тебя домой отвезу. Талибу надо было спешить, потому что солнце уже спряталось за деревья сада. Теперь темнеет рано, дядя, наверно, вернулся уже из лавки и ждёт. Однако, узнав, что его отвезут домой на мотоцикле, Талиб готов был ждать ещё сколько угодно. Шутка ли сказать, вернуться в свой квартал на мотоцикле с человеком, с головы до ног одетым в сверкающую кожу.
— Понимаешь, — начал послеобеденный разговор Фёдор, — вот эта женщина, Олимпиада Васильевна, очень хороший человек — её родной брат со мной на прииске работал, завалило его породой, — но она не понимает, что он погиб не зря. Ему дали шесть лет каторги за подпольную типографию. Напечатал он всего тысячу или чуть больше листовок. И погиб. Она говорит, зря погиб. Не понимает, что ату тысячу листовок прочли, может, пять тысяч человек. Эти пять тысяч узнали правду о царизме и стали, может, революционерами.
Понимаешь, всё в жизни в конце концов делится на две части: на революцию и контрреволюцию. Рабочие, крестьяне, солдаты, часть трудовой интеллигенции и другие — это за революцию. А богатеи — купцы, баи, по-вашему, торгаши разные, фабриканты, полицейские, офицеры и генералы — это контрреволюция, враги трудовых людей, таких, как твой отец, как я, как те солдаты, с которыми мы сегодня обыск делали. Понимаешь?
Талиб кивнул. Это было понятно. Конечно, и Усман-бай, и полицейский Рахманкул, и другие богачи были врагами простых людей, недаром же их не любили.
— Чего хочет революция? Чтобы все фабрики и заводы, леса и земли принадлежали тем, кто работает. Это справедливо? Справедливо. А контрреволюция сопротивляется, поэтому им никакой пощады быть не может. Поэтому мы сегодня делали обыск у генерала, взяли у него огнестрельное оружие и заберём в музей всю его коллекцию. Конечно, он особый генерал. Во-первых, он очень старый и почти не опасный, потом он инженер, строил крепости и по должности своей в людей не стрелял. Большинство же генералов и офицеров — это те же полицейские...
— А наш полицейский Рахманкул говорит, что когда власть установится, его опять позовут, потому что власти нужен кулак, — возразил Талиб. — Это правда?
— Это ложь, — убеждённо ответил Фёдор Пшеницын. — Какой это полицейский так говорит?
— Наш полицейский, бывший полицейский Рахманкул. Он теперь почтальон.
— На почте работает? — удивился Фёдор, — Безобразие! Русских полицейских мы выгнали, аппарат связи тоже укрепили, а про местных-то полицейских совсем забыли. Спасибо, что напомнил. Мы им всем промывку устроим.
Фёдор достал записную книжку и что-то отметил там.
— Я ещё хотел спросить. Вот вы говорите, что все
торгаши — контрреволюция. А у меня дядя лавку держит.
Фёдор строго посмотрел на Талиба:
— Я не знал. Родной?
— Нет, двоюродный, но мы вместе живём.
— Он богатый?
— Бедный. Он в долг берёт, продаёт, потом расплачивается. Синька, мыло, иголки, ламповых стёкол достал два ящика.
— Да-а, — протянул Фёдор. — Это не очень хорошо. Лавочник, мелкая буржуазия. Она, конечно, не то, что крупная. Но всё же.
Талиб вопрошающе глядел Фёдору в глаза, и тот добавил:
— Тут надо конкретно решать. В каждом случае. Что такое конкретно, Талиб не понял, а спрашивать больше он стеснялся. Кстати и Фёдор встал, надел свою куртку, посадил Талиба на багажник и повёз его домой. Талиб не считал, что он нарушил дядин наказ. Он весь день смотрел по сторонам и видел, что многие стёкла в домах были выбиты, а в центре города и возле крепости таких домов было особенно много.
Пшеницын быстро доставил своего пассажира на улицу Оружейников. За этот день Фёдор привык к мотоциклу. На углу, возле чайханы, он затормозил, пригласил Талиба заходить, когда будет охота, и, лихо развернувшись на глазах удивлённого чайханщика, укатил обратно.
Степенно, как ни в чём не бывало, Талиб поклонился чайханщику и выглянувшему из дверей Тахиру, пожелал им здоровья и направился домой. Жаль, что мальчишки не видели его в тот момент! Впрочем, мальчишек в то бурное время родители неохотно выпускали на улицу. Так что у сироты есть какие-то преимущества.
Вечерело быстро. Дядя Юсуп ещё не приходил. Талиб решил убрать в доме и заклеить бумагой окно. Ночи становились всё холоднее. Потом он вытащил из чулана сандал — устройство для согревания ног в холод — железное корыто для углей, низенький столик, который ставился над этим корытом, старые одеяла,
которыми укрывался этот столик. Раньше по вечерам они сидели вокруг сандала, сунув ноги под столик, — отец, мать и Талиб. А теперь... теперь Талиб поставил сандал посреди комнаты, потом расстелил одеяла, зажёг свечу и взял книгу стихов Навои, подаренную дедушкой Рахимом.
Талибу особенно нравилось то место в поэме «Фархад и Ширин», где рассказывается, как молодой и отважный царевич Фархад победил дракона и обрёл чудесный меч, подобный легендарному клинку халифа Али.
И разницы не видел небосвод
Меж молнией, что в гору попадёт,
И между тем, как этот человек
Своим мечом чудовище рассёк.
Фархад к пещере змея подошёл
И надпись над пещерою прочёл:
«Прославлен будь, бесстрашный витязь!
Чудовище убив, достиг мечты.
В пещере змея обнаружишь клад —
Тебе наградой будет он, Фархад!
Войдя в пещеру, знай, она кругла —
Ни углубленья в ней и ни угла.
Измерь её шагами всю кругом
И средоточье вычисли потом...»
Царевич всё исполнил, что прочёл, —
В сокровищницу змея он вошёл.
А в глубине хранилища был вход
В чертог, высокий, как небесный свод.
Там в каждой башне восседал паук,
Сатурн пришёл бы от него в испуг.
Как Зульфикар блестя, лежал тут меч.
Он был волнист, двулезв, двужал, тот меч.
И выпуклый, с ним рядом, щит сверкал, —
Затмил бы он сверканье всех зеркал.
И надпись на щите гласила: «Тот,
Кто этот щит и меч здесь обретёт,
Тот сто коварных дивов победит,
Изрубит их и в прах их обратит...»
Читал он недолго, потому что вскоре пришёл дядя Юсуп. У него было хорошее настроение и много планов. Торговля шла бойко. Он решил, что завтра с утра пойдёт за ручной тележкой, купит стёкла и будет сам в новом городе их вставлять. Он и без Талиба узнал, как много в эти дни было выбито окон, и считал, что сможет неплохо заработать. Вставлять стёкла он умел, а алмаз ему обещали одолжить.
Глава четвёртая
НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
Дня три лавка дяди Юсупа была закрыта. Утром дядя с племянником приходили с тележкой. Туда грузили так кстати добытые оконные стёкла, закрывали лавку и отправлялись в город.
— Если бы каждый месяц такая революция, я стал бы стекольщиком, — говорил дядя Юсуп. Его большие чёрные глаза на худом, длинном лице были весёлыми в эти дни.
Он купил ещё два ящика ламповых стёкол и два ящика оконного стекла.
— Вот не думал, что на стекле разбогатею, — говорил он Талибу. — Никак не думал. Скоро богаче Усман-бая будем.
Впрочем, до Усман-бая им было далеко. За три дня они один раз поели плов, а остальные дни питались лепёшками с чаем и мучной болтушкой — экономили. Однажды утром дядя Юсуп сказал Талибу, что он один пойдёт на базар за тележкой и стеклом, потому что Талиб должен наколоть саксаула. Кроме того, у них прохудился кумган, высокий медный кувшин, и его надо отнести к паяльщику посуды. Талиб начал с кумгана. Он пошёл в соседний квартал, где жил паяльщик, и стоял возле его дома, когда вдруг увидел Тахира в необычном наряде. На нём была суконная русская курточка с блестящими пуговицами, на голове красовалась фуражка, а на боку висела сумка почтальона.
— Привет, Талибджан, — весело ещё издали помахал ему Тахир-подёнщик. — Уж не тебе ли я обязан своей новой работой, а? Вдруг два дня назад меня вызвал на почту сам начальник и сказал: «Нам нужен почтальон с узбекской улицы, потому что Рахманкула мы уволили». Этот Рахманкул, видно, сильно навредил революции. Три дня назад его уволили, вчера днём к нему приезжал кожаный человек, но не тот, который привёз тебя, а другой, у него только тужурка кожаная, а брюки матерчатые, и ездит он на бричке. Он велел Рахманкулу сегодня утром явиться в Совет депутатов. А Рахманкул дома не ночевал, рано утром оседлал лошадь во дворе Усман-бая и уехал из города. Сильно испугался. Никто не знает, куда уехал. Даже жена не знает.
Тахир быстро выпалил всё это, похлопал себя по сумке и спросил:
— Это ты рассказал кожаному человеку про Рахманкула? Не отпирайся, конечно, ты. А про меня тоже ты ему рассказал? Спасибо, дорогой Талибджан. За меня спасибо и за Рахманкула тоже.
— Я про вас ничего не рассказывал, — честно признался Талиб. — Про Рахманкула, кажется, немного рассказывал.
— Всё равно спасибо! — сказал Тахир. — Проси что хочешь — выполню. Если от отца письмо придёт, бегом принесу.
Новый почтальон весело побежал дальше, хлопая рукой по кожаной сумке. Сколько Талиб помнил себя, столько он помнил и страх перед полицейским, когда тот на лошади проезжал по улице. Лошадь была грузная, как ломовая, и Рахманкул сидел на ней грузно. Зимой он ходил в длинной шинели, летом — в мундире, но всегда с шашкой, наганом и с плёткой в руке. Детей пугали Рахманкулом, взрослые мужчины замолкали при его приближении, женщины, встретясь с ним, убыстряли шаг, старики, сидевшие возле дома или у арыка, вставали, когда он подходил. Так было при царе Николае, но и при Керенском страх перед Рахманкулом ещё жил в людях.
Обо всём этом думал Талиб, возвращаясь домой с запаянным кумганом в руках. Он так был занят своими мыслями, что не заметил распахнутую калитку и кауши, стоящие на террасе. Всё это он заметил чуть позже.
Талиб взял топор и принялся за саксаул. Колоть саксаул трудно: все древесные пряди переплетены и разрываются в самых неожиданных местах.
Запыхавшись, Талиб распрямился, чтобы перевести дух, и тут увидел кауши на террасе. Он медленно, с удивлением и замиранием сердца подошёл ближе. Нет. Это были знакомые кауши дяди Юсупа. А он-то думал... Но почему дядя вернулся из города так рано?
Талиб вошёл в комнату и увидел Юсупа-неудачника. Он лежал на полу, лицо его было прижато щекой к ковру и повёрнуто к стене, руки безжизненно раскинуты. Талиб окликнул дядю, но тот не отозвался и не пошевелился. Осторожно обойдя его, Талиб встретился с тоскливым, остановившимся взглядом.
— Дядя Юсуп, — опять позвал, вернее, прошептал Талиб.
Тот неожиданно быстро перевернулся на спину и сел.
— Что с вами? — ещё тише прошептал Талиб.
Дядя не отвечал. Он встал на колени лицом к Мекке и начал отбивать поклоны. Делал он это размеренно и долго, пока не закашлялся тяжёлым чахоточным кашлем. Талиб стоял в страхе и недоумении.
— Мы нищие, — жалобно сказал дядя Юсуп. — Мы беднее нищих. Ночью злодеи взломали лавку, эти гнусные воры... — Тут дядя Юсуп заплакал и опять повалился на ковёр лицом вниз. Потом он опять стал молиться, наконец немного успокоился и рассказал всё по порядку.
Ночью в лавку залезли воры и украли всё, что там было: синьку, мыло, иголки, нитки и ящик ламповых стёкол. Воры не могли взломать замок или просто слишком торопились. Они оторвали его вместе с доской двери и вырвали косяк из глиняной стены.
— Мы нищие, мы беднее нищих, — причитал дядя. — Я всё брал в долг, я накупал товар, мне нечем расплатиться. Мы совсем нищие. Это я виноват. Я совсем забыл аллаха от радости, что мне так стало везти. Я пропускал молитвы, когда ходил вставлять стёкла, я торопился заработать, и аллах покарал меня. Нет кары справедливее кары небесной, но почему так жестоко ты наказал меня, о всемогущий?
— Нужно найти воров, — сказал Талиб.
— Их теперь не найти, где их найдёшь! — раздражённо выкрикнул Юсуп-неудачник. — Кто их найдёт?
— Я пойду к большому русскому начальнику, который привёз меня на мотоцикле, и он найдёт. Он обыщет весь Ташкент, он даже у генерала делал обыск, — успокаивал дядю Талиб.
— Дядя, — помолчав, спросил Талиб, — а оконные стёкла целы? Неужели их тоже унесли?
— Нет. Они разбили все стёкла вдребезги. До одного! Они били по стёклам молотком, сначала они разбили один ящик, потом другой.
Это было совсем непонятно. О таком ограблении Талиб и не слышал никогда. Зачем же ломать то, что не можешь унести! И, словно отвечая на эти мысли Талиба, дядя опять заговорил о каре небесной, о том, что он мало молился в последние дни, что забыл аллаха.
— Я пойду к русскому начальнику, — решил Талиб. — Я ему всё расскажу, он поможет.
— Иди, — ответил дядя Юсуп. — Иди, но никто не может нам помочь.
Талиб быстро собрался, надел камзол, чтобы выглядеть приличнее, и зашагал к новому городу. Он ушёл из дому, и ему сразу стало легче, потому что нет ничего тягостнее, чем видеть бессилие взрослого, слёзы и жалобы того, кто для тебя надежда и опора. Все звали дядю неудачником, но Талиб знал, что дядя страдает только от одного — от слабохарактерности и доброты. Он мог сам отказаться от еды, чтобы покормить голодного, он мог бросить все свои дела, чтобы пойти на помощь к другому человеку. Но люди почему-то мало ценили его за это. Во всяком случае, ценили недостаточно.
Талиб шёл и думал о том, какой странный сегодня день. Не успел он как следует порадоваться бегству Рахманкула, и вдруг такое горе! А что, если всё это сделал Рахманкул, мелькнула мысль, если Рахманкул, как и Тахир, считает Талиба виновником своего увольнения? Ведь если разобраться, может, и правда, что Фёдор приказал проверить всех бывших полицейских, и Рахманкула в том числе, и послал к нему человека на бричке. Мальчик вспомнил, как Фёдор отмечал что-то в своей записной книжке. Конечно, Рахманкул не мог об этом знать. Но с другой стороны — Фёдор привёз его домой на мотоцикле, это видели все, и Рахманкул мог догадаться и отомстить...
Так постепенно Талиб приходил к мысли, что виновником несчастья, обрушившегося на дядю Юсупа, был он сам. От этого на душе у Талиба стало тоскливо. В таком настроении он и подошёл к растрескавшемуся дощатому забору. Деревья в саду совсем облетели, дорожка была подметена, и Талиб в нерешительности остановился перед домом.
— Тебе кого? — спросила та самая высокая и некрасивая женщина.
— Дядя Фёдор дома? — сказал Талиб.
— А, это ты! Я не узнала. Его нет. Заходи, заходи. Женщина приглашала настойчиво, и Талиб вошёл в дом.
Он забыл, как зовут эту женщину, имя было длинное и сложное, и поэтому стеснялся больше, чем обычно.
— Заходи, садись, сейчас я тебя покормлю. Фёдор велел кормить тебя всякий раз, как увижу. Садись, вовремя пришёл.
Талиб не смел уйти, не знал, что сказать, как ему быть.
— А где он? — спросил Талиб.
— Он уехал в Чимкент дней на десять, — сказала женщина, проворно накрывая на стол. — Поедим, а потом о делах. Ладно?
Как и в прошлый раз, Талиб получил тарелку супа на первое, кусок жареного мяса на второе и компот на третье.
— Теперь говори: зачем пришёл? — сказала женщина.
Талиб хотел рассказать, как обокрали и разорили дядю Юсупа, что виноват в этом он, Талиб, и ещё бывший полицейский Рахманкул, что очень нужна помощь дяди Фёдора... Но Талиб не решился спросить, как звать эту женщину, и чувствовал себя крайне неловко. Кроме того, какой смысл рассказывать о несчастьях человеку, который так хорошо относится к тебе, а помочь не в силах? Зачем огорчать человека?
— Ну, выкладывай, — повторила женщина.
— Я пришёл, чтобы узнать, как здоровье дяди Фёдора и как ваше здоровье, — сказал Талиб и покраснел.
Получилось очень уж глупо. Пришёл, поел и потом спросил, как здоровье. Женщина, чуть заметно улыбаясь, погладила его по голове и велела заходить чаще.
— Ты всегда заходи. Если будет скучно или просто так. Заходи, я всегда тебе рада. И Фёдор тоже.
Домой Талиб возвращался грустный и подавленный.
Дядя Юсуп сидел у холодного сандала и молчал. Потом он достал маленькие счёты, с бусинками вместо костяшек, и долго-долго что-то прикидывал, охал и вздыхал. Выходило, что он никак не сумеет выкрутиться. Он везде взял в долг, и теперь никто не захочет ему помогать. Если бы достать какие-то деньги, чтобы обернуться на месяц-другой, можно было попробовать всё сначала. Он достал алмаз, который так помогал ему в последнее время, и сказал:
— Даже алмаз придётся вернуть. Мы беднее нищих.
— Дядя Юсуп, — нерешительно возразил Талиб, — ведь нам должен Усман-бай. Он должен тетрадку дедушки Рахима, но пусть хоть сто рублей отдаст. Пусть отдаст.
Дядя с удивлением поглядел на племянника. Он, кажется, и забыл о долге. Талиб не хотел ждать, и через полчаса они стояли в большом дворе Усман-бая, прямо перед клумбой с увядшими цветами. В доме раздавались громкие мужские голоса, хохот и треньканье дутара [Дутар — струнный музыкальный инструмент, похожий на мандолину с длинным грифом.] Кто-то из работников Усман-бая сказал им, что сейчас в доме уважаемые гости и Усман-бай не может их принять. Пусть они придут завтра утром в любимую дунганскую чайхану Усман-бая.
На другой день они пошли на базар, в любимую байскую чайхану. Чайханщик, сухопарый, желтолицый человек с длинной чёрной косой, удивился их приходу. Здесь бывали только постоянные гости из числа самых богатых людей. Чайхана славилась вкусной, но дорогой едой. Появление Юсупа-неудачника с каким-то худым и плохо одетым мальчиком было замечено. Все на них уставились. Дядю Юсупа смущали эти взгляды, и он объяснил чайханщику, что они ждут почтенного Усман-бая, который их сюда и пригласил.
— Неизвестно, придёт ли почтенный Усман-бай, — сказал чайханщик. — Почему бы вам не пойти к нему домой? Каждый знает, где живёт Усман-бай.
Дядя Юсуп ничего не ответил чайханщику. Они ждали час, и два, и три и уже собрались уходить, когда наконец пришёл Усман-бай с друзьями и своими старшими приказчиками. Они заказали чайханщику плов, а пока велели подать лагман, вкусное дунганское блюдо из мяса, теста и множества острых специй. Усман-бай прошёл мимо Юсупа-неудачника и сделал вид, что не заметил его робкого поклона.
Богатым гостям подали лагман, и они принялись есть. Теперь подойти к ним было и вовсе неудобно, вроде бы на угощенье напрашиваешься. Усман-бай громко что-то говорил, а его друзья и подхалимы поддакивали и угодливо смеялись, когда он шутил.
Наконец Усман-бай соизволил заметить Юсупа. Не здороваясь с ним, он сразу приступил к делу. Он знал, что Юсупа-неудачника обокрали — такие вести распространяются быстро, — об остальном такому хитрому человеку, каким был Усман-бай, догадаться нетрудно.
— Вот, Юсуп, как бывает в жизни, — сказал Усман-бай. — Ещё недавно из-за какой-то тетрадки ты приходил обижать меня в моём доме... Ну, пусть не ты, а твой племянник, которому ты не запретил меня обижать. Теперь ты хочешь, чтобы я помог тебе... Пусть твой племянник молчит, если хочет сделать тебе добро. Сто рублей я должен не ему, а его отцу. Пусть он молчит. И свидетелей нет. Видишь, как бывает в жизни. Велик аллах! Сколько раз тебе говорили: «Не плюй в колодец!» Ты образованный человек, нехорошо в колодец плевать, ой нехорошо.
Подхалимы поняли издёвку и дружно захихикали. Усман-бай продолжал эту тему:
— Я тебе так скажу ещё: «Не плюй против ветра, всё к тебе вернётся, тебе в лицо попадёт». Ты грамотный, по-узбекски читаешь, по-арабски читаешь, по-русски читаешь. Ты читаешь, а я считаю. В этом разница, а?
Подхалимы опять захохотали. Талиб еле сдерживался, чтобы не заплакать, таким обидным было это издевательство над его бедным дядей.
— Пропал ты совсем, — продолжал Усман-бай. — Кто тебе поверит? Никто тебе не поверит. Ты всегда был Юсуп-неудачник, теперь ты Юсуп-совсем-неудачник. А?
Баю нравились собственные шуточки, но вдруг он перестал шутить и строго взглянул на своих прихлебателей.
— Ты знаешь, у нас не любят неудачников. Торговые люди совсем не любят неудачников. Женщины — на что глупы — и то не любят неудачников. Так что в Ташкенте твои дела плохи. Я могу помочь тебе. Я дам тебе товара на сто рублей, ты дашь мне расписку, что долг за кузнеца Саттара я тебе отдал. С этим товаром ты поедешь в Бухару, потому что там этот товар пойдёт, а в Ташкенте его и без тебя продают хорошо. Ты повезёшь в Бухару тетрадки, карандаши, перья, грифельные доски. Там сейчас много школ, новых школ, им этот товар нужен, я слышал. Ты поедешь туда, вернёшь мне деньги с процентами, а я ещё товар пришлю. Половину выручки — мне. Соглашайся. У тебя другого выхода нет. Во славу аллаха я это всё делаю.
Дядя Юсуп согласился. Ему, окончательно потерявшему веру в себя, этот выход казался действительно единственным. Он вообще легко утешался, Юсуп-неудачник. Он уже представил себя в благородной Бухаре и был готов начать там новую, если не счастливую, то по крайней мере удачную жизнь.
Байской компании подали плов, но Усман-бай не пригласил их.
— Вы, конечно, побрезгуете разделить с нами этот плов, потому я и не предлагаю. Идите, но помните: мир не без добрых людей! — Усман-бай прочитал молитву, провёл руками по лицу ото лба к бороде и протянул руку к блюду.
Дядя и племянник встали и вышли из чайханы. «Как хорошо, — подумал Талиб, — что он не пригласил нас есть плов. Меня бы, наверно, стошнило». Они поели жидкой гороховой каши в попутной харчевне и направились домой.
Дул холодный, пронизывающий ветер, кидая им навстречу что-то, одинаково похожее и на снег и на Дождь.
Через несколько дней, быстро уладив свои дела, продав лавку на базаре, расплатившись с самыми неотложными долгами, дядя Юсуп упаковал полученный в кредит писчебумажный товар и пошёл на вокзал за билетами для себя и Талиба.
Чтобы купить билеты, пришлось продать домашний ковёр, сандал и оставшуюся от матери Талиба выходную паранджу.
Поезд Ташкент — Чарджуй, состоящий из разноцветных больших и маленьких вагонов, с чёрным приземистым паровозом, повёз их в Бухару. Сначала из окна вагона были видны пригороды, голые тополя, пустые огороды, глиняные дувалы и дома. Потом потянулась пустая степь. Падал снег. В вагоне было холодно. Дядя и племянник сидели на гладкой крашеной лавке и кутались в лоскутные одеяла.
Вечером того же дня, говорили об этом позже соседи, к дому кузнеца Саттара подъехал удивительный тёмно-зелёный мотоцикл с блестящим никелированным рулём и множеством других блестящих частей. На баке мотоцикла был изображён прыгающий горный козёл. С мотоцикла слез человек, одетый в кожаные штаны, кожаную куртку и с кожаной фуражкой на голове. Кожаный человек долго стучался в калитку, пока не вышли соседи, объяснившие ему, что кузнец Саттар угнан на работу в Россию, жена его умерла, а сын с дядей ещё сегодня утром уехали в Бухару, в благородную Бухару. Кожаный человек почесал в затылке, сдвинул кожаную фуражку на лоб и уехал с улицы Оружейников.
Глава пятая
ЧУЖОЙ ГОРОД
Поезд шёл неторопливо, останавливаясь на каждой станции. Была у этого поезда странная манера: он останавливался не постепенно, а рывками; мешки валились с полок, дыни катались по полу, люди стукались головами о стенки. Точно так же поезд трогался с места.
На каждой станции кто-то входил и кто-то выходил из вагона, и эта смена пассажиров долгое время развлекала Талиба. К вечеру он очень устал и крепко проспал всю ночь в обнимку с дядей Юсупом. В Самарканде поезд стоял долго, часов пять или шесть. Они успели бы посмотреть город и поесть чего-нибудь горячего, но боялись оставить вещи без присмотра и потому видели только кирпичное здание вокзала, колокол и часы, которые показывали совсем не то время, какое показывали медные, похожие на репу, карманные часы дяди Юсупа. Самарканд только тем и запомнился Талибу, что здесь он выяснил особенность железнодорожного времени и то, что не везде в стране время одинаковое. Часы в Самарканде на вокзале показывали московское время, а в Москве, оказывается, было на два часа меньше. Когда поезд остановился, вагон почти опустел, но вскоре в него стали входить всё новые и новые пассажиры, и к отправлению он был набит битком.
Хорошо, что Талиб с дядей заняли вторую и третью полки. На нижних лежать было бы нельзя, там сидело по четыре человека. То ли от количества людей, набившихся в вагон, то ли от того, что проводник решил затопить печку, а скорее всего от того и другого вместе в вагоне стало чуть теплее. Люди входили в вагон очень возбуждённые, шумные и суетливые, потом, пристроив вещи и утвердившись на своём месте, постепенно притихали, молча и неподвижно ожидая того момента, когда в последний раз звякнет станционный колокол и загудит паровоз. Провожающих было мало.,
Наконец паровоз загудел и через минуту дёрнул состав. Лязг буферов и железная дрожь нарастали от первого до последнего вагона; все ухватились, кто за что мог, и ждали толчка. Вагон встряхнуло, опять посыпались мешки и чемоданы, кто-то изо всей силы стукнулся о стенку и выругался. Кто-то засмеялся. Так продолжалось несколько раз, пока поезд медленно не набрал скорость. Проплыла мимо водокачка, и Талиб увидел большое здание, куда вели железнодорожные пути.
Ворота здания были распахнуты, и оттуда появился маленький паровозик. И над паровозиком, и над зданием Талиб увидел красные флаги.
— Слава аллаху, поехали, — сказал с противоположной полки новый сосед, плотный, крепко сбитый, очень смуглый дяденька с крашеными усами и бородой. — Надоели эти красные флаги. В Самарканде, куда ни пойдёшь, везде красные флаги.
Талиб подумал о том, что в Ташкенте много красных флагов, потому что революция. Неудивительно, что и в Самарканде их много, но ничего не сказал.
Сосед вытащил из-за пояса небольшую тыковку, высыпал на ладонь немного насвая [Н а с в а й — особым образом приготовленный табак, который не курят, а закладывают под язык и за нижнюю губу.] и ловко отправил его под язык. Потом он протянул тыковку дяде Юсупу, который казался ему наиболее почтенным из соседей.
К удивлению Талиба, дядя взял насвай и тоже положил его в рот. В Ташкенте дядя никогда не употреблял этот ядовитый порошок. Видимо, догадался Талиб, дядя хочет ближе познакомиться с новым попутчиком. Действительно, вскоре между ними завязался разговор. Выяснилось, что новый их сосед, Зарифходжа, коренной бухарский житель, торговец каракулем, возвращается домой после выгодной сделки в Самарканде. Он долго выспрашивал у дяди Юсупа про ташкентские новости, ругал большевиков и вообще всех, кто слушает речи русских смутьянов, почтительно отозвался о ташкентских купцах и, узнав, что дядя Юсуп знаком с Усман-баем, а Талиб приходится ему родственником, стал относиться к ним дружелюбнее.
Зарифходжа поговорил о том, что для настоящих узбеков нет ничего дороже Бухары и его величества бухарского эмира Сеида-Алимхана, ибо где, в каком ещё царстве, в каком ещё городе мира правит людьми такой настоящий узбек из славного рода Мангыт. По его словам выходило, что все ташкентские, самаркандские, ферганские и другие узбеки должны подчиняться одному только эмиру и что так в конце концов и произойдёт в скором времени.
— Наш мудрый эмир был другом белого царя Николая, потому что почитал Николая великим из великих царей, — говорил Зарифходжа, заговорщицки тараща маленькие, неопределённого цвета глазки. — Оказалось, царь Николай весь из ваты. Кто мог подумать? Даже великие мудрецы ошибались. Теперь наш эмир стал полноправный государь, важнее и главнее Николая. Где Николай? Никто не знает. Где наш эмир? Наш эмир на своём месте. Раньше русский консул совал свой короткий нос в наши дела. Теперь где консул?
Русские особенно злили Зарифходжу. От них вся зараза пошла. Раньше никто не мог противиться воле эмира. Захочет он — такой закон издаст, захочет — другой. Что захочет, то и может сделать. Теперь опять всё должно было вернуться к старому.
— Вот был я в Самарканде, — продолжал таращить глазки Зарифходжа. — До чего русские довели: всё болтают, что хотят. В чайхану зайти неприятно. Власть ругают. Старую власть ругают, Николая ругают, Керенского ругают, даже новую власть и то ругают. Никто ничего не боится. Разве это хорошо? Неужели в Ташкенте так?
— Очень похоже на то, что вы, почтенный, видели в Самарканде, — ответил дядя Юсуп.
— Даже новую власть ругают! — не переставал удивляться бухарец. — Разве это власть, если она позволяет себя ругать? Правда, новую власть в Самарканде ругают самые почтенные, богатые люди, но всё равно! Вот посмотрите в Бухаре. У нас такой порядок, никто ничего против власти не говорит. Не только наш эмир Сеид-Алимхан, даже любой его приближённый не позволит взглянуть на себя искоса. А наш кушбеги — настоящий визирь. Его все боятся. У него обычай: приходит к нему какой-нибудь жалобщик, плетёт, плетёт. Как куш-беги надоест, он только так сделает, — Зарифходжа взялся за кончик носа, — и стража уже знает, надо жалобщика хватать...
Дядя Юсуп решился перебить говорливого собеседника:
— А правду ли говорят, что новый купеческий староста караван-беги Абдуррауф очень хороший и добрый человек?
— Как можно спрашивать, любезный? Как можно спрашивать? Это золотой человек, наш караван-беги Абдуррауф, он первый защитник старых шариатских законов. Золотой человек. Если ему хорошую взятку дашь, он всё сделает! Если, конечно, хорошую... Я так скажу. Есть у нас в Бухаре разные торговцы, есть узбеки, чистые узбеки, их караван-беги очень любит, есть таджики, среди них тоже бывают приличные люди, есть всякие индийцы, евреи, цыгане, иранцы. Этих караван-беги не любит. Где мусульманину надо серебро дать, там индийцу или еврею — золото. А с цыганом и говорить не будет. Даже если драгоценный рубин принесёт. Замечательный человек!
От всех этих разговоров Талибу было явно не по себе. Слова Зарифходжи, рассчитанные на похвалу бухарским порядкам, вызывали в нём страх, а когда бухарец начал рассказывать, что, по слухам, в Бухаре опять введут старый способ казни, опять будут сбрасывать преступников с минарета, он слез с полки и пошёл гулять по вагону, чтобы не слышать подробностей этой казни.
В одном углу русские и узбекские железнодорожники играли в домино. У них было весело, стучали костяшки о фанерный чемодан, поставленный «на попа», люди шутили, подзадоривая противников. Талиб пристроился за широкой спиной какого-то русского мужчины с жёлтой лысиной.
— Кто это мне на лысину дышит? — спросил он. — Ты, что ли? Ты на лысину мне не дыши. Она от пара ржавеет, — строго сказал он Талибу. — Ладно, садись рядом. По-русски кумекаешь?
Талиб кивнул. Больше лысый ничего не говорил. Началась новая партия, он весь ушёл в игру.
— Скоро станция, — предупредил кто-то, глянув в окно.
И действительно, вслед за этими словами паровоз дал гудок, и состав слегка дёрнуло. Доминошники не обратили на это внимания и мгновенно поплатились за беспечность. Следующий толчок был сокрушающим. Чемодан повалился, костяшки полетели под скамейку, а Талиб уткнулся головой в небритый подбородок лысого железнодорожника.
— Фу ты! — крякнул тот. — Чуть язык из-за тебя не откусил, — и тут же заботливо спросил Талиба: — Ты не ушибся?
Игра в домино не могла больше продолжаться, потому что игроки стали спорить, за сколько толчков остановится поезд. Одни говорили — за восемь, другие считали — за двенадцать.
Лысый сказал, что спорить тут не о чем, потому что
машинист не виноват. Тормоза не в порядке. Талиб спросил, что такое тормоза, и лысый объяснил. Он сам оказался машинистом, возвращавшимся из отпуска. На станции он предложил Талибу пойти поглядеть на паровоз, и они осмотрели его очень внимательно, потому что поезд стоял долго.
Лысый показал цилиндры, шатуны, рассказал, как пар движет колёса, а потом вместе с Талибом поднялся на паровоз, где машинистом был его приятель.
То ли машинист умел хорошо объяснять, то ли Талиб очень внимательно слушал, но он всё понял, вопросы задавал толковые и понравился обоим машинистам и татарину-кочегару.
— Ты сам из Бухары? — спросил лысый машинист.
— Из Ташкента, — ответил Талиб.
— А зачем в Бухару?
— Торговать, — сказал Талиб.
Оба машиниста и кочегар удивились. Талиб рассказал, что торговать будет не он, а его дядя, которого обокрали в Ташкенте, а в Бухаре дядя хочет поправить свои дела.
— Нашёл местечко, — сказал новый знакомый Талиба, а кочегар-татарин покачал головой и длинно сплюнул сквозь зубы.
Тут и самому Талибу впервые показалось странным их путешествие и то, как быстро они собрались. Он вдруг понял, что и дядя Юсуп, хотя всё время храбрится, на самом деле очень встревожен. Ему стало жалко своего дядю-неудачника. Не так жалко, как становится жалко другого, потому что жалко себя, а совсем иначе. Талибу вдруг показалось, что он большой, взрослый человек, а дядя, напротив, слабый и беззащитный ребёнок. Ему вспомнилось, каким несчастным и робким он был в доме Усман-бая, каким жалким был в дунганской чайхане, когда купец издевался над ними.
Вот так неожиданно в совсем неподходящем месте, на паровозе, везущем состав из Ташкента в Бухару, мальчик вдруг впервые почувствовал свою ответственность за кого-то другого.
Он не знал, что чувство ответственности за другого человека — это первое и главное, что отличает взрослого от ребёнка.
Они вернулись в вагон, поезд тронулся, а немного погодя Талиб пошёл проведать дядю.
— Эти новые люди у нас не нужны, — будто и не переставая, разглагольствовал Зарифходжа. — Эти всякие новые школы, новые, как их называют, методы, нам не нужны. Зачем сыну водоноса грамота? Чтобы он зазнавался? Чем меньше оборванцы знают, тем лучше...
Талиб опять пошёл к железнодорожникам. «И зачем мы едем в эту Бухару? — тоскливо думал он. — Разве нужно нам было бросать дом, знакомых, родной город?» Улучив минуту, он сказал о своих мыслях дяде Юсупу. Тот возразил:
— Не бойся, Талибджан. Всё зависит от того, кто рассказывает. Когда слушаешь, бывает неприятно, даже страшно, а потом сам увидишь и всё поймёшь по-другому. Бухара — город большой.
* * *
До самой Бухары поезд не шёл. На станции Каган дядя с племянником сгрузили багаж, впервые после Ташкента поели горячей пищи и наняли арбу, чтобы ехать в Бухару. Можно было ехать и специальным поездом Каган — Бухара, но он только что ушёл, да и цена за арбу была меньше, чем стоил билет.
— Вези нас прямо в дом почтенного Зиядуллы, — сказал арбакешу дядя Юсуп.
— Разрешите и мне с вами, — попросился Зарифходжа. — У меня ящик маленький. Я своё заплачу.
Дядя Юсуп согласился.
Арбакеш сидел верхом на лошади, поставив ноги на оглобли; колёса арбы отчаянно скрипели и заглушали разговор, происходивший между Зарифходжой и дядей Талиба.
— Я услышал, что вы едете к почтенному Зиядулле, — тихо сказал Зарифходжа. — Это ещё прибавляет уважения к вам. Неужели вы, как и я, ничтожный, как он, почтенный, тоже торгуете каракулем?
Дядя уклонился от прямого ответа. В свою очередь он спросил:
— Скажите, что за товар везёте вы из Самарканда? Вы так бережно его несёте, так тщательно закрываете ящик мешком, что это невольно вызывает интерес.
Бухарский житель очень испугался, услышав эти слова молчаливого дяди Юсупа.
— Вы правы. Я стал таким осторожным, что потерял осторожность, — и, наклонившись к самому уху собеседника, сказал, что везёт из Самарканда коньяк и ликёр. Этого никто не должен знать, ибо пьянство запрещено законом, могут быть большие неприятности.
Вечер был холодный, но небо ясное, чистое, и солнце играло на постепенно приближавшихся куполах мечетей, на порталах медресе.
Они подъезжали к благородной Бухаре.
— Смотри, Талибджан, какая красота! — сказал дядя.
Талиб и так не мог оторваться от удивительного зрелища. Больше всего его привлекал огромный и величественный минарет Смерти, или, как его еи;е называют, Минар-и-Калян — Великий минарет.
Чем ближе они подъезжали к минарету, тем выше вздымался он в синее небо. Удивительно стройный и постепенно сужающийся кверху, к холодно^голубому изразцовому поясу, он вдруг начинал расширяться, фигурные кирпичные пояски образовывали странные и удивительные узоры, и сама макушка, как голова великана, была украшена красивой шапкой. Из-под шапки во все стороны глядели глаза — не то просто окна, не то бойницы. На Талиба сразу глянуло шесть или семь таких глаз-бойниц...
И вдруг над городом зазвучал призыв на молитву, на последнюю вечернюю молитву. Он нёсся и с минарета Калян, и со многих других минаретов Бухары.
Арбакеш остановил лошадь, слез и расстелил на обочине дороги маленький молитвенный коврик. Пассажиры последовали за ним. Талиб замешкался, а Зарифходжа сказал с гордостью:
— В Бухаре триста шестьдесят улиц и триста шестьдесят четыре мечети.
Путники встали на колени, и молитва началась. В этот час все мусульмане города стояли на молитве.
Двор Зиядуллы находился недалеко от купола Сарафон. Собственно говоря, в этом дворе жили два родных брата — Зиядулла и Ширинбай. Оба были крупными торговцами каракулевыми шкурками и, по преданию, происходили от первых каракулеводов в Бухаре.
Так это или иначе — неважно. Сейчас оба брата уже не пасли овец, а сидели в Бухаре на своих складах и оценивали качество товара, привозимого узбеками, таджиками, казахами и каракалпаками. Дело их быстро росло. В Европе и даже в Америке модницы ценили бухарский каракуль: чёрный, серебристый, чёрно-серебристый и особенно каракуль-сур, золотой.
Имя Усман-бая открыло дяде Юсупу с племянником двери этого дома. Работники устроили приезжих в комнатушке недалеко от кухни, покормили их и дали одеяла. Хозяева не показывались долго, а потом пришли вместе оба брата. Оба они был смуглые, стройные, с правильными чертами лица, только Ширинбай был чуть шире в плечах и ниже ростом, чем его младший брат Зиядулла, который, несмотря на седую бороду, казался юношей — такой он был узенький и изящный.
Ширинбай почти ничего не говорил, а только присматривался, Зиядулла был разговорчивее. В ответ на слова дяди Юсупа, что Талиб — родственник Усман-бая, он заметил, будто про себя:
— Надеюсь, не очень близкий родственник. Потом братья ушли. На прощанье Зиядулла пожелал им спокойной ночи, а Ширинбай добавил:
— Сегодня ночуйте, а завтра ищите себе место в караван-сарае.
* * *
Утром Талибу не терпелось выйти в город посмотреть на Бухару, но пришлось ждать Зарифходжу, который накануне слез с их арбы за три квартала до дома Зиядуллы и обещал утром помочь с устройством.
В город они вышли втроём.
Они шли по торговой части города мимо многочисленных лавок, магазинов, мимо кирпичного двухэтажного здания банка, где у широких ступеней стоял новенький пароконный фаэтон с откинутым верхом и кожаными сиденьями. Возле дверей стоял пузатый бухарский полицейский или какой-то другой служитель или охранник. На нём был мундир с блестящими пуговицами, шашка, пистолет в кобуре, а на голове чалма.
Окно первого этажа рядом с дверью было распахнуто, на подоконнике стоял граммофон с трубой, повёрнутой на улицу. Из трубы неслась музыка и слова на русском языке:
На-а земле-э весь ро-о-д людской
Чтит один кумир свяще-эээнный.
Голос у певца был сильный и красивый. Слова он выговаривал чётко.
Толпы людей ходили между лавок и торговых рядов, кто-то что-то покупал, большинство же бродило без всякой цели.
— Пойдёмте, сначала я покажу вам Арк, — сказал Зарифходжа. — Арк — это цитадель ислама в Бухаре.
Они вышли на площадь Регистан, и Талиб увидел странное и очень красивое здание со стройными деревянными колоннами, стоящее возле большого бассейна — хауза. Деревья, окружающие хауз, облетели, и сквозь прозрачные голые ветви, как сквозь кисею, по другую сторону Регистана мальчик увидел цитадель. Высокие стены покато уходили ввысь, завершаясь наверху зловещими зубцами. Там, за стеной, высоко над городом виднелись крыши.
— Там дворцы нашего эмира, — пояснил Зарифходжа. — Там трон нашего повелителя, там живёт наш куш-беги — тень эмира, там живёт тупчи-баши — главнокомандующий всеми войсками...
Возле Арка ходили солдаты — узбеки и таджики, одетые в русскую форму. Какие-то люди в дорогих парчовых халатах и шёлковых чалмах на тонконогих вороных лошадях подъехали к башне с воротами, ведущими в цитадель, спешились и, поклонившись страже, прошли за ворота. Башня была белая и широкая, ома походила на огромную мечеть с двумя минаретами по бокам от входа, с террасой между этими двумя минаретами, но на этих минаретах вместо муэдзинов стояли солдаты с винтовками.
— Под этой башней есть тюрьма для смутьянов, — с гордостью сказал Зарифходжа. — Говорят, она уходит далеко под землю. Если счастье позволит вам пройти через эти ворота, вы сможете увидеть верхний этаж ©той тюрьмы. Я видел.
— А кого пускают в Арк? — спросил Талиб.
— Избранных, — многозначительно произнёс Зарифходжа. — Я там был. Но довольно глядеть туда. Это опасно. Мало ли что могут о нас подумать! Пойдёмте лучше на базар. Арк — сердце Бухары, базар — желудок.
На краю базара боком прилепилась к сапожной мастерской глиняная коробочка с распахнутой дверью и крохотным оконцем без стекла. В дверях, облокотясь о косяк, стоял длиннолицый медноволосый человек с полотенцем, перекинутым через плечо, — базарный парикмахер, вернее, цирюльник. Нос парикмахера нависал над оттопыренной нижней губой, которая придавала его лицу выражение иронического равнодушия. Глаза парикмахера жили как бы отдельно от его лица. Тяжёлые веки с длинными ресницами прикрывали их только наполовину, морщинки возле глаз были добрые. Талиб с удивлением отметил, что халат парикмахера подпоясан не платком, как у всех, а пеньковой верёвкой — такой обычно завязывают мешки.
— Это очень кстати, — сказал Зарифходжа. — Вам, дорогие, надо побрить головы. Настоящий мусульманин должен чаще брить голову, а этот цирюльник самый дешёвый в городе.
— Хорошо ли он бреет, если дёшево берёт? — спросил дядя.
— Очень хорошо. Только тем и держится. Ом еврей, а не мусульманин: его прогнали бы сразу, чуть что.
— Почему он подпоясан верёвкой? — спросил Талиб.
— Чтобы все видели, что он неверный, — ответил Талибу не Зарифходжа, а дядя Юсуп. — В Бухаре закон строг. Евреям запрещено подпоясываться платком, ездить верхом на лошади, входить в мечеть и многое ещё...
Парикмахер поклонился клиентам и, взмахнув полотенцем, будто обметал табуретку, стоявшую перед тонким, потускневшим и облезлым зеркалом без рамы, привычным жестом пригласил дядю Юсупа сесть. Тот подтолкнул прежде своего племянника, и Талиб уселся на высокий деревянный табурет о трёх ножках.
Парикмахер окунул руки в медный таз с мыльной водой, затем хорошенько смочил и крепко растёр коротко стриженную голову Талиба. И вдруг в его правой руке, словно из воздуха, возникла, появилась широкая и непомерно большая бритва. Талиб заметил, что она не похожа на обычную бритву не только размером и шириной лезвия: сталь бритвы была почти чёрной, вернее, отливала чернотой и золотом. На ней виднелись волнистые светлые полосы такого же рисунка, как на отцовской сабле и сабле генерала Бекасова.
— Ты похож на наследника престола, такой у тебя сердитый вид, — едва заметно улыбнувшись одними глазами, сказал парикмахер. Он несколько раз с небрежной лихостью провёл бритвой по ремню и занёс её над головой Талиба.
Брить голову на базаре не очень-то приятно. Каждый мальчишка старается избежать этого. Иногда ведь попадёшь к такому цирюльнику, что, пока тебя побреют, наплачешься. Вся голова потом в порезах, и капельки крови на ней, как божьи коровки на арбузе.
Талиб зажмурился. Но бритва шла легко и мягко. Парикмахер провёл от лба к затылку первую полосу, полюбовался своей работой и запел, вернее, замурлыкал про себя какую-то песню.
Закончив бритьё, он вытер голову Талиба полотенцем и опять сказал:
— Ты случайно не родственник эмира?
— Молчи, еврей, — бросил ему Зарифходжа. — Он узбек, и хотя бы поэтому он в тысячу раз ближе нашему эмиру, чем ты.
Парикмахер и бровью не повёл, он привычным жестом пригласил к облезлому зеркалу дядю Юсупа. Дядя занял место на табуретке, а Талиб, присев на корточки возле двери парикмахерской, грелся на солнышке и глядел на пёструю базарную толпу.
Вдруг из-за базарных рядов на небольшую пустую площадку выбежал человек в халате, будто нарочно сшитом из самых немыслимых лоскутков, в остроконечной шапке, отороченной чёрным, вроде бы собачьим мехом, с посохом в руке и пятью маленькими выдолбленными тыковками у пояса.
«Дервиш», — понял Талиб. Таких дервишей он видел в Ташкенте. Полумонахи-полубродяги, они ходили по городам и селениям, проповедовали, нищенствовали. Некоторые из них считались «дивана», то есть сумасшедшими. Впрочем, Талиб знал, что многие просто притворялись.
Дервиш подпрыгнул на месте и закричал тонким, почти женским голосом. Слова разобрать было невозможно, только изредка в их потоке угадывались имена пророка Мухаммеда и святых халифов. Худоба дервиша бросалась в глаза, лицо его было слегка перекошено, и один глаз казался меньше другого.
На крик собрался народ. Зарифходжа пошёл посмотреть и послушать дервиша. Талиб встал на глиняное возвышение — суфу — возле парикмахерской, чтобы лучше видеть. А дервиш всё кричал и прыгал на месте. Потом, когда народу стало больше, дервиш бросил свой посох на землю, приложил ладони к щекам и, кружась, стал призывать всех правоверных мусульман послушать его.
— Рабы божьи, рабы божьи! — кричал дервиш. — Все, кто хочет попасть в рай, все, кто хочет милости всевышнего, идите сюда!
Когда народу собралось достаточно много, дервиш обратился к присутствующим:
— Пусть все правоверные, кто хочет в рай, возденут руки к небу... Не опускайте руки, не опускайте руки! — предупредил дервиш и стал обходить толпу по кругу.
Он подходил к тем, кто был одет побогаче, и говорил, заглядывая в лицо выбранной им жертвы.
— Ты богатый человек, опусти руки в карманы и дай мне то, чего тебе не жалко. Ты богатый!
Люди опускали руки в карманы и давали деньги. Это были серебряные монеты бухарской чеканки и русские монеты по десять, пятнадцать и двадцать копеек. Собрав деньги, дервиш объявил, что все, кто пожертвовал на его молитвы, молитвы угодного богу дервиша, могут опустить руки.
— Эти люди спасутся, они будут в раю! — закричал дервиш, стоя в центре круга. — Но неужели справедливо, что одни из вас спасутся, а другие нет? Кто на земле богаче, тот и на том свете будет жить лучше? Разве это справедливо?
Талиб подумал, что дервиш совершенно прав. Очевидно, так же подумали и собравшиеся вокруг него люди. А дервиш тут же сказал:
— Пусть все бедные, кто хочет попасть в рай, тоже дадут свои деньги. Пусть будет справедливо! — я стал обходить круг, протягивая каждому одну из своих тыквочек.
На этот раз деньги сыпались в тыквочку дождём. Это были всякие мелкие монеты, и серебро, и пятаки, и копейки.
Талиб очень удивился такому быстрому и простому торжеству справедливости. А в это время дядя Юсуп, окончив бритьё, расплатился с парикмахером и стал рядом с Талибом.
— Пойдём поближе, — предложил дядя.
— Вы идите, я постою, — ответил Талиб. — Отсюда лучше видно.
Дядя Юсуп, однако, тоже не пошёл, а остался у парикмахерской.
Между тем дервиш продолжал своё. Он вытащил из-за пазухи кипу сложенных треугольниками бумажек — талисманов, туморов, на которых пишут чудотворные молитвы.
— О правоверные! — воскликнул дервиш. — На этих святых бумагах написаны самые сильные молитвы, но пусть все мошенники, все воры, все, кто родился не от своего отца, кто опозорил свой род, — отвернутся.
— Эге, какой умный, — послышался тихий голос парикмахера, который стоял в своей обычной позе, облокотясь на косяк. — Кто же сознаётся, что он вор, мошенник и опозорил свой род.
«И правда, — подумал Талиб. — Кто же сознаётся при людях, что он мошенник?»
А дервиш зорко поглядел вокруг и, будто услышав слова парикмахера, крикнул опять:
— Пусть все неверные, все цыгане, индийцы, евреи, не смотрят на святые эти молитвы!
Парикмахер сразу же отошёл от двери. Юсуп вздохнул и сказал Талибу:
— Надо обязательно купить талисман. В чужом городе, среди чужих людей надо быть, как все. Я и так прогневил аллаха...
Продав свои бумажные треугольнички, дервиш деловито зашагал в сторону мечети с четырьмя минаретами, видневшейся неподалёку. Толпа стала расходиться.
— Я покажу вам караван-сарай, где можно недорого снять комнатушку, — сказал Зарифходжа. — Потом пойдём в мечеть, но скажите: чем вы торгуете?
— Мы торгуем бумагой и тетрадками, карандашами и перьями, — сказал дядя Юсуп. Скрывать это теперь не было никакой надобности. Из случайного попутчика Зарифходжа превратился вроде бы в старого знакомого.
— Неплохой товар, — искоса взглянув на дядю Юсупа, сказал тот. — Я слышал, в Ташкенте закрываются бумажные фабрики. Теперь бумага вздорожает. Только я вам не помощник. Я не люблю эти новые школы, которые у вас будут покупать бумагу и карандаши. Я их не люблю.
Дядя Юсуп ничего не ответил, и они пошли молча.
— Подождите меня, — вдруг сказал Талиб. — Подождите, я быстро! — Он повернулся и, придерживая полы халата, побежал к парикмахерской.
Длиннолицый парикмахер брил эмирского солдата в новеньком мундире. Увидев Талиба, он одними глазами спросил, что ему надо.
— Скажите, пожалуйста, — сказал Талиб, — скажите, откуда у вас эта бритва?
— Ты знаешь толк в стали? — удивился парикмахер. — Эта бритва принадлежала моему отцу, до него — моему деду, до него — деду моего деда. И все они были замечательными парикмахерами. Как я.
— Спасибо, — разочарованно сказал Талиб и побежал догонять дядю.
* * *
Караван-сарай, куда их привёл Зарифходжа, оказался просторным двором, вокруг которого теснились мазанки — побольше и поменьше, — пристроенные одна к другой. Дальний угол был занят конюшнями и навесами, где, лениво жуя что-то, стояли верблюды. Они изредка переступали задними ногами и помахивали длинными хвостами.
Хозяин караван-сарая молча выслушал Зарифходжу, взял у дяди Юсупа плату вперёд и повёл их к одной из мазанок. Он открыл её большим деревянным ключом и, вручив ключ новым постояльцам, молча удалился.
Небольшая комната без окон была чистой, на софе лежал старенький, вытертый коврик, на полу — камышовые циновки. Весь этот день ушёл на устройство в новом жилище, на перевозку товара и знакомство с обитателями караван-сарая. Обедали они у Зиядуллы. Обед был сытный и вкусный. Шурпа, плов из жирной баранины и с айвой и крепкий ароматный чай. В середине обеда пришёл старший брат Ширинбай. Он быстро поел шурпу, плов и ещё яичницу из трёх яиц. Яичницу он, вопреки законам гостеприимства, ел один, не предложив никому ни кусочка. Никто этому не удивился, кроме Талиба. Потом он узнал, что скупость Ширинбая известна всей Бухаре. Будучи миллионером, он экономил на еде, частенько обедал у брата, чтобы самому не тратиться, а яичницу съел один потому, что три курицы, ходившие по их общему с братом двору, были куплены Ширинбаем.
В конце обеда Зиядулла сказал, что завтра с утра он поведёт дядю Юсупа в новую школу, открывшуюся недавно в их квартале, познакомит с учителем Насыром, который несомненно заинтересуется ташкентскими тетрадками и карандашами.
Глава шестая
НОВАЯ ШКОЛА
К началу нового, 1918 года в Ташкенте закрылись частные фабрики школьных принадлежностей, в том числе и «Картонтоль», фабрика, изготовлявшая грифельные доски.
На складах ещё оставались кое-какие запасы, но спрос был велик и цены поднялись.
В Бухаре, где в это время особенно много говорили о России, о революции, о просвещении и необходимости учить детей по новым методам, торговля дяди Юсупа шла очень хорошо.
Стояли холодные, но ясные дни. По утрам бывали сильные заморозки, но зима, настоящая зима, всё медлила с приходом, когда вдруг, в одно утро, Талиб, собравшийся пойти за водой для утреннего омовения, распахнув дверь каморки, увидел, что двор караван-сарая, крыши мазанок и навес для верблюдов покрыты пушистым голубоватым снегом. Небо было уже чистым, облака рассеялись к утру, и низкое солнце совсем не грело. Постояльцы караван-сарая не ходили, а бегали по двору, стараясь поскорей вернуться в тепло.
Талиб побежал к хаузу — водоёму возле ворот — и увидел, что весь он покрылся матовым льдом. Раньше вода замерзала только по краям хауза, теперь она вовсе скрылась под прочным ледяным панцирем. К счастью, почти одновременно с Талибом к хаузу подошёл водонос с бурдюками и с топором.
— Подождите, господин, — сказал он Талибу, вежливо ему поклонившись.
Водоносы в Бухаре были, пожалуй, самыми бедными людьми из всех самых бедных, и всё же Талиб очень удивился, поняв, что это его взрослый человек называет господином.
— Вы пойдите погрейтесь, а я достану воду и принесу вам. Я знаю, где живёт ваш почтенный дядя. Я принесу.
Талиб не уходил. Стоять на морозе без дела очень холодно, второго топора, чтобы помогать водоносу, не было, и мальчик прыгал на месте, сунув руки в рукава халата.
Водонос не дал Талибу набрать воду, он сам наполнил кувшин и протянул мальчику.
— Господин, — сказал водонос, — я знаю, что вы и ваш дядя можете мне помочь. Вы дружите с учителем в новой школе, которая возле купола Сарафон. Попросите, чтобы моего сына тоже приняли туда.
— Туда принимают всех, — сказал Талиб. — Учитель Насыр-ака принимает всех. Он сам говорил. И не
зовите меня «господин», пожалуйста. Какой я господин?
— Для меня каждый образованный — господин. Я приду в школу с сыном, если вы замолвите за меня словечко. Меня зовут Анвар, а сына — Ибрагим. Не забудете?
— Хорошо, — ответил Талиб. — Только это всё необязательно. Насыр-ака говорил, что принимает всех.
* * *
Утром дядя и племянник обычно разносили товары на дом. В холодные дни такой порядок всех устраивал. Покупатели, люди в общем состоятельные, старались не выходить из дома в плохую погоду, а дядя Юсуп с Талибом имели возможность отогреться в богатых домах, посидеть за сандалом, попить чаю.
Испокон повелось, что зимой в Бухаре богатые люди едят много и вкусно. Перепадало, конечно, и нашим бродячим торговцам.
Среди покупателей встречались чиновники и особенно много купцов, понимавших, что по новым временам их дети не смогут вести торговлю без знания арифметики, географии и языков.
В одном из домов Талиб рассказал своему сверстнику, ученику новой школы, про глобус, который изображает земной шар. На глобусе есть все страны, моря, реки и океаны. Глобус Талиб видел в Ташкенте. Мальчик попросил родителей купить ему эту штуку, дядя Юсуп выписал партию глобусов из Ташкента, и теперь во многих домах Бухары на самом почётном месте, рядом с праздничным самоваром и праздничной посудой, в одной из ниш комнаты для гостей стояли маленькие макеты земного шара.
В то холодное утро дядя с племянником зашли в четыре дома, разнесли покупки и выслушали новости. Новости были тревожные. Говорили, что эмир решил 3/знать, сколько есть в Бухаре новых школ, чему в них учат и чьи дети ходят в новые школы.
«Что бы это всё значило?» — спрашивали себя люди.
Одни говорили, что эмир хочет закрыть все школы, ведь эмиру невыгодно, когда много грамотных; другие уверяли, что эмир, наоборот, хочет, чтобы таких школ было больше. Ведь эмиру выгодно, когда в его стране много грамотных. Третьи не без основания утверждали, что эмиру безразлично, сколько грамотных и неграмотных в его стране, важно только, чтобы в школах учили правильно, чтобы не было безбожия и русских влияний. Но во всех домах согласны были в одном: в школах должны учиться дети достойных родителей. Три комнаты в доме учителя Насыра были отведены под классы. Только в одной стояли столы, там под руководством старшего сына Насыр-ака, шестнадцатилетнего Хамида, первоклассники, вернее, те, кто занимался первый год, учились писать буквы. Талиб заглянул в эту комнату и, так как писать он умел, а здесь этому только учились, заглянул во вторую. Младший сын Насыр-ака, Камал, диктовал условие задачи ребятам, сидевшим на полу. Ребята писали на грифельных досках, привезённых дядей Юсупом.
— В одном караван-сарае было десять комнат; за каждую в месяц хозяин брал по пять таньга [Таньга – монета Бухарского эмирата], — диктовал Камал. — Сколько всего таньга в месяц получал хозяин караван-сарая?
Урок в третьей комнате вёл сам Насыр-ака. Он говорил что-то интересное. Талиб зашёл и присел на циновку. На улице Талиб ходил в шапке, а в комнате надевал свою старенькую ферганскую тюбетейку с белым узором по чёрному полю.
Насыр-ака улыбнулся Талибу и кивнул. Он очень любил его и иногда даже называл сынком. Когда Талиб присутствовал на уроках, Насыр-ака задавал ему трудные вопросы по арифметике и ставил его в пример другим ребятам.
— Ну вот, — продолжал свой рассказ Насыр-ака, держа в руках глобус. — Значит, на земле живут разные люди, люди разных национальностей. Здесь вот живут французы, здесь американцы, здесь австрийцы, здесь русские, а здесь вот живём мы с вами. А теперь скажите, какие национальности есть в Бухаре?
Ребята заговорили все разом:
— Узбеки.
— Таджики.
— Индийцы.
— Евреи.
— Белуджи.
— Цыгане.
— Правильно, — поднял руку Насыр-ака. — Правильно. А теперь расскажите, чем они отличаются друг от друга?
Этот вопрос оказался труднее первого. Ребята говорили о том, что индийцы носят особого покроя шаровары и рубахи, что голову они бреют не всю, а оставляют на затылке длинные пряди, на головах у них колпаки, закрывающие уши и затылок; что евреи живут отдельно, в особых кварталах, что молятся евреи и индийцы не тому богу, какому молятся таджики и узбеки, а своим богам. О цыганах говорили, что они не живут на одном месте и летом ставят белые шатры; делают они сита, мотыги, ложки. Белуджи лицом чернее цыган, их называют поэтому чёрными цыганами, и занимаются они дрессировкой обезьянок, козлов и медведей...
Насыр-ака опять поднял руку, и ребята затихли.
— А теперь, — сказал он и подошёл к Талибу, — теперь скажите, какая у нашего Талибджана тюбетейка?
— Ферганская, — хором сказали ребята.
— Так! — Насыр-ака взял тюбетейку в руку и опять спросил: — А похожа эта тюбетейка на нашу бухарскую?
— Нет! — так же дружно ответили ученики.
— А на индийский колпак?
— Нет!
— А на еврейскую тюбетейку?
— Конечно, нет, — не так уже уверенно, удивляясь простоте вопроса, отвечали ученики.
— А на русскую кепку она похожа?
Все ребята видели русскую кепку, и то, что она очень не похожа на местные тюбетейки и колпаки, было совершенно ясно,
— Конечно, не похожа. Совсем не похожа, — сказали ребята.
— Ну а ты, Талибджан, как думаешь? — спросил учитель.
Талиб на минуту задумался, зная, что простой вопрос задан ему не зря; он представил себе русскую кепку, посмотрел на свою тюбетейку в руках учителя и твёрдо сказал:
— Совсем не похожа.
— Вот, — развёл руками Насыр-ака. — Вот так рассуждают все те, кто смотрит только по внешности, кто поверхностно смотрит, кто не умеет смотреть глубже. Подумайте хорошенько, ведь и тюбетейка, и кепка, и колпак из одного материала сделаны, одними нитками шиты и одному делу служат. Так и люди.
Ученики переглянулись. А ведь действительно, никому из них раньше это и в голову не приходило.
— Правильно, — сказал сын медника.
— Неправильно, — возразил сын писаря из канцелярии верховного судьи. — Мы, мусульмане, верим в аллаха и ему служим. Наш аллах — единственный правильный бог, а у индусов, у русских и у евреев бог неправильный. Как же это мы можем быть одинаковыми с ними?
Вопрос этот был трудный. Он был трудный не потому, что Насыр-ака не мог на него ответить, а потому, что он испугался: вдруг сын писаря расскажет дома об этом. Писарь может рассказать верховному судье, и тогда...
Что будет тогда, Насыр-ака знал хорошо. Можно легко обвинить человека в оскорблении веры. За это посадят в тюрьму или отстегают плётками прямо на площади.
— Видите ли, — осторожно начал Насыр-ака, — все люди сотворены богом одинаковыми. Только не все нашли правильного бога. Это не их вина. Главное, что люди должны служить одному делу, делать жизнь лучше. Разве цыгане не делают сита для нас для всех, разве евреи не шьют одежду, не вышивают тюбетейки, разве русские не делают для нас эту бумагу, эти грифельные доски?
Талиб понял, в какое трудное положение попал учитель, и потому сказал:
— Русские делают паровозы и вагоны, красивый бархат и посуду, русские привозят керосин...
— Ты забыл, что русские делают ещё и ре-во-лю-ци-ю! — воскликнул сын писаря. — Их за это аллах накажет, мой отец так говорит.
Насыр-ака вдруг рассердился:
— Хватит об этом болтать! Хватит спорить. Нас не интересует революция. Мы все — верные дети эмира. Мы все — верные дети нашего мудрого эмира, и мы — правоверные мусульмане. Хватит об этом. Теперь мы будем читать коран. Кто знает наизусть первую главу нашей священной книги? Как она называется?
— «Фатиха», — ответили ребята.
Первую главу все знали. Она самая короткая.
— А как называется вторая глава?
— «Корова», — ответило несколько голосов.
— Пусть же Талибджан начнёт читать коран со второй главы.
— «Во имя аллаха милостивого, милосердного! Эта книга — нет сомнения в том — руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в тайное и выстаивают молитву, из того, чем мы их наделили, расходуют, и тех, которые веруют в то, что ниспослано тебе и что ниспослано до тебя, и в последней жизни они убеждены...»
Не очень-то понимая, что он сейчас читает, да и не вдумываясь, Талиб продолжал до тех пор, пока учитель не остановил его:
— Достаточно. А теперь пусть кто-нибудь расскажет, как аллах сотворил землю и небо.
Встал сын писаря.
— Аллах сказал: «Будь», и всё само появилось, — уверенно начал он. — Сначала он создал небо и землю, установил даже целых семь небес, а самое ближнее небо украсил звёздами и луной.
— Достаточно, — сказал учитель. — Пусть теперь кто-нибудь ответит, откуда появились горы.
Встал другой мальчик — сын купца — и сказал, что аллах бросил горы на землю для равновесия.
— А для чего создал аллах животных? — опять спрашивал учитель.
— Для того чтобы люди ездили на них и питались ими, — отвечал ещё один из учеников.
Так продолжалось долго.
В других классах уроки кончились, и ребята, подхватив сумки, убежали домой, а Насыр-ака всё ещё занимался кораном. Он был настойчив и раздражителен, ругал ребят за малейшие ошибки и похвалил только сына писаря, хотя он отвечал не лучше других. Наконец и он отпустил учеников.
— Уф, — выдохнул он, оставшись наедине с Талибом. Насыр-ака вытер пот со лба и грустно улыбнулся мальчику. — Тяжёлое дело — быть учителем в Бухаре. Понимаешь?
Талиб кивнул. Они вышли во двор. Солнце растопило снег, он уже стёк с крыш, во дворе на солнцепёке стояли лужи, а в теневых углах лёд не таял.
Возле калитки стоял тот водонос, который утром просил Талиба замолвить словечко перед учителем. Мальчик совсем забыл о нём и сейчас, вспомнив, засуетился:
— Насыр-ака, это к вам. Он хочет, чтобы вы приняли его сына в свою школу.
Настроение у Насыр-ака было мрачное. Он подозвал водоноса, выслушал его просьбу и сказал, что у него в начальном классе и так много ребят, пусть, мол, водонос придёт на следующий год, с осени.
— О учитель, — сказал водонос, — мой отец был неграмотным, я сам не могу поставить свою подпись, неужели и мой сын будет несчастным водоносом? Помогите мне! Я хочу, чтобы мой сын стал муллой, чтобы он сидел в мечети в большой белой чалме и чтобы люди слушались его. Я буду носить воду в ваш дом из самого лучшего хауза, я буду носить вам дрова всю зиму, я буду молиться за вас пять раз в день.
— Насыр-ака, — робко произнёс Талиб, чувствуя себя связанным утренним обещанием, — я сказал, что вы принимаете всех...
— Ваш сын совсем нигде не учился? — спросил учитель.
— Нет, он учился. Он три года учился в старой школе, — поспешил ответить водонос — Он знает наизусть все главные молитвы, он немножко умеет читать, но не умеет писать. Научите его писать, учитель.
— Сейчас середина года... — задумавшись, ответил Насыр-ака. — Если бы кто-нибудь...
Талиб угадал то, чего не успел сказать учитель.
— Я буду ему помогать, он догонит. Насыр-ака поглядел на Талиба и согласился:
— Хорошо, приводите вашего сына.
Водонос очень обрадовался, поклонился учителю и Талибу и произнёс слова, которые часто говорятся в таких случаях:
— Берите его, пусть он будет вашим рабом. Кости наши — мясо ваше! Бейте его до костей, учите, но пусть будет грамотным!
— Зачем вы так говорите? — возразил учитель. — У нас новая школа. Мы не бьём учеников.
Глава седьмая
ТЕНИ
Холод и сырость — главные враги чахоточных людей. Они друзья чахотки. Дядя Юсуп стал сильно кашлять. Утром он с трудом вставал, к середине дня немножко веселел, вечером же был совсем больной. Он не пропускал ни одной молитвы, и часто приступы кашля случались с ним в мечети. Тогда все молящиеся с неприязнью оглядывались на тощего черноглазого человека с впалыми жёлтыми щеками. Он мешал молиться.
К началу февраля дядя Юсуп совсем слёг. На Талиба сразу обрушились все заботы по торговле, прекратились и спасительные визиты в богатые дома, где можно было отогреться и поесть. Нужно и дрова принести, и чай вскипятить, и в чайхану за едой сбегать. А тут ещё занятия с сыном водоноса Ибрагимом. Он совсем не умел писать и читал тоже плохо. Однажды, когда дядю Юсупа бил очень сильный кашель и на губах его показалась кровь, Талиб не пошёл домой к водоносу. Он решил пропустить один денёк. Вечером водонос пришёл сам. Он посидел возле больного, повздыхал и ушёл, чтобы вскоре вернуться с женой и сыном. Не слушая возражений, они подняли дядю Юсупа и повели его к себе домой.
— Будете жить у нас. Всё-таки и уход женский, и еда домашняя.
Дядя Юсуп не возражал, Талиб был рад этому. Вещи и товары перенесли в хибарку водоноса.
Мать Ибрагима готовила, мыла, стирала на всех и ухаживала за больным. Талиб продолжал вести торговые дела, сам разносил заказы и под диктовку дяди писал запросы на склады Самарканда и Ташкента.
Ибрагим, очень маленького роста, но широкий в плечах мальчик, оказался парнем толковым и весёлым; грамоте он учился легко.
Вместе с другими товарами в хибарку водоноса перетащили и несколько непроданных глобусов, отчего в комнате стало много веселее. Они стояли на полках в нише и по углам комнаты.
Талиб придумал такую игру: один из ребят раскручивал глобус, а другой останавливал его пальцем. То место, куда упирался палец, считалось конечным пунктом их совместного путешествия. Так они побывали в Японии, в Южной Америке, в Африке и в Москве. Путешествовали они долго и обстоятельно, останавливались во всех городах по пути. О городах Талиб узнавал из учебника географии, который тоже предназначался для продажи, но учебник был русский, никто его не купил.
В погожие дни, когда не было ветра и солнышко хорошо пригревало, ребята после школы отправлялись побродить по городу. Заходили под купол Аллофон, где торговали мукой, или в пассаж, где всегда полным-полно всяких сладостей, на которые можно смотреть совершенно бесплатно.
Однажды они сидели на мраморной плите возле здания банка. Из окон на улицу глядела большая жестяная труба и неслись звуки единственной пластинки.
Может быть, пластинка эта и не была единственной, но сторож банка заводил только её. Говорили, что какой-то русский ещё в царское время подарил сторожу эту пластинку и сказал, что в банке это самая подходящая музыка.
На земле весь род людской
Чтит один кумир священный.
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир — телец златой, —
пела труба красивым мужским голосом.
Подчиняясь воле злата,
Край на край встаёт войной,
И людская кровь рекой
По клинку течёт булата —
Люди гибнут за металл,
Лю-ди гиб-нут за-а металл, —
неслось из граммофона.
Сейчас в банке было пусто и тихо. После Октябрьской революции он закрылся и мало кто заходил сюда.
Талиб кое-как перевёл содержание песни Ибрагиму, и они оба удивлялись тому, какие правильные слова пела жестяная труба.
— Эй, мальчик, — окликнул Талиба человек в мундире и чалме с револьвером на боку. — Что-то я тебя давно не видел. Как дядя? Как торговля?
Это был Зарифходжа, спутник по вагону, ехавший с ними из Самарканда в Бухару. Талиб не сразу узнал его в новом одеянии.
— Не узнал меня? Ну что ж, значит, буду ещё богаче, — сказал Зарифходжа. — Я теперь туксаба, чиновник его величества эмира, помощник караван-беш. Каждый мусульманин должен послужить нашему правоверному государю в трудный год, если торговым делам ото не мешает.
Зарифходжа был очень доволен своим новым положением и говорил долго.
— Вот что, — сказал он на прощанье. — Я хорошо отношусь к твоему дяде, поэтому передай ему, чтобы он бросил дружбу с новыми школами. Я открыл торговлю кишками, пусть идёт ко мне приказчиком. Эти новые школы сегодня опаснее чумы. Передай ему.
Талиб обещал передать всё в точности, поклонился Зарифходже и ещё больше невзлюбил его. Зарифходжа по обычаю спросил о здоровье дяди, но даже не выслушал ответа.
«Ишь чего захотел, — думал Талиб, — чтобы дядя бросил собственную торговлю и пошёл к нему торговать вонючими кишками». Настроение у ребят испортилось, и они было пошли домой, но свернули на базар. Талиб купил пригоршню леденцов, бесспорно улучшающих плохое настроение. Возле базарчика, где торгуют своим товаром медники, ребята увидели дервиша в шапке, отороченной собачьим мехом. Это был тот самый дервиш, которого Талиб видел в первые дни своей жизни в Бухаре. То же перекошенное лицо, те же тонкие злые губы. На этот раз дервиш не собирал денег, не прыгал и не продавал талисманы. Он проповедовал.
— О мусульмане! О правоверные мусульмане! Слушайте меня, если не хотите обратиться в паршивых ишаков и бродячих собак...
Дервиш стоял на ступеньках лестницы перед какой-то заколоченной дверью. Он потрясал посохом, лицо его устрашающе дёргалось.
— Бойтесь неверных, от них вся погибель! — выкрикивал он. — Бойтесь цыган и евреев, индийцев и белуджей, особенно бойтесь русских. Это они погубили своего царя, это они отказались от своего бога и от всех других богов. Это они придумали шайтан-арбу — паровоз, это они придумали шайтанскую проволоку — телефон...
— Хе, — сказал Талибу в ухо Ибрагим. — Что он говорит? Наш эмир ездит на шайтан-арбе и говорит через шайтанскую проволоку.
— Нам не нужна их аптека-маптека, нас от всех болезней спасает святая молитва! Нам не нужны всякие газеты-мазеты! Нам не нужны наши грамотеи, которые читают эти газеты-мазеты и сеют смуту! Самый главный вред нам — новые школы. Хитрость новых школ велика, они губят наших детей, обрекают их на муки! Наших дорогих мусульманских детей в этих школах учат смеяться над верой...
— Вот врёт, — сказал Талиб Ибрагиму. — Насыр-ака очень верующий.
Люди вокруг слушали дервиша молча, многие кивали головами в такт его словам; на мальчишек, переговаривающихся в толпе, стали шикать.
— О мусульмане, пойдём к нашему дорогому эмиру, пусть он закроет эти проклятые школы, пусть закуёт в цепи мусульман-отступников...
Дервиш говорил ещё много и долго, повторяя на все лады клевету о русских, о других национальностях, о новых школах. Ребятам надоело слушать, и они пошли прочь.
В доме водоноса тоже было неспокойно. Дядя Юсуп в последние два-три дня чувствовал себя лучше; он добрёл до ближайшей чайханы и, наслушавшись новостей, вернулся опечаленный. Талиб рассказал о встрече с Зарифходжой, и дядя ещё больше опечалился.
— Неужели и здесь нам не повезёт? Я вот выздоравливать стал, неужели всё пойдёт прахом? Если новые школы закроют, кто будет покупать мои товары?
Новую тревогу вызвали у него слова водоноса.
— Знаете, почтенный, — сказал тот, вернувшись домой, — соседи передавали мне, что тут ходит один подозрительный человек, наверно соглядатай эмирский. Он выспрашивал соседей про вас. Кто, откуда, чем занимается, не читает ли газеты? Это очень плохо.
— Плохо! — согласился дядя Юсуп. — Но я ничего запрещённого не делал.
* * *
Через несколько дней после первых тревог, когда беспокойство по поводу новых школ уже немного улеглось, Насыр-ака сообщил ученикам, что завтра у них в школе ожидаются высокие гости. Прибудет первый министр — куш-беги и староста купцов — караван-беги Абдуррауф. Ученикам было велено прийти в самой лучшей одежде, всем выдали чистые тетрадки и новые карандаши, Насыр-ака и его сыновья каллиграфическим почерком написали на склеенных листах бумаги длинные изречения из корана и молитвы во славу его величества эмира. Было решено, что сыновья Насыр-ака, Хамид и Камал, завтра не будут вести уроков, чтобы, не дай бог, не допустить ошибок в присутствии высокой комиссии.
Назавтра с утра комнаты, отведённые в доме Насыр-ака под школу, были устланы лучшими коврами, принесёнными на время детьми богатых родителей. Даже во дворе, от калитки до террасы, постелили циновки, а поверх них — дорожку из кошмы. В ожидании комиссии обычные уроки не начинались, Насыр-ака вместе с детьми повторял молитвы и читал толкование к корану. Наконец с улицы послышался шум, показались всадники, и Насыр-ака вместе с сыновьями выбежали встречать высоких посетителей.
Хмурые, едва отвечая на приветствия учителя и учеников, вошли в школу куш-беги, караван-беги и два других члена комиссии. Один из этих двух был старый знакомый Талиба — Зарифходжа. Оба бухарских министра были одеты в парчовые халаты.
Насыр-ака рассказал о своих учениках, чьи они де-
ти, сколько времени в школе, чему учатся. Потом он показал книги, по которым он и его сыновья ведут занятия.
— Ты сам где учился? — спросил у Насыр-ака караван-беги.
— В медресе Мир-Араб, — отвечал учитель.
— А дети твои?
— В Самарканде, в русско-туземной школе. Члены комиссии молча переглянулись. Насыр-ака понял, что этот ответ вызвал неудовольствие. Стараясь исправить впечатление, Насыр-ака заговорил про то, что главными книгами в его школе, как и во всех мусульманских школах, являются священный коран, стихи Физули, Хафиза, учебник Хафтияк...
— Ни одной русской книги у нас нет, — подчеркнул учитель.
Куш-беги не слушал его, подошёл к окну, где стоял глобус, и, брезгливо скривив губы, склонился над голубым шариком.
— А это? — бросил он.
— Это глобус, маленький земной шар, который помогает нам изучать географию.
— Этих штук развелось в Бухаре слишком много, — раздражённо сказал куш-беги. — Здесь всё на русском языке...
Талиб, хотя он и не был учеником этой школы, сидел вместе со всеми ребятами позади, в последнем ряду у стены, рядом с Ибрагимом. Он и не пробовал возразить, что глобусов с узбекскими надписями никто не делает. Где же их взять? Талиб знал и другое: из проданных дядей глобусов один был куплен домашним учителем сына куш-беги, а другой купил племянник купеческого старосты. Для себя купили, другим запрещают. Но не это удивило Талиба, а то, как испугался Насыр-ака. Он стал говорить, что это его вина, что он не подумал и сегодня же закрасит все русские буквы и напишет всё по-арабски.
— Надо это выбросить, — приказал куш-беги.
— Слушаюсь, — поклонился учитель. — Мы ваши дети, вы наши отцы: как прикажете, так и будет.
Он искательно смотрел в глаза министра, но ничего не прочёл в них. Немного придя в себя, Насыр-ака стал вызывать учеников. Одних он заставлял решать на доске задачки по арифметике, других — читать стихи, третьих — писать под диктовку. Ученики отвечали хорошо, в глазах Насыр-ака погас страх, они светились гордостью.
— А ну, Ибрагим, подойди к доске, возьми мел, — сказал Насыр-ака. — Посмотрите, — обратился он к комиссии. — Два месяца назад этот мальчик совсем не умел писать, а теперь пишет не хуже писаря. Продиктуйте ему что-нибудь, только попроще, он напишет.
Караван-беги кивнул учителю и ухмыльнулся в бороду.
— Пиши, — сказал он Ибрагиму. — Чей ты сын? Ибрагим написал правильно и остановился, не зная, что делать дальше.
— Ну же, — сказал караван-беги. — Что же ты не пишешь?
— Я не знаю, что писать, — растерялся мальчик.
— Ты незаконнорожденный, что ли? — презрительно бросил куш-беги.
— Нет. Мой отец водонос, — обиделся мальчик.
— Вот и пиши, кто твой отец.
Ибрагим наконец понял, что от него хотели, и крупно написал на доске:
«Мой отец водонос».
Неожиданно куш-беги встал, за ним поднялись другие члены комиссии и пошли к выходу. Никто из них не сказал ни одного слова учителю, никто не ответил на поклоны учеников. Уже во дворе Талиб догнал Зарифходжу, шедшего последним. Он тронул недовольного чиновника за рукав, но тот отстранился, сделав вид, что вовсе не знаком с Талибом.
После ухода комиссии учитель с сыновьями удалился в свои комнаты, а ученики столпились в классе, обсуждая визит высоких гостей.
— Нашу школу теперь закроют, — говорили одни.
— Нет, просто всыплют учителю палок тридцать и отпустят, — утверждали другие.
— За что же его будут бить? — удивлялись третьи.
— Мало ли за что. Найдут! — На этом мнении сходились все.
В Бухаре не только дети, но и взрослые не удивлялись, когда кого-нибудь бросали в темницу, казнили или подвергали публичному избиению на площади без всякой видимой причины. Раз наказывают — значит, провинился. Может быть, не все люди думали так, но и те, кто думал иначе, редко высказывали своё мнение.
В дверь заглянул сын учителя, пятнадцатилетний Камал.
— Талиб, — позвал он, — возьми глобус и иди сюда. Талиб вошёл в комнату, где сидел Насыр-ака, и поставил перед ним модель земного шара.
— Это он виноват, он виноват! — раскачивался, как над покойником, учитель Насыр-ака. — Как я не догадался? Из-за него закроют школу. Талиб, забери его домой, или я сожгу его... Это глобус виноват!
— Что вы, папа, — утешил учителя старший сын Хамид. — Разве в глобусе дело? Они боятся революции, поэтому всего боятся.
— Учитель, — вмешался Талиб, — у куш-беги и у караван-беги тоже дома есть глобусы. Дядя Юсуп им продал. Не беспокойтесь, они просто забыли про это.
Насыр-ака сидел на ковре и причитал, бормотал себе под нос:
— Разве я за революцию? Аллах свидетель, что я против. Но почему нельзя детям знать арифметику, географию, историю? Почему?
— Неужели вы не понимаете, папа? — сказал отцу Камал. — Если простые люди будут умнее начальников, будет революция.
— Ох, папа! — вздохнул Хамид. — Давайте переедем в Самарканд. Здесь, в Бухаре, нет законов! Этот подлый эмир...
— Что ты говоришь! — крикнул вдруг учитель. — Замолчи! Ты не смеешь так говорить.
— Я так думаю, — сказал Хамид.
— И я, — добавил Кама\.
Но учитель очень сильно разволновался. Он кричал на сыновей, упрекал их в не повиновении старшим, говорил, что они не должны оскорблять законную власть и что как бы плохо ни было в Бухаре, но ведь даже из Ташкента сюда приезжают люди.
— Вот Талиб с дядей приехали. Скажи им Талиб, где лучше: в Ташкенте или в Бухаре? — с надеждой попросил Насыр-ака.
— Конечно, в Ташкенте, — сказал Талиб. — Я никогда не видал эмира, но если у него такие министры, то эмир сам первый лжец и разбойник.
Этого Насыр-ака не ожидал. Он посмотрел на Талиба, будто видел его впервые, и крикнул:
— Убирайся отсюда! Убирайся, если тебе не нравится благородная Бухара! — и вдруг заплакал.
Сыновья дали отцу воды. Они говорили, что действительно им всем лучше уехать в Самарканд или в Ташкент, где нет эмира и эмирских чиновников, где никто не вмешивается в дела людей и в то, как учитель учит учеников.
Талиб стоял в дверях и не уходил. Очень хотелось помочь учителю, который всегда любил его.
— Поедемте вместе в Ташкент, — сказал Талиб. — Неужели вам нравится этот зверинец?
Насыр-ака постепенно пришёл в себя и мог говорить сравнительно спокойно.
— Дети мои, — сказал он сыновьям и Талибу. — Неужели вы думаете, что мне самому никогда не приходят в голову эти мысли? Неужели я не нашёл бы слов вроде зверинца или хуже зверинца? Но я гоню от себя такие мысли и такие слова. Я родился в Бухаре, и мои предки родились в Бухаре. Как я покину этот город? Вы тоже гоните эти мысли. Потому что, если есть мысли, могут появиться слова, а слова опасны. За каждой стеной — мыши, у мышей уши и во-от такие языки!
Ширинбай и Зиядулла изъявили желание видеть у себя Юсупа-неудачника с племянником. Они не просто позвали их в гости, а дали понять, что разговор будет важный.
Они сидели в большой красивой комнате, в которой Талиб никогда прежде не был. Тончайшей работы текинские ковры устилали пол, в углу стоял огромный письменный стол, больше, чем тот, который Талиб видел в кабинете генерала Бекасова. В комнате не было окон, зато горели сразу три огромные тридцатилинейные керосиновые лампы. От них было и светло и тепло. В стеклянных шкафах светилась хрустальная посуда, вазы, бокалы, кубки. Низенький столик чёрного дерева, у которого они уселись, был инкрустирован перламутром и серебром.
Комната Зиядуллы казалась дворцом по сравнению с комнатой старшего брата — Ширинбая. Талибу однажды уже случалось там побывать. Люди говорили, что оба брата одинаково богаты и, может быть, не беднее самого эмира, но имя Ширинбай стало нарицательным как имя скупца, а имя Зиядуллы в глазах людей было прочно связано с щедростью.
На улице, в мечети, на складах, где приказчики братьев-миллионеров принимали товар от простых каракулеводов и от скупщиков, оба брата появлялись одинаково одетые: шёлковые халаты, мягкие коричневые сапоги, белоснежные рубашки с широким вырезом на груди. Даже чалмы, которые они носили, были одинаковые по размеру. Не очень большие и аккуратные. Здесь же, у себя дома, оба брата резко отличались по одежде. Худой Зиядулла носил мягкие фланелевые брюки, европейскую куртку, европейскую рубашку с пуговицами и войлочные туфли, а Ширинбай был в том же халате и в тех же сапогах, в которых ходил по улице. Братья так отличались в домашней обстановке, что трудно было представить, как это они могут бок о бок вести свои торговые дела. Впрочем, Талиб знал, что в делах торговых оба брата мало чем отличаются друг от друга. Ни тот ни другой не переплачивал при покупке шкурок, и ни один из них не продавал свой товар дешевле, чем другой.
Разговор начал Ширинбай.
— Мы почтенные люди, торговцы, — начал он. — Мы хотим знать про вас всё, уважаемые наши гости. Мы с братом поручились за вас перед купцами Бухары и перед самим Абдуррауфом караван-беги, но мы ничего о вас не знаем.
Зиядулла предоставил старшему брату возможность вести самую ответственную часть разговора. Считалось, что тот более опытен в отношениях между торговцами.
— Мы хотим знать всю правду, ибо, приняв вас как родственников Усман-бая, мы до сих пор многого не понимаем, — продолжал старший брат. — Вы сказали, что Талибджан родственник Усман-бая, что вы оба — друзья Усман-бая. Так ли это?
Дядя Юсуп кивнул и пояснил это так:
— Отец Талиба и Усман-бай действительно родственники. Почти троюродные братья. Великодушный Усман-бай действительно очень помог своему почти четвероюродному племяннику Талибу и мне самому. Аллах не забудет его этой помощи.
— В чём заключалась помощь Усман-бая? — продолжал свой допрос Ширинбай.
— Он дал нам в кредит товары и снабдил адресами в Бухаре. Благодаря ему мы живём здесь, и у нас есть еда и крыша над головой.
— Большой кредит? — опять спросил Ширинбай.
— Нет, не очень большой. Мы уже вернули ему всё, что взяли, и теперь расплатились с ним.
Талиб посмотрел на дядю с удивлением. Он не знал, что тот расплатился с Усман-баем. Зиядулла заметил взгляд мальчика.
— Ты что-то хотел сказать? — спросил он.
— Да нет, — уклонился Талиб. — Я не знал, что дядя Юсуп вернул все деньги. Ведь Усман-бай был должен моему отцу...
— Поэтому и дал в кредит? — теперь уже у дяди спросил Ширинбай.
— Может быть, и поэтому, — отвечал тот. Он был недоволен вмешательством племянника.
— Та-ак, — недоверчиво протянул Ширинбай; человек скупой и расчётливый, он не очень-то понимал, как можно дать кредит и отпустить в Бухару должника в такое трудное время.
— Теперь стало гораздо яснее, — сказал Зиядулла.
Он выдвинул ящик низенького столика и достал оттуда плоский золотой портсигар. — Закуривайте, — предложил он дяде Юсупу. — Это очень хорошие папиросы. Дядя Юсуп отказался, зато Ширинбай взял папиросу и закурил её, хотя курение не доставляло ему удовольствия. Он никогда не отказывался от того, что можно было взять бесплатно.
* * *
— Я расскажу, почему мы ведём этот разговор. У нас сложилось впечатление, что ваши отношения с Усман-баем не так хороши, как вы нам рассказывали. Если бы вы не рассказали нам всю правду, хотя я уверен, что всю правду вы ещё не рассказали, мы бы не знали, как нам поступить. Теперь я, кажется, догадываюсь... — Зиядулла затянулся и выпустил дым через нос — Усман-бай не тот человек, которого легко обидеть, значит, он обидел вас?
— Не нас, — возразил обиженно Юсуп-ака. — У него был спор с отцом Талиба, а с нами он был вежлив и добр.
Талиб опять посмотрел на дядю с удивлением. Зачем же говорить неправду? Ведь Усман-бай очень обидел их тогда в дунгайской чайхане.
Зиядулла опять заметил этот взгляд и спросил Талиба:
— Ты хочешь добавить, сынок? Не стесняйся. Видит бог, что я не желаю тебе зла.
— Мой отец и Усман-бай — враги, — уверенно сказал Талиб, вспомнив последний разговор и красный товарный вагон, увозивший отца из Ташкента.
— Почему? — спросил Зиядулла.
— Из-за дедушки. Когда умер мой дедушка уста-Тилля... — начал Талиб и осёкся под укоризненным взглядом дяди Юсупа.
— Уста-Тилля из Ферганы? — с жадным интересом спросил Ширинбай. Он даже придвинулся к мальчику.
— Да, — кивнул Талиб. — Из Намангана.
— Тот самый уста-Тилля, про которого рассказывают легенды? Тот самый мастер, который нашёл зо-
лото в Таласе, который всю жизнь искал подземные клады?
— Да, — сказал Талиб. — Он отец моей матери.
— От него осталось наследство? — продолжал с возрастающим интересом Ширинбай.
— Да, — сказал Талиб. — Маленький дом и хорошая лошадь с седлом. — Говорить о пропавшей тетрадке ему показалось излишним.
— И больше ничего? — продолжал допытываться Ширинбай, уставясь в глаза Талиба.
— Больше ничего, — твёрдо ответил Талиб.
— Почему же твой отец поссорился с Усман-баем? — Теперь спрашивал Зиядулла. Он был добрее старшего брата и спрашивал не так напористо.
Талиб заколебался, говорить о тетрадке или не говорить, но решил не говорить ничего.
— Ну скажи, почему они поссорились? Они сильно поссорились?
— Да, — ответил Талиб. — Мой отец сказал, что обрежет Усман-баю уши, и он сделал бы это, если бы его не забрали.
Братья переглянулись.
— Когда же его забрали? — вместе почти хором спросили они.
— Через два дня после ссоры, — ответил Талиб. Теперь ему стало совершенно ясно, как всё это произошло. То, что раньше было смутной догадкой, теперь стало уверенностью.
— Хватит об этом. Поговорим ещё, — сказал Зиядулла. — Давайте поедим. Хватит о делах.
Им подали блюда, о которых Талиб даже и не слышал раньше. В огромных пиалах искрился тёмный густой бульон из бараньих ножек, густо сдобренный чёрным и красным перцем, и душистыми травами.
— Возьми ложку, — сказал Зиядулла и протянул Талибу серебряную ложку со сложным рисунком на ручке.
— Французская. Тебе нравится? — спросил хозяин. — Наверное, в кладах твоего дедушки есть не только золото, но и серебро. Недаром его звали мастер-Золото. Как было его настоящее имя?
— Уста-Рахим, — ответил Талиб.
Потом на золочёном блюде подали небольшие колбаски — хасып. Талиб ел хасып в Ташкенте два раза. Но этот хасып был много вкуснее. В колбасках было рубленое мясо, бараний жир, рис, кишмиш и барбарис.
За едой говорили мало, в основном о бухарских блюдах и о том, чем они отличаются от ферганских и ташкентских.
Ширинбай всё время поглядывал на Талиба и только один раз спросил, правда ли, что ташкентцы едят эти красные «по-ми-до-ры». Дядя Юсуп ответил, что сам пробовал «помидоры» и они ему очень нравились.
— Они кислые и сладкие, — сказал он. — Если их мелко изрезать острым ножом и перемешать с тонко нарезанным луком, потом посолить и посыпать перцем, будет вкусно. Можно есть с пловом.
Ширинбай очень удивился и сказал, что эти «по-ми-до-ры», может быть, и хороши для русских, но мусульмане их никогда есть не будут.
После чая Зиядулла опять достал из тонкого золотого портсигара папиросу, закурил и начал говорить то, что, видимо, хорошо обдумал во время длительной и обильной трапезы.
— Итак, насколько я понял, Талибджан — наследник уста-Тилля. Может быть, он станет так же богат, как я и мой брат. Не возражайте мне. 3*о борьба за наследство. Если Усман-бай сделал то, что он сделал, значит, он сделал это не зря. Скорее всего...
Зиядулла многозначительно помолчал.
— Я не знаю, всё ли вы рассказали мне или что-нибудь утаили, — продолжал Зиядулла. — Но не зря Усман-бай спровадил вас в Бухару. И в Бухаре вы не в безопасности. Видимо, он боится вашего возвращения. Недавно к моему брату Ширинбаю приходил человек...
— Ты не должен этого говорить. Я сообщил тебе по секрету, — рассердился старший из братьев.
— Нет, я должен, — возразил Зиядулла. — Мне наплевать на Усман-бая. Он далеко, а за Юсупа я поручился. Кроме того, здесь мальчик, наследник... Так вот. Приходил человек, который назвался...
— Рахманкул? — выпалил Талиб.
— Нет, кажется, его зовут иначе. Шакир или Кабул, как-то так, — отвечал Зиядулла.
— Кабул, — подсказал Ширинбай. — Так он назвал себя.
— Так вот, этот Кабул, — продолжал Джурабек, — интересовался, где вы живёте, а я не знал, ведь из караван-сарая вы уехали. Так я рассказываю? — спросил Зиядулла у брата.
— Он ещё говорил, что вы оба, особенно дядя Юсуп, — опасные люди, что вы русские шпионы и Усман-бай поручил этому Кабулу передать нам всё это.
Дядя Юсуп сидел бледный. Он опустил голову и медленно перебирал пальцами край своего старенького, вытертого халата. Глаза его смотрели жалобно, казалось, он готов расплакаться. Он вроде и не слушал того, что говорили братья. Талиб, напротив, был очень внимателен, мысль его работала очень чётко.
— Скажите, этот Кабул такой здоровый, толстый, у него прижатые маленькие уши, похожие на пельмени? — спросил он.
— Я не видел, какие у него уши, — ответил Ширинбай.
— Он такой противный? — опять спросил Талиб.
— Если человек занимается такими делами, он должен быть противный, — снисходительно усмехнулся Зиядулла. — Дело не в нём. Я думаю, он просто эмирский соглядатай. Их теперь стало очень много в Бухаре. Вы должны понять: вам здесь угрожает опасность. Когда вы приехали, торговля тетрадками и карандашами была выгодной, теперь она опасна. Теперь считается, что всякий, кто знает грамоту, кто обучает сына в новой школе, кто читает газеты или дружит с читающими газеты, всякий такой человек — враг мусульманской веры и самого нашего эмира. Ты видишь, Талибджан, я дома хожу в европейской одежде, а посторонние видят меня только в чалме и халате. Так это я! От меня в казну эмира идёт столько денег, что на них содержится четверть всей его армии. Но и я не позволю себе нарушать обычай на людях. Или возьмём вашего знакомого Зарифходжу. Он раньше немного занимался торговлей каракулем и кишками для колбасы, а теперь торгует самым запрещённым товаром — вином и коньяком. За это полагается тюрьма по нашим законам, поэтому он пошёл в помощники к Абдуррауфу. Под крылышком караван-беги ему спокойнее. А ваш товар теперь страшнее вина и коньяка. Уезжайте!
— Он правильно говорит, — поддержал младшего брата Ширинбай. — Вы уезжайте. И не забудьте, что жизнь вам спасли мы. Жизнь дороже золота.
Ширинбай явно намекал на будущее богатство Талиба. Наверное, если бы не то, что мальчишка оказался внуком уста-Тилля, не было бы всего этого разговора.
— Видите, дядя, — сказал Талиб, — Зарифходжа передавал вам, что с этой торговлей надо кончать.
Дядя Юсуп закашлялся, на глазах его появились слёзы. Он кивал в знак согласия, но ничего не мог сказать. Наконец приступ кашля прошёл.
— Я завтра же пойду к Зарифходже. Пусть он возьмёт меня в приказчики, — прохрипел он.
— Давайте лучше уедем, — сказал Талиб. — Я схожу за билетами.
* * *
Домой они возвращались перед заходом солнца. Когда муэдзины стали созывать верующих на вечернюю молитву, дядя с племянником как раз находились возле какой-то мечети. Они помолились вместе со всеми, а когда выходили, опять услышали разговор о новых школах, о том, что в Бухаре полно русских шпионов, что надо убивать всех врагов эмира.
В домик водоноса они вернулись уже в темноте. Талибу всю дорогу казалось, что за ними кто-то идёт, то он слышал за собой шаги, то чувствовал на своей спине чей-то тяжёлый взгляд. Скорее всего, ему это просто чудилось.
Водонос и его жена ушли в свою каморку. Ибрагим предложил вскипятить чай. Дядя с племянником отказались. Молча легли они на полу поближе к потухающему сандалу.
Перед сном Талиб спросил дядю:
— Может быть, дедушка оставил большое наследство, может быть, он зарыл клад в землю, а где он зарыт, сказано в той тетрадке?
— Нет, Талибджан. Конечно, хорошо, если бы было так. Но твой дедушка только один раз нашёл золото в долине реки Талас. Этого золота было так мало, что добывать его оказалось просто невыгодно. Выгоднее было делать саманные кирпичи по копейке за сотню. Наверное, в тетрадке он рассказывает свою жизнь. У него была интересная жизнь. И поучительная. А насчёт клада забудь. Он никогда ничего не прятал, твой дедушка. Те, кто мало знал его, считали дедушку очень скрытным и думали, что он хранит золотые клады. Так часто бывает. Но люди близкие знали, что он неудачник вроде меня и мечтатель. Ты ведь почти не помнишь дедушку, а я помню. Неудачник и мечтатель. А про клады забудь, это сказка, как «Фархад и Ширин».
Глава восьмая
КАПКАН В ЗВЕРИНЦЕ
— Ты ещё маленький всё же, — сказал дядя Юсуп. — В Бухаре есть возможности. Мы можем разбогатеть и тогда вернёмся домой в Ташкент.
Мысль о богатстве, о деньгах, о независимости всё больше овладевала Юсупом-неудачником. Раньше, когда он работал трамвайным кондуктором или даже когда он начинал торговать синькой и нитками в лавке возле Шейхантаура, он не говорил о богатстве. Странное дело, мысли о богатстве, желание разбогатеть стали чаще появляться у дяди Юсупа после того, как его обокрали, после того, как неизвестный злоумышленник в одну ночь превратил мелкого торговца в нищего, отягощённого долгами. Лёжа в лачуге водоноса, дядя Юсуп упорно вёл какие-то расчёты, что-то писал на листочках, складывал, умножал, делил. Раньше в мечети он молился только о здоровье и благополучии. Теперь же всё чаще просил у аллаха вещей более конкретных. Например, повышения цен на бумажные товары в Бухаре, понижения цен в Ташкенте и Самарканде, где покупал эти товары оптом.
— Ты не понимаешь, — говорил он в то ясное безоблачное утро, — богатство — это всё. Всё, что хочешь. Ты видел, как живут Зиядулла и Ширинбай. С золота едят. Серебром черпают. Но погоди, настанут ещё бирюзовые дни нашей жизни.
— Нет, — возражал Талиб. — Я не хочу быть торговцем или миллионером. Я хочу быть машинистом или мотоциклистом. Уедем отсюда. Мне непонятна жизнь, когда всего нужно бояться.
Чем больше Талиб жил в Бухаре, тем сильнее тосковал по Ташкенту. Когда-то, помогая отцу, он хотел стать кузнецом, властелином раскалённого железа, плющить его тяжёлым молотом, тянуть его на звонкой наковальне, делать топоры и мотыги и мечтал выковать такую же гибкую, отливающую золотом саблю, какую ковал его отец. Катаясь с Фёдором Пшеницыным на сверкающем мотоцикле, Талиб не думал о тех мастерах, что сделали эту чудо-машину, точно так же как, слушая рассказ лысого машиниста об устройстве паровоза, не думал о людях, умеющих им управлять. Зато здесь, в Бухаре, ему часто снилось, как он мчится на паровозе, у которого есть такой же руль, как у мотоцикла, он мчится то по городу, то по базару, и люди смотрят на него с восхищением.
Паровоз-мотоцикл его сновидений мог ездить по рельсам и по полю, а иногда даже летать. Он трещал, как мотоцикл, и пускал пар из-под колёс.
— Ты не понимаешь законов шариата, — говорил дядя Юсуп. — У тебя каша в голове. Мы правоверные мусульмане, и царь ислама эмир Бухарский всегда защитит нас. Кроме того, он такой же узбек, как мы.
Так разговаривали дядя с племянником в то безоблачное утро. Они пили чай, ели вкусные мясные пирожки и не торопились никуда идти. Правда, Талиб уже дня два-три собирался сходить на вокзал, узнать подробнее, как можно уехать в Ташкент, когда ходят поезда и сколько стоят билеты, а дядя Юсуп всё ещё не посетил Зарифходжу, обещавшего взять его в приказчики.
— Весна наступает, пахнет весной, — сказал дядя Юсуп. — Скоро прилетят ласточки и аисты вернутся на свои минареты. Здесь будет хорошо. Летом здесь жарко, а весной хорошо.
Талиб ничего не сказал. Он был сердит, озабочен, не хотел больше спорить и потому обрадовался приходу водоноса.
Хозяин нерешительно вошёл в свой дом, остановился у двери и пристально посмотрел на дядю Юсупа.
— Ты хочешь что-то сообщить нам? — беззаботно спросил дядя Юсуп.
— Да, — сказал Анвар-водонос и замолчал.
— Говори же, — сказал дядя Юсуп. — Я слушаю.
— Вы должны уйти. — Водонос был краток. Вообще застенчивый и от застенчивости обычно многословный со своими квартирантами, он был сейчас слишком уж краток.
— В чём дело? Что ты говоришь, куда мы должны уйти? — недоумевал дядя Юсуп.
— Куда хотите, — так же кратко сказал водонос.
— Уйти из твоего дома? — переспросил дядя.
— Да, уйти из моего дома. Я был в мечети, и мне сказали, что я должен выгнать вас, если хочу сохранить свою жизнь.
— Но почему? Почему? — Дядя Юсуп ничего не понимал.
Водонос Анвар всегда с уважением и даже подобострастием относился к своим квартирантам, считал честью жить с ними под одной крышей. Кроме того — и это имело большое значение для его семьи, — деньги, которые жильцы платили за комнату и еду, помогали ему сводить концы с концами.
— Мне сказали, что вы враги ислама и нашего добродетельного эмира, вы русские шпионы. — Глаза несчастного водоноса смотрели на дядю с племянником тупо и зло.
— Какие же мы русские шпионы? — взмолился дядя Юсуп. — Мы такие же мусульмане, как ты. Мой Талиб такой же мальчик, как твой Ибрагим.
— Может быть, вы не русские шпионы, а турецкие. Я не знаю. Мне сказали, что вы шпионы. Уходите!
Талиб молча наблюдал за взрослыми. Он почему-то не удивлялся этому разговору. Нелепость всего происходящего была очевидна, но Талиб не любил Бухару, и многое в Бухаре казалось ему нелепым. Перемена, происшедшая со смирным водоносом, была неожиданной, но отнюдь не удивительной.
— Мы так долго жили вместе, я относился к тебе, как к брату... — попытался образумить водоноса дядя Юсуп.
— Вы, образованные грамотеи, нам, простым людям, не братья. Вы читаете книжки и газеты, откуда я знаю, что вы думаете? Ваши мысли мне непонятны. От грамотных все беды, — с возрастающей злобой говорил водонос. — Мне наш мулла объяснил. Мулла не будет врать, он святой человек.
Спорить с водоносом было бесполезно.
— Хорошо, — сказал дядя Юсуп. — Мы уйдём. Соберём вещи, найдём ишака или тележку и переедем. Собирай вещи, Талибджан.
Сначала лихорадочно, как попало, потом, немного успокоившись, по порядку они стали скатывать одеяла, увязывать книжки и тетрадки, складывать в мешок мелкие вещи.
Водонос смотрел на сборы молча. Однако чем спокойнее становились те, кого он прогонял, тем сильнее ощущал Анвар-водонос какое-то смутное беспокойство.
— Если вы не шпионы, — вдруг сказал он, — то почему у вас на рубашке есть пуговицы? Мусульмане не должны носить пуговицы на рубашке. Почему у вас у обоих рубашки с пуговицами? А?
— Ты тёмный человек, — не оборачиваясь, бросил ему дядя Юсуп. — В коране не сказано, какие должны быть рубашки.
— А почему у вас пиджак из чёрной материи?
— И про пиджак ничего не сказано в коране, — ответил дядя Юсуп.
— Я неграмотный, — не очень уверенно возразил водонос — Но если мулла сказал, он знает, что говорит.
Потом, немного помолчав, он добавил:
— Можно не очень торопиться. Только к вечерней молитве вас здесь быть не должно. — Водонос, видимо, потерял часть своей убеждённости. Из комнаты он вышел, вежливо прикрыв за собой скрипучую дверь.
Дядя Юсуп был полон энергии. Водонос сильно разозлил его.
— Мы пойдём сейчас к Зарифходже, я стану у него приказчиком, и мы ещё покажем этому водоносу, кто из нас настоящий мусульманин, — сказал он.
— Я не пойду к Зарифходже, — удивляясь собственной твёрдости, заявил Талиб. — Я пойду на станцию и узнаю, как уехать в Ташкент. Говорят, здесь можно купить билет сразу и до Кагана и до Ташкента. Не сердитесь на меня, но, если вы не поедете, я уеду один.
— Как хочешь, — обиделся дядя Юсуп. — Ты слишком много болтаешь. Уезжай. Без тебя мне лучше будет.
* * *
Улицы Бухары в этот день утратили свой обычный вид. Они не то чтобы опустели, нет, народу было немногим меньше, чем прежде, только люди были какие-то другие. Одни старались скорее пройти и скрыться во дворе своего дома, плотно притворив за собой калитку, другие, напротив, слонялись без дела и слушали проповедников, которых в этот день было хоть пруд пруди.
На углах улиц, где прежде собирались маленькие базарчики, теперь было пустынно: лепёшечники, торговцы сушёной дыней, сыром и прочей провизией куда-то исчезли, большинство лавок закрылось. Совершенно не было видно детей и подростков. Их, видимо, не выпускали на улицу. Талиб остановился послушать муллу, проповедующего на ступенях большой мечети.
— Мусульмане! — воскликнул мулла. — Настал великий час очищения от скверны. Мы предостерегали вас от тех, кто нарушает наши обычаи, кто под видом распространения грамотности служит нашим врагам, мы говорили вам о русских шпионах. Мы говорили? «Остерегайтесь!» Теперь мы говорим: «Очищайтесь!» Только кровь отступников может смыть ваши грехи!
Сначала Талиб думал, что это обычная проповедь, каких он слышал много в последнее время. Такую же проповедь читал и тот дервиш, когда они с Ибрагимом возвращались из школы. Но в словах, которые он услышал, было и кое-что новое. Здесь впервые звучали слова не только об отступниках от веры, но и о крови отступников.
Впрочем, мулла не ограничился намёком.
— Вступайте в отряд «Непобедимые львы», только в этом отряде вы сможете заслужить прощение грехов и вечное блаженство! Вооружайтесь! Не дадим в обиду святую веру и родину, смерть русским и турецким шпионам!
Находились люди, которым слова муллы приходились по душе, они одобрительно кивали ему, вместе с ним кричали: «Смерть! Смерть! Смерть!»
— Все, кто хочет найти поддержку, получить оружие и ещё кое-что, идите на склады караван-беги Аб-дуррауфа.
«Ого! — сказал себе Талиб. — Значит, дело куда серьёзнее, чем думали мы с дядей».
Он не стал больше слушать и направился к вокзальчику, откуда несколько раз в день уходил поезд в Каган.
На вокзале тоже парила тревога. Здесь было мало узбеков и таджиков, большинство составляли русские — служащие различных контор, татары и армяне.
Поезд стоял у платформы, но паровоз ещё не прицепили.
Талиб подбежал к кассе. Она была закрыта. По платформе озабоченно ходил человек в форменной фуражке, и Талиб обратился к нему.
— Мы хотим уехать в Каган, — сказал мальчик по-узбекски.
Не выслушав его до конца, железнодорожник сказал:
— Садись в поезд, сегодня без билетов. Кассир уже уехал.
— Я с дядей, — сказал Талиб.
— Садись со своим дядей, — ответил железнодорожник и двинулся прочь.
Талиб тронул его за рукав.
— Я должен сбегать за дядей. Он в городе. Мы успеем?
— Не знаю, — сказал железнодорожник. — Боюсь, что нет.
Талиб остановился на платформе и с тоской поглядел на состав. Сели бы они вдвоём с дядей, скоро были бы в Кагане. Всего ведь тринадцать вёрст. А там в другой поезд, и в Ташкент. Он представил себе, что сидит в вагоне, что поезд всё время дёргает, летят мешки и чемоданы, и едут они домой. Ему вдруг показалось, что дома — отец, он стоит у наковальни и колотит молотом по остывающему топору и некому раздувать меха, чтобы огонь в горне горел жарче.
Талиб встал сначала на подножку, потом вошёл в вагон. Там было довольно много народу, но пустые места ещё оставались. Он опять вышел к двери и остановился.
— Ну, пришёл твой дядя? — спросил железнодорожник.
Этот вопрос и вернул Талиба к реальности. Ничего не ответив, он бросился бежать навстречу людям, спешившим на поезд.
— Торопись! — крикнул ему вслед человек в фуражке. — Боюсь, что это последний поезд.
Талиб бежал изо всех сил.
Бухара показалась ему ещё более угрюмой и настороженной, чем полчаса назад. От вокзала до квартала, где жил Зарифходжа, было довольно далеко, и Талиб совершенно выбился из сил, когда наконец увидел дом помощника караван-беги. Десятки людей толпились возле ворот. Многие из них были вооружены винтовками, ружьями, саблями и кинжалами. Несколько верзил стояли кружком и разливали по пиалам вино из бутылки. Талиб даже не успел удивиться тому, что люди пьют вино на улице, ни от кого не скрываясь и никого не стесняясь.
Талиб протиснулся к воротам и вошёл во двор. Зарифходжа стоял в дверях амбара и выдавал оружие каким-то людям.
— Подходите, борцы за веру. Подходите! — выкрикивал Зарифходжа, как базарный торговец.
Сначала Талиб подумал, что Зарифходжа продаёт эти сабли и кинжалы, но потом понял, что оружие тот раздаёт совершенно бесплатно.
Улучив момент, Талиб протиснулся к Зарифходже и спросил о своём дяде.
— Иди, иди, — грубо сказал Зарифходжа, будто вовсе не был знаком с Талибом. — Нет здесь никакого дяди.
Кто-то взял Талиба за шиворот и потащил. Рука была крепкая, и Талиб с трудом повернулся, чтобы увидеть того, кто его схватил. Это был... Рахманкул, бывший ташкентский полицейский.
— А, щенок, — прошипел Рахманкул. — Попался всё-таки. Здесь тебе не поможет кожаный человек!
Рахманкул подтащил Талиба к какой-то широкой двери, распахнул её и дал мальчику такой пинок, что тот полетел в дальний тёмный угол сарая. Талиб уткнулся головой в ворох соломы и тут же вскочил.
Рахманкул стоял, широко расставив ноги в таджикских козловых сапогах.
— Отступники, шпионы... — шипел Рахманкул, прибавляя к каждому слову грязные ругательства. — Жалко, дядю я упустил, но ничего, найду и его, отравителя мусульман!
Широкая дверь захлопнулась, звякнула щеколда, и в сарае стало полутемно. Свет сюда проникал только через похожее на окно отверстие над дверью и щели между досками.
Талиб огляделся. Сарай был довольно просторен и чист. Судя по невыветрившемуся запаху навоза и конского пота, здесь, видимо, была когда-то конюшня с сеновалом наверху, но потом помещение вычистили и немного перестроили. Солома, в которую упал Талиб, свидетельствовала о том, что здесь почивал кто-то из работников Зарифходжи. Мотыги без черенков, мётлы и какие-то пустые ящики лежали в одном углу, в другом были сложены дрова, вернее, сухие ветки для топки, тут же валялся топор.
Естественно, что первой мыслью было схватить топор и выломать дверь, но Талиб сразу же понял, что из этого ничего не выйдет: двор полон людей, на шум сбегутся, может быть, и Рахманкул где-то поблизости. Можно было попробовать вылезти через отверстие над дверью, но и этот план был отвергнут мальчиком. Это тоже сразу заметят со двора, кроме того, в отверстие над дверью надо лезть головой вперёд, а прыгать головой вниз невозможно.
Талиб взял топор, походил с ним из угла в угол и сел на солому. Нет, недаром Рахманкул запер его здесь. Бежать отсюда трудно. Невозможно!
Где-то на станции ещё стоял состав, готовый к отправлению, или, может быть, паровоз уже тащил его мимо пригорода, мимо голых кустарников и телеграфных столбов. Где-то в городе в поисках племянника ходил дядя Юсуп и, возможно, ругал себя, что дважды не послушался Талиба: когда он просил его повернуть с полдороги назад и в последние дни, когда мальчик так часто твердил об отъезде.
Во дворе не смолкали голоса людей, которым раздавали оружие.
— Борцы за веру! — глухо, но ясно среди других голосов слышался голос Зарифходжи. — Берите оружие, защитим нашего эмира, защитим Бухару.
«Нет, дядя Юсуп не придёт сюда. Мы ведь не договаривались, где встретиться. Это хорошо, что он не придёт. Он, наверно, вернулся к водоносу и ждёт меня там, — успокаивался Талиб и тут же начинал тревожиться: — А вдруг он не дождётся и всё же придёт сюда?» Правда, на какой-то миг ему захотелось, чтобы дядя всё-таки пришёл. Талиб даже испугался, что мог так подумать.
«Наверное, дядя Юсуп решил, что я уехал в Каган, — утешал себя мальчик. — Он же сказал: «Уезжай. Мне без тебя лучше будет».
Глава девятая
ЕЩЁ ОДИН КАПКАН
Юсупу-неудачнику в то утро повезло, хотя он того не знал. Он пришёл к Зарифходже, когда Рахманкула не было, поэтому первая половина дня у него сложилась много удачнее, чем могла быть.
Правда, Зарифходжа встретил его весьма холодно. На просьбу взять в приказчики ответил, что поздно, что приказчики у него есть, что помочь с жильём никак не может и вообще сегодня он очень занят.
— Разве вы не знаете, что Бухара переживает святые дни и долг мусульманина не думать сейчас ни о чём, кроме родины? — укорил дядю Юсупа Зарифходжа. — Кроме того, любезный, вы сами во всём виноваты. Я вас предупреждал.
С работой не вышло, но дядя Юсуп не очень этому огорчился. По правде сказать, служить приказчиком у Зарифходжи ему вовсе не хотелось. Он и сам уже подумывал о возвращении в Ташкент, но успехи в торговле привязывали Юсупа-неудачника к Бухаре. Даже в этот роковой день дядя Юсуп не унывал. Вернее, с утра не унывал.
Не обращая внимания на людей, стоявших возле дома Зарифходжи — с утра их было не так много, — он пошёл в караван-сарай. В поясе под халатом у него было несколько крупных золотых монет, в кармане пиджака, перешитого в своё время из куртки трамвайного кондуктора, звенело серебро. С деньгами можно всё — эта уверенность придавала ему спокойствие и надежду на лучшее. Мало ли смут видел он на своём веку, но никогда этот скромный и тихий человек не представлял себя участником тех великих потрясений, о которых он сам читал в русских местных газетах за последние годы. Где-то что-то происходит, кто-то там воюет, кто-то борется за власть, а он простой человек, ему всё это как интересная книга, как рассказы о великих людях, Тимуре или Александре Македонском.
Дядя Юсуп зашёл в тот караван-сарай, где жил в первые дни после приезда в Бухару. Он зашёл к хозяину и, заранее уверенный, что всё будет хорошо, попросил сдать ему комнату.
— Дайте нам с племянником комнату, только не ту, где мы жили, а получше, — сказал он.
— У нас нет комнат, — ответил хозяин. — Всё занято.
Это была ложь, и ложь очевидная. Не такое время — конец февраля, чтобы не было комнат.
— Как же нет? — возразил дядя Юсуп. — Я знаю, что есть. Я хорошо заплачу.
— Нет, — сказал хозяин караван-сарая. — Сейчас для вас ничего нету. Я не могу рисковать. Вы приехали из Ташкента, и хотя я знаю, что вы честный купец, я не могу рисковать. Вас здесь знают, знают, чем вы торгуете, лучше будет, если вы пойдёте туда, где вас не знают.
Дядя Юсуп встревожился и рассердился. Ну и что же, что он из Ташкента? Чем плох его товар? Глупые люди! Наверное, этот хозяин наслушался речей того самого муллы, который убедил водоноса прогнать их с квартиры. Бесспорно, это так. Ведь мечеть в этом квартале одна.
Сердито хлопнув дверью, дядя Юсуп направился в соседний квартал, где жили два. его богатых покупателя, но они оба отказали ему даже во временном жилье. Один долго говорил про трудное время, которое, мол, теперь для всех наступило, а другой и вовсе не захотел разговаривать, замахал руками и не пустил на порог.
Между тем на улицах становилось всё беспокойнее. Какие-то люди с кинжалами и саблями прошли в сторону цитадели, а навстречу им двигался отряд эмирских солдат в полном вооружении.
Потом он увидел дервиша с тыковками на поясе. Он созывал народ послушать мудрые слова настоятеля соборной мечети. Дядя Юсуп вошёл в мечеть и увидел, что она полна вооружённых людей довольно странного вида.
Роскошно одетый мулла с поясом из стекляруса говорил речь.
— Я знаю, что все вы, — обращался к вооружённым людям мулла, — грешны перед аллахом и людьми, но добрый наш эмир выпустил вас из тюрьмы для спасения родины. Если вы спасёте родину, спасётесь сами...
Тут дядя Юсуп заметил, что люди, среди которых он очутился, не зря показались ему странными. Они были в удивительно ветхих и драных халатах и чалмах, о которые, вероятно, вытирали ноги, такие они были грязные. Внешность многих из них сама за себя говорила. Свирепые лица, шрамы, следы от кандалов на запястьях подтверждали, что мулла не ошибся, когда говорил о том, что эти люди грешны перед богом и людьми.
— Борцы за веру! — обращался к этому сброду мулла. — Теперь вы только борцы за веру, помните это! Пусть вас не удивляет ваше превращение, такова воля всевышнего. Пусть не дрожат ваши руки, когда в них попадётся русский шпион или бухарец, продавшийся туркам. Как отличать их, я скажу сейчас. Мулла вытащил из-за пазухи бумагу.
— Вот приметы людей, которых нужно хватать или убивать на месте. Вот приметы людей, чьё имущество им больше не принадлежит. Вот приметы тех, чьи дома теперь дозволены вам, открыты для вас. Слушайте!
Мулла поднёс бумагу к глазам и стал читать:
— «Тот, у кого рубашка с пуговицами, — наш враг! Тот, у кого короткий пиджак или камзол, похожий на пиджак, — наш враг. Его надо убить.
Тот, у кого пиджак из чёрной материи, сшитый по русскому фасону, — русский шпион.
Тот из учителей, кто обучает наших мусульманских детей по учебникам из России, — русский шпион.
Тот, кто своих детей отдаёт в такие школы, — наш враг.
Тот, кто читает газеты или дружит с читающими газеты, — наш враг.
Тот, кто берёт под защиту всех этих людей, кто прячет их или даёт им приют, — наш враг.
Убивайте их!»
Дядя Юсуп с ужасом слушал слова муллы. Нет, не случайно всё, что с ним произошло. Не случайно его выгнал Анвар-водонос, не принял хозяин караван-сарая, не пустили на порог те, чьим гостеприимством он ещё недавно пользовался. Нет, не местный мулла всё это выдумал. Это был эмирский указ.
«Как хорошо, что они не видят мой пиджак под халатом, — в страхе подумал дядя Юсуп-неудачник. — Но они могут увидеть мою рубашку с пуговицами. Неужели я погибну из-за рубашки?» Он стал медленно пятиться к выходу, прикрыв шею руками. Ему казалось, что все смотрят на него, но бандиты, собранные в мечети, жадно слушали муллу, очевидно не веря ещё в столь неожиданное счастье, не понимая, что теперь им дозволено всё, за что вчера ещё они томились в гнусных, вонючих тюрьмах.
Выскользнув из мечети, дядя Юсуп юркнул в какую-то щель между домами, стал лихорадочно обрывать пуговицы на рубашке. Воротник он подвернул внутрь, чтобы никто не мог увидеть, какая на нём незаконная рубаха. Теперь это могло стоить жизни. Приведя себя в должный вид, чувствуя непривычный холод на голой шее, непрерывно озираясь, Юсуп-неудачник поспешно зашагал к дому Анвара-водоноса.
Солнце уже стояло над городом. Был полдень. Беззаботная уверенность, с которой Юсуп начал сегодня утром свои хлопоты, превратилась в почти панический страх.
«А где же Талиб? — с волнением думал дядя Юсуп. — У него ведь тоже пуговицы на рубашке. Мало ли что с ним может случиться. Хорошо, если он уехал».
* * *
Талиб не знал, сколько он просидел в полутьме. Может быть, час или два прошли с тех пор, как Рахманкул запер его. А может быть, прошло только полчаса. Надежды выбраться отсюда не было. Талиб убедился в этом после первого же осмотра. Шум голосов за дверью не прекращался. Он иногда утихал, иногда становился более сильным, но ясно, что там всё время были какие-то люди.
Талиб понимал, что он сейчас, как приманка в капкане, который захлопнется окончательно, едва только появится дядя Юсуп.
Он представил себе, как палачи бьют его больного дядю, и сердце мальчика сжалось. Он кинулся к двери и забарабанил в неё кулаками. Сквозь щель между досками он увидел, что человек, проходивший мимо, услышал стук и даже приостановился. Это был один из приказчиков Зарифходжи. Талиб надеялся, что тот хотя бы подойдёт и узнает, в чём дело. Но напрасно. Приказчик скрылся из поля зрения, а скоро появился Рахманкул. Талиб опять забарабанил изо всех сил. Бывший царский полицейский не подошёл к двери. Он ухмыльнулся и пошёл обратно. Талиб опять схватил топор и хотел было выломать дверь. Пусть будет что будет.
Тяжёлый и острый топор в руке — это оружие, но не лучше ли встать возле двери, когда Рахманкул решит опять войти сюда, и ударить его по голове. Мальчик выбрал место, где он должен встать, чтобы выполнить свой план. Стоял он долго, ему это надоело. Он сел на корточки, и тут взгляд его упал на противоположную стену. За спиной Талиба был двор, правая стена примыкала к клетушке, где жили слуги Зарифходжи, левая — к другой такой же кладовой. А противоположная стена выходила на соседний двор. Это была обычная глиняная стена, сложенная из комков глины и тщательно оштукатуренная снаружи и внутри. Для прочности такие стены имеют деревянный каркас — несколько жердей, поставленных прямо и под углом друг к другу.
«А что, если попробовать прорубить эту стену?» — подумал мальчик. Этот план сулил хоть какую-то надежду на спасение. Правда, Талиб не знал, что находится по ту сторону стены. Там могла быть точно такая же клетушка или конюшня, а может быть, и дом соседа.
Он отстукал стену обухом топора, чтобы проверить, где проходит каркас, выбрал самый подходящий, по его мнению, участок в двух вершках от пола и стал рубить глину. Вначале топор отскакивал, потому что снаружи слой штукатурки был очень крепок, потом дело пошло веселее. Время от времени Талиб переставал работать и проверял, не показался ли с той стороны свет, и снова брался за топор, пока вдруг не увидел тонкий и бледный луч, падающий на пол из отверстия в стене. Талиб встал на колени и увидел соседский двор, точнее, часть двора и террасу, на которой, к счастью, никого не было. Однако Талиб сообразил, что расширять отверстие сейчас рано. Нужно прорубить его изнутри сначала на ширину плеч, а потом сразу выломать наружный слой штукатурки и тогда уж бежать по двору к воротам изо всех сил.
С каждым ударом топора сверху, со стены и потолка, на мальчика сыпалась глина, но он ничего не замечал. Наконец всё было готово. Талиб ещё раз осмотрел место своего заточения, подвинул к отверстию ящики, груду какого-то хлама и ворох соломы, чтобы разрушение стены не было замечено сразу, стал на колени и в последний раз принялся за топор. Внешний слой стены обрушился легко, и, не теряя времени, Талиб нырнул в дыру.
Плечи прошли — всё тело прошло. Это правило знает каждый, кто когда-нибудь лазил сквозь заборы и изгороди. Одно движение — и Талиб оказался в соседнем дворе. Он вскочил на ноги и, не оборачиваясь, пригнувшись, побежал к калитке. Только там он решился повернуть голову: совсем рядом с дырой стоял длиннобородый седой старик, видимо, хозяин этого дома. Старик приложил палец к губам и жестом объяснил, что он ничего не видел. Так же жестами старик объяснил, что мальчику надо немного почиститься, чтобы не привлечь к себе внимания на улице.
Первым, кого Талиб увидел, свернув на соседнюю улицу, был дядя Юсуп. Как и предполагал Рахманкул, он шёл к Зарифходже, чтобы узнать о племяннике. Не говоря лишних слов — всё основное и так было ясно, — дядя с племянником почти бегом направились в квартал, где жили Ширинбай и Зиядулла.
Они вошли во двор братьев-миллионеров так стремительно, что слуги не успели их остановить.
Зиядулла сидел в кресле у письменного стола, что-то писал в бухгалтерской книге и время от времени щёлкал на счётах из слоновой кости. При виде незваных гостей он вскочил из-за стола, как будто его вытолкнула пружина.
— Как вы сюда попали? — сказал он вместо приветствия. — Я приказал никого не впускать.
Лицо его было испуганным и одновременно злым. Раньше Талибу казалось, что Зиядулла и Ширинбай люди совершенно различные, непохожие. Теперь он поразился тому, как младший брат похож на старшего. Тот же узкий прищур глаз, те же жёсткие складки у рта.
Зиядулла, худой и стройный, вдруг ссутулился и стал похож на коршуна.
— Уходите немедля! — говорил он, наступая на гостей, оторопевших от ещё одной неожиданности. — Я буду рад помочь вам, когда кончится то, что началось сегодня, но сейчас уходите немедля, не то я сам позову стражу, уходите!
Талиб не помнил, как они очутились за воротами дома. Они услышали, как загремел огромный засов, как Зиядулла кричал с террасы на слуг, допустивших такую оплошность.
Тут только дядя Юсуп заметил, что рубашка Талиба сохранила все свои пуговицы. Молча он рванул её и завернул воротник внутрь.
— Хорошо ещё, что нас не видел Ширинбай, — сказал шёпотом дядя. — Он сразу передал бы нас в руки эмирских палачей.
Обессиленные и убитые горем, дядя с племянником поплелись по пустынной улице. Спешить им было некуда. Правда, оставался ещё дом учителя Насыра, но кто мог поручиться, что он поступит не так, как поступили все их знакомые.
* * *
К удивлению, калитка учителя Насыра оказалась незапертой. Двор и дом встретили их тишиной, такой непривычной здесь, где в течение целого дня не умолкали ребячьи голоса.
Семья учителя собралась в одной комнате. Там был он сам, два его старших сына и жена с годовалой дочкой, большеротой девчушкой в коротком шёлковом платьице. Ей одной было весело сегодня. Она играла с белым котёнком.
Насыр-ака грустно кивнул своим грустным гостям, пригласил сесть и сказал:
— Если вы хотите оставаться, оставайтесь. Только не думайте, что здесь вы в большей безопасности, чем на площади перед цитаделью. Верные люди сообщили мне, что самые худшие опасения подтвердились. Нас всех ждут беды, и пусть аллах даст нам силы пережить это.
Сыновья учителя, Хамид и Камал, молчали. Талиб вспомнил об их споре с отцом и понял, что сейчас сыновья не хотят напоминать отцу о своей правоте. Не время.
Словно угадав, о чём думали другие, Насыр-ака добавил:
— Я родился в Бухаре, я правоверный мусульманин, я верю, что волос не упадёт с головы человека, если того не захочет аллах, но... — Учитель вздохнул и опустил голову. — Но я хотел бы, чтобы дети мои были сейчас не здесь, а в Самарканде или в Ташкенте. Чем дальше, тем лучше.
Приближались сумерки, и муэдзины на минаретах Бухары прокричали свой обычный призыв к вечерней молитве. Все собравшиеся в доме учителя облегчённо вздохнули. Взрослые и дети молились истово и от души благодарили аллаха за то, что он сохранил их.
Но, к сожалению, день ещё не кончился.
Стоя на коленях, словно заворожённые торжественными словами молитвы, люди услышали шум на улице и во дворе дома. Не все, наверно, услышали этот ни на что более не похожий шум одновременно. Кто-то, возможно, услышал и понял опасность раньше, кто-то позже, но молитву не прервал никто. Низко кланялись пустой стене учитель Насыр, вся его семья, кроме несмышлёной девчушки, дядя Юсуп и Талиб.
«Защитники веры» или «Непобедимые львы» — трудно было судить, кто эти вооружённые бандиты, к какому именно отряду они принадлежали, — ворвались в комнату, не обращая внимания на то, что их жертвы в данный момент общаются непосредственно с самим всевышним, стали избивать ногами и палками коленопреклонённых людей.
Бандитов было много, человек двадцать или двадцать пять. В комнате сразу стало тесно и душно. Брань нападающих, испуганный вопль матери, едва успевшей схватить девчушку на руки, и глухие звуки ударов слились воедино. Бандиты, впрочем, не столько занимались избиением, сколько старались одновременно с побоями обшарить карманы вероотступников. Они сорвали серебряные браслеты с рук жены учителя, схватили огромные, похожие на репу, часы дяди Юсупа и добыли из потайного кармашка золотые монеты, которые он скопил в Бухаре, в мгновение ока стащили почти новые халаты с Хамида и Камала. Кто-то из бандитов кинулся к сундуку и стал набивать за пазуху всё без разбору. Видимо, и в соседних комнатах шёл такой же грабёж и разорение. Жадность к добыче отвлекла бандитов от той прямой цели, ради которой их сюда привёл начальник, офицер эмирской стражи.
— Вяжите их, вяжите! — кричал офицер. Этот призыв был выполнен лишь тогда, когда бандиты убедились, что грабить и уничтожать в этом доме больше нечего.
Учитель Насыр, его сыновья, а также дядя с племянником были наконец связаны. Их вывели во двор.
Кто-то из «защитников веры» уже выбегал из калитки, таща на плече мешок муки. Мешок был порван, за грабителем тянулся белый ручеёк. Ещё двое бандитов волокли за ручки огромный сундук.
Какой-то, очевидно, менее расторопный грабитель держал в руках глобус и с недоумением смотрел на зелёно-голубой макет земного шара. Офицер окликнул его, бандит бросил глобус и наподдал его ногой. Шарик слетел с подставки, покатился по террасе и упал и грязь. Другой бандит подцепил его ногой и перекинул через соседский забор. Неожиданно навстречу выходившим из калитки бандитам протиснулся рослый широкоплечий человек.
— Где начальник? — крикнул он, и Талиб сразу узнал голос Рахманкула.
— Тут, — ответил эмирский офицер. — Кто спрашивает?
— Я, — ответил Рахманкул. — Здесь должны быть два важных преступника, два ташкентца, которых я разыскиваю.
— Все мужчины схвачены, никто не сбежал, — ответил офицер. — Возьми факел и посмотри, — сказал офицер, потому что сумерки быстро перешли в ночь и лица людей рассмотреть было трудно.
Талиб невольно укрылся за спиной учителя. Кто-то зажёг факел, Рахманкул взял его и подошёл вплотную к арестованным.
— А! Один есть, — сказал тот, увидев дядю Юсупа. Талиб решительно шагнул и встал с дядей.
— И второй, — сказал Рахманкул и сразу же повернулся к офицеру. — Я прошу этих людей отдать мне. Это важные государственные преступники.
— Эти двое? — спросил офицер, с удивлением рассматривая дядю Юсупа и племянника.
Внешний вид этих людей явно не давал основания подозревать их в чём-то очень уж значительном. Возможно, офицер, рассмотрев хорошенько, отпустил бы их. Во всяком случае, Та\иба мог бы отпустить.
— Если они важные преступники, я сам доставлю их. Ведь я же их поймал, — резонно возразил он Рахманкулу.
— Отдайте мне их, — сказал Рахманкул. — Это, кроме того, мои личные враги. Я заплачу.
Офицер колебался, но недолго.
— Если за них положена награда, я сам могу её получить, — сказал он и решительно взял у Рахманкула горящий факел.
— Я буду жаловаться караван-беги, — возмутился тот и окончательно погубил собственный замысел.
— Ты слуга караван-беги, я слуга самого куш-беги, — сказал офицер и обратился к ожидавшим его приказания бандитам. — Хватит, пошли!
— Ладно! — Рахманкул махнул рукой. — Я без них тоже обойдусь, но пусть эти два ташкентца никогда не вернутся в Ташкент. Сделай это.
— Оттуда, — офицер махнул рукой в сторону цитадели, — никто не вернётся.
Арестованных вывели на ночную улицу.
Глава десятая
УЧЕНИК ПАЛАЧА
Весна тысяча девятьсот восемнадцатого года навсегда войдёт в тысячелетнюю историю Бухары как один из самых кровавых и страшных периодов в жизни этого древнего города. О событиях той весны писали потрясённые современники, их изучают учёные в наши дни, потому что историю преступлений так же важно знать, как и историю подвигов.
Замечательный таджикский писатель и учёный, Садриддин Айни, чьё имя известно во всём мире, был одной из жертв дикого эмирского произвола. Во многих его книгах описано то кровавое время, страшные бухарские тюрьмы, пытки и казни.
Садриддин Айни был арестован за год до описываемых здесь событий, его приговорили к семидесяти пяти палочным ударам. Мало кто выдерживал такое зверское наказание.
У меня нет слов, чтобы рассказывать об этом. Но вот как описывает истязание сам Айни.
«Рубашку мне закатили до самой головы. На мостике уже было приготовлено не менее полсотни кизиловых палок, каждая в полтора аршина длиной и в большой палец ноги толщиной.
Палачи начали бить меня — каждый со своего бока, приговаривая: «Раз, два, три, четыре...» Они били меня своими палками поочерёдно, как кузнецы бьют молотами по одному и тому же куску железа: только один отрывал палку от моей спины, на неё уже обрушивалась палка другого. Так они обрабатывали меня от шеи до крестца. С каждым ударом из моего тела брызгали струйки крови, разлетались во все стороны куски мяса и кожи. Было нестерпимо больно. Но я обрёл в тот момент такие силы, такое терпение, что, не мигая, смотрел прямо в глаза сановникам, считая позором стонать и плакать перед этим гнусным зверьём, перед этими тиранами.
В то время как палачи били меня палками, сановники и муллы, стоявшие около меня, били меня кулаками по лицу и по голове.
Но вот я услышал, как голос одного из палачей произнёс: «Семьдесят пять»... По знаку куш-беги палачи прекратили избиение. Ни стоять, ни идти я не мог. Тюремщики подхватили меня под мышки и снова поволокли к Обхане [ О б х а н а — темница, находившаяся в бухарской цитадели возле конюшен эмира, откуда в неё стекали вода и нечистоты. Сейчас в цитадели музей. Я видел эту темницу и другие тюрьмы Бухары. (Примеч. автора.)]. Раскачав, они швырнули меня в камеру.
...Арестанты освободили циновку, на которой обычно сидели, и положили меня на неё спиной, подложив под голову вместо подушки два кирпича. Из моего тела лилась кровь. Всё во мне горело и снаружи и внутри, всюду кололо, как будто в меня забивали раскалённые гвозди. И в то же время я дрожал так, словно меня обложили льдом: зубы мои стучали от озноба. Циновка, на которую меня положили, по убеждению старых опытных арестантов, была единственным лечебным средством для тех, кто получил семьдесят пять палочных ударов. По их мнению, раны, если ими не приложиться к циновке, должны загноиться. Но поскольку к этой циновке прикладывались своими изувеченными спинами десятки людей, получивших то или иное число ударов, то она стала похожа на доску мясника — так много было на ней ссохшихся сгустков крови и присохших кусочков мяса.
Так как я дрожал, то арестанты накрыли меня всеми своими одеждами, предупредив, что мне следует сразу сбросить всё это с себя, если вдруг появится надзиратель, — иначе всех арестантов ожидало наказание. Эти одежды были полны вшей, и они копошились в моих свежих ранах, как черви в гнилом мясе».
Садриддину Айни ещё повезло. Его и тех, кто был схвачен вместе с ним в апреле тысяча девятьсот семнадцатого года, освободили русские революционные солдаты из Ташкента, Самарканда и других городов. Они пришли на помощь жертвам произвола и вопреки указанию Временного правительства стали лагерем у городских стен Бухары. Эмир вынужден был отпустить узников.
Это было в апреле тысяча девятьсот семнадцатого года.
После Октябрьской революции, как раз в то время, когда муллы и проповедники, бухарские министры и реакционеры затеяли новую, ещё более страшную резню, эмир увеличил свои вооружённые силы, закупил много оружия у белогвардейцев и за границей, установил связи с тогдашним правительством Афганистана и Англии.
В довершение всего весной 1918 года эмир приказал разрушить железнодорожные пути на многих участках от Ташкента до Бухары.
Люди многого могли бы избежать, если бы знали, что им готовит будущее. Но этого люди не знают. Не знал этого учитель Насыр-ака, не знал дядя Юсуп, не знал и Талиб. Конечно, Талиб тоже не знал. Ему не нравились бухарские порядки, он боялся беззаконий, но если бы он точно знал, что случится с ними в последние дни февраля, он наверняка уговорил бы бежать из Бухары и дядю Юсупа, и учителя Насыра с семьёй.
Если бы знать! Нет, сидя в вонючей тюрьме в цитадели, в той самой Обхане, где за год до них истекал кровью великий таджик Садриддин Айни, Талиб не знал, что ждёт их всех.
Талибу простительно. Многие взрослые узники бухарских тюрем в те дни никак не могли прийти в себя от неожиданности. Им казалось, что всё происшедшее с ними — нелепость, случайность, необъяснимое стечение обстоятельств. То есть всё, что угодно, — только не естественное развитие событий, которые начались в Бухаре задолго до того дня, когда жертвы впервые поняли, что они жертвы.
Нет, сегодняшние узники Обханы знали о беззаконных арестах, избиениях, казнях, которые творились в их городе, но они как-то не допускали мысли, что то же самое может произойти и с ними. У этих людей, видимо, не хватало прежде фантазии, чтобы представить себя на месте любого из тысяч арестованных, чтобы понять, что такое может случиться с каждым жителем их страны. С каждым. С твоим соседом, с твоим самым близким родственником. С тобой.
Так недостаток фантазии мешает понимать действительность.
Впрочем, и сам эмир Бухары Сеид-Алимхан не знал, что два года спустя народ навсегда выгонит его со своей земли, что возмездие настигнет и тех, кто вместе с ним проливал кровь невинных людей, кто сеял смерть. Жаль только, что многие из тех, кто был в ту ночь вместе с Талибом, так никогда и не узнали об этом.
* * *
Едва забрезжил рассвет следующего дня, как в Бухаре вновь начались избиения и аресты всех заподозренных в связях с русскими. Перечень примет, по которым следует искать и находить таких людей, был тот же самый, что и накануне.
Все, у кого на рубашке пуговицы.
Все, у кого короткий пиджак...
Все, у кого подбрита борода...
Все, кто читает газеты...
Все, кто дружит с читающими газеты...
Все, кто обучает детей по русским методам...
Все, кто отдаёт своих детей таким учителям...
Все, кто защищает вышеозначенных преступников...
Вчера ещё в Обхане было сравнительно мало заключённых. Во всяком случае, в камере можно было лечь на полу. Сегодня с утра в тюрьму стали поступать новые узники. О том, что происходило в городе, узнавали от вновь прибывших. Их вид был ужасен. При аресте многих избивали до полусмерти, разбивали головы, ломали руки и ноги. Двоим или троим выкололи глаза.
Среди новых было несколько учителей, служащих контор, рабочих с железной дороги. В большинстве если не очень образованные, то, во всяком случае, грамотные люди.
Их преступления состояли обычно не только в том, что рубашки у них были с пуговицами. Их преследовали и за многое другое. Одни из них учили детей иначе, чем того хотели власти, другие выписывали и читали газеты, третьи имели знакомых русских. Некоторых из новичков знал и учитель Насыр, и его сыновья. Наверно, поэтому так удивились они, когда в камеру втолкнули Анвара-водоноса. Он тоже был сильно избит, стонал и громко читал молитвы. Талиб хотел окликнуть их бывшего квартирохозяина, но водонос сам заметил учителя Насыра и своих бывших квартирантов.
— Будьте вы прокляты! — крикнул он. — Все беды из-за вас, вероотступников!
Из его дальнейших слов стало ясно, что к нему, с муллой во главе, ворвались ученики соседнего медресе, которые искали дядю Юсупа, но, увидев среди оставленных вещей географический глобус, вспомнили, что водонос отдал сына в новую школу, и на этом бесспорном основании схватили отца.
— Бедная моя семья, бедная жена, бедные дети! — плакал он, размазывая слёзы по разбитому в кровь лицу.
Выяснилось, что самыми жестокими и безжалостными были ученики высших духовных училищ, предводительствуемые своими фанатичными учителями. Это они выкалывали глаза, плясали на своих жертвах, стараясь заслужить милость аллаха в священной войне против неверных.
— Нам ещё повезло, — сказал старший сын учителя Хамид. — Нас забрали, оказывается, «Непобедимые львы». Это уголовники, грабители. Они больше о наживе думали.
Первая половина дня прошла в разговорах о том, что творится в городе. Камера, где сидели Талиб и его друзья по несчастью, через несколько часов оказалась набита так, что ни одного нового заключённого втиснуть уже не удавалось.
А арестованных всё приводили и приводили.
— Ничего, скоро вам будет свободно, — весело смеясь, крикнул в окошко камеры стражник. — Вы хотели свободы, будет вам свободно.
— Судить скоро будут, — поняли его слова заключённые.
Действительно, скоро к камерам стали подходить эмирские солдаты и дворцовые стражники. Они хватали несколько человек и уводили их по крутому проходу.
Там на специальном возвышении сидели судьи. Солнце освещало белоснежные чалмы, играло на парчовых халатах и сверкающих стеклярусом поясах. Судьи не спрашивали ни о чём, кроме имени, и приговор был ясен: смерть! Неважно, присуждал ли суд прямо к смерти или к семидесяти пяти ударам палкой. Имя же спрашивали только для того, чтобы занести его в список осуждённых. Эмир требовал строгого учёта.
Каждый представший в эти дни перед судом приговаривался к смерти, ибо другого решения судьи принять не могли. Обширные тюрьмы Бухары были переполнены.
Первыми из камеры потащили на суд тех, кого привели последними. Они стояли ближе к двери.
Учитель, его сыновья и дядя Юсуп с Талибом находились далеко от двери. Ясно было, что их очередь наступит не очень скоро.
Никто из тех, кого уводили на суд, не возвращался обратно, никто не прошёл мимо камер из цитадели в город. Значит, никого пока не освободили.
— Может быть, из Арка есть другой выход? — с надеждой спросил дядя Юсуп, когда ему разъяснили значение происходящего.
— Нет, — ответил ему учитель Насыр. — Не надо себя обманывать. Нас всех ждёт смерть. Нужно подумать, чтобы как-то спасти детей, но я не знаю, как это сделать. Пусть, по крайней мере, они пойдут после нас с вами.
— Мы пойдём с тобой, папа, — сказали Хамид и Камал.
— И я пойду с тобой, — сказал Талиб дяде Юсупу.
— Не говорите глупостей, — тихо, с достоинством сказал учитель Насыр.
Талиб обеими руками обнял дядю. Юсуп-неудачник тихо и молча плакал, слёзы текли по его впалым щекам.
— Слушайте, что я скажу вам, друзья, — продолжал учитель. — Я мусульманин, как мои деды и прадеды, никто не сможет упрекнуть меня в неверии. Таким я и умру. Но почему аллах создал меня слепым? Я верил эмиру и его министрам больше, чем русским, потому что эмир и его палачи — мусульмане, а русские — христиане или даже вовсе безбожники. Я думал, мы, мусульмане, избраны богом, а они неверные. Я был против русской революции, я боялся её, я верил, что наш эмир, будь проклят его род, улучшит жизнь без революции. Слушайте и запоминайте — я за революцию!
Последние слова он выкрикнул громко и повторил их несколько раз. Он говорил это для всех, и люди, до сих пор его не замечавшие, обернулись к нему.
— Не надо, папа, — сказал старший сын. — Не кричи так. Может быть, всё обойдётся.
— Надо так, надо! — опять выкрикнул отец. — Они убьют нас, они и вас убьют. Я всё вижу теперь, и я знаю, как я сам в этом виноват. Я виноват и в том, что будет с вами...
Учитель заплакал, тело его дрожало так, что все, кто стоял рядом, чувствовали эту дрожь.
— Грамотей проклятый! — подал голос из своего угла Анвар-водонос. — Теперь ты плачешь. Зачем же ты, скотина, делал то, что запрещено? Я не знал, что это запрещено, я неграмотный. Пусть вас всех казнят, пусть вас убьют, а меня за что?
Водоносу стали что-то объяснять, успокаивать, но он долго ещё ругался и призывал громы, молнии и все кары небесные на тех, кто знает грамоту, кто читает газеты и смущает умы простых людей. Он даже порывался пододвинуться ближе к учителю, чтобы расправиться с ним, но тут распахнулась дверь и стражники стали вытаскивать заключённых, чтобы вести их на суд.
* * *
Я не буду подробно рассказывать о том, как после краткого допроса и зверского приговора все, кто был вызван на суд, сразу же перешли в руки палачей. Тут я опять позволю себе сослаться на мудрого и сильного духом Садриддина Айни. Он пишет, что эмир Бухары вначале удовлетворялся довольно простыми методами казни. «Приговорённых связывали верёвками по ногам и рукам и укладывали на краю ямы, головами к ней; затем палачи протыкали горло каждого остро отточенным ножом. Ученики палачей, оттащив в сторону трупы, на место их укладывали других. Так один палач за час мог казнить несколько десятков человек и не уставал...
Но этот способ оказался неудобным: ямы наполнялись кровью, и от её запаха эмиру в Арке становилось трудно дышать...
Палачи поняли, что среди казнённых имеется много невинных, и запротестовали. Указывая на некоторых, они говорили:
— Этот кажется нам неповинным, мы не можем пролить его кровь: невинная кровь принесёт несчастье!
Но не это волновало эмира — он видел, что человек с перерезанным горлом быстро умирал и успокаивался, а душа эмира, как у пьяницы, жаждавшего вина, ожидала других, сильных зрелищ, при которых казнённый испытывал бы жестокие муки в течение хотя бы часа...
Ямы, наполненные кровью, засыпали пылью и песком, закрыли досками и сверху поставили виселицы. Тело жертвы поднималось на блоке вверх, до самой перекладины, глаза жертвы выскакивали из орбит, из носа обильно текла кровь, лицо темнело. Когда приближался момент смерти, палачи ослабляли аркан, и жертва падала на землю, корчась в судорогах.
Полежав несколько минут на земле, несчастный проявлял признаки жизни. Бурно дышала грудь. Как только дыхание приближалось к нормальному, палачи снова подтягивали аркан, шея упиралась в блок, тело свисало, мучительная и страшная смерть овладевала человеком».
...Чтобы подробно описывать пытки и казни, нужно не только сильное и смелое сердце, необходимо моральное право на это. Нужно самому испытать хоть часть того, что ты пишешь о других. Есть люди, которым фантазия может подсказать любые невиданные страсти, есть даже особые любители писать про человеческие мучения. Я не из их числа. Поэтому я скажу кратко.
Учителя Насыра и старшего его сына Хамида приговорили к повешению на блоке. Дядю Юсупа и второго сына учителя — Камала к семидесяти пяти палочным ударам, а Талиба, учитывая его малолетство — дядя Юсуп сказал, что ему десять лет всего, — к заключению в тюрьме на шесть лет.
В тот день Талиб видел их в последний раз. Позже он узнал, что приговор был приведён в исполнение, что учитель погиб почти одновременно со своим старшим сыном Хамидом и вместе с дядей Юсупом, умершим во время истязания. Камал погиб в тюрьме через несколько дней от заражения крови.
Кроме Талиба, по малолетству избежавшего гибели, в тот день спасся только один человек. Это был Анвар-водонос. Он повалился на землю перед судьями и стал умолять их о пощаде. Он не просто умолял, он рыдал, проклиная учителя Насыра, всех грамотеев, дядю Юсупа, Талиба, русских большевиков и себя самого, возмечтавшего видеть сына Ибрагима настоящим муллой в большой чалме.
— Они русские шпионы, а не я! — кричал он. — Это они друзья большевиков, а не я! Убейте их, а не меня!
Анвар-водонос кричал, и люди, приговорённые к смерти, жалели и остро презирали его за этот крик. Талиб тоже жалел водоноса, ещё не зная, какой приговор вынесут им всем. Дело было ещё до того, как судья объявил своё решение. Талиб думал о том, что из всех стоявших сейчас перед судейским возвышением он один действительно был знаком с большевиком в кожаной куртке, с Фёдором Пшеницыным. При чём же здесь бухарский водонос? Талиб даже хотел сказать об этом, чтобы облегчить участь несчастного, но в это время один из судей спросил у Анвара:
— А ты согласен быть палачом или пока учеником палача? Ты можешь заслужить прощение, если станешь хорошим палачом. Ты можешь пытать и убивать этих вероотступников?
Все замерли после этого вопроса. «Это насмешка», — подумал Талиб. Выжидательно смотрели судьи. Анвар-водонос замер тоже, видимо от неожиданности. Его лицо, такое жалкое, дрожащее, начало меняться прямо на глазах. Оно менялось судорожно и быстро, пока вдруг не стало злым и одновременно счастливым. Он посмотрел на судей и опять повалился на колени. Воздев руки к небу, Анвар-водонос заголосил:
— Я их всех убью, я им выколю глаза и вырву языки, я их ненавижу, всех грамотеев!
— Пусть будет палачом, вернее, учеником палача, — сказал главный судья. — Из него выйдет хороший палач. Со временем.
Перемена, происшедшая с водоносом, поразила Талиба и запомнилась на всю жизнь. И ещё запомнились ему последние слова, сказанные Насыром-учителем. Он сказал судьям, чиновникам и палачам, уже готовым тащить его к виселице, заключённым, стоящим рядом, стенам дворцов и соборной мечети Арка, своим сыновьям, Талибу и всему свету:
— Я не был революционером, я был просто учителем, но я хочу, чтобы отныне меня считали революционером. Мне недолго осталось жить, но теперь я почти большевик. Пусть люди вспомнят обо мне и скажут: «Учитель Насыр погиб не зря!»
И, словно доказывая, что это всё так, он воскликнул громко и внятно:
— Долой эмира, долой министров-палачей! Да здравствует дружба с Россией и со всеми русскими! Да здравствует свет и добро!
Его схватили, но он вырывался:
— Да здравствует революция!
Не раз ещё вспоминал Талиб две удивительные судьбы: робкого и осторожного учителя Насыра, учёного человека, искренне верящего в аллаха и в справедливость установленных им порядков, так и прожившего всю свою жизнь, а перед смертью просящего, чтобы его считали революционером; и другого, угнетённого и тёмного водоноса, ставшего палачом того, кто учил его сына грамоте, кто открывал перед ним мир.
Глава одиннадцатая
НА ВЕРЁВКЕ
— Подайте моему господину! Подайте, пожалуйста, моему господину! — кричал оборванный тощий мальчишка с красной кровавой полосой через всё лицо от виска до подбородка. Он шёл впереди белого ишака, на котором восседал грузный рябой старик с мясистым лицом и съеденными трахомой глазами.
На шее у мальчишки была верёвочная петля. Другой конец верёвки слепой нищий держал в руке.
— Подайте моему господину! Подайте, пожалуйста, моему господину! — Мальчишка останавливался у лавок и твердил эти странные слова.
Но люди в Бухаре видели и слышали много всякого странного, не удивляла их и эта пара: нищий мальчишка, как собачонка на верёвке идущий впереди своего нищего господина.
— Подайте моему господину! Подайте, пожалуйста, моему господину!
Стоял апрель. Над городом голубело небо, уже начавшее выгорать от не по-весеннему жаркого солнца.
В пригородных садах вовсю цвели фруктовые деревья, на которых ещё не было листьев и почки только готовились лопнуть. Деревья будто парили на своих пушистых бело-розовых ветвях над влажной вскопанной землёй.
На минаретах Бухары, на куполах мечетей торчали белые аисты, вернувшиеся из далёких стран. Они не замечали того, что происходило в городе. Им — к небу ближе.
Вернулись острокрылые ласточки и сразу принялись лепить свои гнёзда. Низко над землёй летали они, но не замечали горя, царившего на улицах и в домах благородной Бухары.
Большинство смутьянов и подозреваемых в склонности к смутьянству было уже казнено, и трупы их валялись в камышовом болоте за городом. В Арке в застенках Обханы и Регханы ещё продолжались пытки и мучения, но аресты в городе почти прекратились, лавки и магазины вновь начали торговать, базары зажили своей обычной суматошной жизнью.
Слепой на ишаке и его мальчишка-поводырь довольно успешно собирали милостыню. Особенно щедрились купцы. Многие из них ещё недавно боялись эмирского гнева, тряслись, задабривали сильных мира сего и возможных доносчиков. Какой же купец не имел связей с Россией и Ташкентом? Каждый мог стать жертвой. Теперь, когда главная опасность миновала, они охотно кидали монеты слепому нищему на благодарственные молитвы.
Рябое лицо и трахомные глаза нищего, мальчишка с верёвкой и непонятным шрамом действовали на воображение.
Возле распахнутых ворот склада старик дёрнул за верёвку, и мальчик подбежал ближе.
— Что здесь? — спросил старик.
— Склад каракуля почтенного Зиядуллы, мой господин, — ответил тот.
Старик что-то прошептал мальчику, и тот, заглянув внутрь, трижды прокричал свой обычный призыв:
— Подайте, пожалуйста, моему господину! Зиядулла вышел к воротам. Он едва скользнул взглядом по лицу слепого и не мог скрыть своего удивления, когда увидел поводыря.
— Святой отец, — спокойно сказал Зиядулла, — отпусти мальчишку на пять минут, пусть он поможет мне. Прими за это серебряный рубль.
Старик пощупал рубль и согласился.
— Возьми верёвку, почтенный Зиядулла, не выпускай её из рук и не задерживай мальчишку.
Зиядулла взял верёвку и вместе с мальчиком вошёл в холодную глубину склада.
— Я узнал тебя, Талибджан, — сказал Зиядулла. — Этот нарисованный шрам меня не обманул. Ты похудел, лицо твоё стало другим, но я узнал тебя.
Зиядулла был первым, кто, зная судьбу мальчика, не скрыл, что узнал его, и Талиб благодарно посмотрел на купца. Он даже простил ему, что тот совсем недавно выгнал их с дядей из дома в страшный день эмирской расправы.
— Я не должен долго говорить с тобой, ибо могут зайти приказчики, которые знают тебя. Вот тебе ещё рубль, спрячь, пригодится. Беги к нищему и скажи, чтобы он скорее уходил отсюда. Я не хочу, чтобы тебя видели.
Зиядулла отдал Талибу конец верёвки и подтолкнул к выходу.
— Ты долго торчал там, негодный, — зло сказал старик, когда Талиб подбежал к нему. — Почему купец отдал тебе верёвку, а не вышел сам?
— Не знаю, — ответил Талиб. — Он сказал, чтобы мы скорее уходили отсюда.
— Он знает тебя? — Нищий не думал торопиться.
— Знает, — сказал Талиб.
— О! — воскликнул слепой. — И он не позвал стражу? Значит, он не чист перед аллахом.
— Пойдёмте отсюда, — попросил Талиб.
— Погоди, — буркнул нищий. Он что-то обдумывал и потом пробурчал: — Хорошо, мы ещё вернёмся.
Пока они говорили, из-за поворота улицы показался Ширинбай. Талиб, не дождавшись приказания, отбежал от старика, верёвка натянулась, и нищий, зацокав языком, стал погонять ишака.
Ширинбай увидел эту пару и, кажется, тоже узнал Талиба. Во всяком случае, он отвернулся, как только хорошенько рассмотрел его.
***
Талиб бежал из тюрьмы неделю назад.
Случилось это так. После того, как учителя с сыновьями и дядю Юсупа увели на казнь, Талиба бросили в большую камеру, где содержались самые различные преступники. Были среди них и конокрады, и грабители, и убийцы. Правда, постепенно, в связи с переполнением тюрьмы важными «государственными злодеями», носившими неправильные рубашки с пуговицами, читавшими газеты и учившими детей не так, как требовалось в Бухаре, уголовных преступников становилось всё меньше. Часть из них тоже казнили, других выпустили, третьи пошли работать палачами.
Новые заключённые тоже быстро менялись. Особенностью Бухарского судопроизводства было полное отсутствие какой-либо волокиты. Судьи заботились о том, чтобы осудить как можно скорее. Правильно ли они судят или неправильно — это беспокоило их меньше всего.
«Если аллах не мешает нам судить так, значит, мы судим правильно», — утешали они себя.
Новички, едва осмотревшись в камере, обязательно обращали внимание на Талиба. Щуплый мальчонка лет десяти (Талиб теперь скрывал, что ему двенадцать лет) вызывал удивление и интерес.
Талиба расспрашивали, выслушав историю его злоключений, жалели и заботились как могли. Он охотно рассказывал о себе, о дяде, об отце, который, вероятно, уже вернулся в Ташкент, о русском мотоциклисте, о Рахманкуле.
Так получилось, что рассказы Талиба становились всё более подробными. Всегда ведь находились люди, которые слушали его историю во второй или даже в третий раз, и для них Талиб добавлял новые подробности.
Однажды он рассказал о своём дедушке уста-Рахиме, которого называли ещё и уста-Тилля, об исчезнувшей тетрадке и споре, который возник из-за неё между Усман-баем и кузнецом Саттаром.
Один из новичков слушал рассказ Талиба очень внимательно. К ночи, когда все легли спать, этот человек расстелил свой халат на полу и предложил Талибу лечь рядом с ним. Дождавшись, пока все уснут, он шепнул Талибу:
— Сынок, я знал твоего дедушку. Это был замечательный человек. Он был самый учёный из всех людей, кого я знал. Он умел считать без цифр, одними буквами, он понимал, как строить каналы, и в наших краях он побывал в поисках того, что прячет от людей земля. Его не зря звали уста-Тилля.
Сначала новичок не внушал Талибу особой симпатии. Рассказ о таинственной тетрадке волновал многих. Спрятанные клады и золотые россыпи, равно как и сказки «Тысячи и одной ночи», отвлекали людей от страшной действительности. Талиба расспрашивали с горящими глазами, с трепетом жадности или зависти.
— Вот видишь, — говорили ему. — Такое богатство пропадает. А? Эх, несчастный! Ты миллионером мог бы стать, если бы не уехал из Ташкента. А теперь всё захватит Усман-бай.
Новый сосед по камере не говорил ничего, что походило бы на эти слова. Он говорил не о кладе, не о золоте, а только о дедушке Рахиме. О том, какой это был добрый и скромный человек, какой он был вежливый и образованный, какие стихи он знал, какой замечательный он был кузнец.
— Я работал на хлопковом заводе, — рассказывал новичок. — Все звали меня Касым-полукузнец, потому что я хотел стать кузнецом, а на кузницу я смотрел только издали. Моё дело было мешки таскать. Твой дедушка тогда как раз в наших местах чего-то делал. Мы не знали, что он делал. Ходил собирал камушки, землю копал. Всё один, всё молчком. Вдруг сломался на заводе пресс, которым хлопок сжимают для упаковки. Пресс — такая сложная машина, из страны инглизов её привезли, из-за моря. Сломалась у пресса большая шестерня. Никто это починить не мог. Твой дедушка зашёл посмотреть, говорит: «Я могу».
Управляющий наш не поверил, но сказал: «Возьми шестерню, вот тебе все рабочие, и делай что хочешь. Всё равно её выбрасывать». Я подошёл к твоему дедушке и попросил взять в помощники.
Касым-полукузнец стал подробно рассказывать, как они с дедушкой чинили шестерню, которая в рост человека, как построили большой горн и сваривали её медью.
— С тех пор, — закончил он свой рассказ, — я стал работать на прессе и в кузнице теперь могу работать. Правда, зовут меня всё равно, как и прежде, — Касым-полукузнец.
— За что вас арестовали? — спросил Талиб.
— За дружбу с русскими. Не за то, что я дружил, а за то, что наш управляющий дружил с русскими.
К Талибу в камере все относились хорошо, но с приходом Касыма-полукузнеца у Талиба появился настоящий старший товарищ. Когда его вызвали на суд, Талиб плакал. Однако тот вскоре вернулся. Его приговорили к десяти годам тюрьмы за то, что он своевременно не донёс на управляющего заводом.
Ещё несколько дней Касым-полукузнец и Талиб просидели в Обхане, как вдруг начальство решило всех осуждённых перевести в Зиндан, другую тюрьму. Осуждённых набралось человек тридцать.
Касым и Талиб держались вместе в толпе.
— Когда перегоняют с места на место, лучше всего бежать. Из тюрьмы бежать труднее, — шепнул Касым.
— А меня возьмёте? — спросил Талиб.
Касым вздохнул, давая понять, что если бы удалось, они обязательно убежали бы вместе.
Заключённых вывели из цитадели поздно ночью. Тридцать человек, измученных тюрьмой и невероятно истощённых, шли под конвоем десятка дюжих стражников, вооружённых винтовками и саблями.
Луна освещала спящую Бухару. Стояла какая-то особая тишина, будто город погрузили в глубокое озеро, будто не было в нём людей, собак, ишаков, лошадей, будто всё умерло. Пустые тихие улицы и глухие звуки шагов по пыльной дороге.
Вскоре показалась их новая тюрьма. Она, словно холм, возвышалась по правую сторону неширокой улицы и вся была залита холодным лунным светом. Талиб знал, что в этом холме под землёй и находятся заключённые, здесь должны пройти годы его жизни.
Старший конвойный приказал остановиться. Заключённых согнали к стене, окружающей невидимый с дороги дом напротив тюрьмы, разрешили сесть. Было слышно, как журчит арык, выбегающий из отверстия в основании стены.
Старший конвоя стал подниматься по ступенькам, ведущим ко входу в тюрьму. Он долго стучал в дверь, о чём-то переговаривался с тюремщиком, а потом спустился вниз и, злобно ругаясь, сказал своим подчинённым, что придётся будить начальника тюрьмы, который как раз и жил в доме, окружённом забором, у которого сидели заключённые.
Старший конвоя принялся стучать в калитку начальника тюрьмы. После долгих переговоров его впустили, и заключённые услышали недовольный сонный голос начальника, жаловавшегося, что ему житья нет, такая у него тяжёлая служба — уж и ночью стали присылать арестантов, а в Зиндане и так слишком много злодеев, и лучше бы их всех казнить, чем кормить и содержать за счёт милостивого эмира.
Один из заключённых тем временем попросил разрешения напиться из арыка. Конвоир махнул рукой в знак согласия, и люди стали наклоняться над ручейком, выбегавшим из-под стены. Они не только пили, но старались заодно и умыть лицо. Постепенно все придвинулись ближе к арыку, образовалась очередь.
Касым напился раньше Талиба и, прежде чем тот успел наклониться к воде, оттащил его за рукав.
— Погоди, — сказал он. — Арык протекает по кирпичной трубе. Взрослый не пролезет, а ты сможешь. Посмотри внимательно.
— Пролезть во двор? — удивился Талиб. — Там же живёт начальник тюрьмы.
— Тем лучше, глупый. Никто не будет искать тебя во дворе начальника.
Тут хлопнула калитка, и из неё вышли два человека.
— Встать! — приказал старший конвоя.
Люди стали медленно подниматься, несколько человек, не успевших напиться, сгрудились у арыка, и никто из конвойных не заметил, как Талиб, опустившись в арык, ужом юркнул в кирпичную трубу.
— Кончайте пить! — кричал конвойный, отгоняя людей от арыка, — Кончайте пить!
Последним к воде припал Касым-полукузнец. Он не хотел пить и сделал это, чтобы дать Талибу время пролезть по трубе как можно дальше, и ещё для того, чтобы разозлить конвойных.
— Вставай! — крикнул на него конвойный и пнул ногой.
Касым встал и присоединился к толпе заключённых.
— Считать будем? — спросил старший конвоя у начальника тюрьмы.
— Внутри сосчитаем, — ответил начальник. Талиб слышал всё, что происходило на улице. Он лежал в трубе, упираясь головой в железную решётку, которая была опущена в арык со стороны двора. Он лежал на животе, подперев голову кулаками; всё его тело было в холодной воде. Вода доходила до подбородка, а голова упиралась в верхний свод трубы.
«Только бы они не увидели ноги», — думал Талиб и старался как можно сильнее подтянуть их под себя.
Постепенно шум голосов на улице смолк, и Талиб понял, что всех заключённых загнали в тюрьму и сейчас будут считать. У него оставалось несколько минут, чтобы спастись. Он понимал, что не сможет долго лежать в холодной воде, а конвоиры в любой момент могут выйти обыскивать улицу. Тогда всё.
Талиб принял решение. Он оттолкнулся от решётки, и тело его легко скользнуло по маслянисто-гладким кирпичам. Не теряя ни секунды, он выскочил из арыка и побежал. Он понял, что бежать надо не в ту сторону, откуда их привели, ведь ясно, что его будут искать по дороге к цитадели.
Остаток ночи и всё утро он провёл на кладбище, прячась за надгробными памятниками. Он тщательно выжал штаны и рубаху и повесил халат на чьё-то надгробие. Часам к одиннадцати утра штаны и рубашка высохли, и только от халата на солнце шёл пар.
Талиб долго блуждал по городу, пока не вышел на какой-то пустырь, где дымились жаровни с шашлыком, кипели котлы, а между жаровнями и котлами ходили люди, приготовившие медяки на еду, но не знавшие, что лучше на них купить: то ли плов, приготовленный почти без масла и мяса, на одном лишь уменье обойтись без дорогих продуктов, то ли взять огромные пельмени — манты, начинённые мясом и луком, вернее, луком и рублеными сухожилиями.
У Талиба кружилась голова от запахов съестного, он почти решился на кражу. Схватить что-нибудь из котла и бежать. Пусть потом бьют как хотят. Пусть бьют, как бьют воров только на восточных базарах, безжалостно, ногами, палками, мотыгами и вообще чем попало.
Он был голоден все эти долгие и страшные дни. Постоянный страх, зловоние камер, горе и слёзы несчастных спасали их в тюрьме от всепоглощающего чувства голода. Здесь, на свежем воздухе, голод завладел мальчиком безраздельно.
Талиб совсем уж присмотрел, где схватить горсть распаренного гороха и куда бежать, но подумал, что его могут схватить и передать стражникам, а это — вновь тюрьма.
Отвернувшись от блюда гороха, он решительно зашагал прочь.
К вечеру, незаметно для себя, Талиб оказался на базаре в центре города и увидел то же, что видел в первую свою прогулку по Бухаре вместе с дядей Юсупом. Тот же базар, тех же деловито шагающих покупателей, дервишей, просящих подаяния, и глиняную парикмахерскую, в дверях которой в своей обычной позе, облокотясь о косяк, стоял длиннолицый цирюльник с иронически оттопыренной нижней губой.
— Эй, малыш, — сказал цирюльник. — Заходи, побрею.
— Денег нет, — ответил Талиб.
Талиб подумал, что ему очень нужно было бы побрить голову, он так зарос, что слишком обращал на себя внимание. Видимо, пока он обдумывал это, парикмахер и сам о чём-то подумал.
— Заходи, бесплатно побрею, — сказал он и взмахнул полотенцем.
Парикмахер работал молча, и Талиб был рад этому. Он боялся, что парикмахер узнает его и начнёт расспрашивать. Однако тот молчал и только недовольно сопел длинным носом.
— Послушай, наследник, — неожиданно сказал парикмахер. — Я узнал тебя. И твой ташкентский говор тебя выдаёт. Я ни о чём не спрашиваю тебя, я сам вижу: ты голодный, от тебя половины не осталось. Ты грязный, будто всё это время сидел в Обхане или в Зиндане. Но я ни о чём не спрашиваю тебя. Если ты хочешь поесть и отдохнуть, то иди за мной, следи издали и заходи в тот дом, куда я зайду.
Через два часа, вымытый и сытый, Талиб сидел в доме парикмахера, которого звали Даудом, и рассказывал свою историю.
— Ложись спать, — сказал наконец парикмахер.- — Завтра утром я посоветуюсь с нашими стариками, что с тобой делать.
Талиб заснул как убитый и проснулся, когда солнце стояло высоко. Он подумал, что парикмахер ушёл на работу, но увидел, что тот сидит на айване и в маленькой ступе растирает что-то медным пестиком.
— Вставай, сынок, — сказала жена парикмахера. — Плохие новости.
Оказалось, что старейшины квартала, посоветовавшись, приказали Дауду как можно скорее спровадить беглеца. Они боялись, что за укрытие такого важного государственного преступника, бежавшего из тюрьмы, весь квартал может быть подвергнут наказанию.
— Если бы ты был не узбек, а еврей, они бы не побоялись, — пряча глаза от смущения, говорил парикмахер. — Но ты не еврей, и никто не поверит, что мы прячем тебя из жалости. Нас обвинят в государственной измене. В Бухаре всех инородцев обвиняют в государственной измене, а убить инородца так же легко, как убить собаку. Прости нас.
Парикмахер был очень смущён и расстроен. Талиб понимал, что у него нет другого выхода, ведь не может он рисковать жизнью семьи, детей и даже жизнью соседей. В том, что опасность именно такова, Талиб не сомневался. Он слишком хорошо знал теперь Бухару.
На прощанье, после завтрака, цирюльник подозвал Талиба и довольно долго колдовал над его внешностью. Он немного подбрил брови, чтобы изменить их изгиб, подмазал чем-то вокруг глаз и в довершение взял из ступки клейкую красную краску и наложил её слоем от виска к подбородку, нарисовав подобие шрама не то от удара плетью, не то от какой-то неведомой болезни.
— Теперь тебя трудно узнать, — сказал он хмуро. — Можно, но трудно. Только не умывайся. Иди, сынок. Прости меня и всех нас.
В последующие дни Талиб убедился, что никто в Бухаре не мог рисковать жизнью ради его спасения. Во всяком случае, когда он пришёл к жене водоноса и сказал, что хочет передать привет от Талибджана, который жил здесь вместе с дядей, то та замахала на него руками и сказала, что из-за этих ташкентцев её муж чуть не угодил на плаху и вынужден теперь сменить честный труд водоноса на грязное дело палача.
Талиб так и не понял, узнала она его или нет. Хорошо ещё, что Ибрагима не было дома. Неизвестно, как бы он повёл себя, сын водоноса или, вернее, сын палача.
После этого заходил Талиб в караван-сарай, где жили индийцы, и просил взять его уборщиком, но хозяин, расспросив его немного, сразу заподозрил неладное и прогнал:
— Уходи, уходи! Мы и так каждый день в опасности. Ты мусульманин, иди к мусульманам.
Талиб очень обрадовался, когда увидел на окраине города шатры местных цыган — люли. Но староста табора отказал ему в приюте.
— Нам нельзя взять тебя. Ты не похож на цыгана, и нас обвинят, что мы украли тебя в узбекской или таджикской семье. Нас всегда и везде обвиняют в краже детей, хоть мы такие же мусульмане, как и все.
Неизвестно, чем бы кончились блуждания по Бухаре, тем более что Талиб несколько раз встречал знакомых, если бы однажды, совершенно усталый и отчаявшийся, он не присел возле старого, полуразвалившегося домика, в котором находилась кукнархана [Кукнархана — место, где собираются любители кукнара — дурманящего вещества, приготавливаемого из сухих коробочек мака.].
Посетители кукнарханы, напившись своего любимого зелья, становились добродушнее, забывали все свои дневные заботы, и кто-то из них дал Талибу кусок ячменной лепёшки. Кое-как утолив голод, Талиб собрался уходить, но вдруг увидел старого нищего на белом ишаке.
Нищий был слеп, ишака он погонял, тыча его в шею рукояткой посоха.
— Эй, — крикнул слепой, обращаясь к пустынной улице, — кажется, здесь должна быть кукнархана?
— Здесь, — отозвался Талиб и подошёл помочь старику.
Он помог ему слезть и привязал ишака к столбику.
— Ты откуда? — отрывисто спросил старик.
— Из Ташкента, — тихо ответил Талиб. Он не хотел, чтобы кто-нибудь посторонний услышал его слова.
— Пойдём со мной, — сказал старик и крепко, как клещами, взял Талиба за руку.
Они вошли в кукнархану и сели на коврик в углу.
— Мне кукнар и ему кукнар, — приказал нищий хозяину и бросил перед собой монету.
Старый нищий говорил мало и короткими фразами. Может быть, поэтому ему удалось довольно быстро узнать о Талибе всё, что ему было нужно.
— Не из Бухары? Хорошо, — заключил он. — Ты чего-то боишься? Ещё лучше. Я слепой, никто меня не упрекнёт, что я прячу преступника. А ты преступник. Ты меня бойся. Я сразу вижу, что ты боишься. Будешь моим поводырём.
Вскоре выяснилось, что от слепого недавно сбежал поводырь, и Талиб подвернулся очень вовремя.
— Это всё от моей доброты они бегут, — объяснил старик. — Я обычно их на верёвке держу, а как отпущу — так бегут. Тебя я не отпущу.
* * *
«Подайте моему господину!» — повторять этот призыв и бежать с воздетыми к небу руками — вот почти и всё, что требовалось от Талиба. Правда, за день он очень уставал, а старик, если бывал по вечерам в плохом настроении, бил его перед сном или неожиданно щипал. Верёвку он никогда не выпускал из рук. Ночью он обвязывал её вокруг своего живота. Конечно, хорошо бы тихонько ночью перерезать верёвку и убежать, но куда?
Ещё в первый день свободы Талиб нашёл железку и каждый раз, когда удавалось найти укромный уголок и хороший камень, точил её, надеясь сделать себе ножик. Теперь точить железку стало невозможно. Старик сразу бы отобрал её.
Дни шли за днями. Слепой нищий и Талиб побывали во всех кварталах, возле всех мечетей, совершили путешествия ко всем святым местам. Однажды новый хозяин сказал Талибу: «Завтра пойдём в Каган».
Несмотря на то что станция Каган всего в тринадцати верстах от Бухары, Талиб не был там со дня приезда.
Ночью он не спал и думал о том, что хорошо бы ему убежать от старика, сесть на поезд и...
Рано утром они отправились в Каган. Там в этот день должен был состояться большой базар, и по дороге вместе с ними двигались арбы, верховые, пешие и множество ишаков.
— Кто едет на базар из богатых, ты мне говори, — предупредил слепой.
Было ещё сравнительно прохладно, ишак за ночь хорошо отдохнул, хозяин торопился, и Талибу почти все тринадцать вёрст пришлось бежать бегом.
Базар расположен недалеко от станции, прямо возле пакгаузов.
Старик выбрал место, где было побольше народу, приказал Талибу сесть рядом и тихонько подсказывать, кто идёт. Одно дело вечером, когда люди уже подсчитали выручку и охотно подают милостыню — тут и мальчишка может их уговорить, совсем другое дело утром. Утром нужно выпрашивать с умом и хитро.
— Правоверные! — начал слепой. — Только милость к несчастному слепому, совершившему паломничество ко всем могилам пророка Али и удостоившемуся целовать священный камень в святой Мекке, только милость к слепому, который видит не глазами, а чистой своей душой, поможет вам в этот день. Подайте на святые молитвы!
Сгребая серебро и медяки, старик одновременно выслушивал доклад Талиба, кто идёт, и удивлял вновь приходивших, говоря:
— О ты, богатый торговец скотом в чёрной шапке на серой лошади, ты, едущий со слугами, подай слепому, который видит чистой своей душой.
Или:
— О ты, такой толстый и красивый, пусть жизнь твоя всегда будет светла, как твой халат зелёного шёлка! Подай слепому, который...
У него так ловко всё получалось, что Талиб сам увлёкся.
— Вот идёт скупой миллионер Ширинбай. Он в сером халате и стоптанных сапогах, — шепнул он слепому и подумал, удастся ли слепому выманить что-то у этого скряги.
— О человек, который идёт в скромном халате и скромных сапогах! Всей душой я вижу, сердцем знаю, что зовут тебя Ширинбай, что ты бережёшь деньги для себя и для святых молитв не пожалеешь ничего.
К удивлению Талиба, Ширинбай, который шёл довольно далеко от слепца и вполне мог бы сделать вид, что призыв этот к нему не относится, повернулся и направился прямо к ним.
Едва скользнув взглядом по изукрашенному лицу Талиба, он сказал слепому:
— Эти дурацкие фокусы оставь для таких дураков, как ты. Дурным штукам ты учишь и этого беглого бандита. Твой поводырь... — Тут Ширинбай, нагнувшись к уху нищего, сказал что-то, чего Талиб не мог расслышать.
Старик сразу помрачнел, а Ширинбай, улыбаясь, пошёл дальше, только один раз оглянувшись на Талиба.
Прошёл час или два, в мешке за пазухой нищего набралось довольно много мелочи, и приближалось время обеда, когда старик сказал:
— Пойдём отсюда. Найди мне такое место, где никто не видел бы, как я считаю деньги. Уйдём подальше отсюда.
Талиб встал с земли и решил, что лучше всего пойти за железнодорожные пакгаузы.
Перрон и главное станционное здание находились далеко влево, а по правую сторону торчала одинокая водокачка. За приземистыми краснокирпичными зданиями действительно никого не было. Ярко сверкали рельсы, отражая почти отвесные лучи раскалённого полуденного солнца.
— Поди сюда, — подозвал Талиба хозяин.
Талиб не уловил необычайной ласковости в голосе нищего. Он подбежал, думая, что тот хочет слезть с ишака и нуждается в помощи.
Но старик задумал совсем иное. Он коснулся головы мальчика, словно гладил её, потом опустил руку на шею и, резко дёрнув верёвку, подтащил Талиба к себе. Пальцы правой руки железной клешнёй сомкнулись на горле.
— Отдай золото„ щепок! — прошипел он. — Отдай золото.
Талиб не понял, о каком золоте идёт речь, но не мог ничего сказать, потому что горло его сжимала рука нищего.
— Отдай золото, что дал тебе брат Ширинбая. Он всё мне сказал. Ты утаил от меня щедрый дар Зиядуллы.
Талиб вспомнил о серебряном рубле, подаренном ему миллионером, понял, что сказал Ширинбай его хозяину, и сразу же извлёк рубль из небольшого самодельного карманчика в халате. Торопясь, потому что совсем уже задыхался, он сунул монету в руку старика.
Едва пальцы левой руки нищего коснулись монеты, как лицо его исказила такая злоба, что Талиб, в ужасе сделав невероятное усилие, вырвался из железной клешни и, ухватившись обеими руками за петлю, сдавливавшую горло, рванулся на другую сторону железнодорожного полотна.
— Стой! — крикнул старик. — Я убью тебя. Отдай золото!
Только теперь Талиб понял, какую злую, смертельную шутку сыграл с ним скряга-миллионер. Видно, Зиядулла рассказал брату о встрече с Талибом, а Ширинбай воспользовался этим, чтобы не давать милостыню, и нашептал нищему, что брат щедро одарил мальчишку.
Талиб пытался сорвать с себя петлю, но узел на верёвке не пускал. Неожиданно петля натянулась с новой силой. Это старик опять потянул её к себе и стал наматывать верёвку на кулак, виток за витком.
Белый ишак в испуге выпучил глаза и стоял неподвижно, широко расставив передние ноги. Старик наматывал верёвку на руку, петля на шее Талиба затягивалась, и расстояние между ними неуклонно сокращалось. Время от времени старик бил посохом по направлению натянутой верёвки, пробуя, не достанет ли он до своей жертвы. Наконец палка ударила Талиба по плечу, и старик, ещё немного подтянув верёвку, принялся колотить посохом изо всех сил. Талиб метался из стороны в сторону, но верёвка точно указывала направление.
Старик ещё раз крутанул рукой, намотав на кулак ещё один виток верёвки, и ударил. Наискось, со свистом опустился кленовый посох на голову мальчика. Талиб упал на рельсы и потерял сознание.
Он не слышал отрывистого паровозного гудка, который спас его от следующего удара, возможно смертельного.
От водокачки к перрону тендером вперёд, давая короткие гудки, двигался чёрный паровоз. Видимо, машинист не сразу понял, что происходит на путях, потому что он гуднул ещё и только тогда дал контрпар.
— Ты что, сдурел, старый? — зло сказал машинист, пожилой человек в засаленной фуражке, когда, соскочив с паровоза, увидел и понял всё.
Старик замахнулся на машиниста, но тот перехватил посох, вырвал его из рук нищего и отбросил далеко в сторону.
В одно мгновение он перерезал петлю, затянувшуюся на шее Талиба, взял мальчика на руки и, не обращая внимания на неистовые крики слепца, поднялся на паровоз.
— Моя мальчишка! Моя мальчишка! — коверкая русские слова, кричал машинисту нищий. — Подай моя мальчишка!
— Это тебе не Бухара! — сверкнув белками, крикнул в ответ машинист и показал слепому кукиш. — На моём паровозе власть рабочих.
Паровоз тронулся, дал гудок и выпустил струю пара прямо под ноги белому ишаку. Ишак рванулся, встал на дыбы, едва не сбросив седока, и, мотая хвостом, помчался вдоль полотна железной дороги.
* * *
Талиб не понял, где он. Это было как во сне. Он чувствовал быстрое движение, рокот колёс под собой, видел полыхающее пламя в топке.
Лысый человек с удивительно знакомым лицом склонился над ним.
— Где я? — спросил Талиб по-узбекски. Человек вместо ответа протянул ему жестяную кружку:
— Выпей.
Талиб послушно отхлебнул. Вода была тёплая и невкусная.
— Рахмат, — сказал. Талиб. — Спасибо.
— Очухался немного, — сказал лысый машинист своему кочегару. — Умой его, весь в крови. И растолкуй что надо, а то небось думает, что на том свете.
Через час Талиб сидел на табуретке против открытой двери и смотрел на пробегающие мимо поля, арыки, кишлаки.
К счастью, удар, сваливший его с ног, не был очень страшен, крови он потерял немного, но она перемешалась с красной краской, изображавшей шрам, и всё это вместе с тем, что Талиб долго не приходил в себя, очень напугало машиниста и кочегара.
— Мы думали, что не очухаешься, — говорил ему машинист. — Минут сорок, как мешок. Хорошо ещё, что дышал. Молчи, тебе нельзя болтать. У тебя, наверно, мозги стряслись.
Талибу захотелось есть, и это очень обрадовало машиниста и кочегара; они накормили его холодной бараниной и русским хлебом, которого Талиб не ел с самого Ташкента.
Во время еды Талиб сказал, что помнит машиниста, что он играл в домино, когда поезд дёргал, что тот показывал ему паровоз.
— Верно, — удивлялся машинист. — Верно. Значит, крепкая у тебя память, если такой палкой нельзя её отшибить.
К вечеру Талиб вполне освоился на паровозе. Ему разрешили давать гудки, переводить ручку регулятора и заглядывать в топку.
Талиб всем интересовался и сказал, что хотя паровоз ему очень нравится, но трамвай лучше. Его не нужно топить, не нужно заправлять водой, он не дымит и не шумит. Вот бы вместо паровозов пустить трамваи.
— Мудрец! — усмехнулся машинист. — Это невозможно. Ведь нельзя же по всем железным дорогам провода развесить. Да и электричества не напасёшься.
Так они разговаривали.
Талиб почти не думал об утренних своих несчастьях, и голова почти не болела, хотя шишка на бритой макушке была огромная.
— В Самарканде я пересажу тебя на другой паровоз, там у меня приятелей много, — сказал машинист. — Приедешь ты в Ташкент и забудешь про Бухару. В Ташкенте Советская власть крепкая.
— Про Бухару не забуду, — покачал головой Талиб. — Никогда не забуду.
Глава двенадцатая
ВОЗЬМИ СВОЮ ТЕТРАДЬ
Всю дорогу до Ташкента Талиб думал об одном, верил в это и точно знал, как это будет.
Вот он приехал, сошёл с поезда и идёт к себе домой. Возле чайханы его встречают люди: продавец овечьего сыра, извозчик Нурмат, сам чайханщик.
Все говорят одно и то же:
— Спеши домой, Талибджан. Где ты пропадал, дорогой? Твой отец давно вернулся и ждёт тебя.
Поезд пришёл поздно вечером, и, пока Талиб добрался до улицы Оружейников, наступила ночь. Ни один человек не встретился ему на пути к дому, даже сторожа не было у казённого склада.
Талиб хотел побежать, когда увидел свой дом и калитку в углублении стены. Но не побежал, наоборот, пошёл медленно-медленно и, когда оставалось два шага, незаметно для себя почему-то зажмурился. Талиб толкнул калитку вытянутой рукой. Она не подалась. Тогда он, всё так же не открывая глаз, провёл рукой по крайней доске.
На калитке висел тот самый замок, который Талиб навесил, уезжая в Бухару.
«Отец не приезжал. Ничего не случилось за это время. Всё как и было». Эти мысли пришли позже, а пока они не пришли, Талиб сидел на порожке и ждал их.
«Ничего не случилось. Всё как и было... Но, может, отец прислал письмо?»
Через несколько минут Талиб стучался в дом Тахира-почтальона.
Бабушка Джамиля сразу узнала его по голосу и распахнула калитку. Вскоре вся её семья проснулась и собралась вокруг Талиба.
— Отец скоро приедет? — спросил мальчика Тахир-почтальон и, увидев, как удивился он этому вопросу, добавил: — Ты получил письмо? Я передал его Усман-баю.
— Когда было письмо? — задохнувшись от волнения, выпалил Талиб.
— Давно уже, — тоже удивился Тахир. — Я не знал, куда его девать, сказал Усман-баю, он говорит, дай я отправлю его с верными людьми в Бухару. Прямо из рук в руки попадёт.
Всего, чего угодно, мог ожидать Талиб, только не этого.
— А где Усман-бай? — спросил он.
— В Ташкенте, — ответил Тахир. — Он за последнее время часто уезжал на две-три недели, но сейчас, кажется, в Ташкенте. Рахманкула тоже долго не было, а недавно вернулся, правда, старается меньше показываться на улице. В чайхану его не заманишь, где был, не говорит.
Талиб ничем не выдал своего интереса к возвращению Рахманкула. Он и не очень удивился этому. В дни, когда он был поводырём бухарского нищего, Талиб боялся встречи с бывшим полицейским и потому зорко искал его глазами везде, где тот мог оказаться. Рахманкула нигде не было.
«Это хорошо, что они оба в Ташкенте, — решил про себя Талиб. — Только бы не убежали, когда узнают, что я вернулся».
Странно, что мальчик не удивился и этим своим мыслям. В Бухаре присутствие Рахманкула пугало его, грозило гибелью. В Ташкенте он чувствовал себя сильнее и хитрого Усман-бая, и здоровенного полицейского.
«Только бы они не убежали», — с этой мыслью он и заснул.
...С утра в дом к Тахиру стали приходить гости. Никогда Талиб не думал, что его так любят на улице Оружейников. Взрослые разговаривали с ним, как с равным, сверстники-мальчишки, с которыми ещё недавно он играл на улице, запускал коробчатого змея и забирался в большой байский сад на берегу Анхора, теперь стеснялись его. Почти все, кто приходил навестить Талиба, приносили гостинцы: кто лепёшку, кто сыру, кто пирожки с мясом и луком. Почти все соседи приглашали Талиба жить у них, но он отказывался.
— Дядя Тахир, — сказал он после завтрака, — помогите мне открыть калитку, я буду жить у себя.
Замок пришлось сломать, потому что ключ от него остался в темнице бухарского эмира. В доме было сыро, и Талиб, распахнув дверь и окно, проверил, всё ли цело в кузнице, есть ли ещё саксаул, заготовленный прошлой осенью.
Тахир-почтальон побыл немного с ним вместе, а потом сказал:
— Я пойду к Усман-баю, может, вернулось письмо? Талиб был рад остаться один. Он развёл огонь в очаге, поставил на огонь кумган и решил выпить чаю. У себя дома выпить чаю. Он сел на террасе, стал ждать, пока закипит вода. Тахир вернулся быстро.
— Усман-бай ещё не знал, что ты приехал, — взволнованно сообщил почтальон. — Представляешь, никто из всей улицы не сказал ему, что ты приехал. Он мне не поверил. Он говорит: «Не ври, этот волчонок никогда не вернётся». Тогда я ему: «Прошу вернуть письмо!» Он на меня глаза вытаращил, хочет улыбнуться, но только зубы показывает. «Ты шутишь», — говорит. А я ему: «Если ты не вернёшь письмо, я пойду на почту, там есть телефон, и сразу в ЧК!» Тогда он поверил. Стал объяснять, что письмо отправил в Бухару, стал аллаха в свидетели звать. Только он врёт.
Тахир-почтальон даже немного обиделся на то, как спокойно выслушал мальчик такую важную новость.
— Вы сказали какие-то две буквы, дядя Тахир, — после небольшой паузы сказал Талиб.
— Какие?
— Не знаю какие, вы сказали про телефон и про две буквы.
— ЧК?
— Да, ЧК. Что это такое?
— Сам не знаю. На почте сказали, если буржуи (так по-русски баев называют) не будут слушаться, говори: в ЧК пожалуюсь.
Талиб молчал, думал о чём-то. Тахир с уважением смотрел на мальчика. Он понимал, что мальчик думает о чём-то, чего он, взрослый, не знает и не может знать.
— Вы помните того кожаного человека, который привозил меня на мотоцикле?..
— Конечно, помню, — обрадовался Тахир. — Говорят, он приезжал к тебе осенью, но с тех пор не показывался.
— Ладно, — сказал Талиб. — Всё ясно. Найдите, пожалуйста, замок или у соседей возьмите и закройте дом. Я вернусь поздно.
Талиб не стал пить уже вскипевший чай, снял кумган с огня и решительно направился к калитке. Он не заметил ни своего повелительного, даже несколько неучтивого по отношению к взрослому человеку тона, ни того, как ещё сильнее, чем прежде, удивился его словам Тахир-почтальон.
— Талибджан, если вернёшься поздно, приходи к нам. Мама будет ждать.
— Спасибо, — сказал мальчик и, на минуту отвлёкшись от своих мыслей, ещё раз благодарно поглядел на почтальона, повторил: — Большое спасибо, дядя Тахир!
...В саду за дощатым забором было так же тихо и пустынно, как прошлой осенью. Только выглядел он совсем иначе. Дорожка к дому расчищена, нет и следа прошлогодних листьев, которые так грустно шуршали под ногами. Молодые вишенки все усыпаны начинающими наливаться краской ягодами, вдали на верёвке сушится бельё.
«Значит, здесь она», — обрадовался Талиб.
Олимпиада Васильевна тоже ему обрадовалась, узнала сразу и хотела тут же усадить за стол, но Талиб решительно отказался.
Он сказал, что ему нужно поскорее увидеть дядю Фёдора, что он не может ждать до вечера, потому что сейчас ещё нет одиннадцати.
— Ну что же, — согласилась Олимпиада Васильевна и, по своему обыкновению ни о чём не расспрашивая и не говоря лишних слов, объяснила, где искать Фёдора Пшеницына. — Может быть, ты и прав, что не ждёшь его. Он теперь иногда за полночь возвращается. У них в ЧК ни дня ни ночи не ведают.
Второй раз слышал он сегодня эти две буквы, но не спросил о том, что они означают. Главное — он знал теперь, как найти своего друга.
Фёдор Пшеницын то дул в телефонную трубку, то щёлкал по ней жёлтым ногтем.
— Барышня, барышня, — говорил он время от времени, — дайте мне бывшую мужскую гимназию.
Видимо, барышня с телефонной станции плохо его слышала, и Фёдор начал сердиться:
— Барышня, чёрт возьми, дайте мне бывшую мужскую гимназию! Барышня, это Пшеницын из ЧК говорит. Из ЧК! Теперь слышите? Дайте мне бывшую мужскую гимназию. Спасибо, барышня.
Талиб сидел на крепком дубовом стуле с высокой спинкой, на которой, как пуговицы на мундире, сияли два ряда медных обойных гвоздей.
Дежурный с винтовкой полчаса назад никак не хотел пропустить неизвестного мальчишку к самому заместителю председателя ташкентской ЧК и очень удивился, когда тот, увидев Талиба через окно, выбежал на крыльцо...
— Расскажи всё по порядку, — попросил Фёдор.
И вот едва только Талиб дошёл до самого интересного, Пшеницын стал вдруг ни с того ни с сего звонить по телефону.
Кабинет у Пшеницына был просторный и почти пустой, если не считать письменного стола с креслом, несколько стульев и чёрного несгораемого шкафа с львиными мордами, закрывающими замочные скважины.
— Бывшая гимназия? — продолжал телефонный разговор Пшеницын. — Будьте любезны попросить на провод учительницу Бекасову Веру Петровну. Я понимаю, что сейчас урок, но она очень нужна. С кем я говорю? Одну минуточку, гражданин Петров, не кладите трубочку. Это из ЧК говорят. Да, из Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией. Очень вам благодарен.
Фёдор многозначительно подмигнул Талибу.
— Товарищ Бекасова? — официально осведомился Фёдор. И совсем другим голосом: — Вера Петровна, у меня здесь сидит тот самый узбекский мальчик, который опознал клинок своего отца. Помните, с дамасским клеймом? Если вы позволите, мы приедем. Когда у вас кончаются уроки?
В половине третьего Фёдор Пшеницын и Талиб вышли из здания ЧК и уселись в чёрный легковой автомобиль на тугие кожаные подушки.
— В бывшую мужскую гимназию, — сказал Пшеницын шофёру.
По дороге он объяснил Талибу, что генерал Бекасов зимой умер и коллекция оружия временно размещена в школе, где работает его невестка.
— Да, кстати, — сказал он, будто сообщал о чём-то второстепенном. — Сабля-то действительно оказалась местного производства и, возможно, даже скорее всего, изготовлена твоим отцом. Правда, есть там непонятное, но...
Автомобиль затормозил у красивого кирпичного здания с широким крыльцом.
— Вас подождать? — спросил шофёр.
— Мы быстро, — ответил Фёдор. Он ещё не привык к тому, что у него личная машина, и стеснялся шофёра.
Пшеницын мало изменился за то время, пока Талиб не видел его. Разве что морщин у него прибавилось. Ходил он в той же кожаной куртке и фуражке, только брюки носил простые и заправлял их в сапоги. Впрочем, фуражку он почти всё время держал в руках: наступало лето и она нагревалась от солнца, как железная крыша.
Вера Петровна, такая же красивая, молодая, в чёрном платье с белым воротничком и белыми манжетами, встретила их в вестибюле, очень обрадовалась Талибу и сказала:
— Мы с Фёдором вспоминали тебя.
Она провела их в актовый зал, где в большой витрине за стеклом, на том самом ковре, что и в генеральском доме, висели старинные ружья, алебарды, пищали, пистолеты и сабля...
Вера Петровна сняла замок и попросила Фёдора достать саблю.
Фёдор вынул клинок из ножен и протянул Талибу.
Мальчик бережно двумя руками принял от него саблю и подошёл к окну. Конечно, это был тот самый чёрный клинок с золотыми узорами.
— Вся штука в клейме, оказывается, — осторожно заметил Фёдор. — Это и ввело в заблуждение.
Талиб никогда не обращал особого внимания на клеймо — крохотный квадратик у самого эфеса, — слишком мелкие там были буквы. Теперь он стал смотреть внимательно, но ничего не мог разобрать. Даже непонятно, как можно было читать такие буквы, а ведь писать их было, наверное, труднее.
— Я не могу разобрать, — виновато сказал Талиб.
— Попробуй через увеличительное стекло, — предложила Вера Петровна.
— «Мастер Саттар, ученик мастера Рахима. Дамаск», — прочёл Талиб по-арабски.
Да, слово «Дамаск» стояло на этом клинке рядом с именем отца Талиба и с именем его деда. Не хотелось верить, что он нарочно сделал это для обмана покупателей. Он ведь и не собирался продавать этот клинок» Так или иначе, но было совершенно ясно, что клинок был тот самый, который отец продал Усман-баю.
— История довольно простая, — начал свой рассказ Фёдор. — Усман-бай купил его, чтобы дать взятку полицмейстеру Мочалову. Здесь явно был какой-то тёмный сговор. Между прочим, приказ о мобилизации твоего отца подписан Мочаловым в последний момент.
— Это всё из-за тетрадки, — перебил Пшеницына Талиб.
— Ты думаешь? — насторожился Фёдор.
— Я же вам начал рассказывать.
— Погоди, об этом потом. Мочалов продал клинок генералу сразу после февраля, потому что собирался бежать. Всё это мы выяснили совершенно случайно. Кстати, замешан в этом и бывший полицейский. Уж не тот ли это полицейский, о котором ты мне что-то говорил? Я, между прочим, помню, что ты мне говорил, а что именно — забыл. Тот? Вот не собрался я ещё...
— Конечно, тот, — опять перебил Пшеницына Талиб. — Я же начал рассказывать, когда вы стали звонить в гимназию. Я боюсь, что они убегут, потому что знают о моём приезде.
— Не убегут, — усмехнулся Фёдор. — Мы о них много знаем и, куда они могут убежать, догадываемся, Не боись, от нас не убегут.
Несколько дней Фёдор отмалчивался и повторял своё «не боись». Наконец он сказал:
— Завтра утром будет у тебя долгожданная встреча. Только ты не волнуйся. За ними много чего числится. Этот Усман-бай раньше, как говорят, был бандитом,, а теперь опять с ними связался. Они ограбили мануфактурный склад на Куйлюкской дороге. Все следы вели к Усман-баю. На станции Келес вагон с сахаром обчистили. Потому мы о нём и знали все, ждали, чтобы дружков на чистую воду вывести. Так что твоя тетрадка для них — семечки.
...В дальнем углу уже знакомого Талибу кабинета на двух рядом поставленных стульях сидели Усман-бай и Рахманкул. Они старались не смотреть друг на друга. Талиб вошёл, очевидно, уже в середине допроса и уселся на подоконник позади Фёдора.
— Вы и теперь будете отрицать, что купили клинок у кузнеца Саттара? — спросил Пшеницын.
— Нет, господин начальник, теперь я не буду отрицать, — невозмутимо ответил Усман-бай. — Я не знал, что ЧК всё равно известно всё. Я купил клинок у многоуважаемого кузнеца Саттара, чтобы помочь его семье, остающейся без кормильца. Скажу больше, хотел подарить клинок полицмейстеру, чтобы тот спас Саттара от мобилизации...
— Он врёт, — перебил Усман-бая Рахманкул. — Он дал клинок Мочалову, чтобы Саттара срочно отправили из Ташкента.
— Вот видите, — не повернув головы в сторону бывшего полицейского, продолжал Пшеницын. — Ваш друг и сообщник утверждает обратное.
— О, бедный мой друг Рахманкул! — воскликнул, ничуть не смутившись, Усман-бай. — У него всегда была плохая память и куриные мозги. Он всё путает. Кто даёт взятку, чтобы человека мобилизовали? Дают взятку, чтобы не мобилизовали. Как я мог пожелать такого моему родственнику Саттару, с которым вместе вырос, вместе играл в ошички, вместе ходил в мечеть, вместе...
— Из-за этой проклятой тетрадки! — воскликнул Рахманкул. — Поверьте мне, всё из-за этой проклятой тетрадки!
Фёдор на мгновение повернулся к Талибу, как бы говоря: «Вот видишь»; Талиб еле заметно кивнул. Он наблюдал эту сцену с интересом и презрением. Оба допрашиваемых ничем не удивили его. Он знал хитрую вкрадчивость Усман-бая и подлость Рахманкула.
— Зачем так говорить, что я сделал это из-за тетрадки старого наманганского чудака? Что в этой тетрадке? В ней только нелепые сказки, где нет даже макового зёрнышка правды. Я же сразу ещё вчера отдал вам, господин начальник, эту тетрадку. Это очень нелепые сказки.
Рахманкул от этих слов даже подскочил на своём стуле.
— Нелепые сказки? — закричал он. — Ради этих сказок он заставил меня выкрасть тетрадь из полиции в Намангане, прятать от родни и передавать ему письма Саттара из России; он заставил меня разорить лавку Юсупа-неудачника, чтобы сплавить их с племянником в Бухару, он заставил меня ездить в Ходжент, Самарканд, Ахангеран и в Бухару! Он хотел, чтобы они никогда не вернулись из Бухары. Я верил, что в этой тетрадке указаны клады, которые смогут сделать меня таким богатым, таким счастливым...
И тут впервые Усман-бай обратился к Талибу. Лицо его как бы раздвинулось в стороны, и рот растянулся, обнажив крупные и крепкие зубы.
— Не верь ему, дорогой мой мальчик. Я сам отдал тетрадку, и ещё я отдам тебе сто рублей, которые должен твоему благородному отцу, да вернётся он скорее на нашу благословенную землю. К сожалению, я не могу отдать тебе грустных писем твоего отца. Я их сжёг, чтобы не огорчать тебя его горестями. Я честный человек, скажи своему другу начальнику, как я помогал тебе и твоему дяде Юсупу, как я заботился о вас.
Талиб встал с подоконника и, повернувшись спиной к Усман-баю и Рахманкул у, стал смотреть в сад. Ночью и утром прошёл дождь, вероятно последний дождь, потому что май кончался, а летом дождей почти никогда не бывает. Трава в саду отливала изумрудом, на лепестках акации ещё сверкали капли влаги.
— Талибджан, возьми свою тетрадь и попроси начальника, чтобы отпустил меня, — продолжал говорить Усман-бай. — Ты должен помнить: мы не только с одной улицы — мы родственники. Если тебя обидел Рахманкул, то почему должен страдать я?
— Да-да! — крикнул Рахманкул в спину мальчику. — Да-да! Пусть главный преступник уходит на свободу, а я, тёмный, глупый, несчастный человек, буду платить за него своей головой! Возьми проклятую тетрадь своего сумасшедшего деда, и пусть все знают, что не только я дурак, но и почтенный Усман-бай, будь он проклят во веки веков, такой же дурак, как я. Мы два года
искали по этой тетради клады, мы нанимали рабочих рыть землю, долбить камень, и платил за это почтенный, уважаемый дурак Усман-бай!
— Тише, — приказал Пшеницын и встал из-за стола. — У вас ещё будет время разобраться, кто просто дурак, а кто уважаемый дурак. Насколько я понял, вы искали клады по тетради мастера Рахима и ничего не нашли. Так?
Только теперь Талиб перестал смотреть в окно.
— Он здорово нас обманул, этот старик, — сказал Усман-бай, поняв, что запираться больше нет никакого смысла. — Я потратил много денег, но там, где он велел искать золото, нет и следов его. Ни самородков, ни россыпи... Правда, возможно, мы не совсем там искали, потому что всё так запутано в этой тетради. — Усман-бай зло усмехнулся. — Пусть теперь Советская власть поищет.
В этот самый момент Рахманкул как подкошенный упал на колени и, воздев длинные руки к потолку, взмолился:
— Вот видите, он не раскаялся, а я раскаялся. Спасите меня, возьмите меня на службу. Я всё знаю, я опытный полицейский, я могу быть шпионом и выведывать, что говорят в чайханах и на базарах. Я могу быть тюремщиком и могу быть опять полицейским.
Фёдор слушал его с каменным лицом.
Рахманкул стоял на коленях и плакал, но Талибу не было жаль его. Удивительно только, что этот звероподобный бандит плакал, как все люди.
— Тупица, — презрительно бросил Рахманкулу Усман-бай. — Кому ты нужен?
Фёдор подошёл к двери и позвал конвоира.
Когда арестованных увели, он вынул из кармана связку ключей, выбрал из них два и направился к несгораемому шкафу.
Глава тринадцатая
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ УТРАТИЛ МАСТЕРСТВА
Это была небольшая по формату, но довольно толстая общая тетрадь, вернее, даже книга в потёртом переплёте из зелёного сафьяна. Она была опоясана ремешком с чернёной серебряной пряжкой тонкой кустарной работы.
Фёдор расстегнул застёжку и открыл тетрадь, Он открыл её, как открывают русские книги и тетради, чтобы читать справа налево.
— Не так надо, — не удержался Талиб,
— Ты прав, — сказал Пшеницын. — Привычка,, И вообще это не для меня. Твоя тетрадь, ты и читай.
Дрожащими руками Талиб взял дедушкину тетрадь. Не очень красивым, но чётким почерком на первой странице были выписаны уже известные Талибу строки из поэмы Алишера Навои «Фархад и Ширин». Здесь, в этой тетрадке, стихи обретали какой-то новый, таинственный и многозначный смысл.
...Фархад к пещере змея подошёл
И надпись над пещерою прочёл:
«Прославлен будь, бесстрашный витязь!
Ты, Чудовище убив, достиг мечты.
В пещере змея обнаружишь клад —
Тебе наградой будет он, Фархад!
Видимо, не зря мастер Рахим выбрал эти строки, видимо, не зря ходили слухи о том, что он искал и находил золотые клады, видимо, не зря звали его уста-Тилля — мастер-Золото.
Войдя в пещеру, знай: она кругла —
Ни углубленья в ней и ни угла.
Измерь её шагами всю кругом
И средоточье вычисли потом...»
На этом стихи обрывались. Дальше начинались записи старого мастера.
«Пятьдесят лет, подобно Фархаду, я искал клады в земле моих предков. Голодая и терпя холод, вызывая злые насмешки и скрытую зависть, я исходил эти края от реки Или на Восходе до Аму на Закате. Всё, что мог запомнить, запоминал, что боялся забыть, записывал, а теперь и то и другое доверяю этой тетради.
Эти мои скромные записи да станут ведомы мужу моей единственной дочери Хадичи — кузнецу Саттару, усвоившему мудрость дамасских мастеров и моему верному ученику. Эти записи да будут ведомы сыну Саттара Талибу, а через них, кому они пожелают, но только тем, кто никогда не будет при помощи богатства плодить бедность.
В этой тетради указаны клады, способные сто тысяч батраков превратить в сто тысяч хозяев. Я никому не говорил про сокровища, кроме тебя, мой Саттар. Ты один и поймёшь, что здесь написано.
Настоящие сокровища не в Кегене, Текесе и Тентеке, где золота ещё меньше, чем в Таласе, а, например, недалеко от Ходжаканта, по реке Пскем, где у тебя сильно заболела нога...
...Помнишь тот кишлак около Айна-булака, где мы видели весёлую свадьбу, где брат жениха уронил тюбетейку в костёр. Если от того кишлака пойти не туда, куда мы пошли в тот раз, а взять левее, то, пройдя полдня, увидишь засохшее дерево. От этого дерева, если встать к Восходу лицом, всё сам поймёшь...»
Талиб читал тетрадь с особым, напряжённым вниманием, ничто не ускользало от него.
— Вот видите, — сказал он Фёдору. — Я сейчас переведу вам одно место, и вы поймёте, почему они ничего не смогли найти.
Пшеницын внимательно выслушал перевод и согласился. Действительно, невозможно было без Саттара найти эти клады. Кто знает тот кишлак, где неизвестно в каком году брат жениха уронил тюбетейку в костёр. Что за кишлак? То ли возле реки Пскем, то ли возле Айна-булака.
А Талиб продолжал читать:
«Я видел много всякого на земле и на три сажени вглубь видел, я составил карту, какие видел недавно у русских учёных, которые ходят с треножником и смотрят в трубку. На моей карте отмечено многое, но не это.
Сын мой Саттар, ты найдёшь на карте, где есть свинец и каменный уголь, медь и даже серебро. В ста верстах от благородной Бухары я видел такое, что и не знаю, как сказать. Между двух барханов есть колодец, откуда запах идёт сильный. Чабаны боятся того колодца и говорят, что такой запах иногда горит, если его поджечь, и горит долго. Думаю, там может быть клад, но какой, не знаю...
Недалеко от Ходжента, помнишь, где был ишачий базар, если подняться в горы Карамазар, то там тоже есть ЭТО, зарытое глубоко, но всё же заметное. По-моему, клад велик».
Талиб иногда дословно переводил Пшеницыну целые страницы дедушкиной тетради, иногда только кратко пересказывал содержание.
— Неужели на нашей земле так много золота? — спросил он, — Только непонятно, кто его здесь запрятал.
— Ты неправильно понимаешь, — ответил Фёдор. — Никто его не прятал. Твой дед, очевидно, называет кладом месторождения золота, природные месторождения. Во всяком случае, Усман-бай и Рахманкул понимали, что речь идёт не о кладах, а о золотых россыпях. И странно, что они ничего не нашли.
Фёдор встал со своего высокого кожаного кресла, достал из кармана брюк трубку и кисет, закурил, стоя спиной к Талибу у раскрытого окна, выходящего в тихий, влажный от дождя сад. Возле дома была густая тень, а вдали, где росли кусты жасмина, сверкали на солнце листья, и от посыпанной речным песком дорожки шёл пар.
— Сколько беды на свете от этого проклятого жёлтого металла! — сказал Фёдор, не оборачиваясь, — Убивают, воюют, жульничают, совесть продают. На одном нашем прииске сколько горя я повидал. Понимаешь?
Талиб кивнул. Он первый раз видел, что Фёдор закурил трубк\л Обычно он совал её в рот без табака.
— Опять начал, — поймав взгляд мальчика, сказал Пшеницын. — С этими буржуями, белогвардейцами, со спекулянтами всякими разве можно спокойно разговаривать? Все нервы истрепал. Одно слово — контрреволюция! Но я мало курю, когда сильно разволнуюсь только. Ты не обращай внимания.
Фёдор закашлялся и вышел из кабинета. Талиб опять уткнулся в тетрадку.
«Пусть всё это будет для улицы Оружейников, для настоящих трудовых людей, для тех, кто не утратил мастерства, для тех, кто умеет делать лёгкие, гибкие сабли и тяжёлые мотыги, звонкие подковы и драгоценные кинжалы...»
В конце тетради, как и перед началом, были стихи Навои о царевиче Фархаде:
Царевич всё исполнил, что прочёл, —
В сокровищницу змея он вошёл.
А там — всех драгоценнейших вещей
Не счёл бы и небесный казначей.
Между последней страницей и кожаной обложкой было сделано что-то вроде кармана. Талиб развернул тетрадь на коленях и старался понять, что там нарисовано.
Вошёл Пшеницын с пачкой бумаг под мышкой, сложил их на краю своего большого письменного стола и спросил:
— Тоже золотишко ищешь? Такая зараза, смотри капиталистом не стань.
— Да нет, — возразил Талиб. — Я так только смотрю. Интересно.
— У меня друг был, вместе с Владимиром Ильичём Лениным в ссылке находился; он много мне пересказывал, что ему Ленин говорил. Вот про золото, например, Ленин говорил, что из него по справедливости надо бы отхожие места делать. Пусть все видят: что для буржуев дорого, то для сознательного пролетариата — навоз.
— Я про золото не думаю, — сказал Талиб. — Я про отца думаю. Может, он погибает где-нибудь.
Пшеницын уткнулся в бумаги. Он читал их медленно и что-то подчёркивал толстым красным карандашом.
— Знаете, дядя Фёдор, — сказал Талиб, — я поеду в Москву и сам его найду.
— Это глупо, — поднял на него глаза Фёдор. — Это утопия, понимаешь? Невозможно это в данный момент. Что ты там будешь один скитаться?
— А он один скитается, — ответил Талиб. — Я в Бухаре не пропал, а в Москве ведь Советская власть.
Талиб сидел, неподвижно уставившись на серебряных львов несгораемого шкафа. Фёдор встал из-за стола, прошёлся по кабинету.
Перед ним сидел худой и скуластый мальчишка с удивительно чёрными и упрямыми глазами. Первый раз Фёдор заметил, как изменился Талиб за те полгода, что пробыл в Бухаре.
— Я подумаю, — сказал он. — Завтра в обед приходи к Олимпиаде Васильевне. Обмозгуем.
* * *
Перед обедом Фёдор шепнул Талибу:
— Олимпиада Васильевна недельки через две собирается в Петроград к сестре.
Обедали они на веранде. Всё было так же, как и в прошлом году, только мяса Олимпиада Васильевна дала меньше. Зато вместо компота она поставила перед каждым по блюдечку красной, чёрной и белой черешни.
После обеда Фёдор попросил Олимпиаду Васильевну присесть рядом с ними и нарочито беззаботно начал:
— Не везёт мне с вами. Упрямые вы очень. А вам везёт. Так совпало, что вы вместе поедете. Олимпиада Васильевна решила ехать в Петроград за своей сестрой Лидией и тебя, Талиб, может взять с собой. Правильно я говорю, Олимпиада Васильевна?
— Странный вы человек, Фёдор, — ответила она. —
Неужели вы можете отпустить ребёнка в Москву? Конечно, я довезу его в целости и в сохранности. Мне с ним будет легче, Толя — мальчик воспитанный и умный, но в Москве же он будет совсем одинок.
— В Москве будет полный порядок, — подмигнул Талибу Пшеницын. — Там у меня друг в правительстве — Ваня Мухин. Я ему напишу.
— Как знаете, — вздохнула Олимпиада Васильевна. — На обратном пути я могу взять Талиба в Москве и привезу вместе с сестрой обратно. Важно только, чтобы вы, Фёдор, хорошо документы выправили.
Все документы были заготовлены, подписаны, и Талиб, завернув их в клеёнку, чтобы не подмокли от случайного дождя, зашил их в подкладку своего халата.
Олимпиада Васильевна тоже получила документы на проезд в Петроград, собрала вещи и продукты на дорогу. Талиб приходил к ней ежедневно, помогал укладываться. Отъезд назначался на среду, а во вторник всё рухнуло.
Был удивительно жаркий и душный для начала лета день. Термометр показывал. 28 градусов [28 градусов по принятой тогда шкале Реомюра соответствует 40 градусам по Цельсию.], на улицах почти замерло движение. Подойдя к дому Олимпиады Васильевны, Талиб облегчённо вздохнул и, пройдя по тенистой дорожке, вдруг увидел, что Олимпиада Васильевна сидела на ступеньках веранды, на самом солнцепёке, и плакала.
Голову она уткнула в руки, а худые жёлтые плечи, углами торчащие из ситцевого сарафана, вздрагивали.
— Умерла Лидия, — сквозь слёзы прошептала Олимпиада Васильевна. — Никуда мы с тобой не поедем. Письмо пришло. Не успела я.
Вечером Пшеницын вышел проводить Талиба за калитку и сказал:
— Придётся тебе, Толя, отложить отъезд. Я найду верного человека, с ним поедешь. Одного не отпущу.
Талиб не стал возражать, однако на другое же утро отправился на вокзал выяснить обстановку. Несколько дней он провёл среди проводников, машинистов и кочегаров, выяснил, как люди уезжают, что нужно брать с собой в дорогу, и пришёл к уверенности, что вполне может ехать один. Фёдору он сказал так:
— Я уезжаю в понедельник. Проводники могут меня взять до Оренбурга. А там видно будет. Документы вы мне дали, — не пропаду.
Пшеницын долго отговаривал его, грозился забрать документы обратно, но понял, что всё это бесполезно.
В понедельник он сам проводил Талиба на вокзал, поцеловал, как сына, и сказал на прощанье:
— Если что случится, иди в ЧК. Скажи, кто ты, ссылайся на меня. Тебе помогут.
Конечно, это было очень рискованно, почти безрассудно отпускать мальчика в такое путешествие, и Фёдор часто думал об этом впоследствии. Недели и месяцы не давала покоя мысль, что он, взрослый человек, послал мальчика на гибель.
Олимпиада Васильевна тоже часто упрекала его:
— Это варварство — отпустить ребёнка в такой ад. Варварство!
— Ничего с ним не случится, — отвечал Пшеницын. — Он парень шустрый.
Однако днём, среди работы, или ночью, неожиданно проснувшись, он сам ругал себя куда сильнее, чем Олимпиада Васильевна, и всё чаще закуривал трубку.
Глава четырнадцатая
МОСКВА
Если вы возьмёте карту Советского Союза и проследите путь, которым идут поезда от Ташкента до Москвы, если вы притом вспомните, что летом 1918 года был разгар гражданской войны и разрухи, что отсутствие хлеба, топлива, саботаж железнодорожных чиновников почти полностью парализовали нормальную работу транспорта, то вам станет понятно, почему путешествие, которое совершил Талиб, длилось сорок семь дней. Однако в то время люди очень удивлялись тому, что одинокий мальчонка прошёл этот путь, и прошёл его так быстро.
Вы поймёте и то, что автор не имеет возможности описывать злоключения, которые выпали на долю мальчика, поехавшего искать отца, не зная никакого адреса, не имея знакомых в Москве и не будучи даже уверенным, что отец жив и находится действительно в Москве, а не в Петрограде или вовсе в каком-нибудь другом городе.
До Оренбурга Талиб добрался поездом, а там на вокзале ночью у него украли халат, в котором были документы, выданные ему Пшеницыным на право проезда до Москвы, и письмо Фёдора своему другу, работающему в одном очень важном учреждении, название которого Талиб забыл, помнил только фамилию: Мухин. Хорошо ещё, что жулики не украли тетрадку с завещанием. Талиб обычно держал её за подкладкой халата, а в тот вечер вынул почитать и, поленившись положить обратно, сунул за пазуху.
Без документов ехать приходилось зайцем, то с мешочниками, то с дезертирами. Волгу он пересёк на платформе с трёхдюймовыми пушками, которые перебрасывали с одного фронта на другой.
Где-то возле станции Рузаевка Талиб несколько дней побирался в соседних с железной дорогой деревнях, пока его не взяли в свой поезд какие-то вооружённые матросы, едущие в Москву.
— Мы эсеры, — сказали Талибу в одном вагоне. — Социалисты-революционеры, борцы за крестьянское дело.
Вполне понятно, что Талиб не улавливал разницы между тогдашними политическими партиями. Поумней его люди и то путались. Талиб знал, что большевики — за рабоче-крестьянское дело, и эсеры казались ему почти большевиками. По крайней мере, на вторую половину, раз за крестьянское дело.
В двух вагонах этого же поезда тоже ехали матросы, мало чем отличавшиеся от матросов-эсеров. Такие же пулемётные ленты на бушлатах, маузеры на боку. Гармошка с гитарой постоянно звучали в их вагоне.
— Мы анархисты, — говорили эти матросы Талибу. — Самые революционные революционеры. Мы против всякой власти. Пусть каждый делает что хочет. Анархия — мать порядка. Понимаешь, азиат?
Талиб не понимал. Ему не нравилось, что его называют азиатом, но и те и другие матросы, в общем-то, Талибу нравились. К Талибу они относились неплохо, только посмеивались над его акцентом.
Однажды Талиб рассказал анархистам, зачем едет в Москву, и упомянул про клады, которые нашёл его дедушка.
(К счастью, он не проболтался про то, что тетрадку везёт с собой. Давно уже Талиб объяснял всем любопытным, что в тетрадке — святые молитвы, и в доказательство усердно читал вслух стихи Алишера Навои.)
Рассказ о кладах очень заинтересовал анархистов, и, чтобы скрасить длинную, медленную дорогу и сделать приятное уважаемым слушателям, Талиб кое-что присочинил.
Испокон веков люди рассказывают страшные сказки про кладбищенские сокровища, и Талиб пошёл проторённой дорогой. Получалось, что и в Ташкенте и в Бухаре под старинными мавзолеями есть золотые монеты и драгоценные камни. С трудом удержался Талиб, чтобы не рассказать о страшных дивах и драконах, которые эти клады охраняют, но понял, что взрослые слушатели не сумеют оценить таких подробностей. Зато он нажимал на то, что сам видел эти клады, когда путешествовал вместе с дедушкой.
— Вот вернёмся с отцом, обязательно всё золото соберём, — пообещал он матросам.
Один из анархистов, кудрявый парень Леха Арбуз, был самым внимательным слушателем и расспрашивал особенно подробно. Он дал Талибу сушёной рыбы,, горсть семечек и отправил в вагон к эсерам.
Ночью Талиб проснулся от стрельбы и громких ругательств. Оказывается, анархисты украли на станции маневровый паровоз и, прицепив к нему два своих вагона, поехали в обратную сторону.
— И чего они передумали? — удивлялись матросы-эсеры.- — Леха заявил, что они большинством голосов решили не ехать в Москву, а пробираться в Ташкент.
— Ты случайно не знаешь, зачем они в Ташкент подхватились? — спросил кто-то у Талиба.
— Сам не знаю, — с деланным удивлением ответи\ он. — Я им ничего такого не говорил. И они тоже ничего не говорили.
— Дурачьё это, а не революционеры, — сказал один из матросов-эсеров. — Лёгкой жизни хотят, свободы...
Талиб молча согласился. Действительно, дурачьё.
Утром следующего дня на подмосковной станции Раменское в их поезд вошли ещё какие-то матросы, поговорили с матросами-эсерами и предложили всем выйти на перрон. Спорить было бесполезно, потому что паровоз уже отцепили, а на станции стояло несколько пулемётов.
— Большевистская партия и Советское правительство не допустят вас в столицу без тщательной проверки, — сказали матросы, оказавшиеся большевиками. — А пока все вы считаетесь арестованными.
В почти пустом поезде Талиб доехал до Москвы и, совсем одинокий, сошёл на замусоренную платформу Казанского вокзала.
Ещё в Раменском один из матросов-большевиков упрекнул его:
— Такой маленький, а связался с контрреволюцией.
Талибу часто приходилось слышать это рокочущее слово. Впервые он его узнал от Фёдора. Тот объяснил, что всё на свете делится только на революцию и контрреволюцию. Талиб с тех пор много раз пытался объяснить всё, что с ним происходит, именно вмешательством этих двух сил.
Рабочие, крестьяне, солдаты, матросы — это революция. Богатеи, купцы, баи, фабриканты, офицеры, генералы — контрреволюция, враги трудовых людей. Такое деление всего сущего вначале вполне устраивало мальчика, но постепенно всё осложнялось. Вот невестка генерала, а хорошая женщина, даже Фёдор это говорит. Или два брата-миллионера в Бухаре — Зиядулла и Ширинбай. Первый казался хорошим, и Талиб готов был думать, что он за революцию. Со вторым дело было, конечно, ясное. Правда, по дороге из Бухары Талиб вычеркнул этот вопрос, отнеся в конце концов обоих братьев к одной категории. Вблизи братья казались разными, а с расстояния времени мальчик видел, что сходства в них куда больше, чем различий. Может быть, всей разницы было в тот рубль, который украдкой сунул ему добрый брат, не забывший, кстати, рассказать об этом своему злому брату. С матросами было посложнее. Они те же солдаты. И вот в погоне за богатством одни бросают других, а этих других арестовывают третьи. И ещё говорят Талибу:
— Такой маленький, а связался с контрреволюцией!
Обо всём этом думал он, когда ступил на площадь перед вокзалами.
Была вторая половина дня, солнце стояло высоко. В Ташкенте в это время самая жара, а здесь Талибу стало вдруг холодно. Люди на площади ходили в рубашках, солдаты были в одних только гимнастёрках.
«Может быть, они привыкли к холоду?» — подумал Талиб и, запахнув обрезанную чуть не по пояс, заскорузлую и пыльную солдатскую шинель, пошёл туда, куда шло большинство людей с вокзальной площади.
На каком-то перекрёстке возле трамвайных линий сидели бабы и колдовали над небольшими закопчёнными фанерными ящиками. Подойдя ближе, Талиб увидел в ящиках примусы, на примусах кастрюли, в которых кипело и булькало пшено.
— Кому кашу пшённую, довоенную! — закричала одна из баб, выключив шипящий примус.
Талиб заставил себя отвернуться и пошёл дальше. Ничего нет хуже, как голодному смотреть на еду.
На большой, круглой, мощённой булыжником площади Талиб увидел двух солдат в расстёгнутых гимнастёрках. Они сидели на краю тротуара, положив винтовки прямо на дорогу. Один из солдат курил, другой с интересом смотрел, как огонь пожирает газетную самокрутку.
— Дяденька, — спросил Талиб того, что смотрел на самокрутку, — где мне найти самое главное начальство?
— Погоди, — ответил солдат. Он протянул руку и взял у своего товарища окурок. — Вот у него спроси.
— Где мне найти самое главное начальство?
— Какое? — переспросил его солдат. — Самое главное начальство разное бывает: революционное, военное, партийное...
— Я не знаю. Мне сказали, что в главном учреждении работает товарищ Мухин, его надо найти.
— А кто тебе сказал? — опять спросил солдат. Он вроде бы никуда не спешил и был готов разговаривать на любую тему.
— Пшеницын, — ответил Талиб. — Из ЧК.
— Из какой ЧК? — продолжал спрашивать солдат.
— Из ташкентской.
— Видал? — удивился солдат. — Из ташкентской! Ты сам из Ташкента, значит?
Разговор этот мог бы длиться очень долго, если бы второй солдат не докурил самокрутку до конца.
— Ты, парень, с ним не толкуй. Он сам ничего не знает. Вот оно, Всероссийское ЧК, рядом. Свернёшь за угол и направо. Они кого хочешь найдут, — сказал он и кивнул приятелю. — Отдохнули, и будет. Нам с тобой до Преображенки надо допереть и назад ещё вернуться, а ты лясы точишь.
* * *
В приёмной ВЧК Талиба встретил очень бледный, худой и усталый человек в зелёном френче.
— Неужели из Ташкента? — удивился он, выслушав просьбу мальчика. Он долго ещё проверял, говорит ли Талиб правду или выдумывает. Человек этот наконец догадался позвонить куда-то и выяснить, есть ли в ташкентской ЧК сотрудник, по фамилии Пшеницын и по имени Фёдор. Только после этого он перешёл к существу дела: стал искать Мухина.
Талиб заметил особенность этого человека. Всё, что тот делал, он делал очень быстро и сердито.
«Видно, потому он такой усталый», — понял Талиб.
Человек между тем вытащил из стола длинный список с названиями учреждений и организаций и стал звонить по очереди.
— В Совнаркоме твой Мухин не работает, — сказал он Талибу и поставил чёрточку против первого телефона.
Потом он ещё долго звонил и каждый раз, положив трубку, повторял одно и то же.
— В ЦК партии не работает...
— В Реввоенсовете не работает...
— В Центральном Исполнительном Комитете не работает...
И наконец, опершись локтями о стол, сказал:
— В Наркомпроде есть Мухин Иван Михайлович, но в настоящий момент находится в долгосрочной
командировке по доставке продовольствия Петрограду. Что будем делать?
— Он когда вернётся? — спросил Талиб.
— Я же говорю, в долгосрочной. Может, месяц, может, два.
— Тогда он мне не нужен. Я без него обойдусь. Мне надо отца найти.
Человек в зелёном френче подробно объяснил Талибу, почему никак невозможно отыскать сейчас его отца.
Он записал имя и фамилию, все приметы, специальность и пообещал, что ЧК сделает всё возможное.
На прощанье он вынул из того же ящика стола кусок хлеба и луковицу, дал их Талибу и велел прийти завтра.
— А сегодня вот тебе адрес, иди на улицу Полянку, в наше общежитие, там тебя спать положат. Скажешь, Удрис направил. Удрис — моя фамилия. Ян Карлович.
— Когда вы моего отца найдёте? — спросил Талиб, стоя в дверях с куском хлеба.
— Трудно сказать, — ответил тот. — Во всяком случае, не завтра.
— Тогда я завтра не приду, — сказал Талиб. — Я сам буду искать.
Вет-врачъ ЕДВАБНЫЙ Н.Н.
и
вет-врачъ ЕДВАБНАЯ Н.Н.
ВО ДВОРЕ НАПРАВО
прочёл Талиб белую эмалированную вывеску на воротах длинного серого дома и даже остановился от удивления.
Ещё раз перечитал. Всё получалось, как в том ташкентском объявлении, которое он читал в чайхане почти год назад. Только там была одна Едвабная, которая,
«вернувшись, возобновила приём», а здесь был ещё к Едвабный.
«Теперь она в Москву вернулась», — подумал Талиб и пошёл во двор направо.
Он увидел одноэтажный деревянный домик, на дверях которого висела такая же эмалированная дощечка.
«Прошу повернуть», — было написано на звонке, и это тоже напомнило Талибу Ташкент.
Дверь открыла полная невысокая женщина в засаленном домашнем халате.
— Тебе кого, мальчик? — спросила она, сверкнув целым рядом золотых зубов.
— Едвабная — это вы? — в свою очередь спросил Талиб и понял, что больше ему и сказать нечего.
— Да, это я, — ответила женщина и уставилась на Талиба.
Его вид не мог не вызвать удивления. Почти истлевшая рубашка под обрезанной шинелью, ноги в длинных и глубоких азиатских галошах с загнутыми кверху носами.
Талиб молчал, а женщина стояла в дверях и тоже не знала, что она должна делать.
— Заходи, — сказала женщина и провела Талиба в переднюю, где стояли обитые клеёнкой стулья и кушетка. — Я тебя слушаю.
— Вы из Ташкента? — спросил Талиб, потому что не знал, что ещё сказать.
— Нет, — ответила она. — Я никогда не была в Ташкенте.
И тут Талиб вспомнил, что в том объявлении было написано не ВЕТ-врач, а ЗУБ-врач.
— Что такое ЗУБ-врач? — спросил он.
Женщина очень удивилась атому простому вопросу, но объяснила странному мальчику, что такое зубной врач, и опять замолчала, пристально следя за Талибом.
Талиб понимал всю глупость своего положения, но выхода из него не было.
— А что такое ВЕТ-врач? — опять спросил он.
— Я и мой брат — ветеринарные врачи, — сказала женщина. — Я лечу мелких животных. Мой брат, Николай Николаевич, лечит только певчих птиц, а я в основном кошек и собак.
Никогда Талиб не мог себе представить, что есть на свете врачи для кошек и собак. Он бы не поверил этой женщине, если бы вдруг не заметил, что стены передней были увешаны фотографиями кошек, канареек, дроздов и собак. На фотографиях большинство собак были с медалями и выглядели весьма важно.
— Извините, — поднялся Талиб. — Я пойду. Извините меня.
— Нет, — возразила Едвабная. — Ты хотел мне что-то сказать, говори. Может быть, нужно лечить лошадь? У вас, у татар, ещё остались лошади. В такое голодное время я согласна лечить даже крокодилов и носорогов, гиппопотамов и кенгуру.
За день пребывания в Москве Талиб не видел крокодилов и носорогов. Даже кошек и собак не было видно в городе. Он стал пятиться к двери, чтобы скорее улизнуть из дома, куда попал так случайно и так некстати, но ветврач не собиралась его выпускать.
— Николя, Николя! — позвала она кого-то. — Помоги мне. Тут очень странное дело.
В переднюю вошёл полный, невысокий человек, очень похожий на хозяйку.
Ни слова не говоря, он запер входную дверь на задвижку и приказал Талибу сесть.
— Сейчас не такое время, чтобы шутки шутить, молодой человек, — сказал он. — Вы пришли к Нине Николаевне, к моей сестре то есть, со странными вопросами, я имел случай слышать ваш разговор. Извольте объясниться. Может быть, вы наводчик шайки уголовников, откуда нам знать.
Пришлось рассказывать всю свою историю с самого начала. Брат и сестра слушали довольно равнодушно до тех пор, пока Талиб не упомянул про зубного врача Едвабную, объявление которой случайно запомнилось ему.
— Я думал, это вы и есть, — сказал Талиб. — А может, это ваша родственница?
— Нет, — категорически в один голос заявили брат и сестра. — У нас нет родственников и нет далее однофамильцев. Это очень редкая фамилия. Если ты не врёшь, это первый случай. Повтори, как там было написано.
— «Вернувшись, возобновила приём», — уверенно сказал Талиб. — Там ещё было: «Барс спешно продаётся, ручной, ласковый, как котёнок». И ещё было: «Интеллигентные барышни ищут место горничных».
Трудно сказать, что больше убедило брата с сестрой, искренний рассказ Талиба или объявления, которые он цитировал на память, но они немного успокоились и стали сочувствовать мальчику, отправившемуся искать отца в такое опасное время. Они ахали и охали, смотрели на него с сожалением и сказали, что в другое время обязательно угостили бы его чем-нибудь, но сейчас они сами крайне стеснены, ибо многие благо родные владельцы домашних животных убежали от большевиков, а те, кто не убежал, давно лишились своих собак и кошек: голод.
Объяснив всё это, они стали уже выпроваживать Талиба, как вдруг Нина Николаевна сказала:
— Обожди немного. У меня был один доберман-пинчер, так его хозяин, кажется, профессор, занимается Востоком. Он не то в Турции был, не то в Персии или, кажется, в Египте. Пойди к нему, он всё знает. Скажи, Нина Николаевна прислала. Сейчас я адрес найду.
Женщина торопливо схватила толстую книгу, стала её быстро листать и, найдя нужную строчку, оторвала край газеты, лежавшей на круглом столике, и написала карандашом: «Доберман-пинчер. Кличка Кекс. Хозяин Викентий Петрович Закудовский. Черниговский переулок, дом 4, кв. 36».
Было совсем темно, когда Талиб вошёл в подъезд высокого дома и стал подниматься по широкой лестнице с гладкими перилами. Единственная на весь подъезд тусклая электрическая лампочка горела на втором этаже. Здесь находилась квартира под номером 23. Талиб стал считать двери, прикидывая, какая же из квартир должна иметь номер 36. По его подсчётам оказалось, что эта квартира самая последняя в доме, на седьмом этаже. Талиб внимательно оглядел дверь: она была высокая и гладкая, чуть отсвечивала на ней медная дощечка с номером и виднелась белая пупочка звонка.
Талиб нажал на звонок и прислушался. За дверью было тихо. Он ещё раз нажал звонок, потом стал стучать кулаком и наконец понял, что в квартире никого нет. Талиб сел перед дверью на войлочный коврик и достал из кармана шинели половину луковицы. (Другую половину он съел вместе с хлебом сразу же, как только вышел из ВЧК.)
«Эх, попить бы», — подумал Талиб.
Внизу напротив дома он видел водопроводную колонку, и, чтобы напиться, достаточно было спуститься вниз, но мальчик вдруг ощутил, что силы оставили его. Ноги налились свинцом, руки и плечи сладко ныли.
«Посижу немножко, отдохну и пойду» — это было последнее, что он помнил. Через минуту он спал на войлочном коврике, о который вытирают ноги.
Глава пятнадцатая
КВАРТИРА № 36
Широкая лестница семиэтажного дома спиралью окружала шахту лифта. Днём, когда выключали единственную электрическую лампочку, свет проникал через высокий стеклянный колпак на крыше.
За время империалистической войны и революции никто не следил за этим колпаком, не мыл его, поэтому днём на лестнице было только чуточку светлее, чем ночью. Здесь было сумрачно и сыро, как в погребе.
По утрам жильцы этого дома старались как можно быстрее сбежать вниз и вырваться в тёплый и солнечный переулок. Скрипели двери квартир, слышались торопливые шаги, ухало парадное — и всё замирало.
Квартира, у двери которой спал Талиб, была единственной на самой верхней площадке, поэтому никто не мог его видеть, никто не потревожил его тяжёлого сна.
Он не слышал стука каблуков по ступенькам, хлопанья дверей и звонкой песенки, неожиданно зазвучавшей в мрачной шахте. Песенка, надо прямо сказать, была не очень-то умная, но кто-то выдумал эту песню, и её пели взрослые и дети.
По улице ходила
Большая крокодила,
Она, она
Зелёная была.
В зубах она держала
Кусочек одеяла,
Она, она
Голодная была!
Песенку пела опрятно одетая девочка в чёрной шерстяной юбке и белой кофточке. Она поднималась по лестнице не спеша, потому что за плечами у неё висел солдатский мешок. Лестница была длинная, а песня короткая, но девочка пела без перерыва с начала до конца, потом с конца до начала. На шестом этаже, устав, девочка перестала петь и, мурлыча песню себе под нос, поднялась на последнюю площадку.
Человек, спящий у дверей квартиры, куда шла девочка с мешком, не удивил её. Она посмотрела на него, склонила голову набок и легонько тронула спящего длинной загорелой ногой.
— М-мальчик, — сказала девочка. — Подвинься, п-пожалуйста, я не могу открыть дверь.
Талиб проснулся и сел, освободив таким образом половинку двери. Девочка открыла английский замок и, высоко задрав нос, с независимым видом прошла в квартиру. Она даже не взглянула на оборванного мальчишку у двери.
Понадобилось несколько минут, чтобы Талиб понял, где он, и вспомнил, как он здесь оказался. Он ощупал себя: тетрадь дедушки Рахима на месте, записка Едвабной тоже.
— М-мальчик... — Дверь квартиры номер тридцать шесть неожиданно вновь открылась . — Тебе н-негде спать? Здесь же холодно, н-наверно?
Длинноногая девочка стояла над ним. Талиб понял, что она заика. Он знал, что все заики очень застенчивы, но в этой застенчивости не было вовсе.
— П-пойдём со мной. Я покажу, где тебе бу-удет удобней.
Девочка стала спускаться вниз по лестнице, и Талиб послушно пошёл за ней.
На площадке шестого этажа девочка открыла железную дверь, обтянутую изнутри металлической сеткой, и сказала:
— Ты мо-ожешь пожить в лифте. Он всё равно не работает.
Талиб сделал шаг и вздрогнул. Пол лифта слегка опустился под ним.
Кабина была действительно очень привлекательна. Коврик на полу, кожаный диванчик и два больших пыльных зеркала справа и слева, но Талиб не собирался здесь обосновываться. Он вынул из кармана записку и протянул её девочке.
— Кекс сейчас в Киеве у мамы, — сказала девочка. — Тебе нужна собака?
Талиб объяснил, что ему нужна не собака, а её хозяин, профессор, который может помочь в поисках отца.
— П-прости меня, мальчик, — сказал девочка, явно смутившись. — Я думала, ты п-просто бродяга. Папа скоро приедет.
Преодолев минутное смущение, девочка сразу почувствовала себя гостеприимной хозяйкой.
— Ну что же мы стоим здесь? — очень удивилась она. — Пойдём к нам. Меня зовут Лера...
В небольшой комнате с широким трёхстворчатым окном Лера по-взрослому предложила Талибу сесть и указала на странное плюшевое кресло с подлокотниками, но без спинки. Талиб оглядел себя и отрицательно помотал головой.
— Я грязный, а здесь всё очень чисто.
— Н-ну что ты, не стесняйся, — сказала девочка. —
Ты ведь издалека приехал. М-может, ты хочешь принять ванну, помыться с дороги? Чем больше Лера говорила, тем меньше заикалась. Талибу
нравилось, как она заикалась, и вообще нравилась эта девочка, такая нарядная, самостоятельная и с такой белозубой улыбкой.
— Ты очень кстати приехал. Сегодня у меня день рождения, ты будешь гостем. Обычно в этот день мы бываем втроём: папа, мама и я. Но мама в Киеве, и в последнее время у них с-сложности с папой. Так что ты будешь третьим. Только помыться д-действительно надо.
Лера стремительно выбежала из комнаты и хлопнула дверью квартиры. Талиб подошёл к окну и глянул вниз.
Каменные дома окружали крохотный дворик, похожий на колодец. На дне колодца возле забора, отделявшего один колодец от другого, стояли сарайчики и два мусорных ящика. .Какая-то женщина с ведром прошла по двору и скрылась в доме напротив. В тот же миг во дворе появилась Лера. Она подбежала к сарайчикам, подёргала висячие замки и направилась к забору.
«Что она делает?» — удивился Талиб, увидев, как девочка взялась за одну из немногих уцелевших досок и рванула её к себе. Доска не поддавалась.
Талиб высунулся из окна и крикнул:.
— Эй, что ты делаешь?
Лера посмотрела вверх, и двор-колодец откликнулся тонким голосом:
— Д-давай сюда!
Они оторвали три доски от забора, захватили крышку от мусорного ящика, и Талиб на кухне быстро расколол их на короткие полешки.
— Т-тут хватит ванну согреть и ещё останется на следующий раз, — удовлетворённо сказала Лера. — Ты помоешься, потом папа помоется. Он в Архангельском, скоро приедет.
* * *
— Ну ты выдумываешь! — обиженно прозвучал за дверью мужской голос — Странные шутки.
— Н-никакие н-не шутки, — упрямо возразила Лера. — Слышишь, он водой п-плещется.
Талиб сидел по грудь в воде и тёр себя жёсткой мочалкой. Лера дала ему крохотный кусочек мыла. Услышав последние слова, он замер.
— Ничего я не слышу, фантазёрка несчастная, — сказал мужчина за дверью.
— Никакая н-не фантазёрка н-несчастная, — возразила Лера. — Эй, мальчик, ты не зах-хлебнулся там?
— Нет, — ответил Талиб и услышал, как мужчина за дверью удивлённо крякнул.
Голоса удалились. Талиб вылез из тёплой воды на холодный цементный пол и стал вытираться мохнатым полотенцем. Его охватил озноб. Не успел он взяться за свою грязную, почти чёрную рубашку, как в дверь постучали.
— Мальчик, погоди одеваться, — сказал мужчина. — Я принесу тебе чистое бельё, когда вымоешься.
— Я уже, — стуча зубами, ответил Талиб.
— Погоди одеваться, — повторил мужчина. — Я быстро.
Через минуту, которая показалась Талибу вечностью, дверь ванной открылась, и появился высокий худощавый мужчина в чёрных брюках, жилете, в белоснежной рубашке и галстуке. Его бледное лицо с крупным носом, с двумя глубокими складками возле рта и
поблёскивающие стёкла пенсне выражали беспокойство и удивление. В руках он держал ворох всевозможной одежды.
* * *
Талиб сидел за белой скатертью, на которой было расставлено невиданное количество посуды: тарелки и тарелочки, вазы и вазочки, соусники, графинчики и возле каждого прибора стояли по три разные рюмки.
— Всё, как в лучшие времена, — одобрил сервировку Лерин папа. — Только что же мы будем наливать в бокалы?
— Вот, — сказала Лера и указала на пачку соды и бутылку уксуса. — Это шипит, как шампанское.
Сначала Талиб съел картошку с редиской и зелёным луком, потом картофельный суп с щавелем и зелёным луком, потом жареную картошку с грибами, посыпанную укропом и зелёным луком. Вместо хлеба были картофельные же оладьи, а на третье Лера поставила вазу с крупными, но ещё зелёными яблоками.
Время от времени Лерин папа поднимал свой бокал с давно переставшей шипеть шипучкой и произносил тосты за Леру, за маму, которая в Киеве, за счастливое будущее, за Талиба и за начало учебного года.
Уже в середине обеда Талибу захотелось спать, и Викентий Петрович стал пристально поглядывать на него. А когда Лера принялась убирать посуду, профессор протянул через стол руку и положил её Талибу на лоб.
— Мне кажется, наш гость заболел, — сказал ом Лере. — Принеси термометр. Он в аптечке.
Талиб сидел на диване и, кутаясь в бархатную домашнюю куртку Лериного отца, добросовестно, как было велено, прижимал рукой стеклянную палочку.
— Тридцать восемь и восемь, — сказал Викентий Петрович, посмотрев на термометр. — Не дай бог, тиф.
Талиба уложили в мягкую и широкую постель на белоснежные простыни под пушистое и тёплое одеяло. Его напоили кипятком, в котором вместо чая была заварена сухая малина, накрыли ещё одним одеялом, ватным, но мальчик продолжал дрожать от холода.
Вечером в комнату, где лежал Талиб, вошёл низенький рыжеватый человек. Это был доктор Лев Захарович. Он жил в том же доме, но на втором этаже. Доктор был очень близорук и носил круглые очки с толстыми стёклами. Целый час, наверно, доктор осматривал Талиба, слушал через костяную трубку, как он дышит, короткими толстыми пальцами мял живот Талиба, выстукивал ему грудь и бока, приложив к коже холодную железную пластинку и ударяя по ней крохотным молотком с резиновым наконечником, потом заставил Талиба открыть рот и говорить «а-а-а», а сам в это время давил на язык обратным концом чайной ложки.
Корявым почерком доктор исчёркал три маленькие бумажки и протянул их Викентию Петровичу с непонятными словами.
— Двусторонняя крупозная пневмония, — сказал он. — Если пневмонию лечить, болезнь продолжается примерно три недели, а если не лечить, но только хорошо ухаживать за больным, то пневмония проходит за двадцать один день. Это приблизительно. Кормить нужно хорошо. И желательно хлебом тоже.
Доктор оказался прав. Три недели провалялся Талиб в постели, окружённый заботой Викентия Петровича и Леры.
Потом ему разрешили вставать, но не выходить на улицу. Запрещение выходить на улицу подкреплялось полным отсутствием одежды. Рубашку и штаны Викентий Петрович сжёг в первый же день. По комнате Талиб ходил в его бархатной курточке, но выйти на улицу в таком наряде было невозможно. Правда, постепенно у Талиба появлялся собственный гардероб. Кто-то из соседей отдал профессору гимназическую куртку своего выросшего сына, кто-то — короткие вельветовые брюки. С наступлением осени жизнь в Москве становилась легче, потому что пригородные деревни собрали хлеб, неплохо уродился картофель и овощи.
Закудовские жили даже несколько лучше, чем большинство москвичей: комитет бедноты бывшего царского имения Ильинское, в ведении которого находилась также и усадьба убежавших князей Юсуповых со старинным дворцом Архангельское, нанял Викентия Петровича для составления описи на огромную библиотеку и для инвентаризации других ценностей, оставшихся во дворце. Истинное значение этих книг и ценностей могло быть понятно только человеку весьма образованному.
Викентий Петрович очень подходил для этой работы, ибо был знатоком античности, умел читать по-французски, по-английски, по-немецки, по-гречески, по-итальянски и ещё по-всякому.
— Мой папа п-полиглот, — с гордостью говорила о нём Лера. — Мама явно его н-недооценила. Впрочем, красивым женщинам идёт некоторое легкомыслие.
Ветврач Едвабная ошиблась, когда сказала Талибу, что профессор побывал не то в Турции, не то в Персии, не то в Египте. Ни в одном из этих государств он не был, а всё, что знал про далёкие страны, знал по книгам.
Викентий Петрович сказал как-то, что хотел бы изучить ещё персидский язык, и Талиб обещал помогать ему, но занятия не очень ладились, потому что профессор был всегда занят, а когда выдавалась свободная минута и они начинали заниматься, им обязательно мешала Лера.
— У тебя блестящие лингвистические способности, — говорил мальчику Викентий Петрович. — В твоём возрасте знать три языка — это прекрасно! Видишь, Валерия, если бы ты сосредоточилась, ты могла бы знать французский не хуже, чем я или твоя мама.
— Я з-заика, — самодовольно отвечала Лера и спрашивала отца: — Неужели ты хочешь, чтобы я и п-по-французски заикалась?
В связи с началом учебного года Закудовские, жившие летом в Архангельском, окончательно перебрались в свою московскую квартиру, и Викентий Петрович только изредка уезжал в имение, князей Юсуповых, зато обязательно привозил оттуда что-нибудь съестное.
По утрам, когда Лера уходила в школу, Талиб, лёжа в своей роскошной постели, читал книги про путешествия и приключения. Особенно ему нравился
Жюль Верн. «Дети капитана Гранта» он прочёл за один день и тут же принялся рисовать карту своего собственного путешествия. Бумага, цветные карандаши и акварельные краски имелись в избытке, поэтому карта получилась красивая, хотя и не совсем правильная. «Масштаб не выдержан», — как сказал об этом профессор.
Чтобы не терять времени даром, Викентий Петрович написал образец письма в Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и дал длинный список городов, куда эти письма следует посылать. Там было сказано, что сын кузнеца Саттара из Ташкента разыскивает своего отца и просит сообщить, нет ли среди мобилизованных царским правительством туркестанцев такого человека.
Ежедневно Лера своим аккуратным девчачьим почерком писала по нескольку таких писем, заклеивала их в красивые конверты с голубой каёмкой и относила на почту. Письма никогда не возвращались, и ни на одно из них не пришло ответа.
Зато от Пшеницына из Ташкента пришло письмо, в котором было мало утешительного. Фёдор писал, что отец всё ещё не вернулся, а на одном из допросов вскоре после отъезда Талиба бывший полицейский Рахманкул показал, что они с Усман-баем написали кузнецу Саттару, будто его сын и жена умерли от болезни живота. Название города, куда они послали письмо, Рахманкул не помнил, а Усман-бай говорил, что вообще никакого письма кузнецу Саттару он не писал. В заключение Фёдор советовал обязательно найти Ивана Мухина и скорее возвращаться обратно.
За время болезни Талиба Лера несколько раз ходила в Наркомпрод, где работал Мухин, и узнавала, не вернулся ли он из Петрограда, но там отвечали, что товарищ Мухин задерживается и когда будет, никто не знает.
Наконец Талиб вместе с Лерой вышел на улицу. Был ясный и тёплый день, какие часто бывают в Москве в конце сентября. Лера с удовольствием рассказывала ему про Кремль, про собор Василия Блаженного, про Большой театр — про все дома, мимо которых они проходили. Талиб смутно помнил, что видел эти дома в первый день своего приезда, и удивлялся, что не заметил тогда всей красоты города. Золотые купола церквей; орлы на кремлёвских башнях; похожие на чалму, макушки Василия Блаженного и особенно четвёрка лошадей над колоннадой Большого театра — всё это по-настоящему он видел в первый раз.
— Смотри, Толя, — как и большинство русских знакомых, она сразу же переделала Талиба в Толю, — это гостиница «М-метрополь», видишь, она вся избита пулями. А это М-малый театр.
Возле здания, где помещалась ВЧК, Талиб попросил Леру подождать и вошёл в подъезд.
Удрис сидел за столом, будто и не вставал из-за него с тех пор, как Талиб видел его в последний раз.
— Тебе кого, парнишка? — спросил он Талиба, на секунду оторвавшись от бумаг, лежавших на столе.
— Здравствуйте, — робко произнёс Талиб. — Я насчёт Мухина...
Голос мальчика и характерный узбекский акцент в сочетании с фамилией, на которые каждый чекист должен иметь профессиональную память, пробудили в Удрисе что-то, что заставило его всплеснуть руками и неожиданно для Талиба захохотать.
— Ишь какой буржуй стал, прямо студент или офицер! Пуговицы горят, щёки толстые, — продолжал Удрис. — Как же я не узнал тебя?
— Я болел, — ответил Талиб. — Пневмония, воспаление лёгких, значит.
— Болел! — хмыкнул Удрис. — Ты после болезни лучше вид имеешь, чем до болезни. И откуда у тебя эти буржуйские тряпки, скажи? Мы тут часто про тебя вспоминали. Пшеницын Феликсу Эдмундовичу про тебя писал, прямо за тобой следом письмо пришло. Всех бездомных ребятишек было приказано о тебе расспрашивать, а ты вот какой буржуй.
Удрис искренне радовался неожиданному появлению Талиба, а Талиб стоял насупившись.
— Я не буржуй, — сказал Талиб. — Я живу у хорошего человека. Он очень учёный, он все языки знает, какие только есть на свете.
И Талиб стал рассказывать о Викентии Петровиче, о том, как заботились о нём в доме профессора. Он рассказал и про Леру, которая стоит сейчас на улице и ждёт Талиба, она тоже очень хорошая и писала письма во все города, чтобы там отыскали отца.
Удрис слушал с интересом, но вопрос, который он задал Талибу, был весьма неожидан.
— Значит, твой профессор все языки знает? — прищурившись, спросил Удрис.
— Все, — повторил Талиб и стал перечислять: — Французский, немецкий, греческий...
Тут Талиб споткнулся, потому что не знал, какие ещё бывают языки, и, чтобы не подорвать авторитет профессора, продолжал довольно уверенно:
— Арабский, персидский, индийский, китайский. — В данный момент для Талиба не имело никакого значения, сколько языков знает Викентий Петрович.
Однако для чекиста всё это имело значение, о котором Талиб не мог и догадываться.
— Арабский и персидский знает? — спросил тот.
— Да, — твёрдо сказал Талиб.
Удрис встал из-за стола и, потирая руки, прошёлся по комнате.
— Очень ты кстати пришёл сегодня, — сказал чекист. — Очень кстати. И профессор мне сегодня кстати... Сбегай, сынок, не сочти за труд, позови своего профессора. Или лучше я машину вызову.
Такого оборота Талиб не ожидал. Он ведь точно помнил, что ни арабского, ни персидского Викентий Петрович не знает. Сболтнул, а как выкрутиться теперь — неизвестно.
— А его дома нет, — нашёлся Талиб и покраснел.
— Где же он?
— За городом, в имении князя бывшего. Как зовут, забыл. — Талиб действительно не запомнил название «Архангельское», но он прекрасно знал, что Викентий Петрович сегодня дома и ждёт их с Лерой к обеду. — Я пойду узнаю, где он.
Талиб опрометью выбежал на улицу. Лера сидела на тумбе.
Она была занята делом: играла сама с собой в крестики и нолики. Клеточки, нарисованные на тротуаре, быстро заполнялись.
— Если н-не умеешь врать, не ври, — выслушав Талиба, сказала она. — Тебе врать нельзя. У тебя лицо как переводная картинка. Пойдём, лучше я буду врать.
— П-папа сейчас в отъезде, — независимо ответила Лера на вопрос Удриса.
А дальше началось.
— Где? — спросил Удрис.
— К-кто? — в свою очередь спросила Лера.
— Твой папа.
— М-мой? — опять спросила Лера.
— Ну да, конечно, твой папа. Где он?
— С-сейчас?
— Да, сейчас.
— Т-т-точно н-н-не знаю.
— А где он может быть?
— К-кто? — невозмутимо и удивлённо опять спросила Лера.
— Твой папа! — чётко выговорил Удрис.
— М-мой? — ещё больше удивилась Лера.
— Вот Талиб говорит, что он в каком-то имении. В каком? — спросил Удрис.
— К-к-кто? — спросила Лера, и лицо её приняло такое выражение, что Удрис закрыл глаза рукой.
— Папа, — с трудом сдерживаясь, повторил Удрис.
— М-мой?
Так и продолжался этот разговор. Талиб искренне сочувствовал терпеливому чекисту, но его разбирал смех. Очень уж здорово Лера притворялась дурочкой.
Однако Удрис нашёл способ добраться до сути дела. Он стал перечислять все известные подмосковные имения и смотрел одновременно и на Леру и на Талиба.
— Значит, скорее всего, он сейчас в Архангельском? — резюмировал Ян Карлович.
— Да, — сказал Талиб. Он не выдержал.
— К-к-кто? — опять невозмутимо спросила Лера. Но Удрис уже не обращал на неё внимания»
— Сейчас вызову машину, и мы все съездим за ним. Ян Карлович стал звонить по телефону, а Талиб шепнул Лере:
— Нехорошо получается. Ведь он в Москве.
— А что д-делать? — спросила Лера. — Не надо б-было врать.
Телефон жалобно звякнул, когда Удрис швырнул трубку на тонкие рычажки.
— Ни одной свободной машины как назло! Придётся ждать.
— Вам он правда очень нужен? — с участием к огорчению Яна Карловича спросил Талиб.
— По горло! — вздохнул Удрис. — Не надо бы вас в эти дела вмешивать, играл бы с подружкой... У взрослых свои заботы — у детей свои...
Он походил по кабинету, посмотрел на ребят, стараясь, впрочем, не встретиться с немигающим взглядом Леры.
— Бумагу нам одну доставили, — после некоторого раздумья продолжал Удрис. — Донесение или ещё что, а прочесть его не можем. Буквы, кажется, арабские, но какой язык, никто у нас не знает.
— А зачем профессора ждать? — спросил Талиб. — Я арабский немножко знаю, а персидский совсем хорошо.
— Как это? — опешил Ян Карлович. — Ты знаешь?
— Конечно, — набираясь смелости, сказал Талиб. — По-арабски я коран читать могу, а по-персидски я сначала только стихи учил, а потом, когда в Бухаре жил, и говорить хорошо научился. Персы почти так же говорят, как таджики. И пишут так же.
Наверное, Ян Карлович Удрис не поверил бы Талибу, если бы не был латышом. «Действительно, — подумал он. — Я ведь тоже в детстве знал два языка — латышский и русский. И ещё немного немецкий. Малые народы всегда тянутся к другим языкам».
— Ладно, — после некоторого раздумья сказал он. — Попробуй перевести эту бумагу. Только не смущайся, если не получится.
Ян Карлович положил перед Талибом несколько белоснежных листков. Первое, что бросалось в глаза, — удивительно стройные и аккуратные строчки.
— Н-ну и почерк, — с завистью сказала Лера, заглянув в бумаги через плечо Талиба.
— Это пишущая машинка, — сказал Удрис.
Талиб стал читать. Текст был персидский, но встречалось много трудных слов.
— «Ваша замечательность...» — начал переводить Талиб.
— «Ваше превосходительство», наверно, — заметил про себя Удрис.
— «...спешу отправить эти бумаги с оказией, ибо не знаю, когда представится другой случай. Акции уральских заводов мной куплены у второстепенных держателей, которые...» — с трудом подбирая слова, продолжал Талиб.
Но Удрису всё было понятно. Он делал какие-то пометки для себя, просил повторить то или иное слово, особенно названия. Чаще это были фамилии: Рембрандт, Брюллов, Ренуар, Ван-Гог.
— Это художники, — ответил Ян Карлович на немой вопрос Талиба. — Художники, картины которых скупает тот, кто пишет письмо. Он скупает акции старых предприятий в надежде на то, что вернётся капитализм и их можно будет продать. Но поскольку он не вполне верит в это, то скупает картины, драгоценные камни, золото, фарфор.
— А кто этот человек? — спросил Талиб.
— Персидский подданный Али Аббас-оглы, — сказал Удрис. — Мы подозревали его в шпионаже, а он просто спекулянт, наживается на трудностях. Дальше можно не переводить. Всё ясно.
Но Талибу и самому было интересно, да и Лера к тому же попросила:
— Переводи. Ты очень хорошо п-переводишь. Талиб продолжал. В письме были сведения о ценах на предметы искусства, поручения к разным людям и указания, кому следует дать взятку и какую именно. «Господину генералу Виккерсу прошу передать клинок местной работы, который вполне можно выдать за дамасский, если стереть клеймо, поставленное не в меру честолюбивым автором. Супруге господина Милмана можно подарить одну из маленьких икон...» — писал неведомый Талибу персидский подданный Али Аббас-оглы.
— А что вы с ним будете делать? — спросил Талиб.
— Ничего, — ответил Удрис. — Ценности конфискуем, если он ещё не успел сплавить, а самого вышлем на все четыре капиталистические стороны.
— Если клинок найдёте, можно мне будет его посмотреть? — не очень уверенно попросил Талиб.
— Если найдём, можем и показать, — сказал Уд-рис — Ты ведь нам помог отчасти. Только зачем тебе?
Талиб не знал, как ответить. Не хотелось рассказывать о том, что отец когда-то сделал настоящий дамасский клинок и даже написал на нём «Дамаск», хотя ковал его в Ташкенте.
— У него отец тоже клинки д-делает, — к неудовольствию Талиба, вмешалась Лера. — Он, наверно, д-думает, а вдруг отец...
— Как зовут твоего отца? — спросил Удрис.
— Мастер Саттар, — неохотно ответил Талиб.
— Хорошо, посмотрим. А теперь, ребята, идите. Время дорого.
Удрис вышел с ними к подъезду и, поблагодарив обоих за помощь, велел заходить денька через два.
— А как насчёт Мухина? — напомнил Талиб о цели своего прихода.
Ян Карлович ужасно смутился и стал просить извинения, что совсем об этом забыл.
— Завтра узнаю, — сказал он. — Обязательно всё узнаю. Если Мухин приехал, немедленно сообщу. Дайка адрес твой запишу.
Солнце перевалило за полдень, небо было ясное, стало ещё теплее, чем было два часа назад.
— Есть х-хочется, — сказала Лера.
— И мне, — кивнул Талиб.
— Знаешь, Толя, у тебя всё в жизни будет хорошо.
— Почему? — спросил Талиб.
— Потому что ты — удивительный! — совсем не заикаясь, сказала Лера.
Талиб лукаво посмотрел на неё.
— К-к-к-кто? — спросил он.
* * *
На этот раз кабинет Яна Карловича показался Талибу маленьким и тесным. Кроме того, несмотря на ясный полдень, здесь царил полумрак. У окна, засунув руки в карманы морского бушлата, стоял человек невероятной вышины и к тому же очень широкий в плечах.
— Иван Мухин. — Он протянул Талибу руку и сделал шаг навстречу.
В кабинете сразу стало светлее, и Талиб увидел лицо, какое только и могло быть у такого великана. Нос, рот, брови и глаза — всё было крупное, словно сделанное по заказу к росту этого человека. И голос у него был басовитый и уверенный.
— Как там Фёдор Егорыч наш? — спросил Мухин. — Всё кашляет? Ему бы в деревне жить, как говорится, зелёная трава, синяя вода и белые гуси... Курит? Я же говорил ему, от этого весь вред. От царизма и от курева...
Талиб как мог рассказал о Пшеницыне, о том, как познакомился с ним и как тот помог ему.
Оказалось, что Мухин — рабочий-стеклодув из небольшого городка — вместе с Пшеницыным был на каторге. Именно Фёдор рассказал молодому рабочему парню, осуждённому за покушение на полицмейстера, о трудах Маркса и Ленина, о роли пролетариата, об идеях коммунизма.
— Это Фёдор Егорович мне ума вложил, объяснил, что главное — организация и система! — басил Мухин. — В каждом деле организация — главное. Вот возьми меня...
Он принадлежал к тому весьма распространённому типу людей, которые очень хотят рассказать другим всё, что знают сами. Талиб смотрел на него с удивлением, и Мухин расценил этот взгляд как проявление интереса к высказанным им мыслям о значении организаторской работы.
— Или, к примеру, возьми Наркомпрод. Это Народный комиссариат продовольствия. Что может быть важнее, чем организация продовольственного снабжения городов революционной России? Скажи, что важнее? Организация и система!
Ян Карлович долго не вмешивался в их разговор, вернее, долго не прерывал Мухина. Наконец он сказал:
— Погоди, товарищ Мухин. Давай лучше обсудим текущий вопрос.
— Точно! — спохватился тот. Мухин имел поразительную для человека такой комплекции подвижность. Он сразу же оказался в другом конце комнаты и достал из маленького портфеля карту железных дорог России. — Я думаю так. Поиски твоего отца надо вести по двум линиям, по двум системам. Одна линия — губ-комы, другая — железные дороги. Организация...
— Погоди, погоди, — опять остановил его уравновешенный Удрис. — У меня для Толи новости есть. Помолчи, пожалуйста. Если тебе не очень трудно, убери карту.
Мухин не обиделся, уложил карту в свой портфель и присел к столу.
Удрис, не вставая, пошарил у себя за спиной и вытащил длинный предмет, завёрнутый в тряпку.
— Али Аббас-оглы отдал нам её без всякого сожаления, — сказал Ян Карлович Талибу. — Но для тебя это, кажется, очень важно.
У мальчика сразу пересохло в горле. Он с волнением смотрел, как Удрис разматывает тряпку, как сверкает на свету полированная сталь клинка.
— Смотри. Узнаёшь? — Ян Карлович положил клинок на протянутые ладони Талиба.
Как и в квартире Бекасова, как в школе, где была выставка старинного оружия, Талиб не мог выговорить ни слова. Сверкание тяжёлой стали завораживало его.
Но это был совсем другой клинок. Может быть, сталь его сверкала не хуже и так же отливала золотом, но узоры были совсем другие. Клинок был, наверно, красивее, чем тот, который ковал мастер Саттар. Оставалось посмотреть клеймо.
Почти такое же, как на клинке отца, оно всё же явно отличалось от него. Буквы на нём вдвое меньше, а слов больше. Разобрать их без увеличительного стекла трудно. В том месте, где на отцовском клейме стояло слово «Дамаск», были четыре буквы.
— «Ту-ла», — по слогам шёпотом прочёл Талиб. Эти буквы были крупнее других.
Удрис и Мухин молча смотрели на Талиба и ждали, что он скажет.
— Это другой мастер делал, — дрожащим голосом сказал Талиб и бережно протянул клинок Удрису. — Здесь рисунок не тот и клеймо тоже.
Однако Удрис не торопился брать саблю из его рук.
— А ты не ошибаешься, сынок? — с сомнением спросил он.
— Нет! — ответил Талиб. — Там написано слово «Ту-ла».
— Тула? — удивлённо забасил Иван. — Тульский, значит, клинок.
Он склонился над саблей и с сомнением добавил:
— Какая же это Тула? Тут невесть что написано...
— Есть у тебя увеличительное стекло? — вмешался Мухин и, вскочив со стула, опять загородил единственное окно. — До конца надо выяснить.
Удрис уже протягивал Талибу лупу.
— Читай внимательно. Мне самому интересно. А ты, Мухин, отойди от света, не стеклянный.
Сначала мутно — не в фокусе, — потом чётко перед Талибом возникли слова: «Друг мастера Сазона мастер Саттар ученик мастера Рахима. Тула».
Он несколько раз перечитал слова, всё было правильно: «мастер Саттар ученик мастера Рахима...»
— А почему здесь «Ту-ла»? — спросил Талиб.
— Город это. Понимаешь, город! — радостно воскликнул Мухин. — Там знаменитые кузнецы живут, блоху подковали, слышал?
— Далеко эта Ту-ла? — спросил Талиб.
— Не очень, — ответил Мухин. — Вёрст двести.
— Я поеду туда, — сказал Талиб.
— Правильно! — сказал Мухин.
— Погодите, — в который уже раз сегодня произнёс это слово уравновешенный Удрис. — Надо спешить не торопясь. Сядьте все, обсудим. Мы установили, что клеймо твоего отца, но мы не знаем, где он.
— В Туле, — пробасил Мухин. — Как божий день ясно.
Талибу это тоже казалось бесспорным, но Удрис рассудил иначе.
— Во-первых, — сказал он Талибу, — я никуда тебя не отпущу без провожатого. Во-вторых, Тула — город большой, и человека, тем более приезжего, найти там трудно, а в-третьих, с чего вы взяли, что мастер Саттар в Туле?
Мухин опять вскочил с места.
— Русским же языком сказано, что в Туле.
— Во-первых, Мухин, не русским, — опять начал перечисление невозмутимый латыш. — Во-вторых, скажи мне, Толя, что было написано раньше на том месте, где сейчас написано «Тула».
— «Дамаск», — ответил Талиб.
— Вот видишь. Выходит, что за твоим отцом в Сирию надо было ехать, когда он в Ташкенте тот клинок ковал. Я тоже предполагаю, что нужно искать в Туле, но я пред-по-ла-га-ю. Я наведу справки по своей линии, Мухин пусть запросит продкомиссара, у них учёт хороший, а ты, Толя, поживи пока у профессора. Тебе там, кажется, не скучно.
Вряд ли Удрису удалось бы уговорить мальчика не ехать немедленно в Тулу, но ведь именно он, Ян Карлович, заставил Талиба прочесть слова на клейме, кроме того, действительно, надпись «Дамаск» отец поставил в Ташкенте, и бесполезно было бы искать мастера Саттара в Сирии.
Глава шестнадцатая
ЧУВСТВА ДОБРЫЕ
Река Упа, отделяющая старинный тульский кремль от бывшего Императорского оружейного завода, казалась неподвижной. Так бывает в хмурые, но безветренные дни поздней осени, когда небо гладкое и серое, когда ни один луч солнца не пробивается сквозь пелену облаков.
Редкие снежинки почти отвесно падали в чёрную воду.
На одной из тихих заречных улиц, где со времён Петра Первого, ещё с семнадцатого века, жили мастера-оружейники, собранные царским любимцем Никитой Демидовым, в этот день произошло событие, никак не отражённое даже в самых тщательных летописях старинного русского города. Да оно, по правде сказать, и не было достойно того, чтобы войти в летопись. Слишком часто случаются такие вещи. Однако как хорошо, что они случаются часто.
Снег, павший на ещё зелёную траву, растущую вдоль заборов и палисадников, не таял. Длинная лужа посреди дороги покрылась прочным ледком, и одинокий прохожий — белый гусь — разочарованно отвернулся от неё и побрёл обратно в калитку возле избы под высокой железной крышей.
Возможно, это был последний гусь в голодном городе. Во всяком случае, на этой улице он был единственный.
— Затвори калитку, Зинаида! — крикнул мужчина из глубины двора. — Сопрут лебедя.
Калитка захлопнулась, и на улице опять стало пустынно.
Хозяин дома, кряжистый, хмурого вида, небритый человек лет сорока, вошёл в дом, плотно затворил за собой дверь, снял тужурку и остался в чёрной косоворотке.
— Хорошо, что дровишки есть, — сказал он тощему человеку в гимнастёрке, стоявшему спиной к двери у слесарных тисков. — Брось, надоело.
Человек у тисков ничего не ответил. Он насекал зубчики на крохотных колёсиках для зажигалок.
— Брось, Саша. Не наше это дело, подработали на воблу, и будет.
Разговор о вобле был неслучаен. Связка сухой рыбы лежала на столе.
Тот, кого звали Сашей, отошёл от тисков и, громыхая стержнем медного рукомойника, стал умываться. Это был невысокий щуплый человек, очень смуглый и черноглазый. Передвигаясь по комнате, он слегка хромал.
— Я, Сазон, никогда не смогу отплатить тебе за всё, что ты сделал для меня, — сказал он с заметным нерусским акцентом.
— Ладно, — ответил хозяин. — А если бы я в Ташкенте оказался, ты б меня не приютил?
— Как брата! — ответил худой человек в гимнастёрке.
— И весь разговор, — заключил Сазон. — Давай картошку, Зинаида.
Жена хозяина поставила на стол чугун с дымящейся картошкой и пригласила мужчин к столу.
— Ты, Саттар Каримович, не гость у нас, — сказала Зинаида Сергеевна. Она была очень внимательной и, пожалуй, одна во всей Туле выучила трудное имя-отчество постояльца.
За два года жизни в Туле кузнец Саттар кое-как выучился говорить по-русски, но сторонился своих новых товарищей. Вначале он жил в казарме, потом перешёл на квартиру к потомственному оружейнику и кузнецу, бездетному Сазону Матвеевичу Сазонову, занимавшемуся в мирное время изготовлением охотничьих ножей для Императорского общества охоты.
Факт этот вызвал удивление, ибо Сазон Матвеевич Сазонов слыл не только великим мастером своего дела, но и хмурым нелюдимом. Говорили, что когда он куёт свои знаменитые медвежьи ножи и кабаньи кинжалы, то никого не пускает в домовую кузню, а закалку производит только в избе, причём обязательно закрывает ставни и жену спроваживает к соседям. Насчёт жены это была, конечно, выдумка, а что секреты своего мастерства Сазон Матвеевич никому не открывал — это точно.
И вдруг какому-то приезжему, не то турку, не то киргизу, пожалуйте: душа нараспашку, и в дом пустил, и на заводе всегда вместе. Это тем более удивляло, что приезжий был сослан под надзор полиции, а Сазон Матвеевич смутьянов вроде бы не жаловал.
В сопроводительной бумаге, следующей повсюду за кузнецом Саттаром, говорилось, что сей туркестанский житель — искусный кузнец и его надобно использовать в оружейном деле. Врачи настаивали на возвращении мобилизованного по болезни, но приписка о политической неблагонадёжности, сделанная ташкентским полицмейстером, решила судьбу кузнеца: он попал в Тулу.
Однажды, задержавшись после работы, молчаливый черноглазый кузнец занялся изготовлением кривого азиатского ножа и так этим увлёкся, что не заметил мастера Сазона Матвеевича, зорко за ним наб\юдав-шего. С этого началось.
А потом они всегда задерживались в цехе, вместе ходили в литейку, что-то плавили в десятифунтовом тигле, после работы шли домой к Сазонову, и Саттар не всегда возвращался ночевать в казарму. После Февральской революции надзор с кузнеца Саттара был снят, и он переехал на жительство к своему новому другу.
Эти два мастера воплощали в себе две древние школы кузнецов-оружейников, и счастье их состояло в том, что они встретились и могли обогатить друг друга.
Несколько медвежьих ножей, изготовленных новым способом, были проданы через сазоновских дружков в Питер и в Москву, но потом сбыт прекратился, ибо богатой клиентуре из числа членов Императорского общества охоты было теперь не до медведей. Сабельный клинок, сделанный мастером Саттаром из литого булата, был продан буквально за несколько дней до Октябрьской резолюции. Постепенно оба мастера переключились на изготовление калёных колёсиков для зажигалок, и это никчёмное дело очень им обоим не нравилось.
— Горох, конечно, можно было посеять, — отвечал жене Сазон Матвеевич. — Только без картошки-капусты тоже не обойтись.
— А Любашка посеяла и не промахнулась, — возражала та.
Речь шла об их соседке, которую Зинаида Сергеевна с женской заботливостью прочила в невесты Саттару Каримовичу.
— Любашка — умница. На огороде возле дома горох посеяла, а в пойме на участке — картошку и капусту, — продолжала она, ожидая поддержки от мужа.
И тот клюнул, как пескарь на червяка.
— Вот, Саша, девка — огонь. Женился бы на ней. Снова бы семью завёл, ещё бы сына родил...
Не стоило затевать этот разговор, потому что кузнец Саттар, и без того грустный сегодня, ещё больше помрачнел.
— Хватит, — сказал он. — Если мешаю вам, на другую квартиру перейду.
— Никто тебя не гонит, — тоже обидевшись, возразил Сазон Матвеевич. — Смотреть на тебя тягостно. Может, ты ещё разок в Ташкент напишешь? Может, ошибка какая? Может, злые люди наврали?
— Нет, — сказал отец Талиба. — Ошибки быть не может. В прошлом году я много раз писал, никакого, ответа, а в этом пришло письмо. И жена, и сын, и брат жены — все. Да что письмо! Если хоть один был бы жив, ответил бы. Они у меня все грамотные были.
Сазон Матвеевич крякнул и сердито взглянул на жену. Это из-за неё начался разговор, закончившийся так мрачно.
— Ладно, — сказал он и, встав, достал из шкафчика бутылку с мутноватой жидкостью. — Выпьем. Может, веселее будет.
От выпивки веселее не стало, но они продолжали пить, закусывали воблой, предварительно колотя её о тиски, чтобы была мягче.
На дворе темнело, в доме были уже глубокие сумерки, но огня не зажигали.
— Слышишь, Зинаида, во дворе шум. Погляди, не залез ли кто. Сопрут лебедя.
Сазон Матвеевич упорно называл своего гуся лебедем. В этом была насмешка над важной птицей, которую супруги берегли на рождество.
Зинаида Сергеевна вернулась с человеком в папахе и длинной кавалерийской шинели. На боку у него висела офицерская полевая сумка.
— Мастер Сазон Сазонов вы будете? — спросил вошедший и покосился на остатки выпивки и рыбьи скелеты.
— Ну я, — хмуро ответил Сазон Матвеевич.
— Здравствуйте, — сказал человек.
— Если не шутите, — ответил хозяин дома. Он был уже под хмельком и немного куражился. — Затем и пришли, чтобы здравствоваться, или, случайно, дело есть?
— А вы не из Ташкента? — спросил вошедший, повернувшись к Саттару.
— Да, — кивнул тот.
Вошедший расстегнул пряжку полевой сумки и вытянул жёлтенькую бумажку.
— Кузнец Саттар, сын Каримов из Ташкента? — ещё раз повторил он свой вопрос и добавил: — Вас разыскивает ваш сын Талиб. В настоящее время он находится по адресу: Москва, Пятницкая улица, Черниговский переулок, дом четыре, квартира тридцать шесть. Если желаете, можете поехать со мной сегодня в ночь. Тогда нужно немедленно собираться.
Всё это он выговорил чётко и спокойно, как человек, выполняющий задание вышестоящего начальства. От себя добавил только одно слово:
— Вот!
Через пять минут мужчины уже сидели за столом, пили, ели и разговаривали.
К сожалению, гость ничего не мог добавить. Пришло, мол, указание из Наркомпрода, подписано Мухиным. Почему из Наркомпрода, он не знает. Знает только, что Мухин — лицо известное, бывший п©лит-каторжанин и зря писать не будет.
Сазон Матвеевич куда-то услал свою жену. Она вернулась, когда вечерний гость и кузнец Саттар были одеты и собирались выйти на улицу. В руках Зинаиды Сергеевны был тяжёлый свёрток.
— Возьми, Саттар Каримович.
— Что это? — удивился тот.
— Лебедь, — сказал Сазонов. — Гусь, значит. Возможно, это был последний гусь в Туле. Во всяком случае, на той тихой улице он был единственный.
* * *
Каждый человек по-своему переживает радости и несчастья.
Кузнецу Саттару понадобилось несколько дней, чтобы осознать те неожиданные перемены в его, казалось бы, конченой судьбе, которые принёс вечерний гость в длинной кавалерийской шинели. Медленно и постепенно оттаивало его замёрзшее сердце, медленно и постепенно просыпался в нём интерес к жизни.
Вероятно, нужно было бы сразу ехать в Ташкент, домой, но на другой день по приезде в Москву, когда в квартире на седьмом этаже отмечалась встреча отца с сыном, когда пришёл весёлый Иван Мухин и даже Ян Карлович Удрис нашёл время, чтобы заглянуть сюда, стало ясно, что выехать в Ташкент не так-то уж легко, как казалось вначале. Прямого сообщения не было, а отпускать их в сутолоку и неразбериху, в тиф и голод не хотел ни спокойный и решительный латыш, ни, казалось бы, бесшабашный и увлекающийся Мухин.
— Пропадёте вы в этой каше, — сказал Иван Михайлович. — А мне от Фёдора влетит. Куда спешить. Есть надежда, что сразу после праздника будет поезд особого назначения. Организацию я беру на себя.
— Какой праздник? — спросил Талиб.
— Первая годовщина Октября, — ответил Мухин. — Первая! Потом будут праздновать десятую и тысячную, годовщину, а эта самая первая.
Талибу тоже хотелось скорее домой, но и у Заку-довских ему жилось неплохо. Книги в библиотеке профессора были замечательные. Русские Талиб читал, а в иностранных смотрел картинки. Его интересовало всё: и толстые тома, целиком посвящённые жизни животных, и книги, где были изображены египетские пирамиды, какие-то дворцы с колоннами, и, конечно, детские книжки из Лериной библиотеки.
Если бы не отец, Талиб согласился бы провести здесь всю зиму.
Викентий Петрович отвёл для них отдельную комнату, и отец вначале редко выходил оттуда. Талиб рассказывал ему о своих приключениях и не мог понять, почему отец вдруг отворачивался или уходил на кухню.
«Ведь всё кончилось хорошо, почему же отец так часто тайком утирает слёзы, почему не радуется со мной вместе счастливому исходу?» — думал Талиб, не понимая, что отец переживает заново и смерть матери, и муки сына, бухарскую тюрьму и службу поводырём у слепого нищего.
Долго Талиб не хотел заговаривать о тетради своего дедушки — мастера Рахима, боясь, что эти воспоминания особенно огорчат отца. Но Талиб ошибся. Именно с тетрадки и начался перелом в его настроении. Отец взял её без всякого интереса, потом увлёкся чтением, делал какие-то пометки на полях, иногда улыбался про себя, вспоминая что-то далёкое и приятное.
— Ты знаешь, почему они ничего не нашли по этой тетрадке? — спросил он однажды сына.
— Наверно, потому, что не могли понять, где надо искать.
— Нет, — ответил отец. — Потому, что они слишком жадные. Тут всё написано очень ясно. Они искали золото.
— Конечно, — сказал Талиб, всё ещё не понимая того, что говорит отец. — Конечно, они искали золото,
— А в тетрадке сказано, где искать железо, — объяснил отец. — Понимаешь, железо? Железо для жизни важнее золота. Здесь прямо сказано: «для тех, кто не утратил мастерства, для тех, кто умеет делать лёгкие гибкие сабли и тяжёлые мотыги, звонкие подковы и драгоценные кинжалы». Даже самый драгоценный кинжал нельзя сделать без хорошей стали. Жадность застилала им глаза. Они же бездельники, а давно известно: лодырь тянется к золоту, а работящий человек к железу. Вот наше золото! — Отец, как когда-то в Ташкенте, показал Талибу свои чёрные, загрубелые от работы ладони и впервые за эти дни рассмеялся.
В этот день отец вышел погулять по Москве вместе с Талибом и Лерой. Они осмотрели Красную площадь и зашли в Московский университет, где в холодной и полупустой аудитории Викентий Петрович читал лекцию о расцвете античного искусства. Вечером отец был разговорчив, шутил, и Талиб решился задать ему вопрос, который давно его волновал.
— Папа, — сказал Талиб, — почему на ташкентской сабле стояло слово «Дамаск» а на тульской — «Тула»?
— А другой разницы ты не заметил? — в свою очередь заинтересовался кузнец.
— Заметил, — сказал Талиб. — Мне даже показалось, что тульский клинок красивее.
— Не только красивее, сынок, но и много лучше. То был кованый булат, а это литой. Тот был полосатый, а этот сетчатый. Понял?
— Понял, — стесняясь отца, ответил Талиб, хотя ответа на свой вопрос он всё же не получил.
Но кузнец продолжал:
— «Дамаск» не обязательно значит место. Это — качество. Был клинок не хуже дамасского, я написал: «Дамаск». Научился по-новому делать, стал писать: «Тула». Если ты станешь кузнецом и научишься в Ташкенте делать клинки ещё лучше, обязательно пиши: «Ташкент».
— Товарищ Мухин говорил, что з-завтра на Красной площади будет д-демонстрация. — Лера называла Ивана Михайловича только по фамилии, так же как и её отец. — Товарищ Мухин, нельзя ли нам туда п-попасть?
— Всем четверым? — уточнил Мухин. — Это мы организуем.
И действительно, утром седьмого ноября Мухин зашёл за ними.
Распорядители с красными повязками на рукавах пальто и шинелей с удивлением смотрели на пятерых очень не похожих друг на друга людей.
Мухина пропускали везде, и они встали недалеко от картины, изображающей женщину с белыми крыльями и веткой в руке.
— Это мемориальная доска в память павших за революцию ровно год назад, — объяснил Викентий Петрович. — В октябре семнадцатого.
«А что было со мной год назад?» — подумал Талиб. Он вспомнил смерть матери, похороны, стрельбу на улицах Ташкента, свою сиротскую жизнь. Видимо, и кузнец Саттар подумал о том, что было с ним год назад, и потому легонько обнял сына...
По Красной площади тяжёлыми рядами шли солдаты и рабочие. Проходя мимо братских могил возле Кремля, они обнажали головы и склоняли знамёна. Оркестр играл траурные марши.
Никогда Талиб не видел такого огромного количества людей сразу, в одном месте. Тысячи, десятки и даже сотни тысяч москвичей вышли на праздник первой годовщины Октября... Площадь кипела, и все взоры были обращены туда, где на невысоком деревянном помосте стояла маленькая группка людей в пальто, кожаных куртках и шинелях. Эти люди ничем не отличались от тех, кто шёл по площади. И те, на помосте, и эти, идущие вдоль стен Кремля, были одинаково взволнованы, радостны, одинаково весело махали руками, приветствуя друг друга.
Над головами демонстрантов время от времени появлялись неуклюжие фанерные фигуры: то это был грузчик с мешком, то булочник с караваем хлеба, то кузнец с молотом.
«Значит, это грузчики идут, — догадывался Талиб, — а это пекари, а это кузнецы».
Когда проходили рабочие стекольного завода, Мухин подбежал к их колонне и вместе с ней исчез за храмом Василия Блаженного. И вдруг Талиб вздрогнул. Он увидел что-то напомнившее ему Бухару. На булыжник площади, громыхая, вкатились телеги, на которых сидели оборванные люди, закованные в тяжёлые цепи. Вид их был ужасен.
— Что это? — с тревогой спросил Талиб у Викентия Петровича.
— Они изображают свою прошлую рабскую жизнь. То, что никогда не вернётся... Посмотри, видишь ту женщину с разорванными цепями — это Свобода. Аллегория, — сказал Викентий Петрович. Он часто употреблял непонятные Талибу слова.
— Красной Пресне привет! — крикнул демонстрантам невысокий широкоплечий человек, стоящий на помосте.
— Ура! — подхватила в ответ Красная площадь.
— А это кто? — спросил Талиб у Леры.
— Разве т-ты не узнал? Это же Ленин!
Ленин смеялся и говорил что-то человеку в кожаной куртке и фуражке, издали чем-то походившему на Фёдора Пшеницына. Этого человека Талиб приметил давно, а вот на Ленина как-то вначале не обратил внимания.
— Он весёлый, — сказал Талиб. — Он немножко на узбека похож.
— У него глаза как у тебя, — ответила Лера, чтобы сделать Талибу приятное.
— А кто это в кожаной куртке?
— Это Свердлов.
— Ленин из Москвы или из Петрограда? — спросил Талиб.
— Помнится, он учился в Казанском университете, правовед, — сказал Викентий Петрович.
— А Казань далеко от Т-ташкента? — спросила Лера. Удивительно, до чего плохо она знала географию.
Они не дождались конца демонстрации и пошли смотреть праздничный наряд столицы. Даже Викентий Петрович удивился всему, что увидел в этот день. Тысячи художников-добровольцев трудились над украшением московских улиц и площадей.
В сквере перед Большим театром дорожки были посыпаны синькой, а совершенно голые зимние деревья вдруг распустились сказочным бледно-лиловым цветом: их искусно укутали кисеёй. Над площадью от здания к зданию, от фонаря к фонарю была развешана красная бахрома. А на гостинице «Метрополь» висела огромная картина — рабочий с факелом знания в высоко поднятой руке. В Охотном ряду вместо угрюмых, пропахших рыбой торговых палаток неизвестно откуда появились цветастые фанерные домики с фанерными же подсолнухами выше крыши.
— Эклектично, но весело, — говорил учёные слова Викентий Петрович. — Футуризм с примитивизмом.
Взрослые собрались уже повернуть назад, но Талиб и Лера потянули их на Тверскую. Викентий Петрович сказал, что они дойдут только до бульвара, отдохнут и домой.
— Это гостиница... Это здание Московского Совета... Это Страстной монастырь, — говорила Лера по мере того, как они навстречу мощному потоку шли вверх по Тверской.
— А это кто? — указал Талиб на бронзовую фигуру в глубине бульвара, почти напротив Страстного монастыря.
— Н-неужели н-не знаешь? Это Пушкин.
— Пушкин, — не очень уверенно повторил Талиб, силясь вспомнить, где он слышал это имя.
— Там есть скамейки, можно отдохнуть, — сказал Викентий Петрович отцу Талиба.
Стараясь не помешать проходящим колоннам, они перебежали Тверскую и оказались на бульваре.
Пушкин стоял в узких брюках, с непокрытой головой. Над ним в разрывах снежных облаков голубело ноябрьское небо.
— Кто это, сынок? — по-узбекски спросил у Талиба отец.-
— Это Пушкин, говорят, но я забыл, кто он такой. Знал и забыл, — тоже по-узбекски ответил Талиб.
— Папа, — предательски заявила Лера, чутьём поняв узбекскую фразу, — а Талиб не знает, кто такой Пушкин.
— Знаю я, — огрызнулся Талиб и неожиданно вспомнил слова генерала Бекасова. — Не ври. Он ещё сказал, что народ молчит. Нет не молчит — без-мол-вству-ет.
— Вы подумайте, какая память! — восхитился Викентий Петрович. — Откуда ты это знаешь?
Мастер Саттар, профессор Закудовский и Лера стояли у памятника Пушкину и слушали рассказ Талиба про Фёдора Пшеницына, про коллекцию старинного оружия и про седого старичка, повторявшего эти непонятные Талибу слова.
— Пушкин — великий поэт, как Омар Хайям, Навои или Гафиз, — сказал Викентий Петрович. — Он написал много стихов, поэм, трагедий и рассказов. Конечно, каждый вспоминает у Пушкина то, что ему больше по душе, но мне нравятся другие строки, запомни их:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Взрослые сели на скамейку, а Лера и Талиб стояли, задрав головы, и смотрели Пушкину в лицо. Десятки раз проходила Лера мимо этого памятника, но сегодня впервые хорошенько разглядела его.
— Как ты думаешь, он к-красивый? — спросила Лера.
— Ты знаешь эти стихи?.. — начал Талиб.
— Конечно. Папа их любит, особенно две последние строчки: «Что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». — Она никогда не заикалась, читая книжку или стихотворение.
— Спасибо, — сказал Талиб. — Ты потом мне их перепиши. Ладно?
А про себя он подумал: «Хороший, наверно, был человек этот Пушкин».
Мастер Саттар и Викентий Петрович отдохнули или замёрзли, во всяком случае, они встали со скамейки, и все двинулись в обратный путь.
— Пушкин когда жил? — спросил Талиб у Викентия Петровича.
— Эти стихи он написал восемьдесят два года назад.
— Хороший был человек, — вслух сказал Талиб то, о чём думал, стоя у памятника.
Они сразу попали в людской поток, влекущий их к Красной площади. Люди шли радостные и возбуждённые, они пели песни, несли кумачовые лозунги и шёлковые знамёна. Где-то сзади духовой оркестр заиграл «Марсельезу».
Талиб оглянулся. Над трубами оркестра колыхалось полотнище с золотыми буквами: «Не трудящийся да не ест». На розовой стене Страстного монастыря было написано: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». А на здании Московского Совета среди ёлочных гирлянд, украшенных звёздами, висел плакат: «Пролетарию нечего терять, кроме цепей, приобретёт же он весь мир!»
Через несколько дней после демонстрации Иван Мухин постучал в дверь квартиры номер тридцать шесть дома номер четыре по Черниговскому переулку.
— Карета подана, — пробасил он, явно довольный собственной оперативностью. — Прошу не тянуть волынку.
У подъезда стоял грузовой автомобиль с молоденьким шофёром в меховой шапке и меховых рукавицах. Автомобиль тарахтел, потому что шофёр не глушил двигателя, боясь, что не сможет его завести.
Несколько мальчишек с завистью смотрели на людей, вышедших из подъезда и по-хозяйски разместившихся в автомобиле.
Шофёр нажал резиновую грушу, торчавшую возле дверцы, пискнул рожок, едва слышимый сквозь треск мотора, и грузовик, пуская клубы синего дыма, свернул на Пятницкую улицу.
Поезд уже стоял у перрона.
— Куда? — остановил Мухина вооружённый наганом вислоусый проводник. — Не видишь, поезд особого назначения.
— У нас тоже особое, — ухмыльнулся Мухин и сунул под нос проводнику какую-то бумажку с печатью.
В вагоне было тепло и уютно.
Талиб с отцом заняли две полки, положив на одну связку книг, на другую скатанное одеяло, и вышли к провожающим.
Трудно пересказать всё, о чём в минуты, оставшиеся до отправления поезда, говорили Талиб и Лера, Викентий Петрович Закудовский, кузнец Саттар и уполномоченный Наркомпрода Иван Мухин. Но дело не в словах. Не всё ими можно выразить.
Когда звякнул вокзальный колокол и проводник предложил отъезжающим войти в вагон, профессор сказал, что будет всегда рад видеть в Москве Талиба и его отца, что он надеется на лучшее, ибо, как сказал какой-то мудрец, в мире больше хорошего, чем плохого.
Мухин сказал, что на дороге ещё много всякого безобразия, но поезд охраняется, документы у них правильные, Удрис всё оформил, начальник поезда парень толковый, и всё будет как в аптеке.
Лера, вопреки своему обыкновению, в этот раз говорила мало, а когда Талиб встал на подножку, вдруг подбежала к нему и поцеловала в щёку.
Глава, которая
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
По совести сказать, до последнего времени я не знал точно и подробно, что сталось с героями моей повести и где они сейчас.
Говорили, что Талиб по возвращении в Ташкент организовал на улице Оружейников первую комсомольскую ячейку, а потом уехал в Ленинград учиться на геолога. Году, кажется, в двадцать седьмом или двадцать восьмом вместе с женой Валерией он приезжал в Ташкент хоронить отца и опять уехал на несколько лет.
Года два назад я зашёл к моему приятелю, который живёт недалеко от улицы Оружейников, поговорил со старожилами, встретился и с Тахиром, тем самым, что был почтальоном в первые годы Советской власти. Теперь его почтительно зовут Тахир-ата. Он ещё крепкий старик, с прямой спиной и с густыми седыми усами.
Мы пошли в чайхану на углу улицы Оружейников и, пока молодой чайханщик готовил нам плов с айвой и барбарисом, сидели на помосте в тени тутового дерева и разговаривали. Кто-то включил «Спидолу», и мы слушали концерт бухарских артистов.
Мимо чайханы проходили люди, вежливо кланялись моему собеседнику и прикладывали руку к сердцу.
— Это директор нашей школы, — время от времени говорил мне Тахир-ата.
— Это лётчик, на «кукурузнике» летает.
— Это доктор, хирург называется.
— Это шофёр автобуса, седьмой номер автобус.
— Этот маленький — видел? — в атомном институте работает.
Он знал всех на этой улице и о многих мог бы рассказать. Но сейчас мысли старика были заняты другим.
— Вот интересно, — сказал он. — Я всю жизнь из Ташкента никуда не выезжал, семьдесят восемь лет прожил на одной улице, а другим везёт. Значит, так на роду написано. Талибджан, например, ещё маленький был, но и старую Бухару узнал, и в Москве побывал.
— А где сейчас он? — спросил я.
— Не знаю, — ответил старик. — Последний раз он был здесь, когда бухарский газ довели до Самарканда, он на митинге выступал. Я его в этой самой чайхане по радио слушал. Тогда «Спидолы» не было, здесь такая чёрная тарелка висела. Тоже хорошо было слышно.
— Неужели о нём так совсем ничего и не известно? — удивился я.
— Почему «совсем»? — возразил Тахир-ата. — Дети у него есть. Два мальчика и девочка. Большие уже. Про внуков не знаю, выдумывать не стану. Говорят ещё, он в Африку ездил: не то золото искал, не то нефть. А может, уголь или железо. Постоянно он нигде не живёт, работа такая.
Два молодых человека, оживлённо разговаривая, шли по противоположной стороне улицы. Они увидели старика и поклонились ему.
— Эй, Кахрамон! — окликнул старик одного из них. — Ты не знаешь, где наш уважаемый Талиб Саттарович?
— В Сибири он сейчас. Раньше был начальником, теперь консультант. Он же старый уже, ему трудно начальником.
— Хе, — сказал мне Тахир-ата и укоризненно покачал головой. — Какой он старый — шестьдесят лет. Ну и молодёжь пошла! Шестьдесят лет, говорят, старый.
Он опять задумался о чём-то и добавил:
— Вот видишь, в Сибири. То Африка, то Сибирь. Я же говорю: у кого что на роду написано. Судьба!
— Или характер, — сказал я.
— Или характер, — согласился Тахир-ата. — Он характером пошёл в своего дедушку Рахима, уста-Тилля его звали. Тот тоже на месте не сидел, всё ходил, ходил, всю землю исходил и всё в тетрадку писал. Такое дело было из-за тетрадки уста-Тилля. Может, и ты слышал, дорогой?
Я кивнул.
Мне довелось видеть самодельную карту, которую составил наманганский кузнец и ювелир, геолог-самоучка уста-Тилля, мастер-Золото. Если взять его карту и сравнить её с настоящей современной геологической картой, сделанной по всем правилам науки, то на первый взгляд они мало похожи. Зато как много в них сходства, если разобраться по существу.
Почти всё, о чём сказано в тетради старого мастера, нашло подтверждение в трудах современных геологов. Железная руда есть и в бассейне реки Или, и в верховьях реки Пскем, а о железной руде в Карамазарских горах близ бывшего Ходжента (теперь это один из крупнейших городов Таджикистана — Ленинабад) академик Д. Щербаков пишет: «Перед нами открылись крупные линзы магнетита, лежащие в 25 километрах от Ленинабада.
Эти запасы позволяют практически подойти к созданию доменного производства на берегах Сыр-Дарьи.
К северу от Карамазарских гор, — пишет далее академик Д. Щербаков, — в бассейне реки Ангрен, где некогда находился Архангеран с его средневековой металлургией, теперь возникает новый крупнейший горнорудный центр Узбекистана. Тут расположено Алмалыкское месторождение медно-порфировых руд. Они добываются открытым способом, карьерами. Уже начата комплексная их переработка с извлечением других металлов. Сюда же со склонов долины и прилегающих хребтов поступают для переработки различные руды цветных металлов, плавиковый шпат. Здесь же находятся мощные карьеры ангренских бурых углей».
Об этом, кстати, тоже можно найти упоминания в заветной тетради.
Конечно, далеко не всё из того, что замечал острый взгляд геолога-самоучки, он мог правильно понять и объяснить. Откуда, например, ему было знать о том, какие огромные возможности таят в себе запасы подземного газа в районе Бухары. Но и об этом сказано в тетради.
Тогда в узбекском языке не было слова «газ», и потому — не удивляйтесь, пожалуйста, — в тетради записано так, помните?
«В ста вёрстах от благородной Бухары я видел такое, что не знаю, как сказать. Между двух барханов есть колодец, откуда запах идёт сильный. Чабаны боятся того колодца и говорят, что такой запах иногда горит, если его поджечь, и горит долго. Думаю, там может быть клад, но какой, не знаю...»
Медленно надвигался жаркий вечер. Чайханщик выложил на плоское глиняное блюдо золотистый рассыпчатый рис, сверху украсил его айвой и кусками пережаренной баранины, и мы принялись за еду.
По радио передавали из Москвы репортаж о футбольном матче между ташкентской командой «Пахтакор» и «Динамо». Победил «Пахтакор», и болельщики стали убеждать друг друга, что они это наперёд знали. Потом были последние известия.
Диктор говорил об успехах узбекских металлургов из города Беговата, о том, сколько бухарского газа за последнее полугодие получили предприятия индустриального Урала, какую новую хлопкоуборочную машину создали инженеры и рабочие завода «Ташсельмаш».
Я никогда не запоминаю цифр. Это у меня с детства. Но в тот вечер все цифры казались мне необычайно важными. Они свидетельствовали о том, что подземные клады моей родины попали в верные руки — в руки тех, кто никогда не будет при помощи богатства плодить бедность.
Да, чуть не забыл! Саблю мастера Саттара я недавно видел в музее. Говорят, она принадлежала одному из героев гражданской войны в Средней Азии Миркамилю Миршарапову. Но это не тот клинок, что хранился у генерала Бекасова, а, скорее всего, тот, что был выкован в Туле. Возможно, однако, что мастер Саттар сделал её специально для Миршарапова. Во всяком случае, узор на клинке сетчатый. Золото на чёрном.
Ташкент — Москва, 1966 год.
|