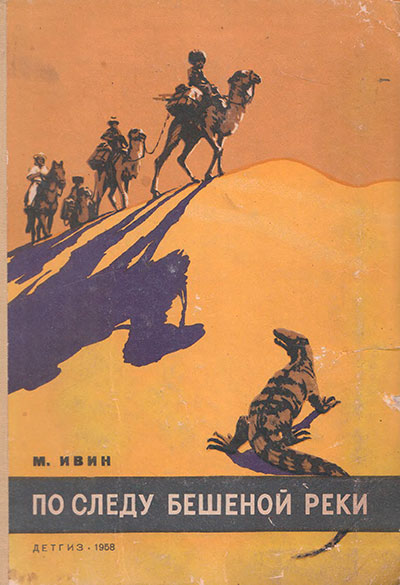Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
В книге «По следу Бешеной реки» М. Е. Ивина вы прочтёте о рядовых советских людях, которые в трудных условиях шаг за шагом исследуют жизнь пустыни.
Вы узнаете, что пустыня — не мёртвая, выжженная и иссушенная солнцем земля, что там есть свой растительный и животный мир.
Книга расскажет вам о тех загадках пустыни, которые ещё предстоит разрешить учёным.
И недалёк тот день, когда все эти исследования помогут народу превратить огромные пустующие пространства в цветущую землю.
СОДЕРЖАНИЕ
В ЧЁРНЫХ ПЕСКАХ
Су 5
Заяц и антилопа 14
Комендант колодца 20
Следы на песке 32
В дорогу дальнюю 44
Крылатые и бескрылые 56
Сказание о Бешеной реке 69
ВЕЛИКИЙ ГОРИЗОНТ
Пухляк 87
Так «звучит» тишина 104
Тайна «Чёртовой крепости» 116
НА ЛЫСОЙ ЗЕМЛЕ
Год змеи и год рыбы 125
Сокровища «лунных» гор 137
«Мандрагора, мандрагора!» 146
Кизыл-Атрек, субтропики 157
Миражи 167
В ЧЁРНЫХ ПЕСКАХ
СУ
Мы идём на север, к Аму-Дарье. Неистово палит солнце пустыни, настигая нас сзади. Будто на спину навели огромное зажигательное стекло, — вот-вот задымится куртка.
Нет, не назовёшь это светило по-русски, ласково — солнышком, не пошутишь с ним, не пригласишь чаи распивать, как Маяковский:
... Погоди!
послушай, златолобо, чем так,
без дела заходить, ко мне
на чай зашло бы!
Злое оно, туркменское солнце, но нельзя его ругать, — Берды огорчается.
— Солнцу улыбайся, солнцу радуйся, — говорит наш проводник в раздумье, смакуя каждое слово. — Солнца мало — хлопка мало, дыня совсем несладкая. Солнца много — хлопка много, дыня такая
сладкая, — когда кушаешь, ухо ножиком сзади резать будем, ничего не услышишь!..
Раскалённый шар опустился за песчаную гряду. Мы с облегчением сбрасываем тяжёлые ватники, защищавшие днём наши спины.
Наконец можно и голову обнажить. Можно стащить с плеч задубевшую от солёного пота рубашку. Можно снять тёмные очки, сквозь которые белое кажется жёлтым, а серое — коричневым, и увидеть мир в подлинной его окраске.
Всё живое радуется прохладе. С ветвей саксаула и черкеза соскользнули на остывающий песок проворные ящерицы. Скакнул, унёсся за бархан зайчишка с такими длинными ушами, что кажется, будто он только что сбежал с детской картинки. Принюхиваясь к сусличьим норам, вышел на вечернюю охоту длиннохвостый толстый варан — гигантская ящерица, которую окрестили сухопутным крокодилом. Прочертила тонкий след на песке змея.
И только наши верблюды, безучастные ко всему на свете, шагают всё с той же скоростью — три километра в час, — мерно покачивая седоков: вперёд — назад, вперёд — назад...
Древняя караванная тропа вьётся меж песчаными буграми, иногда взбегая на вершины поперечных гряд. Пески перемежаются такырами — белыми, в трещинах, спёкшимися на солнце глинистыми площадками. Но и на этих звонких, будто скованных морозом, круглых «блюдцах» тропа не теряется. Сколько же веков понадобилось, чтобы миллионы верблюдов своими мягкими ступнями-подушечками промяли в твёрдой глине борозду?!
Всё дальше и дальше ведёт тропа — через пески и тркыры, через заброшенные земли древнего орошения, до которых давно уже не доходит вода, — к мутной, цвета жидкого какао, Лму-Дарье.
Тут проходил древний караванный путь из Хо-росана в Хорезм. Южнее пролегала «шёлковая» дорога: по ней возили шёлк из Китая в Иран.
На север вела дорога, соединявшая Среднюю Азию с Поволжьем.
По тропам шли караваны. Иные из них насчитывали до трёх тысяч верблюдов. Качались на высоких вьюках купцы, дипломаты, духовные лица, ремесленники. Глотая солоноватую пыль, тащились пешком погонщики...
Предзакатный безветренный час. Тишина. Мир огромен. Пустынна земля. Пустынно и небо. На синем куполе нет ни пятен облачков, ни ранних звёзд, ни луны, ни солнца, ушедшего за песчаную гряду.
«Ой, э-эй, га-а, го-о-о!» — протяжный хрипловатый крик внезапно раскалывает тишину, замирает, снова доносится сзади и переходит в мелодию, которую певец ведёт на высоких, напряжённых нотах.
Ораз Кули, восседающий на головном верблюде, чуть поворачивает голову, повязанную плотным тёмно-серым шерстяным платком. Платок этот, со свисающей на затылок бахромой, придаёт худощавому темнолицему караван-баши сходство с индейцем.
— Берды сон пугает, — говорит старший каравана, совсем уже поворачиваясь ко мне, и сплёвывает зелёную табачную жвачку, заложенную под язык. — Когда человек поёт, сон боится, бежит далеко в пески!..
Длинную песню завёл Берды. Такую длинную, что сон и вправду убежал от него, но только не в пески, а к старому Ак Мамеду, который едет на четыре верблюда впереди певца.
Оборачиваюсь и вижу: чёрная баранья шапка Ак Мамеда дёрнулась -не в такт верблюжьей качке; он вздрогнул, вскинул голову и, досадливо прокричав старческим тенорком — «эй, ой, ой, гэй», — тоже запел.
— Михайль, а Михайль, — оборачивается Ораз Кули, — пой и ты, пой хорошую русскую песню.
— Я знаю много русских песен, Ораз, только петь их не умею.
— Надо петь, Михайль. Пойдём ещё долго, на большом такыре ночевать будем. Верблюд немножко сюда — туда качает, заснуть можешь, упасть можешь.
Я креплюсь, но сон, убегая от Ак Мамеда, настигает меня. Изогнутая верблюжья шея двоится, бархан валится на тропу. Хватаюсь за вьюк и кричу во всё горло: «Не слы-ы-шно шу-ма го-род-ско-о-го!..»
Смолк Берды, смолк и Ак Мамед. Ораз Кули не оборачивается. С великим изумлением слушают туркмены, во что обратил я русскую песню.
А сзади вдруг доносится безжалостный девичий хохот: Марина и Люда, заполнив гербарную папку растениями, догнали на верховых лошадях караван...
Южные звёзды давно уже обсыпали небо густой россыпью. Стало прохладно. Песня, как эстафета, прошла через весь караван. Теперь поёт Ораз Кули. Он тянет грустную мелодию — быть может, им самим придуманную — без слов, то слегка вскрикивая, то замолкая. Кто знает, не рождается ли в этот вечер, под крупными звёздами, новая песня? Не так ли в длинных переходах слагались многие другие напевы, бытующие в народе? Кум-ли, человек песков, вынашивал песню, мерно качаясь долгими вечерами на верблюжьем горбу. И песня выходила длинная-длинная, как эта караванная тропа...
Ораз Кули вдруг взмахнул палочкой, обрывая мелодию:
— Хо, га!
Головной дромадер, охотио покоряясь палочке и выкрику, свернул влево, на белёсый такыр. За головным потянулась вся цепочка из пятнадцати верблюдов. Ночлег!
Я даю короткую, похожую на выдох, команду — х-хы-и — и сразу хватаюсь за переднюю и заднюю луку вьючного седла: сейчас верблюд будет ложиться!
Мой дромадер, ворча, медленно и неуклюже опускается па колени, подгибая сначала одну, затем вторую переднюю ногу. Потом, так же неловко, подгибает задние ноги. Ну вот, улёгся, — точнее, уселся, подобрав под себя все четыре конечности.
Скорее слезть, развьючить животное и размяться после одиннадцатичасовой тряски! Шагаешь по твёрдой земле так, словно только что покинул морское судно.
Шофёр нашего экспедиционного грузовика, Андрей, с которым мы расстались несколько дней назад на колодце Бала-Ишем, сказал мне на прощанье, насмешливо разглядывая караван:
— Парочку бы рессор такому горбатому рысаку, тогда прокатиться на нём можно ради прогулки. Но ведь вам целую неделю трястись без рессор. Ох, не завидую! Вспомните мой газик, не раз вспомните!..
Разгрузить верблюда недолго. Телеки — плоские бочата с водой, — мешки, ящики — всё завьючено надёжно, но так просто, что стоит только распустить один узел — и весь груз мягко опустится на землю.
Берды и Ак Мамед отводят развьюченных верблюдов за песчаную гряду. Там растёт саксаул — дерево пустыни. Горьковатые его побеги охотно поедает верблюд.
Гечгельды, напоив коней из большого таза, натягивает им на морды торбы с овсом. Эти две буланые лошадки иомудской породы, такие смирные и неприхотливые, сильно обременяют караван. Поить их надо три раза в день, а от колодца до колодца — два дня пути. Наши верблюды несут двадцать сорокалитровых челеков воды и несколько мешков овса. Это больше половины нашего груза. И всё для буланых. Верблюды овса не едят, а поят их один раз в два — три дня, и только на колодцах.
— Едешь в пески на лошади, бери верблюда тоже, — говорил Ораз Кули, когда мы снаряжали караван. — Пойдёшь без верблюда, — лошадь помрёт, сам помрёшь.
Без коней нам тоже нельзя. Верблюды тяжело нагружены. Идут они в цепочке, привязанные друг к другу. А нам надо постоянно съезжать с тропы и спешиваться, чтобы собрать растения для гербария, сделать описание или картографический набросок. Иногда Люда или Марина уступают мне лошадь, но очень неохотно...
Мы — частица ботанического отряда. А весь отряд — частица большой научной экспедиции, которая вот уже несколько лет подряд изучает природу пустынь, оазисов, горных ущелий и долин Туркменистана. В экспедиции много отрядов. Один исследует почву, другой — пастбища в песках, третий -рельеф, четвёртый — подземные воды. Иногда два или три отряда — ботаники, почвоведы и гидробиологи, например, — соединяются вместе. Иногда отряд разбивается на мелкие группки, чтобы изучить возможно больший район, собрать гербарий, образцы почвы, пробы воды.
Задача экспедиции — как можно полнее изучить природные богатства Туркменистана. И не просто изучить, а найти способы, как обратить эти богатства на пользу человеку.
... Вот уже пламя костра, подхваченное лёгким ветерком, бьёт атунчи — маленькие походные кувшинчики для чая 1 уйчу делают из меди или тонкого железа, и вода закипает в ней за пять минут.
Мы располагаемся на брезенте, разостланном у костра. Проводники сидят в привычной для них позе, подобрав под себя ноги. Марина и Люда стараются им подражать. Я просто приваливаюсь на бок, всё равно мне и пяти минут не высидеть по-восточному.
Ораз Кули бережно насыпает в тунчи по щепотке зелёного чая. Потом он минуты две «кол-дугг», переливая из тунчи в пиалу и обратно, чтобы лучше заварилось. Мы смотрим с жадностью. Мы
застыли. До чего он нетороплив, наш караван-баши! Как мерно двигаются его загорелые жилистые руки! Мы неотрывно следим за его чистыми пальцами с аккуратно подстриженными ногтями. Ну, скоро?!
Из тунчей мы утоляем «малую жажду», выпивая по две — три пиалы. А в пиале побольше стакана. После ужина будем утолять «большую жажду» — на костре из саксаула поспевает большой чайник. Туркмены пьют меньше нас. Они утоляют перед едой и «большую» и «малую» жажду.
В стороне, на другом костре, ловкий, быстрый, не знающий устали Гечгельды, наскоро выпив чая, готовит в маленьком казане ужин. Гечгельды самый молодой из наших проводников, ему лет тридцать пять. Он провёл всю войну на фронте и хорошо изучил русский язык. Люда берёт у него уроки туркменского. Она говорит, что знает уже пятьдесят слов. Я знаю только семь слов и, кроме того, умею считать до десяти...
Гечгельды — странное имя. Оно означает — «позднопришедший». Гечгельды рассказал нам, что он действительно явился на свет после всех своих братьев и сестёр.
Утолив «малую жажду», мы втроём принимаемся за разборку растений, перекладывая их из гер-барной папки в сетку. Караван-баши чистит своё старое длинноствольное ружьё.
— Марина, зачем опять брала сюзен? — спрашивает внезапно своим певучим, тонким голосом Ораз Кули, оторвавшись от ружья. — Вчера брала, сегодня брала, зачем много так?
Марина подносит ближе к костру тоненькую, с продолговатыми, как у ивы, сизыми листочками, веточку песчаной акации, усыпанную острыми колючками.
— Этот сюзен с плодами, — она осторожно прикасается к золотистому плоду, похожему на боб фасоли, слегка изогнутый спиралью. — А потом, нам ведь нужны растения из разных мест. У нас
U
в институте составляют карты, на которых отмечают, где что растёт.
— Ты, Марина, в Ленинграде живёшь, а что в песках растёт, как наш туркменский чабан знаешь.
— Ну, до чйбанов мне далеко! — вздохнула Марина. — Я всего лишь второй раз в пустыне. Вот буду ездить к вам каждый год, тогда больше узнаю и про сюзен, и про кандым, и про саксаул.
Ак Мамед, напряжённо слушающий разговор, негромко что-то спросил у Гечгельды, который уже подсел к нам. Я разобрал только два слова: «Су» и «Аму-Дарья». «Су» — по-туркменски — «вода». Это слово мы узнали первым.
Гечгельды быстро ответил Ак Мамеду по-туркменски, потом обратился к нам:
— Ак Мамед спрашивает, куда пойдёт вода Аму-Дарьи. Я ему сказал, — на Мары, потом на Теджен, потом на Ашхабад и до курорта Арчман. Он мне не верит, хочет, чтобы вы сказали.
Я подтверждаю, что трасса Каракумского канала действительно пройдёт от города Керки до курорта Арчман. Это почти тысяча километров.
Гечгельды быстро перевёл, хотя Ак Мамед и так, видимо, понял. Старик изумлённо покачал головой, лицо его расплылось в улыбке. Но вдруг улыбка исчезла, и он сердито заговорил, чертя ногтем по такыру.
Туркмены рассмеялись. Гечгельды перевёл:
— Он говорит, что надо канал ещё немножечко прокопать. Ак Мамед сам возьмёт лопату и пойдёт помогать. От Арчмана до Кизыл-Арвата совсем недалеко, сто километров не будет. А в Кизыл-Ар-вате — колхоз Ак Мамеда...
Мы долго ещё сидели под звёздами у догоревшего костра. Гечгельды раскладывал ужин.
— Опять ненавистные рожки с консервами, — с тоской сказала Марина, помешивая в миске. — Гечгельды, дай отолью половину в казан, пока не начала есть.
— Завтра зайца стреляем, — отозвался Ораз Кули, — вкусно будет. А сегодня ешь макароны, тоже вкусно. Когда жарко, надо кушать жирно, сладко, а то сердце, туда — сюда, немножко не так работает. Не будешь кушать, — больше в пески Кара-Кумы не захочешь ехать.
Люда, покончив с рожками, повернулась к нему:
— Как по-твоему, Ораз, почему пески называются Кара-Кумы? Чёрные пески — злые пески. Наверно, так? Я где-то читала, что Кара-Кумы были вечным врагом туркмен.
Ораз Кули посмотрел с недоумением.
— Зачем так говоришь? Кара-Кум не враг туркмена. Где каракульский барашек? В песках. Где верблюд пасётся? Тоже в песках. Чёрные пески не злые пески. У тебя глаз молодой, а видишь не всё. Посмотри днём — там, далеко-далеко, не знаю, как по-русски называется, где небо на земле лежит?..
— Горизонт, — называет Люда.
— О, о, горизонт, — немножко тёмный, чёрный. Саксаул, кандым, черкез растёт. Песок зимой, когда дождя много, тоже тёмный. У кумли глаза хорошо видят, далеко видят. Там чёрный, тут чёрный — он назвал Кара-Кумы...
— Ты знаешь туркменскую поговорку, Люда, — вмешался Гечгельды, — тот народ богат, у которого есть пустыня и вода.
— Су, су, — заключил Ораз Кули. — Воды надо много. Тогда Кара-Кум будет совсем добрый, большой друг станет туркмену и русскому!..
Костёр догорает. Пора спать. Мы раскатываем на кошмах свои спальные мешки. По-нашему, по-северному, ночь тепла, но мы всё-таки залезаем в ватные «конверты». Днём было сорок два градуса выше нуля, и сейчас, при двадцати градусах тепла, мы ощущаем холодок.
ЗАЯЦ И АНТИЛОПА
Летом в Кара-Кумах нельзя вставать позже солнца. Не даст светило понежиться, даже первые его лучи обжигают.
Хоть бы сыростью предутренней потянуло, хоть бы клочок тумана показался в низине, хоть бы капля росы блеснула на ветке! Нет, сушь кругом, и во рту сухая корка, и томит жажда, а с вечера выпили стаканов по десять чая.
Рассвет. Пора собираться в путь. Проводники ушли за верблюдами. Ораз Кули хлопочет у костра, обставленного тунчами. Завтрака он нам не даст. Попьём чаю с чуреком — ив путь. До полдневной жары надо пройти полперехода. А на большом привале будет плов.
Проводники привели верблюдов и уложили их под вьюки. Груз не надо ни поднимать, ни передвигать. Я просто завязываю распущенные вчера верёвки и усаживаюсь в седло. Короткая команда — и опять надо хвататься обеими руками за седло: верблюд встаёт так же неуклюже, как и ложится, только поднимается он сначала на задние, потом на передние ноги.
Марина и Люда уже выехали на тропу. Они на
конях. Им что — вдеть ногу в стремя и перекинуться в седло!
Вперёд — назад, вперёд — назад, вперёд — назад. «Килевая» качка началась. Мы в пути!..
Около полудня, незадолго до большого привала, Ораз Кули вдруг остановил головного верблюда. За ним встал весь караван.
Захватив своё длинное ружьё, караван-баши спрыгнул с высокого вьюка и побежал влево, в песчаную котловину, заросшую кустами черкеза и саксаула.
Вдруг он пригнулся и стал делать странные круги вокруг куста. Что он там нашёл? Сколько я ни вглядываюсь, ничего различить не могу.
Но вот Ораз, кружа, приблизился к кусту и припал на колено, вытягивая ружьё. Тогда я увидел зайца.
Он шевельнулся под кустом, жёлто-серый, маленький, и вдруг порснул в сторону, но шагах в тридцати забился под другой куст: заяц в полдень не может бегать, — раскалённый песок обжигает ему лапки.
Ораз Кули, уже более осторожно, стал обходить и этот, второй куст. Да охотник просто выбирает место для стрельбы лёжа! У него тяжеленная, на сошках, «пищаль», и с руки он бить из неё не может.
Он улёгся, наконец, неторопливо установил ружьё на сошках, приложился. А заяц, теперь уже ясно видимый, сидел не шевелясь, ожидая смерти...
В знойной тишине грянул пушечно-оглушающий выстрел. Кони вздрогнули, Марина и Люда машинально натянули поводья.
Охотник подбежал к кусту, поднял за уши маленькую тушку, обернулся к нам и возбуждённо прокричал:
— Марина, давай фотографию!
Но Марина не повернула головы, не прикоснулась к «лейке», висевшей у неё на шее. Она беззвучно плакала.
— Эх, Марина, Марина! — проговорил караван-баши, увидев её слёзы, и ушёл вперёд.
— Разве это охота? — тихо и печально сказала Люда. — Это же просто убийство.
— Наверное, я виновата во всём, — отозвалась Марина, тыльной стороной руки вытирая слёзы. — Я вчера капризничала, не хотела есть рожки, и он обещал убить зайца. Вот и убил...
А Ораз Кули уже сунул заячью тушку в мешок и, не оглядываясь, с кошачьей ловкостью вскарабкался на вьюк. Только он да Гечгельды умеют взбираться на стоящего верблюда.
Мы двинулись дальше.
Неподвижный воздух налит зноем. Два самолёта, похожие в пустынной вышине на серебристых бабочек, прошли над караваном. Вот они скрылись на юге, и небо кажется ещё более пустым и безбрежным.
Мой верблюд часто наклоняется, чтобы полакомиться. Ловко выгибая свою длинную шею, он срывает на ходу зелёные побеги растений.
Его зовут ССаледжи. В первые дни я не мог отличить его ?>т других верблюдов, и это очень забавляло проводников.
Караван-баши посмеивался:
— Ай, Михайль, свой верблюд не знаешь. Ты смотри, он молодой, крепкий. У него на шее красивая мягкая шерсть, цвет такой: халеджи, по-туркменски — половина красный, половина белый...
— Розовый?
— О-о, розовый!
Теперь я привык к своему Халеджи, и мне представляется, что он самый красивый и кроткий во всём караване. Маленькая его голова увенчана кудрявой чёлкой, нежный розовый -пух, отросший после весенней стрижки, золотится на солнце. Он никогда не кричит, ложась под выок, как этот старый головной верблюд с рваной ноздрёй, которого наградили обидной кличкой — Басмач. Мой Халеджи только мирно ворчит, когда ему приказывают встать. Верблюд словно говорит: «Я, конечно, встану и пойду, но мне куда приятнее было бы шагать налегке».
Одного только не добьёшься от Халеджи: чтобы он прошёл мимо верблюжьей колючки, не отведав её.
Удивительное растение — верблюжья колючка. В туркменских оазисах нтак считают злым утщр-ным сорняком. Как всякий "сБрняк, колючка необычайно вынослива. Ц.од палящим солнцем пустыни засыхают летом и полынь и мятлик, и заячий ячмень. Увядают быстро и ромашка, и голубые ИЕгеты с мудрёным латинским названием, напоминающие наши колокольчики. А кустики янтака всё зеленеют и даже в разгар лета цветут.
Начальник нашего экспедиционного отряда Леонид Сергеевич объяснял нам:
— Янтак добывает влагу буквально из-под земли. Сам кустик, как вы видите, в полметра, а корни его идут в глубину нередко на пятнадцать метров! Вот и попробуйте его иссушить!
Почему верблюда не оторвать от колючки? Зелёные кустики так богаты сахаром, что он иногда выступает в виде белой пены на стеблях. Туркменские дети лакомятся этим сахаром. Много в ян-таке и других питательных веществ. Быть может, молоко верблюдицы оттого так сладко и жирно — жирнее коровьег, — что она поедает янтак...
Что это? Караван опять встал. Опять Ораз схватил свою «пищаль», спрыгнул с вьюка и, пригибаясь на кривых ногах, побежал, крадучись за кустами, вправо. На этот раз за ним пустился и Гечгельды со своей лёгкой новенькой двустволкой. Неужели снова зайца бить?
Нет, не зайца. В западине между песчаными буграми паслась антилопа — джейран.
Как она хороша, эта стройная газель с небольшими стоячими ушами! Она тянется к зелёной ветке саксаула, не чуя охотников. Нет, вот повернула голову, увидела караван и сразу лёгкими прыжками понеслась прочь.
Гечгельды побежал в обход, наперерез антилопе. Конечно, ему не поспеть. Джейран уже почти преодолел крутой подъём, сейчас он вылетит на вершину бугра.
— Джейранчик, беги, милый, беги! — слышу я сбоку горячий шёпот Марины. — Только бы он ушёл, только бы ушёл! Ой, ну что же это такое, что же он делает?!
Я и сам готов закричать. Что случилось с джейраном? Он описал круг и поскакал назад, в сторону каравана! Куда бежит он? Ведь там уже улёгся за куст со своей пищалью не знающий жалости Ораз.
Газель уже так близко, что я различаю её крошечный хвостик. Мелькает белый, слегка вздутый живот. Оразу, наверное, очень удобно целиться...
И тут сзади донёсся устрашающий хриплый вопль. Это Берды. Он выкрикивал что-то по-туркменски, и я увидел, как Ораз, бросив своё ружьё, вскочил и не то зло, не то насмешливо бросил в нашу сторону:
— Марина, давай фотографию! Скорей давай, не стоит джейран!
— Сейчас, сейчас, Ораз!
Газель проскочила через тропу так близко от головного верблюда, что я различил её маленькие острые копытца и огромный, увлажнённый глаз.
— Смотри, Михайль, смотри! — закричал мне Берды, — туда смотри, лево, там его дети! Он женский джейран, его нельзя стрелять. Ораз не видел, я увидел, ему кричал!
Я различил в котловине, слева от тропы, двух крохотных джейранят. Вот мать поравнялась с ними, и они пустились за ней, смешно и неуклюже поднимая тоненькие ножки. Мать замедлила прыжки, оглянулась на детей, и скоро все трое скрылись за бугром.
— Спасибо, Берды. Ораз, — спасибо! — произнесла Марина, теребя «лейку», которую она так и не открыла.
Но Ораз уже сидел на верблюде и не обернулся. Караван тронулся. Проводники перекликались на родном языке, смеясь чему-то. Караван-баши ехал молча. Вдруг он повернулся ко мне и, выплюнув табачную жвачку, спросил:
— Михайль, а Михайль, ты ел когда джейран?
— Нет, не пришлось, но я слышал, что он очень вкусный.
— Сладкий, очень сладкий, самый сладкий — это мясо джейран!
В устах Ораза «сладкий» означает «вкусный».
— Берды сейчас говорил, — обернулся ещё раз караван-баши, — печёнку джейрана любит. Немножко на углях подержи печёнку, потом кушай — лучше нет!
КОМЕНДАНТ КОЛОДЦА
Ещё одна ночь под звёздами, ещё день под солнцем.
Скоро ли колодец?
— Сегодня! — коротко бросил Ораз.
Помолчав, добавил:
— Ещё не будет темно, — придём на Орта-Кую. Хороший колодец, вода очень сладкая. Верблюдов напоим, челеки нальём, немножко мыться будем.
«Сладкая» вода! Значит, — уж совсем пресная, без горчинки, без сероводородного душка!?
Верблюды замедляют шаг, им тяжело преодолевать крутые осыпи песчаных гряд.
Вон, налево от тропы, белеют кости. Кто это не дошёл до воды? Когда это случилось?
Чем ближе к колодцу, тем меньше на буграх растении: трава и зелёные побеги стравлены скотом, а стволы кустарников и деревцев пошли в костры.
Ещё западина, ещё гряда. С вершины видишь — нет конца и края застывшему морю песчаных гребней, то поросших редкими кустами и злаками, то голых, перевеянных ветрами пустыни.
Ораз Кули сказал, что пустыня совсем не враг человеку. А прав ли он? Разве не враждебны эти пески людям? Вот свидетельство недавно разыгравшейся тут драмы: у тропы валяется павший верблюд.
Караван-баши недовольно покачал головой:
— Верблюд давно лежит, неделя, наверное.
Павший верблюд нимало не беспокоит живых. Наши дромадеры спокойно шагают дальше, и мой Халеджи прихватывает очередной кустик яитака...
К исходу дня мы достигли воды. С вершины бархана на дне круглой впадины открылся нам колодец: небольшое квадратное отверстие вровень с землёй, стойка для верёвки и длинное узкое водопойное корыто.
«Орта-Кую» значит «срединный колодец». В самом деле, он вырыт на полпути между Кизыл-Ар-ватом и Хивой, в центре Кара-Кумов. Как и другие каракумские колодцы, Орта-Кую окружён голыми барханами. Но тут песок не жёлтый и не бурый, а белёсый. Лишь одинокое саксауловое дерево с кривым стволом и тёмно-зелёной распластанной кроной осталось от бывшей здесь прежде растительности.
Понятно, почему вблизи хороших колодцев не отрастают кустарники и трава. Здесь подолгу стоят караваны, сюда пригоняют на водопой отары овец. Скот поедает и вытаптывает растительность. Но вот что выяснили гидрологи: голые барханы содержат больше пресной воды, чем бугры и гряды, за-рп.-шие травами, злаками и кустарниками! Дожде вые воды, просочившись в г.' \ бь оголённой песчаной Т"лщи. цолго удерживаются там. А на заросших буграх растения пустыни своими длинными корнями достанут эту воду и быстро, словно насосы, «выкачают», испарят.
Кумли, люди песков, давно это знают. Опытные искатели воды, они роют колодцы в таких вот западинах, окружённых голыми барханами.
Орта-Кую известен многим. С севера, с запада
и с юга к нему тянутся рубчатые, глубоко вдавленные в песок, автомобильные колеи. Чтобы набрать бочку «сладкой» орта-куинской воды, водители экспедиционных грузовиков-вездеходов едут к колодцу через труднопроходимые пески за десятки километров.
Ораз Кули строго блюдёт неписаный закон пустыни, который запрещает устраивать биваки у самых колодцев. Наш начальник каравана выбрал место для стоянки поодаль, за низким, тронутым песчаной рябыо, барханом.
Мы уложили верблюдов, сняли с них груз и вьюки и пустили животных к водопою. Дромадеры шли к воде молча. Только ускоренный шаг выдавал жажду, которую ощущали верблюды. Они не пили двое суток. Коней за это время поили шесть раз.
У длинного корыта всем хватило места. Верблюды пили долго и спокойно, лишь изредка поталкивая друг друга мягкими влажными мордами, с которых стекали прозрачные капельки воды. Иные из животных отходили прочь, но, постояв, словно в раздумье, снова возвращались к воде.
Солнце ещё припекало; и, вернувшись к биваку, мы поставили тент, закрепив его верёвками на железных колышках, вбитых в песок.
Люда ушла вперёд, к саксауловому дереву, и вдруг закричала оттуда: «Бегите сюда, тут очень смешная вывеска!»
Мы с Мариной подошли и увидели фанерную дощечку, аккуратно привязанную к дереву мягкой бечёвкой. Надпись на дощечке, выведенная красным карандашом, гласила:
Курорт Орта-Кую Комендант Семененко
Ниже синим и красным карандашом были нарисованы барханы, озеро и какие-то пальмы.
Где же резиденция этого коменданта? Тут ни души вокруг.
Но вот на вершине бархана показался незнакомец. На нём не было никакой одежды, кроме синих трусиков с красными лампасами; длинные чёрные волосы зачёсаны назад; лихие усики задиристо подняты кверху; бородка подбрита так, что открылись полные загорелые щёки; на руке громадные часы.
Люда подтолкнула Марину локтем:
— Не думала, что встречу в Кара-Кумах такого франта!
— Знаешь, по-моему, он тонограф, — отозвалась Марина, спокойно разглядывая приближавшегося человека. — Или геолог? Топографы и геологи проводят в маршрутах иногда по полгода. Можно отрастить хорошую бороду за такой срок!
Незнакомец подошёл к нам, вежливо поздоровался и отвесил полупоклон:
— Позвольте представиться — Семененко! Так сказать, коренной обитатель здешних мест...
— Так вы и есть комендант! — воскликнула Люда.
— Да, если угодно, я и есть комендант этого ку-урорта! — Он презрительно растянул последнее слово и ленивым движением руки обвёл окрестные барханы.
Потом, усмехнувшись, уже другим тоном продолжал:
— Шуточки, конечно... Стояли недавно тут, на колодце, ребята из археологической экспедиции, москвичи. Доехали они сюда на вездеходе от Куня-Ургенча. Неплохие парни, культурные и не задаются. Были у меня с ними некоторые столкновения на почве, так сказать, разного подхода к житейским условиям. Но в общем мы расстались почти друзьями. И вот они назвали меня комендантом и дощечку повесили. А я не снимаю, хотя я, конечно, не комендант, а заведующий хозяйством топографической партии. Тут у меня полевая база. Отряды разбросаны. Сюда приезжают за водой,
за продуктами. Иногда сам отправляю кое-что по мелочи. Парочка верблюдов при мне и юный помощник имеется из местного населения.
— Где же вы размещаетесь? — - спросила Люся.
— За тем вон барханом, в лощине. Милости прошу в гости. Увидите — палатки и шалаш...
— Скажи, молодой, — вмешался вдруг Ораз Кули, внимательно слушавший разговор, — чей верблюд помирал, лежит на дороге — десять километров отсюда?
— Мой верблюд, — с неожиданной злостью, приподнявшись, ответил комендант, — неделя, как подох.
Ораз Кули укоризненно покачал головой:
— Нехорошо, молодой, нехорошо. Зачем верблюд пропал?
Семененко совсем уже сел, потом даже привстал на корточки:
— Подумаешь, разговоров сколько из-за одного старого верблюда! Три каравана прошли за эту неделю, и все проводники в глаза тычут... Ещё и начальство будет холку мылить. Я виноват, что ли? Послал помощника на точку. Мальчишка заблудился. Потом, когда он на тропу вышел, верблюд лёг. Ну, мальчик верблюда бросил, сам едва добрался до колодца.
— Зачем ты послал мальчика? — вмешался Гечгельды. — Мог умереть мальчик тоже. Это пески, взрослый должен ехать. А знаешь, сколько лет нужно, чтобы рабочий верблюд вырос? Вон Михайль на Халеджи едет. Это молодой верблюд, под вьюком только один год ходит, а ему пять лет.
— Мы выполняем ответственное правительственное задание! — Комендант повернулся к Марине, ища у неё поддержки. — Коренная переделка природы пустыни начинается, а тут с верблюдом возись! Да скоро верблюды вообще в область предания отойдут, только в зоологическом саду будут их показывать. Каналы пророем, всюду дороги ас-
фальтовые проложим, сады и рощи насадим в песках вместо этой разной колючки и саксаула...
Марина вспыхнула:
— Послушайте, дорогой комендант, что вы тут проповедуете?! Ох, какие глупости, — слушать стыдно! Вы думаете, — переделку пустыни надо начинать с уничтожения её богатств? Конечно, если не нужен верблюд, то не нужна и колючка, которой он питается. Саксаул, который удерживает пески от развевания и даёт топливо, равноценное каменному углю, тоже вам не по душе? Быть может, и песчаную осоку надо вытравить из пустыни, а отары каракульских овец кормить будем привозным сеном?..
— Ты очень быстро бежишь, молодой, — спокойно добавил Ораз Кули. — Ты не обижайся, я тебе скажу туркменскую пословицу: «Козёл много бегал, быстро бегал — джейраном никогда не стал».
Все рассмеялись. Даже Семененко не удержался от улыбки.
— Канал будет, партия сказала — будет, — продолжал Ораз Кули. — И машины будут, и пароходы. Но верблюдов тоже надо много. Молоко, шерсть, мясо очень хорошие у верблюда. Вода из Аму-Дарьи придёт на Мары, Теджен; там много хлопка можно сеять, дыня, урюк, виноград растёт. В пески вода тоже пойдёт — пить надо барану, верблюду. Саксаул, янтак больше вырастет. А ты говорил: раз — и пески нету, один большой сад есть!
Комендант, видимо, и сам понял, что хватил через край. Он сбавил тон, а вскоре попрощался и, повторив приглашение побывать у него, ушёл за свои бархан.
— Не пойду я к нему в гости, — сказала Люда, когда он скрылся, — не нравится он мне.
— Меня тоже что-то не тянет, — отозвалась Марина.
Ораз Кули, выйдя из-под тента, всматривался в горизонт.
— Михайль, — сказал он задумчиво, — нехороший ветер будет. Давай шара-бара соберём.
Что он там увидел, наш кумли? Стоит безветрие. Только изредка над барханами взвиваются песчаные вихревые столбы, но мы к ним уже привыкли. Вот один такой столб, широкий, стремительный, с шипением и свистом прошёл через наш бивак, скрутил тент, присыпал песком пиалы.
Но вскоре подул ветерок. Вот он крепчает... Горизонт помутнел, стал белёсым. Проводники ушли за верблюдами. Мы с Оразом принялись стаскивать в одно место «шара-бара», Марина и Люда торопливо увязали гербарные пачки. Я сдвинул бочонок с водой и вдруг услышал предостерегающий возглас Ораза:
— Эй, эй!
Я увидел у своих ног ядовитую эфу. Надо было что-то сделать, но я стоял, растерянный, не выпуская из рук бочонка. Ораз прыгнул, как кошка, и ударил уползавшую эфу своей коротенькой палочкой по голове. Ударил, казалось, совсем не сильно, но эфа затихла.
Мы составили бочата с водой в одну кучу, потуже забили деревянные пробки. Вьючные ящики, мешки с овсом, скатанные валиком спальные мешки, рюкзаки сложили длинной стенкой. Нас можно было сравнить с матросами, которые убирают палубу перед бурей. Но мы работали вяло. Жаркий ветер отнимал силы, сердце билось замедленно.
Проводники привели верблюдов. Дромадеры легли головой по ветру, пригнули шеи. Чем-то напоминали они в этой позе гигантских черепах.
Вот и буря. Тонкий свист, удары песчинок в лицо. Меркнет свет, лезет стеной пыльная туча. Вот уже исчезло солнце, исчезли во мгле барханы, и колодец, и одинокое дерево с такой смешной вывеской...
Да, курорт!
Мы легли за стенку, сложенную из ящиков и
мешков, и накрылись тентом. Песчинки проникали под тент, лезли в рот, в глаза, в уши. Нельзя было разговаривать. И думалось с трудом.
... Буря в песчаной пустыне. Самум или хамсин? Нет, это в Сахаре. «Самум» — по-арабски, кажется, — «ядовитый». Но ветер не ядовит, он просто горячий. Животные в панике бегут, люди теряют сознание. Хамсин, — значит, пятьдесят. Пятьдесят дней дует суховей.
А этот ветер, что нас настиг, как он называется?
... Я думаю, что это не афганец. Под афганец мы попали однажды в маленьком городке на юге Туркменистана, где размещается наша экспедиционная база. Тогда было жарче. А1еня захватило на улице, когда я шёл на склад получать снаряжение. Задуло так, что стёкла тёмных очков потрескивали под ударами песчинок. Ветер был горячий и сухой. Стало трудно дышать. Казалось, что меня сунули головой в духовку — и лицо вот-вот запечётся, как пирог. Я всё-таки добрался до склада. На теневой стене, снаружи, висел градусник. Он показывал плюс сорок три градуса. А час назад, до афганца, было только тридцать пять.
Когда я вернулся на свою квартиру, хозяин дома, учитель местной школы, повёл меня во двор, где у него разросся маленький виноградник, и показал работу афганца: листья на лозах были черны по краю и закручены кверху.
— Наше счастье, — сказал хозяин, машинально стараясь выпрямить скрученный лист, — что афганец бывает редко и дует недолго...
— А правда ли, — спросил я, — что этот ветер дует из Афганистана?
— Многие так думают, — улыбнулся учитель, — раз афганец — значит из Афганистана. Но это местный ветер, он возникает здесь, в горах. Афганистан тут ни при чём. Наши южные ветры называют часто фенами или гармсилями. «Фен» — в переводе с немецкого — «тёплый, сухой ветер»; «гармсиль» — по-ирански — «горячий поток».
— Вот это ближе к истине! — сказал я.
— Да, — усмехнулся учитель, — сегодняшний ветер был нешуточный.
— А можно ли бороться с такими ветрами?
— Можно. Надо насадить леса! — коротко сказал мой собеседник и, опустив виноградный лист, взглянул мне прямо в глаза.
Я посмотрел на голые, порыжевшие склоны Конет-Дага, нависшие над городом:
— Здесь леса?!
— Да, не удивляйтесь. На голой, как стол, подгорной равнине могут произрастать леса. Для этого, правда, придётся подвести сюда большие массы пресной воды. А быть может, наши дети научатся собирать тучи и вызывать дождь, когда это нужно?..
«Что ж, возможно и научатся», — думал я, вспоминая под свист бури слова кизыл-арватского учителя.
Уже проглянула луна, когда буря улеглась. Мы вытряхнули песок из спальных мешков и пошли к колодцу промыть глаза. Раздвоенная стойка была на месте.
Я нагнулся над горловиной и увидел тёмное зеркало воды, в котором отражались две крупные южные звёзды.
Неведомо откуда налетевший ветерок завихрил и пронёс над колодцем несколько мелких песчинок. Я вдруг понял, почему туркмены устраивают в пустыне колодцы без надземных срубов. Возле сруба ветер наметёт бархан, который будет засыпать колодец. Песку не нужно давать зацепок, и он за ветром улетит прочь. Ораз Кули подтвердил мою догадку. Но он добавил, что теперь новые колодцы бетонируют. Толстую бетонную трубу выводят наружу, — её бархан не свалит. Конечно, такой колодец чище, особенно если он закрыт крышкой.
Наскоро промыв глаза и уши, прополоскав рты, мы углеглись спать, проклиная бурю, лишившую
нас ужина. Разводить костёр и готовить плов было уже поздно.
Наутро, высунув голову из спального мешка, я первым делом оглядел окрестные барханы. Вчера во время бури мне казалось, что их подняло ввысь, а потом обрушило бесформенной массой на землю. Но барханы лежали умиротворённые и словно посвежевшие. Только ряби стало больше на покатых вершинах. Почему ни ветры, ни бури не могут развеять сыпучие, ничем не скреплённые песчаные холмы? Бархан — дитя ветра, говорят знатоки песков. Ветер не может уничтожить им самим созданную форму. Он лишь передвигает оголённые песчаные холмы, строго сохраняя их очертания.
Рассвет выдался прохладный. Мы согревались горячим чаем с таким же удовольствием, с каким охлаждали себя этим чудесным напитком накануне в полуденный зной...
Когда мы уже укладывались, явился Семененко, о котором после вчерашней бури никто из нас как-то ни разу не вспомнил. На этот раз он был одет, но очень уж чудно: на голый торс напялил чёрный короткий полушубок, из-под которого выглядывали вчерашние трусики с красными лампасами.
Виду коменданта был не такой бравый и самоуверенный, как вчера. Несмотря на полушубок, его познабливало — вероятно, от утреннего холодка, — и он тщетно пытался пригладить вздрагивающими пальцами свою спутанную шевелюру.
- По долгу службы, так сказать, проводить пришёл, — силясь улыбнуться собственной шутке, произнёс Семененко.
— По долгу службы вы бы зашли вчера, — отозвалась Люда, — когда нас засыпало песком. В палатку к себе провели бы нас!..
— Никак не мог, — стал оправдываться комендант. — У самого беда случилась, — два штыря от палатки вырвало. Да и нездоровилось как-то, знаете... И вот с мукой ещё вышло. За всем не
усмотришь, рук не хватает. Стоял открытый мешок, его свалило,' мука высыпалась, конечно, с песком смешалась. Актировать придётся.
— Акт возьмём, немножко муки с песком добавим, чурек испечём, — насмешливо вставил Ораз Кули. — Эй, молодой, совсем плохо!
Семененко "только рукой махнул и, отозвав меня в сторону, стал что-то бессвязно бормотать. Я сначала ничего понять не мог, потом увидел, что он гычет мне пустую бутылочку, которую достал из кармана полушубка:
— Понимаете, йод развести нечем. Удружите немножко спирта...
— Подождите, — сказал я, начиная соображать, — вам нужна йодная настойка, так у нас есть, кажется.
— Да нет. Зачем? — он ухватил меня за рукав. — Тут чисто мужской разговор... Граммов пятьдесят спирта — поправиться надо, вчера в бурю с тоски хватил. Я вам консервишков бы подбросил...
— Люда! — крикнул я, освобождая рукав. — У нас в аптечке два пузырька с йодом?
— Да, два.
— Мы можем выдать один, вот товарищу коменданту?
— Можем, конечно. Что-нибудь случилось?
Аптечка хранилась в перемётной суме. Люда
принесла йод, но, взглянув на Семененко, который от растерянности даже не спрятал бутылочку, кажется, что-то поняла. Сунув пузырёк мне, она молча повернулась и отошла. Я передал комен-донту йод и попрощался с ним.
Караван неторопливо прошёл мимо человека в полушубке и трусиках с красными лампасами. Семененко застыл, держа в одной руке пузырёк ненужного ему йода, в другой — пустую бутылочку.
Тропа шла мимо одинокого саксаулового дерева с вывеской, которая
вчера казалась нам гакой забавной. Когда головной верблюд поравнялся с деревом, Ораз Кули на минуту остановил караван, не слезая с вьюка снял дощечку и забросил её далеко в песок.
— Не годится такой комендант, — сказал Ораз и взмахом палочки тронул караван.
СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ
Всё вокруг замела песчаной порошей вчерашняя буря. Исчезла глубоко вдавленная в песок автомобильная колея. На древней караванной тропе занесло верблюжьи следы. Стёрлись начисто отпечатки той борьбы, которую ведут ежедневно, еженощно звери, птицы, гады — борьбы за жизнь, свою и детёнышей, за пищу, за капли влаги, что содержатся в зелёных побегах растений, за тень под кустом и за прохладную нору.
Но к утру обитатели песков успели исчертить склоны барханов и гряд тысячами новых узоров. На рассвете пробился по целине к «сладкому» колодцу автомобиль-вездеход. Прошествовал по тропе караван. Всё стало таким, каким было вчера перед бурей. И путнику чудится, будто ничто не меняется в песках, будто время в пустыне остановилось много веков назад...
Ораз Кули читает книгу песков, как инженер читает сложный, но ясный и грамотный чертёж.
— Джейран бржал, — тонким голосом, немного
нараспев произносит караван-баши, протягивая вправо свою палочку. — Недавно бежал, быстро бежал.
Сердцевидные отпечатки копытец газели идут прямо, потом пересекают тропу. На бархатистой поверхности склона возле следов видны песчаные «брызги», вылетавшие на быстром скоке из-под ног антилопы.
А это чьи петляющие следы? Слегка опушённая ступня с подушечками, четыре когтя — два впереди, два по бокам. Это прошла лиса пустыни — длиннохвостая, маленькая, окрашенная под цвет песка. С кем она расправилась нынче на рассвете? Задавила песчанку или полакомилась тушканчиком, который спешил после ночной кормёжки в своё жилище?
— Молодой зем-зем ходил, — оборачивается Ораз.
Треугольные отпечатки лапок варана ведут вперёд и в сторону.
— Пошёл туда; смотри, — лежит зем-зем. Немножко отдыхает, жаркое время сейчас.
Приглядываюсь. Различаю, наконец: под кустом залёг, недвижим, полуметровый варан.
— Хороший зем-зем. Змею кушает, мышь кушает. Черепаху маленькую тоже кушает.
— Но я слышал, Ораз, что зем-зем и птичьи яйца любит. Это уже нехорошо.
— А фалангу кто кушает? Сто, двести фаланг скушает за день зем-зем! Яйцо сто штук не скушает!
Ораз смеётся. А я припоминаю наш выезд в пески на машинах.
... Шесть экспедиционных грузовиков преодолевали на буксире у могучего гусеничного трактора песчаный массив. В межгрядовой котловине водитель трактора остановил необычайный караван, чтобы остудить перегретый мотор и самому перевести дух в тени грузовика.
Наша машина шла в хвосте. Не успели мы выбраться из кузова, как услышали впереди крики: «Держи, держи!» «лопатой его, лопатой по голове!», «на хвост наступи!»
На нас катилась ватага шофёров и молодых коллекторов, преследовавших гигантскую ящерицу, которая довольно быстро улепётывала от погони. В голове ватаги мчался, размахивая походной камерой, столичный кинооператор в клетчатой ковбойке и широченной войлочной шляпе с бахромой. За ним бежал рослый шофёр с большой сапёрной лопатой.
Наш коллектор Наташа, покровительница всякой живности, закричала нам — «в сторону, в сторону!» Мы отскочили, давая дорогу зем-зему, и он, достигнув склона гряды, юркнул в чью-то нору.
Обливаясь потом и едва переводя дух, преследователи побрели к своим машинам. Лишь кинооператор долго не мог успокоиться и кричал нам: «Из-за вас пропал такой кадр — охота на крокодила пустыни!..»
Бесконечно разнообразен узор на песке. Вот извилистый рубец, похожий на вздутую вену. Это «плыл», зарывшись вглубь, песчаный удав. Рубец оборвался, — удав вышел наружу. На песке — изрытая площадка. Следы борьбы. Удав, прежде чем заглотать пойманного тушканчика или мышь, душил свою жертву, обвившись вокруг неё кольцом. Вот зигзагообразная дорожка, вычерченная из фигур, напоминающих латинскую букву «S». Тут ползла стрела-змея. Пробежал, оставив расплывчатые следы лапок, алака — тонкопалый суслик. Оставили многочисленные росчерки мохнатые фаланги.
А пот следы какого-то зверя. Четырёхпалая голая ступня, большие когти. Валяется длинная острая игла.
— Кирпи! — Ораз презрительно сплюнул. — Всё равно, как донгуз — свинья. Очень нехороший. Виноград, бахчу — всё портит. Стреляй — не попадёшь, ночью ходит.
Так это он дикобраза так честят, иаш Ораз!
Ветер день за днём обновляет раскрытую страницу гигантской книги пустыни. Чистый лист, подметённый бурей, трудолюбиво заполняется вновь. Пишет на этом листе всё живое, что ходит, бегает, прыгает, ползает.
Лишь следов человеческой ноги не видим мы на страницах книги песков. Люди не ходят пешком по таким местам, где колодцы отстоят друг от друга на семьдесят километров. След человека в песках — это круглый отпечаток ступни верблюда; это широкая колея, оставленная автомобилем-вездеходом; это лихой росчерк пилота, посадившего свой самолёт в межгрядовой котловине, чтобы доставить научной экспедиции воду, свежие газеты и письма.
Если человек идёт в песках один, — значит, беда случилась: верблюда потерял, отстал от машины, не дождался самолёта...
Припекает. Всё живое укрылось. Вот Ораз перегнулся вправо и легонько ударил палочкой по кусту. Упала вниз маленькая ящерица, сидевшая на ветке. Упала и сразу пустилась бежать, высоко задрав хвостик и голову, спасаясь не столько от верблюдов и от этого человека с палочкой, сколько от раскалённого песка. Вот добежала до куста, чуть поодаль, забралась на ветку, слилась с ней, замерла. Теперь спасена!
Я рассказываю Оразу об опытах, которые ставились зоологами, чтобы выяснить влияние жары на обитателей пустыни. Варана утром посадили и клетку, выставленную на солнце. К вечеру варан погиб... от солнечного удара! Маленьких ящериц, подобных той, которая так прытко удирала от нас только что, прижимали в полдень к песку. Через две — три минуты ящерицы оказывались мёртвыми. Суслик выжил под прямыми лучами каракумского солнца лишь двадцать минут. Тушканчик — тот вообще не показывается днём: температура выше тридцати четырёх градусов для него смертельна...
Ораз — такой внимательный, деликатный и неторопливый собеседник — неожиданно перебил меня:
— Постой, Михайль, смотри сюда!
— Что случилось?
— Человек пошёл. Сюда пришёл, туда идёт, смотри!
Я гляжу направо, куда указывает своей палочкой караван-баши. На дальних, заросших песчаной осокой буграх поникли своими тонкими ветвями искривлённые деревца саксаула. Крохотная песчаная акация млеет у дороги на солнечном припёке. Сизоватые её листочки кажутся испепелёнными. Над буграми, над тропой зловеще текут ясно видимые раскалённые струи воздуха. И ни души вокруг.
Морочит меня Ораз?!
— Сюда смотри, на дорогу смотри!
И я увидел след человека.
Он пришёл на караванную дорогу из-за дальних бугров по целине. Дальше, судя по следу, направился вдоль тропы на север, куда держим путь и мы.
Кто же это — смельчак или отчаявшийся? До ближайшего колодца отсюда ещё полдня пути. А сколько он прошёл, увязая но щиколотку в песке, пока не выбрался на дорогу?
Теперь мы все во власти таинственных следов. Люда, самая молодая и нетерпеливая, делает первое заключение:
— Это шла женщина! Смотрите, какие маленькие ступни!
Ораз коротко цыкнул и качнул головой — знак отрицания. Маленькие ступни бывают не только у женщин. Путник шагает широко — это мужчина.
Люда не спорит. Её уже мучает следующий вопрос:
— Интересно, кто это? Чабан или приезжий, из экспедиции. Не определишь...
Караван-баши объясняет, что это, конечно, русский, из экспедиции. След гладкий, от подмётки без
каблука. Человек идёт в тапочках или в сандалиях. А туркмены летом носят обычно прорезиненные подмётки, подвязанные к ступням верёвочками. Эти подмётки с рубчиками.
— Надо его догнать и посадить на верблюда, — оживилась Марина. — Наверное, он очень устал и страдает от жажды. Не может же человек нести па себе бочонок воды?! Мы с Людой попробуем перейти на рысь. Настигнем его, дадим попить из фляжки и дождёмся каравана.
Ораз не ответил, только качнул головой и заложил под язык свежую порцию наса — мелкого табака, перемешанного с золой и сдобренного хлопковым маслом.
Да, пожалуй, догнать человека, хотя он прошёл недавно, можно только на «козле» — маленьком автомобиле-вездеходе, который взбирается по крутому склону на любой бархан. Лошадь не пойдёт на рысь по такому песку. Путник ещё не устал — след ровный. Человек, идущий впереди нас, умеет выбирать дорогу. Он держится линии кустов, где песок уплотнён.
— Значит, мы его никогда не догоним и не сможем оказать помощи?! — воскликнула Люда.
— Если русский не богатырь, — ответил Ораз, — то он скоро устанет и сядет отдохнуть. Тогда догоним его и посадим па верблюда.
Мы долго ехали в молчании, не отрываясь от следа.
Ага, что-то блеснуло близ к\стов! Люда выпрыгнула из седла и схватила пустую бутылку, но сразу вырони та её. - Горячо! Достала платочек и, взяв бутьпку за горлышко, поднесла её Оразу. Караван-баши помахал бутылкой, чтобы остудить её немного, и сунул находку во вьючный мешок. Пригодится...
— Ораз, я думала, что ты что-нибудь определишь по этой бутылке, — обиженно сказала Люда. — А ты сразу в мешок...
Ораз рассмеялся. Что может сказать пустая бутылка? Только то, что человек пил здесь воду. Давно
пил? Не пять и не десять минут назад, — бутылка успела накалиться. Больше ничего бутылка не скажет. Чего её рассматривать, она пойдёт под постное масло! След человека — тот нам ещё что-нибудь скажет. Путник пил воду, не присаживаясь. Он только остановился, чтобы осушить бутылку — вон два отпечатка поглубже других — и сразу двинулся дальше. Очень торопился человек, и много сил у него
Через два часа Люда подобрала вторую бутылку. И опять мы прочитали на песке, что незнакомец пил, не присаживаясь. Он словно убегал от нас.
Движение каравана подчинено строгому ритму. Как девушки ни упрашивали Ораза дойти «хотя бы до следующей бутылки», около полудня он объявил большой привал.
Всё делалось, как обычно. Дурды и Ак Мамед пасли верблюдов, Гечгельды готовил плов, Ораз хлопотал возле чайников, девушки разбирали гербарную папку, а я заполнял путевой дневник. Но Марина и Люда вместо отдыха в тени отправились на вершину ближайшей гряды. Могли отыскаться интересные экземпляры пустынных растений. А главное... — оттуда открывался вид на караванную тропу, по которой ушёл таинственный незнакомец.
Ораз Кули всё-таки сократил отдых почти на час. Караван перевалил через гряду, потом обошёл котловиной одиночный песчаный бугор, и вскоре мы подобрали третью бутылку. Тут человек уже сидел — под кустом осталась вмятина. Рядом виднелось ещё одно углубление, поменьше, очевидно, от заплечного мешка.
От этого места след начал петлять. Неизвестный часто переходил с одной стороны тропы на другую. Он уже не шагал, а брёл, выписывая зигзаги. Ему казалось, что он выбирает дорогу получше. Но, сам того не замечая, он удлинял себе путь. Так бывает с очень усталыми людьми.
Вот он опять сидел под кустом. Он уже не снимал заплечный мешок, а привалился к нему спиной. Бу-
тылки здесь не оказалось. Но воду он пил, очевидно, уже из фляги, которую оставил напоследок. Две капли упали на песок и скатились под маленький уклон, образовав песчаные горошины. Это было совсем недавно, горошины ещё не распались.
Тропа вывела на твёрдый глиняный такырчнк. На другом его краю виднелся крутой склон бархана. Девушки, не сговариваясь, пустили буланых вскачь. Мы видели, как всадницы, перемахнув такырчик, скрылись за барханом, обогнув его.
Верблюды ступали по твёрдой дорожке осторожно, и мы не скоро миновали такыр. Человек не оставил на засохшей глине следа своих ног. Но мы знали, что он там, за барханом, где скрылись Марина и Люда. Только безумец свернёт в пустыне с тропы. v
Бредёт ещё наш спутник или сидит, отбросив ставшую ненужной пустую флягу, как он отбрасывал одну за другой, бутылки? Знает ли он, что до колодца, где есть люди, два часа ходу?
Бархан мы огибали целую вечность. Тропа, наконец, вышла на прямую, и мы увидели вдали девушек. Они стояли у куста, наклонившись над чем-то, держа в поводу лошадей. Ораз стал серьёзен и покачал головой.
Из-за коней ничего нельзя было разглядеть. Но почему девушки стоят? Вон и фляги видны у каждой на поясе.
Мы подъехали совсем уже близко. Марина и Люда обернулись, развели коней и стали что-то возбуждённо кричать, перебивая дру] друга. А под кустом никого не было. Человек опять ушёл, словно знал, что за ним гонятся по пятам!
— Посмотрите, да слезьте же, тут кто-то был с ним! — разобрал я, наконец, Людины выкрики.
Ораз придержал караваи, п все спешились. Девушки, не отпуская коней, потащили нас к кусту черкеза. Под ним, на песке, мы увидели отпечатки двух человеческих фигур: лежачей и сидячей. Огне чаток лежачей фигуры был без головы!
— Видите, его тут встречала женщина! — ошарашила нас Люда. — Я сейчас вам это докажу!
— Да тут всё как на ладони, не надо доказывать, — перебила Марина. — Следы пришли с севера, от колодца. Ступни маленькие, а главное — шаг короткий, и обувь на каблучках...
— Она шла в босоножках! — подхватила Люда.
— Ну, это только предположение. Мы должны рассматривать факты. — Вот здесь они встретились, следы сближены вплотную...
— Они обнялись! — опять не утерпела Люда.
— Это тоже предположение. Может быть, они только пожали друг другу руки?! Она села, а он снял рюкзак — вот место, где лежал мешок — и лёг на спину. Голову он положил к ней на колени!
— Они посидели так, сколько, мы не знаем, и пошли на север. Вот два следа — его и её. Его след стал ровнее, твёрже.
Проводники слушали очень внимательно. Ораз сказал:
— Хорошо, правильно.
— Ты только не сказала, Марина, — заметил Гечгельды, — что приходила встречать совсем молодая блондинка.
— Выдумываешь, Гечгельды! — воскликнула Марина. — Почему блондинка и почему молодая?
— А вот смотри!
Гечгельды наклонился к тому месту, где следы путника и следы той, что встречала его, скрестились. На песке, чуть в стороне от следов, осталась узенькая розовая ленточка и к ней прицепился длинный светлый волос.
— Ну, мы их скоро увидим на колодце, и всё разъяснится, — сказала Марина.
— А вдруг они свернут куда-нибудь в сторону? — встревожилась Люда. — Я теперь уже ни в чём не уверена...
Но следы тянулись вдоль тропы до самого ко-
лодца Екедже. Незнакомцы торопились; они больше ни разу не присели.
Нам оставалось преодолеть последнюю перед колодцем гряду, когда мы услышали впереди рёв мотора. Из-за гряды выскочил самолёт. Это была почтовая машина, именуемая в просторечии «Антоном». Пролетев с характерным присвистом над караваном, «Антон» сделал круг и лёг на курс.
Мы пришли на Екедже засветло. Караван остановился в длинной и узкой межгрядовой котловине. На дне её, посредине, возвышался бетонированный ствол колодца. В дальнем конце из-за песчаного бугра выглядывал верх большой шатровой палатки, увенчанной железной радиомачтой. Оттуда, со стороны палатки, тянулся след колёс только что стартовавшего самолёта.
У колодца мы встретили высокого юношу с полотенцем на плече. Он назвался Сергеем Разумовым, радистом московской геологической партии. Люда сразу кинулась к нему с расспросами.
Оказалось, что таинственные незнакомцы, которых мы пытались настигнуть, — некие Саша и Вера — улетели только что на «Антоне» в Нукус.
Люда пересказала наспех радисту всё, что нам удалось прочитать на караванной тропе, и потребовала от радиста подробностей.
— Мне почти нечего добавить, — заметил Разумов. — Вы, оказывается, отличные следопыты. Вы шли по следу Саши Зорикова, молодого человека двадцати двух лет, старшего топографа, моего закадычного каракумского дружка. Работает он с группой километрах в двадцати от Орта-Кую, откуда им воду возят па верблюдах. Завидую топографам! Здесь, на Екедже, вода солоновата — в самый раз для овец и верблюдов. Правда, меня лётчики балуют, — они довольно часто тут садятся и наливают мне пресной водички из своих резиновых баков...
— Но как же Саша?! — взмолилась Люда.
— Простите, увлёкся.. Оный Саша Зориков совершил сегодня верблюжий переход — прошагал километров тридцать пять! В обычных условиях, при сносной дороге, такой переход для него — ничто. Он парень крепкий.
Саша очень спешил. Начальство срочно вызвало его в Нукус. Такие вызовы зря не делают — нужда возникла неотложная. Там, где Саша работает, есть рация, но она маломощная и может работать только со мной. Вызов поэтому шёл через меня. Я передал Саше: есть оказия, сегодня у меня сядет самолёт, который прилетел из Нукуса за геологическими образцами. Саша ответил, что придёт на верблюде.
Я знал, что у топографов сильные инэры — это самые выносливые верблюды, — и думал, что Саша явится к полудню. Но самолёт сел, а моего парня нет и нет. Лётчик стал нервничать...
— А девушка, девушка откуда взялась? — перебила Люда...
— Вера появилась совсем нежданно. Саша рассказывал мне о ней. Учились вместе в школе, в Москве. Ну, подружились... Она учится в университете, на биологическом. Писала неопределённо, что собирается на практику куда-то в Среднюю Азию. И вдруг является на том самом самолёте, который должен захватить Сашу. Оказывается, практика у неё в Нукусе. Ну, решила воспользоваться оказией и повидать товарища, а заодно пустыню посмотреть с воздуха.
Видя, что лётчик стал нервничать, Вера упросила его подождать и сказала, что пойдёт навстречу. Мой помощник, Урумбай, вызвался её проводить. Она наотрез отказалась: «На караванной тропе не заблужусь. Встречу Сашу, сяду к нему па верблюда». Ушла. А Урумбай, крадучись, за ней. Вы его следов не видели — он шёл стороной, наблюдая за Верой. Как только увидел Сашу, повернул назад.
Остаётся сказать, почему Саша пришёл пешком. Тут уже новая и не совсем хорошая история. У них завхоз есть, Семененко...
— Мы с ним знакомы, — сказала Марина.
— Ну да, на Орта-Кую видели его... Загубил этот завхоз прекрасного верблюда.
Девушки переглянулись.
— Саше пришлось идти пешком. Ему же надо было двух верблюдов взять с проводником, чтобы инэры сразу вернулись в отряд.
— Вот и вся история, — закончил радист. — Как видите, ничего необычного, если не считать Ссмененко. Но его, кажется, скоро уберут отсюда. Таких людишек нельзя держать в пустыне. Это может стоить жизни человеку...
В ДОРОГУ ДАЛЬНЮЮ
Каких бы размеров заплечный мешок вы ни взяли, всё равно в последний момент окажется, что некуда сунуть испечённые вам на дорогу пирожки.
Так и в экспедиции: какую машину ни дай отряду в маршрут, — всё равно кузов окажется мал.
Мы провели пять дней на полевой базе, снаряжаясь в далёкий путь. Под навесом, вблизи белого каменного склада, всё росла и росла гора имущества. Столитровые бочки для воды, палатка и тент, к ним колышки, колья и железные штыри, рулоны бумаги для сушки растений, гербарные сетки, почвенный бур с железной штангой, складные кровати, ящики с мясными консервами, со сгущённым молоком, с сахаром, баульные мешки с мукой, рисом и крупами, бидоны с маслом — всё это для одного лишь нашего, геоботанического отряда. И всё это грузилось на одну старенькую полуторку с фанерным верхом, обтянутым брезентом.
Под конец водитель грузовичка, Андрей, не выдержал:
— Гляньте на рессоры! — кричал он нам, отчаянно жестикулируя и косясь в сторону начальника ботанического отряда — Леонида Сергеевича, который стоял невдалеке с планшеткой в руках, погружённый в какие-то расчёты. — Кузов вот-вот сядет на по-
крышки. А я должен ещё и людей везти. Шутки шутите — с таким грузом на газике идти насквозь через Кара-Кумы. На старой полуторке хотим... в рай въехать! Нет, благодарю! Я в маршрут не выйду. Я отвечаю за машину и за людей.
Леонид Сергеевич делал вид, будто не слышит этих угроз. Да и что он мог ответить Андрею? Конечно, по нынешним временам, когда изобретены вездеходы, как-то даже обидно снаряжаться в пески на старой полуторке. Но «ГАЗ-63» — мечта всех шофёров, которые ездят без дорог — ещё и не отгружён для нас с горьковского автомобильного завода.
Андрей пошумел-пошумел, потом махнул рукой и полез под машину, от злости забыв даже подстелить коврик. Улёгшись на спину прямо в пыль, он яростно заработал ключом.
Леонид Сергеевич оторвался от планшетки лишь тогда, когда вернулся с базара аспирант Валерий. Он принёс килограмма два трюфелей. Мы покупали эти редкие, изысканные грибы у старика с добрыми, немного растерянными глазами, который всегда сидел со своим мешком на одном и том же месте, в стороне от овощного ряда. Старик не знал по-русски ни слова. Цену трюфелей он показывал на пальцах. Мы изумлялись: трюфели стоили дешевле картошки.
Начальник нашего отряда понимал толк в трюфелях и научил нас готовить их. Но на этот раз Леонида Сергеевича интересовали не грнбы. Валерий привёл с собой незнакомого нам туркмена и коротко представил его начальнику:
— Яр-Мамед! Нашёл его на базаре, как вы и говорили.
Мы уже слышали об этом человеке, — начальнику советовали взять его рабочим в каракумский маршрут. А сейчас, глядя на него, мы убедились, что «Яр» пристало к его имени не случайно. «Яр», или «ярым», значит — «половина». Яр-Мамед был так тщедушен и мал, что даже в своей высоченной шапке из бараньего меха едва доходил рослому Валерию до плеча.
Леонид Сергеевич не спеша, окольными путями, завёл разговор о профессии Яр-Мамеда. Оказалось, что тот был чабаном в колхозе, но оставил эту должность.
— Чабан — это хорошо! — воскликнули мы хором.
Яр-Мамед цыкнул и качнул головой в знак отрицания.
— Чабан — плохо, — неожиданно оживляясь, сказал он. — Ты смотри. Чабан спит? Спит. Собака тоже спит? Спит. Волк идёт, барана кушает. Другой волк идёт, другой баран кушает. Председатель ругает — ой, нехорошо ругает, по-русски.
Рассказчик хихикнул и хитро оглядел нас. Но мы все молчали. И только из-под кузова донёсся голос Андрея:
— А спать можно, когда надо отару охранять?!
Начальник строго взглянул на Андрея и отпустил Яр-Мамеда, попросив его зайти под вечер.
— Ну, и везёт нам! — сказал с сердцем Андрей, когда Яр-Мамед ушёл. — Туркмены — рослый, сильный, да и работящий народ. А к нам вот приблудилась половина, да что половина, — четвертушка Мамеда! Какой толк с того, что вы возьмёте его в отряд, Леонид Сергеевич? Он лопаты не поднимет. Да и спать он здоров, как видно!..
— Взять придётся, тем не менее, — вздохнул Леонид Сергеевич. — Другого искать некогда и негде. Безработных давно не водится в наших городах. Из колхоза дельного работника тоже не очень-то отпустят. Будем утешаться тем, что этот Яр-Мамед отличный повар, — мне так его и рекомендовали.
— Наплачемся мы с ним, вот увидите, — буркнул Андрей, снова залегая под машину.
Но вот мы, наконец, в маршруте. Пять грузовиков под высокими тентами, покинув базу, поехали без дорог на север. Мы пересекаем гладкую, светло-серую, словно залитую бетоном, подгорную равнину Копет-Дага. Позади остался туркменский город —
прямоугольное, с лёгкой прозеленью, белое пятно у подножия невысокого безлесного хребта.
Машина нашего отряда замыкает колонну. Андрей в кабинке один. Никто не хочет сидеть там в духоте, да сверху и видно лучше. Мы, шестеро, поместились в ряд на шофёрском ящике, застланном толстой кошмой. Леонид Сергеевич и Валерий по краям, Марина, Люда, Наташа и я посредине.
Под крышкой ящика, занимающего кузов во всю ширину, от борта до борта, Андрей держит своё хозяйство: запасной инструмент и детали, примус,
ватную куртку и полушубок, консервы, прикупленные «на всякий пожарный» сверх общего запаса, пачек тридцать папирос «Север». На стоянках ящик служит водителю ложем, — Андрей раскатывает поверх кошмы свой спальный мешок.
За нашими спинами, в глубине крытого кузова, лежит Яр-Мамед. Люда успела уже прозвать его — Ярый Мамед. Сейчас он дремлет, раскинувшись на кошмах, задрав свою реденькую клиновидную бородку. Утренний ветерок овевает его бритую голову, покрытую засаленной тюбетейкой.
Валерий высунул голову из кузова, оглядывая оставшийся позади город:
— Выбрались, наконец! Ну и городок! Я думаю, что в Ливийской пустыне ничуть не жарче. Только и хорошего в этой Кизыке, что кино.
Город, который мы только что покинули, называется Кизыл-Арватом. Кизылкой же его окрестили для удобства произношения.
Кино в Кизыл-Арвате в самом деле хорошее. Мы ходили туда гурьбой почти каждый вечер. Молоденькая босая контролёрша пропускала нас в узкую дверь. Мы попадали в просторный зал, уставленный рядами простых, грубо обтёсанных скамей. Тёмные высокие стены зала тонули в полумраке. Когда с гор набегал ветерок, стены вдруг оживали. Они были образованы двумя ярусами живой зелени: вверху сомкнулись кронами шелковичные деревья, ниже,
вдоль белого каменной забора, тянулась плотная, почти тёмная заросль туи.
В этом кино, под тёмным звёздным небом, заменявшим потолок, было так хорошо, что мы ходили на любую картину. А фильмы показывали — одни скучнее другого.
Нас интересовало, откуда пришло название «Ки-зыл-Арват». «Кизыл» - - «красный, красная», «Ар-ват» — «женщина». «Красная женщина»! Будь это новое, послереволюционное название, — никто бы не удивился. Но город так назывался ещё в прошлом веке, когда тут было поселение из нескольких десятков глинобитных и деревянных домиков. Можно предположить, что название города связано с цветом одежды туркменской женщины. Туркменки очень любят красное. Длинные шёлковые платья, головные уборы — всё у них красного цвета. Красное здесь не приедается, оно к лицу темноволосым южанкам.
В Кизыл-Арвате нам некогда было наводить справки, — проверять, справедливы ли наши предположения. Теперь в дороге мы попытались разузнать это у Яр-Мамеда, который здесь родился и вырос. Но куда там! Наш повар сладко спал.
Мы уже давно за пределами Ахал-текинского оазиса, куда входит и Кизыл-Арват. Не видно ни возделанных полей, ни садов, ни деревьев, -жизнь резко оборвалась на городской окраине, у «конца воды».
Все примолкли. Начальник отряда делает заметки в полевой книжке. Мы неотрывно смотрим вперёд. Вот на белёсой глади возникло в чуть приметной низинке пятно сочной зелени. Приземистые кустики свежи, словно их тут каждый день поливает дождём.
Леонид Сергеевич оторвался от своей книжки:
— Юзарлык. Тут, видимо, старопахотная земля. Сорняк этот обычно разрастается у огородов и аулов. Скотина к юзарлыку и близко не подходит, даже верблюд и тот нос воротит. Растение издаёт весьма дурной запах, вроде трупного
Валерий извлёк из сумки тонкую книжечку:
— Я вам сейчас прочту про юзарлык.
— Любопытно, — усмехнулся начальник, поглядев на обложку книжицы.
— Пишет средневековый арабский учёный, — начал Валерий, — вот слушайте: «Юзарлык — нежное средство, исцеляющее болезни груди, появляющиеся в результате сырости, растворяющее тягучие массы, удаляющее запахи и ветры кишечника... Пилюли из юзарлыка предохраняют от облысения головы, а также от эпилепсии и прочих болезней нервного происхождения»...
— Насчёт облысения не знаю, — сказал начальник под общий хохот, — но вообще средневековые медики во многом были правы. В наши дни из юзарлыка добывают лекарство, которым лечат последствия очень тяжёлого недуга — воспаления мозга. Употребляют это лекарство и- для расслабления и успокоения мышц. Ну, а кроме того, юзарлык — отличный краситель. Из его семян добывают краски, которые придают тканям различные оттенки жёлтого, коричневого, красного цвета. Надо думать, что эти краски, в числе других, применялись издавна в ковроделии. А туркменский ковёр завоевал мировую славу.
Мы едем по глинистой равнине час, другой. Машины петляют, обходя сухие русла. Кажется, эти бесплодные места не интересуют исследователей.
Но наш начальник иного мнения. Подгорная равнина Копет-Дага, говорит он, представляет немалый интерес для науки и для сельского хозяйства. Однако сейчас отряды получили другое задание. Маршрут огромный: надо пересечь Кара-
Кумы по диагонали, с юго-запада на северо-восток. Поэтому задерживаться на подгорной равнине, которая является лишь преддверием Кара-Кумов, некогда.
— Мы вернёмся сюда с вами будущей весной, — заключил Леонид Сергеевич, — и тогда покопаемся основательно на этих такырах.
Уже стемнело, когда наши грузовики, долго петлявшие по равнине, свернули круто на север, в cfro-ропу песков. Стало клонить ко сну. Сквозь дремоту с машины, шедшей впереди нас, доносился раскатистый бас Анна Сохата. Жалко, что он не с нами. Этот красивый, статный старик с белой бородой знает уйму сказок, побасёнок, притч. Вот и сейчас он рассказывает своим спутникам что-то очень весёлое, — все хохочут.
Внезапно порыв штормового ветра, налетевший сбоку, заглушил и бас Сохата и смех его спутников. Слышно стало, как быот в брезентовый борт песчинки.
Андрей круто свернул влево и затормозил. Свистящая лавина ворвалась в кузов. Ветер душит нас, засыпает глаза откуда-то принесённым песком.
— Что ты делаешь, Андрей?! — кричит Валерий, пригнувшись к окну кабины.
— А я нарочно, чтобы вас немножко продуло!
Он уже вылез из кабины. Постояв, подошёл
к радиатору, потрогал его:
— Вода закипела. На ветру скорее остынет.
После короткой стоянки Андрей быстро догнал
передние машины, — они буксовали. Скоро вся колонна и вовсе встала. При свете фар перед нами обрисовались песчаные холмы, поросшие редкими кустами. Мы с ходу уткнулись в передовую гряду каракумских песков. Здесь и остановились на ночлег.
Ветер продолжал бушевать, и пламя костра било в чайник струёй, как из паяльной лампы.
Кое-как попив чаю, мы забрались в спальные мешки. Всю ночь глухо шумели кусты. Чудилось сквозь сон, что мы в сосновом лесу...
А наутро, взойдя на вершину гряды, мы увидели перед собой уходящее к горизонту нагромождение песчаных валов. Подёрнутые пыльной дымкой, валы будто пенились на ветру.
Есть две пустыни: одна голая, звенящей твер-
дости, та, по которой вчера мчались без дорог наши грузовики; вторая — поросшая травами, кустами и деревцами, вся в песчаных валах и буграх.
Караваны держатся песков: тут всюду найдётся корм, тут встречается пресная вода, тут верблюду удобно шагать. Шофёр же клянёт пески, — даже вездеходы преодолевают сыпучие склоны барханов с трудом.
Но как ни хитри, пески не обойдёшь. Зубчатой извилистой стеной тянутся песнаные гпяпы по северному краю подгорной равнины Копет-Дтгга. А за этими передовыми грядами лежит бугристый, покрытый ветровой рябью, океан песка.
Поутру мы обнаружили, что стоим у въезда в некое ущелье. Перед нами открывался узкий коридор, ограждённый крутыми склонами высоченных гряд. Далеко в глубине коридор делал поворот. Вершины валов чуть курились на утреннем ветерке.
Автомобили могли кое-как пройти по дну «ущелья». Но у въезда в межгрядовый коридор ветры намели песчаную пересыпку. В неё-то передняя машина вчера и врезалась.
Утром Никанорыч, водитель головного грузовика, хотел проскочить песчаный порог с хода:
— Давай-ка попробую взягь енлодёром!..
Он дал газ и включил скорость. Но «силодёр», видно, плохой помощник. Мотор взвыл, словно зверь, которому намертво прищемили хвост. А колёса, врашаясь почти вхолостую, зарылись в песок до самых полуосей.
Машину быстро откопали. И сразу прозвучала команда, поданная тенорком врастяжку:
— Мужчины, к шалманам!
Хотя команда подавалась впервые, мы понимали её значение...
«Шалман» — по-туркменски — «бревно». А у нас в экспедиции — это дровина метра в три длиной. В сыпучих песках увесистые шалманы подкладывают под колёса буксующей машины..Иногда пользуются для этой пели толстыми досками. Но всё равно и то и другое — шалман...
Передние грузовики уже двинулись. Мы с Валерием стоим наготове по обе стороны колеи. Вот Андрей высунул голову из кабинки. Мы подклады-ваем слегка обтёсанные, заострённые на концах шалманы под задние колёса. Водитель включает скорость — и машина трогается. А начальник отряда и Яр-Мамед кладут свои шалманы впереди наших.
Задние, ведущие колёса грузовика идут по деревянной колее, которую мы перед ними настилаем. Ии на одну секунду колёса не должны сходить с этой колеи. Как только машина переходит на шалманы, лежащие впереди, мы с Валерием выдёргиваем из песка свои жердины и бежим вперёд, чтобы положить их снова. А нас вскоре обегают Леонид Сергеевич и Яр-Мамед.
Молодец Андрей! Он привязал к концам шалманов обрывки верёвок. За верёвку жердину легче выдёргивать из песка, куда ома вдавливается под тяжестью машины.
Минут через десять и наши одежды и нас самих — хоть выжимай. Первым сдаётся тщедушный Яр-Мамед. Он уступает сильной, рослой Наташе свой шалман без сопротивления.
Но и мы, трое оставшихся в строю мужчин, уже едва справляемся с дыханием. Пульс бьётся, наверное, как у боксёра на ринге. Марина и Люда бегут рядом, настойчиво пробуя вырвать шалманы из рук то у одного, то у другого. Вот-вот им это удастся...
И тут Андрей тормозит. Встала вся колонна. Мы с Валерием валимся в тень от кузова, выплёвывая жёсткие песчинки, которые даже не увлажнились в пересохшем рту.
Леонид Сергеевич протягивает мне флягу:
— Прополощите горло и передайте Валерию. Пить не советую.
Из пыльной мглы, медленно оседающей в без-
ветренном, душном коридоре, возникает чёрная борода Николая Владимировича, начальника нашей колонны.
— Перекурили? — спрашивает он. — Сейчас двинем дальше. Осталось метров сто.
— А сколько прошли? — спрашивает Валерий.
— Столько же и прошли.
Не думалось, что стометровка может оказаться такой длинной. В юности на всяких соревнованиях я много раз бегал, плавал, ползал на сто и двести метров. Плавал и в бассейне, и в озере, и даже в реке против течения, — на спор. Ползал по росной траве, по бугристому ледку, припорошённому снегом, по щебневатым пустырям. Ползал по-пластунски и на учениях и под огнём на войне, не отрывая живота от земли, обдирая локти и колени до крови.
Но эти две стометровки, с тяжёлой дровиной в руках, бегом по рыхлому песку, кажется, тяжелее всех прежних.
Нет, уж лучше верблюд с его «килевой» качкой, чем эта игра в шалманы!
Но вот и конец песчаной перемычке. Машины пошли дальше своим ходом, лавируя в межгрядо-вых понижениях.
И чем глубже мы забирались в пески, тем боль ше появлялось растений. Около полудня Николай Владимирович, приглядев удобное место, объявил стоянку.
Попьём чаю, переждём часа два, пока большая жара спадёт, и за работу. А к вечерку Яр-Мамед приготовит нам обед...
Но когда стали обсуждать обеденное меню, наш повар вдруг заявил, что суп он готовить... не умеет! Из дальнейших объяснений мы уразумели, что Яр-Мамед вообще ничего не может предложить, кроме плова и чая.
А когда Яр-Мамед ушёл добывать топливо, Наташа, доставая продукты в кузове, обнаружила новую беду: не оказалось ни крошки хлеба, хотя
повару вчера поручили в Кизыл-Арвате сделать запас на первые три дня пути.
У нас было вдоволь муки. Но умеет ли Яр-Ма-мёд печь хлеб? Быть может, и это выходит за рамки его узкой специальности?
Наши страхи неожиданно рассеял Анна Сохат. Белобородый сказочник поговорил о чём-то по-туркменски с Яр-Мамедом и сообщил нам, что они вдвоём и хлеб испекут и обед приготовят.
Быстро и ловко замесив в тазу тесто, старик раскатал белый ком на листе фанеры и во многих местах наколол круглую лепёху ножом. Яр-Мамед тем временем держал наготове большой, жаркий костёр, всё время подбрасывая в него сухой саксаул.
Наколов тесто, старик что-то крикнул Яр-Мамеду. Вдвоём они подхватили раскатанное тесто, плюхнули в горячую золу, оставшуюся на кострище и... немедля засыпали песком!
Мы все ахнули и привскочили. Только Леонид Сергеевич и Николай Владимирович, бывалые «пустынники», остались спокойны.
Андрей злорадно расхохотался:
— Вот это артисты! Кто же сырое тесто присыпает золой и песком? Так только картошку пекут. Наверное, килограммов пять белой муки ушло псу под хвост...
Хлебопёки уже сидели под тентом. Им налили чаю. Анна Сохат отпил глотка три и повернулся к Андрею:
— Ты крутил баранку туда — сюда вчера, я чего говорил, — не туда крутишь?!
— Да ты всё время спал в кузове или байки свои рассказывал. Что ты мог видеть?
— Теперь ты спи давай, а мы пшеничный чурек будем кушать! — смеясь одними глазами, спокойно отпарировал Анна Сохат.
Старик всё время поглядывал на песчаный бугорок, под которым было похоронено тесто. Оттуда выскакивали крохотные песчаные фонтанчики. Ко-
гда Сохат допивал четвёртую пиалу, фонтанчиков вдруг не стало. Хлебопёки кинулись к кострищу и, разбросав песок, извлекли пышную жёлтую лепёху величиной с автомобильное колесо.
— Хорош чурек! — одобрительно сказал Леонид Сергеевич.
Айна Сохат поставил лепёху стоймя, поскрёб её жёсткой щёточкой из конского волоса и, пристукнув ножом, бросил на фанеру:
— Давай пробуй, где песок есть?!
Мы съели это колесо за день. В чудесном пшеничном хлебе не оказалось ни одной песчинки.
КРЫЛАТЫЕ И БЕСКРЫЛЫЕ
Мне чудится, будто мы вдруг перенеслись на неведомую планету, где жизнь не то уже угасает, не то лишь начинает завоёвывать голые, немые пространства. Так не похож ландшафт, открывшийся перед нами, на всё то, что приходилось дотоле видеть, о чём довелось прочесть, услышать.
Какие же могут быть фантастические видения при ярком солнце? В песчаном океане, где высокие, жёлто-серые гряды скрывают горизонт, нечего надеяться даже на самый простенький мираж! Мы в реальном мире. Лесок в долине — вполне земной. И всё-таки трудно отделаться от ощущения, что перед тобою — выдуманное, сказочное...
Отряд вышел из лагеря после утреннего чая в обычном своём составе. Впереди шагал геоботаник Леонид Сергеевич. Ударами лёгкой кирки-мотыжки он изредка вышибал из песка какое-нибудь растеньице вместе с корнем и передавал его Наташе. Она бовала в гербарную пачку то отцветший гелиотроп, то высохшую, пониклую песчаную осоку, то верхушку длинного, с обнажённым гибким стволом, эремо-
спартона, который туркмены именуют коровьим хвостом, то ветку похожего на хвощ борджока. Люда, вооружённая закруглённой острбйТоп а л кой, высматривала, не попадётся ли дикий чеснок или лук. Марина со второй гербарной папкой держалась немного в стороне. Она собирала растения не только для общего гербария, но и «для самой себя».
Мы с Валерием замыкали шествие. У нас в сумках лежали полевые дневники и «харч-марч»: ломти чурека, консервы, фляги с чаем.
Было безветренно и так знойно, что я ощущал жар кончиками ушей. Над песчаными грядами, в текучих струях нагретого воздуха, трепетали жаворонки. Они заливались на все лады, словно торопясь допеть свою песню, пока ветер не вынудил их примолкнуть.
После получаса ходьбы по низинам отряд поднялся на гряду. Леонид Сергеевич навёл объектив своей узкоплёночной кинокамеры на высокий, в два человеческих роста, кустарник, усыпанный золотистыми волосатыми шариками. Кустарник стоял без листьев, и казалось, что заросшие змеевидными волосками шарики просто приклеены к ветвям. Но голое растение не выглядело мёртвым — концы его молодых побегов зеленели.
— Каллигоша, — как-то особенно ласково произнёс начальник отряда, закончив съёмку. - Великолепный экземпляр! И нет цветной плёнки, что поделаешь...
— Каллигонум капут медуза? — спросила Люда
— Он самый!
У этого кустарника несколько названий. «Каллигоша» — уменьшительное от латинского каллигб-нум. Леонид Сергеевич лет двадцать изучает каллигонум. Ботанику полюбился рослый, стройный кустарник, и он придумал ему ласкательное имя «Капут медуза» — «голова медузы». Это видовое название. Почему такое странное? Погодите У «каллигоши» есть ещё местные имена: казахское — «джузгун» и туркменское — «кандым»...
Глотнув остывшего чая, мы двинулись дальше. Ветерок, пройдясь по верхушкам гряд, усилился, проник в низину, но прохлады не принёс.
Леонид Сергеевич опять задержался возле кандыма, обсыпанного золотистыми плодами. Вот щетинистый шарик сорвало ветром и понесло. Лёгкий упругий комочек летит, едва касаясь щетинками песка.
«Капут медуза».. Откуда же произошло это название?
.. Над морем летали на золотых крыльях три сестры Горгоны, три молниеокие дочери титана Форкия и тнтаниды Кето. Горгоны были прекрасны, вечно юны и бессмертны. Но всех прекраснее и отважнее была одна из сестёр — Медуза Властительная. Когда носилась она над водой, волосы её золотыми змеями метались по небу.
За Медузой и её сёстрами ревниво следила с Олимпа Афнна-Паллада, дочь Зевса. Богиня задумала сломить непокорную, гордую Медузу и её сестёр. Паллада обратила волосы Горгон в змей. Двух сестёр богиня ослепила, а третью, Медузу, наделила взглядом, от которого каменели и люди, и звери, и птнцы, и травы.
После того решила Паллада обезглавить Медузу. Герой-полубог, сын Зевса и Данаи, Персей, по наущению богини, отсёк голову Медузе. Паллада прикрепила страшную голову, обрамлённую волосами-змеями, к своему боевому щиту..
Золотистый шарик, поросший змеевидными волосками, напомнил русскому учёному Александру Ивановичу Шренку, в прошлом веке впервые описавшему этот вид кандыма, древнегреческий миф о Медузе. Так родилось название — капут медуза..
Обгоняя песчинки, летит волосатый шарик на крыльях ветра всё дальше и дальше. И не зря природа сделала шарик крылатым. Не будь он летуном, его занесло бы песком тут же. возле материнского куста. Тогда уж действительно — капут! Сквозь толщу песка росток не пробьётся к свету.
Где-нибудь в затишье остановит шарик свой полёт. Пройдут недели. Крепкая оболочка плода лопнет, семя, достав капельку влаги, прорастёт. Вытянется-вверх стройный, в два человеческих роста, куст. Будет он цвести и плодоносить каждую весну. Сильные корни джузгуна усмирят песок. Выдержит «каллигоша» не одну песчаную бурю. Атакуемый ветром, полузасыпанный песком, он всё равно будет жить, цвести и развеивать свои крылатые шарики.
Леонид Сергеевич разглядывает куст:
— Ведь вот жалко, — он уже отцвёл. Цветки у него маленькие, но аромат их так нежен и тонок, что куда до них духам лучших марок!..
Мы перешли на другую, почти начисто оголённую гряду. Леонид Сергеевич остановился возле кустистого злака, торчащего зелёным раскидистым пучком в песке. Если бы не свежий, сочный вид растения, можно было бы подумать, что кустик просто воткнули в горячий песок.
— -Эдкек-селин, — сказал Леонид Сергеевич, наводя на кустик свою камеру. — Первый поселенец голых барханов, пионер песков. Заметьте вот что. Когда бархан начнёт покрываться другими растениями и, следовательно, перестанет быть барханом, а превратится в заросшую гряду или бугор, тогда селин исчезнет. Пионеру нужен простор, он собирает влагу с большой площади. И как собирает!
Леонид Сергеевич копнул своей мотыжкой и, поддёв длинный, тонкий как плеть, корень, приподнял его Корень тянулся в сторону метров на десять и где-то на откосе углублялся в песок.
— Валерий, достаньте-ка нож! — скомандовал начальник. — Режьте вот тут.
Валерий отрезал садовым ножом кусок корня, и мы увидели трубочку, вроде той, в которую монтёры прячут электрический провод, протянутый вдоль сырой стены. Леонид Сергеевич взял трубочку и легко извлёк из неё отрезок влажного, сочного корня. Да, природа упрятала корень эркек-
селина в чехол! Не будь трубочки, корень засох бы. Песок может так выдуть ветром, что корень окажется на поверхности, где иногда в полдень можно печь яйцо вкрутую. Но селину и это не страшно. Всасывающие волоски корня'продолжают своё дело, впитывая те капельки влаги, что просочились после весенних дождей в глубь песка.
Трубочка, в которую упрятан корень селина, прочна, гибка, плохо проводит тепло. А сделана она из материала, который всегда «под рукой» у растения: из песчинок, сцементированных корневыми выделениями.
Неподалёку от селина попалась нам песчаная акация — тоненькая, с сизоватыми листочками, с прозрачной кроной. У деревца был странный вид: боковые, довольно толстые, корни акации висели в воздухе!
Воздушные корни?! Но они развиваются у растений, испытывающих избыток влаги, — например на океанском побережье.
Тут же — совсем другое дело. Песчаная акация, как и наш «каллигоша», способна развивать корни в «нескольких этажах». По воле ветра песок на бархане, как вода в море, меняет «уровень». Вот это деревцо когда-то наполовину засыпало песком. Произошло это, конечно, не сразу. Боковые корни, оказавшись под толщей песка, лишились доступа воздуха и постепенно отмерли. Но на смену им в «верхнем этаже», ближе к поверхности песка, выросли новые корни. Теперь эти верхние корни выдуло, «уровень» песка понизился. Повиснувшие в воздухе корни отомрут, а внизу разовьются и начнут действовать новые.
Может случиться, что под натиском бури акация не выстоит и упадёт. Но если уцелеет стержневой корень, то деревцо будет жить и поваленное. Лежачий стволик пустит корни, а вверх пойдут мо-тодые побеги..
Гряда, понижение, ещё гряда. И вот, наконец, внизу, под нами — этот выдуманный, сказочный, ни
на что не похожий лес, который наводит на мысль о других мирах или о другой эре в истории земли, эре, отделённой от нас миллионами лет.
И тут ещё из-под куста, вспугнутое нами, выскочило серое хвостатое чудовище, ни дать ни взять — ящер юрского периода! Мы даже отшатнулись. Леонид Сергеевич от неожиданности замахнулся своей киркой-мотыжкой. А «ящер» обернулся обыкновенным вараном. Очутившись в окружении, зем-зем начал бить своим тяжёлым хвостом по песку и угрожающе открыл огромную крокодилью пасть, усеянную тонкими длинными зубами. Мы расступились, выпуская его из круга. И варан пустился наутёк, оставляя на песке треугольные следы своих лапок. Нам сейчас не до него. Даже Валерий не кричит: «Ату, держи его, я тебе задам!..», как он обычно это делает при встрече с зем-земом.
Заворожённые, мы спускаемся вниз и вступаем в безмолвный сказочный лес. Нас окружают низкорослые безлистные деревья с толстыми в основании, как говорят лесники, закомелистыми стволами. Ветви начинаются почти от самой земли, а «разваленные» кроны бессильно поникли. Эти странные деревья можно было бы принять за карликовые умирающие дубы, если бы попался хоть один живой или палый, пожелтевший лист. Да и ствол у дуба, даже самого корявого, не бывает так искривлён, словно его свело судорогой.
Мы привыкли видеть в лесу, кроме деревьев, траву или мох, вереск или кустарник. Ничего этого здесь нет. Оголённая, пепельно-серая почва, сухой валежник, разлетающийся на куски под ударом ноги.
Мы привыкли слышать в лесу голос птицы... А вот и тут птица отыскалась. Величиной с дрозда. Взлетела, опустилась неподалёку и забегала по песку. Выискивает корм, должно быть. Птица необычная, как и всё кругом. Но чем же она необычна? Серые крыл.ья, хвост чёрный. В этом-то ничего
особенного нет. Ах, вот что! Она не скачет по земле, как другие небольшие птицы, а бегает на высоких своих ногах, делая плавные длинные шаги.
— Иноходец, — говорит Леонид Сергеевич. — Казахи так и называют эту птицу — «жорга», что означает «иноходец» Туркмены зовут её «чур-чури», очевидно, в подражание её монотонному пению. А в научной литературе птица известна пол названием саксаульной сойки. Она — родственница кедровки на севере в хвойных лесах.
Саксаульник?. Значит, лесок, в который мы забрели, — саксаульник?!
- Черносаксаульник, — поправляет Леопш Сергеевич. Только чл, ный саксаул и образует иногда в пустыне сомкнутые заросли, которые можно считать лесом. Белый саксаул растёт одиночными кустами.
Чем дальше мы углубляемся в лее, который сочли мёртвым, тем больше открываем в нём следов жизни. Нога часто проваливается в норы песчанок, — эти грызуны любят побеги саксаула. На ветвях укрылись от жары ящерицы. Валерий успел схватить агаму, которая при нашем приближении пыталась соскользнуть с дерева.
— Смотрите, смотрите! — закричал он, поднимая ящерицу. — Совсем как хамелеон!
На наших глазах белый живот агамы начал вдруг менять окраску и стал синим. Синие пятна появились и на серой спинке ящерицы.
— Вот что значит посинеть от злости! — рас смеялась Марина.
Валерий отпустил ящерицу, и она юркнула в ближайшую нору.
Лес изменился. Появились молодые деревца с тёмно-зелёной, почти малахитовой, кроной -плотной, округлой, похожей на копну. Если бы не искривлённый стволик и не безлистные побеги, то невозможно было бы поверить, что эти хорошенькие деревца и те, пониклые, отмирающие, принадлежат к одному виду — чёрному саксаулу.
Нет, не всегда столь различны юность и глубокая старость! Сосна, простоявшая где-нибудь на песчаном холме двести лет, не уступит в своей красе сосёнке, пробившейся на свет из семени четверть века назад.
Под сенью молодого саксаулового деревца мы сделали привал.
— Никакой тени, — сказал Валерий, взглянув вверх. — От такого солнца безлистное дерево не укроет.
— А сядьте вон там, на бугорке, где солнце, раз вы считаете, что тут нет тени, — сказал под общий смех Леонид Сергеевич. — Всё равно ведь. Посидите и послушайте историю, которую я расскажу. Поведал мне её мой приятель Владимир Леонидович, много лет посвятивший изучению саксаула
— Один профессор, автор учебника ботаники, впервые попав в Кара-Кумы, непременно захотел осмотреть черносаксауловые заросли. Такой интерес не удивителен. Саксаул ведь растёт только в пустынях Азии, нигде в мире его больше не встретишь. Владимир Леонидович пригласил учёного с собой в маршрут. Добрались они до черносак-саульника около полудня, как и мы. И вдруг Владимир Леонидович расстилает на самом солнцепёке свою куртку и вежливо предлагает профессору сесть. Сам же устроился в тени саксаулового дерева и снял шляпу. Профессор, конечно, изумился, обиделся и потребовал объяснений. Тогда Владимир Леонидович достал из сумки учебник, составленный профессором, и зачитал ему то место, где говорится, что саксауловые леса безжизненны и не дают тени!.
— Как видите, Валерий, — продолжал начальник, когда улёгся взрыв хохота, — у вас есть единомышленники даже среди известных учёных. А всё дело в том, что старый, умирающий саксауловый лес, какой мы с вами только что наблюдали, действительно тени не даёт. Именно такие старые, потравленные скотом, повырубленные заросли попадались всегда путешественникам вдоль караванных троп, у колодцев. В глубь же пустыни, где сохранились нетронутые заросли, мало кто забирался.
Мы пробыли в лесу почти до захода солнца. Обмеряли стволы, подсчитывали число деревьев на гектар, пополняли гербарий, знакомились с особенностями чёрного и белого саксаула.
Белый саксаул попадался нам в песках и раньше, чёрный же мы видели впервые. Но как их различить, если и у того и у другого белый и чёрный цвета вовсе отсутствуют в окраске? Да и видал ли кто-нибудь совершенно белые, либо совершенно чёрные растения?
Леонид Сергеевич говорит, что у чёрного саксаула крона темнее, нежели у белого, хотя под туркменским солнцем различить цветовые оттенки не так-то просто.
— Ну, не хотите на глаз, тогда попробуем на язык. Наташа, мы ведь брали наверху белый саксаул, достаньте-ка из папки веточку... Вот, отведайте. Не бойтесь, саксаул не ядовит.
Жую зелёный побег. Ну и горечь! Как только верблюд выдерживает? Тьфу!. Теперь Леонид Сергеевич предлагает пожевать веточку чёрного саксаула.
— Не правда ли, кисловато-солоноватый вкус? Напоминает отдалённо щавель.
— М-да, после горечи хватить кислого — что тут разберёшь...
Терпеливый начальник демонстрирует и третий отличительный признак белого саксаула: на его зелёных побегах, которые выполняют работу листьев, можно различить крохотные шиловидные чешуйки. Это видоизменённые листья. У чёрного саксаула пет и этих остатков белого листа — побег совсем голый.
Саксаул — самое драгоценное дикорастущее растение наших пустынь. Зелёные кроны саксауловых деревьев и кустов слагают «верхний этаж» пре-
восходных каракумских пастбищ. «Ниже этажом» располагаются полукустарники, ещё ниже — песчаная осока. Побеги саксаула охотно поедают все. кто только может до них дотянуться: верблюды, козы, ослы, овцы, джейраны.
Под солнцем пустыни корявое деревцо накапливает огромные запасы энергии. Саксаул — -это превосходное древесное топливо, по калорийности почти равное бурому углю. На среднеазиатских базарах саксауловую древесину и продают как уголь, на вес. Вода в жестяном кувшинчике закипает на костре из саксаула через пять минут, в этом мы убедились. К такому костру нельзя приблизить РУКУ-
Наташа пожалела, что мы не взяли с собой ножовку. Хорошо бы спилить старое саксауловое дерево, чтобы определить его возраст по годовым кольцам на пне.
— Пилить саксауловое дерево очень трудно, — сказал Леонид Сергеевич. — И уж совершенно невозможно колоть или щепать его. Тут только обушком можно действовать. Так и делают, когда заготовляют саксаул на топливо. Между прочим, в одном историческом романе я прочёл, что монголы во время своего нашествия на Среднюю Азию делали стрелы, расщепляя саксаул. Это, конечно, невероятно. Древесина саксаула хрупка и так тяжела, что тонет в воде. Но если бы вам и удалось каким-нибудь способом спилить саксауловое дерево, то определить его возраст по срезу вы бы всё равно не смогли. Саксаул не образует правильных годичных колец. Наука так и не нашла до сей поры надёжного метода определения возраста саксаула.
Думаете, на этом кончаются «чудачества» саксаула? Ничуть не бывало. Мы не смогли взять для гербария плоды этого странного дерева, хотя саксаул отцвёл уже месяца полтора назад.
Хотите собрать плоды — приезжайте осенью. А цветёт саксаул в апреле! После цветения в пустыне насгпчтяТ' жара и завязь не развивается.
Только в сентябре начинают формироваться прозрачные гофрированные плоды, снабжённые пятью крылышками. На этих крылышках плоды саксаула, подобно плодам кандыма, способны переноситься по ветру.
Саксаул ценен не только тем, что даёт прекрасное топливо и корм скоту. Деревцо своими корнями скрепляет летучие пески, не даёт им развеяться. Саксауловое дерево достигает в высоту пяти — шести метров. А стержневой корень его уходит в глубину иногда на пятнадцать метров. Мощные корни отходят и в стороны. Неудивительно, что саксаул — один из лучших закрепителей песков.
Человек давно оценил это деревцо. Оценил и.. сводил нещадно целые рощи на топливо. Люди нередко подрубают сук, на котором сидят. Караваны верблюдов, вереницы ослов, а в последние десятилетия и автомобили всё везут и везут саксаул из пустыни в оазисы. Вместе с отмершими тащат и молодые деревья. Если бы в годы советской власти не приняли мер к сохранению этого чудесного деревца, то саксаул был бы сведён начисто.
Раньше думали, что саксаул — вымирающее растение и выращивать его очень трудно или даже невозможно. Но в дальнейшем учёные доказали, что это не так. В пустыне стали собирать крылатые семена и высевать их. Вокруг оазисов начали появляться саксауловые рощи, выхоженные человеком.
В тридцатых годах в одном из районов Узбекистана, близ реки Сурхандарьи, в воздух поднялся самолёт с необычайным грузом. Бак, подвешенный снизу к самолёту, обычно наполнялся ядом для опрыскивания посевов хлопчатника. На этот раз в бак насыпали крылатых семян саксаула.
Лётчик нашёл указанный ему участок, снизился и открыл бак. Потом провели ещё несколько таких опытов посева саксаула с самолёта. Результаты оказались не особенно хорошими. Мешали крылья! Да, те самые крылья, которыми природа наделила
плоды саксаула, при посеве с самолёта оказывались вредными. На крыльях семена уносились слишком далеко от того места, где их высевали.
Тогда решили, что надо перед аэропосевом обескрыливать семена. Но обрывать крылья у сотен тысяч плодов руками, — где возьмёшь столько рабочих? В конце концов инженеры изобрели машину, которую назвали обескрыливателем.
Так человек отнял у плодов саксаула крылья, но дал им взамен другие, более мощные — самолётные.
Аэросевом саксаула много занимался Владимир Леонидович, тот самый ботаник, который доказал маститому профессору, что саксаул даёт тень.
Однажды Владимир Леонидович затеял спор с пилотом. Тот уверял, что рассеет обескрыленные семена на указанный ему участок с абсолютной точностью, без малейших отклонений.
— На ровном месте это ещё куда ни шло, — говорил ботаник, — но ведь тут барханные пески. Нет, никак вы точно не рассеете.
— Сделаем так. Отметьте участок флажками и встаньте сами у первого флажка, чтобы убедиться в точности захода. Только закройтесь чем-нибудь, а то вам плохо будет. Первая порция из бака попадёт на вас.
Владимир Леонидович был не из тех людей, что отступают. Он надел плащ с капюшоном, очки-консервы и встал у флажка. Вскоре пилот, поднявшись из-за ближайшего бархана, направил машину прямо на ботаника. Самолёт так снизился, что, казалось, вот-вот заденет капюшон Владимира Леонидовича колёсами.
Через мгновение ботаник увидел чёрную струю, вылетавшую из самолёта. Струя была нацелена точно — Владимира Леонидовича обсыпало с головы до ног семенами, да ещё вдобавок обрызгало чёрной маслянистой жидкостью. То была битумная эмульсия, которую применяют для скрепления голых барханных песков. Эмульсия образует на
поверхности песка плёнку и не даёт ветру выдувать семена.
Пилот, сумевший с такой точностью засеять с воздуха бархан, потом ещё не раз изумлял Владимира Леонидовича. Однажды *он сбросил ботанику прямо в руки вымпел.
— Вы просто снайпер! — сказал однажды Владимир Леонидович лётчику.
— Тут ничего удивительного нет, — спокойно ответил пилот. — Мне доводилось опылять старицы, плавни и всякие заводи на Аму-Дарье, где водятся личинки малярийного комара. Там-то я и научился точно выходить на цель, как говорят военные лётчики. Ну, а теперь я стараюсь класть семена так, как будто мой самолёт — обыкновенная тракторная сеялка!..
С помощью самолётных крыльев дерево пустыни завоюет громадные пространства, образуя леса, рощи, перелески.
Так закончил Леонид Сергеевич свой рассказ о саксауле.
Уже вечерело, когда мы двинулись в обратный путь к лагерю.
СКАЗАНИЕ О БЕШЕНОЙ РЕКЕ
Анна Сохат, белобородый кумли с глазами, в которых притаилась вечная усмешка, рассказал нам у догорающего саксаулового костра о том, как один эмир сел играть в карты с соседним правителем и чем игра кончилась.
Сохат — прирождённый сказочник. Он всякую, пусть всем известную, историю так расцветит пёстрым узором неистощимой своей выдумки, что слушаешь её, эту историю, как новую.
Старик начал издалека. Он заговорил о повадках каплана — сильного, ловкого и коварного барса. Прыжки барса всегда неожиданны, — зверь любит устраивать засады на деревьях, в горных теснинах Каплан первым нападает на людей, чего не делает даже тигр. Много лет назад в ущелье Ай-Дёре жертвой каплана стал дядя Сохата, храбрейший копетдагский охотник Овсз. Пока подоспели на помощь друзья, барс, прыгнувший на Овеза сверху, так изувечил его, что охотник потом уже не мог ходить в горы и до конца жизни лишь ухаживал за виноградником.
Подобно хищному каплану, ведёт себя Джей-хун — Бешеная река, что зовётся в наши дни Аму-Дарьей. На Теле пустыни в разных местах можно видеть глубокие, высохшие и покрытые солёной
коркой шрамы. Это следы, оставленные Бешеной рекой.
Время от времени Джейхун делает прыжок в сторону, оставляя своё ложе, *по которому текла много сотен лет. Река бросается на города и селения, жившие дотоле её дарами. Гибнет не только затопленное рекой. Умирает и та страна, от которой отвернула свои живительные воды капризная Джейхун.
Иногда, впрочем, и сам человек помогал реке-барсу совершать её бешеные прыжки.
В те времена, о которых ведётся рассказ, Джейхун несла свои воды через Чёрные пески и доходила до Каспийского моря. В том месте, где река, сбежав с гор, поворачивала на запад, лежало обширное Хорезмское царство. Шаху, правителю царства, подвластны были десятки городов и крепостей, сотни селений и караван-сараев, разбросанных по обоим берегам Джейхуна и в пустыне у колодцев. Из столицы тянулись во все стороны караванные пути, по которым увозили в дальние страны ковры, пёстрые шелка, цветные одежды, изюм. Высоко ценились луки, сделанные хорезмий-скими мастерами. Натянуть тугую тетиву хорезмского лука мог только богатырь.
А из холодных стран привозили в то царство дорогие меха, мёд, мечи и кольчуги. Воины шаха, совершавшие набеги на соседние народы, доставляли своему властелину и живой товар — рабов и рабынь
Однажды шах пригласил к себе в гости эмира Ьалхан-страны, лежавшей в низовьях Джейхуна. Жадный, коварный и жестокий шах давно уже с вожделением поглядывал на Балханскин эмират. Но подчинить эту страну оказалось нелегко, — она лежала по другую сторону Чёрных песков, почти у моря. Приходилось шаху пока что водить дружбу с соседом.
Эмир Балхана приехал с огромной свитой и длинным караваном, нагруженным богатыми дарами. Гостя приняли с подобающими правителю почестями. Во дворце шаха ему отвели лучшие прохладные покои с окнами на ту сторону, где никогда не бывает солнца.
Когда эмир немного отдохнул, его пригласили к шахскому обеду. Трапеза длилась долго. Хозяин, расточая улыбки, усердно потчевал гостя. После жирного плова подали дыню. Она была так велика, что её несли двое слуг.
Потом слуги убрали остатки еды и подали карты. Эмир достал свой мешочек с золотом. Но шах любезно сказал, что такой прославленный игрок, как его высокочтимый гость, мог бы и не доставать своё золото: хозяин не надеется выиграть у эмира ни одной монеты.
Польщённый эмир сразу стал играть крупно. Ему не повезло, он проигрывал ставку за ставкой. Шах сокрушённо качал головой и продолжал выигрывать.
Скоро в мешке эмира не осталось ни одной монеты. Но, чем больше проигрывает человек, тем сильнее в нём желание отыграться. Эмир снял с себя шитый золотом халат, в который были вотканы крупные жемчужины.
— Несравненный друг мой! — воскликнул шах. — Если ты проиграешь халат, тебе придётся вернуться к своему народу в простом одеянии. Я не могу принять такую ставку.
— Ты прав, мудрейший, — ответил эмир, снова надевая халат. — Мне это не пришло в голову. Но у меня есть пять коней, которые прибыли с моим караваном. Эти кони — стрелы в небе во время грозы. Они выросли на лугах в низовьях Джейхуна, где много хорошей травы. Я ставлю на карту моих коней, которые мне дороже всех моих ста жён!..
— Нет, нет, высокочтимый эмир, — простирая руки в знак протеста, сказал шах, — и такую ставку я не могу принять. Подумай о бесчестии, которое ждёт тебя и меня, если ты, проиграв коней, которым нет рарных, явишься в свою столицу1 в'ерхо'м на
верблюде или, не дай аллах, на осле! Позволительно ли главе державы унизить себя подобным образом перед своим народом? И не опасно ли заронить в голову нищего мысль, что с тебя, как с простого смертного можно сиять драгоценный халат и посадить тебя на верблюда, осла или на худую клячу!.. Нет, я велел бы скорее отрубить себе руку, чем подверг бы моего гостя такому унижению!
Эмир склонил голову. Шах и на этот раз был прав.
— Могу ли я осмелиться дать совет моему мудрому гостю? — прервал молчание хозяин.
Гость кивнул в знак согласия.
— Есть ставка, достойная такого игрока, как ты. Поставь на карту Джейхун!
Эмир даже привскочил от неожиданности:
— Как, единственную реку, дающую жизнь всей моей стране, — на карту?! Что тогда скажет народ?
Шах улыбнулся:
— Твой народ ничего не узнает, если даже ты и проиграешь. Я отведу реку на свои заброшенные поля, что лежат в той стороне, где не бывает солнца, только на одну ночь. С восходом солнца мои люди возвратят реку в прежнее русло. Слово шаха — закон.
Эмир колебался. Он знал, что высокочтимый его друг часто, сладко улыбаясь, говорит одно, а незаметным движением руки приказывает своим приближённым делать совсем другое. Кто знает, что сейчас в голове у властелина, способного уничтожить целое племя по одному лишь подозрению в непокорности?
Видя, что гость заколебался, шах негромко хлопнул в ладоши. Тотчас же прислужник ввёл женщину. Когда с её лица сбросили покрывало, эмиру почудилось, что это — дивный сон. Он увидел лицо белее снега, что лежит на вершинах гор. Он увидел глаза — синие, как небо над пустыней в безветренный
час. Он увидел волосы цвета спелой пшеницы.
— Я ставлю на карту против реки эту девушку, — торжественно проговорил шах. — Мне привезли её мои храбрые воины из полунощной страны, где растёт столько деревьев, что люди не видят, как небо сходится с землёй. Девушка — царская дочь. Я хочу взять её себе в жёны.
Но если я проиграю, — она твоя!
Шах сделал знак, и слуга, закрыв девушке лицо, тотчас увёл её.-
Эмир больше не раздумывал. Вернуть, во что бы то ни стало вернуть исчезнувшее видение, завладеть красавицей! И он поставил на карту реку.
Эмир не увидел больше лица прекрасной девушки. Он проиграл.
А удачливый шах, выиграв на одну ночь Бешеную реку, не стал медлить. По его знаку тысячи людей, вооружённых кетменями, кинулись к излучине Джейхуна. На берегу были уже заранее приготовлены горы камней, земли, хвороста. Подгоняемые верховыми надсмотрщиками, то и дело пускавшими в ход палки, люди вмиг обрушили всю массу камней в русло. Другая партия кетменями прорыла береговой вал.
И вот Джейхун ринулась на север, бешено прогрызая себе новое русло. Эмир Балхана наблюдал эту грозную картину в окно из прохладных покоев, и страх закрадывался в его душу. Он провёл беспокойную ночь.
Наутро эмир увидел, что река продолжает свой бег на север, по новому пути. А старое русло перегородила плотина, и сотни людей трудятся возле неё, подгоняемые палками шахских надсмотрщиков. Преграду не разбирали, а укрепляли!
Эмир кинулся к шаху, но стража не впустила его. К нему вышел шахский советник. Он сказал, что все усилия обратить реку в старое русло ничего не дали. Джейхун не хочет возвращаться, — такова, видно, воля аллаха!
Так легковерный правитель, проиграв в карты Джейхун, загубил свою страну. Край, лишённый воды, опустел. Жители, бросив дома и сожжённые солнцем пашни, ушли в другие страны. Многие погибли в пути от жажды, другие попали в рабство. Стали рабынями и все сто жён эмира.
А незадачливый игрок даже не вернулся в свою страну. Шах милостиво оставил бывшего эмира у себя на службе, доверив ему управление конюшнями.
... Среди песчаных гряд, которые мы сейчас пересекаем, купаясь в горячей пыли, и текла, видно, река, проигранная в карты. Но где же её следы?
Весь день плывём мы по неспокойному песчаному океану. Могучий гусеничный трактор взял на буксир пять наших грузовиков и с рёвом поволок через бугры, гряды, котловины. За день «проплыли» километров тридцать. И всё одно и то же: бугры, поросшие редкими кустами, голые барханы, курящиеся на ветру, подобно вулканическим сопкам, опять бугры, опять барханы.
Да полно, была ли река?! Мог ли тут пробиться к морю, не иссякнув на полдороге, водный поток? Вон и сам сказочник лукаво подмигивает нам из кузова впереди идущей машины.
Уже под вечер — очередная остановка. Впереди и по сторонам — те же гряды. Но тракторист почему-то отдал трос, помахал нам рукой и, прибавив газа, ушёл налегке. Неужели бросил нас в песках?
— Приехали!
Леонид Сергеевич поднимается на гряду, жестом приглашая нас следовать за ним.
Мы достигли вершины, и вдруг усталость как рукой сняло. Прямо под собой мы увидели реку! Да, настоящая, полноводная река. Широко и вольно раскинулась пойма, поросшая травами. Рябится
Ветерок шумит в тростнике, пошевеливает тёмно-зелёные купы тама-риска.
— Мираж! — тихо произнесла рядом со мной Наташа, облизывая сухие губы. — А искупаться охота до чего!
— Анна Сохат, где ты?! — закричал Валерий. — Смотри, тут дело нечисто. Наверное, твой эмир через тысячу лет встал из гроба и отыграл у шаха реку!..
А Леонид Сергеевич уже водит свой киноаппарат то по камышам, то по зарослям тамариска, то вдоль высокого коренного берега, где торчит среди бугров каменистый, гладкий, как мраморный стол, останец.
Вот объектив киноаппарата задержался на стройной женской фигуре у куста кандыма, неподалёку от нас. Это геоморфолог Вера Андреевна.
Почувствовав, что её снимаьот, Вера Андреевна повернула голову, улыбнулась и подошла к нам.
— Семнадцать лет я не была в этих местах, — задумчиво сказала она. — В таких случаях говорят: много воды утекло за эти годы. Но тут не текла вода по руслу тогда, не течёт и сейчас.
— Так, значит, вода внизу и в самом деле мираж? — воскликнул я.
— Нет, не мираж. Вода настоящая, но очень солёная. Ведь это Западный Узбой, — русло давно исчезнувшей реки. Тут, в излучине, образовалось солёное озеро. А немного подальше, в русле же, есть и пресное озеро, мы в нём ещё сегодня успеем искупаться.
— Но как могла высохнуть такая огромная река? Ведь она тут шириной чуть не с Днепр. Не проиграл же её в карты эмир, как рассказывает Анна Сохат!
Вера Андреевна чуть улыбнулась:
— Предание о реке, проигранной в карты, я прочитала у арабского географа Макдиси, когда
ещё была студенткой. Очевидно, эта легенда бытует и в народе. Как и почему высохла река на самом деле, — долго сейчас расказывать. Мы ведь все вместе пройдём вверх по руслу почти до самых истоков Узбоя. По дороге попробую ответить вам на этот вопрос. Но должна сказать, что наука ещё не всё знает о таинственной реке, покинувшей русло. Быть может, и в легенде, рассказанной Сохатом, есть доля правды...
Наутро, искупавшись в пресном озере, мы отправились дальше. Наши грузовики шли теперь без помощи трактора. Лавируя в русле и на террасах Узбоя, обходя песчаные гряды и вязкие солончаки, подкидывая кое-где под колёса толстые жердины-шалманы, мы кое-как двигались вперёд.
Судьба исчезнувшей реки волновала нас всё больше. Нам удалось пройти на машинах почти до самых истоков Узбоя. Мы встречали в русле и пресные и солёные озёра, и колодцы с горько-солёной водой, и пласты соли, искрившиеся в излучинах подобно первому ледку, и просто серую грязь, перемешанную с солью. Круто же просолила природа эти места!
Мы видели в русле пороги и каньоны, старицы и водопады — то, что можно видеть, совершая путешествие вдоль реки. Не было лишь того вечного, безостановочного движения, чем так привораживает нас даже самая малая живая речушка.
Больше всего изумляла нас свежесть речной долины, «готовность» пустого русла вновь принять воду. Будто коварный шах вот сейчас, а не десять веков назад, воздвиг свою плотину, отведя реку на север. Чистые, словно срезанные ножом, зеленоватые откосы крутых берегов, жёлтые барханы, грозно нависшие над руслом, но почему-то не заносящие его песком, — всё, казалось, говорило, что Узбой иссяк только что.
Стоянки были часты. Но они устраивались не для отдыха. Пока Анна Сохат и Яр-Мамед готовили еду, все участники экспедиции разбредались
по террасам реки. Каждый делал своё дело, а иногда все собирались возле интересного обнажения, возле какого-нибудь колодца с протухшей зеленоватой водой или у ямы, вырытой почвоведами.
Вера Андреевна пересела в нашу машину: поработала с почвоведами, теперь надо пройти часть маршрута с ботаниками.
Кажется, нет ничего однообразнее ландшафта пустыни. Но мы уже не раз убеждались, что именно в пустыне путешественнику уготованы неожиданности. На пятый день пути, когда мы ехали по самому руслу, за поворотом, прямо перед нами неожиданно встала зелёная роща. Да, роща, и не какая-нибудь низкорослая, саксауловая, а настоящая лиственная, с высоченными прямыми деревьями, увенчанными пышной кроной, — ну, словом, как у нас на Елагином острове или где-нибудь на бульварах Большого проспекта.
Мысль о мираже пришлось сразу оставить. Я уже давно решил про себя, что если миражи и бывают где-нибудь, т© не в пустыне! Видишь лесок, — он леском и оборачивается, видишь воду, — она вода и есть!..
И роща — тоже не видение. Вон вымахнул оттуда крупный самец-джейран с лировидными рогами и понёсся, едва касаясь копытцами земли.
— Эх, хорош! — простонал Леонид Сергеевич. — Бить их запрещено, я и ружья не взял, чтобы уж от греха подальше.
Вера Андреевна не обратила внимания на джейрана.
— Тоголёк! — воскликнула она и даже привскочила с сиденья, ухватившись за перекладину фанерного верха. — С этой рощей меня многое связывает. Смотрите, как выросли деревья. И целы все.
— Я не был здесь четыре года и то замечаю си льную перемену, — отозвался Леонид Сергеевич. — Тополя ведь вообще растут, как на дрожжах.
— Я думаю, что начальство объявит здесь днёвку, — сказала уже более спокойно Вера Андреевна,
усевшись. Она взглянула на девушек и, заметив, очевидно, что те сгорают от любопытства, добавила:
— Тут, если будет днёвка, я уж вам всё расскажу — и про Узбой, и про басмачей.
В роще было три пресных колодца, — вернее, три колодезных отверстия, вырытых рядом, и начальство действительно устроило днёвку. Это не значило, конечно, что мы собирались спать весь день под сенью деревьев.
Ботаники прежде всего занялись тополями. Леонид Сергеевич заснял рощу в разных планах и определил высоту стволов. Наташа и Люда пересчитали деревья — их набралось больше полусотни — и портновским клеёнчатым метром обмерили некоторые стволы. Валерий залез на верхушку самого большого тополя и срезал ветку для гербария,-
Почвоведы отрыли шурф — глубокую, с отвесными стенками, прямоугольную яму и взяли пробы для лабораторных анализов из разных горизонтов. Вера Андреевна весь день провела на узбойских террасах.
Вечером все собрались у костра. По поводу днёвки был сварен «большой плов»: с луком, с сушёной морковью, с маслом и с каурмой — пережаренными в курдючном сале кусочками баранины. Каурма, которую Андрей сразу же окрестил «кутерьмой», сохраняется свежей в самую сильную жару неделями, а то и месяцами. Мы возили её дней сорок в ведре, закрытом сверху клеёнкой. Это мясные консервы, придуманные людьми пустыни, быть может, много веков назад.
За чаем нас обыкновенно услаждал своими сказками, а то просто побасёнками или анекдотами Сохат. Но в тот вечер рассказывала Вера Андреевна, а старый сказочник уважительно слушал «Женщину Чёрный волос».
Вот что мы узнали об исчезнувшей реке и о людях, выпытавших у природы многие тайны мёртвого русла.
... В начале тридцатых годов, жарким майским
утром, из белого городка, лежащего у западных отрогов Копет-Дага, вышел караван. Шестьдесят навьюченных дромадеров вытянулись на подгорной равнине в ровную ниточку.
Караван, снаряжённый Академией наук СССР для географических исследований в пустыне, выглядел необычно: у молчаливых проводников на вьюках лежали винтовки. Два молодых человека и девушка, ехавшие сбоку от каравана на низкорослых иомуд-ских конях, также были вооружены: у мужчин за спину были закинуты карабины, у девушки из кобуры, висевшей на поясном ремне, выглядывала рукоятка нагана.
Молодые люди, для которых снарядили караван, не были новичками в пустыне. Географ Георгий Васильевич за несколько лет до того обследовал Сары- камышскую впадину, бывшую некогда огромным озером. Гидрогеолог Виталий Петрович жил в Средней Азии и разрабатывал планы орошения пустыни. Самая молодая участница экспедиции, Вера Андреевна, тогда ещё для всех Верочка, только что кончила Ленинградский университет. Но она уже бывала в юго-восточных Кара-Кумах.
Сейчас все трое шли с караваном к Узбою. Их увлекла загадка мёртвой реки.
Пограничники долго не разрешали им выйти в маршрут. Наконец командир отряда сказал Георгию:
— Что ж, поезжайте, раз уж так необходимо. Оружия у вас достаточно — шестнадцать винтовок, два карабина и наган. Управитесь, если что. Только держитесь вместе, не отрывайтесь от каравана. В песках ещё остались отдельные группы басмачей.
Караван дошёл благополучно до пресного озера Ясхан. Отсюда экспедиция отправилась вверх по Узбою. У колодцев создавали базы: закапывали в сухой песок ящики и мешки с продуктами, с овсом для коней. Лишних разгруженных верблюдов отсылали назад в городок.
Никто не попадался им на пути- Учёные видели только следы недавних стычек — стреляные гильзы
с маркой британской фирмы, остатки воинского снаряжения.
Проводники расчищали колодцы, куда басмачи, убегая, набросали дохлятины.
Вера пока вела только беглые дневниковые записи, отмечая те места, которые собиралась подробно исследовать на обратном пути. У неё оставалось время, чтобы просто полюбоваться удивительным руслом и береговыми террасами, которые хорошо прослеживались почти на всём пути.
Не могло быть сомнения в том, что перед ней русло реки. Но именно это Вере н её спутникам предстояло доказать. Доказать или опровергнуть, в зависимости от результатов изысканий.
Иногда, в звёздные прохладные ночи, когда лагерь затихал и только часовые ходили вокруг бивака, ей начинало казаться, что всё происходящее — сон. Не странно ли: они пришли в пустыню с оружием в руках, чтобы решать чисто научный спор, возникший ещё в восьмидесятых годах прошлого века!
В те годы, сразу после присоединения туркменских земель к России, в -Кара-Кумах побывали многие русские учёные. Молодой горный инженер Владимир Афанасьевич Обручев — впоследствии академик, всемирно известный учёный — приехал на Западный Узбой в сопровождении двух верховых казаков. Геологу надо видеть земную кору в разрезе, И Обручев решил воспользоваться глубокими колодцами. Казаки спускали учёного в ведре, на аркане.
Возвратившись в Петербург, Обручев опубликовал свой труд, в котором доказывал, что Узбой — типичная речная долина. Река, протекавшая по этой долине, брала своё начало из Сарыкамышского озера, которое питалось некогда Аму-Дарьей. Обручев опровергал доводы другого русского геолога, Коншина, который доказывал, что Узбой не что иное, как высохший пролив, соединявший Аральское море с Каспийским.
Вскоре после того в Кара-Кумах побывал известный немецкий исследователь пустынь Иоганн Вальтер. Он, как и Коншин, пришёл к заключению, что Узбой никогда рекой не был. Но и проливом, по мнению Вальтера, русло тоже не служило. Что же это, если не река li не пролив?
В пустынях Африки и Северной Америки есть сухие долины, вади. Их неправильно принимали за русла исчезнувших рек. Вади образованы мощными ливнями, которые иногда, очень редко, изливаются в пустынях. Ветры дополняют работу ливневых потоков. Образуется подобие русла.
Если вади есть в Сахаре, решил Вальтер, то они могут найтись и в Кара-Кумах. Узбой — типичное вади.
Русло высохшей реки, вади, морской пролив! Кто же тут прав?
Готовясь к поездке на Узбой, Вера проштудировала в Публичной библиотеке вышедшую в девяностых годах прошлого века книгу с очень длинным названием: «Пропуск вод Аму-Дарьи по старому её руслу в Каспийское море и образование непрерывного водного Аму-дарьинско-каспийского пути от границ Афганистана по Аму-Дарье, Каспию, Волге и Мариинской системе до Петербурга и Балтийского моря».
Этот труд, отмеченный на всемирной выставке в Чикаго в 1893 году золотой медалью, написал русский офицер, блестящий топограф и талантливый гидротехник А. И. Глуховскои. Он в те же восьмидесятые годы вёл длительные исследования на Узбое н первый положил на карту всё русло. Топографические карты и продольный профиль долины Узбоя приложены были к книге. Вера знала, что Глухов-ской и его сотрудники выполнили ещё множество поперечных профилей (то есть поперечных разрезов) русла. На обработку этих профилей Глухов-скому не хватило денег, и материалы попали в какой-то архив. Но в какой?
После долгих поисков следы привели в Ташкент. Там нашлись материалы экспедиции Глуховского и
среди них — восемьсот поперечных профилей, «поперечников», как их называют топографы, — долины Узбоя.
Это были драгоценнейшие документы. Они позволяли молодым учёным делать сравнения с тем, что было полвека назад. Виталий Петрович, например, закладывал скважины в тех же местах, где бурили полвека назад сотрудники Глуховского. Пользуясь данными своих предшественников о залежах солей в русле, гидрогеолог легко мог определить, насколько прибавился в толщину пласт соли за пятьдесят лет.
Но молодым учёным надо было решать и такие вопросы, которые не входили в планы исследователей восьмидесятых годов прошлого столетия. Материалы Глуховского не раскрывали, да и не могли раскрыть историю формирования долины исчезнувшей реки. В конце прошлого столетия геоморфология — наука, изучающая происхождение и развитие рельефа, — только зарождалась.
Все эти холмы, гряды, каменные останцы, низины — откуда они произошли, каков их геологический возраст? Топографа это не занимает; он обязан лишь верно нанести на карту условными линиями и знаками то, что видит.
Вера — геоморфолог. Помимо топографии, она изучала и геологию, и геофизику, и геоботанику, и почвоведение, и климатологию. Она должна постараться прочитать историю исчезнувшей реки.
Перед ней возникали каждый день всё новые и новые вопросы. Чтобы ответить на них, надо было наблюдать и сопоставлять.
Характер отложений показывает, что течение в русле прекратилось очень давно, вероятно два — три тысячелетия назад. Но почему же глубокие каньоны, над которыми нависли грозные сыпучие барханы, не занесены песком?
В русле возникали часто, особенно в жаркие часы, пыльные вихри. Они досаждали Вере и её друзьям. Столб пыли налетит внезапно, иногда при полном безветрии, на стоянку, унесёт бумаги, шляпу, припудрит песком еду.
«А ведь эти вихри возникают в понижениях, где почва особенно раскалена», — подумала однажды Вера, гоняясь за шляпой, унесённой пыльным столбом. Таким способом из русла выметается всё, что приносит туда ветер. Образуются восходящие токи, они как бы охраняют русло от засыпания. Ну, а зимой, когда в пустыне холодно? Да, тогда восходящих токов нет. Но тогда и барханы почти не развеиваются, — песок увлажнён, а иногда и прихвачен морозом!
Отряд двигался медленно, от излучины к излучине, от колодца к колодцу. Сухой жар отнимал силы. Лишь прохлада ночи прогоняла усталость.
Молодые люди, забыв предостережения пограничника, часто работали одни. Немыслимо вести гружёный караваи по всем излучинам узбойского русла. И учёные отправляли проводников с верблюдами к месту ночлега напрямик, а сами на лошадях шли вдоль русла.
И вот однажды под вечер им пришлось неожиданно вспомнить напутствие командира пограничного отряда.
..Тут Вера Андреевна прервала свой рассказ и, протянув пиалу, попросила Сохата налить ей немного чая:
— Ничего, что холодный, даже лучше.
Мы сидели, не шевелясь. Стояла такая тишина, что слышно было дыхание соседа. Костёр догорел, и спокойное, немного суровое лицо рассказчицы освещалось только красноватым отблеском углей.
Вера Андреевна неторопливо сделала несколько глотков п, отставив пиалу, будто что-то припоминая, машинально тронула шрам на левой щеке.
... В тот памятный день стоянка была назначена у Тоголёка. Верблюдов отправили, как и обычно, по кратчайшему пути. Вера и Виталий подъезжали к месту ночлега на закате. По их расчётам караван
уже был на биваке. Георгий отстал, — он часто сворачивал, чтобы осмотреть пески по берегу Узбоя.
До Тоголёка оставалось километра два, когда спутник Веры, ехавший немного впереди, вдруг придержал коня и, нервно путаясь в ремнях, стащил с себя карабин.
— Что? — негромко спросила Вера, подъехав.
Виталий мотнул головой вперёд. Вера увидела отпечатки лошадиных копыт. Следы, словно сабля, полоснули русло поперёк. Всадники только что проскакали, — на увлажнённом сером солончаке темнели комочки свежей земли, выброшенные из-под копыт.
«Георгий один», — промелькнуло у Веры в голове. Она хотела сказать об этом, но не успела. Раздался сухой треск — и сразу над ухом коротко и зло просвистело: «фьють!»
Потом затрещало раз за разом — сильно, оглушающе, рядом с ней, и потише — там, у бугорка на правом берегу, где кружились на вороных конях какие-то люди. И вдруг она поняла, что держит наган (она не могла потом вспомнить, как доставала его из кобуры) и он дёргается, будто хочет выскочить из руки и врезаться в тех, что у бугорка. В памяти возник молоденький, наголо остриженный пограничник-украинец, обучавший её обращению с оружием: «Тильки тягните, тягните за спуск, вин же самовзвод, цей наган».
Что-то укусило её в щёку возле уха.
«Слепень», — подумала Вера. Но она не могла смахнуть докучливое насекомое, потому что левой рукой держала повод, а правой всё «тягнула» и «тягнула» спусковой крючок, хотя наган уже перестал дёргаться: кончились патроны.
Внезапно сильный треск возле неё участился. Донёсся радостный крик подоспевшего Георгия, и она яснее различила тех, кто стрелял в неё. В своих высоких бараньих шапках, в халатах, перепоясанных ремнями, они на быстрых вороных конях уносились прочь. Оба спутника Веры ещё с минуту продолжали вести огонь бандитам вдогонку.
— Трусы! — исступлённо хохоча, закричал Виталий вслед басмачам, когда они скрылись. — Подлые они трусы! Ведь я стрелял впервые в жизни и совсем не целился, — нельзя же, когда лошадь крутится под тобой... Идиот я, надо было спешиться, тогда бы всех перещёлкал!..
Тут он увидел на щеке у Веры кровь и бросился к девушке. Неумело, мешая друг другу, молодые люди вдвоём кое-как наложили повязку.
А из тоголёкской рощи, где расположился караван, спешили на выстрелы вооружённые проводники...
На ночь вокруг рощи выставили усиленное охранение. Но бандиты больше не показывались.
На другой день экспедиция двинулась дальше по своему маршруту. В чистом воздухе пустыни, почти лишённом микробов, пулевая царапина на щеке Веры зажила очень быстро. Басмачей участники экспедиции ни разу больше не встречали.
Больше трёх месяцев провёл отряд на Западном Узбое, н молодым исследователям удалось раскрыть многие его тайны. Обручев и Глуховской оказались правы: это не вади, не морской пролив, а речная долина. И река и Сарыкамышское озеро высохли очень давно, — две — три тысячи лет назад. Произошло это потому, что Бешеная река отвратила свои воды от Сарыкамышекого озера. Как это случилось, — предстояло ещё выяснить. Надо выпытать у природы поточнее н время гибели реки. Вера Андреевна для этой цели и ездила с нами и с почвоведами по Узбою.
История блужданий Бешеной реки и всех её рукавов интересует не только науку. Ещё тогда, в начале тридцатых годов, Виталий Петрович рассказывал Вере о многочисленных проектах обводнения пустыни. Воображению молодого гидрогеолога рисовались гигантские каналы, по которым мутная, желтобурая вода Аму-Дарьи доходит до самого Каспия.
Ныне один из этих смелых проектов осуществляется. Советские люди прокладывают канал, по которому животворные воды Аму-Дарьи потекут далеко на запад, — на Мары, на Теджен, а потом и за Ашхабад.
Быть может, в будущем осуществят проект, выдвинутый ещё Глуховским, — о пуске аму-дарышских вод до Каспия по Западному Узбою. Советский народ всерьёз взялся за освоение пустынь, таящих большие богатства...
Вера Андреевна, закончив рассказ, примолкла. Костёр давно погас. Стало прохладно.
Молчание нарушила Наташа:
— Скажите, Вера Андреевна, а где сейчас ваши спутники по узбойскому маршруту?
— Георгин Васильевич в Москве, в Академии наук. Виталий Петрович, как и я, в Ташкенте. Все мы сохранили, конечно, верность пустыне. И не только мы. Недавно мы с Виталием Петровичем рассказали об Узбое нашему сыну, семикласснику. И он уже просится в маршрут. Он хочет строить канал в Кара-Кумах. На меньшее не согласен!..
На другое утро старый Анна Сохат, когда мы с ним были наедине, сказал мне, что он много думал и ещё будет думать над тем, что рассказала женщина Чёрный волос. Он считал, что никто лучше его, Сохата, не может рассказать про Лжеихун. Но он знает только то, что было. Женщина Чёрный волос знает и то, что будет с Бешеной рекой.
ВЕЛИКИЙ ГОРИЗОНТ
ПУХЛЯК
Воды пустыни солоны по-разному. Среди пятнадцати тысяч каракумских колодцев найдутся и «сладкие», с пресной питьевой водой, и солоноватые, и крепко просоленные, с сероводородным душком, и просто горько-солёные. Есть даже колодец Яр-Аджи — полугорько-солёный!
Добытчики воды, пастухи и водители караванов неспроста выделяют так старательно все оттенки солёности. Из полугорько-солёного колодца нельзя поить коня, но верблюды и овцы охотно пьют такую воду. А если на твоём пути лежит «аджи», без приставки «яр», то уж лучше обходи такой источник стороной.
Что же нам уготовано здесь, на Кара-Имане? Все столпились вокруг наклонной стойки, жадно вглядываясь в таинственную черноту, куда уже спущено оцинкованное ведро...
Мы искали этот колодец весь день. Валерин в конце концов стал уверять нас, что источник заколдован. Самое название колодца даёт пищу для таких предположений. «Иман» — не то «духовное лицо», не то «святой», не то «блаженный»! Чёрный Иман! Кто он был? Не изгнал ли его аллах в эти мрачные места за тяжкие прегрешения? Анна Сохат, у которого на всё всегда находится ответ, на этот раз ничего не смог нам рассказать. В другое время он бы просто выдумал какую-нибудь историю, а тут даже ему не хотелось балагурить. Сохат, как и Меред и Курбан, едущие с нами, ни разу не был на этом плато, — оно лежит в стороне от караванных путей и песчаных пастбищ. Есть и в пустыне свои заброшенные уголки!
... Началось всё в Мелекоче, за тоголёкской рощей. Там сводный экспедиционный отряд разделился. Одна группа, во главе с Леонидом Сергеевичем, осталась на Узбое. Вторую Илларион Петрович повёл на грузовиках Андрея и Никанорыча по таким местам где никто из участников экспедиции не бывал.
На карте всё выглядело просто. Так, по крайней мере, представлялось нам, новеньким, которых пустыня до этого маршрута баловала.
Думалось: что стоит проделать на машинах трёхсоткилометровый крюк, если на пути нет главного препятствия — барханов? Пески Уч-Таган, вылезающие на север длинным стокилометровым языком, мы объедем. Затем обогнём впадину Кара-Шор и южным краем Устюрта спустимся к Узбою у колодца Чарышлы.
В Мелекоче нам не удалось пополнить запасы воды. Тамошний хак почти высох. На дне этой дождевой ямы, вырытой в понижении, оставалось немного илистой мути, в которой копошились круглоголовые рачки и головастики. Возвращаться за водой в тоголёкскую рощу значило — потратить лишние сутки. А нас сжимали тиски экспедиционного плана, расписанного чуть ли не по часам.
Да и какая нужда тащиться в Тоголёк? На нашем пути лежат три колодца. Подступиться к ним нетрудно, машина везде пройдёт: Устюрт — глинистая пустыня с твёрдым грунтом.
Но наших начальников что-то беспокоило. Перед выездом Василий Алексеевич, обычно не проявлявший интереса к хозяйственным делам, залез в машину Андрея и тщательно вымерял прутиком уровень воды в двух столитровых бочках. Третья бочка, трехсотлитровая, стояла в кузове у Никанорыча пустой. Потом Василий Алексеевич совещался в сторонке с Илларионом Петровичем. Оба профессора долго сидели над раскрытыми планшетами, ещё и ещё раз высчитывая что-то по карте. До нас донеслась только одна фраза:
— На машине ведь всё-таки ппкто не пробовал с этой стороны подняться на Устюрт.
После этого совещания Илларион Петрович объявил, что запрещает, впредь до прихода на Чары-шлы, умывание и мытьё посуды. Про себя мы решили, что это излишняя предосторожность.
Выехали, как обычно, с рассветом. Грузовики шли по ровной, рыхловатой равнине, поросшей кое-где боялычем — низеньким жёстким полукустарником.
В машине Андрея нас было пятеро: Валерий, я и неразлучная троица — Марина, Люда, Наташа. В кузове у Никанорыча, ехавшего впереди, сидели оба профессора, Сохат, Курбан и Меред.
Наши водители, попав в пустыню, оба вдруг совершенно переменились, но на разный лад. Андрей, донимавший всех на городской базе всяческими требованиями, предостережениями и даже угрозами, в дороге оказался весёлым и отзывчивым спутником. Сев за баранку, он перестал жаловаться и предъявлять претензии, понимая, очевидно, что те нерь это уже бесполезно. Машину Андрей вёл смело, с какой-то умной лихостью. Он часто проходил на своей полуторке без запинки там, где другие шофёры безнадёжно застревали.
Никанорыч в Кизыл-Арвате никого не теребил. Он коротал часы в столовой близ базара. Сидя за пиалой чая или за кружкой ашхабадского пива, он
заводил длинные беседы с разными людьми. Ему, как видно, было всё равно, с кем и о чём говорить. Мы считали его добродушным, немного ленивым человеком, любящим иногда выпить лишнее. А в пути он вдруг обернулся сварливым, постоянно раздражённым ворчуном.
Этот ворчун был отнюдь не старым человеком. Мы не могли взять в толк, почему три адат и летний Григорий Никанорович, знакомясь с кем-нибудь, представлялся:
— Никанорыч! Я уж по-стариковски так называюсь.
Машину Никанорыч знал хорошо, — плохого шофёра не взяли бы в пустыню, — но не щадил её, постоянно прибегал к «силодёру». Рванёт что есть силы, «на всю железку» — и завязнет в мокром солончаке или на песчаной пересыпке...
Мы уже часа три в дороге. Поначалу всё идёт хорошо. Волнуется только Марина. Илларион Петрович назначил её «главным ботаником» в этот маршрут. Ей, аспирантке, надо отвечать за точность и полноту всех ботанических описаний, за гербарий. И вот Марина сидит с раскрытым дневником на коленях, смертельно боясь прозевать что-нибудь.
— Смотрите, ферула появилась! — восклицает она вдруг, показывая на странные, пожелтевшие травянистые растения, несколько напоминающие сухие кукурузные стебли. — Но какая она здесь низкорослая! На Бадхызе ферула куда выше человеческого роста.
Бадхыз — район юговосточиых Кара-Кумов, лежащий вблизи афганской границы. Марина успела побывать на Бадхызе в прошлом году. Однажды она заблудилась там в своеобразном лесу. Лес оказался не саксауловый, как можно подумать. Это была сплошная заросль ферулы, которую туркмены называют чомучем.
Чомуч как раз цвёл. Марину окружали гигантские соцветия, распустившиеся на высоких стрелках, имевших вид пустотелых столбов. Под пологом странного леса пышно цвели весенние цветы — эфемеры. Не хотелось верить, что уже в мае солнце убьёт ферулу, что и осока и эфемеры очень скоро увянут и пожелтеют...
Чомуч — древнее растение. Оно сохранилось во флоре пустыни с третичного периода. Цветёт и плодоносит ферула один раз за всю свою жизнь.
К полудню мы достигли Отуз-Кулача, первого колодца, лежащего на нашем пути. Сохат, ещё не заглянув в колодезное отверстие, спросил, есть ли у нас сорокаметровая верёвка.
— Верёвки у нас шестьдесят метров, — ответил Валерий, — но ты-то откуда знаешь, что нужно как раз сорок?
Анна Сохат развёл руки:
— Кулач — видишь, что такое? «Отуз» — по-туркменски — «тридцать».
Отуз-Кулач — тридцать размахов рук. Это действительно около сорока метров. Тот, кто держит путь на этот колодец, знает заранее, какая ему понадобится верёвка!
Сохат вставил в раздвоенную стойку вертушку, приладил верёвку. Вот и первое ведро воды. Ох, чёрт!.. В нос шибануло вонью тухлого яйца. Ничего, запах сероводорода после кипячения исчезает. Как на вкус? Солёная, пить нельзя, — заключает Сохат, отведав прямо из ведра.
Такую воду, конечно, брать не для чего. К вечеру дойдём до следующего колодца. Тот уж наверняка пресный. На карте и пометка есть — «пр.».
Илларион Петрович сделал глоток, выплюнул, поморщился и... велел наполнить трехсотлитровую бочку!..
— Заливайте под самую пробку, — коротко добавил он, не вдаваясь ни в какие объяснения.
Подводя машину задним бортом к колодцу, Ни-канорыч бурчал:
— Начальству виднее. Чего доброго, ещё и пить заставят этакую дрянь...
Мужчины, взявшись за верёвку, встали в ряд. Все,
кроме Никанорыча, который уселся на подножку и закурил. Уселся по праву: шофёры в дороге освобождаются от всякой работы, кроме ухода за машиной. Но Андрей был с нами в ряду.
Тридцать пробежек от колодца — по сорок метров каждая — и бочка наполнена.
Миновав Отуз-Кулач, мы стали замечать, что машины замедляют ход. К ровному привычному шуму моторов примешался какой-то натруженный гул. Мы поднимались на Челюнг-Кыр, прилегающий к собственно Устюрту. Кырамп туркмены называют возвышенные равнины. Наука позаимствовала этот термин из народного географического словаря — точного и выразительного. Кыры имеют одну особенность — на них, как правило, не бывает песков. Местность, хотя и возвышенную, но покрытую песками, туркмены называют иначе. Пастуху, караванщику, путешественнику, разумеется, важно знать это различие.
Знали, конечно, и мы, что песков на Челюнг-Кыре не встретим. Знали и то, что придётся преодолеть подъём — длинный, ровный, пологий, — стало быть, доступный для автомобиля.
Так почему же наши полуторки идут с таким трудом?
Андрей переключил скорость и, высунувшись из кабины, стал разглядывать дорогу. Колёса барахтались в сухой, пепельно-серой пыли. Хотя в эту массу погружались только покрышки, машина продвигалась вперёд подобно смертельно усталому путнику, которому каждый шаг стоит громадных усилий.
На стоянке Андрей, потоптавшись в серой пыли, обронил уютное, кругленькое словцо:
— Пухляк!
Я выпрыгнул из кузова, но почти не ощутил толчка. Ноги неслышно погрузились по щиколотку во что-то мягкое и действительно пухлое. Шагнув, я почувствовал неприятную вязкость. Ходить было неудобно. Вероятно, такое ощущение возникло бы,
если б меня принудили топтать муку, насыпанную толстым слоем.
— Почти никакого сцепления, — негромко произнёс Андрей, разглядывая свои голенища, покрытые слоем серой пыли. — Хуже песка. И шалманы не помогут. Нельзя же вести машину сто километров на деревянных подкладках. Пиликай на первой скорости, чуть побыстрее верблюда — и баста... Видишь, самовар поспел, — он кивнул на радиатор, откуда выбивался пар. — Так будет каждые полчаса. Вес время доливать придётся. Илларион Петрович — голова. Если бы не залили большую бочку, то пришлось бы на этом пухляке позагорать...
— А я солёную воду в радиатор наливать не собираюсь! — Никанорыч по пухляку бесшумно подошёл сзади и слышал последнюю фразу. — Не стану правила эксплуатации нарушать. Пускай профессора поворачивают оглобли назад!
— Брось свои фокусы, Гришка! — вскипел Андрей. — Вода годится для радиатора, ты это знаешь не хуже меня. А назад — раки ползут. До Тоголёка два дня ходу: язык вывалишь. Давай шланг, я пойду бочку открывать!
Никанорыч, бормоча ругательства, полез в кабину за шлангом...
А наши профессора, достав из чехлов ножи, спустились в шурф, вырытый вблизи стоянки Мередом и Курбаном. Покопавшись в отвесных стенках ямы, они тут же, не вылезая наверх, заспорили.
Илларион Петрович горячился. То выколупает кусок земли и нервно разминает его длинными тонкими пальцами, то размахается перед носом Василия Алексеевича сверкающей на солнце финкой.
Низкорослый худенький Василий Алексеевич спокойно поглядывал на противника снизу вверх и только иногда подкреплял свои доводы коротким жестом.
Я вспомнил, как на Узбое один ботаник, глядя на двух почвоведов, вот так же споривших в шурфе, шутливо сказал мне:
— Пожалуй, пора их разнять или отобрать ножи. Но без ножа почвовед — ничто, он и спорить бросит. Ему же колупать надо всё время. А из-за чего шум, прислушайтесь: один твердит, что почва бурая, другой — что оливковая...
Оба наших профессора — большие знатоки земель пустыни. Василий Алексеевич изучил все типы пустынных почв Средней Азии и составил почвенные карты многих районов.
Илларион Петрович и почвовед, и геолог, и географ. Он не только изъездил Туранскую низменность, но бывал и в других крупнейших пустынях земного шара — Сахаре и Гоби.
В шурфе оба профессора завели спор о серо-бурых почвах, то есть о пухляке. Шофёрский термин «пухляк» наука, впрочем, тоже признаёт. Учёные нередко употребляют это словцо. Илларион Петрович доказывал, что серо-бурые почвы Челюнг-Кыра вполне пригодны для орошаемого земледелия. Конечно, сюда очень трудно подвести воду, её пришлось бы накачивать мощными насосами. Но это уже другое дело. А земля хороша.
Василий Алексеевич тоже полагал, что земля пригодна для земледелия, но не вполне. Нужно учитывать, что самые верхние горизонты почвы подстилаются гипсом. А он вреден для некоторых растений.
Курбан и Меред, опираясь на свои лопаты, с глубоким вниманием слушали спор двух учёных. Развести бахчу на этой земле! Сохат в своих сказках и то не мог выдумать такого...
Пусть даже не дети, а подрастающие внуки Курбана и Мереда будут сеять тут пшеницу, разводить виноградники и бахчи. Внукам спор двух учёных принесёт пользу. Поспорив, учёные составят очень точное, беспристрастное описание пухляков, возьмут в мешочки пробы из разных глубин. Это описание и эти пробы серой сухой земли, доставленные в Ташкент и Москву, послужат документом для тех, кто в будущем возьмётся за освоение земель далёкого кыра...
А пока что пухляк держал в мягких, липучих объятиях колёса наших полуторок. Машины шли всё медленнее, вода в радиаторах закипала всё чаще.
Девушки, всегда без умолку щебетавшие в кузове, притихли. Только наши начальники и на стоянках и в пути, судя по жестикуляции, продолжали свой бесконечный спор о серо-бурых почвах.
На большом привале нам не удалось натянуть тент: ни штыри, ни колышки не держались в пухляке. Пришлось искать укрытия от солнца в тени грузовиков.
Когда все собрались к обеду, Илларион Петрович спокойно объявил:
— Чай будем пить по норме, товарищи. Кипятить каждый раз из расчёта — литр на человека. Водителям, сверх этого, разрешаю наполнять фляги из общих чайников. Вас, Валерий, я попрошу проследить, чтобы этот порядок точно выдерживался.
Он ничего не объяснял, — да это и не требовалось, — но, помолчав, добавил:
— Должен ещё сообщить: в виде особого исключения, нам придётся продолжать наш путь всю ночь. Это нарушает план, значительный участок Челюнг-Кыра останется вне поля нашего зрения, но зато вода не будет кипеть в радиаторах так часто.
Вечером Андрей попросил Валерия пересесть в кабину.
— Следи за мной, — предупредил он. — Толкай под бок, пой песни, рассказывай какую хочешь дребедень — только не давай спать.. Да, скажи Сохату, — не сядет ли он к Гришке. Старик своими байками мёртвого разбудит.
Мы двигались почти до рассвета. Машины останавливались реже, чем днём, но всё-таки водители раза три доливали воду в радиаторы.
Наши начальники знали, конечно, что до колодца, который должен был нам встретиться вечером, еше далеко. Они следили всё время за картой, компасом и спидометром полуторки.
За всю ночь попалось нам лишь одно живое существо. То был тушканчик. Смешной зверёк, с крохотными передними лапками и длиннущим хвостом, в лучах фар казался белоснежным. Тушканчик с минуту вертелся на свегу перед машиной, и мы боялись, что он попадёт под колесо. Но, оттолкнувшись сильными задними лапками, он вдруг сделал мощный прыжок в темноту и пропал.
На стоянке, перед утром, все повалились спать без еды и даже без чая. Природа, словно сжалившись над нами, подарила нам прохладное утро, и мы спали в мешках часа три крепчайшим сном.
Потом — снова в путь. И снова под колёсами — серый пухляк. Нет ему ни конца, ни края. Воистину же это не земля, не почва, а прах!
Постепенно пас охватывало гнетущее чувство. Я сначала не мог понять, откуда это ощущение полной отрешённости, словно тебя забросило на необитаемую планету и ты уже никогда не вернёшься на родную землю с её зелёной травой, с её пахучей свежестью, с её сырыми задумчивыми туманами.
Откуда же возникло ощущение заброшенности, одиночества? Ведь мы не первый день в пустыне, мы к ней уже привыкли.
Вокруг нас нет ничего живого, — вот это отчего.
' Солнце сожгло растения, испепелило и самую землю. А те, кто питается растениями, либо ушли, либо погибли.
Вот мы пересекаем узенькую хорошо натоптанную тропу. Её проложили антилопы-джейраны. По свежих следов нет. Джейраны убежали, наверное, в пески, где есть зелёный саксаул. Его сочными побегами они утоляют и голод и жажду. Покинутая тропа не зарастает. Тут сейчас ничто не растёт, не развивается, — всё посерело.
Попадаются во множестве норы, но не видно их обитателей — песчанок или сусликов. Не прошмыгнёт в укрытие полёвка, не пробежит ящерица, не подаст голоса птица. Быть может, именно о такой пустыне один из героев Паустовского сказал, чго это «непонятная подлость природы».
Глядя на мёртвую равнину, мы остро ощущаем, как многообразна жизнь в обычной, «нормальной» пустыне, топ, которую мы покинули два дня назад. Сколько там одних ящериц, начиная от крохотной ушастой- к'Дтлоголовки и кончая громадным серым вараном! Там есть птицы, там поют цикады, там заяц в полдневный жар сидит под кустом, боясь обжечь лапки, — бери его голыми руками!
И та, живая пустыня — с пением жаворонков, с зарослями саксаула, с. тоненькими акациями, обсыпанными золотистыми плодами, с цветущей среди лета верблюжьей колючкой — кажется мне сейчас уютной и мирной. Перенестись бы к мелекочской илистой яме с её рачками и головастиками!
Что же произошло на Челюнг-Кыре, отчего, засохли даже самые выносливые растения? Очень просто, объясняет Илларион Петрович, — засуха! Засуха в пустыне?! Да, на протяжении двух или трёх лет небо не выдавало этим местам даже той скудной порции влаги, которую здесь обычно отпускает природа. И пустыня стала именно такой, какой она представляется многим: мёртвым пространством. Не будь засухи — и пухляк бы не так распылился.
Дождей выпало мало нынешней и прошлой весной также и в песках. Но пески лучше удерживают влагу, н там жизнь сохранилась.
Вот если выпадут будущей весной хорошие дожди, то Челюнг-Кыр зазеленеет. Жизнь, какая она ни есть в пустыне, вернётся сюда.
Стоянка. Водители опять долили воды в кипящие «самовары». Какую уйму выпили жадные машины! Трехсотлитровая бочка опорожнена почти па две трети.
— Мы уже на Устюрте, Илларион Петрович?
— Нет, всё ещё на подходах к нему, — коротко и, против обыкновения, сухо отвечает, не отрываясь от карты, профессор.
Про колодец я не спрашиваю. Мы все его давно уже высматриваем. Но нигде ис внцю п признаков источника. Всё те же бурые пятна кустарников, всё та же немая равнина.
Сохат смущённо улыбается и покачивает головой. Да, мы понимаем. И он, и Курбан, и Меред хотели бы помочь нам, но они не искатели воды. Они выросли и состарились в оазисе вблизи гор. Только теперь они увидели, как велик по размерам Туркменистан и какие удивительные места есть в их стране...
Первая скорость. Десять, восемь, а то и пять километров в час. Какая тоскливая езда! Ветерок дует всё время в спину, и машина не может обогнать поднятую ею пыль. При встречном ветре и моторы бы так не перегревались.
— Если твой друг отправляется в пустыню на автомобиле, не желай ему попутного ветра, — говаривал Леонид Сергеевич.
Повинуясь карте и компасу, машины, наконец, повернули. Ветер оказался сбоку, и пыль ушла.
Андрей высунулся из кабины и, придерживая баранку правой рукой, повернулся назад:
— Девушки, спели бы что-нибудь, скучно ведь...
Девушки молча улыбаются. Не хочется открывать пересохшие рты.
Андрей протянул свою флягу, наполненную крепким чаем.
— Что ты нам суёшь? — сказала Люда. — У тебя фляга вдвое меньше, чем у Никанорыча..
Утром, за чаем, Никанорыч протянул Валерию литровую флягу. Была у Гришки и вторая фляга, поменьше, это мы все знали.
Валерий, строго соблюдая приказ, наполнил флягу.
— А ты, Андрей, давай свою...
Андрей протянул небольшую полулитровую фляжку, которую попросил перед тем у Наташи.
— У тебя ведь есть такал же фляга, как у Никанорыча, — удивился Валерий, — давай ту!
— Она грязная. Да и потом... Илларион Петрович не говорил, что надо обязательно литровую посудину подставлять Так что лей, не рассуждая..
Старый Сохат, молча наблюдавший эту сцену, отвернулся.
Глядя куда-то в сторону, он вдруг со злостью плюнул и произнёс:
— Эй, пппуагя!
Никанорыч подскочил. Ну, сейчас начнётся!..
Но плевок и восклицание относились к пустому черепашьему панцирю, который валялся неподалёку. Туркмены очень не любят черепах. Старики считают их нечистыми тварями и не прикасаются к ним.
Как бы вне всякой связи с происходящим, Сохат неторопливо принялся рассказывать притчу о происхождении презренной пшмаги.
... Раньше, в очень давние времена, черепах на свете не было. Пошли эти твари от одного очень плохого человека. Был тот человек жаден и скуп. Он мог отобрать у голодного последний кусок чурека, мог вырвать из рук спутника единственную пиалу чая. Всё это он проделывал с помощью хитрых уловок, чтобы никто не мог обвинить его в нарушении закона.
Однажды жадный человек попросил взаймы у соседа пшеничной муки. Тот насыпал ему полный сосуд горой и сказал:
— Бери, кушан на здоровье чурек, а когда соберёшь урожай, то отдашь мне долг в этом же сосуде.
И с" пришло время отдавать г. хтг. Скряга принёс п .шып сосуд, но не горой, как сосед насыпал, а вровень с краями. Добрый сосёт сделал вид, что не заметил обмана, н ничего не сказал. Но аллах всё видел. Как только жадный обманщик вышел из дома соседа, то сразу превратился в черепаху. И аллах устроит панцирь черепахи так, чтобы все люди помнили о том сосуде с мукой. Сверху панцирь горкой, а снизу — ровный.
— Как скажешь, интересная история? — спросил Сохат, закончив притчу, и, повернувшись, взглянул Никанорычу прямо в глаза.
Никанорыч встал и, не оглядываясь, пошёл к машине...
Вот, наконец, и проблески жизни! В понижениях появились сначала одиночные, потом группами зеленеющие кусты саксаула. Водители начали переходить на вторую скорость.
Стоянки стали чаще.
Люда и Наташа, уходя далеко в стороны, приносят каждый раз полную папку растений. Лица девушек покрылись слоем пыли, губы распухли и потрескались. Я знаю, как их мучит жажда. Ещё вчера они выпивали за каждой трапезой по шести- -восьми пиал чая, а сейчас им отмеряют лишь по три. И -к фляге не стоит прикладываться, чтобы увлажнить рот: пуста фляга.
Быть может, подруги раскаиваются теперь, что выбрали для студенческой практики пустыню, а не южный берег Крыма? Им ведь предлагали заняться летом инвентаризацией деревьев знаменитого Никитского сада. Нет нужды заговаривать с Людой и Наташей о таких вещах. В глазах у обеих — выражение такого отчаянного мальчишеского восторга, что и так ясно: они не прогадали!
Ещё одна низинка. Тут должен быть колодец, он в этом квадрате значится на карте. Нет! Едем дальше. Ещё остановка. Начальники ушли вперёд, забрались на бугорок и долго просматривают всё вокруг в бинокль. Мы тоже разбрелись по окрестным низинкам. Каждому хочется крикнуть первым: «Вот он!»
Нам не приходило в голову, что колодец может вообще не найтись. Мы к тому же не знали ещё гогда, что Илларион Петрович один из тех путешественников, с которыми в дороге всегда случаются какие-нибудь несчастья. Он испытал укус и скорпиона, и фаланги, и тарантула. Таким «набором» вряд ли кто мог похвастать! Он переболел и лихорадкой папатачи, и пендинской язвой, и ещё чем-то, что пристаёт к людям лишь в Средней Азии. Ему постоянно попадались нерадивые или рассеянные проводники и помощники, терявшие верблюдов или оставлявшие на биваках самое нужное — бочонок с водой, последние полмешка риса, казан для варки пищи.
Мы слишком доверяли своим начальникам, чтобы в тот момент ощущать угрозу. Дело было не только в том, что оба профессора держались как-то по-будничному спокойно, ни на один час не прерывая научных наблюдений (мы оставляли после себя почти на всех биваках почвенные шурфы, из которых брались образцы). Разыграть спокойствие может и самый неопытный человек. Профессора оставались в наших глазах непогрешимыми, хотя они с самого начала просчитались, полагая, что подъём окажется нетрудным.
Несколько месяцев спустя, уже в Москве, Илларион Петрович говорил, что этот «устюртский крюк» оказался неожиданно одним из самых трудных маршрутов в его экспедиционной практике. Но тогда нас ни на минуту не покидала уверенность, что с такими людьми, как наши начальники, из всякой беды вылезешь.
Ещё три короткие стоянки. Ещё трижды разбредаемся мы по окрестным низинкам. Все ищут.
— Давайте обедать, — сказал Илларион Петрович, когда вся группа собралась вблизи машин после третьего обхода. — Отдохнём и продолжим наши поиски. Колодец здесь, в этом квадрате, ошибки быть не может. Ну, а пока, Валерий, — одни чайник чая па всех. Каждому по пол-литра.
- Пол-литра, пол-литра, а там и до ста граммов дойдём, — злобно пробурчал Никанорыч.
- Попрошу не ныть! — резко оборвал Илларион Петрович.
И вдруг Гришку прорвало.
— Издохнем тут все! — выкрикнул он плаксиво и сжал обеими руками флягу. — Завезли на погибель, а ещё профессора...
— Эх ты!..
Андрей вдруг кинулся к Никанорычу, выброап вперёд левую руку. Гришка отшатнулся...
Но Андрей не ударил. Он сунул в руки Никано-рыча, сжимавшие литровую флягу, ещё и свою фляжку:
— Бери, Гришка, бери, тут ещё есть вода. И мою порцию полулитровую из*чайника тоже возьми. Я выживу, два дня ещё могу без питья продержаться. А ты пей, подлая душа, пей!
Андрей приподнял правую руку, сжатую в кулак, но вдруг круто повернулся и пошёл к машине.
Никанорыч отступил, фляжка Андрея беззвучно упала на мягкий пухляк. Гришка оглядел, нас, и в глазах его внезапно мелькнул испуг.
— Что ж, у вас сила, все на одного, — пробормотал он.
— Тебя разве бнли? — спросил Валерий с насмешливым презрением. Он поднял фляжку. — Берёшь? Нет? Тогда вернём владельцу.
Гришка молчал, словно чем-то озадаченный.
Илларион Петрович велел Валерию пересесть к Никанорычу в кабину. Валерий умел водить автомобиль и мог заменить Гришку, если бы тот вздумал снова дурить. Но Никанорыч притих и ни с кем не заговаривал. Мы словно забыли о его существовании.
Спидометр отсчитал ещё два километра. Вот он, колодец! Первым увидел его из передней машины своим ястребиным глазом старый Курбан. Как легко можно было проглядеть в кустарнике узенькую наклонную стойку! Здесь нет приколодезного тырла — вытоптанного скотом круга, усеянного шариками овечьего помёта, — пет и водопойного корыта. Давно, видно, не пригоняли сюда чабаны отар, давно не ступала по серому пухляку нога верблюда.
Все столпились вокруг стойки. До воды всего метров десять. Валерий припал к первому ведру:
— О-о-о, ах, пресная, холодная!
И сразу выплеснул полведра себе на голову...
Набрать сухой полыни и поджечь — дело одной минуты. На большом костре — все наши чайники, тунчщ-кумганы. Заварили чёрный и зелёный чай. Выбирай по вкусу, пей до отвала!
А на втором костре поспевает жирный плов, варится компот. После третьей пиалы, утолив «большую жажду», мы стали ощущать, что вода не так уж хороша, как нам показалось вначале. А когда дело дошло до компота, то некоторые, выловив изюм и урюк, жидкость выплеснули.
Вода изрядно горчила. Василий Алексеевич, в долгих странствиях по Туранской низменности постигший все вкусовые оттенки здешних вод, спокойно сказал:
— Глауберка, должно быть...
— Глауберова соль! — воскликнул Валерий. — У нас её много в нолевой аптечке. Это же слабительное!
Все расхохотались.
— Ну, не бойтесь, не так страшно, — усмехнулся Василий Алексеевич. — Незначительная примесь. На Чарышлы, имейте в виду, водица — тоже не сахар. Подолгу жить на таких колодцах нельзя, а два — три дня перетерпим...
— Почему же на карте Кара-Иман значится как пресный колодец? — спросил Валерий.
— Карты составлялись давно. В то время колодец и был, наверное, пресным. Впоследствии он, видимо, осолонился. Вода и в разное время года может содержать разное количество солей.
Мы пили воду Чёрного Имана дня два и, конечно, ощутили её действие. Однако недомогание прошло через несколько дней бесследно. А вот словцо «пухляк» с той устюрский поездки никогда уже не кажется мне мирным и уютным.
ТАК «ЗВУЧИТ» ТИШИНА
Ранней весной, в середине двадцатых годов, шестеро молодых географов и геологов снаряжались в первое своё путешествие.
Когда, после отчаянных споров, наконец, вычертили на карте маршрут, когда заколотили все ящики с багажом и собрали заплечные мешки, охрипший от ругани начальник маленького отряда сразу подобрет и сказал:
— Надеюсь, это последняя схватка. Постараемся все быть уступчивее, особенно в мелочах. Ничто так не ценится в путешествии, как покладистый характер спутника... А теперь, друзья, — всем миром к старику за напутствием — ив дорогу!
Стариком университетская молодёжь именовала действительно престарелого человека — известного геолога, профессора Ивана Андреевича Ребикова, знатока Средней Азии и Казахстана. Учёный, ездивший по Закаспийскому краю первый раз ещё в восьмидесятых годах прошлого века, давно уже не совершал далёких путешествий. У него оставался один неизменный маршрут: от Ленинградского Горного института, близ которого он жил, до Университета, где он читал курс. В любое время года старик отмерял эти два километра но набережной Невы пешком.
Старик был замкнут и суров. Он не «оживлял» лекции шутками или эпизодами из жизни путешественника. Но читал он так увлекательно, что его рассказы об истории планеты прибегали слушать филологи и математики. Геолог много знал, а суждения его были смелы и неожиданны. После его лекции люди по-иному глядели на мир.
Студенты побаивались Ребикова. А некоторые почему-то называли его «старорежимным чудаком», хогя никаких чудачеств за ним не наблюдали. Поводом к тому мог послужить, пожалуй, костюм старика. В двадцатые годы, когда многие комсомольцы считали верной приметой мещанства даже галстук пли девичью косу, его белая манишка могла сойти за чудачество.
Но, возможно, что репутацию чудака создали старику те, кто распространял на факультете анекдоты о его путешествиях.
Говорили, будто Ребиков однажды, отправившись в пустыню с женой, захватил из Петербурга рессорную коляску. В щегольском экипаже, сопровождаемые небольшим караваном, супруги пересекли Устюрт. Огромный дромадер шутя вёз лёгкую коляску. На привалах жена готовила геологу его любимые кушанья.
В другой раз геолог выехал в маршрут без жены и без коляски, но зато взял с собой первоклассного столичного повара. Сготовив на биваке обед, повар надевал белые нитяные перчатки и шёл прислуживать учёному в его палатку. Коляску же геологу с успехом заменяли придуманные нм самим носилки. Двух верблюдов одинакового роста укладывали рядом и накрепко привязывали концы этих носилок к вьючным сёдлам. Иван Андреевич залезал на носилки, над головой его растягивали тент. Потом верблюдов поднимали и караван пускался в путь...
Трудно было отделить в этих россказнях правду иг вымысла: сам профессор ни слова не упоминал и своих поездках, а из его спутников по давший ним путешествиям никого в университете не осталось...
Молодые следопыты шли к учёному не без робости. У каждого мелькала в голове мысль: «Ляпнешь какую-нибудь глупость, — старик всех и выставит вой». Больше других боялся худенький юноша, почти подросток Ларик — единственный в отряде первокурсник. Взяли его только потому, что он, по выражению одного из его товарищей, был «одержим пустыней до обмороков».
Ребиков, против ожидания, принял молодых людей просто и радушно. Он всех усадил, посмотрел карту с маршрутом и дал много драгоценных советов.
Неожиданно старик встал, — все поднялись вслед за ним, — выпрямился и с некоторой торжественностью произнёс:
- Завидую вам, друзья! Вы услышите тишину! Да, я настаиваю: на Устюрте можно услышать первозданную тишину!..
— А вас, молодой человек, — профессор нашёл глазами Ларика, хотя тот всё время старался укрыться за спинами товарищей, — вас мне жаль. Вам рано ехать на Устюрт... Нет, пет, вам ничто не угрожает, я не знаю более здорового климата, чем климат пустыни. Просто вам рано ехать на Устюрт. Да-с, рано... Запретить не могу, а советую подождать года четыре.
... Мы слушаем рассказ Иллариона Петровича о старом геологе, стоя возле грузовика Андрея, Перед нами расстилается пустыня Устюрт. Наши машины поднялись на плато с юга, с трудом преодолев «пухляк» — -мучнистую серую пыль Челюнг-Кыра. Мы на самом краю огромного плато, неподалёку от того места, где сходятся границы трёх республик — Казахской, Узбекской и Туркменской. Отсюда молчаливый Устюрт протянулся к северу на семьсот километров. Вширь пустыня раскинулась между Аральским и Каспийским морями на четыреста километров.
— Вы, конечно, догадываетесь, — заключает Пл ларион Петрович. - что я тогда, в двадцатых годах, не послушал старика и всё-таки отправился на Устюрт. И мне кажется, что я, несмотря на свои семнадцать лет, «услышал» тишину!..
Профессор смолк, словно "очет и нам дать возможность послушать, как «звучит» Устюрт.
Удивительные, необычные ощущения вызывает эта тишина, не нарушаемая пи шелестом листвы, ни журчанием ручейка, ни пением птицы, ни стрекотанием насекомых.
А Илларион Петрович продолжает:
— Запомнился первый маршрут ещё вот почему. Хотя старик сказал, что нам ничто не угрожает в пустыне, я в течение нескольких дней переживал чувство неотвратимой гибели. Я ходил, ел, пил без конца и всё поражался, что ещё не распух, не посинел, не скручен судорогами. Друзья смотрели на меня такими глазами, какими глядят на обречённого.
— Произошло же следующее. Ночыо я ощутил, что по моему лицу что-то ползёт. Я в полусне попытался смахнуть назойливое насекомое и почувствовал жестокий укус. Друзья мигом проснулись от моего вопля и при свете фонарика поймали отвратительное паукообразное существо — фалангу. Ранка на шеке была крохотная, бескровная, что почему-то особенно всех пугало, н крайне болезненная. Для очистки совести, товарищи смазали место укуса йодом и стали ждать, как сами потом признавались, моей смерти, мучительной смерти от страшноги яда фаланги.
— Никто из нас, в том числе и начальник отряда, не подозревал, что у фаланги яда пег вовсе. Впо следствии я узнал, что академик Павловский давал фаланге кусать свою руку, сколько она хочет, и убедился, что это существо способно проколоть острыми челюстями лишь верхний слон кожи. Не думайте, что учёный переносил только боль, не подвергаясь никакой опасности. Фаланга нередко питается падалью и можег иногда на своих челюстях занести чужой, трупный яд.
— Мой спутники тогда решили, что мне действительно лучше, следуя совету старика, не ездить в пустыню. Но я не внял этим предостережениям. Сейчас я на Устюрте — в четвёртый раз. Быть может, доведётся мне побывать здесь ещё не раз, и никогда я не устану любоваться этим удивительным горизонтом.
Даль, ширь, беспредельность. Тёплый, ровный, упругий ветер, никогда не стихающий на Устюрте Безбрежная равнина, покрытая серыми кустиками тасохшей полыни, уходит в бесконечность, к дале-кому-далёкому краю неба.
... В прошлом веке сюда приехали русские топографы, чтобы положить на карту пустынное плато. Много дней шли они по равнине, поросшей пряной полынью, встречая лишь изредка огромные отары овец. Скот охотно поедает устюртскую полынь и летом и зимой. Зимой, заглатывая вместе с кормом снег, овцы подолгу могут обходиться без воды. Скотоводы называют это пастьбой со снегопоем.
Начальник топографов спросил у первого встреченного им пастуха, как называется эта земля. «Не называется совсем, — ответил пастух, придерживая свою низкорослую лошадёнку. — Видишь — ыстюрт, больше ничего нет». Он сделал широкий жест, обведя рукой бескрайний горизонт.
Другие пастухи говорили то же — нет названия — и прибавляли странное слово, начинающееся на «ы». Топограф записал это слово на русский лад. Так казахское «ыстюрт» — «горизонт, равнина» — стало названием плато. На картах долго писали «Усть-Урт», как было первоначально начертано, хотя никаких рек, а значит и устьев, на Устюрте нет...
Под вечер, когда все расселись вокруг разостланного брезента, заменявшего нам чайный стол, Илларион Петрович продолжил свой рассказ...
Старый геолог Ребиков, влюблённый в устюртскую тишину, принадлежал к той славной плеяде
русских учёных и ну гешесгвенников, которые шаг за шагом, в упорном труде, открывали миру неизведанную область великих азиатских пустынь.
Суровый край не привлекал ни искателей приключений, ни любителей громкой славы и наживы. Нет тут нн джунглей, населённых стадами хищников, ни алмазных россыпей, ни слоновой кости. Здесь трудно было рассчитывать на открытия, которые сразу приносят огромное богатство и славу.
Найдёшь реку — она мёртвая, высохшая. Найдёшь озерцо — оно солёное. Отыщешь неизвестное растение — оно такое неказистое, что никто, кроме специалистов, им не заинтересуется.
Но зато какое наслаждение испытывает учёный, когда ему удаётся прочитать хоть одну строку из той великой книги истории планеты, которую природа держит за семью печатями!
Иван Андреевич Ребиков был привязан к Устюрту не просто потому, что любил тишину и уединение. Давайте совершим небольшую экскурсию в геологическое прошлое. Тогда, быть может, нам станет понятным волнение, которое испытывал старик, когда с ним заговаривали о пустыне.
Итак, отправимся в путь...
Машина времени промчала нас назад сквозь миллионы лет и доставила в третичный период. Мы летим как будто над Евразией. Но какие странные очертания принял хорошо знакомый гигантский материк! Бушуют волны неизвестного нам моря, которое не значится ни на одной географической карте. Оно тянется от того места, где в наше время лежит Венгрия, до Аральского моря. Вся западная часть Туркменистана и Устюрт покрыты водой. Волны плещутся у подножий Кавказского хребта и Крымских гор, стоящих одинокими скалистыми островами посреди огромного моря.
Через миллионы лет геологи назовут это исчезнувшее море Сарматским. Собирая по крупицам доказательства, поколения учёных шаг за шагом восстановят его очертания.
Двинемся в обратный путь, вперёд - к нашему, четвертичному времени. Сарматское, море отступает. Вот оно покинуло пространство, которое мы называем Закаспием. Вот мы уже угадываем, хотя и смутно, 'очертания современных среднеазиатских пустынь.
Машина времени прошла ещё десятки тысячелетий вперёд. На том месте, где сейчас Устюрт, появились растения. Мы видим, наконец, типичную гам-маду — каменистую пустыню. Как она похожа на наш Устюрт, а ведь мы ещё пока только в конце третичного периода!
Мы узнаём многие растения. Марина сразу отыскивает чомуч. Разглядеть гигантское зонтичное не так уж трудно, — чомуч как раз цветёт. А вон белеют цветочные султаны. Это, конечно, эремурусы. Сотни тысячелетий спустя эремурус будет так же цвести ранней весной в каракумских песках.
Мы могли бы увидеть в третичной гаммаде знакомых нам обитателей пустыни из числа пресмыкающихся и насекомых. Нам попался бы, несомненно, древнейший из сухопутны жителей планеты — скорпион. Он появился на земле ещё за сотни миллионов лет до третичного времени — в силурийский период.
Но нам некогда спускаться на землю. Машина времени не ждёт. Вперёд, вперёд!
В гуле и грохоте землетрясений меняется лик планеты. Рождаются и преобразуются горные массивы. Их назовут потом Тянь-Шанем, Памиро-Алаем, Копет-Дагом. Па равнину, которую много времени спустя займут каракумские пески, медленно наступает новое третичное море — Акчагыльское.
Уходит на запад и это море. С молодых южных гор несутся на равнину, покинутую акчагыльскнмн водами, речные потоки. Присмотритесь к самой мощной из этих рек. Перед вами Пра-Аму-Дарья. Но она впадает не в Аральское море, которое появится гораздо позднее, а в Хазарский морской бассейн. Хазарское море относится уже к современному, четвертичному, периоду, который начался немногим более миллиона лет назад.
Но вот мы с вами пролетаем вдоль берегов нового, ещё более позднего четвертичного моря — Хвалын-ского. Оно лежит в той же впадине, где было некогда Хазарское море и где потом образуется меньший по размерам Каспий. А древняя Аму-Дарья течёт уже не прямо на запад. Река выгибается огромной дугой к северу, сбрасывая свои воды в озеро у самого подножия нашего Устюрта. Озеро же, впоследствии названное Сарыкамышским, широким протоком соединено с Хвалынским морем.
Бешеная Аму рванулась ещё дальше к северу, образовав Аральское море. Часть своих вод могучая река всё ещё отдаёт Сарыкамышскому озеру. А из озера в наше, Каспийское, море изливается другая река.
Наконец Аму-Дарья вовсе покинула Сарыкамыш, вся устремившись к Аральскому морю. Озеро высохло, стало впадиной. Река, вытекавшая из Сарыкамыша, иссякла, оставив на теле пустыни глубокий рубец — сухое русло Узбой...
Наше путешествие закончено. Мы вернулись в свой век.
Что же происходило в это время на Устюрте? После того, как ушло Сарматское море, — почти ничего! Рядом — вот тут, рукой подать — наступали и отступали моря, создавались и преобразовывались горы, возникали, исчезали, меняли русла бурные реки. Устюртские обрывы служили берегами Акча-гыльского моря. У подножия плато возникло, а потом исчезло большое озеро. Блуждающая внизу река нанесла с гор огромную массу рыхлого материала, из которого ветры сформировали песчаные гряды и бугры Каракумов. Наконец та же река создала у восточных обрывов плато новое море — Аральское.
А седой, молчаливый Устюрт не менялся. На плато дул всё тот же упругий ветер. Всё таким же ровным, спокойным оставался горизонт. Реки не могли проникнуть с гор на плато. Своих текучих вод Устюрт не имел, — в Средней Азии давно установился пустынный климат с ничтожным количеством осадков. И в этом климате каменистая пустыня как бы законсервировалась, осталась почти нетронутой.
Конечно, на Устюрте, как и всюду, появлялись новые виды растений и животных, исчезали отжившие формы. Менялся кое в чём и рельеф. Но что значило это в сравнении с разгулом стихий внизу, под обрывами плато!
Устюрт, разумеется, не единственный уголок земли, где на протяжении миллионов лет рельеф оставался почти неизменным. Но в Закаспии наше плато — самая древняя равнинная поверхность.
Теперь мы можем понять, почему на Ивана Андреевича Ребикова — большого учёного, обладавшего воображением поэта, — действовала так сильно устюртская тишина. Кто из геологов, разбирающих спутанную временем летопись планеты, не лелеял наивную, пусть даже детскую, мечту: очутиться вдруг на берегу третичного моря или побродить по густому лесу каменноугольного периода!
Пустыня, которая представляется многим однообразной и скучной, даёт исследователю, помимо фактов, обильную пищу для работы воображения. А без воображения невозможно не только поэтическое, но и научное творчество. Разве не поразительно, что в одном месте стихийные силы природы непрерывно преображают лик земли, а рядом вот уже миллионы лёг царят первозданная тишина и покой!..
... Мы долго сидим в молчании, зачарованные рассказом Иллариона Петровича.
Мы и в самом деле попали в третичный период. А два грузовичка, крытые брезентом, и есть те Машины времени, что доставят нас в голоцен — эпоху новой жизни, эпоху человека! Мы умчимся, не оставив даже лёгкого шрама на теле седого Устюрта.
Илларион Петрович, прерывая общее молчание, говорит:
— Из того, что я вам рассказал, не следует, что геологическая летопись Устюрта прочитана до конца. Тут, как и в соседних пустынях, есть свои загадки. Разгадывать их придётся, возможно, ещё не одному поколению учёных. Завтра вы убедитесь, например, что Устюрт — не такое уж однообразное плато. А сейчас — пора пить чай...
Грузовики идут по глинистому плато уже не на первой, а на второй скорости, — цепкий, липучий пухляк остался позади. Воды, хотя и горьковатой, у нас вдоволь. И девушки, приободрившись, напевают сложенную ими для Андрея песенку:
Небо, храни полуось,
Наши рессоры и руль...
Руль — это для ритма. Вряд ли с управлением что-нибудь случится на этой глади, где нет ни резких поворотов, ни крутых подъёмов, ни спусков. А вот рессоры могут и не выдержать, хотя Андрей усилил их перед выездом в маршрут: груза в машине чуть не вдвое больше, чем полагается полуторке.
О полуосях лучше уж не думать, — их не укрепишь. С полуосью катастрофа случается неожиданно. Разве узнаешь, когда усталость металла достигнет предела?.. Наша «хранимая небом» полуось лопнула, к счастью, когда мы уже спустились с Устюрта в «людные» каракумские пески. Нам оказали помощь геологи, работавшие у колодца Чарышлы.
А пока что мы едем южным краем Устюрта и высматриваем с жадностью, не появятся ли те перемены в рельефе, о которых сказал вчера вскользь Илларион Петрович. Что это будет: гора или старое русло, или тот чёрный солончак, который мы видели на карте перед выездом в маршрут?
Но наш руководитель не торопился, то и дело объявляя стоянки. Мамед и Курбан так устали, отрывая один за другим то глубокие шурфы, то полуметровые ямы, именуемые прикопками, что нам с Валерием пришлось сменить наших рабочих.
В глубине ямы Василий Алексеевич становился разговорчивым. Обычно же он и трёх слов не произносил за день. Валерий уверял нас, что учёный дал зарок говорить только о почвах. Нам казалось даже, что ташкентский профессор осуждал про себя Иллариона Петровича за то, что тот с такой щедростью делится своими познаниями, добытыми в многолетних странствиях.
Очередная стоянка. Илларион Петрович ушёл вдаль. Отрывая шурф, мы с Валерием иногда поглядываем учёному вслед. Он часто пригибается, пробуя почву на ощупь, иногда подкапывая ножом кустики полыни. И вдруг белая полотняная куртка метнулась, — профессор сделал прыжок в сторону, отбежал, затем прошёл торопливым шагом, изредка оглядываясь, метров двести и только тогда занялся прежним делом.
Вернулся он не скоро и ничего не стал нам рассказывать. О том, что произошло тогда, мы узнали много дней спустя.
Учёный нагнулся к кустику и хотел уже достать нож из чехла, чтобы подкопать его, как вдруг услышал рядом странное шипение. Повернул голову — в двух шагах кобра. Стоит столбиком, чуть покачиваясь, раздув свой «капюшон», — вот-вот бросится. Будь нож в руке у профессора, а не в чехле на поясе, — учёный, возможно, очертя голову вступил бы в единоборство с коброй. А так пришлось спасаться постыдным бегством.
Кобры встречаются чаще на юге Туркменистана, в предгорьях Копет-Дага. В северных районах республики змея эта, по-видимому, очень редка. Мы её ни разу не видели и не очень о том жалеем. Но Илларион Петрович — другое дело. Должно же что-нибудь случаться с ним в пути!
Профессор уверял потом всех, что кобра — змея благородная. Она предупреждает свою жертву об опасности шипением, чего не делает, например,
гюрза — персидская гадюка, распространённая в Средней Азии.
Мы тоже оценили благородство кобры. Если бы змея успела укусить нашего руководителя, то он мог бы погибнуть. Для вызова самолёта у нас не было рации. А в нашей полевой аптечке, по какой-то игре случая, преобладала глауберова соль, в которой мы отнюдь не нуждались!..
ТАЙНА "ЧЁРТОВОЙ КРЕПОСТИ"
В детстве я любил перечитывать одну книгу, которую мои сверстники, жаждавшие необычайных приключений, находили скучной. В этой книжке, написанной учёным, собственно, тоже рассказывалось о приключениях. Но их героями были не люди, а силы природы, меняющие лик земли: извечные ветры, текучие воды, растения, жар и стужа. Мне запомнились картинки, изображающие удивительные «сооружения», созданные на протяжении десятков тысяч лет природой: каменный гриб, формой шляпки напоминающий мухомор, стол на круглой, хорошо обточенной ноге, эоловый шар, иглы, столбы. В науке такие формы рельефа именуют останцами.
Картинки всплыли в моей памяти, когда на нашем пути к Устюрту возникла группа тёмных останцев. Среди них не было диковин — просто неожиданное скопление остроконечных высоток. Ко воображение рисовало загадочные картины. И, оказалось, не зря...
Машины остановились у останцев. Мы выбрались из кузова и пошли вслед за нашими начальниками к высоткам.
Дойдя до останцев, Илларион Петрович предостерегающе поднял руку. Поравнявшись с ним, мы невольно попятились. Перед нами зияла бездна — тёмная, мрачная бездна, о какой можно прочитать разве что в страшной сказке. Отвесная стена обрыва терялась в сумеречной глубине, где таяли, расплывались очертания грандиозного провала. Чудилось: вот только что разверзлась перед нами земля, а на
дне открывшейся бездны ещё клубятся пар и дым, исторгнутые из недр.
Василий Алексеевич вдруг нарушил обычное своё молчание:
— Вот вам и Каплан-кыр, вот и Кара-Шор, любуйтесь! Глубина впадины в этом месте — триста двадцать метров.
Мы слышали о Кара-Шоре, знали, что проедем мимо него. По бездну все называли просто солончаком. А солончаков мы видали па Узбое десятки. Ничего интересного в них нет: грязь да соль.
— Считайте, что вы на берегу озера и притом не маленького, — длиннее Чудского, — сказал Илларион Петрович. — Кара-Шор тянется в длину на сто километров, при ширине в десять — пятнадцать километров.
— Значит, эта впадина, как и Сарыкамышская, была заполнена водой? — воскликнул Валерий.
— Нет, в Кара-Шоре в исторические времена воды не было. Сарыкамышское озеро питалось Аму-Дарьей. Сюда же ни реки, ни ручьи не впадали и не впадают, ибо их на Устюрте не было и нет. В другом климате, где обильны дожди и снега, котловина стала бы озером. А здесь на дне — чёрная солёная грязь, по-туркменски — «кара-шор». Есть внизу, правда, маленькие озёрца, есть даже русло, по которому иногда течёт вода. Но вода всюду солёная.
Перебивая друг друга, девушки, Андрей и Валерий заявили, что хотят сейчас же спуститься на дно впадины.
— Успокойтесь, успокоитесь... — начальник поднял обе руки. — Разве можно спуститься по отвесной стеш ? Недаром и равнина, прилегающая к впадине, и обрыв носят имя барса — Каплан-кыр. Наверное, только барс, и то сказочный, мог бы одолеть такой спуск. Да и что вы, ботаники, увидите на дне? Там ведь пет почти никаких растений. Не забудьте, что мы не экскурсанты и в пашу задачу не входит изучение впадины. Этим занимаются геологи. Опускаются на дно обычно с юга, - там полого.
— А вы бывали на дне Кара-Шора? — спросила Люда.
— Однажды, до войны... Василий Алексеевич, а вы, кажется, ещё до меня туда проникали?
— Доводилось, — кивнул Василий Алексеевич. — Мне и на Барса-Кельмесе пришлось побывать дважды. И Шайтан-кала в бинокль разглядывал. Моему спутнику там даже огни мерещились ночью... Про эту чёртову крепость, я думаю, мы потом поговорим, на стоянке, после ужина. Может быть, эта история хоть немножко растревожит ваш сон, — тут Василий Алексеевич повернулся к девушкам, — а то вас, молодых, утром из спальных мешков не вытащишь!
Вечером, уже под звёздами, у костра, пахнущего пряной полынью, мы услышали историю «Чёртовой крепости».
Начал рассказ, совершенно неожиданно, Анна Сохат. Лет сорок назад, когда Сохат ходил из Ки-зыл-Арвата в Куня-Ургенч, он услышал от старого караван-баши предание о Шайтан-кала.
... Близ восточного обрыва Устюрта, невдалеке от Аральского моря, лежит ещё одна впадина, по размерам большая, чем Кара-Шор. У той пропасти худая слава. Недаром ей дали название «Барса-Кельмес», что означает — «Пойдёшь — не вернёшься».
Путник, подъезжающий к Барса-Кельмесу, внезапно оказывается перед гигантским провалом. На дне его видна серебристо-голубоватая гладь, которую в первые мгновения принимают за поверхность моря или большого озера. На самом же деле это соль. На этой солёной глади видны два островка — Большой Шайтан-кала и Малый Шайтан-кала. На большом островке в очень далёкие времена какой-то царь построил крепость и зарыл в ней несметные сокровища. Царь не хотел, чтобы после его смерти сокровища кому-нибудь достались, и поручил охранять их самому шайтану — сатане.
И вот уже много сотен лет каждую ночь на Шайтан-кале загораются огни. То сатана обходит дозором свою крепость, охраняя несметные богатства.
Но и без того никто не может пробраться на островок ни пешком, ни верхом, ни на лодке. В топкой солёной грязи, окружающей «Чёртову крепость», увязают и гибнут даже птицы и джейраны...
Вот всё, что знал о Шайтан-кале старый Сохат. Илларион Петрович продолжил рассказ. Учёный попал на Барса-Кельмес ещё молодым человеком, вскоре после окончания увниверситета. Конечно, он решил попасть на Шайтан-калу. В Кунграде ему рассказали, будто один казах, ища пропавшего верблюда, прошёл по следу животного до «Чёртовой крепости» и вернулся невредимым. Это ещё больше подогрело молодого географа. Он попытался повторить маршрут казаха, но, не найдя никакого следа, увяз с первых же шагов. Товарищи, шедшие следом, вытащили его и вернули наверх.
Уже после войны преданием о Шайтан-кале заинтересовался известный советский археолог, много лет ведущий раскопки древних городов и крепостей в низовьях Аму-Дарьи. Рассмотрев островки Барса-Кельмеса в бинокль, он действительно различил на одном из них причудливое нагромождение камней, похожее на развалины.
Могло ли- прийти кому-нибудь в голову соорудить крепость или замок в таком месте? Да, конечно! Тысячу лет назад вдоль Барса-Кельмеса пролегала караванная дорога, которая вела из Хорезма на запад, к Мангышлаку. На берегу Барса-Кельмеса сохранились остатки крепости Алан-кала, водвигпутой хорезмийцами на этой дороге. Быть может, дно гигантской впадины было в те времена не таким топким и па островке тоже построили крепость или караван-сарай?
Но как достигнуть островка? У археолога не было никакого намерения повторять маршрут казаха, искавшего верблюда. Человека этого никто не видал, хотя рассказывали о нём упорно.
Археолог решил воспользоваться самолётом. Лётчик трижды прошёл над обоими островками, снижая машину до пятидесяти метров. И ничего — никаких следов построек! Впечатление развалин производят останцы причудливой формы и прихотливо изломанные берега Большого Шайтан-кала.
Так была развеяна мрачная легенда о Шайтан-кале...
Но Сохат недоверчиво качает головой. Ему не нравится такой конец. Разве шайтан днём будет показывать человеку свон владения?
Старик смотрит на нас своими плутоватыми глазами, и мы не можем понять, — верит он в шайтана или просто хочет нас немного поморочить.
Илларион Петрович продолжает:
— «Несостоявшиеся озёра» — эти глубокие провалы в земной коре — найдены не только в Средней Азии. В Египте есть впадина Каттара. Её дно лежит на 134 метра ниже уровня океана. Впадина Карагие на полуострове Мангышлак находится ниже уровня океана на 132,5 метра.
Устюртские пропасти были мало кому известны в дореволюционные годы. Это неудивительно. Ведь можно ехать чуть не по самому краю Барса-Кель-меса или Кара-Шора, не подозревая, что рядом бездна.
Кара-Шор, Барса-Кельмес и некоторые другие впадины исследованы советскими географами, учениками Ребикова и его сподвижниками. Высказывалось много различных догадок о происхождении загадочных провалов. Вероятнее всего, что пропасти образовались в разломах земной коры.
Изучение замкнутых впадин в пустынях представляет немалый интерес для науки. Обрыв Каплан-Кыра, скажем, — это ведь хорошо сохранившаяся страничка летописи земли. Многое уже вычитали и ещё больше прочтут на этой страничке геологи.
Однако пропасти в пустынях интересны не только для науки. Посмотрите на Карагие. Глубочайший провал соседствует с Каспийским морем. Что, если из
Каспия по каналу или туннелю пустить воду в Ка-рагие? Образуется водопад высотою в 105 метров. Такова разница между уровнем Каспийского моря и дном впадины. На водопаде можно соорудить гидростанцию большой мощности. Не нужно строить даже плотину, которую на реках возводят для создания напора. Ведь тут разность уровней создана самой природой.
Правда, если впадина наполнится водой, — а это может произойти быстро, — то уровни в море и Карате сравняются, напор исчезнет и гидростанция перестанет работать. Останется от нашей затеи никому не нужное глубокое солёное озеро. Такая опасность существует, но её не трудно избежать. Можно простейшими средствами поддерживать в озере такой уровень воды, какой нужен для нормальной работы гидростанции. Известно, что в сухом климате пустыни влага очень быстро испаряется. Вот и надо пропускать из моря во впадину ровно столько воды, сколько может испариться с поверхности нового водоёма. Тогда разность уровней будет всегда постоянной.
Кара-Шор удалён от моря. Но и эта впадина будет использована человеком. Солёные грязи на дне пропасти, по-видимому, целебны. Сейчас рано говорить о создании курорта Кара-Шор. Прежде чем строить городок, нужно добыть пресную воду. Её здесь нет, но её сюда проведут, в этом теперь уже можно не сомневаться..
Достаточно бегло просмотреть физическую карту Советского Союза, чтобы удостовериться, как несправедливо обошлась природа с нашим юго-востоком. Равнины Казахстана и Средней Азии, где солнца больше, чем в тропиках, доступны сибирским ветрам, которые приносят зимой жестокую стужу. А сибирская вода, до крайности нужная плодородным степям, полупустыням и пустыням, наглухо отгорожена от Средней Азии и Казахстана.
Обь с Иртышом, Енисей, Ангара и Лена — это же не реки, а речищи! Сотни миллиардов кубических километров воды несут ежегодно сибирские реки. Но несут в Ледовитый океан.
Советский народ уже взялся за обуздание речных потоков Сибири. На Ангаре, на Енисее, на Оби и на Иртыше строятся мощнейшие гидростанции, которые дадут энергию и городам, и сёлам, и заводам, и полям. Сибирь несказанно расцветёт уже в ближайшие годы.
Мало этого. В Сибири советские учёные и инженеры отыскали давно затерянный волшебный ключ. Это ключ от животворной, пресной воды, которая должна хлынуть в наши пустыни.
Многие тысячелетия назад Обь текла на юг. Потом между Арало-Каспийской и Западно-Сибирской низменностями образовалось Тургайское плоскогорье, или Тургайские ворота. Обской воде остался один путь — к Ледовитому океану.
Но ворота ведь можно открыть! Правда, это нелёгкое дело. Канал, который придётся прорыть через Тургайские ворота, протянется километров на восемьсот. По этому каналу обская вода и устремится на юг. Конечно, не вся Обь будет повёрнута в Среднюю Азию. Возможно, что придётся пустить и часть воды Енисея — самой полноводной реки Советского Союза. Но и части сибирских вод хватит на то, чтобы преобразить лик наших пустынь...
Илларион Петрович на несколько мгновений задумался, потом продолжал свой рассказ:
— Чтобы представить прошлое Устюрта и соседних пустынь, пришлось воспользоваться машиной времени, которая перенесла нас на миллионы лет в глубь истории планеты. Чтобы перенестись в будущий Устюрт, машина времени, пожалуй, не понадобится. Ибо тут речь идёт уже не о миллионах и даже не о тысячах лет, а просто-напросто о нескольких десятилетиях.
— Сибирская вода придёт на Устюрт, по-видимому, позднее, чем в другие пустыни. Точнее сказать, не придёт самотёком, как в соседние Кара-Кумы, а будет поднята на плато насосными станциями.
В наши дни, когда наука с каждым днём всё больше вооружает человека для борьбы с природой, легко нарисовать в своём воображении картину будущего Устюрта. Земледельческие оазисы с садами и бахчами, гигантские отары овец, различные установки для использования солнечной энергии — всё это, конечно, будет. Во впадине Кара-Шор, быть может, разместится курорт. Возможно, окажется, что грязь Барса-Кельмеса целебнее. Тогда курорт устроят на осгровке Шайтан-кала, а Кара-Шор используют для создания пресного водохранилища...
Тут Илларион Петрович резко взмахнул рукой, точно пресекая дальнейшую игру фантазии.
— Но мне снова припомнился мой учитель Реби-ков. У него была большая мечта. В своих трудах геолог ни словом о ней не обмолвился, — ведь он изучал и описывал прошлое земли. Но после смерти Ивана Андреевича мы нашли в его бумагах исписанную тетрадку, которая, очевидно, для печати не предназначалась. В тетрадке содержался набросок будущего Устюрта. Учёный пишет об изобилии воды, о тучных пастбищах, на которых пасутся миллионы овец, о селениях, утопающих в садах, о «ветряках», которые заменят паровые машины. Размышления подкрепляются выразительными рисунками.
Помню, что меня поразила больше всего та уверенность, с которой Иван Андреевич предрекает наступление «века воды» в пустыне. Ведь тетрадка заполнялась в годы гражданской войны, в годы разрухи, когда и многие обжитые цветущие районы являли собой пустыню.
В конце тетрадки я нашёл удивительные слова. Они мне хорошо запомнились. «Я мечтаю, — пишет Ребиков, — чтобы хоть в некоторых уголках людного Устюрта сохранилась та первозданная тишина, которая «звучит» у меня в ушах, и чтобы ветер на плато был таким же свежим и чистым, как сейчас, как миллион лет назад. Но, кажется, эта моя мечта неосуществима. Без дымящих заводов и без грохочущих машин будущий человек не обойдётся».
Прошло всего несколько десятилетий с тех пор, как старик дописал свою тетрадку. Теперь мы можем уверенно сказать, что и эта, быть может, самая заветная мечта Ребикова осуществима. Не в дыму и не в грохоте представляются нам, людям середины двадцатого века, города и селения будущего. Гидро-и ветроэлектростанции не дымят, не грохочут. Бесшумные электротракторы на полях и электромобили на дорогах, заводы без котельных и без дымовых труб — разве это уж такая далёкая мечта! Да, я уверен, что вы лет через сорок «услышите» тишину — правда, не первозданную — уже на цветущем, обжитом Шантан-кале.
Плато уже давно накрыла прохладная мгла. Вокруг, куда ни глянешь, только небо, обсыпанное звёздами, — такими живыми, трепетными, точно все они вот-вот посыплются на нас.
Я забрался в спальный мешок и, откинув клапан, закрывающий лицо, долго глядел в это близкое уютное небо. Тайны «Чёртовой крепости», так неожиданно раскрывшиеся перед нами, старый геолог с его тетрадкой, бесшумный водопад морской гидростанции и огромное, вознесённое ввысь, сверкающее колесо ветряка, — всё сплелось в одну причудливую, картину. Устюртский ветер, пришедший с далёкого севера, доброй широкой ладонью мягко поглаживал меня по лицу: «спи!»
НА "ЛЫСОЙ" ЗЕМЛЕ
ГОД ЗМЕИ И ГОД РЫБЫ
Анна Сохат, вот уже второе лето занимающий в отряде должности рабочего, повара и сказочника-балагура, любит предсказывать погоду. Прошлой весной, когда старик ездил с нами на Узбой и на Устюрт, он нередко приставал к кому-нибудь из нас:
— Назови число, я скажу, какой будет климат. Запиши в свой дневник, — потом проверишь.
Мы загадывали недели на две вперёд. Старик, бормоча, принимался что-то вычислять и, наконец, возвещал своим громким басом:
— Июнь, двадцать шестое число: солнце будет, ветер будет, дождя не будет!
Такие прогнозы всегда подтверждались: какая же может стоять погода летом в пустыне, как не солнечная и не ветреная!
Поморочить людей — слабость Сохата. Истинное происшествие и вымысел, шутка и серьёзная мысль — всё у него так перемешано, что не всегда отличишь одно от другого. Погоду на месяц вперёд старик предсказывает, конечно, в шутку, хотя он ни
за что не стал бы в этом признаваться. Но он и всерьёз, по многим известным ему приметам, предвидит за несколько дней ненастье, похолодание либо приход горячего афганца.
Ещё прошлым летом Сохат толковал нам восточный календарь, в котором годы, подобно месяцам, имеют названия. Пользуясь этим календарём, жители Востока пытаются предугадать чередование дождливых и засушливых лет. Есть год зайца и год мыши, есть год барана, год змеи и год рыбы.
Год рыбы — самый дождливый, год змеи — самый сухой: рыба же всегда в воде, а змея обходится вовсе без питья.
Мудрые старцы, говорил нам Сохат, знают чередование засушливых и дождливых годов, как все мы знаем, что за январём придёт февраль, а за февралём — март.
А сам Сохат, принадлежит ли он к числу этих мудрецов? Тут наш балагур прищёлкивает языком и неопределённо качает головой.
Прошлый год был годом змеи. Мы помним, что уже в конце апреля на склонах Копет-Дага и на подгорных равнинах всё засохло. Хребет принял вид старой театральной декорации, на которой пейзаж давно выцвел и между островками поблёкшей «зелени» под лучом беспощадного прожектора виден серый, пропылённый холст.
Повсюду мы наблюдали приметы жесточайшей засухи. Многие пресные колодцы осолонились, дождевые ямы высохли. Горячий ветер скручивал и опалял до черноты виноградные листья. На склонах каракумских песчаных гряд овцы выискивали пожелтевшую раньше времени, припавшую к земле осоку. Зеленел только по окраинам аулов и городков ядовитый юзарлык — могильник.
Но вот спустя год мы снова в Туркменистане. Вторая наша поездка совпала с годом рыбы. Мы это поняли ещё до встречи с Анна Сохатом.
Первые приметы года рыбы обнаружились с моря, когда теплоход подходил к туркменским бе-
регач. Пока судно петляло на рассвете по мелководному Красноводскому заливу, впереди маячили, как и год назад, голые скалы.
Теплоход вошёл в бухту. И вдруг все увидели на склонах бурых скал нежную прозелень! Только тёмная громада утёса Ша-Кадам («Ступня шаха») стояла, как и прежде, обнажённой.
Кто-то из пассажиров вдруг закричал: «Смотрите, коровы!»
На пологом солнечном склоне, где травы было побольше, и в самом деле паслись штук двадцать коров. С теплохода на них глядели так, словно это были не самые обыкновенные бурёнки, а зебры, доставленные к берегам Каспия из тропической Африки.
— Двадцать лет живу в Красноводске, а чтобы пасли коров на этих горах, — впервые вижу, — сказал пожилой нефтяник, возвращавшийся домой из длительной командировки.
На следующее утро, уже из поезда, мчавшегося на восток вдоль предгорий, мы увидели косьбу. На гладкой, голой, как плешь, подгорной равнине Ко-пет-Дага встречаются едва приметные глазу понижения. Тут и поднялось в год рыбы разнотравье, да какое — чуть ли не по пояс! Косьба шла нешуточная. В некоторых местах работали сцепы из нескольких тракторных косилок.
А хребет, который в прошлом году пожелтел уже к апретс, как он преобразился! По свежему зелёному ковру, покрывшему склоны, пламенели гигантские злые пятна Это зацвели маки и тюльпаны.
В Кизыл-Арвате нас встретил Анна Сохат, предупреждённый телеграммой.
— Я говорил тебе, Михайль, — загрохотал он своим басом, помогая нам укладывать рюкзаки в машину, — что год балык будет. Помнишь, говорил?
— Что-то не помню, Сохат!
— Посмотри в синюю полевую книжечку, ты писал гуда: «Айна Сохат сказал, что следующий год — год рыбы».
— Книжечку я дома оставил.
— Приедешь в Ленинград, — проверь. Сохат говорил, Сохат знает...
И вот мы, снарядившись на кизыл-арватской базе, снова отправляемся в маршрут. Мы опять на машине Андрея. Но он размещает нас уже не в тесной полуторке, как прошлой весной, а в более просторном кузове «ГАЗ-51». К нашему ботаническому отряду присоединился студент одного из лесотехнических институтов, Георгий — худощавый, белобрысый паренёк, остриженный ёжиком.
Сзади, в кузове, восседает Анна Сохат. Он без умолку рассказывает обо всём, что произошло в его родном городе и у него дома за год. Новостей много. Старик, по своему обыкновению, мешает правду с вымыслом, но от этого рассказы только выигрывают.
Сейчас он басит что-то про дыню.
... Выросла у него, у Сохата, в огороде прошлым летом дыня. Никто ещё сроду не видывал такой дыни. Ели её всей семьёй неделю. А семья не маленькая — шесть человек.
— Два пуда, нет, не два, три пуда была дыня!
Сохат развёл руками, чтобы показать, какая была дыня, и упёрся в борта крытого кузова.
— Наверное, весь аул приходил смотреть на эту дыню? — спокойно заметил Валерий. Сохат живёт в ауле, прилегающем к самому городу.
Весь аул? Нет, ни один человек не видел. Если вырастет такая дыня или родится ягнёнок о двух головах, то показывать это кому-либо — тяжкий грех...
И старик смотрит на нас своими плутоватыми глазами. Кажется, вот-вот сам расхохочется.
Но он уже рассказывает совсем о другом, — о том, как умная ахалтекинская лошадь обманула хитрого волка, который хотел её скушать. Лошадь сказала: «Подожди, волк, прежде чем кушать меня, посмотри, что у меня на ноге написано». Лошадь подняла ногу и волк стал смотреть снизу под копыто.
Тут ахалтекинец ударил волка, и у того глаз пропал...
— Видишь, ум лучше хитрости! — неожиданно заключил рассказчик.
— Как же так, Сохат, — с недоумением спросила Наташа, — ведь лошадь как раз перехитрила волка?!
Сохат покачал головой и прищёлкнул языком: кто спасает свою жизнь, обороняясь от нападающего, тот не может быть назван хитрецом!
Старик сказал эго очень серьёзно, н мне показалось, что вечная усмешка на миг покинула его глаза...
Наш грузовик замыкает колонну из трёх машин. На перечней едет Николай Владимирович. За ним Елена Васильевна, почвовед из Москвы, со своим коллектором, рижским студентом Висвалдом, и двумя рабочими.
Мы держим путь на этот раз не в Кара-Кумы, а на юг, к иранской границе.
Через хребет идёт шоссе, обрамлённое голубовато-серой кустистой порослью. Терпкий, горьковатый аромат, исходящий от низеньких травянистых кустиков, проникает в кузов.
— Полынь, полынь, — рассеянно повторяет Леонид Сергеевич, делая пометки в полевой книжке. — Мы с ней будем встречаться повсеместно. В пустыне это хороший круглогодовой корм для овец и верблюдов.
Ои закрыл книжечку и повернулся к нам с полуулыбкой :
— Пишу мы теперь будем готовить тоже на полыни...
— Она же горькая! — с ужасом воскликнула Люда.
— Да нет! — рассмеялся Леонид Сергеевич. Она пойдёт не в суп и не в плов, а в костёр. Саксаула пи на Копет-Даге, ни в юго-западном Туркменистане нет, и полынь тут, пожалуй, единственное топливо. Полынь служит кормом для скота, а креме того, она ещё ценна тем, что удерживает пески от развеивания.
Почвенный покров на склоне, поросшем полынью, как гвоздями приколочен...
Горы безмолвны, безлюдны. Лишь иногда встречаются небольшие отары овец.
После часа езды мы остановились у первого на нашем пути колодца.
Это даже не колодец, а смотровое отверстие в кяризе — каменном подземном коридоре, по которому вода направляется с гор вниз, на поля. Пускать воду в таких местах по открытому каналу невыгодно: слишком много испарится.
В Иране, Ираке, в Турции кяризы строят и сейчас, как сотни лет назад, — вручную, без машин. В Иране людей, роющих подземные каналы, называют моканни. Труд моканни так изнурителен, что его сравнивают с трудом строителей египетских пирамид.
Представьте себе двоих людей, которые впотьмах, подобно кротам, день за днём, год за годом, прокладывают подземный ход, двигаясь навстречу друг другу. Они видят свет лишь тогда, когда делают смотровые отверстия, вот такие же, как то, в которое мы сейчас глядим.
Думая о моканни, я вспомнил шахты и туннели ленинградского метростроя, куда мне доводилось не раз спускаться. Я видел просторные, сухие, залитые электрическим светом подземные коридоры, видел удивительную машину — проходческий щит, — которая сама режет грунт, сама подаёт его назад и нагружает в вагонетки. А когда быстроходная клеть поднимает вагонетку наверх, то там особое устройство ещё само опрокинет её, чтобы грунт высыпался в бункер, и поставит на место. Помню, мне особенно понравилось название этого устройства — «опрокид».
Моканни, наверное, и не слышал о подобных машинах и устройствах.
Смотровой колодец давно уже остался позади. Шоссе обогнуло остроконечную скалу с тёмными осыпями. За поворотом — низкие холмы, поросшие полынью. По склонам холмов тёмными точками рас-
сыпались овцы. Издали мы их тоже приняли за кустики полыни.
Пастухи — старый, с жиденькой бородкой, и подросток — сидели внизу, у обочины. Старик поздоровался вежливым кивком головы. Парнишка окриком усмирил белую туркменскую овчарку с обрезанными ушами, готовую от ярости прыгнуть прямо в кузов.
Туркменская овчарка крупнее южного волка. Она к одолевает, говорят, хищника в одиночку. Уши овчарки обрезаны так коротко, чтобы волку в схватке не за что было ухватиться. Так сказал нам Сохат.
Дорога идёт вверх. Надолго повисла над нами тёмная скала. Чудится, будто вот-вот завьётся белое шоссе спиралью и откроются взору снеговые вершины, а внизу, на страшенной глубине, промчится с рёвом зеленоватый, чуть вспененный поток.
Но скала ушла назад — и опять мелькают холмы, поросшие полынью.
Горы снизу бывают одеты лесами; выше лежат альпийские луга; ещё выше — ледники; и, наконец, — снеговые вершины. Это мы затвердили с детства, это видели те из нас, кто бывал на Кавказе, на Памире, в Тянь-Шане, в Саянах.
Копет-Даг совсем не такой. Этот низкий хребет — продолжение пустыни, лежащей у его подножия. Но и селения и города жмутся к пустынному Копет-Дагу, вытянутому длинной цепью вдоль южных рубежей Туркменистана. В недрах гор есть вода. Есть тут и речки, правда, небольшие.
Пустынная равнина, лежащая у подножий Копет-Дага, — один из старейших на земле очагов земледелия.
Страницы истории племён и народов, обитавших здесь, изобилуют кровавыми эпизодами. Вода служила и оружием, и средством угнетения бедных.
Было время, когда воду пускали только на те поля, которые принадлежали женатым. Холостяк не имел права на водный пай. Отцы старались как можно раньше женить сыновей, чтобы получить лишний пай воды. Но тут на пути бедняка вставал мусуль-
манский обычай: за жену полагалось платить выкуп, калым.
Жениться мог богатый. Ему доставалась вода, а стало быть, и земля, ибо земля без воды в здешних местах ничего не стоит.
Туркменские земли издавна привлекали завоевателей. Захватчики оттесняли местные племена в «хвосты» оросительных каналов. Те же, кто сидел в «голове» канала, могли во всякое время осушить «хвост». Один из ханов так и сказал: «Пропускай воды туркмену не много и не мало, ибо сытый туркмен тебя завоюет, голодный ограбит и только полуголодный не будет опасен»..
Первая цепь Копет-Дага — позади. Шоссе пересекает межгорную долину За ней темнеет вторая цепь.
Головная машина свернула с дороги вправо, и мы очутились в гигантском цветнике. Всё поле — сплошной ковёр цветущих маков.
Мы остановились в нерешительности: жалко топ-гать цветы, а ступать больше некуда. Но двигаться всё-таки надо. И мы пошли, высоко поднимая ноги, чтобы примять как можно меньше цветов.
Маки кончились. А там ещё цветник — сиреневый.
— Неужели это малькольмия? — воскликнула Марина.
- - Она самая, — спокойно подтвердил Леонид Сергеевич, не отрываясь от своей походной кинокамеры, которую он навёл на сиреневое поле. — В прошлом году, — помните, когда мы выезжали в горы на один день, — нам попадались единичные чалькольмин, и они были раза в четыре меньше этих.
Малькольмия принадлежит к эфемерам. Эти однолетние растения — подлинные дети весны. Они успевают развиться, отцвести и принести семена до наступления летней жары. А если коротенькая весна пустыни бывает засушливой, то эфемеры могут и не появиться вовсе. Семена сохранятся в почве до лучших годов.
Все разбрелись по долине. Наташа и Люда укладывают в гербарную папку маки, полынь, мальколь-мию, тюльпаны. Николай Владимирович принёс какой-то злак и показал его Сохату, который следит у костра за чайниками.
— О, арпаган! — пробасил старик, обрадовавшись растению, словно старому другу. — Очень хорошая трава! Лошадь, баран, ишак — все с удовольствием кушают.
— А помнишь, Сохат, мы в прошлом году брали арпаган в Кара-Кумах. Этот такой же?
— Нет, в песках другой арпаган растёт. Тоже лорошпн, только немножко другой.
— Вот что значит опыт старого чабана! В Кара-Кумах действительно растёт другой вид арпагана. Но ведь даже специалисты иногда путают оба вида.
Чабаны, первые советники Николая Владимировича, — знатока пустынных пастбищ. Учёный изъездил чуть ли не всю Среднюю Азию. Но и теперь, как двадцать лет назад, он прислушивается к мнению пастухов. Иногда он проверяет себя, иногда ему просто приятно лишний раз убедиться в познаниях чабанов.
Арпаган отправлен в папку.. Высушенный, злак попадёт в гербарный шкаф, где хранятся тысячи образцов средне азиатской флоры. Есть там, конечно, и арпаган, собранный, может быть, самим Николаем Владимировичем, а можег быть, другими ботаниками. Когда будут составлять карту растительности либо станут изыскивать новые пастбища, высушенный злак неопровержимо засвидетельствует, что в межгорной долине под такими-то координатами произрастает именно он, а не другой вид, о котором говорил Сохат.
Гербарный образец — растение с приложенной к нему этикеткой, где указаны место и время сбора, — это документ такой же, как нанесённая на карту широта и долгота горной вершины, колодца, реки.
Марина тем временем занялась маками: отмерила
складным метром квадрат, очертила его и стала считать цветы. Несколько раз она сбивалась, приходилось начинать сначала.
— Ну вот, сосчитала, — объявила она, наконец. — Триста пятьдесят два цветущих растения на одном квадратном метре. Ни один городской садовник не отважился бы сажать цветы так густо. А оказывается, что чем гуще, тем красивее. После этой -поляны на клумбу в сквере смотреть не захочется.
Висвалд принёс Наташе ярко-жёлтых васильков. Да, пустынный василёк не синий, а жёлтый!
— Спасибо, но я васильки уже заложила в папку Что это ты, почвовед, решил заняться гербарием?
— Зачем в гербарий?! — улыбнулся Висвалд. — Это лично тебе!
Но вот по зову Николая Владимировича, старшего в экспедиционной группе, все собрались у шурфа. Узкая глубокая яма, вырытая рабочими, напомнила мне вертикальные окопы, какие устраивали для себя в годы войны истребители танков.
Вооружившись острой складной лопаткой, которая может быть обращена в мотыжку, Елена Васильевна осторожно опустилась в шурф и уселась на нижнюю приступку. В белой войлочной шляпе с большими опущенными полями, в ветровых очках-консервах и в полотняном пыльнике, она — ни дать, ни взять — изнеженная горожанка, никогда не выезжавшая в поле.
Но вот она устроилась поудобнее, копнула своей лопаткой — и перед нами большой знаток своего дела, учёная, исследовавшая множество вот таких шурфов.
— Серозём. — Елена Васильевна разминает комок слегка увлажнённой почвы. Тонкие пальцы перебирают землю в каком-то ритме, точно касаются не песчинок, а клавиш рояля. Глаз может обмануть, но пальцы почвоведа — чувствительный инструмент. И чем меньше загрубели руки, тем точнее учёный может определить все оттенки строения мелких комочков. Лабораторный анализ потом подтвердит, дополнит то, что дано в описании, составленном тут же, у шурфа.
— Светлый, слабо солонцеватый и солончакова-тый серозём. Где у нас бумага для образцов?
Елена Васильевна не даёт оценок. Все и так знают, что сероземы, которыми богата Средняя Азия, — плодородные почвы.
Дело идёт к вечеру. От костра тянет вкусным дымком. Сохат что-то варит в казане.
— Что сегодня на обед? — тихонько спрашивает у Валерия Марина, оторвавшись от бланка описания, который она прилежно заполняет, стоя на краю ямы.
— Гороховый суп с грибами и компот из урюка.
— Скорее бы!
Вот, наконец, разостлан большой обеденный брезент, заменяющий нам и стол и скатерть. Все расселись вокруг, и Сохат, быстро приговаривая «возьми, пожалуйста; мало, — ещё дадим», — раздаёт миски с супом.
Но что же это? Вместо грибов мы вылавливаем из горохового супа урючины.
— Что ты сделал, Сохат? — отчаянным голосом, изо всех сил стараясь не рассердиться, произнёс Валерий. — Ведь я тебе давал урюк для компота, а в суп надо было положить грибы.
Сохат протянул Валерию пакетик с сушёными грибами:
— Возьми, я это не понимаю. Нехорошо пахнет. А урюк — хорошо. Куда хочешь клади — сладко, вкусно!..
— Ничего, съедим, — подмигнул Леонид Сергеевич и принялся уписывать суп-компот. — В следующий раз Марина сготовит нам суп с грибами, и Со-хату он тоже понравится.
Все молча принялись за еду. Только Георгий с возмущением отставил миску и поднялся:
— Я такую бурду есть не стану. Прошу выдать мне банку мясных консервов, я дополнительно оплачу её стоимость.
— Консервы вам дадут, — холодно сказал Нико-
лай Владимирович. — И оставьте при себе вашу дополнительную стоимость: из вашего жалованья удерживается за питание. А вот называть бурдой то, что едят ваши товарищи, просто, извините, неприлично.
Тягостное молчание. Георгий ушёл к машине, там Валерий уже достаёт ему банку консервов.
Костёр скоро погаснет, — топливо на исходе. Надо насобирать полыни. Леонид Сергеевич приглашает Валерия, Висвалда и меня на заготовки.
Темнота навалилась по-южному, сразу. Я хватаю вместо полыни какую-то колючку. Шипы вонзаются и руку, -- о чёрт!
- А вы по запаху, гю запаху ищите полынь, — доносится сбоку го л и с Леонида Сергеевича. — Я вот. пользуясь носом, ещё ни разу не накололся.
— Нет, уж лучше руки исколоть, чем нос!..
СОКРОВИЩА "ЛУННЫХ" ГОР
Костёр истаял так быстро, чго нам пришлось раскладывать постели впотьмах. Полынь не то, что саксаул: она сгорает, не оставляя углей, лишь пряный запах эфирных масел долго держится вокруг.
Мы уже раскатали спальные мешки, когда полная луна, поднявшись над хребтом, вдруг осветила меж-горную долину, где отряд остановился на ночлег. И сразу на горизонте, к западу от бивака, возникла невысокая зеленовато-голубая гряда, сложенная будто бы из чистого льда.
— Вот так интересная штука! - воскликнул Внс-валд, уронив о г изумления спальный мешок. — Откуда взялись на Копет-Даге ледники и снеговые вершины?
— Да это, наверное, лунный мираж, сказала Наташа.
— У меня было такое же ощущение, когда мы попали сюда впервые, — отозвалась Елена Васильевна.
Она прилаживала к заднему борту грузовика марлевый полог, натянутый над походной кроватью В долине, где стоял отряд, ие было ни комаров, ни москитов, ни мошек, но Елена Васильевна очень боялась змей и никогда не ложилась спать без полога.
— Эти горы иногда называют лунными, иногда
голубыми, — сказал Николаи Владимирович. — Но географы справедливо протестуют против таких вольностей. Может выйти путаница. Лунными горами, помимо тех, что есть на Луне, называли когда-то выдуманный хребет, будто бы раскинутый в истоках Нила. Голубые же горы, как всем известно, находятся в Австралии. Но они ничем не напоминают Западный Копет-Даг, который мы с вами обследуем.
— Как же называется эта гряда? — нетерпеливо перебил Висвалд.
— Да никак. Перед нами просто один из уголков Копет-Дага. Завтра мы эти холмы увидим, но они вряд ли вам понравятся при дневном свете...
Длинноногий Висвалд, оказавшийся моим соседом, кряхтел и ворочался в коротком спальном мешке. Единственным длинным мешком завладел низкорослый Георгий. Он обладал удивительной способностью захватывать самые новые, самые добротные и самые большие вещи...
— Невозможно заснуть; эти горы при луне как-то очень действуют на воображение, — произнёс Висвалд вполголоса, медленно подбирая русские слова.
— Считай белых слонов. До ста дойдёшь, — считай назад, до единицы. Это помогает иногда при бессоннице.
— Один белый слон, второй белый слон, третий белый слон, четвёртый белый...
Счёт оборвался.
Пять часов глубокого сна без сновидений — и мы пробуждаемся бодрые, освежённые, раньше солнца. Хорош горный воздух!
— Посмотрите, пожалуйста, какая странная история, вон там впереди! — сказал Висвалд, выпутывая из спального мешка свои длинные ноги.
Действительно, странно, хотя никакой истории нет. На нас катится серый шарик, размером чуть побольше того, которым играют в настольный теннис. Не по ветру, — ветра нет, — не под гору, а по ровному месту, катится и катится.
— В старину сказали бы — нечистая сила! — рассмеялся Николай Владимирович.
Он сел в мешке и, расправляя бороду, продолжал:
— Не бойтесь, это работает в поте лица жук-скарабей. Он питается навозом, из него и шары катает: полезный жук — настоящий ассенизатор. Может быть, его потому и считали священным в древнем Египте? Наука сохранила это название: «скарабей священный».
Шарик, не докатившись до нас, повернул в сторону, и мы увидели небольшого чёрного жука. Наверное, он был раз в пять меньше шара, который толкал задними ножками, задрав их, подобно игрушечному человечку, стоящему на руках.
Наскоро выпив чаю, мы погрузились в машины и отправились дальше по своему маршруту.
Пейзаж менялся. Появились заросли держидерева с его колючками, загнутыми, подобно когтям кошки. Вдоль пересохших русел горных потоков попадались купы тамариска с густыми тёмно-зелёными свисающими побегами. На крутых склонах росла кое-где арча — древовидный можжевельник. Когда-то на Копет-Даге зеленели арчевые леса. Они защищали почву от размыва и служили хранителями драгоценной влаги. Но, на беду, арча обладает прекрасной древесиной. И люди прилежно вырубали арчевые леса, пока не свели их на нет. Надо было вновь развести можжевёловые роши в горах. Но дело это до крайности трудное. Арча, доживающая до пятисот лет, растёт очень медленно...
И вдруг, за поворотом шоссе, уже не смена пейзажа, а просто иной мир. Шофёры тормозят без команды, просто от неожиданности. Тут нельзя не остановиться; мы въехали в область «голубых» гор, которыми любовались вчера при луне.
Вокруг нас, по обе стороны шоссе, толпятся зеленоватые холмы. Они зелены не от растительного покрова. Его нет. Сама горная порода — зелёного цвета. Холмы стоят отдельно, как стога сена или картофельные бурты. Одни заострены на манер сахарной головы, другие округлены, подобно копнам, третьи чем-то напоминают кибитки кочевников. И нет конца и края этому скоплению.
Гиблое место. Вот первое, что приходит в голову при взгляде на холмы, лишённые растительности, изборождённые глубокими рубцами.
Анна Сохат тем временем подогревает наше воображение очередной легендой.
... Эти горы, куда боятся залетать даже птицы, в давние времена были цветущими. На пологих солнечных склонах вились, сплетаясь, виноградные лозы. Между холмами раскинулись бахчи, где наливались сочные дыни н арбузы. Тут собирали урожаи пшеницы, ячменя и риса. Громадные отары овец паслись в горах. А в долине реки, протекавшей среди этих холмов, паслись табуны ахалтекинских скакунов.
Всё это богатство принадлежало баю, державшему множество слуг и батраков.
Бая считали добрым. Богач не бил своих слуг и даже не ругал их. Когда нужно было заставить людей работать побольше, он призывал на помощь аллаха. С лица бая редко сходила улыбка. Он часто дарил деньги на бедных.
Случилось так, что дочь бая, красявиид- Биби-Гюдь, и молодой батрак ДаДра м, ходивший за байскими лошадьми, полюбили друг друга. Долго скрывали они свои чувства и, наконец, решили открыться.
Байрам смело пошёл к хозяину, которого считал, как и другие, добрым человеком.
Бай ветрегил своего батрака обычной улыбкой. Байрам отвесил глубокий поклон и сказал, что любит дочь хозяина и просит, чтобы отец отдал ему девушку в жёны.
Улыбка не покинула лица бая. Он не выгнал вон дерзкого парня, который задумал получить самую красивую и самую богатую невесту в округе.
— Ты хороший работник, -- сказал бай, — никто лучше тебя не умеет ухаживать за конями, и я готов
отдать тебе свою дочь, если и она тебя любит, как ты её. Бери её. Я не хочу лишать счастья единственное дитя.
— Как мне благодарить тебя, великодушный отец! — воскликнул Байрам.
— Подожди, — с той же улыбкой продолжал бай, — я отдаю тебе дочь, но ты знаешь, что я свято чту законы аллаха и обычаи отцов. За дочь надо внести калым.
— Я готов отдать всё, что у меня есть! — сказал Байрам, уверенный, что хозяин, для соблюдения обычая, потребует с него пустячный выкуп.
— Великий грех — считать чужое богатство, — ответил бай. — Я не знаю, чем ты обладаешь, и не хочу дознаваться. Мою дочь хотят взять сыновья самых богатых соседей. Каждый из них предлагает огромный выкуп. Но с тебя я возьму совсем немного.
Улыбка вдруг исчезла с лица хозяина:
— Ты приведёшь трёх коней ахалтекинской породы, пятнадцать верблюдов, — настоящих инэров, ты же знаешь, что я у себя плохих верблюдов не держу, — и ты пригонишь мне сто баранов. Тогда получишь дочь. Даю тебе неделю срока. Ступай, и пусть аллах принесёт тебе счастье!
Байрам не мог потом вспомнить, как вынесли его ноги с байского двора. А хозяин тотчас велел запереть дочь и дал знать соседу, что через неделю его сын может везти выкуп и праздновать свадьбу.
Байрам впал в отчаяние. Чтобы купить только одного ахалтекинского скакуна, он должен несколько.лет проработать у бая, отказывая себе во всём. А инэры! Будь у пего деньги, чтобы купить хоть плохонького старого верблюда, он бы давно ушёл от хозяина. Возил бы саксаул из Кара-Кумов в город п тем жил.
Через неделю бай объявил, что выдаёт дочь за сына ближайшего соседа. Но в канун свадьбы невеста уговорила служанку принести ей несколько кустиков могильника. Девушка приготовила сильным яд из этого растения и, приняв его, к утру умерла.
Байрам, узнав о смерти любимой, бросился с высокой скалы в пропасть.
Спустя месяц бай, возвращаясь к себе домой после обхода бахчи, увидел, что на его владения надвигается огромная туча. Вскоре померкло солнце и поднялась буря, какой не видывали в этих местах. Сбитый вихрем с ног, полуослепленный бай вдруг увидел, что из тучи вышел великан с лицом погибшего батрака Байрама, вооружённый гигантским мечом. Вот он занёс свой меч, и бай закрыл глаза, ожидая смерти.
Но великан не убил бая. Вместо этого Байрам сразу лишил своего бывшего хозяина всех его богатств. Для жадного человека это хуже смерти.
Бай увидел, как ставший гигантом Байрам вдруг взрезал мечом ближайший холм, как потом руками содрал зелёный покров и пустил по ветру. Так, шагая от холма к холму, Байрам обнажал их, словно шкуру снимал с убитого зверя. Ветер уносил почву в далёкие края, где она оседала жёлтой плодородной пылью. А под конец великан запрудил тем же мечом реку и отвёл её в соседнюю долину, где жили бедные люди, из века в век страдавшие от недостатка воды.
С тех пор земля тут не родит...
— Очень интересная сказка, Сохат! — сказала Елена Васильевна, когда старик закончил свой рассказ.
— Сказка? — удивился Сохат. — Нет, сказка — это чего не было. А то, что я говорил, — так было. Смотри, — вот Байрам шашкой резал.
Елена Васильевна чуть улыбнулась:
— В горах бывают ливни, вода и промыла эти углубления. В одном ты прав, Сохат, — земля эта ни па что не пригодна. Расти тут ничего не будет.
Она взяла кусочек породы с ближайшего холма:
— Засолённые глины с примесью гипса. Настоящий бэд-лэнд — дурные земли.
— Для сельского хозяйства этот район,
конечно, не пригоден, — вмешался Николай Владимиро-
вич. — Но, вы знаете, я говорил в Москве с физиками и выяснил удивительные вещи. Оказывается, с таких бесплодных участников пустыни можно вместо урожая хлопка, винограда или дынь «снимать» даровую электрическую энергию.
— Что же, физики предлагают тут электростанцию строить?! — удивился Валерий.
— Вы мылись в кизыл-арватском гелиодуше? -не отвечая, спросил Николай Владимирович.
Марина, Люда и Наташа дружно расхохотались.
— Он этог душ надолго запомнил!.. — выговорила сквозь смех Наташа.
Гелиодуш был устроен посреди голого просторного двора, обнесённого белым глиняным забором.
Представьте огромный ящик, поставленный наклонно, одной своей стороной обращённый на юг. Под стеклом, по чёрному дну ящика, змеятся трубы. А в стороне, на высоком помосте, стоит бак с водой. Проходя из бака по трубам, которые сильно накаляются солнцем, вода успевает нагреться.
Тыльной, северной, стороной ящик опирается на душевые кабины, куда попадает согретая солнцем вода. Они без крыш — только лёгкие дощатые стенки. В кабине, как и полагается, два крана: для холодной и горячей воды.
Валерий ни за что не хотел поверить, что водой, нагретой на солнце, можно ошпариться. Девушки в женском отделении внезапно услышали за перегородкой яростный вопль: это Валерий пустил одну
только горячую воду и встал под душ...
— Кизыл-арватский душ — первая ступень на пути прямого использования солнечной энергии, — сказал Николай Владимирович. — Гелиоэнергетика только зарождается, и перед ней — огромное будущее. По принципу кизыл-арватского душа можно построить тепловую электростанцию. На ней придётся только установить систему зеркал, которые будут собирать, фокусировать солнечные лучи. Солнечные зайчики огромной мощности мгновенно нагреют зачернённые трубы; вода, проходящая по ним, будет
всё время кипеть, и турбина получит пар. Тут солнце просто заменяет уголь или энергию водного потока, приводящего в движение турбины гидростанции. Первая такая гелиостанция будет построена в Араратской долине.
По есть более совершенный способ использования солнечной энергии. Солнечный свет можно превращать в электрический ток, обходясь не только без парового котла, но без турбины и без генератора.
Вы все знакомы, наверное, с фотоэлементом. Во всяком случае, слышали о нём столько же, сколько я. Я ведь тоже не специалист в этой области. Фотоэлемент — это, в сущности, крохотная электростанция, работающая на ''.жёлтом угле», то есть непосредственно превращающая солнечный свет в электрический ток.
Теперь представьте, что мы установили в таком месте, где много солнца, не один фотоэлемент, а сотни, тысячи. Ведь так можно получить и посылать на линию даровую электрическую энергию. Я читал статью академика Иоффе, который много лет занимается изучением полупроводников — материалов, открывающих нам новые и новые, поистине чудесные свойства. Учёный пишет, что в те часы, когда светит солнце, каждый гектар поверхности, покрытый фотоэлементами, может давать тысячу киловатт электроэнергии...
Стылый, мертвящий зной давил нас. В бесплодных местах, где нет ни трав, пи кустов, ни деревьев, жара всегда сильнее. Николай Владимирович смахнул пот со лба.
— А теперь скажите, — чем «лунные» горы не место для подобной гелиостапции? Легендарный Байрам содрал тут растительный покров вместе с почвой, но солнце осталось. Не забывайте, что здесь, как и вообще в Туркменистане, солнечного света больше, чем в тропиках. Восемь — девять месяцев в году небо безоблачно. И этот нескончаемый поток энергии изливается впустую.
— А как же воду сюда провести? — воскликнула
Марина. — Ведь тут должны жить работники гелпо-станцин.
— Ах да, Байрам же и реку увёл отсюда! Но, имея в изобилии даровую энергию, можно и воду привести откуда угодно. Да и немного понадобится воды. Управление гелиостанцией, несомненно, будет полностью автоматизировано.
Молодёжь принялась с жаром обсуждать проект гелиостанции, словно его должны были вот-вот уже осуществлять. Валерий заявил, что надо выложить всю площадь «лунных» гор фотоэлементами, не оставив ни одного кусочка свободной земли. Висвалд возразил: северные склоны, не освещаемые солнцем, можно использовать как-нибудь иначе.
Споры прервала Марина, ушедшая в сторону. Она закричала:
— Смотрите, мачкй!
Мы пошли на крик и увидели на склоне одного из холмов два расцветших мака. Они горели на зеленоватом фоне, как два ярких огонька.
— А вот и мятлик, — сказала Марина, показывая растеньице, перед тем как сунуть его в гербар-ную папку.
Год рыбы, самый дождливый из всех годов восточного календаря, сказался и тут. Невозможное стало возможным. На голой, засолённой почве проросли кое-где семена растении, занесённые ветром из соседней долины. И Марина, может быть, оказалась первым ботаником, собравшим здесь растения для гербария.
"МАНДРАГОРА, МАНДРАГОРА!"
Миновав оголённые, пышущие сухим зноем «лунные» горы, мы въехали в долину реки Сумбар. Благодатный край! Тут растут по ушельям дикий гранат, инжир и миндаль, тут редки и мимолётны морозы, тут есть вода для полива хлопковых полей, садов и виноградников.
Не сюда ли великан Байрам увёл от владений бая горный поток?!
Как только показались пашни и сады Сумбарской долины, Анна Сохат скинул с себя дремоту, привстал в кузове, заулыбался и загрохотал своим басом:
— Это место самое лучшее! Самый сладкий виноград здесь растёт. Самый лучший туркменский поэт, Махтумкули, здесь родился, здесь стихи писал!
Махтумкули первым ввёл в туркменскую литературу народный язык и народные формы стихосложения. Поэт жил в восемнадцатом веке, в эпоху междоусобиц. Умер он, по преданию, «от постоянного огорчения сердца» из-за непрекращавшейся кровавой вражды, губившей напод.
Грузовики медленно спускались по шоссе. Вдали, среди возделанных полей, мы увидели городок. Прикрытый густой шапкой зелени, он походил на парк.
Несколько витков шоссе — и мы на главной улице городка.
Машины остановились близ сада с большой вывеской «Чайхана» на входной арке.
Мы ввалились в сад гурьбой и в глубине главной аллеи увидели застланный ковром помост, на котором два старика, подобрав под себя ноги, неторопливо пили чай.
У помоста басовито шумел сверкающий никелем «Титан».
Рядом, на столике, стояли чайники и ярко расписанные пиалы, возле которых хлопотала молодая туркменка в белом халате.
Мы поздоровались и, кое-как сладив с ногами, уселись на помост. Ни о чём не спрашивая, женщина подала каждому фарфоровый чайник, пиалу и сахар на блюдечке.
Прихлёбывая зеленоватый кок-чай, мы с интересом разглядывали деревья, затенявшие чайхану. Многие из них были нам вовсе незнакомы.
— Можете полюбоваться адамовым деревом, — сказал Леонид Сергеевич,> кивая на небольшой стволик, украшенный густой кроной с огромными, чуть ли не с теннисную ракетку, листьями. — Верно, па нем и росли плоды, которые, по библейскому преданию, отведал первый человек — Адам...
Тут нашу мирную беседу прервала ватага мальчишек. Ребята с гиканьем ворвались в сад и свернули на боковую аллею. Потом двое, выскочив уже с противоположной стороны, пробежали мимо нас. озираясь и крича: «Мандрагора, мандрагора! Ай, как вкусно, ай, как сладко! Мандрагора, мандрагора!»
За двумя мальчишками гнался третий, чуть постарше, с перекошенным от обиды лицом. Ему и адресовались странные, видимо оскорбительные, восклицания.
Преследователь схватил ком земли и кинул в обидчиков. Но сухая земля, не долетев до цели, рассыпалась. Тогда ои подобрал камень и метнул его изо всей силы. Одни из мальчиков вскрикнул и захромал. Женщина кинулась к ребятам, крича что-то по-туркменски, но они быстро скрылись за воротами.
Мы спросили у чайханщицы, что всё это значит, почему подростка наградили такой странной кличкой. Женщина махнула рукой в ту сторону, где раскинулся большой парк, и сказала:
— Там расскажут. Я плохо знаю по-русски...
Мандрагора, мандрагора... Растение, овеянное
древними легендами. В средние века пз корня мандрагоры, напоминающего человечка с раскинутыми руками, вырезали амулет - «адамову голову». Стоило человеку надеть на себя этот амулет, и он будто бы становился невидимым.
Но при чём же тут копет-дагские мальчишки?
— Поедем после чая в субтропический питомник, нам всё равно туда надо, там всё и узнаем, — сказал Леонид Сергеевич.
...Пирамидальные кипарисы; кактусы в виде толстых лепёшек и палок, усаженных колючками; какие-то неизвестные нам кустарники; цветы на клумбах, цветы на длинных узеньких грядках — рабатках — и цветы сплошной массой на полянках. Мы на опытной станции субтропических культур.
Нас встретила женщина с седеющими волосами и густым, очевидно, многолетним, многослойным загаром на лице — директор станции, Ольга Кузьминична.
— Да у вас точно в Крыму! — воскликнула Люда.
— Нет, не совсем; у нас гораздо теплее, чем на Черноморском побережье, — спокойно поправила Ольга Кузьминична. — Средние июльские и средние январские температуры тут выше, чем где-либо на Кавказе или в Крыму. Долина Сумбара укрыта ог северных ветров тройной цепью гор. А солнечного света тут столько, сколько в Калифорнии или в Египте. В Советском Союзе есть только один уголок, где тепла, быть может, немного побольше, чем у нас.
Это соседний с нами Кизыл-атрекский район. Но у нас маловато воды — Сумбар немноговодная речка — и, что всего хуже, случаются морозы.
Рассказывая о климате долины, Ольга Кузьминична привела нас по широкой аллее, обсаженной кипарисами, к белому одноэтажному домику управления станции. Библиотека, куда нас пригласила директор, оказалась не совсем обычным книгохранилищем. Под самым потолком, над высокими книжными шкафами, было прибито сухое деревцо. Тонкий его корень, словно бордюр, тянулся вдоль одной стены, переходил на вторую, потом на третью.
— Несомненно, миндаль, — сказал Леонид Сергеевич, — но какой любопытный!
— Да, миндаль, — подтвердила Ольга Кузьминична, усаживаясь в конце длинного стола, за которым разместила всех нас. — Дикая форма. Мы нашли этот экземпляр вблизи «лунных» гор, которые вы, наверное, сегодня проезжали. Возраст деревца — двенадцать лет. Его корневая система достигает семнадцати метров в длину. В глубину корни уходили только на три метра, разветвляясь затем далеко в стороны. Растение как бы гналось за влагой. Мы скрещиваем этого «дикаря» с культурными сортами миндаля. Надеемся таким способом получить более выносливые формы с хорошими плодами...
Про миндаль очень интересно. Но Люда, самая нетерпеливая и самая бойкая, воспользовавшись паузой, спросила о том, что не выходит из головы у всех нас, — о мандраюре и мальчиках.
Ольга Кузьминична нахмурилась:
— Не особенно приятная история. Давайте я расскажу об этом потом, когда будем осматривать парк н питомники. А сейчас обследуйте пакетики, которые лежат перед вами. Можно открыть по одному пакетику каждого сорта и отведать содержимое.
В прозрачных целлофановых конвертиках оказались образцы плодов, выращиваемых на опытной станции. Тут были крупный миндаль с тонкой скорлупой, мелкий, как перец, но очень сладкий кишмиш,
и грецкие орехи, и инжир, и засушенные ломтики груши, и разные сорта изюма.
Особенно поражал изюм. В пакетиках лежал почти свежий виноград, такой прозрачный и чистый, что сквозь кожицу видны были косточки. Такого изюма никто из нас не видывал ни на базарах, ни в магазине.
— Мы сушим виноград для изюма не на солнце, а в тени, — сказала Ольга Кузьминична. — После сушки особым способом, уже с помощью химии, придаём изюму ту прозрачность, которая вас так пленяет.
Разговор продолжался в парке. Директор привела нас иа участок, где были высажены ровными рядами деревца с узкими удлинёнными листьями.
— Настоящая оливковая роща! — воскликнул Леонид Сергеевич. — Когда она успела вырасти? Лет восемь назад тут маслиновых деревьев, кажется, не было.
— Да, тогда мы только начинали разводить их, — задумчиво произнесла Ольга Кузьминична.
Тут улыбка впервые чуть промелькнула на её лице.
— Я хочу напомнить вам древнегреческий миф... Богиня Афина Паллада воткнула своё копьё в расселину скалы и оставила его там. Копьё укоренилось, распустило листву, зацвело и принесло плоды, из которых люди добыли чудесное янтарное масло. Так появилось на земле оливковое дерево.
Оливковая ветвь всегда олицетворяла мир, плодородие, благоденствие. Когда в древней Греции в чьей-либо семье рождался мальчик, то над дверью дома вывешивали ветвь маслины.
На земном шаре занято ныне оливковыми садами и рощами пять миллионов га, из них четыре миллиона — в Европе. Греция, Италия, Испания, Франция — вот страны, где маслина больше всего распространена. Здесь оливковое дерево воспели поэты, здесь его запечатлели на своих полотнах знаменитые художники.
Маслина неспроста приобрела такую популярность. Янтарное оливковое масло, которое выжимают из плодов, — лучшее из растительных масел. В нём много витаминов. Его употребляют не только в пишу, ио и для лечения некоторых болезней.
В России маслина известна давно. Её разводили до революции в Крыму и на Кавказе одиночки-энтузиасты. В Никитском саду и в Новом Афоне можно найти очень старые оливковые деревья.
В годы советской власти оливковые насаждения появились и в Азербайджане. Советские селекционеры стали выводить новые отечественные сорта маслины и добились немалого успеха.
А в тридцатых годах маслину завезли в Туркменистан.
Это был смелый опыт: во всей Средней Азии не было уголка, где бы выращивали оливковые деревья. Считалось, что в суровом климате Средней Азии маслину подстерегает гибель не только от морозов, но и от палящего летнего зноя.
В Туркменистан завезли крымские, кавказские, итальянские, испанские и калифорнийские саженцы. Их высадили вначале только в Кизыл-атрекском районе, а потом и в долине Сумбара.
Часть саженцев вскоре погибла. Но то были калифорнийские и итальянские неженки. Зато крымские и азербайджанские деревца, привычные к более суровым зимам, не только выстояли, по принесли плоды необычайно рано — на пятом или шестом году жизни. А один из испанских сортов стал давать большие урожаи, чем у себя на родине.
Сначала не могли понять, отчего так полюбился маслине юго-западный Туркменистан с его суровым климатом и солоноватыми почвами. Потом дознались, что оливковое дерево в период цветения любит сухое тепло. Если в воздухе много влаги, то цветки плохо раскрываются» пыльники долго не лопаются, а пыльца слипается в комочки.
— Ну, чего, чего, а высокой влажности воздуха в Туркменистане бояться нечего! — сказала тут Ольга Кузьминична и уже совсем улыбнулась. — Маслина цветёт в мае, когда небо безоблачно и палит зной. А год рыбы, когда и в мае выпадают дожди, случается очень редко.
Маслина вышла из питомников на просторы юго-западного Туркменистана. Близ Кизыл-Атрека раскинулись плантации маслинового совхоза.
Это не значит, что оливковые рощи разрастаются в Юго-Западном Туркменистане без особого труда. Маслина требует терпеливого ухода. Молодые, ещё не окрепшие саженцы надо оберегать не только от холода, но и от палящего зноя.
Тут Ольга Кузьминична показала нам, какого «телохранителя» нашли здесь для крошечных оливковых деревьев.
Изучая растения Копет-Дага, научные сотрудники станции обратили внимание на держидерево, которое не боится ни зноя, ни засухи. Возникла мысль: не попробовать ли растить молодые маслины под покровом держидерева. Выносливый «дикарь» прикроет навязанного ему питомца от прямых лучей солнца. Кроме того, в тени держидерева будет испаряться из почвы меньше влаги.
Попробовали. Опыт удался. Маслины хорошо растут и развиваются под крылышком держидерева. А когда маслина окрепнет, — «телохранителя» уберут.
Всё дальше и дальше — по аллеям, дорожкам и тропкам — ведёт нас Ольга Кузьминична. Столько интересного вокруг, что мы совсем забыли о мандрагоре и о мальчике с такой странной кличкой.
Вот пышный кустарник с ярко-жёлтыми большими цветками, испускающими острый аромат. Это испанский дрок. Он служит не тодько украшением субтропических парков. Из его коры добывают прочное лубяное волокно. Оно идёт на канаты, мешки, рыболовные сети А цветки дрока содержат эфирные масла, которые нужны для духов. Масло, но уже другого свойства, есть и в семенах растения.
Из этого масла делают казеин — отличный материал для пуговиц.
Дорожка привела нас в большой розарий. Девушки хором издали крик восторга. Множество цветущих сортов — жёлтые, розовые, красные. Есть тут и знаменитая казанлыкская роза, главная «поставщица» розового масла и розовой воды, которые нужны и для производства духов, и для пищевой промышленности. Тубероза, розмарин, шалфей, лаванда — десятки и десятки видов широко известных в южных странах «парфюмерных» растений испытаны здесь, на станции. Доказано, что все они могут произрастать в Юго-Западном Туркменистане.
Опять плодовые участки. На небольшой плантации, всего в несколько гектаров, высажено больше трёхсот сортов винограда. Местные, крымские, кавказские, зарубежные разновидности прекрасно развиваются, принося иногда грозди по пяти килограммов весом.
Туркменский виноград — один из лучших в мире. Под здешним солнцем вызревают самые сладкие в нашей стране сорта. Работники станции пытливо изучают и многовековый народный опыт выращивания винограда, который в Копет-Даге культивируется с незапамятных времён. В горных ущельях нередко находят дикий виноград. Говорят, он одичал здесь ещё со времён Парфянского царства, существовавшего в третьем веке до нашей эры.
Мы уже порядком устали, когда Ольга Кузьминична, приведя нас в дальний уголок парка, сказала:
— Вот вам и мандрагора, если вы так ею интересуетесь.
Мы увидели небольшие деревца, примечательные разве только очень крупными листьями. И вот что рассказала нам Ольга Кузьминична.
...Считалось, что мандрагора — вымирающее растение, которое водится только в Средиземноморье п Тибете. Однажды Ольга Кузьминична, странствуя
по горным ущельям Копет-Дага, наткнулась на кустик странного вида. Она вырыла растение и принесла на станцию. Там она определила, что это мандрагора, но не та, которая водится в Средиземноморье и Тибете, а другой вид, никем не описанный, встречающийся, видимо, только на Копет-Даге.
Разговорившись со старыми туркменами, Ольга Кузьминична узнала, что мандрагора им знакома. Когда-то это растение применяли здесь для врачевания — для возбуждения сердечной деятельности и для лечения золотухи у детей.
Ольга Кузьминична тщательно описала найденный ею вид, впоследствии названный её именем. Она нашла в горах, километрах в десяти от станции, ещё несколько растений мандрагоры, размножила их в питомнике и добилась плодоношения.
Анализы показали, что плоды мандрагоры — жёлтые или розовые, напоминающие по форме апельсин — содержат много витаминов. Важно и то, что плоды вызревают весной, в апреле, когда мало свежей зелени и нет ещё фруктов.
Как и многие другие обитатели Копет-Дага, мандрагора выносит засуху и морозы. Хорошо бы привить эти качества помидору, с которым мандрагора находится в родстве: оба растения принадлежат к семейству паслёновых. И в питомнике занялись скрещиванием помидора с мандрагорой. О результатах, осторожно добавляет Ольга Кузмииична, судить ещё рано.
— Ну, а теперь, — обернулась рассказчица в сторону Люды, — о ваших мальчиках. Садовые воришки, наверное, водятся под всеми широтами, где есть сады. Водятся отчасти по той причине, что к ним снисходительно относятся. Почему-то многие считают набег на сад безобидной шалостью. А ведь всё едино — забраться в чужой сад или в чужой карман. И то, и другое — воровство...
Да, так вот, садовые воришки были v нас в городке. Теперь, мне кажется, вывелись. По крайней мере, к нам в питомники не лазают.
Это произошло в апреле, когда дозревали плоды мандрагоры. Утром мне доложили, что в питомнике обнаружены следы воров: на мандрагоре обломаны некоторые побеги, плоды сорваны.
Я сильно встревожилась. Дело ведь было не только в ущербе, нанесённом питомнику, где каждое растение выращивалось с таким трудом...
В это время зазвонил телефон: директора станции просили по весьма срочному делу немедленно прийти в больницу.
Молодой врач сразу провёл меня в палату, где метались в жару два мальчика.
— Симптомы отравления, — сказал врач. — Спазмы в горле, галлюцинации, высокая температура. Мы дознались, что ребята ночью лазали к вам в сад. Чем они могли полакомиться?
— Мандрагорой, — без колебаний ответила я.
— Как, разве это растение ядовито? — удивился врач.
— Мальчикам достались незрелые плоды; они ядовиты. Спелые же, вполне съедобные, мы накануне как раз сняли.
Мальчики выздоровели. Я навещала их, пока они лежали в больнице. Один раз я предложила им, с разрешения врача, зрелый плод мандрагоры. Они ели его с некоторой опаской, но, раскусив, похвалили.
Вот еэм и вся история. А1альчики за воровство понесли двойное, очень тяжёлое наказние: во-первых, отравились, во-вторых, сверстники не дают им прохода — задразнили «мандрагорой». Между прочим, один из участников «набега» приходил проситься на работу в питомник. Он сказал, что будет трудиться все летние каникулы бесплатно, и клялся, что не утащит ни одной ягодки, ни одного цветка.
— Замечательно! — воскликнула Люда. — И вы ему разрешили, конечно?!
— Нет, не разрешила. Это не так всё просто, мне кажется.
— Вы усомнились в его искренности? — удивилась Люда.
— Нисколько не усомнилась. Я уверена, что он стал бы честно работать. Но почему я должна этого мальчика предпочесть другим, никогда не лазавшим с сад, тем, которые просто считают за честь поработать летом в наших питомниках? Почему надо как-то выделять и поощрять раскаявшегося воришку?
Я всё это напрямик объяснила мальчику. Кажется, он понял меня...
Мы покидали городок, затерянный в горном ущелье, уже под вечер. У Елены Васильевны и у девушек в руках были громадные букеты роз, которые нм поднесли на прощание в питомнике. Увы, цветы быстро увяли под солнцем пустыни, которое жжёт и сушит всё вокруг даже на закате.
КПЗЫЛ-ATPEК, СУБТРОПИКИ
Машины доползли до Кизыл-Атрека поздно вечером. Мы устали, проголодались и, главное, озябли, хотя стоял конец мая. Нам говорили, что в этом городке, лежащем южнее тридцать восьмой параллели, жарко, как в Алжире, и даже пейзаж тут будто бы североафриканский. Но весь день, пока мы пересекали по целине приатрекскую глинистую пустыню, где аул отстоит от аула на сотню километров, где куст или дерево являются только в миражах, — весь этот день дул холодный ветер, а под конец зарядил нудный дождик. Глинистая корка, покрывающая пустынную равнину, осклизла, набухла, и грузовики стали елозить, точно их гнали по намыленным доскам.
Все уже начали подрёмывать, кутаясь в ватники, когда фары передней машины осветли полосатую будку, шлагбаум и пограничника в грубом парусиновом плаще с капюшоном. Часовой молча проверил наши документы и впустил нас в городок.
Наутро небо очистилось. Сразу стало жарко. Валерий, измерявший несколько раз в день температуру воздуха, сообщил:
Уже тридцать четыре градуса. К полудню и сорок набежит, я думаю. Отогреемся за вчерашнее!
Пока в чайхане готовили завтрак, мы успели осмотреть городской сад. Он был очень мал, по масштабам городка, и в нём произрастали только два вида кустарников — оба нам незнакомые, с трудными названиями: паркиисония и цезальпиния.
Паркинсоння лишена обычной листвы. Но длинные, как шелковистая трава, свисающие светло-зелёные побеги придают кусту особую прелесть. Как и все плакучие растения, паркинсония навевает лёгкую печаль. У цезальпинии нежные перистые листочки и большие жёлтые цветки, из которых далеко высовываются ярко-красные длинные тычинки.
Леонид Сергеевич, путешествовавший по Бразилии и Аргентине, рассказывал, что в Южной Америке цезальпиния растёт в виде крупного дерева. То, что обитательница тропиков прижилась в суровом для неё климате, уже само по себе интересно.
Мы залюбовались маленьким садом. Чудилось, будто в нём не два, а десятки видов растений. Так хорошо сочетались бледно-зелёная печальная паркинсония с яркой, праздничной цезальпинией.
В чайхане буфетчица спросила нас:
— Вы ведь в субтропики приехали?
Мы сначала и не поняли, что девушка говорит об опытной субтропической станции, доставившей Кн-зыл-Атреку всесоюзную известность. Оказалось, что так для краткости именуют станцию. Даже письма адресуют: «Кизыл-Атрек, субтропики».
— Сюда приезжают большей частью субтропики осматривать, — продолжала девушка. — А мы туда в парк гулять ходим, — директор разрешает. Там ведь сосны есть! Не такие, как у пас в Калининской области, по всё-такп дух сосновый!..
Она легонько вздохнула и торопливо стала убирать посуду.
От чайханы до «субтропиков» минут десять ходу. Мы поднялись на горку и внизу, у самой реки, увидели парк. Прямо против него, на другом берегу речки, стояла жёлто-серая мечеть с невысоким минаретом. Вокруг неё по бугру теснилась группа построек, окружённых мрачными, тоже жёлто-серыми, каменными заборами. Это был уже другой мир, другая страна — Иран.
Тишина стояла над минаретом. Что там делают люди, за теми каменными заборами? Молятся, спят, готовят пищу? Вот прошла по бугру и скрылась закутанная в чёрное женщина. Вот прошагал худой, облезлый верблюд, просеменили три овцы. Всё казалось нам исполненным какого-то особого значения. Никто из нас, кроме Леонида Сергеевича, не бывал за рубежами своей родины, и не мудрено, что граница, на которой мы очутились вдруг, выйдя поутру из чайной, подействовала на наше воображение.
На фоне пожелтевших бугров и безжизненной равнины, простирающейся до далёких предгорий на иранском берегу, парк выглядел крошечным зелёным островком. Но научному руководителю станции мало оказалось четырёх часов, чтобы показать нам все насаждения и питомники.
Мы видели посадки граната и маслины. Мы прошли по аллее, обсаженной мощными Канарскими пальмами. Мы вдыхали аромат эльдарской сосны. Она действительно мало похожа на северную сосну, — ветвится почти от самой земли, и ствол у нёс тёмный, как у ели. Но зато растёт она так быстро, что к двенадцати годам достигла в парке высоты взрослого дерева. Мы дивились, разглядывая лимонные деревца, высаженные в глубокой траншее — для укрытия от палящего зноя и от морозов.
Тяжёлые, душные ароматы наполняли парк. Над кустами испанского дрока, чудесного медоноса, звенели пчёлы. С громадных крон шелковичных деревьев взлетали при нашем приближении сотни розовых скворцов — прославленных истребителей саранчи. А наш провожатый всё водил и водил нас по разным уголкам. Вот мы подошли уже к самой реке; и, показав на иранский минарет, он сказал:
— Наши зарубежные соседи, с которыми мы пьсм из одно» реки, смотрели, смотрели на наш парк и захотели у себя тоже развести сады. Но разве можно силами разрозненных частных владельцев одолеть эту землю, поднять воду в гору! Там, за дувалами, у них во дворах прижилось несколько кустиков. Вот и всё, чего нм удалось добиться. Наша станция — государственная, и то нам трудно, ох как трудно! Вот прошлым летом Атрек почти совсем пересох — год змеи был. Воду и нам и нашим соседям, он кивнул на минарет, — возили издалека и, разумеется, лишь для питья и приготовления пищи. Мы могли поливать только сеянцы маслины, апельсины и лимоны. Воду экономили на чём только могли, чтобы спасти хотя бы самое ценное. Многие растения погибли, а многие выдержали суровый экзамен и показали нам, что способны противостоять жестокой засухе. Прекрасно выстояли паши финиковые пальмы, о которых вы, конечно, слышали...
— Да ведь вы нам так и не показали вашу знаменитую рощу финиковых пальм! — сказал Николай Владимирович.
Учёный ответил не сразу. Помолчав, он твёрдо, точно решившись на какой-то отчаянный шаг, проговорил:
— Хорошо, пойдёмте, покажу...
Он провёл нас в западную часть парка. Мы остановились вблизи невысоких, мохнатых, словно обвитых войлоком, пальмовых стволов. Ни на одном из них не было листьев. А без листьев пальма, у которой нет ветвей, всё равно, что телеграфный столб.
— Вот так выглядит паша финиковая роща, — сказал руководитель станции и почему-то снял с головы свою широкополую соломенную шляпу.
В ноябре минувшего года, в период усиленного роста пальм, ударил необычный для Кизыл-Атрека мороз. Он стоял всего несколько часов, но этого оказалось достаточно: пальмы сбросили листья.
— • Они, конечно, оправятся, ночки уже тронулись в рост, но плодоношения в этом году ждать не приходится... А сейчас пойдёмте чай пить. Я расскажу
вам на веранде, в тени, как у нас выхаживали эту рощу...
Первые саженцы финиковой пальмы привезли в Кизыл-Атрек в 1935 году. Занялся ими научный сотрудник опытной станции — Дмитрий Емельянович Горбей. Года за три до того он окончил среднеазиатский университет по геоботаническому отделению и вызвался поехать в этот дальний уголок Туркменистана, за двести пятьдесят километров от железной дороги.
Горбей посадил молодые деревца на нижнюю террасу парка, в суглинистую, изрядно засолённую почву. Он знал, что пальма хорошо выносит соль.
Теперь пришлось запастись терпением и ждать. Горбей принялся изучать литературу. И перед ним раскрылась история одного из самых замечательных созданий растительного царства.
В одной арабской легенде финиковая пальма говорит соседнему дереву: «Не бросай на меня свою тень, и я принесу урожай за нас двоих!»
Финиковая пальма приносит плоды действительно лишь в странах безоблачного неба. Ни в тропиках, ни во влажных субтропиках дерево не плодоносит. Пальма хорошо растёт у нас, например, в Сухуми, но плодов не даёт. В Европе есть только одна провинция — на юге Испании, — где вызревают финики. Юг Ирана, Ирак, Египет, Ливия, Алжир, Тунис — страны сухих знойных пустынь — вот центры разведения фиников. Природа точно решила вознаградить жителей пустынь за все невзгоды, которые выпали на их долю, подарив им дерево жизни, источник многих благ.
Но таково лишь первое впечатление. Изучая историю разведения финиковой пальмы, Горбей вскоре установил, что она, в сущности, сотворена человеком. Недаром же ботаникам, давно описавшим растительность всех уголков земного шара, не удалось найти в дикой природе близкого родича финиковой пальмы.
Вавилоняне получали урожаи фиников ещё четыре тысячи лет назад. Древнегреческий учёный Фео-фраст в своём знаменитом «Исследовании о растениях» уделяет много внимания финиковой пальме. Феофраст пишет, что «в Элладе финики не вызревают, а в некоторых местах вообще не появляются на дереве». Про Вавилон греческий учёный сообщает, что там пальма «даёт диковинный урожай».
Феофраст советует, как размножать и выращивать пальму. Он рассказывает о своеобразном «гнездовом» посеве. «В одно место, — пишет грек, — кладут несколько финиковых косточек: две снизу, две добавляют сверху и все укладывают бороздкой вниз... Несколько же косточек кладут в одно место потому, что если посадить одну, то пальма вырастет слабой. При описанном же способе посадки корни переплетаются вместе, переплетаются сразу же и первые ростки и получается один ствол»...
Конечно, Феофраст ошибался. Четыре семени не могут образовать одно дерево. Просто, если положить в одно гнездо несколько косто-
чек, то одна из них наверняка прорастёт. Но не надо забывать, что «отец ботаники» писал свой Ч ТРУД более двух тысяч лет назад.
«Воспитанная» человеком в знойном, засушливом климате пустыни, пальма постепенно приобрела свои удивительные свойства. Она не боится ни палящего зноя, ни сухих песчаных бурь. При температуре воздуха плюс пятьдесят градусов пальма не прекращает роста, а лишь замедляет его. Её и опыляют в самые знойные часы дня. Техника опыления, которая была известна ещё ассирийцам и вавилонянам, очень проста: зрелые соцветия мужского дерева
встряхивают над цветками женской пальмы.» Арабы иногда подвешивают мужские соцветия к верхушке женского дерева.
По выражению арабов, пальма «любит держать голову в огне, а ноги в воде». Во время цветения и созревания плодов дожди — бед-
ствие. Финики от влаги растрескиваются, закисают и гниют.
А какое удивительное приспособление выработалось у пальмы для защиты от солей! Корневая шейка дерева снабжена роговидным образованием, которое не поддаётся разъедающему действию соли. Потому и растёт пальма на таких засолённых почвах, где всякое другое растение гибнет.
Не так уж трудно вырастить финиковую пальму. Иное дело — заставить её давать плоды. В одной из провинций Ливии, Фессане, насчитывают более одного миллиона пальм. Но плоды приносит лишь десятая часть деревьев, те, за которыми люди ухаживают. А как пальма награждает человека за уход! С иных деревьев снимают в год до 150 килограммов. Нередко вызревают кисти весом в пятьдесят килограммов.
Финики заменяют некоторым народам хлеб. По своей питательности они превосходят все другие плоды. Килограмм фиников по калорийности почти равен суточному рациону человека. Сахар, жир, белки, витамины — всё содержится в нежных, сочных плодах.
Известно множество сортов фиников. Их различают по форме, от пальцевидных до круглых. Есть плоды, которые подвяливаются на дереве, есть и такие, которые едят только свежими.
Из ствола пальмы добывают молочнообразный сок. После брожения он превращается в пальмовое вино — лагби. Даже косточки фиников и те идут в пищу: бедняки мелют их на кофе. Палые и незрелые финики скармливают ослам и лошадям.
В некоторых южных провинциях Ирана мерилом благосостояния человека служит число принадлежащих ему пальм. Говорят, например: он бедняк, — у него только два дерева.
Финиковая пальма не только кормит. Есть на земле такие места, где человек не мог бы жить, если бы пальма не защищала его от солнца. В оазисах финики
Сахары под сенью пальм можно выращивать абрикосы, персики, миндаль, виноград. А еше ниже, под двойным пологом, разводят пшеницу, ячмень, овощи.
Пальма даёт не только пищу и тень, но и топливо и строительный материал. Из её листьев плетут циновки; из плотной оболочки, которая образуется на стволе после отмирания нижних листьев, делают сандалии; из древесины вытачивают посуду...
... Прошло долгих четыре года. В Кизыл-Атреке зацвели двадцать молодых пальм. Плоды завязались, но не вызрели, — цветение началось слишком поздно. Лишь одно деревцо, которое зацвело почему-то на месяц раньше других, принесло пять зрелых фиников. Горбей с гордостью показывал их всем. Ведь это были первые финики, вызревшие в нашей стране. Не знали тогда Горбей и его товарищи, какое сопротивление окажет природа смелому начинанию.
Косточки от первых пяти фиников Горбей высадил в питомник. Он уже тогда лелеял мечту о создании плантации пальм нашей отечественной селекции. То, что родилось и выращено, воспитано под небом Кизыл-Атрека, будет выносливее, чем завезённое из других стран.
Следующий год, это был девятьсот сороковой, принёс новую удачу: сняли первую кисть весом в 720 граммов. А в ноябре 1941 года одно дерево дало двадцать килограммов превосходных фиников. Но Дмитрий Горбей этих кистей уже не видел: он сражался на фронте, куда ушёл добровольцем. О новом успехе ему сообщили жена и друзья. Он восторженно писал в ответ: «Я верю, что у нас будут плантации финиковой пальмы, как верю, что мы скоро свернём шею Гитлеру!»
В 1942 году финики собрали в конце ноября, когда под Сталинградом началось наступление наших армий. Урожай выдался хороший, цвели тридцать две пальмы. Но друзья не могли поделиться этой радостью с Горбеем даже в письме. Капитан Дмитрий Емельянович Горбей пал в Сталинградской битве...
Рассказчик показал нам папку, в которой хранится уже тронутая желтизной рукопись Горбея. Это работа о финиковой пальме, которую он готовил для печати. В конце рукописи мы обнаружили свежие, белые страницы. Коллектив станции продолжает труд, прерванный на полуслове.
В годы войны, — читаем мы в этой краткой хронике, — урожай фиников достиг рекордной для Кизыл-Атрека цифры. Встречались кисти весом в тринадцать килограммов. Одно дерево принесло пятьдесят килограммов плодов.
Потом пришли морозы. Казалось, что это погубит начинание. Зимой 1948/49 года из тысячи молодых пальм погибли триста. Остальные сбросили листья, но летом снова зазеленели. Многие пальмы проявили упорную волю к жизни. Выдержав потом ещё несколько обморожений, они неизменно распускали листья.
За этими пальмами, проявившими необычайную стойкость, повели особое наблюдение. Косточки их плодов высадили на горе в питомнике. Там набрались уже сотни сеянцев, выращенных из семян иранского, алжирского, калифорнийского и кизыл-атрек-ского происхождения.
Что же дальше? Осуществима ли дерзкая мечта Дмитрия Горбея о создании обширных плантаций финиковой пальмы в нашей стране? Стоит ли тратить усилия и средства, если дерево пустыни с трудом выносит климат самого жаркого уголка нашей страны, если в наших магазинах по-прежнему продаются иноземные финики?
Наш собеседник без колебаний ответил:
— Надо работать с пальмой. Надо работать, несмотря даже на то, что отечественные финики появятся, быть может, не скоро. Ведь самый факт вызревания фиников в нашей стране представляет огромный интерес для науки. Нужно помнить, что дело это только начинается. Мы ещё не вывели, путём скрещивания, своей пальмы. Саженцы завезли к нам первоначально из южных провинций Ирана, а семена — из Калифорнии. Нужно раздобыть семена из районов с более суровым климатом. Вспомните замечательные слова Ивана Владимировича Мичурина. Он говорил, что надо обыскать все тропики и субтропики земного шара и всё, что найдётся лучшего, всё, самое пригодное для нас, вырастить у нас, а затем с помощью селекции двигать на север.
Мы уезжали из Кизыл-Атрека жарким утром. Пограничник у шлагбаума, быть может, тот же самый, что встречал нас, стоял уже без плаща, в панаме из плотной материи. Он чуть улыбнулся девушкам, проверяя их документы.
Машины выехали за шлагбаум. Мы оглянулись в последний раз на городок. Субтропический парк скрылся за горой, точно его и не было. Впереди и позади нас лежала бескрайняя глинистая пустыня, где парили, выискивая добычу, орлы. Но теперь эта пустыня уже не казалась нам такой безжизненной, как прежде.
МИРАЖИ
Старик гнал по такыру десяток овец, выискивая хороший ойтак — понижение, зарастающее после дождей травами и злаками. Солнце стояло уже высоко, когда человек и его овцы набрели на зелёный островок.
Но маленькому стаду не нашлось корма на ойта-ке. От пышного разнотравья почти ничего не осталось, будто кто прошёлся по островку косой.
В горестном недоумении старик со своим стадом отправился дальше. Зачем, думал он, аллах допускает, чтобы по земле ползали такие нечистые существа, как черепахи? Ведь это они, очнувшись от долгой спячки, сползлись к ойтаку и выели всю траву! Когда зелень засохнет, черепахи,отложив свои яйца (нечестивцы решаются их даже есть!), опять уснут, зарывшись в землю. Осенью же снова набросятся на зелёный корм. Так они дважды в год выедают лучшую траву, а остальное время спят. Скверные твари!
Предавшись невесёлым мыслям, старик незаметно для себя дошёл до следующего ойтака. Тут
горел маленький костёр, а в стороне, под тентом, пили чай русский, в очках, и молодой туркмен. На ойтаке паслись развьюченный верблюд и лошадь.
Старику предложили пиалу чаю и свежий пшеничный чурек. После взаимных приветствий и обычных вопросов о здоровье русский, показывая на голый белёсый такыр, простиравшийся вокруг, спросил у старика:
— Скажи, отец, если подвести воду, то можно ли сеять на такой земле пшеницу или ячмень?
Старик покачал головой, отставил пиалу и, протянув руку, ткнул пальцем в свою коричневую морщинистую ладонь:
— Ты скажи, инженер, — здесь вырастет когда-нибудь волос?..
... Молодой человек в очках, которого старик назвал инженером, был Леонид Сергеевич, только что окончивший университет. И хотя встреча эта произошла больше двадцати лет назад, сухая ладонь старика осталась в памяти учёного, как некий символ бесплодия.
Мы, жители севера и средней полосы, не привыкли видеть землю обнажённой. У нас бывают оголены ненадолго только свежевспаханные поля. Покрыта мшистым ковром арктическая тундра. Южнее шумит бор, цветут луга и садь1, зеленеют пашни. Даже в засушливых степях трава устилает равнины, овраги, холмы сплошным покровом. Брошенная тропа, ров или яма, старая воронка от бомбы — всё зарастает с приходом весны, всюду гнездится живое.
И трудно глазу свыкнуться с блистающей поверхностью голых пустынных земель, занимающих большие пространства на подгорных равнинах Копет-Дага, разбросанных островками в пыльном жарком океане каракумских песков.
В южной части Туркменистана голые земли тянутся иногда на десятки километров, неожиданно прерываясь зелёными «пятачками». На севере Кара-Кумов таких обнажённых земель меньше. Но там мы
проезжали по глинистым участкам необычайной, розовой окраски. Земля сверкала под солнцем, как хорошо натёртый паркет под люстрой. Есть даже термин — «паркетный» такыр. На таком «паркете» шофёр, сбив кепку на затылок, выжимает из машины наивысшую скорость.
Голые земли есть в разных пустынях земного шара и по-разному именуются. Монголы называют такие пространства — «шала», что значит «пол».
Народы Средней Азии назвали голые земли такы-рами. Такыр — лысина. Наука позаимствовала этот термин из народного географического словаря...
Мы уже третий день едем по «лысым» землям. Стоянки часты и продолжительны. То заинтересует Елену Васильевну такырная корка, отличная от ранее виденной, то прикопку сделают — ямку глубиной в треть метра, а то роют глубокий, двухметровый шурф.
Спидометр нашего «ГАЗ-51» отсчитал ещё десять, двадцать, тридцать километров. Твёрдый, «паркетный» такыр. Стоп!
Как и всякий другой, этот такыр представляется безжизненным — на нём не видно ни кустика, ни травинки. Но вот Леонид Сергеевич наклонился, вынул трубку изо рта. Я тоже пригибаюсь и различаю на спёкшейся глинистой корке пятна разных оттенков. Ботаник отковыривает ногтем кусочек корки, подносит ближе к очкам, потом проходит дальше, приглядываясь, что-то ища. Наконец восклицает:
— Ого, какое тут богатство! Смотрите — белый, чёрный, розовый лишайники!
Есть, оказывается, жизнь и на «лысой» земле.
Леонид Сергеевич напомнил нам тут же библейскую легенду.
Евреям, которых пророк Моисей выводил через пустыню из Египта, бог послал с неба манну. Она спасла народ от голодной смерти.
— Эта легенда, — продолжал ботаник, — основана па вполне реальных явлениях природы. Манна действительно могла падать с неба, но только она
вполне земного происхождения. Вот она, манна земная — белый лишайник! С неба же она могла падать потому, что в странах Ближнего Востока случаются «манные дожди»: ветер пустыни подхватывает и переносит на громадные расстояния сухие корни лишайников. Бедуины и другие народности, кочующие в пустынях, и сейчас в голодные годы нередко прибегают к манне. Лишайники мелют на жерновах или толкут в ступах, а потом варят либо запекают в лепёшки... Но не только лишайниками богаты такыры. Здесь много водорослей, которые бурно прорастают после дождей.
— Ну, а теперь, друзья, — сказал наш начальник, выдержав паузу и оглядев своих подручных, — за дело! Надо набрать лишайников...
— А что, разве консервы кончились?! — невинным тоном спросил Валерий...
Леонид Сергеевич выбрал место, покрытое почти сплошь пятнами лишайников, отмерил, потом очертил складным железным метром кусочек:
— Снимите с квадратного метра всю корку, сложите в конвертики. Корку не крошить, земли брать поменьше. А потом, Люда, вы всё уложите аккуратно в свинцовый ящик.
Квадратный метр! Это не так мало, когда работаешь в полдень под туркменским солнцем. Мы с Валерием завернули кепки козырьками назад, Люда сдвинула косынку на затылок. «Выковыривание изюма», как выразился Валерий, шло медленно. Надо осторожно поддеть ножом хрупкую глинистую корку, на которой лишайники налеплены в виде коросты. Прямо с ножа корку бережно опускаешь в конвертик.
Мы очистили площадку часа через полтора. Люда отнесла конвертики в кузов, уложила в свинцовый ящик. Что с ними станут делать в Ленинграде, с этими корками? Намочат в чашечках и будут изучать условия прорастания лишайников и водорослей.
Мы мчимся дальше.
Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят километров
в час! Пи пыли, ни ухабов, ни придорожных канав, ни встречных машин, ни регулировщиков. Только ветер, хозяин пустыни, да парящие беркуты, да редкие стада овец на травянистых островках. И опять голая земля — «асфальт» пустыни, на котором машина оставляет едва заметный след.
Андрей, высунув голову из кабины, весело подмигивает нам. Радуется сердце неуёмного странника, шофёра-географа: это не прошлогодний пухляк на Устюрте, тут можно дать газку!
Сначала я не совсем понимал, почему Андрей, шофёр первого класса, возивший одно время по Москве в «ЗИМе» министра, бросил вдруг эту должность и стал ездигь с экспедициями по неизведанным местам.
— Что в городе за езда! — сказал нам как-то Андрей. — Душе тесно! Крылья машины юбками обметают всё время...
Удивительны эти земли, по которым мы едем. Как безбрежны пространства, как необъятен и пуст горизонт! А взглянешь на карту страны, — Юго-Западный Туркменистан занимает на ней с краю, у южных берегов Каспия, крошечный треугольник.
Голый, спёкшийся такыр сменился низкотравной равниной. Бежит по ветру серебристый ковыль, алеют ещё не облетевшие маки. Поют жаворонки. Глаз выискивает на безлесной глади привычное. Думается, — вот в туманной утренней дымке покажется грузная башня элеватора, возникнут силуэты старых тополей, под сенью которых прячутся в зелени садов белые хаты...
— Леонид Сергеевич, да мы в пустыне ли? Ведь это степь!
— Пустыня.
И, словно, угадывая мои мысли, начальник добавил:
— Не ищите сходства со степной Украиной, Кубанью или Поволжьем. Юго-Западная Туркмения — пустыня со всеми её признаками — минимальными осадками, сухим воздухом, разрежённым и своеобразным растительным покровом. Правда, эта пустыня не имеет точного географического названия, как Устюрт и Кара-Кумы, но дело ведь не в названии... Да вот вам и ещё доказательство, что мы в пустыне. Любуйтесь!
На горизонте сверкнула полоска воды. Всё расширяясь, полоска превратилась в озеро, вытянутое в ширину, ясно очерченное, с плоскими изрезанными берегами. На противоположном берегу колеблются какие-то неясные высокие предметы. Деревья? Ближе, ближе... Нет, не деревья, а верблюды. В зеркале воды видны их отражения.
Да, озеро и верблюды. Эго видится всем. И все примолкли. Мы знаем, что озёр тут нет. И нам стало не по себе, хотя за спиной у нас две столитровые бочки, наполненные сегодня на рассвете водой из пресного колодца,..
— Мираж, — спокойно произнесла Елена Васильевна и легонько, совеем по-домашнему, вздохнула. — Значит, уже жарко.
Она расстегнула верхнюю пуговицу на своём полотняном пыльнике:
— Измеряли сегодня температуру?
— В одиннадцать утра было тридцать шесть градусов, — отозвался Валерий.
— Да, жарко, — рассеянно повторила Елена Васильевна. — Я вспомнила, — у нас был однажды в Голодной степи проводник, который по миражам выбирал дорогу для машины. Мы сначала не могли понять, в чём дело, а потом сообразили, что ведь миражи видятся большей частью па гладких, глинистых участках, которые тверды, как бетон. Водители у нас потом так и говорили: «Держи на мираж, всегда хорошо проедешь»...
Озеро приближалось, и мы уже ясно различали верблюжат, которые жались к матерям, смешно вытягивая шеи, напоминающие перевёрнутое коромысло.
И вдруг вода исчезла сразу, будто вмиг испарилась на солнце. Вместо озера перед нами расстилался
светло-серый глинистый такыр. Верблюды же... остались верблюдами! Они шагали по такыру в ту сторону, где зеленела трава. А сзади, на коне иомуд-ской породы, ехал пастух в бараньей шапке и плелась, свесив голову, высунув язык чуть не до земли, огромная лохматая овчарка...
От долгой езды нападала дремота, начинало чудиться, что всё это паше путешествие — видение, мираж. Как поверить, что мы едем по приморской равнине, что километрах в сорока к западу играет, штормит, дышит Каспий? Как поверить, что в недалёком прошлом — по геологическому масштабу времени — и тут, где мы проезжаем, гуляли морские волны? Море отступило и не приносит оставленной им земле ни дождей, ни прохлады. Ветры угоняют водяные пары Каспия в другие края.
Мне припомнилась всемирная карта зон увлажнения, которую я рассматривал однажды в каком-то атласе или учебнике. На этой карте разными цветами были нанесены шесть зон: избыточного, достаточного, умеренного, недостаточного, скудного и ничтожного увлажнения. Я хорошо запомнил кирпично-красную окраску, принятую на этой карте для обозначения шестой зоны, получающей-ничтожные осадки. Именно в такой цвет окрашены наши среднеазиатские пустыни, в том числе и прикаспийская равнина, по которой мы сейчас ехали. Лишь через горные районы, к востоку и к западу от Ашхабада, тянется более светлая узенькая полоска скудного увлажнения...
Вот теперь что-то питож! на степь. Цветы, островки ковыля. Откуда-ro выскочили джейраны. Пять, семь, десять, двенадцать штук. Андрей, видимо, чуть подвернул баранку, — стадо ока :алось на курсе машины. Ветер свистит в ушах. Антилопы несутся, не сворачивая, едва касаясь ногами земли. Это действительно не бег, а почти полёт.
Леонид Сергеевич застучал в крышку кабины. Андрей, увлечённый погоней, остановил не сразу. Высунулся из кабины — злой.
— В чём дело?
— Остудите мотор, а заодно и голову! — сухо сказал Леонид Сергеевич.
— Мотор не перегрет, да и голова в порядке.
— Вы разве ие знаете, что всякая охота на джейранов, да тем более с машин, запрещена?
Андрей начал остывать:
— Леонид Сергеевич, я просто хотел проверить, какую они скорость дают. Я выжал семьдесят пять...
— Проверено давно: джейраны могут бежать со скоростью до восьмидесяти километров в час. Но если вы их будете гнать в таком темпе даже не очень долго, они быстро запалятся и могут погибнуть. А вы потом станете уверять, что и пальцем их не тронули... Можно ехать дальше.
Ещё полчаса — и мы проезжаем, не останавливаясь, через большой аул. Из круглоголовых кибиток, обтянутых тёмным войлоком, выглядывают женщины в неизменных красных платьях. Бежит с криком полуголая детвора.
В середине аула промелькнул деревянный русский домик с крылечком, резными наличниками и двухскатной высокой крышей из дранки. Домик почему-то стоит на сваях, хотя воды нет нигде кругом. Леонид Сергеевич поясняет, что во время дождей на глинистом такыре, где расположен аул, застаивается вода, образуя озеро. Туркмены тогда переносят свои кибитки на возвышенное место. Домик не будешь переносить с места на место, — его и поставили на сваи.
Выехав из аула, мы наткнулись на неширокую песчаную гряду. Потом опять потянулись такыры, но уже не белёсые, а тёмно-серые, почти аспидные. Ничто не росло, да, казалось, и не могло расти на этой глади. И вдруг на сером асфальте вспыхнуло жёлтое пятно, за ним второе, третье, и вот уже тёмная гладь усыпана огненными вспышками.
Леонид Сергеевич скомандовал остановиться. Пятна оказались растениями. Огромные, уже увядшие их листья были распластаны на земле.
— Ревень, — сказал начальник, ещё не дойдя до заросли. — Специально для вас, Валерий.
— Как же он разросся на этой грифельной доске? — удивился Валерий.
— Спросим об этом у самого ревеня... Смотрите, тут ещё что-то прижилось. Соляночки, ромашки. Был я здесь прошлой осенью и никаких следов ревеня не обнаружил. Ботанику надо ездить в поле во все времена года. Всегда что-нибудь новое отыщешь. А почва здесь, па этой грифельной доске, как вы выражаетесь, не так уж плоха, мне кажется. Спросим у Елены Васильевны.
Да, под тонкой коркой — хорошая почва. Аул, который мы проехали, не зря называется Бугдайли. Бугдай — пшеница.
Уже вечерело, и начальники, посовещавшись, решили устроить тут ночлег. Валерий ещё до ужина принялся откапывать корни ревеня. Копал он с помощью двух рабочих весь вечер, копал на рассвете следующего дня, пока не добрался до корневых окончаний.
Валерий посвятил свою кандидатскую диссертацию полезным растениям пустыни, и ревень его очень заинтересовал. Туркмены добывают из корней этого растения краску для ковровой шерсти.
В ковроделии растительные краски применялись испокон веков. Искусные мастерицы принимают во внимание даже то, что ковёр со временем выгорит. И краски подбираются так, чтобы ковёр, выгорая, не тускнел, не старел, а приобретал с возрастом новые и новые оттенки.
Ревень может служить и дубителем. Валерий хочет это доказать, подвергнув корни растения тщательному исследованию в ленинградской лаборатории. Корневую систему надо доставить в Ленинград целой, так как она пойдёт и в музей.
Наташа зарисовала на листе ватмана ветвистое образование, извлечённое Валерием из глубоченной ямы. Это на тот случай, если корни не удастся довезти до Ленинграда в сохранности.
— Выразительно и, главное, точно, — сказал Леонид Сергеевич, посмотрев рисунок. — Вы премируетесь ведром воды!
Валерий упаковал корни, обвязал бечёвкой, но в кузове не нашлось места для громоздкого пакета. Андрей пристроил его на крыше кабины, ловко привязав крепкой бечёвкой.
И мы снова понеслись по равнинам Юго-Западной Туркмении.
В полдень на горизонте опять мелькнула светлая полоска. Опять, расширяясь, она превратилась в озеро. Но на этот раз в зеркале воды отразились не верблюды, а остатки каких-то строений самой диковинной формы. Мираж, конечно!.. Они бывают разные, эти миражи. Мерещится не только вода. Один географ видел поезд, шедший вдоль Аму-Дарьи вверх колёсами. На глазах у другого опрокинулась и вознеслась к небу гора!..
Машины встали. Но видение не исчезло.
Знойная тишь... Струи нагретого воздуха текут над раскалённым такыром. Из переднего кузова кто-то крикнул:
— Приготовить купальные костюмы!
Но вот машины тронулись, прошли с полкилометра, и вода исчезла. А руины остались. Мы очутились у развалин древнего города Мессериана.
Велик был Мессериан даже по современным понятиям. Мы долго объезжали высокий вал, опоясывающий руины, пока не добрались до городских ворот. Арка уже обвалилась, но устои ворот ещё покрыты росписью такой чистой голубизны, словно её нанесли только вчера. За воротами, в глубине, виднелись остатки двух минаретов, сложенных из желтоватых квадратных плиток-кирпичей. И по остаткам можно было судить, что ворота и минареты строил человек, обладавший глазом истинного художника.
Мы вошли внутрь и очутились на городище, усеянном битым кирпичом и осколками превосходного фарфора — синими, чёрными, голубыми.
Много тайн хранят камни и черепки Мессе-риана, возникшего в краю, где возвышались и падали государства, строились и предавались огню, вновь отстраивались н вновь обращались в руины города.
Когда возник Мессериан, кто строил его, откуда проводили воду? Как обрабатывали землю и что сеяли мессериапцы? Кто обратил город в развалины? Семь ли, восемь ли, десять ли веков назад ворвалась в него через пролом в стене орда завоевателей?
Археологи сше не раскапывали городище и точного ответа на эти вопросы не дали. Есть отрывочные сведения у древних историков, есть догадки у современных.
В античные времена на юго-восточном берегу Гир-канского (Каспийского) моря, между Парфией и Хорезмом, лежала цветущая Гиркания. Римский учёный Птолемей насчитывал здесь во втором веке нашей эры одиннадцать городов.
Александр Македонский, завоёвывая Гирканию, дошёл до «счастливых селений». Ии одна область, писали тогда, не может сравниться с ними по великолепию плодов. На кисти винограда созревает столько ягод, что их хватает на меру вина. Во время жатвы количества падающих зёрен достаточно для нового посева и не требуется никакого труда для столь обильного урожая.
Можно было бы заподозрить античных авторов в преувеличении. Но в конце XIX века русский генерал, побывавший в районе Мессериана, писал в официальном донесении о «баснословном плодородии туркменских степей».
«Туземцы называли эти места «царь земли», — пишет генерал. — Чем дальше к Мессериану и Чату, земля всё богаче, обильнее, плодороднее. В прошлые годы пробовали сеять пшеницу, кукурузу, джу-
гару; первая, говорят, давала урожаи сам-сорок — пятьдесят, вторая — сто, сто пятьдесят, а джугара — даже сам-двести. Такой урожай неслыхан даже в Хиве, при орошении земель илом Аму-Дарьи, и только, как слышно, бывает иногда в Нильской долине...»
Вернёмся к древней Гиркании. Она славилась коврами, шёлком, рисом, резными по дереву изделиями и вела обширную торговлю с соседями.
Шли века. На прикаспийскую равнину вторгались персы, арабы. Перед монгольским нашествием Мес-сериан был центром крупного оазиса Дихистан, что означает: «страна селений». Арабский историк сообщает, что тут был один город в 24 селения.
В начале XIII века к восточным берегам Каспия хлынули орды Чингис-хана. Запылали города, полилась кровь мирных жителей. Тогда ли погиб Мессе-риан, или ещё жил, искалеченный, пока не иссякла вода в последнем арыке?
... Весь наш отряд разбрёлся по городищу. Кто фотографирует, кто собирает остатки посуды. Валерий и Висвалд попробовали проникнуть внутрь минарета, но это им не удалось.
Елена Васильевна довольно скоро прервала экскурсию:
— Не увлекайтесь сбором коллекций, товарищи. Предоставьте это археологам. Они, кстати, очень не любят, когда несведущие люди разрывают памятники старины. Едемте поскорее. Выроем свою, почвовед-скую, яму и попробуем в ней «прочитать» что-нибудь об этом городе.
Машины снова обогнули вал и остановились невдалеке от городских стен. Какая странная равнина! Она вся изрезана валами разной высоты и протяжённости. Время сгладило эти валы, почти сравняло с землёй, но всё-таки они ещё различимы. Растений почти нет. В гербарной папке у Люды лежат только два паразита, найденные в яме на городище. Они толстые, неприятно жирные, как все паразиты, и густо облеплены беловато-сиреневыми соцветиями.
Леонид Сергеевич всё-таки отыскал среди валов два — три растеньица.
— Флора тут крайне бедна, — сказал он, укладывая находки в папку. — Но здесь вообще легко сбиться с толку. Группы растений распространяются по прямым линиям, вот по этим валам, которые, вероятно, отмечают древний арык или поливную бороздку...
Тем временем отрыли шурф.
Под верхним слоем обнаружили черепки. Это всё ещё археология. Но вот Висвалд, действуя маленькой лопаткой, углубился в стенку, отрывая «лисью нору». Вытащил дрожащими руками комок тёмно-зелёного суглинка:
— Посмотрите, вот, вот здесь!
Он волнуется, словно нашёл клад.
Извилистые тёмные линии образуют в комке суглинка сложный рисунок. Это остатки корней растений. Много трухи, образованной истлевшими крупными корнями.
— Почва со следами древнего орошения, — кратко определила Елена Васильевна. — Больше пока ничего сказать нельзя. Возьмём образцы для пыльцевого анализа.
У нежной пыльцы растений удивительная способность сохраняться в земле многие века. Учёные разработали метод пыльцевого, анализа. Во многих случаях этим методом удаётся определить, какому растению принадлежит пыльца и каков её возраст.
Не поможет ли пыльца, добытая у стен Мессе-риана, приоткрыть завесу над тайнами мёртвого города, узнать, что сеяли здесь, какие сады разводили?
Особенно интересно раскрыть систему орошения города и прилегающей равнины.
Где добывали месеерианцы воду? Её нет поблизости. Зато вокруг видишь следы разумного, умелого использования воды. Валы, пересекающие равнину, — это следы ила, выброшенного некогда при очистке каналов и арыков. Такие точно валы встре-
чаются и в других районах Туркменистана, где существовали когда-то оазисы.
Мессерианцы, наверное, искусно пользовались озёрами, образующимися на глиняных такырах в период весенних дождей. Улавливая дождевую воду в большие водоёмы, можно было создать значительные запасы. Но этого мало для большого города.
Мсссериан лежит в центре обширной равнины. К востоку от него — мешедские пески, к западу и северо-западу — прикаспийские. Подвести оттуда воду нельзя, ибо её там нет. Горы — далеко, и весенние потоки не достигают мессерианской равнины. Остаётся юг. Там протекает река Атрек. До неё километров пятьдесят. По нашим временам, — расстояние пустяковое. А верблюжьему каравану нужно два дня, чтобы пройти такое расстояние.
Но всё-таки мессерианцы, наверное, брали воду из Атрека. Эту догадку высказали некоторые исследователи. К этому же выводу пришли и наши научные руководители. Леонид Сергеевич, «читая» следы поливных карт, сохранившихся на равнине, высказал предположение, что мессерианцы сеяли рис. А он требует обильных поливов, и тут без атрекской воды не обойтись.
Сохранились остатки крепостей, вытянутых в линию от города к реке. Мы приняли их просто за бугры, когда проезжали мимо них. Видимо, эти крепости служили для охраны магистрального оросительною канала, питавшего Мессериан. Найдены остатки сооружений и на самой реке. Здесь, наверное, была «голова» мессерианской оросительной системы.
Полное разрешение загадки Мессериана важно не только для истории. Время существования и гибели древних и средневековых оросительных систем представляет интерес для почвоведов, для ботаников и гидрологов, — для всех, кто занят кропотливыми исследованиями на просторах Средней Азии.
Но если мессерианцы получали воду из Атрека,
то почему нельзя в наши дни провести канал па эту равнину оттуда же? Ведь тут можно культивировать лучшие, длинноволокнистые сорта хлопчатника, которым недостаёт тепла на севере Туркмении. Тут, помимо винограда, персиков, абрикосов, дынь, могут вызревать, как и в соседнем Кизыл-Атреке, маслины, инжир, гранат да, наверное, и финики.
Леонид Сергеевич, в чисто туркменской манере, цыкнул и покачал головой:
— Не так всё просто. Та почва, которую возделывали мессерианцы, давно погребена под толстым слоем глинистых бесплодных наносов. Надо заново создавать плодородный слон. Это нелегко, но вполне достижимо и окупится сторицей. Гораздо труднее провести сюда воду. В Атреке её сейчас гораздо меньше, чем в ту пору, когда существовал Мессериан. Этот источник исключается. А других крупных источников пресной воды нет на многие сотни километров вокруг.
— Выходит, что орошение Юго-Западной Туркмении пока неосуществимо?
— Если бы мне задали этот вопрос лет десять назад, то я бы ответил, что это дело отдалённого будущего. Но за эти годы в некоторых областях науки произошёл, в буквальном смысле, переворот. Успехи науки позволят по-новому ставить вопрос и об орошении. Используя, например, атомные взрывы для преодоления водоразделов, можно поворачивать реки и перебрасывать воду на громадные расстояния. Возможно, что на мессерианскую равнину подведут воду из далёкой Аму-Дарьи, а может быть, из ещё более далёких сибирских рек.
— Новый меесерианскнй оазис. — заключил Леонид Сергеевич, — будет, я убеждён, обширнее и богаче прежнего. А главное, он никогда не обратится в пустыню ни по злой ноле завоевателей, которые исчезнут с лица
Древний город Мессериан был последним пунктом нашего маршрута. Жарким утром следующего дня отряды вернулись на базу в Кизыл-Арват.
Мы уезжали из Туркменистана, когда на ойтаках пожелтели травы и чабаны уже откочевали со своими стадами в пески.
Едва успел поезд отойти от Кизыл-Арвата, как молодёжь принялась разрабатывать маршруты будущего года. Наташа и Люда решили продолжить изучение такырных водорослей и лишайников. Марине хотелось исследовать растения Обручевской степи, лежащей в зоне Каракумского канала.
Девушек тревожило только одно: найдутся ли деньги, продолжит ли комплексная экспедиция работу в будущем году?
Леонид Сергеевич рассеял эти сомнения:
— Мы занялись пустыней всерьёз. Конечно, исследования будут продолжительны. Нужны подробные карты и нужны описания почв, рельефа, растительности... Одним словом, работы в пустыне хватит не только вам, но и многим десяткам молодых исследователей и следопытов.
_____________________
Распознавание, ёфикация и форматирование — БК-МТГК.
|