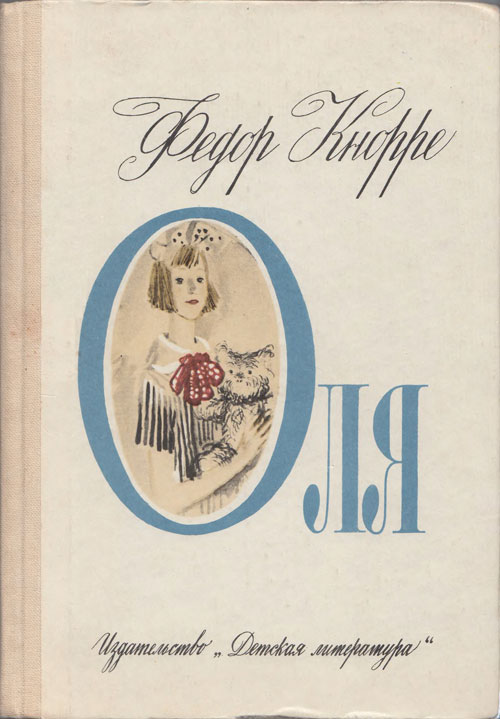Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
Глава первая
Всамый разгар зимы, приехав в этот совсем чужой город, Елена Павловна Рытова с дочкой Олей вышли из тёплого вагона, прошли через вокзал и увидели сплошь занесённую снегом вокзальную площадь. Они спустились по ступенькам и остановились, оглядываясь по сторонам, не зная, куда двинуться дальше.
К счастью, они, наверное, тут не первые были, кто вот так же, сойдя с поезда, стояли и раздумывали: что делать дальше?.. Почти тотчас же к ним, скрипя по снегу, подъехали санки. Очень длинный худой человек тянул их за собой на пушистой, белой от инея веревке.
— Отвезём вещички! — сказал человек. — Куда будем ехать?
— Я думаю, в гостиницу, — нерешительно сказала мама. — Тут есть гостиница?
— Четыре, — сказал человек. — И в каждой местов свободных не найдёте. Вы же не командировочные?
— Нет, мы пожить… На некоторое время… Месяца на…
— Помесячно, — заключил человек и молча стал укладывать на свои санки багаж.
— Куда это мы? — спросила мама растерянно.
— По адресам поехали. Куда же ещё?
Он впрягся в верёвку, налёг на неё грудью, и шея у него при этом так далеко высунулась из просторного ворота засаленного пальто, что он стал похож на жирафа в упряжке.
Санки взвизгнули, тронулись и поехали.
Оля шла за санками и думала: настоящим жирафам длинная шея помогает доставать листочки с верхних веток деревьев, но зачем такая шея этому человеку?
По узким переулкам, окаймлённым валами сугробов, они выехали на большую улицу, свернули с неё в переулок, опять куда-то свернули. Оля ничего не запомнила, кроме того, что было много снега, всё было чужое, у неё замёрзли щёки и что их никуда не впускали.
Объехав три или четыре неподходящие квартиры, они добрались до странного старого дома. Первый этаж у него был кирпичный, а второй — деревянный, со следами вывески какой-то лавки, от которой остались только отдельные буквы. Дверь в эту бывшую лавку наглухо была заложена кирпичом, и за окнами весело цвели красные цветочки, прильнув к самому стеклу.
Оля устала, всё ей не нравилось, и все хозяйки были противные и заламывали за комнату столько, что мама не могла платить, а когда они поворачивали уходить, им не отвечали на "до свидания" или предлагали плату чуть-чуть подешевле.
А тут всё сразу же вышло по-другому: мама, стесняясь, спрашивала, а старушка хозяйка ещё больше стеснялась отвечать и, стыдливо показывая комнату, обращала внимание на то, что один угол сыроватый и стекло треснуло, и, узнав когда и откуда они приехали и в котором часу пришёл поезд, ужаснулась, что они замёрзли, и скоро всё устроила так, что сели пить чай все, даже человек с санками и жирафьей шеей.
Тут они и поселились. Хотя скоро оказалось всё не так хорошо, потому что хозяина Ираида Ивановна была не совсем тут хозяйка. Дом-то считался её, но владели им фактически её две дочери, два дочерних мужа и ещё сестра одного мужа, не считая "ихних отпрысков", как, извиняясь, объясняла хозяйка.
К вечеру все эти мужья и сестры собрались у себя внизу, и слышно было, как они спорят и гудят под полом в нервом этаже, и потом заскрипела деревянная лестница и скрипела очень долго, с промежутками: кто-то очень медленно поднимался, приостанавливаясь через каждые две-три ступеньки.
Наконец появилась хозяйка Ираида Ивановна и, виновато глядя вбок, попросила паспорт. Похоже было, она боится, что вдруг правильного паспорта не окажется, и когда Олина мама подала ей книжечку в чистой обложке, она бережно приняла её, как стеклянную, и понесла перед собой, как несут подавать к столу блюдечко с чашкой чаю, налитой до самого края.
Она понесла паспорт вниз, и там опять загудели мужские голоса, и долгое время спустя опять появилась Ираида Ивановна и с облегчением объявила, что паспорт хороший, с этим всё в порядке, и видно было, она этому ужасно рада, но что-то другое её мучает и томит, и она не знает, как начать.
Оказалось, что мужья и сестры, когда там гудели, пилили её и грызли, что она слишком дёшево сдала комнату, потому что летом они сдавали её подороже.
— Хорошо, — сказала мама, — мы завтра съедем, вы их успокойте.
И тут Ираида Ивановна, согнувшись, села на табуретку, фартуком закрыла лицо и заплакала.
Сквозь её тихий плач можно было разобрать, как она стыдит и усовещевает тех, кто её послал:
— Как это равнять можно — что летом, что сейчас? Летом сюда как на дачу приезжают… Купанье на речке, грибной лес близко, люди интересуются… А сейчас совсем другое дело, даже равнять нельзя. За комнату сейчас никак нельзя дороже спрашивать… Прямо бессовестно даже…
Мама сперва вспыхнула, рассердилась, ходила по комнате и самоуверенно повторяла: "Съедем, пожалуйста, раз у людей нет слова", а Ираида Ивановна горевала, как будто это её с квартиры гонят, и видно было, сама не знала, как быть.
— И ведь всё равно комната будет пустая до самого лета стоять, приезжих никаких сейчас нет, а постоянных пускать нельзя — пропишутся да и не выедут.
Слушая со стороны, можно было подумать, что мама сдаёт комнату и капризничает, а Ираида Ивановна старается её уговорить и сбить цену, — такой странный шёл разговор.
Наконец мама сказала:
— А что же вы-то расстраиваетесь, не пойму?
— До того не хочется, чтоб вы уезжали. Да ведь и совестно: я вам цену назначила, а теперь вдруг пришла прибавку спрашивать. Разве так по-людски поступают?
Мама наконец засмеялась и согласилась платить побольше, так ей стало жалко старуху. А та успокоилась, но сто раз повторила, что ей совестно и так делать некрасиво, и тут же постаралась замолвить словечко за дочерей с мужьями, что они, конечно, все хотят получше жить и многого им в хозяйстве не хватает.
В общем, было похоже, что сама-то хозяйка тут последний человек в доме. Да так оно и оказалось.
Глава вторая
Начался первый бесконечный день на новом месте.
Печка дымила и не желала нагреваться. Елена Павловна с Олей давно уже, не снимая пальто, сидели рядышком на кровати и смотрели, как дым, не желая уходить в трубу, клубился в топке вокруг слабых огоньков, то вспыхивающих, то гаснущих с шипеньем на сложенных поленьях.
— Она нарочно не загорится, пока мы тут сидим! — сердито сказала Оля, растирая красные глаза. — И чайники такие есть — ни за что не закипит, пока ты на него смотришь!
Полено громко стрельнуло, и маленький уголёк выскочил на железный лист. Столбик дыма пыхнул в комнату, превращаясь на лету в завиток, повернул и проворно нырнул обратно в топку. Там что-то произошло: без толку метавшийся дым вдруг точно опомнился, заторопился, устремляясь вверх по дымоходу, огонь свободно вздохнул, ожил, заиграл и с весёлым потрескиванием осветил кирпичные закопчённые стенки. Печка мало-помалу разгоралась, и комната стала похожа на жильё, а не на заброшенный чердак.
Ираида Ивановна прискрипела к ним вверх по лестнице, очень удивилась и даже похвалила печку за то, что та так быстро растопилась, — видно, никак она этого не ожидала от неё. Предложила теперь сама присмотреть за ней, как она будет себя вести, и подложить ещё дров, если жильцы хотят куда-нибудь уйти…
Они пошли немножко оглядеться в городе, куда приехали. Походили по улицам, совсем замёрзли, отогрелись, пообедав в довольно плохой столовой, которая называлась почему-то "Ресторан «Днепр», и поплелись просто так, от нечего делать, на почтамт — просто потому, что это было такое место, куда приходят письма из других городов до востребования.
Конечно, девушка за окошечком сказала:
— Писем вам нет!
А они и сами знали, что от папы не могло им быть письма, даже если бы он вдруг решил написать сразу же после того, как проводил их на вокзал. А он, безусловно, не стал бы им писать в тот же день. Да и в следующий… И вдруг девушка вытащила и положила на прилавок какой-то квадратик:
— А перевод денежный есть!
Мама слегка испугалась, даже руку отдёрнула, чтоб не взять чужого, — никакого перевода быть не могло. Однако на бланке стояла её фамилия, её имя и сумма 600 рублей. В те, довоенные, годы эта сумма тоже была очень значительной, а уж для них двоих сейчас даже очень и очень!
Оля затаив дыхание следила, как мама, вдруг улыбнувшись, стала расписываться, потом как-то неуверенно взяла деньги.
Продолжая улыбаться, чуть пожимая плечами с грустным недоумением, мама молча вышла на улицу, стесняясь говорить при посторонних.
— Знаешь, это от дедушки! Подумай только, он мне давно на письма не отвечал. Присылал ровно по две открытки в год, на праздники.
— А теперь вдруг взял, да и ахнул! Ты подумай! Шестьсот! Что мы делать с ними будем? Да как он узнал, что мы тут?
— Я-то ведь ему писала всегда. И что мы с тобой собираемся уезжать — тоже написала. А перевод телеграфный.
— Значит, он раскаялся и тебя простил, и теперь можно купить пирожных. Я его тоже, пожалуй, прощаю…
— Олька, прекрати петрушничать! Это совсем не смешно и не весело… Может быть, как-то нехорошо даже.
Они пошли по магазинам, купили хлеба, масла, яиц и какой-то странной местной тонкой колбасы колечками.
— Теперь домой? — хныкнула Оля. — Я ух как замерзла…
Они вышли из незнакомого магазина. Прошли по чужим улицам до своего переулка, который вовсе не был для них своим. И вот оказались «дома». В чужой, необжитой комнате.
Чайник дожидался их в хорошо протопленной печке. Воздух был тёплый, но стены ещё не прогрелись — видно, тут давно не топили.
Пока они возились, раскладывая вещи, стелили постели, усаживали на удобное место Тюфякина, а потом пили чай с пирожными, которые мама всё-таки купила, всё шло ещё так-сяк. Но вот когда всё было готово и делать стало нечего, они оглядели свое жильё, и обеим вдруг разом стало очень тоскливо.
Оля внимательно оглядела, стоя посреди комнаты, стены, печку, потолок, медную настольную лампочку с колпачком в виде стеклянной лилии на согнутом стебельке.
— Совершенно посторонняя комната!
Оля подошла к тёмному окну и прижалась носом к стеклу. На минуту можно было разглядеть крутые скаты домов и сараев, укрытые толстыми перинами пухлого снега, но тут же налетал новый порыв вьюги, и всё застилало мчащейся белизной. Она крутилась, постукивала о стекло, и в печной трубе откликалось: гудело и посвистывало, почти заглушая звук картонного репродуктора на стене, бодро, но слабо наигрывающего знакомый марш из кинофильма "Если завтра война".
— Тюфякин очень упал духом, — заметила Оля, когда они ещё только садились к столу пить чай.
Мама чуть усмехнулась:
— Просто он ещё приглядывается, что к чему, куда его занесло.
Они обе одновременно невольно обернулись на Тюфякина, сидевшего, по обыкновению прислонившись к спинке в уголке дивана и как-то неопределённо смотревшего прямо перед собой.
Очень трудно было бы определить в точности, что из себя представляет Тюфякин. С первого взгляда был он похож, пожалуй. на маленького кудлатого пёсика, спокойно сидящего на собственном хвосте, широко растопырив передние толстые лапки, как будто собираясь кого-то обнять. А может быть, желая выразить таким образом своё крайнее изумление окружающим.
Но самое удивительное, в особенности при его тщедушном тельце, была его крупная лохматая голова с круглыми ушками и широкой добродушной физиономией, которую никто бы не мог назвать мордой, сквозь завитки шелковистой шёрстки проглядывали с доброжелательной хитрецой очень живые зелёные глазки.
— Нет, — решительно заключила Оля. — У бедного старичка подавленное состояние его тюфячьего духа. Очень. Сразу видно.
Весьма вероятно, что спокойно сидевший в уголке Тюфякин был не виноват, но чаепитие прошло как-то скучно, даже пирожные не доставили обычного удовольствия.
Елена Павловна встряхнулась и усмехнулась невесело:
— Вот бы нас кто-нибудь увидел сейчас. Как раскисли, притихли. Что бы про нас люди сказали?
— Если б нас увидел папа, я знаю, что бы он сказал.
— Ну?
— Он бы сказал: "Ага!"
— Он не сделал бы при этом такой злорадной рожи….
— Но "ага!" он мог бы сказать? Ты это признаёшь?
— Ну что ж, если бы и сказал, то был бы прав… Но только временно. На сию минуту.
— А чего ты, мама, расстроилась, когда деньги получала? Ты мне скажи, тебе же легче будет, если от меня ничего не будешь скрывать.
— Дрянная ты девчонка, — печально сказала мама. — Как ты со мной разговариваешь? Твой папа был прав: не умею я тебя воспитывать… Как ты себя ведёшь? То будто ты мне ровесница, а то дуришь так, что и семилетней было бы стыдно. Скачешь по разным возрастам туда-сюда, как котёнок по клавишам рояля. Я совершенно не умею поддерживать родительский авторитет, а ты и рада стараться! Разве это хорошо?
Оля стремительно вскочила с места, обежала вокруг стола и, крепко обняв мать сзади, несколько раз поцеловала в шею, громко сопя и приговаривая:
— Мамочка, ты же мой один-единственный, великий, любимый авторитетик!..
— Не щекочи меня! — рассмеялась, отворачиваясь, мама.
— Сама знаешь!.. И потом поддерживать-то только то надо, что криво стоит или валится набок, а тебя не надо поддерживать.
Втиснувшись рядом с мамой на сиденье стула, Оля поцеловала её в щёку:
— Тебе плакать хочется.
— Ни капельки не хочется.
— Тебе хочется, но ты не ЖЕЛАЕШЬ плакать!.. Так что про деньги?..
— Хватит тебе… с деньгами — это уже прошло. Глупость. Мне в первую минуту показалось, что дедушка… то есть твой дедушка, мне-то он отец, мог по моему письму решить… ну, что мы совсем с Родей рассорились. Но это глупости, ничего он такого не подумал, он правильно понял, что я просто поступила как-то по-своему… Вот уехала с тобой… да, может быть, против чьей-то воли… И дедушка сразу захотел меня поддержать, помочь, вот и всё. Больше ничего за этим не кроется.
— Молодец дедушка, я хоть никогда и не видала, а попробую его начать любить. Правда, стоит? Раз он тебя любит. Он ведь любит?
— Любит, и ещё он любит, чтоб любопытные девчонки ложились спать вовремя. Марш в постель!
— Скачу в постель! Только лампу не гаси, ладно? А то ещё неизвестно, какая эта комната окажется, когда лежишь в темноте. Полежим, попривыкнем немножко, ладно?
Оля разделась и залезла на диван под одеяло, мама легла в постель у другой стены. Между ними стоял только стол с медной лампочкой.
— Если она цела, — заговорила Елена Павловна после небольшого молчания, — у дедушки в Ташкенте, в его домике, до сих пор должна стоять моя детская лампочка. Керосиновая. Вокруг всего абажура переводными картинками изображены похождения хитрого жёлтого зайца, который марширует с длинню-ющим ружьём на плече.
— А откуда он его взял?
— Стащил у глупого охотника. Тот заснул, а заяц из кустов подглядел… Я перед сном всегда любовалась на этого зайца, хотя он был похож больше на кенгуру.
— Ещё что-нибудь про зайца! — клянчила Оля. — Ну, мама!.. — Теперь ей действительно можно было дать лет семь, не больше. — Ну, а охотник был какого цвета?
— Зелёного. Зелёный костюм и гетры до колен, на пуговках. Нечего больше про зайца: стащил ружьё и торжествует. Спать надо.
— Спокойной ночи. Только честно: не гаси света, пока я не засну. Мне сейчас шесть годиков. Спокойной!.. Сплю.
Довольно долго в комнате слышалось только замирающее и вновь оживающее подвывание ветра в трубе и мягкое шуршание от ударов снега в стекло.
Обещавшись спать, Оля честно лежала с плотно закрытыми глазами и вдруг, не раскрывая глаз, после долгого раздумья выговорила:
— Нет, пожалуй, он не сказал бы "ага!".
— Ты это сама придумала. Спи, пожалуйста.
— А вдруг он сейчас сидит там, у нас дома, и думает о нас, и ему грустно и очень жалко, что так получилось, и ему грустно, что нам грустно, и…
— Пожалуйста, спи. Прекрати болтовню. Больше ни слова.
Слегка надувшись, Оля замолчала, потом приоткрыла один глаз, покосилась и, ни к кому не обращаясь, кротким голоском пролепетала:
— А сама смотрит в потолок.
Мама действительно, закинув руки за голову, смотрела в потолок задумчиво, слегка прикусив, по своей привычке, губу.
— Конечно… — неуверенно проговорила мама. — Конечно! — сказала она уже потвёрже и вдруг, тихонько улыбнувшись, с нежной и радостной уверенностью воскликнула: — Конечно, ему очень грустно! Но пройдёт же и кончится эта вьюга, он приедет к нам, мы будем опять все вместе и всё будет так хорошо!
— Весной? Когда скворцы? Вот заживём! Мамочка, раз нам стало сейчас всё равно уж так весело, давай съедим ещё по одному пирожному. Они, знаешь, довольно вкусные! Чтоб уж совсем-совсем повеселеть!
Грустил или негодовал в этот вечер в далёком городе Родион Родионович — муж Елены Павловны, Олин отец (а он, скорее всего, и грустил и негодовал вместе), он очень был бы удивлён, увидев происходящее в комнате.
Выбравшись из постелей, в длинных ночных рубашках, мама и Оля, смеясь над собой, торопливо поёживаясь от прохлады, ели пирожные.
Ещё дожёвывая сладкие крошки, Оля взяла на руки Тюфякина. Глубоко спрятанные в завитках шерсти зелёные глазки весело блеснули в свете лампочки.
— Старичок мой, деточка! — пропела Оля. — Видишь? Всё ещё уладится.
Как две нашалившие девчонки, мама и дочка разбежались по постелям.
Глава третья
Началась и пошла довольно скучная, однообразная жизнь. Оля поступила и начала ходить в школу. Там ей не очень понравилось. Всё новое. Непривычное. Ребята ничего себе, есть неплохие, но и противные попадаются. Подружиться как-то вроде не с кем.
До весны ещё ой как далеко! По вечерам скучно, рано темнеет, из щелей в окнах дует…
Мама сидит, накинув на плечи куртку, листает конспекты, выписывает помногу из книжек в свои тетради, готовится к экзаменам в какой-то техникум или институт, где можно научиться стать работником печати: писать в журналы. В далёкие легендарные времена, когда Оля ещё не успела на свет родиться, мама немножко начинала работать в какой-то областной газете. Сто… или десять (для Оли это одно и то же) лет тому назад…
Только к концу вечера хозяйка — хотя какая она хозяйка, просто работница у своих двух дочерей, ихних мужей и сестры одного мужа и всех ихних отпрысков, — закончив все работы в нервом этаже, поскрипывая по лестнице, поднималась на второй этаж, и все втроём садились пить чай и разговаривать.
Ираида Ивановна, усталая, еле добиралась присесть к столу и каждый раз говорила жильцам: "Я к вам прямо как в дом отдыха прихожу, просто совестно. И вы опять мне чай наливаете!.."
Оле очень хотелось бы, чтоб вдруг оказалось, что эти мужья и сестра мужа вдруг оказались бывшими городовыми или крупными помещиками-белогвардейцами, но, к сожалению, все они работали какими-то учётчиками, товароведами, прорабами — кто на какой-то базе, кто ещё где-то.
Ираида Ивановна ходила на базар и в лавку, таскала дрова и выносила мусор, топила печи и нянчила отпрысков, а по вечерам, когда пила чай в "доме отдыха" у своих жильцов, всегда объясняла, что дочери с мужьями в этом не виноваты, потому что они молодые и им "всё нужно". Даже когда они после бани по субботам пили пиво и не в лад затягивали песни из кинофильмов, всегда сбиваясь после первого куплета, потому что забывали слова, и ревели, повторяя всё одно и то же, перекрикивая друг друга, она как-то извинительно улыбалась и говорила, что вот, дескать, молодым "всё нужно", хотя эти мужья были здоровенные мужики лет за сорок.
И ещё она, стеснительно и мило подшучивая над собой, оправдывалась, что сегодня что-то замоталась и приодеться всё некогда, даже вот когда люди к чаю приглашают. Выходило, сама она, а не кто-нибудь, виновата, что всё ходит в старой стёганке и тёмном ситцевом платье зимой.
Из своей тесной комнатушки на втором этаже рядом с терраской она выносила иногда и давала рассматривать Оле плюшевый альбом с фотографиями. Он был когда-то голубого цвета, с бронзовыми уголками. Оля называла его (про себя) не плюшевым, а плешивым, до того он был потёртый и выцветший. Но там, где сохранились островки ворса, альбом был красивого нежно-голубого цвета.
"Скучноватая штука — эти чужие альбомы", — думала Оля. Судя по картонным фотографиям, вставленным уголками в прорези его толстых страниц, предки и родственники хозяйки были очень разные люди: какие-то бородатые мужчины в сюртуках и брюках, надетых поверх грубых высоких сапог, вдобавок совсем задавленные крахмальными воротничками, не дававших им повернуть головы. Один был какой-то весь в курчавой пушистой бороде, усах и бакенбардах, как бывает у кудлатых собак, и поэтому казался симпатичнее других. Дальше шли военные и невоенные в туго застёгнутых мундирах и с выпуклыми буквами и значками на погонах, сюртуки, ордена, подвязанные к шее, толстые цепочки на жилетах. Лица занимали очень мало места на карточках, так что Оле начинало казаться, что фотограф снимал главным образом мундиры, шляпы, ордена и высокие кресла на фоне белых колонн, нарисованных сзади.
Кое-где вперемешку с мундирными господами и дамами в больших шляпах с перьями попадались совсем другие карточки, с которых хмуро таращились простецкие угрюмые дядьки в косоворотках и сборчатых поддёвках. Они явно показывали, что совершенно не замечают, не подозревают даже о том, что бок о бок с ними, примостившись на стульчике, покорно сидят какие-то гладенько причёсанные женщины с таким испуганным видом, точно они заранее знают: вот сейчас, только щёлкнет фотограф, снимая карточку, дядьки тут же схватят да как начнут таскать их за косы!
Потом объяснилось: альбом этот Ираида Ивановна давным-давно выменяла на свёклу на базаре в голодные годы вместе с фотографиями. Дам в больших шляпах и богато одетых мужчин она сохранила для украшения — они ей очень нравились. А на свободные места она вставила карточки своих дядей, тёток, дочерей и потом уж стала понемногу перетасовывать фотографии, как колоду карт: вставляла фотографию дочки рядом с молоденьким скромным студентиком в мундире — ей казалось, у него как будто добрые глаза. И ей, наверное, нравилось себе представлять свою дочку счастливой рядом с ним, а не с тем, который в нижнем этаже за пивом пел песню из кинофильма.
Альбом этот она тщательно прятала от своих и потихоньку показывала его Оле.
Оле всё это очень скоро надоело, и она только из вежливости брала в руки альбом, понимая, какое хозяйка оказывает ей доверие, какую тайну, скрытую от других, ей доверяет. Она уже запомнила все фотографии, все сюртуки и причёски. Она выбрала одного, самого противного старого господина с булавочными глазками, который вроде бы улыбался, но удивительно мерзкой улыбкой — углы рта оттянув вниз, отчего был похож на бульдога. Оля предложила Ираиде Ивановне пересадить его на одну страничку с сестрой мужа её дочки, жившей внизу, и тут впервые увидела, что хозяйка умеет смеяться. Та ахнула, закрыла лицо руками и долго беззвучно хохотала над этим предложением — ей это доставило настоящее удовольствие. Свой альбом с перетасовками она, видно, принимала как-то почти всерьёз, он и вправду что-то значил в её убогой жизни. Она заливалась беззвучным смехом и укоризненно повторяла:
— Ай, нехорошо… нехорошо так! — и опять смеялась, представляя, каково этой бабе будет рядом с "бульдогом".
В самом почти конце альбома среди карточек отпрысков, девочек и мальчиков, была одна не очень ясная фотография — девочка лет десяти с распущенными волосами, с нежным и тонким личиком сидела, опершись о столик голым локотком тонкой руки, подперев подбородок кулачком, и серьёзно, с доверчивым ожиданием всматривалась куда-то перед собой…
Девочка всё больше нравилась Оле, и однажды она не вытерпела и спросила:
— А эта вот девочка… Я бы с ней, наверное, могла подружиться. Она сейчас здесь?
Ираида Ивановна почему-то засмеялась, прежде чем ответить.
— Она тут в городе живёт? — допытывалась нетерпеливо Оля. — Ну, скажите.
— Тут в городе.
— А можно с ней познакомиться? Ну хоть скажите, она правда славная?
— Это такой трудный вопрос!.. — уклончиво заулыбалась Ираида Ивановна. — Я даже не задумывалась…
Оля всё приставала с расспросами, ей уже представилось, что наконец у неё в городе появится такая подружка, уже по личику её, по одному этому взгляду она угадывала, что подружка!
— Она к вам ходит когда-нибудь? Как её зовут?
— Не приставай! — вдруг вмешалась мама. — Вот уж и загорелась, выдумала себе! Спать, пора в постель!
Оля легла и, засыпая, слышала, как мама всё ещё продолжает разговаривать с Ираидой Ивановной, вполголоса, в её комнате.
Проснувшись на другое утро, Оля заметила, что у мамы немножко заплаканные глаза.
— Да, — созналась мама. — Плакала. Я, а не она… Ты вчера всё про девочку расспрашивала. Знаешь, её зовут Ира. Правда, славная? И как она радостно смотрит куда-то, в своё будущее. Ты всё хорошо подметила, жалко только, что она так далеко от нас живёт. Почти шестьдесят лет ходьбы, если повернуть назад и пуститься в прошлое… Ира. Да, Ираида Ивановна. Это её детская фотография. Она мне рассказала вчера. К стыду, вдруг я расплакалась, а она, на меня глядя, немножко всплакнула, просто из благодарности, что меня это может трогать… Она ведь и сейчас очень хорошая, только жизнь её сделала очень уж непохожей на эту карточку в альбоме.
Оля долго глядела в угол, хмурясь, позабыв натягивать чулок, который держала в руках. Потом вздрогнула и быстро стала одеваться.
— Невозможно, не могу себе представить… А ты можешь?
— Кажется, могу, — сказала мама. — Это всё не так просто. Ничего не даётся без борьбы.
— А с чем же бороться? Со старостью?
— Глупости; конечно, нет. Просто за себя, за свою жизнь… За жизнь, достойную человека… Ну, живо собирайся, тебе в школу!.. Я плохо спала, знаешь, всё какую-то свою чепуховую сказочку обдумывала. Если получится, я тебе после покажу… Мне в сказке легче объяснить. Ты знаешь, какая я несерьёзная…
— А как она называется? Как? Только ты не отвиливай: получится не получится, мне всё равно надо. Ты смотри записывай, а то ты придумаешь да и забудешь!
Так вот и получилось, что несколько дней спустя в школьной тетрадке в клеточку оказалась записанной мамина сказка. Её бы надо назвать "Продолжение Золушки", но она написала просто:
Золушка
Сегодня даже маленькие дети знают со всеми подробностями от начала до конца старую историю о бедной девушке Золушке, о том, что она потеряла башмачок, убегая с придворного бала, когда до двенадцати оставалась ровно одна минута, и в конце концов стала принцессой!
Но для людей, которые жили в то время, это была самая свежая последняя новость, и тогдашние газеты писали обо всём этом крупными буквами:
Загадочное происшествие на балу!
Рекордный обморок мачехи: 22 часа 2 мин. 4,2 сек.
Сообщение нашего соб. корреспонд. с придворного пира, на котором он сам был, мёд-пиво пил!
Потом вся история Золушки была подробно описана от начала до конца в газете и пошла расходиться по белу свету. Правда, в те времена газеты ходили гораздо медленнее, чем теперь, зато они были гораздо прочнее — ведь их писали и рисовали на телячьей коже!
Так и эта газета, долго ли, коротко ли, шла, но всё-таки дошла до одного дальнего Королевства, где в те времена правила Молоденькая, Умненькая, Смелая Принцесса.
Она стала читать газету рано утром за чаем и так зачиталась, что чуть было на работу не опоздала, до того её увлекла и заинтересовала история Золушки.
— Вот уж кому повезло найти себе мужа по сердцу! Прямо завидно! — воскликнула она, доедая на ходу бутерброд, сунула корону под мышку и побежала на заседание.
Все придворные кавалеры тотчас же пронюхали, что их Молоденькой, Умненькой, Смелой Принцессе, оказывается, ужасно пришлась по вкусу история замужества Золушки. Все они мечтали, конечно, жениться на своей Принцессе вовсе не потому, что им нравилось, что она такая умненькая и смелая, это им даже не очень-то и нравилось, а потому что, сделавшись её мужем, можно было всеми вокруг командовать, каждый день менять чистое бельё, есть вкусно приготовленные блюда, а по выходным распивать мёд-пиво да ещё потом у всех допытываться: за что они его не уважают?
Кавалеры смекнули, как лучше всего действовать. Все, как один, они явились на первый же придворный бал и танцевали как можно изящнее, а когда до двенадцати часов осталась ровно одна минута, все они, не сговариваясь, громко взвизгнули и бросились бежать из дворца, теряя на ходу башмаки и туфли. Потом на лестнице слуги подобрали ровно сорок четыре штуки бальных туфелек, атласных башмаков, сапожков с кисточками и даже одну ночную туфлю, которую на всякий случай потерял один хромой придворный старикашка.
А сами кавалеры, разбежавшись вприпрыжку на одной ножке по домам, стали ждать, покручивая усики, — кого из них по размеру туфельки изберёт себе в мужья Принцесса.
— Вот дураки так уж дураки! — сказала Молоденькая, Умненькая, Смелая Принцесса, велела забросить все сапоги за забор, а сама переоделась в мужское платье, прицепила шпагу и поехала разыскивать счастливую Принцессу Золушку, чтобы с ней посоветоваться.
Поздней осенью, тёмным вечером добралась она до далёкого царства, где красовался на площади дворец Золушки. Все окна дворца были празднично освещены, играла музыка, фейерверк тысячами сверкающих звёздочек взлетал к облакам и заливал разноцветными огнями верхушки столетних деревьев парка.
— Что это за праздник идёт во дворце? — спросила переодетая мальчиком Молоденькая, Умненькая, Смелая Принцесса, слезая с коня среди народа, толпившегося на площади.
— Ты что, дурачок или турок? — ответили из толпы. — Не видишь, это же королевские свадебные торжества во дворце!
— Вот и отлично, — сказала Смелая Принцесса. — Пойду туда и увижу Королеву Золушку!
Но дворцовая стража не пропустила её во дворец с парадного хода.
Делать нечего, она закусила с досады губу и пошла искать чёрный ход. Весь дворец ей пришлось обойти кругом, пока она не добралась до маленькой дверки, невдалеке от помойки. По сбитым, скользким ступенькам она спустилась в подвал, пробралась по тёмному коридору и очутилась в дворцовой кухне, где множество пожилых, старых и просто не очень молодых женщин в тёмных платьях таскали в тяжёлых кувшинах воду, помешивали в громадных дымящихся котлах бельё, скоблили пол.
— Здравствуйте, бедные женщины! — приветливо сказала Смелая Принцесса. — Мне необходимо пробраться во дворец. Я щедро награжу того, кто мне поможет.
Немолодая женщина с приятным, но очень усталым лицом, скоблившая каменный пол, ползая на коленях, встала, подобрала волосы, спутавшиеся на её мокром лбу, и вежливо ответила на приветствие:
— А для чего вы хотите попасть во дворец, миленький мальчик?
— Я издалека приехала… в том смысле, что приехал, — сказала Смелая Принцесса. — Нарочно только для того, чтобы поговорить с вашей Королевой, потому что она, наверное, самая счастливая женщина на свете, коли не врут газеты. Я хочу узнать, правда ли всё, что написано о любви Принца, о потерянной туфельке и всём прочем?
Все женщины оставили свою работу, окружили Смелую Принцессу и дружно закивали головами:
— Всё, всё это истинная правда, мальчик: про Принца, про туфельку и про Золушку, это все знают в нашем королевстве!
— Ох, до чего я рад это слышать! Я сразу поверил, что это правда! Теперь мне ещё больше хочется поскорее пробраться во дворец и поговорить с молодой счастливой Королевой!
— Сегодня у тебя никак это не выйдет, милый нетерпеливый мальчик, — ласково сказала пожилая усталая женщина, скоблившая пол. — Молодая Королева очень занята, она танцует на собственном свадебном балу! Разве ты не слышишь, даже в наш подвал минутами доносится сверху весёлая музыка?
— Ну, уж это просто здорово! — изумилась Принцесса. — Да неужели свадебные торжества в честь Золушки все ещё не закончились до сих пор?
Женщина грустно улыбнулась:
— О-о, ты немножко запоздал, славный мальчик, коли надеялся побывать на балу у Золушки. В большом дворцовом зале музыка сейчас играет на свадьбе у её милой, самой младшей дочери.
— Так я и чувствовал, что газета почему-то здорово запоздала! — воскликнула с горечью Молоденькая, Умненькая, Смелая Принцесса. — А я и вправду изо всех сил спешила… Но своего я всё равно добьюсь! Увижусь во что бы то ни стало, разыщу Золушку, раз её замечательная история всё-таки правда! Слушайте, бедные женщины, я щедро награжу того, кто мне укажет, где найти ту Золушку, которая в своё время стала счастливой Принцессой!
— Не стоит награды, мальчик. — Пожилая женщина спокойно улыбнулась. — И не надо далеко ходить. Золушка — это я, мой милый, но много лет прошло с тех пор, как я была счастливой Принцессой.
— Ты?.. Это ты?.. О, проклятие! Я этого не потерплю! — с возмущением закричала Смелая Принцесса. — Сейчас же скажи, какой негодяй виноват в том, что ты, прекрасная, милая Принцесса Золушка, вдруг оказалась на тёмной кухне, среди этих бедных, усталых женщин?
Все бедные женщины на кухне грустно переглянулись и проговорили хором, печально покачивая головами:
— Мальчик! Да ведь все мы были когда-то молодыми принцессами, все до одной. И вот все мы здесь. И никогда не поднимемся отсюда в верхние покои, где так светло и жарко пылают восковые свечи в канделябрах, весело играет музыка и пляшут нарядные гости. Прекрасные юные принцессы, состарившись, опять делаются Золушками, таков уж закон.
— Это не закон, а чьё-то подлое, мерзкое колдовство! Нет такого закона! Не может быть на свете такого закона! — Смелая Принцесса чуть не заплакала от сочувствия и гнева. — Вас обманули! Кто это вас уверил, что существует такой закон?
— Кто?.. Три ужасные сестры, три ведьмы! — печально отвечали женщины. — Это они загнали нас в этот подвал, сунули нам в руки грязные тряпки и сальные кастрюли… Слышишь?.. Ведьмы почуяли уже, что мы перестали работать! Они сюда идут!..
— Ах, они идут? Ладно, поглядим, какие такие бывают на свете ведьмы! — Молоденькая Смелая Принцесса бесстрашно выхватила из ножен шпагу.
— О-о, поосторожнее, мальчик, они до того вредные, скользкие и живучие, эти три сестры. Их зовут: Жадность, Бессердечность и Неблагодарность!.. Ой, вот они уже тут! Увидели тебя и сразу зашипели!
— А ну, гадюки, посмотрим, кто кого! Уж со мной-то будет не так-то легко справиться! — Молоденькая, Умненькая, Смелая Принцесса топнула ногой об землю и бесстрашно бросилась на ведьм со своей маленькой, но острой шпажкой.
Бой закипел…
Вы спросите, чем кончился этот отчаянный бой?.. Он ещё не кончился! Он ещё кипит, всё время, повсюду!
Оля два раза прочла мамину сказку, нахмурилась, прикусив губу, и задумалась:
— Это ты написала в честь Ираиды Ивановны! Правда?.. Ну, не в честь, а про то, какая у неё судьба получилась.
Мама засмеялась:
— Садись, садись! У кого уроки не сделаны?
Глава четвёртая
Ожившая к весне муха с громким жужжанием зигзагами пронеслась через весь класс, брякнулась с ходу об стекло, разом затихла, и в классе опять стало скучновато. За окнами вздрагивали на ветру голые ветки берёзы, на них сидели две чёрные блестящие галки и, как на качелях, раскачивались вверх-вниз, просто смотреть было завидно. И ведь свалятся с пятого этажа — ничего им не страшно! Но и галки, вполголоса обменявшись мнениями о чём-то, сговорились и разом улетели, и стало опять совсем скучно.
Анна Иоганна читала вслух басню Крылова "Мартышка и очки". Раскрытую книгу она держала в левой руке, а в правой у неё, как всегда, был наготове длинный карандаш. Наверное, для того, чтобы исправить, если понадобится, какую-нибудь ошибку в книге. Или, на худой конец, поставить на последней странице автору басни отметку за письменное сочинение.
В начале урока, когда она своим бесстрастным голосом прочла "Мартышка к старости слаба глазами стала…", ребята было оживились, обрадовались мартышке, как родной, и приготовились повеселиться, но не тут-то было. Карандаш, поставленный торчком, угрожающе застучал по столу, и Анна Иоганна строго уставилась на класс, так округлив глаза, что каждому казалось — она смотрит именно на него. При этом брови её высоко взлетали, и все знали, что они так и не опустятся на своё место, пока в классе не наступит тишина.
Класс притих, замер, потом сонно посоловел, примирившись с тем, что ничего весёлого не придётся ожидать ни от мартышки с очками, ни ото всех ослов, козлов и косолапых мишек на свете.
Потом наступил ещё один взлёт лёгкого оживления: радужный солнечный зайчик пополз по стене, вспыхнул на стекле футляра, под которым сидело чучело черепахи, и всё ближе и ближе стал подбираться к очкам Анны Иоганны. Все затаив дыхание ждали, ждали, и вот наконец зайчик заиграл у неё на носу.
Она неодобрительно тряхнула головой, призывая зайчика к порядку, и постучала карандашом по столу. Высоко вскинула брови и уставилась глазами, до того круглыми, что любая сова лопнула бы от зависти, на класс, робко зашуршавший еле слышным хихиканьем.
Отвернуться от солнца она и не подумала, только встала со своего места — раскрытая книжка в руке, длинный карандаш наготове — и продолжала читать.
Голос у неё был холодный и как бы вполне беспристрастный, но главное, до того невозмутимо спокойный и однообразно-уравновешенный, что ни капельки не менялся, делала ли она выговор ученику или читала стихи Пушкина.
Так что, когда она читала: "В тот год осенняя погода стояла долго на дворе, зимы ждала, ждала природа… Снег выпал только в январе"… Соломахин Коля, оставь в покое свои уши, повтори, чего ждала природа?" — казалось, что она не то проверяет Колю Соломахина, не то сводку погоды, составленную Сашей Пушкиным.
Так как стрелки часов явно застряли и перестали двигаться, муха лежала в глубоком обмороке, галки улетели, а зайчик потух, сонное оцепенение теперь нарушалось только в те моменты, когда происходил обмен знаками с Петей Жукачевым, у которого были часы. Кто-нибудь издали делал ему вопросительную рожу, он на пальцах показывал, что до перемены осталось ещё двенадцать… десять… восемь минут, и в ответ кто закатывал глаза, изображая приступ неправдоподобного отчаяния, а кто делал вид, что готов сползти на пол, не в силах совладать с охватившей его сонной болезнью.
Покончив с чтением, Анна Иоганна стала задавать вопросы:
— Ну, о чём говорит нам эта басня, дети?
— О мартышке! — глупо выскочила старательная, но бестолковая Зинка и поджала губы, показывая презрение к общественному мнению, выраженному общим хихиканьем.
— Тихо. Давайте подумаем, дети. Почему Крылов избрал именно форму басни, а не рассказа или, скажем, повести, чтоб выразить свою идею?.. А ну-ка, вспомним тут, кстати, дети, кто сказал, что писать следует так, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно?..
Прозвенел долгожданный звонок.
Анна Иоганна вышла из класса и все уже сорвались со своих мест, как вдруг снова бесстрастно заскрипел тот же её голос с учительского места за столом:
— Дети, тише! Садитесь все на свои места! Ребята замерли на месте, а те, кто уже добежал до двери, со смехом повалились обратно на парты в ожидании потехи. Оля Рытова стояла на месте Анны Иоганны, постукивая карандашом, высоко вскинув брови, со строгим лицом и почти её голосом монотонно скрипела:
— Теперь, дети, мы займёмся следующим стихотворением. Итак, дети, вот оно, дети! Тише! Слушайте, дети… — И она сухо и отчётливо продекламировала:
Забравшись в пальмовую рощу,
Мартышки щекотали тёщу!
Прекратите смешки, тут нет ничего смешного! — угрожающе простучал карандаш. — О чём говорит нам это стихотворение и почему автор решил отразить свои мысли не в поэме, не в кинофильме, а именно в этом стихотворении? Какая картина рисуется перед вами, дети, когда вы его слушаете в моём исполнении? Замечаете ли вы, как в этой пальмовой роще просторно тёще и тесно мартышкам?
— Замечаем! Тесно! Теснотища! — покатывался от хохота весь класс.
— Тише, дети! Но задавались ли вы вопросом, чью именно тёщу щекотали мартышки? Возможно, что сегодня именины тёщи одной из этих мартышек, и вот, чтоб порадовать свою родственницу, мартышки, по своему обычаю, собрались и почтительно её щекочут!
— У них тёщ не бывает! Это не ихняя! Чужая тёща! — наперебой подсказывали со всех сторон, по-прежнему помирая со смеху, ребята.
— Отлично, дети. Молодец, Коля Соломахин! Допустим, что это тёща какого-нибудь плантатора, который жестоко обращался с представителями животного мира, и вот мартышки подстерегли его жестокую тёщу и теперь вымещают на ней свои обиды и беспощадно её щекочут.
— А она брыкается и визжит! Вот злится!
— А сама так и подскакивает от хохота!
— Так и надо ей! Молодцы мартышки!
Среди общего гама и веселья кто-то начал щекотать соседа по парте, визг послышался уже не в роще, а в классе, дверь приоткрылась, в класс заглянул преподаватель истории и спросил, что тут происходит.
Оля сделала громадные наивные глаза и невинным голосом доложила:
— Мы тут немножко задержались, всё обсуждаем насчёт мартышек.
— Ну хорошо, однако можно всё это делать потише. Кроме того, у вас перемена, надо выйти из класса.
Он ушёл и на повороте коридора встретился со своим коллегой, преподавателем обществоведения.
— Вот мы все говорим: Анна Иоганна сухарь…
— Сухарь и есть, — сказал преподаватель обществоведения.
— Вот все мы так, а ведь сумела же она расшевелить класс. Заменяла Бориса Петровича, тот всё хворает, так она вместо своего немецкого с ними русским занималась. Почему-то придумала "Мартышку и очки" читать. Смешно? И вот они эту мартышку до сих пор обсуждают. А мы всё — сухарь!
Глава пятая
Выдающаяся литературная лекция, прочитанная Олей Рытовой после урока, имела необыкновенный успех и совершенно изменила её положение в классе. Кем она была до этого события?
Обыкновенной девочкой, как все. Училась обыкновенно, вела себя обыкновенно, выглядела тоже обыкновенно. К тому же ещё она была приезжая, в школу поступила среди зимы — значит, друзей детства, как у других, тут тоже у неё не было.
Мало того, с ней и сдружиться-то, если б кому и захотелось, так не найдёшь, с какого конца к ней подойти: диковатая, неразговорчивая. Какая-то сама в себе: сидит и не очень-то вылезать хочет. А впрочем, и это, особенно в её возрасте, было дело довольно обыкновенное, — такие тоже бывают.
И вот в истории с мартышкой её точно прорвало, никто не ожидал — сидела-сидела да и выступила: проскрипела лекцию, да ещё преподавателю истории сумела так находчиво ответить, даже почти не соврав.
Всё это и подняло её в общественном мнении всего класса настолько, что даже на другой день никто не мог взглянуть на неё не усмехнувшись или не подмигнув.
"Обратили на меня внимание. Наконец-то! — вскользь подумалось Оле. — Заметили!"
Всё это было очень приятно и интересно, однако скоро Оля заметила, как с каждым днём она в глазах одноклассников, кажется, снова превращается в обыкновенную девочку. Как все.
Сначала это было еле заметно: вроде той знаменитой капли дёгтя в бочке мёда, потом в этой воображаемой бочке её краткой славы соотношение стало меняться всё больше не в пользу мёда… Она всё поняла, но виду не показала, точно ничего и не изменилось.
Весна только-только ещё начиналась.
После уроков целая компания мальчиков и девочек возвращалась домой из школы по длинному мокрому бульвару, который огибал весь город широким полукольцом по высокому берегу реки.
Пойти по бульвару значило выбрать самый длинный путь почти к любой точке города. Естественно, что именно поэтому ребята его и выбрали.
Весенний ветер гнал грязные облака, налетая с реки, раздувал молодецки распахнутые полы зимних пальто мальчишек, толкал и покачивал ветки вербы, усеянной серыми барашками и воробьями, галдевшими, перебивая друг друга, над чёрными лужами, где первые воробьиные смельчаки уже купались, трепыхаясь и брызгаясь в холодной воде.
Зимний порядок кончился, а настоящей весны ещё не было.
Было похоже, что во всём городе с его рекой, бульваром, ребятами, облаками и воробьями только-только началась предпраздничная уборка, когда всё уже сдвинуто с места, перепутано, разбросано, залито водой, но ещё не скоро будет вымыто и приведено в порядок.
Ребята шли вразброд, с остановками, и разговор шёл тоже вразброд, так что скоро его, наверное, и вспомнить не могли бы, но одно-то запомнилось, да ещё как!
Между прочим обсудили вопрос о том, как вёл бы себя доисторический человек, ну, скажем, из каменного века, если бы вдруг попал в кино? Сперва решили, что он просто ничего не понял бы, но Володя сказал:
— Смотря какую картину!
— Каменного века? Детектив ему надо показать, такой бывает, с заграничными погонями, с засадами, драками, всё бы он понял!..
— А если в автомобиле гонятся?
— Автомобиля не поймёт, а самое действие прекрасно будет наблюдать! С удовольствием!
— Только в зрительный зал его без топора надо пускать! Факт. А то воодушевится и сам за кем-нибудь погонится! — предостерёг Федя Скоробогатов.
— И получится пищальный фахт! — всунулась Зинка.
Никто на её слова не обратил внимания, не улыбнулся.
Федя целый год носил кличку "пищальный фахт", но принимал её так добродушно, что дразнить его таким способом теперь считалось просто чем-то пошлым. Только какая-нибудь Зинка ещё была способна на это.
— Разобрался бы, конечно: чего там трудного — один убегает, прячется, другой подкрадывается, а тот хитрит, а этот перехитривает, а тот переперехитривает и ему по башке! А тот его бряк — об пол!.. Чего тут не понять?..
Потом Володя высказал свою мечту — хорошо бы, если бы войскам Дмитрия Донского можно было придать хоть один танк — вот бы здорово получилось… Это тоже обсудили. Трудно вспомнить, как разговор перекинулся на мамонтов и их печальную судьбу, но вполне понятно, почему после этого заговорили о слонах, а потом о слоновьих глазах.
Вот тут-то Оля и дала маху. Споткнулась на слонах. Завралась. Перехватила или завралась.
Она всё ждала момента, её так и подмывало встрять в разговор с исключительно интересным, интригующим замечанием, и вот она вдруг возьми да и брякни!
Да хоть бы действительно просто брякнула — это бы легко сошло: прихвастнула, соврала, посмеялись бы и забыли, не доходя до следующей лужи, через которую надо прыгать.
Так ведь нет, она вполне серьёзно, с какой-то рассеянной небрежностью, подчёркивая, что это для неё самое эдакое будничное, обыкновенное дело, лениво протянула:
— Да! Это все почему-то любят повторять: "Глазки у слонов смышлёные, маленькие", и всё такое, но, по-моему, это очень поверхностно, если хорошенько вглядеться, вблизи, конечно.
Все примолкли даже.
— Как это, например, вблизи? — подозрительно прищурясь, спросила Зина.
Она была дочкой одной из дочерей Ираиды Ивановны и как-то "на всякий случай" не любила Олю: та «жиличкина», а она "хозяйская".
— Так что каждому человеку кажется, если вдруг… вблизи? — примирительно спросил Коля.
— Я не говорю: каждому. Не знаю, как другим, но мне лично, когда он вот так близко смотрит, всегда кажется, что он думает: "Я-то знаю, что ты человек, и понимаю, что ты за штука. А вот ты думаешь, что я слон, а вовсе и не знаешь, кто я такой". Ну, может, я не умею хорошо сказать, но мне почему-то всегда так кажется.
— Ну, а как это вблизи? — долбила своё Зина. — Как?
Оля снисходительно усмехнулась:
— Не знаю, право! На сколько сантиметров тебе хочется знать?.. Не мерила, не скажу… Ну, вот так… — И она показала рукой такое расстояние, как до Зины. Выходило что-то очень уж близко — это все поняли.
— А ты так вот и смотришь? — змеиным голосом пропела Зина.
— А я так и смотрю, — сладенько протянула в ответ Оля.
— Ты, видно, всех тут за дурачков считаешь, раз ты приезжая! Или сама, может быть, из глупых мест придурочка! А? — поджимая губы, с усмешкой, точно чем-то ржавым сверлила Зинка. — Завралась, так уж сознайся лучше, чем перед людьми позориться и так себя выставлять! — Она у своей мамы выучилась просто до тонкости так поджимать губы и язвить вполголоса, но пронзительно. — "Ах, когда я со слоном переглядываюсь, у меня впечатление…" Посмешище.
— Правда, — серьёзно сказал Федя, — ведь слон всё-таки высокий, и глаза у него вон где.
— У них слон живёт в комнате, что тут особенного! Прямо над нашим потолком! — восхищалась своим остроумием Зинка.
Голос её Оля даже сквозь пол узнавала и ненавидела.
— А у меня в ванной, может, крокодил живёт!
— Это что! У нас во дворе бегемото-ов! Проходу не дают!
— Нет, нет, нет! — кухонным голосом пронзительно сверлила Зинка. — Вы ей не мешайте, не шутите, пускай ответит! Пусть признается, что нахально врёт, всё равно все видят. Скажи: "Я нахально соврала!"
— А может, она лестницу приставит, залезет и глядит, верно?
— Глупее не выдумал? Лестницу! — Оля уже покраснела, её подхватило и понесло. — Просто можно подойти и попросить слона, и он тебя, вот так, подхватит хоботом и поднимет к себе на спину, тогда вот и в глазки заглянешь.
— Вот так прелесть! Значит, ты в Африке, как слона увидишь, так…
— При чём тут Африка? Разве я про чужого слона? А который хорошо знает тебя, знакомого…
— А много у тебя знакомых слонов? Сто?
Какое-то неловкое молчание наступило. Все даже остановились.
— Нет, всего два-три…
Ближайшая шайка воробьев разом оборвала чириканье и дружно взлетела, такой странный рёв — "у-а-ауа!.." — издала вся компания.
Зинка сияла, убедившись, что одержала полную победу.
Никто больше не спрашивал, не слушал, не смотрел на Олю с её слонами. Она шла с красными пятнами на щеках и улыбалась. Отдельно от всех.
Уже свернув в свой переулок, она заметила, что идёт не одна. На полшага сзади шагал Володя, дошагал до самых дверей её дома.
— Ну, пока… Я им сказал, что мне очень понравилось, очень интересно ты про слона рассказывала. Я всё себе так и представил… Дураки, шуток не понимают, верно?..
Оля повернулась к нему со стиснутыми губами, со свистом втянула носом воздух. Выдохнула:
— Верно. И сам дурак!
Глава шестая
Дом был такой, как строили когда-то в старину, может быть, лет сто тому назад, во всяком случае когда-то давным-давно. И лестница деревянная, тёмная, а уж скрипучая до того, что никакого звонка не требуется: не успеешь подняться, тебя уже спрашивают через дверь:
— Кто там пришёл?
— Да это я опять! — ответил Володя.
— Вот до чего ты настырный! — Оля презрительно фыркнула за дверью. Открывать она и не подумала. — Чего ты ходишь?.. Может, ты воображаешь, что я обратно беру свои слова? Не надейся!
— Да какие там слова?
— Я же тебя дураком назвала, ты что, забыл, что ли?
— Ну и ладно.
— У тебя, значит, ни малейшего нет самолюбия? Нет?
— Я даже внимания не обращаю.
— Ах вот как? Ты на мои слова внимания не обращаешь? Зачем же я буду тогда с тобой разговаривать? Вот и уходи. Слыхал? Уходи… А то ходит и ходит, как… банный лист!
— Листья не ходят.
— Вот видишь! Значит, они умней тебя. Ну, уходи… Ты что там, кажется, ещё хихикаешь? Мне через дверь всё слышно, имей в виду! Это что ещё за новости? Его выгоняют, а он стоит под дверью и хихикает на лестнице. Иди на свою лестницу, там и хихикай.
Минуту они постояли по обе стороны запертой двери, молча, прислушиваясь.
— Ну, ты ушёл наконец? — спросила Оля.
— Да ты открой! Ну, пожалуйста!
— Хорошо, я тебе скажу: у меня очень заразное инфекционное заболевание, даже многие врачи не умеют лечить. Даже через дверь можно заразиться. Даже… Понял?
— Не разыгрывай ты меня. По-человечески просят: открой, мне поговорить нужно.
Она приоткрыла дверь и, не выпуская ручки, загородив проход, встала на пороге:
— Смотри, я тебя предупреждала, теперь я за твою жизнь не отвечаю.
Володя вдруг охнул и даже слегка попятился:
— О-о!.. Правда. Что это у тебя?.. Отчего… это?
Оля минуту с удивлением смотрела на него:
— Что у меня?.. Где?..
Он робко, издали показал пальцем. Оля недоуменно посмотрела на палец, машинально схватилась за щёку, на которую он указывал, и вдруг замерла. Потом пальцы её осторожно поползли по щеке, по лицу, осторожно всё ощупывая. Коснувшись лба, она страдальчески сморщилась, вздрогнула и с видимым трудом проговорила, всё время постанывая:
— Ага!.. Значит, уже выступило наружу… Это самый опасный период… Такая инфекция! Скорее, скорее уходи и всё лицо промой уксусом, может быть, ты ещё не успел заразиться. Ага, побледнел. Беги, беги поскорей отсюда!
Побледнел или нет, но и в самом деле он стоял с раскрытым как-то набок ртом и, выпучив глаза, со страхом глядел ей в лицо: даже в полутёмных сенях, на пороге тёмной лестницы легко было разглядеть проступившие на лице у Оли зловещие жёлто-коричневые пятнышки. Мелкие, как веснушки, на щеке, они сливались в крупное пятно на лбу.
— Ой-ой-ой!.. — растерянно бормотал Володя. — Как же это так… беги? Что значит «беги»? Нужно же врача поскорей! А тебе очень это больно, вот это вот… там… у тебя? — От сочувствия он и сам сморщился и даже слегка зашипел сквозь зубы, точно его прижгли горячим утюгом.
Оля очень внимательно смотрела на него и вдруг порывисто закрыла лицо обеими руками. Сдавленным голосом, невнятно пробормотала:
— Лучше спасайся сам! — повернулась и пошла по тёмному коридору.
— Погоди… Постой… — не отставая ни на шаг, Володя тихонько дёргал её за рукав, стараясь остановить. — Тебе же нельзя ходить в таком состоянии…
— Спасайся… — глухо бормотала Оля.
— Не желаю спасаться, отстань ты с глупостями!.. Хватит болтовни. Ты сейчас же ляжешь, тепло укроешься, а я пойду и приведу врача… Постой, слышишь?
Так они прошли коридорчик туда и обратно, и Оля вдруг отворила дверь и быстро шмыгнула в кухню.
На кухне было светло и всё прекрасно видно — белёная русская печь, чугуны на полках, широкий некрашеный деревянный кухонный стол и здоровенная лепёха — с футбольный мяч — мокрой глины на столе.
Оля, ещё красная после приступа смеха, стала к столу и начала раскатывать длинную колбаску глины, сперва руками, потом дощечкой, затем стала ножом нарезать её одинаковыми кусочками, а из каждого кусочка катать шарик. Длинные ряды таких шариков, уже готовых, выстроились на столе. На руках у неё были видны такие же мазки и брызги глины, что на лбу и щеке.
Володя довольно долго молча наблюдал за производством шариков и наконец тихо, вдумчиво проговорил:
— Это такое, знаешь, свинство. Я и вправду подумал, что у тебя эта… какая-то жёлтая болезнь. Свинство.
— Ах, вот как? — Оля внимательно раскатывала глиняный шарик. — Значит, я, по-твоему, свинья? Ты это мне пришёл сообщить?
— Я не сказал: свинья, — угрюмо огрызнулся Володя.
— Ну поступила с тобой как свинья. Ты это хотел сказать?
— Да! — отчаянно и возмущённо проговорил Володя.
— Ах так! — Оля швырнула кусочек глины об стол так, что он расплющился, и вызывающе скрестила грязные руки на груди. — А ты не боишься, что я тебя сейчас отсюда выгоню и больше слова никогда не скажу, и мы… вообще навек поссоримся, навсегда, на всю жизнь. Ты этого хочешь? Тебе это всё равно, да?
— Нет, не всё…
— Значит, ты боишься?
— Боюсь.
— Ну так повтори: свинство или нет? Ну?
— Свинство.
— Ну, пожалуй, свинья. Я согласна. Но я ведь не нарочно. Я даже не знала, что у меня морда перепачканная. А когда ты испугался, мне так понравилось, что я и захныкала…
— Ла-адно… А для чего ты эти шарики катаешь?
— В суп. Суп из них варим. Вместо клёцек.
— Тебе ещё много надо? Давай помогу.
— Что тебе за интерес? Катай, если делать нечего. Только смотри, чтоб ровно. Видишь: точно полтора сантиметра.
— Справимся!.. А что тебе мама насчёт слонов сказала? Она ведь знает? Ты сама ей рассказала?
— Конечно, рассказала… Что она?.. Сказала, что нехорошо. Мальчишество, хвастушество, и всё в таком роде, да я и сама знаю… Да что ты ко мне пристал? Четыре шарика накатал и воображаешь?
— Ты своей маме врёшь когда-нибудь?
— А ты своей?
— У меня её нету. Никого нет. Бабка.
— Никого? А она верит?
— А чего ж? Верит. Да ведь если что вру, так больше для её пользы, а не для себя.
— Если мне верят, я не могу соврать, а если я вижу, мне не верят, я такую картину нарисую, да ещё и раскрашу. И ещё бантик сбоку прицеплю.
— Ты опять всё про этих несчастных слонов?
— Даже думать забыла, это ты всё пристаёшь! Какая разница, слон или моська! Если б у меня вдруг когда-нибудь был друг — только у меня никогда не будет, ну это всё равно, — и он бы мне сказал: "У меня есть кот", я бы поверила, так? Отчего же не поверить? А если б он сказал, что у него тридцать три кота? Что бы я тогда ему сказала?.. Я тебе не верю? Или сперва пойду, пересчитаю, что именно их тридцать три штуки? Ну? Говори ты!
— Всё-таки тридцать три… — нерешительно протянул Володя, — это как-то маловероятно…
— Ага, вот я тебя и поймала! Что тебе вероятно, ты поверишь, а что маловероятно — не поверишь! Иди, с Петькой, с Зинкой поцелуйся! Со всеми, кто рисует на досках! Все вы одинаковые и мне опротивели! Не смей мою глину хватать! Уходи!
— Ты сперва скажи, как бы ты ответила этому… другу, которого у тебя никогда не будет?
— Чего говорить про того, кого не будет!.. Но коли желаешь… вероятному всякая Зинка поверит, а друг должен верить… пускай тебе кажется невероятно, а ты верь, иначе… тряпка ты, а не друг! Может, у него даже ни одного котёнка нет, а если ты друг, то верь! Ты что, смеёшься, кажется?
— Да что ты, мне даже очень нравится. Интересно. Вот бы вправду так… Надо подумать.
— Вот ты шуток не понимаешь. Думать! Я же шучу!
— Нет, ты не шутишь. Погоди… Значит, так: что ты мне скажешь, я должен поверить, а что я…
— Ничего ты не должен и ничего я не скажу!.. Я над тобой грубо насмехаюсь!.. — Оля подумала и высунула язык. — Бэ-э-э! — но получилось как-то неубедительно и необидно.
— Если подумать, ничего особенного, — рассуждал вслух Володя, хмурясь и надувая щёки, как он делал, сосредоточиваясь на решении трудной задачи. — Собственно говоря, что тут думать? Так, ладно. Вот возьми и хоть сейчас скажи мне, только вполне серьёзно, без петрушки. Что хочешь скажи. И я поверю.
— Очень-то надо! При чём тут ты?
Ну попробуй, ну, пожалуйста!
Оля задумалась, прикидывая, что бы такое выпалить, и вдруг грубо прорычала:
— А если я тебе скажу, что вот да, у меня знакомый слон! Есть! Ну? Два слона! Ну, как?
— Нет, ты рычишь, это не считается!
— Ах так? — И нежным, тихим голоском мило воспитанной девочки скромненько пролепетала: — А если тебе так говорю: "Знаешь, Володя, у меня слон, у меня двое слонов!" Хорошо сказала? Ну!
— Мне немножко непонятно. Но я тебе поверю.
— Врёшь! — закричала Оля. — Ты это только говоришь, а сам ни капельки не веришь! По глазам вижу!
— Ну ведь ты мне тоже должна верить, раз я тебе сказал! — тихо сказал Володя.
— Ах да, верно…
— Неужели опять про слонов?
Оля быстро повернулась к вошедшей женщине и ещё быстрее ответила:
— Нет, мама, мы просто рассуждали. Со слонами всё кончено. Вот я даже Володе созналась, что это было мальчишеское хвастовство… Созналась?
— Правда, правда, — поспешно подтвердил Володя. — Она мне сказала. Мальчишество… и сама признаёт.
Мама улыбнулась Володе: ей, кажется, понравилось, что он так быстро, горячо вступился.
— Вы Володя? Здравствуйте, Володя, — сказала дружелюбно. — Спасибо, что вы помогли Оле с шариками. Я её мама.
— Здравствуйте… Я бы и так сразу узнал, вы на неё очень похожи.
— Неужели? — Мама засмеялась звонким, Олиным смехом.
— Честное слово, хотя вы очень уж молодая. А смеётесь, как она.
— А мамы все старые? — засмеялась и Оля.
— Кто их знает… Я своей-то никогда не видел. Нету у меня. У меня бабушка. А у других ребят, я вижу, они солидные всё-таки какие-то…
— Ой, мама, ты у меня не солидная, оказывается! Что ж нам теперь делать?
Глава седьмая
Зина была хорошая девочка. До того хорошая и прилежная, что редко кто из ребят мог её долго выносить.
Чем именно она хорошая — это было как-то не совсем ясно. Но даже когда она просто шла по улице, все, глядя на неё, думали: "Вот идёт хорошая девочка".
Училась она плоховато, но зато очень прилежно и старательно. Даже отвечая невыученный урок, она завиралась, путалась и ошибалась с таким старательным, скромным и прилежным видом, что казалось, это какая-то другая девочка плохо знает урок и уж кто-кто, но никак не эта, гладенько прилизанная, так правдиво глядящая прямо в глаза преподавателю Зина в этом может быть виновата.
Так и сейчас, когда в классе стояла тишина, потому что все более или менее были заняты письменной работой, Зина прилежно писала, медленно выводя закорючки на больших буквах и только искоса всё время приглядывала, следила за тем, как какой-то листок бумаги путешествует под партами. Ни один педагог никогда и подумать бы не мог, что это её собственное произведение.
На листке толстый слон сидел, развалясь в кресле, и ухмылялся, а девочка с поклоном подносила ему чайную чашку с блюдцем. Хотя слон был нарисован довольно хорошо — Зинка их уже столько раз рисовала, что, видно, насобачилась, — у него над головой всё-таки для ясности стояла надпись: «Слон». А над головой девочки: "Оля Рытова".
Подо всей картинкой тянулась подпись: "Знакомый слон пьёт чай в гостях у Оли" и "Передавай дальше!"
Эту картинку и передавали из рук в руки, с парты на парту. Кое-кто хихикал, оглядываясь на Олю, кое-кто улыбался, разглядывая и передавая дальше.
Наконец листок дошёл до Володи.
Зинка обернулась, привстала, так и впилась в него глазами, в злорадном ожидании угрожающе прошипела:
— Только порви попробуй! Ещё десять нарисую!
Володя минуту подумал, поводил пером, нагнувшись над картинкой, и спокойно передал её соседу.
Зинка заёрзала от беспокойства, отметив, что смешки стали громче, продолжительней. Она завертелась на месте, стараясь перехватить свой листок, но он обошёл полкласса, прежде чем вернулся в её руки.
Всё было на месте, как она задумала и нарисовала, только за спиной у слона появилась довольно мерзкая собачонка с разинутым ртом, из которого летели брызги, и рядом с надписью «Слон» было приписано: "А это Моська-Зинка".
Зина замерла, засопела, сложила листок пополам, — разорвала, ещё сложила, опять и опять разорвала в мелкие клочки, скомкала в кулаке и засунула в карман.
— Можно нам немножко пострелять? Ну по пять патрончиков? А, мам?
— Хорошо, только ты знаешь где. И на улицу не. высовываться.
— Ну конечно. Где дрова сложены, я знаю!..
— И не забудь посмотреть, нет ли там кошек, воробьев или ещё чего-нибудь живого.
Оля отодвинула ящик комода, отсчитала на ладонь десять мелкокалиберных патронов и раскутала замасленную тряпку, в которую была завёрнута шикарная многозарядная винтовка "ТОЗ".
Такой роскошной винтовки Володя никогда и не видел.
— Можно, я понесу? — нерешительно спросил он.
Оля великодушно кивнула, и он, сжимая в руках, с благоговейной осторожностью понёс винтовку во двор следом за ней.
Настоящая винтовка, с магазином! В его руках! Что это значило для него? Целый мир «Перекопа», "Чапаева", "Человека с ружьём", и он соприкасался с этим миром — точно вступал хоть на минуту в это братство людей с винтовками в руках.
Оля деловито постукала по дровам, сложенным во дворе у забора, палкой выпугивая кошку, которая могла оказаться в зоне обстрела. Кошки не оказалось, тогда она установила несколько твердо высушенных глиняных шариков на длинном полене.
— Вот тут двадцать пять шагов. Отсюда будем. Ладно? Заряжать умеешь?
Начали стрелять по очереди, передавая друг другу винтовку.
— Я плохо стреляю, — говорила Оля, перезаряжая, и выбила три шарика из своих пяти заготовленных. Они рассыпались в прах с облачком пыли. Володя затаив дыхание старался изо всех сил, но хотя он считал себя приличным стрелком из духового ружья, проклятые шарики сидели на полке как заколдованные — попал всего два раза, и то один шарик просто скатился, наверное, его задело отскочившей щепкой.
— Вот мазила! — сказал он сам себе с усмешкой, но покраснел от досады.
Олина мама вышла во двор на чёрное крыльцо, голова у неё была повязана косыночкой; рукава засучены, видно было, она прямо от плиты. Она сразу увидела пять целёхоньких шариков на берёзовом полене, но ничего не сказала.
— Ну пожалуйста, не тащить же шарики обратно! — просительно сказала Оля.
— Я уж руки перепачкала! — Мама присела на корточки и принялась тереть закопчённый бок кастрюльки тряпочкой с песком.
— А я тебе вытру!
Мама молча пожала нехотя плечами, и Оля вихрем умчалась наверх по лестнице, вернулась и подала матери чистую тряпочку. Потом она разжала кулак. На ладони лежало пять патрончиков в таких же медных гильзах, только немножко подлиннее, чем те, которыми стреляли дети.
— Я, знаете, сам три раза промазал. Мы вон оттуда, где бочка стоит, стреляли… Вы туда пойдите, — дружелюбно посоветовал Володя. Ему хотелось немножко подбодрить эту женщину, когда она, поставив кастрюльку на ступеньку, как-то неуверенно взялась за винтовку, по-хозяйски тщательно вытерев руки о тряпочку, принесённую Олей.
Она стояла спиной к дровам, одна нога на земле, другая на ступеньке крыльца, куда она отложила кастрюлю, потом оглянулась вполоборота, прикладываясь на ходу. Винтовка с совершенно ровными промежутками сухо щёлкнула пять выстрелов, и все пять шариков разлетелись в пыль, будто кто-то, стоя рядом, сбивал их щелчками почти по очереди.
— О!.. — ахнул Володя. — А-а?
От крыльца до дров было, наверное, втрое дальше, чем от того места у бочки, откуда они палили.
— Отнеси на место, — сказала мама и протянула винтовку Оле.
Они уже вернулись наверх, а у Володи рот так и остался в форме буквы «О». Он даже не решался ничего спросить. Оля, делая вид, что ничего этого не замечает, беззаботно расхаживала по комнате, что-то перекладывала с места на место и чуть слышно посвистывала по-мальчишески, у неё это здорово получалось.
Потом она остановилась прямо против Володи и торжествующе весело, с усмешкой посмотрела прямо в глаза:
— Хочешь спросить, да?
Володя кивнул и закрыл наконец рот.
— Тайна!.. — сказала Оля. — Я бы тебе сказала, но тайна не моя… Ты не обижайся! Хочешь, моё что-нибудь покажу? У меня тоже много есть разных тайн…
Она нагнулась над кроватью, достала что-то спрятанное между стеной и подушками и быстро повернулась:
— Ну-ка, посмотри и скажи, что это?
На руках у неё, непринуждённо привалившись к её плечу лохматой головой, покачивался Тюфякин.
У Володи на лице медленно разливалась удивлённая усмешка.
— Ну, так кто же это по-твоему?
— Ух ты какой!.. — Смеясь, Володя протянул руку и дотронулся до тугой толстой лапки. — По-моему, всё-таки это, скорей всего, собачка такая, а?
— Конечно. — Оля взяла двумя пальцами короткий, тоже туго набитый хвостик и показала, как можно им вилять.
— До чего интересный! Можно мне его подержать? Вот бы такие на самом деле были!
— Возьми, только осторожно, он ведь ещё маленький… Что значит "на самом деле"? А разве он не на самом деле?
Володя бережно потискал, поворачивая на все стороны, чудное чучелко со смышлёными глазками и, весело принимая игру, сказал:
— Маленький, значит, он будет расти?
— И не подумает, ты что, не видишь, он же всё-таки старичок. Ты погляди-ка как следует. Похож на старичка?
Пожалуй, что-то такое было и на старичка похожее в лохматых бровках, за которыми умудрённо, многознающе притаились за шерстяными завитками зелёные глазки.
— Вот он такой и есть: он старичок, он и собачка, и мой деточка! Когда какой!
— Первоклассный, оригинальный старичок! — сказал Володя. — Выдающийся старичина. Откуда такой у тебя?
— Он не мой… Наш с мамой… Папа привёз из одной поездки. Ты не забудешь, что это тайна?
Володя возмущённо передёрнул плечами: как можно такое позабыть!
— А как его зовут?
— Тюфякин. Почему? Это в честь его бедного папы. Не иначе как это был тюфячок, набитый прекрасным волосом, а потом этот материал пошёл на нашего старичка — собачку, тюфячкового деточку. Кажется, ясно?
Глава восьмая
Над городом дул тёплый ветер, и за зубчатыми серыми заборами в гуще зелени распускались кисти белой и розово-сиреневой сирени. На солнечном припёке могло показаться, что уже совсем наступила летняя жара, но в реке вода была ещё вроде как в проруби — холоднющая.
В одиночку никому и в голову не пришло бы лезть в такую воду. Другое дело — в компании!
Подбадривая друг друга, подсмеиваясь и начиная понемногу всё больше петушиться, кое-кто из мальчишек нерешительно начал раздеваться, кое-кто обмакнул кончик босой ноги в воду, после чего было уже поздно идти на попятный и приходилось, небрежно сбросив рубашку, попрыгать, поприседать, побегать для разминки и с замиранием сердца, будь что будет, бухнуться в воду, поднимая фонтаны брызг и отчаянно барахтаясь, чтоб не замёрзнуть.
Еле переводя дух, с выпученными глазами они тотчас принимались кричать оставшимся на берегу:
— А вы чего жмётесь? Тут вода как парное молоко! Валяй прыгай!
— А сам синий, как пуп! — говорила Зинка вылезавшим из воды. — Даже фиолетовый! И в пупырышках весь, — и свысока, осуждающе поджимала губы, в точности как её мама, которой она так здорово выучилась подражать.
Не будь тут Зинки с этим поджиманием губ, Оля, наверное, не полезла бы в воду. Но она пробежалась по берегу, услышала за спиной Зинкин смешок, и после этого ей ничего уже не было страшно.
Глядя на неё, и самый младший в компании, Федя Старобогатов, повизгивая от страха, обхватив себя накрест руками, потихоньку зашлёпал в воду, поскользнулся, шлёпнулся, заверещал, но всплыл. Через минуту, отдышавшись на берегу, почувствовал себя новым человеком — пускай самым маленьким, а всё-таки не последним!
Это было самое первое купание на пустынном, холодном пляже. Именно там и сбилась тесная компания купальщиков — ребят и девочек из совсем разных классов. Общий подвиг этого первого купания их закалил, сблизил и сдружил до того, что, когда солнце стало греть сильнее, вода потеплела и пустынный пляж стал наполняться изнеженными горожанами-загоральщиками, ребята поняли, что им не место больше на этом пляже, куда все ездят на автобусе с корзиночками, с бутербродиками, с зонтиками и писклявыми маленькими ребятишками.
С этих пор решено было ходить на обрыв, откуда чуть не кувырком приходилось скатываться к воде, а после купания обратно карабкаться, как мартышки, на откос, хватаясь за колючие кустики. Ходить туда было далековато, по пыльным переулкам, где прежде им никогда и бывать не приходилось.
По дороге на обрыв они проходили мимо одного старого деревянного, казавшегося им немножко загадочным дома. Весь двор зарос травой, и там никогда не было видно ни одного живого существа. Только у крыльца всегда лежала большая собака.
Каждый раз мальчишки, по обычаю, выкрикивали что-нибудь остроумное, вроде: "Бобик, куси этого мальчишку!" или: "Эй, Кабысдох, валяй с нами купаться!"
Собака смотрела на них спокойными глазами, но никогда не вставала и не лаяла.
Ребята стали придумывать разные объяснения и мечтать, что вдруг в доме находят себе убежище опасные преступники или даже шпионы. Могло быть и то, что просто хозяева работают и только поздно возвращаются домой… Шпионы были бы в сто раз интереснее, но на это у них мало было надежды, особенно после того, как однажды они увидели, что у колодца стоит ведро и через весь двор протянута длинная верёвка, подпёртая посредине высоким шестом, похожим на мачту корабля. Только вместо пиратских флагов торжественно помахивали рукавами и тесёмками рубахи и подштанники.
Когда они проходили мимо в следующий раз, всё это исчезло и опять осталась только одна собака. Ребята остановились у забора, смеясь, что вот их пираты-шпионы постирались да и ускользнули, и тут заметили, что пёс как будто приглядывается с лёгким интересом, наверное, уже узнаёт всю их компанию.
А когда в тот же день они, запыхавшись, выбрались по обрыву после купания, пёс вдруг медленно поднялся со своего места и направился к забору, за которым ребята стояли, чмокали и подсвистывали.
Пёс оказался красивый, хотя немножко облезлый — его волнистая шоколадная с белыми пятнами шерсть свалялась на боку, наверное, оттого, что он всё лежал целыми днями на своём пыльном пятачке у крыльца.
Он подошёл к забору, приветливо помахал своим пушистым хвостом с достоинством, точно он был взрослый, а они просто дети, и спросил: "Ну, что, ребята?" Глазами, конечно.
Оля опасливо протянула руку между палок забора. Он скосил глаза кверху на её руку, улыбнулся и сказал: «Можно». И она погладила ему лоб и мягкие шелковистые ушки, свисавшие книзу.
Потом все по очереди, отпихивая друг друга, стали просовывать руки и гладить, это ему не очень нравилось, он жмурился, но терпел. Пёс был вежливый.
На другой день был дождь, и они не ходили купаться. и еще один день был дождь, и только к вечеру распогодило. Ребята побежали на обрыв, и, как только окликнули, пёс потянулся и встал. Они отворили калитку и пошли к нему быстро, а он шёл к ним навстречу медленно. Они даже подумали, что он не очень-то хочет с ними знаться и важничает.
Но это всё было не так, просто он был пожилой и ему не хотелось бегать. Это ребята уже потом узнали.
Так как Оля первая его погладила в первый раз — её очередь была первая, — она присела около него и протянула ему печенье. Пёс посмотрел сначала на неё, потом на печенье, опять на неё и не взял. Оля сказала ему, какой он хороший и красивый пёс, он внимательно выслушал, осторожно вынул у неё печенье из руки и вежливо отложил его в сторону. При этом помахал хвостом — значит: "Спасибо, я у вас взял и не бросил, а отложил на потом, а сейчас мы можем просто так побеседовать".
В общем, так они познакомились, и теперь он всегда выходил им навстречу к самой калитке.
Он слышал их голоса ещё издали, как только ребята сворачивали в переулок. Ему всегда приносили чего-нибудь сладкого, но ему ничего не хотелось до тех пор, пока случайно не попался мятный леденец. Вот так чудеса! Оказывается, он ужас до чего любил зелёные мятные леденцы, с восторгом их разгрызал, наклоняя голову набок, чтоб не выронить мелких осколочков. Ребята заметили, что зубы у него жёлтые и одного клыка не хватает. Тут-то вот они догадались, что это довольно старый пёс.
Когда его просили, он подавал лапу, а если ему говорили: "А другую?" — он сейчас же подавал другую. Это умеют делать и самые глупые собаки, но этот не выполнял команду, а играл, и сразу было видно, что он считает это шуткой и делает, просто чтоб показать своё расположение.
Предлагая ему поиграть, ребята кидали мячик и сами бежали вдогонку. Пёс всё понимал, припадал на передние лапы, делая вид, что сейчас бросится за мячом, а иногда даже бежал несколько шагов вместе с ними, показывая, что принимает участие в игре и ему весело, он понимает, что его хотят развлечь, но бегать очень не хотелось, как пожилому, усталому человеку.
А вот когда сказали при нём однажды «гулять», у него просветлели глаза и он быстро стал поворачивать нос, оглядывать всех: "Кто это сказал? Правда? Куда гулять?" Никогда никто не видел его таким оживлённым, и всем хотелось его куда-нибудь взять и отвести погулять, но он ведь был чужой. Могли подумать, что его просто хотят украсть.
Ну и пускай думают! Ребята расхрабрились: "Пойдём с нами", и наперебой стали его звать за собой. Он подбежал к калитке, которую ему отворили, остановился, замер на пороге, хотя порога никакого не было. Он очень волновался, как будто выход перед ним был всё ещё загорожен, и он не верил, что можно пройти. И вдруг поверил. Он выскочил в переулок и побежал впереди всех. Похоже было, что он вовсе не очень-то старый.
Все высыпали на луг, это ведь было совсем близко, стояли и восхищались, просто обалдели и хохотали, на него глядя. Он точно с ума сошёл, рыскал по сторонам, пропадал в траве и выныривал совсем в другом месте, и перед его носом взлетали птички будто он, играя, подкидывал их носом как мячики. Он ни капельки не старался их схватить, а просто наводил порядок среди ромашек и всяких длинных трав, чтоб птички не засиживались на земле, а прыскали от него в воздух.
Глядя на него, даже дурак бы понял: "Вот это сейчас счастливая собака". Ребята сами стали с ним бегать, а потом обсуждали, почему это так устроено, что старые люди, даже пожилые, почему-то не умеют играть. А собаки играют, и белки, и кошки играют.
Потом отвели собаку обратно во двор. Она шла, вывалив язык, и часто дышала, но всё равно была ужасно довольна, что побывала в поле, повидала птичек, понюхала и пожевала какой-то полезной травы.
И вот когда все уже с ней попрощались, вдруг дверь таинственного дома отворилась и появилась на крыльце баба. Она скрестила на груди толстые руки и застыла. Могло со стороны показаться, что она стоит и спит, но она не спала, потому что вдруг всё лицо у неё перекосилось и она зевнула, да так, что ребята еле дождались, когда это зевание у неё кончится и черты лица вернутся в исходное положение.
Тогда Володя за всех вежливо и культурно извинился, что собаку без спросу водили гулять, и даже объяснил, до чего это собаке полезно, но тут на бабу опять накатило, она вся перекосилась, в горле у неё даже пискнуло, а когда всё обошлось, она сказала:
— Да хотя вы его вовсе со двора сведите… — И тут рот у неё опять поехал на сторону и нос туда же, и один глаз закрылся, но она ещё успела договорить: — Э… аха… ха-баха!..
Они догадались: "Не наша собака!.."
Тут ей уже не дали снова заснуть, набросились с расспросами и узнали всё-таки кое-что. Собаку звали будто бы Канкрет, такого, конечно, на свете не бывает, и в конце концов удалось установить: Танкред. Услышав своё имя, пёс вопросительно обернулся: "Я слушаю, да, это моё имя!" Это всем очень понравилось, что у него такое имя: красивое и подходящее, прямо, кажется, самим бы догадаться: не Джек, не Волчок, а Танкред — сразу же видно!
Поскольку "хабаха не наха", то стали выяснять, чья же она тогда «наха». И тут оказалось такое: бедняга Танкред последнее время существовал как-то при жильцах второго этажа Мыльниковых, а Мыльниковы получили квартиру на пятом этаже и преспокойно уехали, поскольку собака была не ихняя.
Оля заволновалась и стала расспрашивать, кто же её теперь кормит, раз она теперь ничья?
— Его, что ли? Так, кой-чего попадается ему… Да он, почитай, и не ест ничего. Старый…
— А где же он жить будет, когда зима настанет?
— Вон будка его.
— Он же замёрзнет. Там же холодно.
Баба тупо посмотрела на будку:
— А может… Я там не спала.
Пока ребята выжимали из неё это интервью, они вдруг заметили, что на них на самих напала зевота. Просто как зараза какая-то: баба посреди разговора закатится в зевке, а они, на неё глядя, ничего с собой поделать не могут, стоят и тоже зевают как идиоты.
Танкред всё время прислушивался к разговору. Глянет на Олю, глянет на бабу и, наконец, нерешительно подошёл к ней и робко ткнулся кончиком носа ей в колено.
— Пшёл! — равнодушно сказала баба и, не глядя, пхнула его коленом. Танкред пошатнулся, заморгал и сконфуженно отвернулся. Вид у него стал виноватый и смущённый. — Давай в будку! — рыкнула баба страшным голосом.
Многие люди почему-то считают, что так вот и надо разговаривать с собаками. С лошадьми. И даже с непослушными детьми.
Танкред униженно опустил голову и, еле передвигая ноги, как будто они у него гнуться перестали, поплёлся в будку. Влез туда, потоптался, поворачиваясь с трудом в тесноте, высунул голову наружу и со вздохом лёг мордой на лапы с таким выражением, как может обиженный, очень загрустивший человек, подперев щёку кулаком, выглядывать на улицу из окошечка.
Всем стало за него неловко и противно даже глядеть на бабу, но это всё оказалось ещё пустяки, так здорово она вдруг ещё высказалась. Перестав зевать, озабоченно сказала:
— Приходил и Капитон. Это уж я позвала. Да и тот отказался. И так и эдак его смотрел, щупал… Нет, плюнул, отказался.
— Почему?
— Негодная никуда шкура, говорит. Потёртая.
— Кто этот Капитон… Охотник?
— Ага… До шкур охотник. Живодёр. Выделывает шкурки.
Из ребят многие даже не поняли этого слова, а кто понял, просто взвились, захлебнулись от возмущения.
Баба, хотя и спросонья, а всё это видела и усмехалась, стояла и только хмыкала, пока её наперебой то старались запугать, доказывая, что это теперь даже запрещено милицией, чтобы живодёры, это не старое время, то пытались как-нибудь её задобрить, уверяли, что Танкред дорогая, породистая собака и где-то на учёте (они сами не знали где), и обещали, что найдут его хозяев или не хозяев, всё равно устроят его существование.
Потом все уселись на корточки вокруг будки и стали ободрять Танкреда, и тут, когда они вдруг представили себе, что всё это — его печальные и умные глаза, и лоб с белым пятнышком, и эти тёплые уши, — всё это «шкура», которую может кто-то содрать, всё в них до того взбунтовалось против несправедливости, что им хотелось сейчас же кого-то найти виноватого и заклеймить, разоблачить его подлость.
Они долго кипели от возмущения и горячо обсуждали, что теперь делать. Лучше и приятнее всего было бы подстеречь Капитона, связать верёвкой и отвести в милицию, чтоб не занимался, тунеядец проклятый, такими делами. Потом надумали лучше написать в газету, но сообразили, что надо прежде собрать и выяснить точные факты.
Глава девятая
Первым делом нужно было хотя бы узнать, где проживают эти чудные Мыльниковы, которые взяли да и уехали на пятый этаж. Равнодушные, чёрствые Мыльниковы!
Это оказалось не так-то легко. Поиски как-то не клеились: то не оказывалось никаких Мыльниковых, то Мыльников находился, но жил на втором этаже.
Оля всё-таки пошла к этому Мыльникову, прямо разлетелась, стала расспрашивать и допытываться, заранее приготовившись его обличить и объяснить, как он бездушно поступил, но он очень равнодушно её выслушал и даже не выгнал, а просто стал хлебать борщ.
Оля, упрямо стоя перед ним, досмотрела до конца, как он доел первую тарелку. Наливая вторую, он мельком заметил, что живёт здесь двенадцатый год.
С пылающими щеками Оля вышла к поджидавшим её ребятам и, вся ещё продолжая пылать, набросилась с упрёками: сами они равнодушные и ленивые, вот уже неделя целая прошла, даже больше, а они не могут адреса узнать.
И на другой день, когда все собрались, Володя, всё ещё хмурый после вчерашней Олиной речи, вынул бумажку, на которой был наконец точный адрес тех самых Мыльниковых.
Все сразу дружно зашагали, сомкнув ряды, и только перед самыми дверьми дома разом остановились и довольно долго топтались на месте, решая, с чего начать и вообще от чьего имени или от кого они явились. Придумали так: от имени школьной общественности учеников разных классов. Всей «общественностью» — кто ходил купаться, их чуть не пятнадцать человек было, считая малышей, — вваливаться в дом было неудобно, и пошли только трое: Оля, Володя и Коля Соломахин.
Сам Мыльников им отворил дверь — ему было года четыре, так что пришлось попросить, чтоб он позвал кого постарше. Он сказал:
— Кого? Постарше? Ладно, — и привёл другого.
Тому оказалось немножко больше — лет шесть, а то и все семь. Ребятам даже смешно стало, и они спросили, нет ли у них там кого-нибудь совсем уж старика, но он сказал, что нет, он самый старший сын, и так это оказалось. Старше его была только девочка, почти взрослая, лет двенадцати, всё время было слышно, что на кухне что-то шипит и кто-то стучит — это она там готовила, а когда её вызвали, вышла в прихожую с дуршлагом в руке.
Ребята беспощадно правдиво рассказали всё про Танкреда и что с него собираются содрать шкуру.
Результат получился очень плохой: оба Мыльниковых, младший и старший, взвыли ужасными голосами, оплакивая Танкрешу, — они поняли так, что всё уже с ним случилось, а девочка стала их успокаивать, встряхивая за плечи и постукивая дуршлагом кого по затылку, кого по щеке.
На шум вышла их мать с младенцем на руках и крикнула:
— У тебя дуршлаг горячий? Не смей их трогать!
— Холодный, — сказала девочка.
Тогда мать отвернулась от них и стала расспрашивать ребят. И всё выслушала — они старались её пристыдить, но тактично, так, чтоб она не разозлилась.
— Да, он славный пёс… — сказала она. — Прекратите выть, чертенята, ничего с ним не случилось… Убери дуршлаг, уведи их на кухню. Макароны промыла? Мойте руки!
Девочка выпихнула обоих братьев и закрыла дверь, но и оттуда было слышно, как они ноют и скулят:
— Ма-а! Позволь! Позволь Танкрешу!
— Вот видите, — скромно сказала Оля, — и дети ваши просят, чтоб вы позволили…
— На то они и дети, а вы не дети, понимать должны. Танкреша! Вот у меня Танкреша! — Она встряхнула младенца, который сидел у неё не руках.
Он был занят тем, что подкарауливал свой высунутый язык, стараясь его поймать пальцами, и злился, что тот не слушается — в последний момент каждый раз прячется обратно в рот.
Она толкнула ногой дверь и показала пальцем:
— Мало? Ну, так вот вам ещё Танкреша! Хватит?
Там ещё один, в рубашонке до пупа, за сеткой кроватки цеплялся за перекладину и шатался, тужился, пытаясь устоять, но как только обернулся, сейчас же и шлёпнулся.
— Ну как? Хватит на мою голову Танкреш этих всех? Как вы думаете?
Ребята послушно вышли на площадку, потому что она широко распахнула перед ними дверь.
— Лучше бы к Пахомову сходили! — крикнула она им вслед. — Раз вы такие общественники! Собака то ведь Пахомова! Не знали? А ходите! Пахомова! А мы после него только в том доме жили, пока тут квартиры не получили.
С этого дня все ребята стали ненавидеть Пахомова. Решили, что его разыщут и тогда уж все ему выложат, что они о таких думают. А если не поможет, пойдут в редакцию, найдут лучшего фельетониста, чтоб написал как можно язвительной, а они уж ему помогут! Они сами придумывали для него кое-что, чтоб было похлеще, например, такое: "Кто может бросить собаку, тот может предать и человека!"
Твердо решив разыскать этого Пахомова, они первым делом стали всем рассказывать про него. Пусть все знают. Всем ребятам они так здорово о нём рассказали, что многие даже стали ругаться так: "Эй ты, Пахомка ты эдакий!.."
А в это время произошло событие, заслонившее собой всё!
Надо сказать, что в городе, несмотря на то что это был небольшой и тихий город, имелся свой парк культуры с белыми, как извёстка, статуями физкультурников и пудовыми гипсовыми урнами для мусора у скамеек на дорожках, художественно раскрашенными плакатами на темы дня и хрипловатыми репродукторами, откуда с высоты телеграфных столбов по вечерам неслись вальсы.
Местная газета каждую весну печатала статью о том, что кое-кому пора бы проснуться от зимней спячки и заняться парком. Или едкий сатирический фельетон о том, что на нехоженой тропинке у порога конторы директора парка старушка Лукинишна любит собирать подберёзовики…
И вот в город, и именно в этот парк, приехал цирк шапито!
Там, где заканчивался, собственно, самый парк, начиналось обширное самодеятельное футбольное поле, оснащённое парой жердевых ворот. И вот однажды эти жёрдочки выдернули из земли, пустырь вокруг них расчистили, возвели каркас и натянули на него громаднейшую палатку.
Давно уже по городу были расклеены афиши:
СКОРО! АНОНС! СКОРО!
Теперь же их заклеили новыми:
ЦИРК! ШАПИТО!
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
ВПЕРВЫЕ!
Всё это было напечатано гигантскими разноцветными буквами, выпуклыми, как кубики, а среди них бежала, извиваясь, длинная вереница совершенно одинаковых лошадок с султанчиками на головах; в букву «О», как в обруч, прыгал лохматый лев, а из верхнего левого угла летел, вытянув руки, по воздуху гимнаст (явно рискуя по пути разбиться о громадный восклицательный знак) в правый нижний угол, где его поджидал другой гимнаст, раскачиваясь вниз головой на трапеции.
В больших городах, где есть свои постоянные цирки, даже представить себе не могут, что такое приезд цирка в город, где цирк видели в последний раз лет пять тому назад!
Сказать, что мальчишки и девчонки были зачарованы афишей, взволнованы, что кругом только и разговоров было что о билетах, о цирке, о вчерашнем представлении, о завтрашнем, о клоуне Козюкове с его поразительной обезьянкой и прочем, — было бы несправедливо: ведь взрослые тут ничуть не отставали от ребят.
Глава десятая
— Почему ты не ходишь в цирк? Все ребята перебывали! Почему?.. Другие уже по два раза были… А ты почему?
Оля равнодушно спросила:
— И ты два раза побывал?
Володя хмыкнул и пожал плечами:
— Я бы хоть каждый день… хоть бы по два раза! Да где денег взять?.. А вот ты что же?
— Меня мама не пускает в цирк.
— Ой, что ты! Неужели? Я думал, она такая добрая, вообще покладистая.
— Ты думаешь, она со злости меня не пускает? Есть причина. Ясно?
— Тайна?
— Вроде того. Причина.
— Вот жалость-то… Здорово там так! В кино-то я видел цирк, так это чистая буза по сравнению, а тут всё настоящее… Хочешь, я тебе на билет достану?
— Как это? Когда ты себе-то и то не можешь!..
— Откуда я знаю как! Для себя — другое дело. А для тебя!.. Как это может быть, чтоб не достать? Разобьюсь в лепёшку, придумаю что-нибудь. Достать?
— Чудак… Говорят тебе, мама против, значит, всё.
— Ах, ты… Тогда хочешь, я тебе всё расскажу? Я всё, всё помню, кто что говорил, кто на чём вертелся, как летали, кто чем жонглировал. Я даже представить тебе могу, как они там!.. Например, этот клоун выходит и пищит вот так!.. А обезьяна, это сдохнуть надо!.. Называется Куффи!..
Оля невесело как-то засмеялась:
— Нет, пожалуйста, не надо мне рассказывать. Мне же ещё обиднее станет, что я сама никогда этого не видела.
Володя помрачнел.
— Верно, это я дурак. Не подумал… А если мы попросим твою маму? Я скажу, у меня случайно бесплатный билет?
Оля медленно отрицательно покачала головой.
Разговор, происходивший у дверей Олиного дома, на этом и кончился. Володя нехотя повернулся, прошёл несколько шагов до ворот двора и обернулся.
— А мы ещё когда-нибудь постреляем? — кивнул он в ту сторону, где за забором виднелась поленница хозяйских дров.
— Не знаю… Постреляем… — Оля грустно улыбнулась и скрылась за дверью.
Заскрипели ступеньки лестницы, всё выше… Хлопнула дверь на втором этаже.
Володя, морщась, точно у него что-то болело, поплелся домой.
На другой день, в воскресенье, погода была солнечная, жаркая, на водную станцию, где поставили вышку для прыжков, собрались с раннего утра все пловцы и купальщики, даже такие неженки вроде Зинки, которая в обычную воду и то влезала, как нервная кошка в снег: отдёргивая лапы и пугливо вздрагивая при каждом шаге.
Все собрались, кроме Оли. Сперва все удивились, что она опаздывает, потом позабыли и стали купаться, а кто похрабрее — прыгать с нижней площадки вышки, пока ещё мало было взрослых парней, настоящих прыгунов.
Домой теперь после купания ходили обычно мимо цирка шапито: иногда там на пустыре и днём можно было увидеть кое-что интересное.
Так и на этот раз. Вся компания первооткрывателей купального сезона и с ними ещё несколько попутчиков, сделав круг по бульвару, опасливо подобрались к большой загородке на задах цирка. Конечно, билетов там не спрашивали, но все понимали, что эта загородка на пустыре не простое какое-нибудь место, а задворки волшебного мира цирка. Пускай задворки, но всё-таки волшебные — это все чувствовали.
Многие очень взрослые и очень умные люди. наверное, не чувствовали бы ничего подобного на их месте.
Они ведь отлично знают, что если шестеро лилипутов вылезают из маленькой коробочки, куда только что посадили клоуна, — это просто такая аппаратура. А если тут же вместо исчезнувшего клоуна в ящичке оказывается полным-полно кроликов, а клоун уже верещит, помирая от хохота, и с грохотом скатывается по ступенькам прохода среди зрителей с самого верха, ну что ж, за это деньги получают, вот и дурачатся!
Вероятно, увидев джинна, вылезающего из бутылки, они сказали бы: "Ага, это, значит, такая джинновая бутылка. Наладили где-то выпуск, только и всего, чего тут удивляться-то!"
И не удивляются, и не замечают, до чего же скучновато жить на свете человеку, не умеющему удивляться и радоваться своему удивлению…
К своему счастью, ребята ещё не доросли до того, чтоб стать такими умными и такими взрослыми, и им цирковые задворки вместе с их аппаратурой казались восхитительным, удивительным, праздничным местом.
Они были обыкновенные дети и стояли на обыкновенном пустыре, и сетчатый забор отделял их магической чертой от сказочно-прекрасного мира, где всё не как в обыденной жизни: люди ходят вверх ногами, тигры ласкаются к девушке в курточке, те, кто летают, не падают, на кастрюльках можно отлично играть разные приятные мелодии, разбросанные по воздуху шарики слушаются и сами возвращаются в руки жонглёру и лошади раскланиваются на аплодисменты. И вот за этой магической чертой, в том полусказочном царстве, обыкновенный серый ослик дремал, отмахиваясь от мух, а около большущей кучи сена преспокойно стоял слон. Он набирал хоботом охапку сена, разевал свой удивительный рот и запихивал туда, как будто подкладывал топливо в печурку, торчащие пучки сена. А на его спине… сидела, свесив ноги на одну сторону, Оля, поглаживая по голове слона, и всхлипывала, закрываясь локтем.
Сидела как будто у себя дома на диване, изредка вытирая мокрый нос тыльной стороной ладони.
Слон поднял хобот, достал до неё, пошарил, вроде чтоб убедиться, что она ещё тут, и снова стал нагребать себе охапочку.
Ребята молча, остолбенело стояли и смотрели. Они не охали, даже не завидовали, они наслаждались радостным изумлением: вот Оля, которая ползимы сидела с ними рядом на парте, обыкновенная Оля как Оля, оказывается, может быть совсем другой, значит, и для других когда-нибудь может открыться ход в иные области, о которых они мечтали, то веря, то сомневаясь, а вот ничего нет невозможного, оказывается!..
Хриплый мужской голос как-то грозно и вместе смешливо прокричал:
— Куффи, чертёнок полосатый, ты куда удираешь! Иди сюда! Слышишь?
Откуда-то выскочила вприпрыжку на четвереньках обезьянка, обернувшись состроила хулиганскую рожу тому, кто за ней гнался, подбежала к слону, сделала вид, что собирается его дёрнуть за хобот, но тут же улепетнула, промчалась по огороженной площадке и с разгона вскочила на спину ослика. Тот даже не обернулся на неё.
Толстый человек, отдуваясь от жары, появился следом за обезьяной, увидел девочку на слоне и умоляюще сказал:
— Оленька, помоги, душенька, он сейчас начнёт дразнить Мышку, ну вот, уже за уши тянет.
Оля что-то сказала слону и стала сползать, придерживаясь за его ухо. Слон загнул хобот, Оля ступила на него, сползла пониже и спрыгнула на землю.
— Ну, пойдём, ну, Куффи, будь умником! — ласково сказала Оля, протягивая руки обезьяне.
Та немножко покривлялась, скаля зубы и вытягивая губы трубочкой, дёрнула ещё раз на прощание за ухо осла и сама потянулась на руки Оле.
Тут ребята не выдержали, стали молящими до испуга голосами окликать через сетчатую ограду Олю. Она их заметила, минуту поколебалась, но подошла с обезьянкой на руках.
Пока все восхищались, потешались, разглядывая обезьяну и любуясь ею, под общий шум Оля тихо, многозначительно объяснила Володе:
— Куффи меня давно знает, он ещё совсем маленький был. Ребёночек, а уже был похож на старичка.
— Да, — понимающе кивнул Володя, — просто совершенно точно — Старичок и Деточка. Да?
Оля таинственно и заговорщицки ему утвердительно улыбнулась.
Толстяк, попеременно нежно обзывая своего Куффи чертёнком, уродиком, ангелочком и красавчиком, унёс его.
— У нас новость есть, — сказал Коля Соломахин. — У нас такой следопыт объявился! Знаешь, кто? Сам Федька "пищальный фахт". Подумать только.
— Вот тебе и не «пищальный», а самый интересный! Никто вот не нашёл, а узнал-то кто? — самодовольно отозвался Федька.
— Правда узнали что-нибудь? — насторожилась Оля, и, когда Володя сказал «правда», она вышла через маленькую калиточку в сетчатом загоне к ребятам.
На Зинку она постаралась не смотреть, чтоб её не конфузить. Но Зинка очень даже на неё смотрела. Чтоб её смутить, даже живого слона оказалось мало. Она уже опомнилась от первого изумления и теперь процедила сквозь осуждающе поджатые губы:
— Всё равно так поступать некрасиво! Подумаешь, слон! Ну, так и надо было откровенно поделиться.
Но тут уж общественное мнение её не поддержало. Даже маленький Федя сказал:
— Сама пирожком никогда не поделится!.. А с ней слоном делись! Ишь ты!
И никто больше на неё внимания не обращал.
— Какая же новость? — нарочно не слушая, спросила Оля.
— Отыскался след Пахомова!
— Какого?.. Ах, это Танкреда хозяин? А мы совсем это дело забросили. Неужели нашёлся?
— И всё Федька!
Глава одиннадцатая
У Федьки, оказывается, был дядя Сеня. Этот дядя услышал однажды, как Федька ругается «Пахомкой», и тут выяснилось, что он Пахомова знает и даже Танкреда когда-то знал.
Ребята сейчас же бросились к нему и не застали дома. На другой день собрались все вместе и отправились к дяде Сене опять.
Он показался им толстым и пожилым, но довольно понятливым — всё сразу понял.
Он усадил их на пустые ящики, их много сложено было у него во дворе, кругом ходили куры, и из разных углов выглядывали кролики.
— Вы, значит, болельщики по этому делу, мне Федька рассказывал… Да, был он действительно у Пахомова… — Дядя Сеня покачал головой и закурил. — Очень невезучий он пёс, этот Танкред. Дело в том, что первый его хозяин уж очень дурак был… А пёс, как на грех, умница. И всё-таки он этого дурака своего любил… А что хорошего дураку служить? Он его то на диван спать пускал, то зимой в дырявую будку загонял, воспитывал или закалял, чёрт его знает! Охотник он был исключительно для форсу! "Мне завтра на охоту!", "В тот раз на охоте со мной такой случай!.." Доедет на автобусе до последней остановки и там ловчится, где посуше да поближе, и в конце концов стал на этого же Танкреда валить, что из-за него, дескать, с охотой ничего не получается, и со злости продал его Пахомову, а тот тоже такой же охотовед: по книжке, в своей конторе сидя, поближе к паровому отоплению, сильно увлекался разными снежными просторами да таёжными тропами.
Так вот, дурак-то его продал, а пёс этого не понимает, как это его можно продать, и всей душой стремится обратно к нему вырваться. Прибежит домой, дурак злится, побьёт его, а пёс не обижается, ласкается, старается, значит, объяснить, что он не виноват; его на привязи держали, а он вот уж как старался вырваться, да всё никак не удавалось.
Невезучий пёс. И год прошёл или больше, не помню, и дурак-то его уехал, и дом снесли, а его собачья душа всё тосковала, всё тянуло его к тому месту, даже соседи удивлялись: дома никакого нет и брёвна-то увезли, одни кусты. кусок забора с калиткой, помойка, а он, как вырвется, всё туда прибегает, калитку лапой откроет, хотя с другой стороны и забора-то не осталось, но тут дорожка ему знакомая, и он идёт, озирается, принюхивается: куда же это всё девалось — и дом и люди? И бродит как потерянный, а то вдруг почудится ему что-то, и он со всех ног, опрометью кинется — никак, — идёт кто-то? А никого нет. Он станет и долго стоит оглядывается и раздумывает, куда это всё провалилось, вся окрестность его жизни, даже подвывать начнёт… А что? Тут человек бы, пожалуй, голову задрал да и завыл…
Потом решит, наверное, что главное, надо терпеливо дожидаться. Ляжет посреди пустого места так, чтобы ему на все стороны все подходы были видны, и ждёт, чтоб не упустить, когда эта вся его прежняя жизнь начнёт на пустырь возвращаться… Чуть калитка от ветра стукнет, он встрепенётся, оживёт — не его ли дуралей возлюбленный пришёл за ним?
Потом он в конце концов и к Пахомову привязался, и особенно к старику Пахомову… Уживчивый пёс, а вот невезучий… Так что же вы делать решили?
Ребята всё наперебой выложили: как их возмущает чёрствость и бездушная подлость и что они поставили себе целью найти виновника, ну и, конечно, пристроить Танкреда, не бросить его на произвол судьбы!..
Дядя Сеня почесал в затылке, подумал, пожал плечами и в конце концов сказал:
— Да ладно, пока приводите старика ко мне, я ему из ящика сооружу коттеджик, моих кур и кроликов он не тронет, он разумный старик.
Все тут же условились идти в субботу, но в эту субботу как-то не получилось.
Зато в следующую собрались все до одного и отправились вместе с дядей Сеней.
Шли как на праздник и заранее радовались за Танкреда. Удивительно как хорошо себя человек чувствует, когда ему вот так удаётся провернуть хорошее дело и довести его до конца. Дядя Сеня еле поспевал за ребятами, которые готовы были броситься бежать вприпрыжку и не переставая, наперебой, болтали, вспоминая, как Танкреша любит гулять, какие глаза у него: как синие чернила, если одну каплю капнуть в блюдечко с водой. Нет, не в блюдечко, а в рюмку! Всю дорогу веселились и вспоминали.
Во дворе, как всегда, не было ни души, Танкреда тоже не было видно на обычном месте, и калитка была изнутри заперта на железную петлю, заткнутую деревянным колышком. Володя вытащил колышек, все вошли во двор и стали на все голоса звать Танкреда, но он не показывался.
Ребята разбрелись в разные стороны, стали его искать, а дядя Сеня зашёл в соседний дом и там выяснил, что сонная баба с мужем уехали в деревню. Уже недели две как уехали и, наверное, теперь уже скоро вернутся.
И тут появился Танкред, выполз из узкой щели между сараем и забором, где он почему-то прятался, и медленно подошёл к колодцу. Все ужасно обрадовались, но он ни на кого почему-то не обращал внимания.
— Погодите-ка бесноваться, — сказал дядя Сеня. — Он, кажется, пить хочет.
Мальчишки нашли у сарая жестянку с проволочной дужкой. На дне там запеклось какое-то чёрное варево вроде смолы. Они привязали банку к колодезной верёвке, добыли воды и поднесли Танкреду.
Он сразу стал пить, но очень медленно и будто нехотя.
— Когда вы тут были последний раз? — спросил дядя Сеня.
Ребята даже не сразу поняли: что, что? И вдруг их как кипятком обварило: в самом деле, они как-то не могли припомнить, когда тут были в последний раз. Когда? Кажется, в тот раз, когда сонная баба рассказала про живодёра Капитона и все так возмутились, что сперва фельетон решили писать, а потом стали разыскивать Мыльниковых! Да, наверное, кажется, возможно, что в тот раз! Ведь это как будто недавно, а вроде и давно было… Конечно, ведь никто не мог знать, что она уедет, да ещё запрёт калитку!
Танкред немного попил и остановился, как-то задумчиво глядя на воду — её ещё много осталось в жестянке. Правда, поверху плавала какая-то труха и дохлая сухая бабочка. Эту воду выплеснули и достали свежей, но Танкред вдруг повернулся и пошёл к калитке, не обращая внимания на то, что его гладят, уговаривают и рассказывают, до чего ему теперь будет хорошее житьё.
Он подошёл к калитке, царапнул её лапой, отворил и вышел в переулок.
— Не нравится мне он что-то! — задумчиво сказал дядя Сеня, глядя ему вслед.
Ребята догнали Танкреда, окружили его, уговаривая, чтоб он не обижался, что они его вроде забросили, ведь для него же старались.
Так они все за ним шли и шли, пока он не привёл их на луг, куда его прежде водили гулять, он всё шёл и шёл, как глухой, не оборачиваясь, сколько его ни звали.
Посреди луга, среди маргариток, одуванчиков и травы с султанчиками, он наконец оглянулся, остановился и сел. Оля опустилась на колени с ним рядом, заглядывала ему в глаза, гладила его, и видно было, что он её узнаёт, но как будто все ему мешают и ему хочется от всех отделаться, не обижая. Он нехотя обвёл всех взглядом, точно придумывая, как ему поступить, и наконец придумал: вздохнул, собираясь с силами, и вдруг поднял и протянул Оле свою большую, мохнатую лапу, хотя она его не просила. И позволил её подержать немножко.
Ребята даже не успели этому обрадоваться, как он отдёрнул лапу, встал и опять пошёл от них, не оборачиваясь. Странное дело: он был не грустный, не обиженный, просто как будто у него было неотложное дело где-то в другом месте, а его тут задерживают.
Он уходил сквозь высокую траву, птички выпархивали у него из-под носа, трава на лугу ходила волнами от ветра, а он медленно уходил и уходил от всех через луг, куда-то к оврагу.
Кто-то из мальчишек бросился его догонять, боясь, чтоб он не спрятался в кустах за оврагом. Он услышал, что за ним гонятся, и с трудом побежал.
— Не бегите за ним! — окликнул дядя Сеня. — Вы что, не видите? Он уходит. Он хочет быть один. Он знает, что делать, не надо ему мешать.
Все остались стоять и смотрели, как Танкред всё уходит к оврагу, совсем пропадая в высокой траве. Не оборачиваясь, прямо, неуклонно.
— Он уходит совсем, — своим сиповатым голосом негромко проговорил дядя Сеня. — Молодец. Он знает. Не боится, не прячется, а идёт навстречу. Уйдёт подальше и, если нужно, терпеливо подождёт. Всё ведь просто — ему не надо писать завещания. Кому дом, кому шуба, кому мебель. Ну что вы? Он ведь не хнычет, так уж и вы, братцы, не расхныкивайтесь.
Домой все плелись вразброд, чувствуя себя не очень-то хорошо, с горечью вспоминая, до чего всё получилось просто и хорошо, пока они так благородно возмущались другими, негодовали и всё собирались что-то предпринять, искали какого-то злодея, чтоб его заклеймить, а в общем-то и злодея не оказалось… Так… все оказались хороши понемножку, да и сами-то они не лучше других!
Глава двенадцатая
В те годы, незадолго до начала войны, на афишах цирковых трупп, разъезжавших по городам Советского Союза, часто можно было увидеть такое:
!ЧУДО-СТРЕЛКИ!
!ЗНАМЕНИТЫЕ СНАЙПЕРЫ!
!РОДИОН И ЕЛЕНА РЫТОВЫ!
И только в середине этой зимы, когда Оля с мамой приехали и сняли комнату у Ираиды Ивановны, этот номер в цирковой программе стал называться по-другому:
!ЧУДО-СТРЕЛОК — СНАЙПЕР!
!РОДИОН РЫТОВ!
Вот такое произошло очень малозаметное изменение в цирковых афишах. Но в семье Рытовых изменилось очень многое.
Мама перестала работать вместе с отцом, и всю зиму они с Олей жили в ожидании приезда передвижного цирка шапито, и тогда всё должно было окончательно решиться у них в семье. Как они будут жить дальше. Многое, очень многое должно было решиться, о чём, считалось, Оля и знать бы не должна была, но о чём не только догадывалась, но почти знала, сама стараясь не очень об этом думать.
Она наизусть знала цирковой номер Рытовых. Они, улыбаясь, выбегали на арену в великолепных костюмах, где фантастически смешивалась праздничная индейская бахрома по шву брюк у папы и по краю маминой короткой юбочки. В ковбойских широкополых шляпах и сверкающих сапожках.
Мама, хорошенькая и милая, улыбаясь, мгновенно подавала мужу заряженные ружья, а он без промаха сбивал лопающиеся шарики, укладывал пули в кружок мишени величиной с гривенник, стрелял навскидку, одной рукой или повернувшись к цели спиной, глядя в маленькое зеркальце.
Всё это время красноносый клоун в необъятных штанах и рыжем парике болтался вокруг них безо всякого дела, после каждого выстрела пугался чуть не до обморока и порывался убежать с арены в публику.
Но тут мама брала винтовку, изящно выполняла несколько нетрудных упражнений в стрельбе и скромно кланялась публике. Восхищённый её красотой, клоун приходил в неистовый восторг и храбрился до того, что ставил себе на голову яблоко вместо мишени, вспомнив, вероятно, историю с сыном Вильгельма Телля.
Клоун становился, скрестив на груди руки, в героическую позу и вдруг так начинал трястись со страху, что публика заливалась хохотом. И тут папа с поклоном передавал винтовку маме. Она не успевала её поднять к плечу, как клоун, подхватывая сползающие клетчатые штаны, бросался наутёк. Однако не успевал затихнуть взрыв хохота публики, он появлялся уже снова и становился в прежнюю героическую позу. Только на голове у него вместо яблока красовалась теперь громадная тыква! Другой клоун, подкравшись сзади, хлопал деревянной хлопушкой, и тот, что с тыквой, как столб падал замертво без чувств.
Снова перекатывался смех, мама грозила клоуну пальчиком, пана стрелял сквозь кольца, публика хлопала в ладоши, а мама приседала и кланялась на все стороны, и получалось, что она благодарит, но не за себя, а за папу, ведь один он, собственно, и сделал всю работу, все трудные трюки…
Прежде Оле очень нравилось всё происходящее. И только как-то щемило сердце слегка, сама она не могла разобраться почему.
Теперь всё чаще она стала задумываться. Мама была неуравновешенная, неустойчивая и фантазёрка. Ей вечно чего-нибудь не хватало, она постоянно чего-нибудь придумывала, она сама не знала, чего хочет, — это всё были папины слова, сказанные в разное время маме. Сказанные сгоряча и, конечно, тогда, когда он думал, что Оля его не слышит. Или забывал, что она может слышать. А она их слышала и не забывала.
Не забывала и другого: папа её, в общем, любил, и она привычно любила папу, как любила бы любая девочка своего отца, красивого, молодого, и весёлого, и доброго, но откуда-то безошибочно была уверена, что папа её любил не очень и не всегда. Когда-то давно, когда она была совсем маленькой, папа её почти не любил или полюбил как-то не сразу и будто нехотя. Наверное, она ему мешала, отвлекая, удерживая маму дома, и он не очень-то радовался её появлению на свет. Никто ей об этом ни слова не рассказывал, но на самом деле всё так и было. А откуда и как ребята, которым стукнул первый десяток лет их жизни, узнают, понимают и хотя порой неясно, смутно, иногда ошибаясь, догадываются о том, что их волнует и интересует, — это загадка, которую всякий пытается разгадать по-своему, а мы лучше не станем этим заниматься. Заметим себе только: Оля была уверена, что это так.
А в то, что мама неуравновешенная и фантазёрка, она искренне верила, и ей это страшно нравилось, потому что вместе им никогда не было скучно, как с другими (наверное, уравновешенными) взрослыми, и с мамой они придумывали разные истории про Тюфякина: что он думает, какое у наго настроение и хорошо ли он выспался, а потом мама придумывала то продолжения к старым сказкам, то ещё что-нибудь.
Оля и думать не желала о таком кошмаре, чтоб мама у неё вдруг стала серьёзная и наставительная, как обыкновенные чужие мамы. Вот уж было бы несчастье!
Когда в город приехал цирк шапито и они встречали на вокзале папу и старого клоуна Козюкова-Козюкини с его обезьянкой Куффи, и все обнимались, радовались, а Куффи, закутанный в ватный колпак, буянил, стараясь выскочить на свободу, Оля после долгого перерыва снова увиделась с папой и тоже радовалась и гордилась тем, что он такой: красивый и большой, сильный и уверенный в себе, она опять почувствовала, что ей чего-то очень не хватает, сколько бы он её ни целовал, поднимая на руки.
В первые минуты всё было как будто хорошо, но когда они вышли на площадь, ту самую, на которой они стояли с мамой несколько месяцев назад, в день приезда, в разгаре снежной зимы — теперь-то площадь стала совсем другой, горячей от солнца, вся в зелени деревьев, — Оля вдруг почувствовала, что осталась в стороне. Папа держал за руку маму, любовался её радостью при встрече, он счастлив был — сразу видно, — и Оля подумала: "А ведь если бы меня и на свете не было, он всё равно был бы вот так же, ничуть не меньше, счастлив. Маму он любит. Правда, и меня, пожалуй, тоже. Не просто любит, а тоже. Заодно".
Она попросила позволения взять на руки Куффи.
— Хочешь к Оле? — спросил Козюков-Козюкини.
Куффи подумал, потянулся и, обняв Олю за шею, поехал на ней дальше, любопытно оглядываясь по сторонам.
Мама тут же заметила, что Оля отстала, тогда мама остановилась и позвала её к себе.
Конечно, мама. А папа ничего, решительно ничего даже и не заметил.
Глава тринадцатая
Папа приехал победителем. Стоило только на него взглянуть: он сиял, его распирала какая-то горделивая радость. И, надо сказать, ему очень это шло, просто любоваться можно было им, такой он жизнерадостный, уверенный в себе и в том, что раз ему хорошо и всем рядом с ним обязательно должно быть хорошо.
Когда они все втроём поднялись по скрипучей лестнице в их комнату, он остановился на пороге и схватился за голову. Он огляделся и помрачнел. Правда, на одну только минуту.
— Боже ж ты мой! — почти простонал он. — Так вот как вы устроились тут и жили! Чердак какой-то!.. Как вы, бедняжки мои, тут зимой?.. Лёля, что ты наделала, теперь же вот ты сама убедилась, до чего ты беспомощная в этих делах?.. Ну, самых грубых, простых! В практических! — И тут лицо его опять осветилось доброй, снисходительной улыбкой. — Ну, не буду, не буду, я знаю, ты не любишь! Тем более, всё это прошло, кончилось. Садитесь и слушайте с уважением и восхищением. Можете с восторгом.
— Ну-ну, выкладывай, что у тебя за новость, — сказала мама. — Ведь ты уже не можешь её удержать в себе.
— Да нет, я шучу, чепуха… Ничего особенного. Просто известный вам номер Рытовых включён в первоклассную программу. В Ленинградском цирке. Другой разряд, другая марка, всё другое. Ленинград — это же не Бобруйск, не Полтава, не Гомель! А?.. Всё равно что Москва! Столичный цирк!
— Конечно, это большой успех, я тебя от души поздравляю, — сказала мама.
— А себя? Ты за себя не рада? — насторожился и опять как будто помрачнел папа.
— Все голодные, садимся завтракать! — объявила мама.
Разговор оборвался. Оля суховато спросила:
— A c Тюфякиным ты и не поздоровался? Старичок-то ведь у нас немножко обидчивый!
— С кем?.. — Родион Родионыч огляделся и наткнулся глазами на сидевшего в уголке Тюфякина, которому по случаю торжества Оля завязала зелёный бантик.
— Тьфу ты! Вот ты о чём! А вы всё ещё играете?.. — и насмешливо-снисходительно, но, пожалуй, даже ласково рассмеялся.
Только в самом конце дня разговор этот начал всплывать снова.
Оля очень скоро заметила, что мешает своим присутствием. Папа рисовал их общее будущее в самых радужных красках, описывал, какие заказаны новые костюмы и оформление для их номера, а мама, нерадостно опустив глаза, смотрела в сторону и рассеянно кивала для того только, чтобы показать, что она слушает и всё слышит.
Оля раза два зевнула, сделала осоловелую рожу, передразнивая клоуна, и объявила, что её одолевает сон, даже мурашки бегают перед глазами.
Пожелала спокойной ночи, разделась, зевая, повалилась в постель и скоро начала ровно дышать, даже посапывать, совершенно искренне желая настроить себя на сон. Она очень старалась заснуть, но, помимо воли, чувствовала, что лежит, как бы навострив уши, чтоб не пропустить ни слова. Если бы она была собачонкой или зайчонком, без сомнения можно было бы заметить, что у неё "ушки на макушке", как бывает у зверят, которые, насторожившись, вслушиваются во что-то для них очень важное; но она была просто девочкой, которая притворилась спящей, чтоб не мешать разговору, в котором, она предчувствовала, решается судьба и её собственная, и всей их маленькой семьи.
Папа — Родион Родионыч — говорил горячо и твердо вполголоса:
— Я вас забираю! Я же за вами приехал! С десятого мы начинаем работу в Ленинграде! Ты подумай только! В гору пошли Рытовы, а?
— Рытов пошёл в гору. Я за тебя очень рада, но я тут ни при чём.
— Как будто я один работаю! Смешно! У нас ведь общий номер.
— Нет, только твой. А подавать тебе ружья, и приседать, и кланяться с улыбкой, и подыгрывать, пугать клоуна с тыквой выучится любая девчонка. И номер останется тот же!
— Что ж ты хочешь? Хочешь, чтоб я тебе заряжал ружья и пугал клоуна, а ты вела номер?
— Неужели я могу пожелать тебе такое?.. Такую роль… на арене или в жизни, от которой я сама желаю избавиться?
— Ты хочешь избавиться? Ты очень переменилась, Лёля… Как ты изменилась, ты другая стала!
— Нет, к сожалению, нет. Я такая же в себе неуверенная, неустойчивая… Мне приходится всё время бороться с собой, чтоб выполнять принятое решение.
— Тебе прежде нравилось работать вместе со мной. Почему же?..
— Нравилось? Да я была просто счастлива, когда мы начали работать вместе. Я долго была счастлива.
— Вот видишь! И я был всегда с тобой счастлив. Как мы хорошо жили, Лёля! Ты вспомни, ну, вспомни, как хорошо! Неужели ты всё забыла?
Оля услышала странный звук — не то мама всхлипнула, не то тихонько рассмеялась.
— Уж я-то ничего не забыла и не забуду… какой я была девчонкой, когда мне поручили написать первый в жизни очерк о приезжем цирке для комсомольской газеты, где я только-только начала работать, и я не вылезала из конюшен, с репетиций. Я влюбилась в цирк, я целую поэму в прозе написала, чуть не пятьдесят страниц, и в газете из неё напечатали сорок строк — вот такую заметочку…
— Да, да… Я работал тогда воздушным гимнастом — "полёт под куполом на трапэ". И мы работали фактически без сетки.
— Пока не вмешалась охрана труда, и ты…
— Да, тогда я потерял интерес к полётам: без риска — это скучно…
— Да, ты такой и был: отчаянный до сумасшествия… И ты меня увёз, и мы поженились.
— Ты сама уехала со мной.
— Полюбила я тебя сама, но ты всё-таки увёз меня, и это ты потом выучил меня стрелять. Я так старалась ради тебя, из любви к тебе.
— Выучил. Вот себе на голову! — довольно засмеялся папа. — Видишь, ты всё понимаешь и помнишь… Лёля, я вас увожу, мы поедем в Ленинград, правда? Ведь я же не могу без тебя!
Оля, не пропуская ни слова, слушала, и ей казалось, что сейчас всё окончится невероятно хорошо, всё уладится, она выскочит из постели и обнимет обоих, и они никогда не расстанутся, все трое. Но что-то похолодело в ней от этих последних, так горячо сказанных слов: "Не могу без тебя". "А без меня он может? Да. Мама без меня не может, а он может".
— И я не могу себе даже представить жизни без тебя, Родя, но я не должна сдаваться ещё раз. Я так много раз тебе уступала.
— Ну вот, ты сама говоришь: не можешь! Ты согласна! Мы опять будем вместе! Едем!
— Нет, Родя родной, нет. Не так всё просто. Люди могут оставаться вместе, когда они в разных городах. И могут стать чужими, когда живут рядом… Наша жизнь с тобой поделена не по-товарищески, не поровну. Ты делаешь своё дело. А я? Сбоку припёка. Я обязана встать на свои ноги, а не жить у тебя за спиной. Это добром не кончается.
— Ты говоришь так, будто я нарочно всё так устроил! Ну, я умел стрелять, а ты нет, вот так и получилось.
— Да, да, это так.
Слышно было, как папа несколько раз нетерпеливо чиркал спичкой, закуривая. Глубоко вдохнул дым и спокойно, рассудительно заговорил снова:
— Верно, ты хорошо теперь стала стрелять. Может, нисколько не хуже меня. Пускай, но пойми: ведь в цирке-то не состязания по стрельбе идут, там номер для публики, важна игра, артистичность, надо чтоб было интересно и красочно, ведь мы роли играем — я стрелок, мужественный охотник, попавший на сцену, а ты его хорошенькая, весёлая помощница. Это всё роли! А без тебя номер потускнел, плохо выглядит, я же вижу! Давай пока поедем и начнём опять вместе работать, у нас будет время подумать, и когда-нибудь после мы придумаем новый номер, только сейчас поедем, а?
Мама тоскливо, умоляюще сказала:
— Родя, ты вспомни, сколько раз у нас такой разговор кончался этим! "Как-нибудь потом". И никогда ничего потом не было. И теперь не будет, если я с тобой поеду. Да мне и нельзя, в шапито я уже дала согласие, и комиссия меня смотрела, мне готовят реквизит, и репетиции назначены.
— Та-ак! И ты мне не написала даже! Здорово!
— Я тебе говорила. Я тебе писала. Ты позабыл?
— Я думал, это так. Мечта. Одна из твоих этих… фантазий.
— Так оно и есть: мечта. Поэтому я от неё не могу отступиться. Другим она пускай кажется маленькой, а мне она дорога.
— Это всё опять-таки хорошо в рассуждениях. А ты подумала, ты уверена, что всё сможешь сама выдержать? Прожить даже одна! Уверена? Уверена?
— Не знаю… Я постараюсь.
— "Постараюсь"!.. Нет, у тебя на уме ещё что-то есть!.. Ты опять?..
— Да, опять. Ты знаешь, я два раза уже бросала заниматься…
— Из-за Оли! Ты из-за Оли тогда бросила!
— Пускай из-за Оли…
— Ты мечтала об Оле! Ты мечтала, что у тебя родится какая-то необыкновенная, сказочная Фабиола, ты ведь её Фабиолой хотела назвать, а вышла обыкновенная, славная Олька как Олька.
— Обыкновенная, моя единственная, любимая девочка… Если хочешь знать, она для меня и есть Фабиола моего сердца…
— Нет, нет, нет! — не слушая, будто уши пальцем затыкая, перебивал папа. — Ты, значит, опять поступила заочно? Зачёты сдаёшь? Предположим, ты доучишься, ты кем же тогда станешь? Как это… филологом или ещё как? Копаться в старине, собирать сказки и присказки и изучать, что там триста лет назад бабы на свадьбах голосили? Этот самый, как его?..
— Фольклор?.. Да, это тоже мне интересно: что думали, какими словами говорили те, кто жил до нас на этой земле.
— И это будет называться "высшее образование"? Чтоб, значит, превзойти! Вот что в тебе сидит! Чтоб ты — выше. А я — ниже. Вот как!
— Когда люди любят одинаково, — тихо и грустно проговорила мама, — они не бывают ни выше, ни ниже.
— Ах, до чего поучительное изречение! Только это как раз тоже из бабьего «фольклора», сказка! Ты опомнись, ведь ты просто пропадёшь одна! Хорошо вам тут жилось зиму?
— Нет, не очень… Плоховато.
— А-а-а! Ты ведь как была, так и осталась, посмотри только на себя — девчонка! Вы с Ольгой в сказочки играли, да сама ты в них и запуталась и увязла! Ты из фантазий-то своих, из этих сказочек слюнявых, наружу выгляни — мир устроен не по сказкам! Из Ольги ещё тоже существо сделаешь такое же! В жизни нужны крепкие нервы и мускулы… А ваших этих мальчиков с пальчиков ногтем давят… Противно и тошно слушать твои рассуждения!..
— Я… — проговорила мама, и по одному этому слову слышно было, как глубоко она обижена, оскорблена.
— Что "я"? — грубо, как никогда, крикнул Родион Родионыч. — Семья у нас или нет? Не нравится тебе работать, сиди дома, если тебе клоун не нравится, я семью всегда прокормлю… Да, и не желаю, раз ты не хочешь, я тоже теперь не желаю… Должен быть в семье один какой ни на есть, а всё-таки хозяин? Который за всех решает…
Мама глубоко вздохнула, перевела дух и почти шёпотом ответила:
— Нет.
— Ах вот как у нас пошло! Нет? Хватит с меня! — вдруг взорвался Родион Родионович. — Кончаем болтовню. Я вас забираю, и мы едем, ясно?
В начале разговора Оля ловила каждое слово, каждую интонацию, потом заметила, что всё как будто повторяется — папа настаивал всё больше, сердился, твёрдым повелительным тоном "мужественного охотника" восклицал: "Нет, я вас забираю!", а мама виновато и мягко стояла на своём, и в конце концов Оле стала сниться какая-то карусель, на которой она несётся по кругу и, пролетая мимо папы, слышит: "Забираю и увожу", а на другом краю мама печально повторяет: "Да, да, это мечта!" А когда она открыла глаза, на стенке сияло яркое солнечное пятно, было утро, мама сидела, опершись локтем о стол, и устало плакала, прикрыв глаза платком, а папа сидел, схватившись за голову обеими руками, стиснув зубы, как будто его больно ударили по затылку и он старался перетерпеть эту боль…
В голове у Оли немножко путалось: что карусель, что правда в ночном разговоре, но постепенно стало вспоминаться, проясняться.
— Доброе утро! — сказала мама. — Сейчас будет готов завтрак!
Глава четырнадцатая
На другой день было воскресенье. Не нужно было даже заглядывать в календарь, чтоб с первого взгляда в окошко убедиться, что сегодня праздник: небо без единого облачка, солнце слепит и сверкает на воде, на каждом стёклышке, на каждой медной ручке.
На водной станции от лёгкого ветерка полощутся вымпелы. Несётся музыка из большого рупора репродуктора, нацеленного на реку, по которой бегут, извиваясь, и вспыхивают солнечные ручейки.
Знаменитый "боцман дальнего плавания" Никифораки ведёт занятия по прыжкам в воду. Он замечательная фигура. Летом на виду у всего города. А где он проводит зимы, кажется, никто не знает или, вернее, никого не интересует.
Но едва наступает тёплое время, Никифораки оказывается на своём посту начальника водно-спасательной станции, и все вспоминают, что он спас в своей жизни больше сорока утопающих — ребят и взрослых, выпивших мужиков, дачниц и купальщиков.
Он стоит на мостках, скрестив могучие руки на широченной груди, и наблюдает за прыгунами в воду. Очень впечатляюще выглядит этот голый человек в одних выгоревших плавках, но с толстыми развесистыми запорожскими усами, среди парней, послушно по его команде взбирающихся по очереди на вышку.
На берегу вокруг станции собралось много зрителей, от обыкновенных любителей, загоравших, как попало валяясь по песку, до сосредоточенных профессиональных загоральщиков, вдумчиво, равномерно поджаривавших себя с разных боков, как хороший повар поворачивает кусочки шашлыка на вертеле над горящими углями.
Больше всего было, конечно, ребятишек, они глаз не отрывали от неустрашимых прыгунов, один за другим поднимавшихся по лесенке, расправив плечи и выпятив грудь. Со стороны и то поглядеть было приятно, с каким молодецким видом они возвышались на площадке над жалкой ленивой толпой, копошившейся далеко под ними внизу, в безопасности, на пляже. С каким презрительным равнодушием шли они навстречу ожидающей их опасности. Как, молодцевато усмехаясь, выходили они на упругую доску, нависшую в высоте над водой, и какими скромными, притихшими, смирными делались они, когда, добравшись до её конца, становились спиной к краю пропасти. Как бесконечно долго переминались и топтались, будто бы нащупывая некое идеальное положение для ног, на самом же деле просто собираясь с духом, чтоб преодолеть овладевшую ими постыдную нерешительность…
Наконец, собравшись с силами, они отталкивались — доска их подбрасывала вверх — и, перекувырнувшись в воздухе, летели в воду.
Одни с коротким всплеском вонзались в воду и уходили в глубину, точно рыба, выскользнувшая из рук рыбака, и тогда Никифораки снисходительно бурчал: «Угу». Другие бухались с шумным всплеском, вздымая фонтаны брызг. Каждый такой прыжок Никифораки, не повышая хриповатого голоса, отмечал, точно беспристрастно ставил отметку: "Бегемот поскользнулся!" И это было ещё не так плохо. Куда хуже, когда он хрипло изрекал: "Тётя Мотя!" Но хуже всего было: "Тётя Мотя вместе со своим комодом". Это была позорная оценка.
Так и в это воскресенье всё шло по заведённому порядку: бесстрашные молодцы поднимались на вышку, заробевшие парни ёжились и мялись перед прыжком, но выныривали на поверхность после прыжка все до одного бесстрашные молодцы, готовые тут же, без раздумья снова бежать на вышку. И бежали. И всё опять повторялось.
Вдруг Никифораки, грозно нахмурясь, крикнул:
— А это что? Убрать этого… — и, не докончив, замер с открытым ртом.
На верхней площадке появилась тоненькая маленькая фигурка в купальном костюмчике.
— А-а-а… Олька?.. — ахнули в изумлении глазевшие на занятия ребята.
Маленькая фигурка быстро прошлёпала босыми ногами на самый конец доски, повернулась спиной, без всяких раздумий качнула доску и, когда её подбросило, отлично сгруппировавшись в комочек, скрутила отличное сальто в воздухе.
Если бы после этого у неё под ногами оказалась земля, она, наверное, прекрасно стала бы на ноги. Но с вышки Оля прыгала впервые в жизни, и, вместо того чтоб стать на ноги, она неуверенно, медленно продолжая вращаться, полетела вниз, к воде.
Счастье ещё, что перед тем, как удариться о поверхность, она инстинктивно снова сжалась, схватилась руками за коленки и пригнула голову.
Вода всплеснулась фонтаном, и Оля исчезла под водой. Никифораки мгновенно молча нырнул за ней следом, но она уже всплыла, отпихнула его рукой, когда он, как котёнка, подхватил её под мышки.
— Пусти, я сама, — сказала она. — Чего пристал! — и потеряла сознание.
Она пришла в себя через две минуты, лёжа на твёрдой койке в дощатой «каюте» Никифораки на мостках водной станции.
С самого утра, после ночного разговора отца с матерью, она была в отчаянном настроении. Ей всё казалось, что то, что она недослушала, проспала, было ещё важнее, ещё хуже того, что слышала.
Ей всё хотелось натворить что-нибудь… Она сама не знала что, до тех пор пока не увидела вышку. Вот тогда-то она, не задумываясь, пробралась к лесенке и крутанула отчаянное сальто…
Теперь она чувствовала лёгкую слабость и обалдение, и на душе стало спокойнее и как-то легче. Что-то успокоилось в ней, улеглось. Она лежала не двигаясь, смотрела на круглое окошко каморки-каюты, чувствовала лёгкое покачивание мостков, как будто и вправду куда-то плыла. Это приятно успокаивало, и от сердца немножко отлегло.
— И вот гляди-ка, такой червяк и вдруг как сиганёт с самого верху!.. Будешь ещё?
Оля собралась с силами и ясно выговорила:
— Не червяк.
— Ну, червячишка. Будешь?
— Буду.
— Вот как хорошо! Значит, так: сообщу в школу, потом родителям расскажу про твой подвиг. Ведь разбиться могла. Шею свернуть. Пузо отшибить.
— Я сгруппировалась.
— Ух ты, погляди!.. Он ещё технические выражения пускает, червячонко-то этот!.. А где ты сальто крутить выучилась? На земле?
— С мешка, на земле.
— Я вижу. С мешка ты бы на ноги пришла, а тут высота, до воды лететь и лететь, ты соображаешь?
Оля кивнула и села на койке, тараща глаза, и помотала головой, проверяя, не кружится ли.
— Ты это всегда такая отчаянная?
— Нет, по настроению.
— Так, придётся сперва тебя к родителям отправить, а потом с ними вместе в школу.
— Да вы даже моей фамилии не знаете.
— Узнаю.
— Откуда же?
— А ты мне сама скажешь.
Она посмотрела на его могучие усы и хитро, сомнительно прищурилась.
— В голове пчёлы жужжат? — спросил Никифораки.
— Уже почти перестали… А вы откуда знаете?
— Сам когда-то дурак был. Шлёпался.
— Ага! — сказала Оля и причмокнула. — Не пойдёте вы в школу жаловаться. А зовут меня… пожалуйста, Оля, фамилия Рытова.
— Так и запишем. Рытова, Ольга… А почему это ты воображаешь, что я не пойду?
— У вас вид, внушающий невольное доверие.
— Что-о-о? Это ещё что такое?
— Возможно, это усы у вас такие, внушающие.
— Что? Какие усы?
— Такие, очень злодейские. Какие бывают… Ну, он будто разбойник, а на самом деле добрый.
— Это такое подхалимство, хитрая ты червячина!
— Нет, это точно. Я проницательная. Если подхалимство, то разве самую капельку…
— Ну, больше прыгать не будешь? Обещаешься?
— По правде? Буду. Мне, кажется, понравилось. Ну, без вас, потихоньку больше не буду. А вы обещайте меня червяком не называть, ладно?
Глава пятнадцатая
До тех пор пока не изобретён прибор, измеряющий силу, напряжение и горечь человеческого горя (а его, кажется, ещё не начали изобретать), невозможно решить задачу, чьё горе горше, чьё меньше, чьё больше: А, выехавшего из пункта Б, или В, отправившегося ему навстречу из пункта Г.
Некоторые полагают, что у маленького человека и горе должно быть меньше, а у большого — больше. Ну и очень глупо полагают, думала Оля, сидя на краю обрыва в том месте, откуда они спускались купаться к реке ещё в те дни, когда ходили мимо Танкреда.
Папу они сегодня проводили на вокзал, и он уехал в Ленинград один. Вид у него был замкнутый, но ещё больше оскорблённый, когда он прощался с мамой.
В самый-самый последний момент мама что-то сказала очень тихо. Пана ответил: "Зачем?" Мама ещё тише ответила ему, и он отчётливо проговорил, тоже вполголоса, но Оля-то расслышала: "Когда ты одумаешься, напиши первая…"
А на Олю он как будто и внимания не обратил: чмокнул в щёку, погладил по затылку какой-то деревянной, неласковой рукой и сказал, чтоб она слушалась маму — вполне нелепые слова: они с мамой друзья, и верят друг другу, и любят, и Оля уже не маленькая, так что это «слушайся» показывало, что папа просто позабыл, что ей уже не три, не пять, не семь лет.
Главное же, он понимал — она вся целиком на стороне мамы, и этого ей не прощал. Ей было жаль, что он уезжает, ей хотелось его утешить, обнять, сказать, что она его всё-таки любит, но всё равно она не за него, а за маму. И она не посмела броситься к нему на шею, а тоже чмокнула в щёку и даже не заплакала.
А потом вот ушла на обрыв, села и всё это стала вспоминать и вспомнила заодно и Танкреда, и вдруг так его стало жаль, что вслух проговорила:
— Милый, бедный Танкреша! — и от этого разревелась вслух.
И тогда до смерти стало жалко и папу, как он говорил: "Я вас забираю, и точка!", всё повторял эти непреклонные и повелительные слова, такие жалкие, когда он сам уже чувствовал, что ничем он больше не повелевает…
У обрыва появился Володя. Он давно повсюду её разыскивал, пока не догадался пойти к обрыву.
Он подошёл и сел шагах в пяти от неё, на край, и стал смотреть на реку, стараясь не замечать её рёва.
Немного погодя Оля вздёрнула нос, размазала ладонями слезы по щеке и сказала в воздух:
— Нигде человеку не дадут побыть одному.
— Знаешь, когда ты прыгнула… ну и нырнула, я думал, у меня в животе что-то лопнуло. Вот испугался!
— Ну и сидел бы с лопнутым животом, а сюда зачем пришёл?
— Тебя искал. Думаю: куда ты могла уйти? А потом думаю: ты, наверно, Танкреда вспомнила.
— Танкред тут при чём?
— А мне тоже, когда очень грустно или нехорошо, я почему-то вспоминаю Танкреда.
— Ну, нашёл. А дальше что? Чего тебе от меня надо?
— Тебе жалко, что папа твой уехал?
— Ну что, если жалко?
— Ничего. Мне тоже жалко… Я и подумал: ты сидишь одна, переживаешь.
— Так ты что, меня жалеть пришёл? Ну и уходи отсюда! Никто не имеет никакого права меня жалеть без моего разрешения… всё равно не имеет! — с ожесточением закричала Оля, топнула ногой, совсем позабыв, что та висит в воздухе над обрывом. Нога дрыгнула в пустоте, и Оля чуть было не съехала вниз под откос. Володя кинулся и, ухватив её за руку, удержал на месте.
Оля заглянула вниз. Откос был песчаный, но довольно крутой, поросший кое-где колючими кустиками. Съехать вниз было не опасно для жизни, но исцарапаться и оборваться можно было здорово.
— Дура, свинья необузданная… — презрительно заключила Оля. — А у тебя в животе как? Опять лопнуло что-нибудь?
— Нет, сейчас ничего. Тут же не разобьёшься.
— Так понял, что я тебе сказала: никто меня не смеет жалеть!
— Ну, больше не буду… А он тебя очень любит? Папа?
— Он любит маму. А меня так себе. Любит не потому, что это я, а потому, что я имею какое-то отношение к маме. Никого он, кроме мамы, на свете не любит… не любит!.. Нет… не любит… — горько морщась, всё прерывистой дыша, повторяла она.
— О, ты не плачь только, ну, пожалуйста, а то я не знаю что… Ты, значит, его любишь… А он тебя?..
Сквозь слезы, со всхлипыванием она прерывисто выпаливала то с отчаянием, то с ожесточением:
— Он мне никогда ни одного слова не сказал, не разозлился! Не обругал! Он со мной одинаковый всегда! Он меня только жалеет! Хоть бы одно несправедливое слово крикнул за всю жизнь!.. Лучше бы стукнул как следует, и потом мы бы помирились. Не желаю, чтоб меня вот просто так жалели!..
Володя плаксивым, жалобным от сочувствия голосом, растерянно и умоляюще ныл:
— Ну не надо!.. Ну уж так-то не надо!.. Ну ничего!.. — Раза два даже попробовал её погладить по затылку, но сам испуганно отдёргивал руку. — Ну, ты не отчаивайся, раз ты его любишь, он потом, может, тебя тоже полюбит. Как это так?.. Тебя-то? Ну, обязательно.
— Мало ли, что я его люблю! — отчаянно мотала головой Оля. — А жаления мне не надо!.. Мало ли кто любит, я тебя тоже люблю, а жалеть меня всё равно не позволю… Не могу я этого выносить… Знаешь что? Давай мы вот сейчас рассоримся на всю жизнь! Давай! Сию минуту!
— Не желаю. Что ты, с ума сошла? Ссориться!
— Почему ты какой-то такой. Я тебе вот что… А ты не обижаешься. Ты тупой, что ли?
— Обижаюсь. Мне очень обидно. Как это не обижаюсь?
Оля повернулась и долго, внимательно посмотрела ему прямо в лицо. Потом уронила голову себе на плечо и ещё поглядела на него сбоку.
— Ну, не сердись. Я же тебе сказала, что я необузданная свинья. Не сердишься?
— Что ты, даже наоборот.
Ей легче на душе стало, когда она выговорилась и отревелась. Она даже улыбнулась, несмело и смущённо.
— А как это бывает наоборот?.. Ну ладно, молчи… Знаешь, раньше хорошо было. Люди сначала все говорят друг другу «вы», а подружатся и переходят на «ты». А мы сразу начали на «ты», нам и менять нечего. Хочешь, будем на "вы"?
— Не выйдет, пожалуй, у нас.
— Вот до того угла наперегонки!.. Бежим!
Они бросились бежать до углового забора и остановились, запыхавшись.
— Владимир… как?..
— Степаныч.
— Степаныч, начиная от этого угла я разрешаю вам говорить мне «ты». Исключительно в виде почтительного знака дружбы. Хотите?
Глава шестнадцатая
Мама прошла последнюю комиссию, её хвалили, но режиссёр ещё хотел порепетировать с двумя клоунами, и подобрать музыку, и кое-что доделать в реквизите.
Каждое утро мама уходила на репетиции, а по вечерам в доме было тише и грустнее, чем в первые дни приезда.
Родион Родионович, как и обещал, писем не присылал. Вместо них изредка приходили на имя Оли открыточки и несколько слов — холодные и равнодушные, как счёт за электричество. Он глубоко чувствовал себя оскорблённым и твердо, непоколебимо ждал, пока ему не уступят. Вот он и напоминал об этом короткими открыточками, как бы подтверждая, напоминая, что он остаётся и останется твёрд, но от семьи-то ведь не отказывается!
Настроение у мамы было очень тихое и грустное. Хотя она и добилась своего — вот-вот должна была начать наконец работать самостоятельно.
До того грустное, что она, по своему обыкновению, как это не раз уже с ней бывало, вместо занятий подолгу засиживалась, рассеянно улыбаясь над своей «задумчивой» тетрадью в клеёнчатом переплёте, опять сочиняла или дописывала на свой лад, как всегда, что-то вроде продолжения какой-то сказочки. Писала она не так уж много, но часто подолгу лежала ночью с открытыми глазами, обдумывая, что будет дальше.
— О чём будет сказка? — допытывалась Оля.
— Не знаю, что получится… наверное, о человеке, который не любил никого, кроме…
— Самого себя?
— Нет… Просто он ничего и никого не любил на свете, кроме… может быть, одного человека. Никого, ничего…
— Он был злой?
— Нет, вовсе нет. Но, наверное, нельзя жить равнодушным ко всему миру, ко всем людям, любить только одного и только для себя… Да, сказки смешно объяснять. Я её уже да-ав-но начала… Если что-нибудь получится, я тебе дам прочесть.
И вот какая на этот раз получилась у неё сказка.
Глава семнадцатая
Жил на свете Король, до того бедный, что приходилось ему самому косить сено, сажать репу и капусту на огороде. Королевство-то у него ведь было совсем маленькое: начиналось у проезжей дороги, да тут же неподалёку и кончалось, сразу за пригорком у ручья. На другом берегу начинались уже владения богатого Царя.
Да и подданных у бедного короля было только двое: Королева-жена и маленький сынок — Бедный Принц.
Каждый день, как только вставало солнце, маленький Бедный Принц просыпался на сеновале и сразу впрыгивал в старые отцовские штаны (они были ему до того велики, что приходилось их подвязывать ремешком прямо под мышками), натягивал короткий отцовский камзольчик, свисавший ниже колен, и мчался вприпрыжку на границу королевства к ручью.
А в то же время из калитки с чёрного хода замка богатого Царя украдкой вышмыгивала Маленькая Царевна.
Одним духом взбежав вверх по склону, она останавливалась, жмурясь на солнце, протирая заспанные синие глазки, и весело оглядывала пригорок, сплошь поросший васильками. Их синие головки волнами ходили, покачивались от ветерка, будто перебегали с места на место, играя в прятки среди зелёной травы. Маленькому Бедному Принцу казалось, что это не цветы, а весёлые синие глазки девочки разбегаются по всему пригорку, и он смеялся от радости.
Дети встречались у ручья, брались за руки и начинали играть, перепрыгивая с одного берега на другой: из королевства в царство… из царства в королевство — ведь детям это хоть бы что!
На девочку, к счастью, не очень-то много обращали внимания в царском замке. Держали в дальних родственницах из милости при царском дворе, а в царскую квартиру почти никогда не впускали.
Одевали её в обноски других дальних родственниц. А так как она была не только самая дальняя, но и самая маленькая из всех дальних родственниц, платья вечно волочились за ней по земле, а маленькие ножки то и дело выскакивали из просторных чужих расшлёпанных башмаков.
Довольно забавная была эта пара: маленькая дворовая Царевна и Бедный Принц — штаны под мышками, с соломинками в волосах, похожий на Кота в сапогах. Но они очень любили друг друга, и им было всегда весело вместе.
Девочка была такая весёлая, что стоило самому чёрствому, грустному, мрачному или унылому человеку минутку поглядеть в её смеющееся личико, как он уже не мог удержаться и совершенно против воли начинал улыбаться, посмеиваться, хихикать или хотя бы криво усмехаться — уж кто на что был способен!
До того она была ласковая и добрая, что лесные птички на лету присаживались к ней на плечи расколоть семечко, а зайчата кувыркались и играли в пятнашки, путаясь у неё под ногами — просто как будто за человека её не считали!
Однажды случилось несмышлёному воронёнку шлёпнуться из гнезда. Что за переполох поднялся в лесу! Старые вороны, в отчаянии хлопая крыльями, носились взад и вперёд, истошно вопили на весь лес, совсем потеряв голову от страха, что кто-нибудь обидит или съест их чёрного как уголь долгоносого красавчика, ангелочка!
Маленькая Царевна воскликнула:
— Что-то случилось там нехорошее у ворон! Бежим поскорее на помощь!
— Какое нам дело до ворон! — сказал Маленький Принц.
Но Царевна побежала на крик и увидела воронёнка, который сидел в траве, беспомощно растопырив крылья, и никак не умел взлететь с земли.
Как только Маленькая Царевна подобрала воронёнка, старые вороны сейчас же перестали метаться и бесноваться и хлопать крыльями — успокоились и, усевшись над её головой на ветку, стали одобрительно бурчать и поскрипывать, поглядывая сверху то одним, то другим глазом на своего сыночка в её руках, доверчиво дожидаясь, пока она его подсадит на ветку повыше. А ведь всем известно, что ворона — самая недоверчивая на свете птица!
Да что там говорить про ворон! Старые, облезлые ведьмы, царские фрейлины, насквозь изъеденные завистью и злостью, точно плешивая шуба молью, и те щипали её не очень больно, встречая где-нибудь в коридоре!
В дождливую погоду, когда нельзя было играть на лугу, Принц потихоньку пробирался через чёрный ход в заброшенную башню замка, дети доставали два огрызка карандаша и с двух сторон на одном листке бумаги рисовали картинку.
Многие тысячи ребят в разных странах рисуют точно такие картинки, как только им попадается лист бумаги или пустая страничка в скучной книжке.
Сначала рисуется квадратик — это стена домика. В него врисовывается узенький квадратик и ещё два поменьше с крестиками — это дверь и два окошка. Потом появляется крыша с трубой, из которой петельками вьётся дым, улетая прямо в небо, где застыли, взмахнув крыльями, две птички, очень похожие на те, что учителя ставят на полях школьных тетрадок, отмечая строчку с ошибкой.
Иногда они пририсовывали двух человечков, мальчика и девочку, которые, взявшись за растопыренные руки, стояли у входа в домик, а сбоку ещё какую-нибудь собачку с крендельком хвоста или ослика с очень длинными ушами и ещё обязательно высокий, как пальма, цветок с большими лепестками. Изгибаясь на длинном стебле, он склонялся над зелёной крышей.
Каждый лепесток был пёстро окрашен в другой цвет у этого удивительного цветка, и рядом с ярко-жёлтым дымком из трубы это выглядело очень приятно. Сам домик был голубой, дверь синяя, собачка розовая, а ослик переливчатый, потому что ему доставалось по пятнышку каждой краски. У самой двери домика начиналась дорога. Она выливалась, как ручей, прямо из дверей и уходила направо вверх, в бесконечную даль двумя извилистыми линиями, которые всё сужались, сужались, пока не сливались в ниточку. Потом и ниточка пропадала за волнистой линией горизонта, как раз там, где из-за холмов выглядывал краешек ярко-красного восходящего солнца с малиновыми лучами ровно такой длины, сколько хватало места на бумаге.
Но в башне ребят ловили за рисованием, и Принц скатывался с лестницы с горящими ушами, придерживая штаны, а Маленькую Царевну с громким шипением щипали ядовитые ведьмы-фрейлины.
Листок отнимали, рвали в клочки, сжигали в печке, но дети не очень горевали — они считали его волшебным, несгораемым, неистребимым. Да ведь так оно и было!
Стоило им добыть новый листок, они присаживались рядом, высунув кончик языка, и разом с двух сторон мгновенно всё начинало возникать снова: домик, цветок, окошки, взвивался дым петельками из трубы и дальняя манящая дорога вилась, уходя к неведомым холмам, из-за которых выглядывал круглый краешек солнца. Всё было снова на месте, сколько ни сжигай бумажек!
Чем больше их колотили и щипали, чем чаще запирали, не позволяя играть вместе, тем горячее они мечтали, что найдут когда-нибудь путь в ту долину за холмами, где стоит и ждёт их домик, где вьётся дымок из трубы, и когда они постучатся в дверь, кто-то им ответит: "Добро пожаловать домой!" И тогда всё разом хорошо станет на свете.
Незаметно шли годы. Конечно, не стоило бы об этом упоминать: годы — ведь это такая штука, что всегда идут совершенно незаметно. И делаются заметны только после того, как уже прошли.
И вот в один прекрасный день они вдруг заметили, что прежние длинные платья стали впору тоненькой Маленькой Царевне, так она вытянулась. А отцовский короткий камзол перестал болтаться ниже колен Бедного Принца, а сидел как влитой, туго натянулся на его широких плечах. И они с изумлением посмотрели друг на друга. С этого дня Бедный Принц ничего не видел на свете, кроме Маленькой Царевны, ходил и спотыкался обо все кочки, как слепой, потому что неотрывно смотрел ей в глаза.
Однажды, когда они гуляли по лесу, она сказала ему "Ш-ш-ш!" и показала на красную птичку. Тихонько смеясь от удовольствия, она любовалась тем, как та встряхивает алым хохолком, проворно вертит голубой гибкой шейкой, посвистывает, играя, топорщит переливчатые крылышки, блестит чёрными живыми глазками.
— Она тебе нравится? — радостно спросил Бедный Принц и, мгновенно натянув лук, пустил лёгкую стрелу.
Птица замолкла, уронила голову и, сбивая с веток цветки, упала в траву.
— Вот возьми, теперь она твоя! — сказал Принц.
Маленькая Царевна нежными руками подняла мёртвую птицу.
— Какой ты сделался злой!.. Ведь я её любила, и она правда была моей, когда прилетала сюда, весело чирикала. и я ей радовалась, а ты её у меня теперь отнял… Я теперь вижу, какой ты стал! Ты никого на свете не любишь!
— Как это так? — упрямо сказал Бедный Принц. — Ведь тебя-то я люблю! Одну на всём свете… А кроме тебя? Конечно, никого!
Что правда, то правда, и в самом деле никого и ничего на свете он не любил, кроме Маленькой Царевны!
— Ах, вот оно как? Тебе теперь, наверное, ничего не стоило бы вот так же подстрелить и нашу птичку, которая всегда летает над крышей домика? Да?
— Какую птичку? Что?.. — удивился Принц и вдруг расхохотался: — Фу-ты! Разве она настоящая? Она же бумажная, нарисованная!
Маленькая Царевна побелела от обиды.
— Ах, они для тебя стали бумажные? Так нам с тобой и говорить не о чем! Я постараюсь нисколько не горевать из-за того, что Царь запретил тебя пускать в ворота! Я даже постараюсь совсем почти не плакать! Вот и прощай!
И она ушла, стараясь отогреть в ладонях птицу, и горько плакала, глядя, как тускнеют её маленькие, только что такие весёленькие чёрненькие глазки.
На другой день, когда Принц попытался войти в замок, он увидел, что ворота заперты, на стенах стоят воины с натянутыми луками, а чёрный ход заколочен досками.
Тогда он, дождавшись темноты, бросился в реку и подплыл к высокому обрыву, над которым возвышалась толстая каменная башня царского замка. Как кошка вскарабкался он к её подножию и полез, цепляясь за стебли дикого винограда. Чем выше, тем тоньше становились стебельки и наконец стали обрываться у него в руках.
Бедный Принц в отчаянии, закинув голову, посмотрел туда, где в ночном мраке чуть светилось узенькое окошко, так высоко, что выше были видны только облака и звёзды.
— С Осликом повидаться охота? — спросил тоненький, скрипучий голосок.
Маленький, ростом с белку, ярко-зелёный старичок с жёлтой бородёнкой весьма легкомысленно раскачивался прямо у него над головой, на гибком стебельке, точно на качелях.
— Я должен добраться до окошка, чтоб увидеть Маленькую Царевну, — еле выговорил Бедный Принц, цепляясь из последних сил.
— До Ослика!
— До Царевны!
— Царевна тю-тю! Теперь она ведь Ослик! Ну, так и быть, цепляйся! Можешь попрощаться! — проскрипел старичок, сочувственно почмокал губами, подал ему длинный стебель винограда и, не обращая на него больше внимания, опять принялся все сильнее раскачиваться, высовывая от удовольствия кончик языка и переливаясь всеми красками.
Принц ухватился за узловатый стебелёк — тот держался на удивление крепко. Тогда он смело полез дальше по отвесной стене. Стебельки похрустывали у него в руках, но не обрывались, только становились всё тоньше и наконец кончились, разбежавшись паутинными жилками с молодыми верхними листочками.
Но, однако, окно было уже так близко, что руками можно было дотянуться. Он тихонько позвал Царевну и сейчас же услышал шорох — она услышала! Он позвал ещё раз и услышал, как она тихонько вздохнула у самого окна и как будто испуганно прошептала: "Нет-нет!" Но он всё звал, умолял, и ему наконец показалось, что она вздохнула: «Хорошо», и в узеньком проёме окошка появилась голова. Глаза влажно блестели, отражая свет звёзд. Голова грустно вздохнула, а заплаканные глаза с бесконечной грустью глянули ему в лицо так, что он едва не выпустил стебелёк, на котором еле держался. На него нежно и печально смотрела, кротко и беспомощно моргая, голова Ослика с подстриженной чёлкой.
— Ты?.. — спросил Принц, выпучив глаза.
И Ослик кивнул головой, уныло прижал длинные ушки и вздохнул так печально и безутешно, как может только человек в глубокой тоске или же ослик в сильном горе.
Звёзды запрыгали у Принца в глазах, руки задрожали, стебли скользили и рвались у него в руках, как варёные макароны, он сорвался, да так и зашуршал с башни сквозь густую листву, бухнулся прямо в реку и ушёл под воду, пока не коснулся дна.
Только там он опомнился, отчаянно заработал руками, ногами и всплыл на поверхность. Весь мокрый, еле живой, он поплёлся домой, забрался на сеновал, упал без памяти и в ту же минуту увидел сон: зелёный старичок с морковной бородёнкой сидел у него на груди, потихоньку дёргал его за нос и так и переливался из одного цвета в другой.
"Это ты натворил? — гневно воскликнул во сне Принц. — Это ты, проклятый колдун, превратил её в Ослика? Отвечай или я тебя сию минуту убью!"
"Ой-ой-ой, как мне жутко, как боязно, как страшно! — Старичок весь перекосился, задрожал, чтоб показать, до чего он испугался, и, заливаясь весёлым хихиканьем, стал переливаться всеми цветами радуги от смеха. — Вот твоя благодарность! Я ведь тебе помог попрощаться!.. А теперь уж и Ослик тю-тю! Прогнали его из замка! Выгнали!"
Старичок вдруг весь потух и исчез, а вместо него Принц увидел картинку, такую знакомую, что чуть не проснулся от радости. Всё было там на своём месте: как всегда, там была такая тихая погода, что дымок петельками спокойно уходил в небо. И только по нарисованной дороге что-то двигалось! Это был маленький Ослик. Он медленно брёл, опустив голову. На минутку он приостановился, печально оглянулся на прощание и, спотыкаясь, уныло зашагал дальше, туда, где дорога сходилась в одну чёрточку… ниточку… Скоро он превратился в крошечную букашку, которая вскарабкалась на холм и скрылась за горизонтом.
Бедный Принц закричал во сне, проснулся, вскочил и чуть было не бросился догонять печального Ослика… Но ведь Ослик был на картинке, а сам он бесновался и кусал себе кулак от бессилия на самом обыкновенном сеновале!
Наутро Бедный Принц опоясался тяжёлым отцовским мечом, попрощался с родителями и отправился на поиски.
Шёл он днём, шёл ночью, шёл летом и шёл зимой, прошёл многие города и царства. В одних люди плясали, прыгали через костры и пели развесёлые песни, и его радушно приглашали повеселиться и выпить вина, потому что у них праздник. Но он говорил: "Какое мне дело до вашего праздника!" — и проходил мимо, только расспрашивал всех встречных, не видали ли они маленького одинокого Ослика.
Но все пожимали плечами и отвечали, что осликов в их краях не водится, а если и встречаются, то очень-очень редко.
В других царствах полыхали пожары — воины с криком торжества лезли на стены городов, размахивая оружием, а горожане с воплями отчаяния сталкивали их вниз. Одни кричали Бедному Принцу: "Идём с нами! Будет богатая добыча!", а другие: "Помоги нам защитить город!"
Но он говорил: "Какое мне дело до ваших пожаров и городов!" — и шёл дальше, расспрашивая только, не видал ли кто маленького одинокого Ослика.
Ведь он всей душой любил только свою Царевну, а всё остальное на свете было ему совершенно безразлично.
Однажды вечером, когда солнце садилось за каменными пиками скал, а студёный ветер метался по чёрным безлюдным ущельям, он услышал стук копыт по мёрзлой, обледенелой дорожке, прилепившейся над пропастью.
Навстречу ему выехал из-за поворота хмурый надменный рыцарь на громадном белом от инея коне.
— Прочь с дороги! — презрительно приказал рыцарь и, видя, что Бедный Принц не торопится прыгать под откос, чтоб освободить проезд, наклонил копьё, собираясь поддеть Принца и столкнуть в пропасть.
Бедный Принц отпрыгнул и ударом меча перерубил древко копья. Он даже не успел рассердиться и, пока рыцарь с удивлением разглядывал оставшийся у него в руке обрубок деревяшки, собрался было пройти мимо своей дорогой.
Но тут он увидел, что следом за знатным рыцарем едет на коне его оруженосец, нагруженный копьями, кинжалами и латами, а за тем — оруженосец оруженосца — жирный детина на маленьком Ослике, которого он совсем придавил к земле. Маленькие копытца мелко постукивали, скользя и разъезжаясь в стороны на оледенелой, гладкой, как стекло, дороге, тонкие ножки то и дело в изнеможении подгибались, и он кое-как полз вперёд только потому, что седок непрерывно нахлёстывал его по ободранным бокам веткой колючего терновника. Ослик на минуту поднял понурую голову, и глаза, полные такой печали и жалобы, глянули на Бедного Принца, что он заскрежетал зубами и, размахивая мечом, набросился на всех троих разом.
— Не давай ему убежать! — рычал рыцарь, стараясь подальше просунуть руку с мечом через голову оруженосца.
Жирный малый хватил изо всех сил топором по тому месту, где только что стоял Бедный Принц, и растянулся плашмя на земле. Принц вырвал из рук оруженосца копье и одним ударом выбил рыцаря из седла, так что тот с грохотом и лязгом, будто громадный самовар, покатился, подпрыгивая на камнях, вниз. Оруженосец, спасаясь от ударов меча Принца, сообразил, что лучше лететь под откос вперёд ногами, чем головой, и прыгнул вслед за своим господином.
А жирный оруженосец оруженосца, распластавшись на толстом брюхе, так жалобно и кротко умолял пощадить его, что Бедный Принц, которому было некогда, не останавливаясь, на ходу, лёгкими ударами меча сделал две крестообразные отметки на его жирной туше.
От таких ран люди не умирают, но очень-очень долго уже не могут ездить, сидя верхом на маленьких осликах. Не могут сидеть на самых мягких креслах, даже подложив толстую перину. И спать могут только лёжа на животе.
Бедный Принц бросился на колени перед Осликом, поднял его усталую голову и заглянул в его заплаканные глаза.
— Это ты? Я тебя наконец нашёл! Скажи, это ты?.. — спрашивал он, вглядываясь Ослику в его скорбные глаза, и целовал его в спутанную чёлку на горячем лбу, гладил его и сам плакал от жалости и сострадания. — Это ты, моя бедная заколдованная Царевна-Ослик? Дай мне знак, что ты меня узнаёшь!
И Ослик кивал головой, вздыхая.
Принц сорвал и швырнул в пропасть седло, поднял Ослика на руки и пошёл дальше, бережно прижимая его к сердцу. И, совсем изнемогший от усталости и мучений, Ослик кротко уронил свою голову ему на плечо.
Бедный Принц унёс своего Ослика далеко от студёных и голых скал в тихую зелёную долину, развёл костёр, чтоб его обогреть, и, ужасаясь, кусая губы от жалости, упрашивал потерпеть. Промыл кровоточащие живые раны на его натруженной спинке, на исхлёстанных колючками боках.
Ослик мелко задрожал, устало заморгал, вздохнул и вдруг стал тихонько валиться на бок.
В испуге Бедный Принц кинулся его поддерживать, сорвал с себя плащ, подложил Ослику под голову и целую ночь, не отходя ни на шаг, поглаживал длинные ушки, заглядывал тревожно в глаза, когда они чуть приоткрывались, и всё время настойчиво, горячо умолял:
— Только ты не умирай, моя дорогая! Соберись с силами, скажи себе: я не желаю умирать!.. Ну хоть ради меня не умирай. Я теперь понимаю, как ужасно больно, как обидно, как невыносимо, когда тебя считают несчастным Осликом. Теперь я тебя никому не дам в обиду. Мы никогда не расстанемся!.. Как ты могла убежать после того, как проклятый колдун тебя обратил в Ослика, а я тебя увидал в окне! Неужели ты могла подумать, что я брошу тебя в несчастье? Не найду, не узнаю тебя, в какой бы образ тебя ни обратил волшебник?
Наутро Ослик не мог подняться на ноги, и Бедный Принц поил его из рук водой из ручья, размачивая корки хлеба, и рвал для него пучки сочной травы.
Ослик понемногу ел и снова ронял голову, но глаза не закрывал, моргал и смотрел на Бедного Принца.
— Знаешь, как я тебя узнал? — говорил Бедный Принц. Сразу как только всмотрелся в твои глаза! Тебе очень больно, обидно и плохо, тебе хочется, чтоб тебя поняли и погладили, не обижали, и ты терпишь, не можешь ничего сказать словами! Только глазами! А кто станет вглядываться в глаза ослику? Я и людям-то не очень любил всматриваться в глаза!..
Мало-помалу Ослик окреп и повеселел. Стал скакать по лужку, весело брыкаться и с удовольствием жевать репейник. Потом он возвращался к Бедному Принцу и ласкался к нему.
Принц очень привязался к своему Ослику, но чем больше приглядывался, тем больше его одолевали сомнения.
— Ты хороший, очень хороший, я тебя очень люблю… — гладил он Ослика. — Но теперь-то ты уж мог бы дать мне какой-нибудь верный знак? Подожди, не балуйся, я тебя спрашиваю: это правда, ведь ты… ты Царевна-Ослик?.. Кивни головой два раза и стукни копытцем, и я всё пойму!
Но Ослик шаловливо хватал его за руку мягкими губами, прядал длинными ушами, и Принц грустно улыбался и сомневался всё больше.
В одно прекрасное утро к ручью с горки вскачь скатилось целое весёлое семейство лохматых, взъерошенных, шустрых диких осликов.
Заколдованный Ослик Принца сразу узнал своих, да и лохматые его узнали и как обрадовались!
— Ну что ж, — сказал Бедный Принц, глядя, как его Ослик, не оглядываясь, мчится вместе со всеми другими. — Беги, дурачок, я уж давно догадывался, что ты простой, обыкновенный, очень обиженный, но ни капельки не заколдованный, бедный ослик.
Глава восемнадцатая
Ещё в те дни, пока Родион Родионович был в городе и Оля часто и надолго уходила из дому, они с Володей забирались на самое высокое место над обрывом, круто срывавшимся к реке, и, лёжа в траве, читали вслух.
Книги приносила всегда Оля. И читала всегда она. Володя уверял, что от его голоса книги делаются скучнее, а если он пробовал читать за женщин, они получались всегда грубиянками, самому слушать противно.
Оля хохотала над ним и сама читала с удовольствием.
Вокруг примятой книжкой травы у них перед самыми глазами покачивали своими вершинками дикие колоски, метёлочки, зонтики, пальмы, лопушки в ровных круглых фестончиках, плоские хлыстики, изогнутые стебельки с яркими глазками, пушистые мягкие ёлочки: целый волшебный травяной лес в царстве карликов!
В траве шла своя жизнь, какой-то почти невидимой насекомой мелочи, там стрекотало, а в воздухе стоял немолчный звон, разные букашки деловито карабкались, куда-то пробираясь по стволам травы, деловито шевелили усиками. Шмели с сердитым гудением носились с цветка на цветок, точно искали потерю, и, не найдя, опять дудели в свою дудочку и мчались искать дальше.
Под вечер на страничку раскрытой книжки ложились тени от трав, а у их подножий темнело — значит, у гномиков начинались сумерки, и они, наверное, спешили с работы к себе домой, во всяком случае, всё это так было, когда уже долго времени спустя после отъезда папы Оля, медленно и слегка таинственным голосом дочитав сказку про Царевну-Ослика, сорвала, закусила травинку и замолчала, точно позабыв, что рядом Володя. На самом деле она чутко, со всем напряжением ждала, что он скажет. Пожалуй, это было вроде испытания для него.
— Откуда ты это переписала? Из книжки?
— Это ста-арая! — равнодушно протянула Оля.
— А больше там ничего нет?
— Зачем тебе? Хватит.
— На этом и кончается? Нет, у тебя там дальше что-то записано.
— Мало ли что у меня там записано… Может быть, кухонный рецепт… Как приготовить тесто для пирога с уксусом, чтоб противные люди к тебе больше в гости не ходили.
— Ты нечестно увиливаешь. Я тебя вполне серьёзно спрашиваю. У меня есть мысль. Честно!
— Честно? Тайна. А какая у тебя мысль?
— Тайна.
— Поменяемся? Тайну на тайну?
— Идёт.
— Ты первый открывай.
— Ладно. Только, чур, не издеваться, если я ошибусь… Я так подумал… а вдруг это твоя мама.
— Мама. Ну так что?
— Ну, я тебе скажу, у тебя и мама!.. Знаешь, вообще мне мамы редко какие правятся. Ну уж твоя!
— Тебе бы такую, а? — Оля, искоса поглядывая, хмыкнула и минуту, прищурясь, молчала, как будто улыбаясь, но не открыто, а про себя. Она так умела усмехаться внутрь себя, а не наружу. — Ничего, хватит с тебя и моей. Она тебя любит.
— Вот так хватанула. С чего это ты взяла? Я с ней и разговаривал-то совсем мало.
— Неважно. Мало!.. А я-то? Я всё ей про тебя рассказываю, вот ты ей и нравишься. Она говорит: дружи, он очень-очень славный.
— Даже не понимаю. Чего про меня можно рассказывать?
— Да ничего не рассказываю. Ты гляди, ещё задаваться начнёшь. Просто говорю, что было у меня сегодня, вчера… Всякое. Куда ходим, что говорим, как у тебя живот лопнул из-за меня, как Зинка меня ненавидит, а я чихаю на неё, как ты меня любишь, ну, разное, в общем, всё…
Володя, вдруг сбычившись, то есть нагнув голову так, что подбородок упёрся в грудь, мрачно пробурчал:
— Я… кажется, ничего… этого, такого… не говорил…
— А зачем это тебе надо говорить? Как будто я так не знаю! — Она закатилась весёлым смехом, не сразу смогла остановиться и, всё ещё досмеиваясь, еле проговорила: — А то кто бы стал терпеть да ещё так всегда защищать такую… противную, необузданную!
— Ничего я не… ничего особенного… А раз ты была права…
— Да ничего же подобного! Я и не права была вовсе, а ты всё-таки был на моей стороне. Когда человек прав, все нормальные люди на его стороне, а ты-то думал, что я вру и неправа, и всё равно стоял за меня… Если хочешь знать, у меня даже фотографии были, как мы со слоном играем, а я удержалась, нарочно не показывала… Чтобы наказать себя, потому что это такое стыдное хвастушество… а во-вторых, мне хотелось посмотреть, как ты себя поведёшь… Это мама мне сказала, конечно, что показывать фото — это продолжать ещё хуже хвастаться. А насчёт тебя — это я сама задумала…
— Ну ты и хитрющая, оказывается, а я ничего не замечал, что ты нарочно.
— Да я не задумываю ничего, то есть не сразу, а когда начались карикатуры, вся петрушка, я подумала: дай посмотрю, как ты себя покажешь.
— Уж ты… всё равно хитрила, это разве красиво?
— Ты вспомни, когда это было! Я же тебя совсем почти не знала, ты мне как чужой был. Разве теперь я стала бы!.. Хотя ничего… я и теперь могу немножко вот так… — Она прищурила и хитро скосила глаза, точно исподволь присматриваясь.
— Подглядывай, подглядывай, я не боюсь… А я заметил: ты приносишь сюда книжки, которые уже раньше читала. Ведь тебе, наверное, это неинтересно во второй раз?..
— Наоборот. В первый раз мне было неинтересно.
— Ну, это ты так говоришь!
Оля перевернула вверх ногами и положила тетрадку на землю и долго соображала. Неуверенно начала объяснять:
— Понимаешь, как будто я где-то побывала. В каком-то месте, где разные люди… дома… самолёты, разговоры… подвиги, корабли и всякие приключения, я всё это видела и знаю. А потом привела туда тебя и всё тебе показываю, и мне интересней вдвое, чем самой, и за тебя нравится и что тебе нравится… я запуталась…
— Нет, ясно. Как яблоко, вкусно, и, если поделиться половинкой с другим, тебе и за него вкусно. Ну не очень-то с каждым, конечно!
— Значит, сам понимаешь! Вот видишь. А мамина сказка тебе понравилась, ты всё понял, что там?
— Она про любовь… А какая это любовь, когда он только одну свою царевну любит, а там города рушатся, а ему хоть бы хны… только бы на неё любоваться.
— Сообразил, понял, только больше ничего не надо говорить. А то как на уроке получится, сказки расшифровывать нельзя — они тогда разваливаются… Как у Анны Иоганны: почему автор вывел ослика, а не козлика.
— Ох, с этой Анной Иоганной! — сморщился и даже слегка зарычал Володя, точно наткнулся на что-то очень противное. — Сидит она у меня, как гвоздь… Пока мы были ещё не очень… то есть я не уверен, так думал, позабуду…
— Что ты размямлился? Ты прямо по-русски скажи.
— Я и говорю, никто меня не тянет. Знаешь, по-моему… нет, наверное, так и есть: она всё слышала… Ну эта самая, чтоб ей, Анна Иоганна, немка наша, когда у нас урок вместо русского проводила.
— Что слышала?
— Как ты её начала передразнивать мартышками, весь класс хохотал, как полоумные, а я даже на парту вскочил и видел через верхнее стекло в двери. Она, знаешь, в коридоре постояла, послушала и ушла. Наверное, слышала.
— Ну и что? Когда это было! Я и думать позабыла! Да я чихала на это… И я же не знала… Может, она ничего не поняла.
— Нет уж, если слышала… Ты ведь здорово похоже её передразнивала.
— А что теперь я могу сделать? Только настроение испортилось. И в школе всё равно уже никого нет. Да и что я могу? Извиниться? А может, она не слышала.
— Слышала… А я знаю, где она живёт.
— Что ты ко мне пристал? Тебе что, её жалко?
— Нет, она зануда. Я только из-за тебя. Я тебе могу показать. А ты просто зайди.
— Отстань, вот ещё командовать вздумал.
— Я долго не знал, говорить тебе или нет. Значит, не надо было.
— Вот и испортил всё… Сказать ты был обязан. Фу, как всё противно стало. Я уверена была, что её нету близко.
— Сходим?
— Отстань, тебе говорят.
— А может, лучше сходить?
— Ты что, поссориться хочешь?
— Сходим, я тебя отведу и за забором в кустах тебя подожду!
— Вот прилип, противный какой! Хуже Иоганны, сам Щепка-мочалка.
Глава девятнадцатая
— Вот, отсюда меня не будет видно. Я тут сяду в засаду, буду вести наблюдение и тебя дожидаться, хорошо? — Отворачивая лицо и осторожно раздвигая какие-то удивительно колючие кусты, Володя боком втиснулся в самую их гущину и присел на корточки. — Всё вижу: и двор, и терраску, ты знай, я всё время отсюда тебя буду поддерживать… Хочешь, буду время от времени подавать какие-нибудь сигналы? Например, козой блеять. Или совой… или лучше петухом?
— Нет, — хмурясь, сказала Оля. — Ты так просто сиди и всё время думай, как я там мучаюсь. И смотри туда, ладно? А теперь — не отвлекай меня! — Оля крепко сжала губы, зажмурилась на минуту и пошла через дорогу к домику, окружённому кустами, за штакетным забором. Отворила калитку и медленно двинулась по дорожке, посыпанной песком, к терраске странной походкой, как будто боясь расплескать чашку с водой на голове. Она н в самом деле боялась расплескать свою уверенность, заготовленные вежливые слова и весь свой спокойный, невозмутимый вид, прикрывавший жутковатое беспокойство.
Она шла к Анне Иоганне извиняться. Шла по своей воле и как будто против воли шла. Против своей маленькой воли, повинуясь главной, большой воле.
Слова были приготовлены такие: "А-а, добрый день Анна Иоганна, извините, что я вас беспокою, я на одну минуточку, я должна только сказать вам, что я один раз, это было давно, вас передразнивала в классе, мне очень стыдно, пожалуйста, вы меня извините". Анна Иоганна скажет в ответ: "Ты хорошо, честно поступила, Оля, я на тебя больше не сержусь". И с облегчённым сердцем они с Володей поскачут вприпрыжку обратно.
Анна Иоганна вышла на крыльцо, чуть было не начала спускаться к ней навстречу, да так и запнулась в неудобной позе — одной ногой ступив на нижнюю ступеньку. Брови у неё от удивления совсем уехали наверх и глаза округлились, даже руки слегка растопырились — с таким удивлением она смотрела на то, как шла к ней Оля, такая скромная, сдержанная, вежливой неторопливой походкой, похрустывая негромко туфлями по песчаной дорожке.
Вечно невозмутимая, наглухо запаянная, неприступно спокойная, Анна Иоганна, Щепка-мочалка, как остроумно её называли ребята за худобу и рыжеватые жидкие волосы, эта самая "старая немка" стояла теперь в испачканном землёй фартуке, на одну руку у неё была напялена брезентовая рукавица, в другой она держала громадные ржавые садовые ножницы, и, самое поразительное, волосы у неё были растрёпаны, как у последней девчонки, подравшейся с кем-нибудь на перемене.
Только что Оля шла сюда, собранная, сурово сосредоточенная, пожалуй слегка восхищаясь своим честным и благородным решением, в особенности потому, что «немка» была «противная», занудливая, прилизанная, — и вот, не доходя трёх шагов до крыльца, она почувствовала, что всё приготовленное в ней путается и расплёскивается. Она прежде никак не могла себе представить, что "старая немка" может быть растрёпанной, испачканной, хотя и невозмутимой. По правде сказать, она не замечала даже того, что у той есть ноги, не думала, что руки её могут делать что-нибудь другое, кроме того, что держать книжку немецкого диктанта или перо для исправления тетрадок. В голову не приходило, что та — пожилая, усталая женщина. Вот до той самой минуты, как она увидела её на крыльце! И это её до невозможности озадачило.
— Оля?.. Ты что? Неужели ко мне?.. — Анна Иоганна громадной негнущейся рукавицей попыталась поправить причёску. — Что-нибудь произошло?
Оля с удивлением услышала, как она сама выговорила, нет, как-то само собой у неё пролепеталось:
— Не произошло ничего… Это просто так… Навестить…
"Что это я бормочу?" — подумала Оля с раздражением, сделала отчаянное усилие вспомнить и начать своё приготовленное, но тут произошло такое, что всё сбилось окончательно: Анна Иоганна вдруг покраснела от удовольствия, засмущалась, что Оля это заметит, и поспешила отвернуться.
— Входи, входи, — ласково говорила она Оле, сама уходя в глубь терраски. — Папа, ну что же вы забыли? — И, как будто обращаясь к ребёнку, весело продолжала: — А ручки-то помыть? Кто позабыл?
Худущий, долговязый старик поднялся из-за накрытого стола, куда он было уселся и взялся уже за кофейник, сокрушённо покачал головой, разглядывая свои громадные ладони, перепачканные в земле, и, продолжая сокрушаться, скрылся в дверях. Не успев опомниться, Оля оказалась за столом. Анна Иоганна познакомила её с отцом, который очень скоро вернулся с плохо вымытыми руками, и громко объяснила по-немецки:
— Эта девочка из школы, моя ученица., папа! Она пришла меня проведать!
— А, вот оно как? З-оо! З-оо! — С шумным одобрением папа через стол протянул и потряс Олину руку так, что чуть не опрокинул кофейник. Он говорил по-немецки, но так, что даже Оля понимала. Он ещё сказал, что это очень хорошо, что она пришла, очень «красиво» и ещё в таком роде добавил, чего она уже не поняла.
Папа Иоганн увлёкся кофе, налитым для него в большую чашку, которую он подносил ко рту, держа обеими руками, но не забывал улыбаться то Оле, то дочери, прихлёбывая с наслаждением и прикусывая рассыпчатый, домашнего печения кренделёк.
Анна Иоганна вполголоса объяснила:
— Папа очень пожилой человек, последнее время совсем позабыл, разучился говорить по-русски. Он не совсем был здоров и вот позабыл. До этого он больше двадцати лет немножко говорил по-русски, и вот теперь к нему вернулся язык его детства. Странно, да?
— Как это интересно! — не очень находчиво сказала Оля. — А крендельки вы сами печёте? Какие вкусные!
— Да, для отца. Пфефферкухен, с перцем, это ведь тоже крендельки его детства, я для него их делаю.
— Как зовут девочку? — громогласно, как говорят тугие на ухо, вопросил папа.
— Девочку зовут Оля! — по-немецки стала отвечать Анна Иоганна.
Отец с одобрением сказал, что это очень-очень милое и красивое имя, и девочка тоже милая и хорошо воспитанная, и дочь ему ещё долго что-то оживлённо рассказывала про школу.
Анна Иоганна сидела за столом уже без фартука и причёсанная, но Оля всё не могла в себя прийти от странного чувства растерянности и раздвоенности, точно у неё перед глазами были две Анны Иоганны, и обе не в фокусе, расплываются и никак не сходятся в одно чёткое изображение.
Ведь мы же её всем классом не любили! А почему? Правда, над ней легко было посмеяться, она, конечно, чем-то располагала к этому, но главное, когда-то, кем-то было решено, что она "немка-Щепка-мочалка", — и, значит, нечего её любить, а можно смеяться, и все знали это, и Оля знала, что это «можно» и всем понравится. И она, не рассуждая, думала и делала то самое, что, наверное, порешили и чему поверили ребята в школе когда-то, задолго до того, как Оля в первый раз пришла в класс.
А теперь Анна Иоганна водила её вокруг домика, стоявшего за оврагом, на самой окраине города, и показывала кусты смородины и грядку с морковкой, и потом с испуганным и счастливым лицом подвела её к заднему крыльцу.
Там удивительно маленький, видно ещё совсем глупый, ёжик, не обращая внимания на то, что рядом стоят и разговаривают люди, не отрываясь сосал молоко, уткнув мордочку в глиняное блюдце. Он очень старательно сосал, но молока в блюдце как будто и не убывало.
— Он ещё очень плохо умеет, — объяснила Анна Иоганна. — Это его большой сюда привёл и показал. А большой — это старый знакомый!..
Садик был маленький, они скоро обошли вокруг всего дома и опять увидели папу на терраске. Он, держа за ручку кофейник, наливал себе вторую чашку, подставив под кончик носика палец, чтоб не пролить, потому что руки у него дрожали.
— Я уже говорила, до болезни он мог говорить по-русски… А теперь он немножко позабыл. Он был ведь совсем пожилой человек, когда его забрали в германскую армию кайзера Вильгельма и отправили на Украину. В гарнизон одного маленького местечка. Он был каменщик по профессии, и он там помог сложить некоторым людям печки и трубы очень хорошего образца, как он умел делать. Ну, и в конце концов остался в России. А я жила у своей тётки в Халле и училась. С большим трудом он меня выписал к себе. Когда я приехала, он хотя немножко смешно, но уже неплохо говорил по-русски… Он и сейчас старается и некоторые слова вдруг вспоминает… Он называл себя, в шутку конечно, "военнопленный доброволец"… Да… Он так шутил прежде… Он ненавидел юнкеров… ну, понимаешь, всю эту прусскую военщину и кайзера Вильгельма…
— Кайзер Вильхельм? Пфуй! — радостно провозгласил и плюнул папа.
Он спустился в садик и, вежливо улыбаясь, постарался поддержать разговор. Он ещё что-то говорил по-немецки, вроде бы хвалил и дочь и Олю.
— Я очень рада, что ты вспомнила меня и зашла, Оля. Такая неожиданность! Правда, очень мне приятно! — говорила Анна Иоганна, провожая Олю к калитке.
И тут Оля вдруг, неожиданно для себя, воскликнула:
— Ах, вот, кажется, и он! Вечно опаздывает! Мы ведь к вам вдвоём собирались, а он, наверное, застеснялся, что опоздал. Володя, вы помните Володю?
— Ну как же! Где же он? Почему он стесняется? — делая совсем уж круглые глаза, восклицала Анна Иоганна.
А Оля побежала к колючим кустам, где сидел в засаде Володя, громко крича:
— Володя, Володя! Ну, не стесняйся! Иди сюда скорей!
Осторожно выпутываясь из колючих зарослей, красный от злости, он шипел:
— Ты что, взбесилась? Что ты орёшь! Услышат же!.. Олька!
— Вылезай и признавайся, что опоздал! Иди поздоровайся!.. — прошипела в ответ Оля и тут же громко, весело крикнула: — Ну, так и есть! Он тут! Всё стесняется!
Володя, погрозив исподтишка ей кулаком, выкарабкался на четвереньках, встал на ноги и, приглаживая на ходу взъерошенные волосы, подошёл к калитке.
Анна Иоганна приветливо, с укоризненной усмешкой издали качала головой, ласково приговаривая:
— Ай-ай-ай! Такой большой мальчик и стесняется больше, чем девочка!.. Папа! Это тоже один мальчик из школы, который пришёл меня навестить! Это очень приятно, не правда ли?
Папе тоже было очень приятно.
Все сначала здоровались, потом тут же у калитки долго прощались, и ребята обещали больше не стесняться и приходить ещё, потому что это ведь всем очень-очень приятно.
Дойдя до угла, Оля обернулась, остановилась и помахала на прощание рукой.
— Обернись сейчас же! — быстро сказала она Володе.
— А вот не желаю, даже не подумаю! — зверским голосом буркнул Володя и обернулся.
Папа стоял в калитке и всё ещё кивал головой, как заводной, им на прощание.
Володя поднял руку и деревянным движением, точно отмахивался от пчелы, помахал в ответ.
Когда они отошли уже довольно далеко, молча и не глядя друг на друга, Оля устало вздохнула:
— До чего же тебе меня убить хотелось, когда ты выцарапывался из колючек!
— Лучше помолчи, а то мне опять захочется, — угрюмо ответил Володя, и некоторое время они шли опять молча. — Ты хоть объясни, что это там у вас произошло?.. Ты у неё прощения хоть попросила?
— Я даже себе не могу всего объяснить… Прощения? А чего оно стоит?..
— Она тебе мораль читала?
— В тыщу, в мильон раз хуже: она мне обрадовалась. А про мартышку она, по-моему, даже и не слыхала… или… не знаю, но дело совсем не в этом… Одним словом, ты должен тоже к ней зайти хоть разок. И я должна.
— Что-о-о?.. Это ещё зачем?
— Просто так. Как навещают знакомых.
— Это чтоб я?.. Опять к Мочалке?
Оля молчала, шла, думала.
Глава двадцатая
На другой день они снова забрались на свой пригорок над обрывом. Оля положила перед собой тетрадку и, не раскрывая её, смотрела на другой берег реки, где по ровной зелени луга лениво разбрелись и почти не двигаясь стояли пёстрые коровы.
Маленький чёрный буксир-работяга упрямо тянул за собой большую толстую ленивую баржу с флажком на кривом шесте.
— За то, что ты не злишься, я тебе прочту всё до конца.
— Почему это ты так решаешь? Я злюсь.
— Тогда сейчас перестанешь.
— Ага, там, значит, не рецепт уксусного пирога, а продолжение?
— Какой догадливый малютка.
Оля развернула и полистала тетрадь:
— Сначала? Или прямо сразу дальше?
— Лучше сначала, как они рисовали одну картинку вместе… Я тоже такие рисовал, когда был маленький… Только я один рисовал, это совсем хуже… то есть не то… А если б мы знали друг друга маленькими, ты согласилась бы тогда рисовать вместе, а?
— Да, — спокойно сказала Оля и начала читать сказку, всё прочитанное сначала. Потом то, что было дальше.
…И вот Бедный Принц снова пустился в дорогу и шёл, пока не стемнело, и тогда ему навстречу стали попадаться целыми толпами испуганные и усталые люди.
— Не встречали вы по дороге маленького Ослика? — спрашивал у них Бедный Принц.
Но испуганные люди, сгибаясь под тяжестью узлов, только вздыхали и спешили дальше.
Вскоре он увидел множество воинов, которые сидели в темноте, в грязи, уныло повесив головы, на краю оврага.
На дне оврага дымил маленький костёрчик из сырого хвороста.
Около него сидел бородатый человек в перепачканной бархатной мантии, грел у огня ладони и хныкал. На коленях у него лежала зубчатая золотая корона.
Сразу можно было догадаться, что хныкающий бородач — Король, только совсем раскисший.
— Храбрые воины, вы не видели маленького Ослика с большими глазами? — спросил Бедный Принц.
- Где это ты увидел воинов? — прохныкал в ответ Король. — Это просто трусы и собаки, они убежали от врага и бросили свой город без защиты. Да и ты, если пойдёшь по дороге дальше, угодишь прямо в лапы врагов.
— Какое мне дело до ваших врагов, — равнодушно сказал Принц и пошёл дальше и всё шёл, пока не споткнулся обо что-то лежавшее поперёк дороги.
У себя под самыми ногами он услышал плач, такой тоненький, будто это маленькая птичка тянула жалобную песенку, а не ребёнок. Но это был всё-таки ребёнок — очень маленькая растрёпанная девочка. Она сидела, нагнувшись над лицом своей матери, которая лежала прямо посреди дороги, разметав в пыли пышные волосы. Об неё-то и споткнулся Бедный Принц.
Бедный Принц нагнулся и дотронулся до лба лежащей женщины. Лоб был холодный, неживой, а из груди торчала боевая стрела.
Девочка невыносимо тоненько тянула одну-единственную птичью нотку и всё старалась двумя пальчиками как-нибудь хоть приоткрыть слипшиеся веки матери.
"Некогда мне тут останавливаться, — нетерпеливо подумал Принц. — Какое мне дело…" — и тут нечаянно заглянул в заплаканные глаза девочки. В них играли красные, как кровь, точки далёких костров победителей и светились спокойные отблески всех звёзд неба, которые почему-то с такой невыносимой, сияющей ясностью отражаются в горько заплаканных детских глазах.
Он вдруг сразу точно узнал глаза своей единственной, своей возлюбленной Маленькой Царевны — до того они были похожи на все в мире глаза, полные горя, страдания и немой мольбы о помощи.
Бородатый Король всё ещё хныкал, сидя в грязном овраге, когда Бедный Принц вернулся к нему обратно.
— Эй, Король! Где твоё славное войско? Давай мне его.
— Вот оно кругом сидит, моё бедное, разбитое войско.
— Ничего ты не понимаешь, — сказал Бедный Принц. — Это храбрые, неукротимые воины, которым нужно было немного отдохнуть. Вот теперь они отдохнули и сейчас ударят по врагам и сотрут их в порошок!
— А что? — нерешительно заговорили воины, поднимая головы и переглядываясь. — Коли возьмёмся, то и сотрём!
— Это он правильно говорит, что мы храбрые, — вздыхали другие. — А всё-таки отчего же нас так побили? Вот что удивительно!
— Эх, вы! — крикнул Бедный Принц. — Стадо в огонь и воду бросается за трясущейся бородёнкой старого козла! А войску нужно видеть предводителя во время боя! Пошли за мной! Нам туда по дороге.
Воины бородатого Короля покатились со смеху и начали подниматься с земли.
— За мной, неустрашимые, хмурые львы! — выкрикнул Водный Принц.
И хмурые львы подтянули перепачканные в грязи и глине во время бегства штаны и двинулись следом за Принцем.
Воины шагали, едва поспевая за Бедным Принцем, по той самой дороге, по которой недавно убегали от врага.
Было совсем темно, так что можно было еле разглядеть несчастных беглецов из города, женщин и ребятишек, теснившихся по краям дороги, но воины слышали их робкие, сперва удивлённые, потом неуверенно-радостные возгласы и всё больше хмурились и ускоряли шаг. А Бедному Принцу всё время светили издали заплаканные до звёздного сияния глаза девочки.
Часовые у костров, заслышав их приближение, затрубили во все трубы тревогу. Враги схватились за оружие, и впереди всех вышел Железный Рыцарь, весь закованный от макушки до пят в железо.
Железный Рыцарь глазам не поверил, увидев, что прямо на него идёт какой-то Бедный Принц в потёртом кожаном камзольчике, с войлочной шапочкой на голове. Они столкнулись, но неравный это был поединок. У Рыцаря в сердце было одно презрение, жадность, тщеславие и жестокость. А сердце Бедного Принца нестерпимо жгли своим светом горько заплаканные детские глаза. И очень скоро воины услышали вдруг такой звон и гром, что долго потом в воздухе гудело, точно медный колокол бухнулся с колокольни на каменную мостовую, — это рухнул Железный Рыцарь.
Разгоревшаяся битва быстро стала стихать — враги не привыкли сражаться без своего Железного Рыцаря и скоро стали проситься в плен.
Королю доложили, что его войско одержало победу. Он вылез из оврага, надел корону, приосанился, торжественно въехал обратно в столицу и уселся на свой старый трон в окружении толпы придворных.
— Ну-с! — милостиво спросил он Бедного Принца. — Можешь требовать награды, чего пожелаешь. Могу отсыпать тебе половину моих сокровищ!
— Какое мне дело до твоих сокровищ! — сказал Бедный Принц и пошёл своей дорогой, опять расспрашивая у всех встречных, не встречался ли кому серый маленький Ослик.
Пока он шёл, слава о нём всё время мчалась, обгоняя его, точно верная собака впереди своего хозяина.
Ещё издали заслышав о его приближении, все оруженосцы уже начинали, снимая шляпу, желать доброго утра своим осликам и, вежливо кланяясь, спрашивали, хорошо ли им спалось ночью.
Бывало, что жители целой округи выходили к нему навстречу, слёзно умоляя избавить их от своего владыки, какого-нибудь Великана, дочиста обжиравшего все окрестные деревни, так что самим мужикам приходилось есть траву.
— А Ослика вы не видели? — первым делом спрашивал Бедный Принц.
Жители сокрушённо отвечали, что им очень-очень хотелось бы помочь ему отыскать ослика, но, как на грех, ни один не забрёл в их края. Принц вздыхал, но не отвечал им: "Какое мне дело до вашего Великана", а молча натягивал железные перчатки.
Он набрасывался на громадного, толстого Великана, после жестокого боя обращал его в бегство и загонял прямо в самую глубь пустыни, где тому некого и нечего было объедать, кроме кустиков с кислыми ягодами.
Попостившись на скудных пустынных харчах, Великан начинал понемногу усыхать и съёживаться и, вот что самое удивительное, становился ростом ничуть не больше самого обыкновенного мужичонки. И людям просто не верилось, что они считали его когда-то Великаном и дрожали от одного его вида!..
К тому времени родители Бедного Принца состарились и умерли, и всё его крошечное королевство от дороги до ручья заросло ежевикой и чертополохом.
Да и сосед их, старый Богатый Царь, давно помер, и все его близкие родственники тоже. Потом перемёрли и все дальние родственники, и вдруг до Бедного Принца дошла весть, что Маленькая Царевна стала единственной наследницей всего царства и замка и её заставляют выбрать себе мужа… Постойте-ка, а как же заколдованный Ослик? Да никто никогда и слыхом не слыхал, чтоб Царевну кто-нибудь превращал в ослика!
И вот однажды, поздним-поздним вечером, когда луна ярко светила над репейно-ежевичным королевством, Бедный Принц отворил дверь опустелого отцовского дома, переступил через порог и увидел, что Маленькая Царевна стоит у окна. Она спокойно обернулась и равнодушно спросила:
— Ах вот оно что? Ты всё-таки решил вернуться? Ты, говорят, вволю попутешествовал?
— Я тебя искал все эти годы. Меня обманули, что ты заколдована. А тебя собираются выдавать, я слышал, замуж?
— По закону, считается, что я должна не позже чем завтра выбрать себе какого-нибудь мужа: герцога, барона или маркиза. В замке их сейчас уже полным-полно, вся прихожая битком набита. Вот я и зашла в эту пустую хижину немножко отдохнуть в тишине.
— Ах вот как! — сказал Бедный Принц. — Мне очень жалко, что ты не сделалась в самом деле осликом.
— О-о! Так ты смеешь меня ещё и оскорблять! Осликом!
— Они мне очень нравятся, я их полюбил, — сказал Принц.
— Ха-ха… — с трудом выговорила Маленькая Царевна. — Ха-ха! Ха-ха-ха!.. Просто ты с удовольствием поверил глупому обману, чтоб поскорей удрать отсюда и поискать себе королеву покрасивей!.. Ну, а теперь прощай! У меня ведь свадьба завтра.
— Прощай! — сказал Принц, не оборачиваясь.
— Я ухожу совсем, навсегда, так что навсегда прощай!
— Навсегда прощай!
— Ну вот мы и попрощались навсегда. — Маленькая Царевна надменно рассмеялась и пошла к двери, но вдруг заметила у печки какой-то завалявшийся с давних пор уголёк. Она брезгливо взяла его двумя пальцами — пф-ф-ф! — сдула с него пыль и насмешливо прищурилась. — А вот тебе и загадка на прощание! — Одним движением очертила углем кружок на белой стенке хижины в том месте, где на ней сияло голубое пятно лунного света из окошка.
— Трудная небось загадка для всех твоих сорока четырёх женихов! — презрительно сказал Принц, довольно невежливо выхватил у неё из рук уголёк и мгновенно пририсовал к кружку четыре больших лепестка.
— Ну, это не так уж трудно было догадаться, даже тебе, — сказала Маленькая Царевна и добавила к цветку высокий изогнутый стебель.
Молча они стали по очереди перехватывать друг у друга уголёк, и минуты не прошло, как в голубом пятне луны возник домик с двумя окошечками и дымком из трубы, и бесконечная дорога ручейком вылилась прямо через порог и побежала, извиваясь, к далёким холмам у горизонта, где всходило солнце.
Конечно, они не умели уже рисовать так хорошо, как в детстве, но картинка получилась, в общем, неплохо.
Наконец появился и ослик, но до того уж коряво нарисованный, что похож он был, пожалуй, то ли на очень длинноухую белку с пушистым хвостом, то ли на очень маленького старичка с пушистой бородой, просто трудно было разобрать, тем более что он не стоял смирно, а всё время переливался. Прямо сразу весь так и зарумянился от смеха, едва они успели его дорисовать, потом вдруг заструился разноцветными фонтанчиками и весь пошёл сверкать и поблёскивать искорками инея, а бородёнка, та сама по себе переливалась радугой.
— Это ты, обманщик? — спросил Принц.
— Обманщик? А кто же ещё? Я самый и есть! — самодовольно пошлёпывая губами, гордо подтвердил старичок и шаловливо стал так переливаться сверху донизу, как будто весь состоял из кипящих стеклянных горшочков с самыми яркими красками.
— Там были когда-то ещё мальчик и девочка с растопыренными ручками, — сказал Принц.
— Но теперь-то их там больше нет! — сказала Маленькая Царевна.
— Да вы оглянитесь, — сказал старичок.
Они оглянулись и увидели длиннокрылых птиц, плывущих у них над головой в синем безоблачном небе, заметили, что стоят, схватившись за руки, и узнали свой домик и дымок, убегавший вверх из трубы, и длинную манящую дорогу к далёким холмам на горизонте, где вставало громадное, великолепное солнце, веявшее на них весенним теплом. Воздух был прозрачен и чист, как в детстве, а под ногами у них вместо утоптанного пола заброшенной хижины шелестели травы, обрызганные утренней росой.
— Добро пожаловать домой! — сказал старичок очень приветливо.
Маленькая Царевна, растерянно озираясь, попыталась сказать:
"Кажется, я нечаянно схватилась за твою руку — это только потому, что я боялась упасть!" И сама с удивлением услышала, что вместо этого выговорила совсем другое:
— Если бы ты не вернулся, солнце для меня больше никогда бы не взошло!.. Ой, что это я такое сказала?..
Пёстрый старичок прожурчал:
— Да ведь тут притворство не получается. Захочешь соврать, а выговоришь правду. Такая уж тут страна.
А Бедный Принц в это время хотел сказать Маленькой Царевне вот что:
"Знаешь, я не смог перестать тебя любить, даже когда думал, что тебя превратили в ослика. Я так долго вглядывался и искал повсюду твои глаза, что наконец стал их узнавать везде — ведь все на земле заплаканные от горя глаза так похожи друг на друга!" Вот что хотел сказать Бедный Принц. И так у него всё и получилось. Слово в слово. Потому что это было самой истинной правдой!
— Какое счастье, что нас наконец пустили в эту прекрасную счастливую страну! — восторженно, протягивая свои тонкие ручки к Бедному Принцу, воскликнула Маленькая Царевна, и от её слов сразу сто лепестков стали распускаться на высоком стебельке цветка.
— А что тут удивительного? — усмехнулся старичок. — Хо-хо! Чудесная страна! Ха! Манящая дорога! Да ведь вы же сами всё это нарисовали!.. Да и меня, кстати, тоже!
— Ты читал книжки про любовь? Много? — задумчиво спросила Оля, когда они кончили чтение.
— Чита-ал! — пренебрежительно прогнусавил Володя. — Буза! Или скука.
— Какая-то путаница с этой любовью. Напутали, наверное, ещё при феодализме, а всё никак не распутаются… Ну, что это такое: кто-то кого-то любит и вот почему-то он пыхтит? Сядет обязательно ей письмо сочинять. Пишет и рвёт, ещё напишет и опять порвёт и всё тужится высказаться, мямлит-мямлит… А она? Почему-то моргает, глазами хлопает, вся вспыхивает, а молчит, дожидается, чтоб обязательно он ей что-нибудь первый вякнул!.. А он сидит и письма рвёт, и вот у них ужасная драма получается, тьфу!
Володя слушал с напряжённым вниманием. После сказки все слова приобретали какой-то новый смысл, ему очень нужно было вслух выговорить то, о чём он, как и все другие его сверстники, говорить не умел. Высмеивать эти слова было легко. А найти и сказать ой как трудно!
— Ффф-ф!.. — Володя точно вынырнул из-под воды на последнем дыхании. — Я не феодал. Верно? Чёрт его знает отчего, а правду говорить всего труднее. Я даже и не выговорил бы первый, если б не ты. А ведь это правда. Ты знаешь, какая ты? Я даже не мечтал, что такие бывают, честное моё слово! Прямо я даже изумляюсь… Чтоб тем более девчонка… тьфу, вот слово на язык налипло… девочка, а такая замечательная. Во всём даже!
Оля слушала внимательно, вдумчиво.
С некоторым сомнением спросила:
— Может быть, тебе это так кажется просто потому, что ты меня любишь, а на самом деле я так себе?
— Ничего мне не кажется. Вижу всё прекрасно. Я даже твою маму теперь люблю, хотя её каждый дурак полюбит. Как её не любить?
— Ну, нашёл с кем сравнивать! Маму, конечно… А ты знаешь? Ведь нам через месяц отсюда уезжать. С цирком.
— Уезжать?.. Нет, этого я не могу… Тогда и я… Пускай ну хоть за слоном ухаживать меня возьмут. Или в конюшню… Я работу знаю! Пока у бабки корова была, кто за ней ухаживал? Один я. Даже доить прекрасно умею! Даже и не думай, что я тут сидеть останусь. Даже невозможно!
— Да, — задумчиво хмурясь, медленно наклонив голову. кивнула Оля. — Да, конечно!
Глава двадцать первая
Самый день, когда по радио объявили, что началась война, Оля потом никак не могла отчётливо вспомнить.
Фашистские войска перешли нашу государственную границу, самолёты стали бросать бомбы на наши города. Это всё стало известно в тот день, и Оля была уверена, что с той самой минуты, как это случилось, всё в жизни должно перемениться — ведь война началась! Не в кинофильме, а в самом деле.
Да, всё как будто стало другим, и всё же осталось, как было вчера: на базаре торговали зелёным луком, редиской, молоком. Во дворе у хозяев квохтали куры, а на водной станции купались ребята, трамваи ходили, как всегда, и кинотеатры по вечерам были открыты.
Однажды очень рано утром со стороны железнодорожной станции несколько раз что-то негромко ударило.
Скоро стало известно, что это такое, и ребята ходили смотреть на неглубокие ямы около железнодорожного полотна. Они тянулись цепочкой, на ровном расстоянии шагов за пятьдесят от рельсов — следы от какого-то фашистского самолёта, издалека прилетевшего ночью с этими маленькими бомбочками, наверное, с целью посеять панику. Одна яма около болота уже наполнилась водой, и на краю сидела лягушка, задумчиво соображая, годится ли это для купания.
Володя волновался, не находил себе места: ведь надо было что-то делать? А что? Парни гораздо старше его ходили в военкомат проситься на фронт. Военком с ними и разговаривать не стал — отмахнулся.
Однажды Володя пришёл хотя и угрюмый, но уравновешенный — его взяли в авторемонтные мастерские, учеником.
— А меня туда возьмут? — деловито спросила Оля.
— Знаешь, там такие штуки… Физическая сила требуется. Мне даже тяжело бывает. Ты представляешь, например, коленчатый вал? Его поднять да отнести.
— Ну, не целый день у вас там все валы таскают с места на место. Я могу какие-нибудь гайки, шпунтики заворачивать, которые полегче.
Володя отчаянно заскрёб в затылке и сморщил всё лицо набок, прижмурив один глаз, — у него всегда это означало самую крайнюю степень тягостного переживания.
— Всё равно не берут девочек.
— А вдруг? Почему это ты так воображаешь?
— Ну не берут, я же тебе говорю… Не берут!.. Ну, неужели я не спрашивал!.. А вы от отца не получили ещё письма?
— Нет ещё… Да разве сейчас до писем. Наверное, никто и не получает. Правда?
— Ясное дело! Кто это сейчас будет письма писать!
Он высмеивал чудаков, которые в первые же месяцы так вот и приготовились письма читать, хотя знал уже многих, кто действительно стал получать письма. Он стал придумывать и находить всё новые доказательства того, что сейчас думать о письмах просто даже смешно: там бои кипят, пулемёты строчат, бьёт артиллерия, танки грохочут, а вот он сидит тут и письма пишет? Глупо даже предполагать!.. Вот наступит затишье — после боёв обязательно бывает затишье, — вот тогда можно будет и писем ждать.
Но всем фронтам шли бои, наступали и некоторые передышки, а писем всё не было, не было.
Из Ленинграда удалось узнать о том, что за две недели до начала войны артист цирка Родион Родионович Карытов (это была настоящая фамилия цирковых артистов Р. и Е. Рытовых) был направлен в пограничный район в составе концертной бригады для обслуживания бойцов пограничных частей.
Неофициально, но вполне достоверно потом стало известно, что из бригады никто не вернулся обратно: маленький городок, где их застала война, был захвачен фашистами в первые же дни войны.
Всё это вместе складывалось и в конце концов сложилось в такие простые, безнадёжные и ещё тогда непривычные, поражавшие своей новизной слова: "Пропал без вести".
Теперь фотография улыбающегося Родиона Рытова в широкополой шляпе висела на видном месте посреди стены.
Прежде Оля мельком видела это фото — оно покоилось, аккуратно прикрытое, на дне чемодана. Она смотрела тогда и думала: "Ах, до чего же шикарное это рекламное фото отца — довольного, с улыбкой победителя, самоуверенно-насмешливого, свысока повелительного. Ну что ж, ты довольно красивый, да ещё в этой лихой шляпе, и зубы ровные, вот ты и сияешь, чтоб все видели, какой ты обаятельный. Всеобщий любимец. Ну и сияй в чемодане — меня-то ведь ты не любишь, и мама из-за тебя плачет. И я тебя постараюсь не очень-то любить. Не бойся, постараюсь".
И вот с того дня, когда стало известно это "пропал без вести", навсегда, совсем, лицо отца на фотографии стало меняться, меняться, пока не сделалось совсем другим лицом.
Проснувшись утром, Оля всегда первое что видела — было лицо отца, и оно уже было не совсем таким, как вечером перед сном.
Конечно, оно было то же самое, но значило оно совсем другое: задорные глаза, смотревшие из-под полей ковбойской шляпы, говорили: "Я радуюсь тому, что вижу, радуюсь жизни!", губы, приоткрывшие в задорной улыбке два ряда ровных и белых зубов: "Мне просто весело, и я ничего не сделал плохого, а эта шляпа и ковбойская куртка? Ведь это просто такая смелая и весёлая игра, шутка, и мне самому смешно играть какого-то неустрашимого ковбоя!" Но главное, самое главное, что оно говорило: "Я живой, весёлый, со мной можно поссориться и помириться, и могу обидеть и попросить прощения, у меня вся жизнь впереди. Разве меня может ждать что-нибудь плохое? Я никогда не слышал слов "пропал без вести", я их не знаю. Я бы просто не понял что значит "пропал без вести". Потерялся, отстал от всех? От Лёли? От Оли? От жизни?.." И вот с ним уже нельзя ни помириться, ни поговорить, ни обидеть, ни приласкаться, ни расспросить!..
Вот это и было хуже всего: он смеялся, смеялся, не зная того, что будет, и ничего не было теперь в его улыбке насмешливого, самонадеянного и хвастливого.
Милое, доброе лицо папы, который просто ещё не успел как следует показать этой козявке Оле, что он её немножко любит, а она уж и вообразила невесть что! Вот она-то и есть самовлюблённая, самоуверенная крыса! За что её и любить-то, собственно, было такому, как папа, которого все кругом любят.
Теперь их часто навещал клоун Козюков. За пазухой для развлечения приносил обязательно старого знакомого, свою обезьянку Куффи.
Почувствовав комнатное тепло, Куффи из-за пазухи высовывал своё озабоченное морщинистое личико старичка, высматривающего, чего бы это ему тут напроказить, осматривался и, узнав знакомых, выбирался наружу весь целиком. Погода стала холодная, и он кутался в тёплый байковый капотик, подпоясанный малиновым широким кушаком, что делало его похожим на ямщика с картинки "Русская тройка".
Наскоро выразив своё удовольствие от встречи с приятелями, он отправлялся обследовать всю комнату, начиная с сахарницы, куда сразу же залезал лапой. Если топилась печь, он усаживался перед ней, а когда Оля подкладывала дрова, он деятельно принимался ей помогать, стараясь подпихнуть полено в топку или хотя бы под диван.
Некоторое успокоение наступало, только когда он добирался до любимой лохматой собачки Тюфякина. Нежно прижимая её к сердцу, он забирался с ним на шкаф и там его баюкал, чесал ему шёрстку и ласково что-то поквакивал ему в ухо тонким голоском.
В такие минуты становилось возможным разговаривать.
— Дорогая моя Лёля Павловна. Самое главное в жизни: надо смотреть на вещи разумно и трезво. Мне-то самому это редко удаётся. А у тебя нет никакого разумного основания отчаиваться. Родя ведь не солдат, не военный, он поехал с концертом…
— Он военный, только в запасе.
— Я знаю, но в те дни он не был военным, значит, он не мог быть в списке какой-нибудь роты, батальона, он был гражданское лицо. А раз человека нет в списке, кто же может сообщить, что не хватает кого-то в этом списке? Будь он командир, солдат, генерал, мы бы всё про него знали. А он же штатский — песчинка в море штатских неорганизованных песчинок! Их могли отрезать в том городке… А потом они проберутся к своим, и мы получим известие, письмо, телеграмму — всё что угодно.
— Я могла быть там вместе с ним. Ведь он меня звал, я не поехала, — неутешно повторяла мама, сжимая и разжимая руки на коленях. — Я должна была быть рядом с ним. А вот сижу здесь.
— Когда человек начинает раздумывать, и задумываться, и гадать о том, что могло бы быть, если бы да кабы, он только сам себя терзает безо всякой пользы и даром теряет время и силы. Я ведь отлично знаю от вас обоих всю историю и всегда говорил в глаза и тебе, и Роде, что ты была права: человек должен делать ту работу, на какую способен. Обязан! Ты хорошо работаешь сама, а раз ты мастер, ты и должна работать мастером, а не оставаться в подручных, это тебе всякий скажет. И я в глаза ему говорил тогда и скажу теперь.
— И вот что получилось, — тихо сказала мама.
— Получилось, что чёртов Гитлер начал войну. Может, мы с тобой в этом не виноваты, а?
— А на душе тяжко. Всё равно так тяжко, что мы расстались как будто в ссоре.
— Не возражаю. Это неприятно. Пускай тяжко, тоже не возражаю. Но ведь всем сейчас тяжко. И всё это пройдёт, и мы ещё увидим залитую светом арену, ещё услышим гром рукоплесканий и выйдем кланяться. Вот так!
Подобные разговоры происходили чуть не каждый день, и всё повторялись, и ничего не было в них нового, но странное дело, после каждого посещения Козюкова, когда с нижних ступенек скрипучей лестницы доносились прощальные писки Куффи, возмущённого, что его уносят домой, не дав вволю понянчить на шкафу приятеля своего Тюфякина, — мама Лёля и Оля улыбались им вслед грустной улыбкой и на душе у них ненадолго становилось спокойнее.
Глава двадцать вторая
Давно уже стало невозможно утешать и обманывать себя тем, что ещё не наступило время для писем. Письма приходили в город с разных фронтов от сыновей, мужей и братьев, даже друзей.
И Рытовым пришло наконец письмо. Очень странное, непохожее на все другие. Не с фронта, а из глубокого тыла, из Средней Азии, оттуда, где не было затемнений, куда не доносился отдалённый гул артиллерийского боя, где не летали фашистские самолёты.
Папа, оказывается, жил там в полном благополучии и безопасности.
Письмо лежало на столе, прижатое тяжёлым обломком кирпича, чтоб его не могло порывом ветра вынести на улицу и случайный прохожий, прочитав, не узнал всего позорного, постыдного, невероятного, что там было написано.
Мама его перечитывала несколько раз, тщетно стараясь отыскать между строк какое-нибудь объяснение, но объяснять было нечего: что написано, то написано.
Долго она сидела, забившись в дальний угол дивана, и, не шевелясь, издали смотрела на бумажку с конвертом, как смотрела бы на ядовитую змею, притиснутую камнем посреди стола.
Только когда внизу заскрипели ступени, извещая о появлении Козюкова, мама вскочила с места и бросилась прятать письмо. Такое письмо она не могла показывать даже другу. Она даже Оле не дала его читать целиком, но и того, что прочла вслух, было достаточно. На всю жизнь достаточно.
Оля слушала мамин милый, такой всегда тёплый, мечтательно-улыбчивый голос, которым она читала свои детские сказочки, — и вот теперь она точно какую-то мерзкую, уродскую сказку, вылезшую из распечатанного конверта со штемпелем далёкой Бухары, читала:
Войной тут и не пахнет, журчит вода в арыках. На рынке фрукты. Мне сильно повезло — попал в переплёт, но вот выбрался. Теперь мне оформили броню как артисту, и я начинаю работать. Ты была права — тебе надо работать самостоятельно и обо мне позабыть думать, я себе подыскал ассистентку, даже двух, номер очень выиграет. Обо мне не беспокойтесь.
Жить надо проще и считаться с фактами, а не с выдумками.
Пускай Оля учится и растёт послушной девочкой.
Адреса у меня пока нет, да тебе, наверное, он и не понадобится — мы будем разъезжать по разным районам, а писать нам друг другу больше нечего.
Я вам, конечно, желаю всего наилучшего.
Р. Рытов.
После целого дня молчания Оля спросила:
— Мама, что это значит? Ты понимаешь?
— Нет, — сказала мама. — Нет! Нет!
— Мама, как это может быть? Что с ним случилось? Ты что-нибудь поняла? Это он писал?
— Да, писал он. Нет, не понимаю… Какой позор… Понимаю только: он нас не любит.
— Вся твоя жизнь была фантазия? И он тоже фантазия твоя?
— Может быть, всё моя фантазия. Наверное, я всё вообразила. Может, полюбил другую. Говорят, это бывает.
— Да пускай не любит, но он же человек… Он даже снайпер, а тут фашисты… а он пишет такой позор: фрукты… и всякие гадости… Ты понимаешь это? Ведь это позор! Ты сочиняла нам про принцесс и осликов, мы любили Тюфякина, играли, что он нас любит. И мы только играли, что папа нас любит? И вот теперь всё рассыпалось? И вот мы дуры? Просто две дуры?
— Так ты и Тюфякина больше не будешь любить? — насильно попробовала пошутить мама.
— Что ты! Наоборот! Ни за что! Я его люблю. И буду. Иди ко мне, лохматенький… Куффи тебя вечно взъерошит, я тебя причешу… Где же правда на свете, если над нами даже отец смеётся? Мы с тобой, мама, просто девчонки со своим игрушечным миром? Где же правда?
— Правда у нас. Всё равно у нас, — проговорила мама, стискивая и разжимая руки, как всегда, когда волновалась. Сейчас у неё и зубы были так крепко стиснуты, что выговаривала эти слова она невнятно.
Глава двадцать третья
— Вот. Как видишь. Я ведь тебя не удивила?
Мама только что вернулась из города и стояла теперь посреди комнаты, расправляя складки слишком широкой гимнастёрки, под ремнём. На ней была короткая юбка защитного цвета и сапоги. Она только что сняла своё штатское пальто. Шинели им ещё не выдали.
— Ты не ожидала?
— Давно ожидала, — сказала Оля. — Значит, тебя уже приняли?
— Мне пришлось сказать, что ты уехала к родным и я совсем одна. Ведь ты меня отпускаешь?
— Я уехала? Я от тебя уехала?
— Да, иначе меня бы не взяли.
— К нему я не поеду.
— Я знаю. Ты можешь к дедушке ехать, он старенький, но будет очень рад… Ты же понимаешь, ты освобождаешь для службы солдата. Одним солдатом больше на фронте.
— Чтоб заменить того, из-за которого одним солдатом стало меньше? Хорошо. Я уехала! — Оля бросилась на шею к маме и стала её целовать, приговаривая: — Солдатик… солдатик мой!..
— Это опять из сказки, — с усилием улыбаясь, говорила мама, целуя девочку. — Я всё равно должна была пойти.
— Нет, из сказки: ты вместо… того!.. Зачем ты отказываешься, это нечестно!
— Из сказки, из сказки, только не плачь, моя хорошая. Тебе будет труднее, чем мне. Ведь ты сама меня отпускаешь? Зачем же плакать?
— И буду! И буду реветь! Всё равно отпускаю. Ты не сама, да? Это я тебя отпустила… ну, мы вместе отпустили, хорошо?
— Вместе, мы всё вместе, вместе…
Вечером Володя, возвращаясь с работы в замасленном комбинезоне, шагал тяжёлой поступью усталого рабочего. Устал он вправду, но ещё ему и нравилось так шагать всей ступнёй, вразвалку, чиркая каблуками по тротуару — в точности как ходил механик Попрыкин, про которого говорили: "Он Наполеон и Македонский Александр насчёт двигателей внутреннего сгорания".
Невдалеке от будки проходной он увидел Олю и сразу бросился к ней лёгкой и быстрой походкой.
— Что? Что? — бестолково от волнения допытывался он. Прощаться? А? Уже… Когда..
— Да, прощаться…
— Когда прощаться?.. Сколько можно? Ну, ты говори…
— Мазаный ты, как трубочист! — Оля вытащила из кармана платок, послюнила и стала оттирать у него на щеке и на лбу мазки грязной смазки. — Чего сколько? Можем ещё походить и попрощаться. Отправить нас могут даже завтра, а точно неизвестно — с утра надо быть наготове.
— Значит, можно погулять? А куда нам идти?
— Как куда? На водную станцию. С ней попрощаться.
На водной станции не было ни души. Холодная и какая-то чёрная, точно она уже знала, что скоро ей придётся совсем застыть и замёрзнуть, вода плескалась у пустынных мостков. В каюте Никифораки пахло табачищем. На стенке висели красиво расчерченное на твёрдой бумаге расписание на много дней вперёд никогда не состоявшихся уроков по плаванию, а сам Никифораки и его ученики давно уже ушли на фронт, и многим из них никогда уже не придётся плавать и прыгать с вышки в жаркий летний день…
Они прошлись по бульвару, вяло припомнили, как шлёпали по весенним лужам всей компанией по дороге из школы, но это всё было как-то неинтересно.
Выбрались на пригорок, оттуда вдали виден был домик Анны Иоганны.
— Ну её, — сморщилась Оля. — Может, сама-то она и ничего, а всё-таки немка. А вдруг она радуется за своих, что они наступают? Нет, не пойду к ней прощаться!
Они пошли к обрыву.
Дом, где когда-то жил Танкред, стоял на своём месте, и во дворе так же было безлюдно. Они всё вспомнили, но вслух говорить об этом не хотелось.
— Может, мы в последний раз в жизни вот с тобой гуляем, — глядя в сторону, сказал Володя.
— Не знаю. Что-то я ничего себе представить не могу — что мы прощаемся, что мне ехать, что последний раз, — ничего не могу представить… Я какая-то тупая. Пойдём лучше домой.
— Правда. Правда… Это правда.
— Что ты всё "правда да правда"?
— Ты сказала правду. Я тоже какой-то тупой. Я думаю, думаю, а ты скажешь, и я сразу понимаю, что вот это самое я как раз и думал. Это не потому, что я тебе подражаю. А ты умеешь сказать, а я нет. Вот не умею.
— Ладно, буду уж, так и быть, за тебя разговаривать, а ты только думай.
— Договорились, — добродушно согласился Володя, и они расстались у двери, за которой начиналась скрипучая лестница.
Глава двадцать четвёртая
Как только стемнело, в вышине послышались звуки неравномерно подвывающих моторов самолётов и началась бомбёжка.
Город, освещённый неживым светом сильных ламп, медленно спускавшихся на парашютах, казался мёртвым. Только на окраинах били наши зенитки, взлетали цветные цепочки трассирующих пуль, зенитных пулемётов, и вдалеке бегали по небу бледные столбы света прожекторов.
А в самом городе рушились, рассыпая брёвна, деревянные старые домишки, под сбитой столетней штукатуркой обнажились красные кирпичные раны на сводах старинного гостиного двора. Обвалился угол большого дома, и загорелась пригородная усадьба-музей с её конюшнями, амбарами и беседками.
Наутро ещё тянулись в небо в разных концах города чёрные хвосты потухающих пожаров.
Прижимая к груди маленький мягкий свёрточек, Оля то быстрым шагом, то бегом пересекала площадь, на которой спокойно работали люди, разбирая развалины аптеки, выбралась на пустынную набережную и тут бросилась бежать, пока совсем не задохнулась.
Володя должен был её ждать в условном, вернее, обыкновенном месте на обрыве, но ещё издали она увидела, что он бежит к ней навстречу.
Они схватились за руки и побежали вместе.
— Это тут близко! — ободряя её, повторял Володя. — Давай я его понесу!
Оля возмущённо отдёрнула руку, в которой был зажат мягкий свёрточек:
— С ума сошёл?.. Никому его не отдам!
На дне оврага прогорал в кучке углей маленький костёрчик, обложенный камнями и битым кирпичом.
— А где у тебя лопата? — спросила Оля, всё ещё с трудом отдыхиваясь после бега.
— В кустах спрятана, я всё приготовил, не беспокойся. А когда вас отправляют?
— Меня отпустили всего на час, полтора. Поезда уже не ходят, нам должны грузовик дать. Вещей можно один рюкзак брать — может, пешком придётся идти.
— Правда, что слона разбомбили? Все говорят.
— Никто не знает. Он в конюшне жил, в усадьбе, её разбило, он испугался, наверное, и куда-то убежал… Во всяком случае, его пока не нашли… А это что?
— Это коробка от боевых патронов. Особый такой металл, сто лет будет лежать, не заржавеет.
Оля бережно развернула свёрток и вынула маленького Тюфякина. Вид у него был праздничный, если можно сказать, парадный, видно было, что его только что расчесали от кончика короткого хвостика до ушей и почистили щёткой. Бантик на шее был аккуратно расправлен, необыкновенно живые зелёные глазки с любопытством, хитровато проглядывали сквозь завитки курчавой шёрстки.
— Смотри как следует, — грустно сказала ему Оля. — Не скоро ты теперь увидишь кустики, и берёзки, и свет…
— Пожалуйста, не надо, очень тебя прошу, — с беспокойством остановил её Володя. — Зачем ты так с ним разговариваешь?
— Я же шучу.
— Нет, ты не шутишь. Ты заревёшь сейчас. Он очень симпатичный, но ведь он всё-таки не живой, а волосяной, шерстяной.
— А разве не живой может быть симпатичным? Ты вот сам проговариваешься… Тебе его жалко?
— Совершенно глупый вопрос. Война, разве об таких вещах надо думать. Надо зубы стиснуть и помнить…
— Это всё без тебя знаем. А ты скажи: жалко?
— С точки зрения… глупо. И смешно. Даже что-то в этом есть, если хочешь знать…
— А жалко?
— Ну тебя совсем! — с ожесточением крикнул Володя. Грубо сплюнул в сторону. Сделал тупо-презрительную гримасу. Плюнул ещё раз и пожал плечами. — Вообще, конечно, жалко.
Схватил старый корявый паяльник, который давно уже нагревался у него на костре, и хрипло гаркнул:
— Давай дело делать, а не рассуждать! Укладывай!
— Это что? — с вежливым удивлением осведомилась Оля. — Это что с тобой?
— Это так. — Володя неожиданно побагровел. — Ты про что?
— Нет, это кто так рыкает? Точно пьяный бык!
— Ну, этот… Попрыкин. Мастер… этот…
— А, Наполеон?.. Ну, понятно… А мне показалось, тебе нехорошо. А что там подложено в ящике?
— Это промасленная бумага, ему лучше так будет. От сырости. Ну, клади!
Оля нежно обернула Тюфякина в тряпочку, уложила в оцинкованный ящик, расправила складки, нечаянно глянула ему в глазки, выглядывавшие из-под открытой только до половины крышки, и вдруг слезы у неё закапали сами из глаз.
— Точно в гробик мы его укладываем…
— Дура! Со всей откровенностью тебе говорю! — прикрикнул Володя. — Это несгораемый шкаф. Бомбоубежище! Поняла? Мы его прячем в убежище от фашистов, а кончится война, он будет как огурчик, ещё мы ему завидовать будем!.. И не смотри туда больше.
Придавив крышку, Володя старательно и довольно умело начал запаивать шов. Оля сидела рядом на корточках и следила за его руками.
Положив паяльник на угли, чтоб снова подогреть, Володя посмотрел ей в лицо:
— Даже немужественно. На тебя непохоже. Запаяем и в ямку спрячем. Отлежится как миленький.
— Жалко в ямку. Будто мы его хороним… Мы уйдём, он там будет лежать один, и над ним травка вырастет…
— Как только война кончится, мы вместе сюда придём и его выкопаем — ты вот о чём думай!.. Глазки! Глазки!.. А ты вот думай, как это будет, как мы откроем ящичек, и он оттуда выглянет глазками, и как весело поедет у тебя на руках домой.
— Мы вместе придём выкапывать.
— Конечно… Только если меня убьют, ты приходи одна. Место найдёшь — вот самый центр треугольника из тех вот трёх берёз. И тут холмик.
— Кто тебя убьёт?
— Что ж ты думаешь, если они сюда придут, я буду фашистам автомобили чинить? Нате-ка, окунитесь! Я им починю!.. Ну, тогда ты сама его вытащишь и вот вспомни. Как мы сейчас вместе… Вспомнишь?
— Вспомню, как ты глупости говорил.
— Ну вот, готово. Вот в кустах я выкопал. Тут песок, и никто не догадается, что копали.
Володя опустил ящик на дно ямы и вытащил из чащи кустов спрятанную там лопату.
— Подожди, ему так криво лежать. Косо уложил!
Они поправили ящик, и Володя торопливо стал закапывать, ссыпая потоки сыроватого песка с краёв отвала.
Вдвоём они затоптали поверхность, и Володя прикатил ещё камень и набросал веток и несколько пригоршней хвои для маскировки.
— Вот и всё… А я вот ещё насчёт чего… Ты клятву согласна дать?
— Согласна, — серьёзно и медленно кивнула Оля. — Я согласна клятву. А какую?
— Вообще клятва ни к чему, но во время войны — можно… Что я навсегда буду твоим клятвенным другом. А ты — моим. Вот и вся клятва.
— Хорошо. Пойдём теперь домой, мама ждёт.
Володя с паяльником и лопатой, Оля с пустыми руками начали спускаться к городу молча. Вдруг Володя с натугой сипло выдавил:
— Может быть, десять лет пройдёт.
— Ну, а если десять? Так что?
— Ничего. Мы станем пожилые. И вдруг вот тогда вернёмся сюда. И вдруг ты идёшь. А с другой стороны вдруг я иду. И вдруг встретились.
— И у тебя такая вот чёрная бородища.
— Да, — с кривой усмешкой опять насильно выдавил Володя. — А у тебя муж с усами. Толстый.
— А ты на Зинке женился. Так тебе и надо.
— Тьфу!.. Обо мне разговору нет, ты сама знаешь. Бабка, да я, мне и хватит… А ты что в нашем городе потеряла? Он же тебе чужой, а там у тебя дедушка, тебе там, может, понравится, ты и не приедешь вовсе обратно…
— А клятва? Забыл?!
— Это клятвы не касается, — с отчаянностью, быстро заговорил он. — Ты даже можешь что хочешь — хоть замуж выйти. Если пожелаешь, конечно, там через столько лет. Клятвенная только дружба остаётся, понимаешь какая? Там только для двоих место: тебе и мне, и туда пусть никто не суёт носа. И пускай никто никогда не смеет знать, какие мы клятвенные друзья одни во всём мире.
Они уже шли по переулкам города.
— Жалко, что я уж очень целоваться не люблю, а то бы я тебя сейчас поцеловала за то, что ты сказал… Только должна тебя очень разочаровать: замуж-то я ведь не пойду, ни через десять лет…
Володя робко, недоверчиво покосился:
— А через двадцать?
— Нет, не поможет.
— А через пятьдесят?
— Вот подумаю.
— Вот видишь, ты несерьёзно.
— Так вот тебе серьёзно. Никогда никто меня не заставит и не уговорит выходить замуж. Хи-хи, все так говорят, а потом и выскочат? Но у меня-то есть решение и причина. Какая, это моё дело. Я не могу объяснять. Факт фактом — не будет этого! Пускай буду взрослая, пожилая, старая — мужа мне не надо. Даже, если хочешь знать, я бы и за тебя замуж никогда не пошла, так и знай! Тебе ясно?
— Это ничего, — обрадованно, с облегчением воскликнул Володя. — Ты только вовсе ни за кого не выходи, вот бы и хорошо!
Они уже подходили к дому.
— На всякий случай, ты фамилию-то хоть нашу знаешь?
— Знаю. Карытова. Ну так что ж? Грибоедов смешнее фамилия, а никто же не смеётся!
Глава двадцать пятая
Наступил день, когда впервые в жизни Оля осталась одна. Она сидела на своём рюкзаке под навесом около летней кассы парка культуры и смотрела, как первый снежок ложится на зелёную травку. Лёгкий и неторопливый, он чуть наискось летел к земле, садился на отцветшие клумбы и статуи физкультурников, и всё шёл и шёл, точно говорил: "Мне некуда торопиться, я своё возьму, вот… понемножку всё занесу, укрою, дороги, поля, всю землю…"
Долго ещё можно было разглядеть следы маминых сапог, оставшихся после того, как мама, обцеловав в последний раз, оттолкнула от себя Олю, убежала к машине, нетерпеливо гудевшей, торопившей её.
Убежала, легко перемахнула через борт грузовика и сразу как будто пропала среди солдат в таких же шинелях. Только её рука в подвёрнутом длинном рукаве ещё махала Оле. До самого поворота за угол дома.
Грузовик скрылся, и остались только следы по свежему снегу, но снег всё неутомимо шёл, и скоро следов не стало видно.
За рекой непрерывно, перекатываясь, гремела пушечная стрельба. К ней все как-то быстро привыкли за последние дни, хотя она становилась всё ближе.
Вокруг Оли сидели люди на таких же рюкзаках и свёртках одеял — это была последняя оставшаяся группа артистов цирка шапито с семьями, там было много знакомых, но Оля думала своё: "Вот я осталась одна, лето кончилось раз и навсегда, теперь я буду одна, и будет снег, и никогда я больше не увижу ни тепла, ни солнца, ни мамы".
Время от времени из мастерских приходил кто-нибудь и сообщал, что через часок обещанный грузовик будет на ходу. Это был дряхлый исполкомовский грузовик, которого по старости не взяли на военную службу. Собственно, это был не грузовик, а полдюжины развалившихся грузовиков разных марок, из остатков которых собирали теперь какое-то чудо-экспонат для музея автомобилизма под названием: "автомобиль прошлого" — так говорил, во всяком случае, Володя, работавший на сборке под руководством "Наполеона внутреннего сгорания" Попрыкина.
Наконец, окутанный синим дымом выстрелов из выхлопной трубы, тарахтя и громыхая, грузовик подъехал, все кинулись к нему, кидая через борт мешки и свёртки, втаскивая детей, мешая друг другу, кое-как разместились, сбившись в кучу, и только один Козюков стоял и ждал, всё оглядывался по сторонам, в отчаянной надежде, что вот вдруг откуда-нибудь из подвала или с крыши раздастся короткий писк, и ненаглядный его Куффи, бесследно пропавший в самую ночь бомбёжки, вдруг появится в своём фланелевом капотике, подпоясанный ямщицким кушаком.
В последнюю минуту, когда машина уже трогалась, Козюкова почти силком втащили в кузов.
Погружённый в отчаяние, он едва узнавал даже Олю, когда она гладила его по щекам и держала за пояс, боясь, что он вывалится на ходу, высовываясь, чтоб в последний раз заглянуть назад, на последние улицы города, где ему всё мерещится подпоясанный капотик.
Города давно уже не стало видно, исчезло даже последнее, расплывающееся в лёгком морозном воздухе пятно дыма над городом.
Пошли незнакомые поля. По широкой дороге, обсаженной старыми берёзами, им навстречу прошли наши танки, два раза их останавливали патрули, и один раз сам остановился мотор и, казалось, решил больше ни за что не ехать дальше. Козюков всё смотрел на дорогу, белевшую от снега. Напрасно Оля его теребила и дёргала, стараясь привести в чувство. Наконец он как будто понял, где он, с кем и почему едет.
— Знаешь, — сказал он тихо, — если б я только знал, что он не страдал, а погиб сразу от этой бомбы… Хоть бы я знал, что он не звал меня на помощь и не успел очень испугаться!..
Они к ночи добрались до станции, откуда ещё ходили поезда. Их привели в пустой вагон пригородной электрички, они сложили там свои мешки, сели и стали ждать.
Кто-то принёс кипятку, кто-то разостлал на сиденье, что было мягкого из вещей, и детей стали укладывать спать.
Козюков опомнился и стал устраивать Олю, чтоб она могла лечь, подоткнул ей под голову узелок, пахнущий обезьянкой, — там были парадные костюмы Куффи для выступлений в цирке, и Оля заснула.
Проснулась она поздней ночью и поняла, что они едут, впереди электрички пыхтел паровоз, вагон потряхивало, стучали под полом колёса.
— Спи, детка, спи… — сказал Козюков. — Мы всю ночь едем, уже и пушек не слышно стало, спи…
Так начался их долгий, долгий, многонедельный путь за Урал, в Азию. Навстречу им шли воинские эшелоны с солдатами-сибиряками, а они бесконечно отстаивались где-нибудь на запасных путях, ожидая, когда их отправят дальше. Уже установили дежурство по уборке вагона, надолго ставшего их домом, уже появилась маленькая печурка, за которой тоже следили дежурные, администратор с добровольцами отправлялся получать на больших станциях хлеб. Уже кто-то начал ссориться с соседом, и двое старых недругов — жонглёр и музыкальный эксцентрик — подружились на всю жизнь или, во всяком случае, до конца пути.
Однажды Козюков, печально выпив три кружки кипятку (он всё делал теперь печально), вдруг нащупал у себя в кармане, вытащил и, минуту помедлив, припоминая, вдруг подал Оле сильно помятое письмо, намертво заклеенное столярным клеем.
На конверте было написано: "Оле Рытовой. Отдать через 3 (три) дня".
Пока Оля отрывала прилипший к изнанке конверта листок, Козюков грустно пояснил:
— Я совсем позабыл тебе отдать через три дня. По ночам я вспоминал раза два, но не хотел тебя будить, а потом я представлял себе, как он (теперь он никогда не произносил вслух имя Куффи) лежал бы рядом с тобой и так славно бы сопел… А как он безобразничал бы, какие шутки вытворял тут по всему вагону, прыгая с полки на полку! Всем было бы легче на душе!.. И я всё забывал тебе отдать…
— Ничего, — сказала Оля, разбирая то, что не заляпано пятнами окаменевшего клея.
Не вообрази только, пожалуйста, что вот это я вроде тебе объясняюсь в любви. Ничего подобного. Только раз ты уезжаешь, сейчас война, и, как все будет, неизвестно, я хочу, чтоб ты знала: ты очень красивая.
Ты едешь, и, наверное, уже далеко. А я начал скучать, когда ты ещё не успела отъехать. Хотя сейчас не до наших личных дел, поэтому хватит.
Володька.
Глава двадцать шестая
Когда Володя на другой день после бомбёжки бродил по улицам города вместе с другими ребятами, осматривая рухнувшие дома и потушенные пожарища, главным чувством его было удивление.
Именно удивление, как ему казалось, бессмысленностью происшедшего.
Разрушений было вообще-то не очень много, но разрушенным казалось всё какое-то самое неважное и к войне, до полной бессмыслицы, никакого отношения не имеющее.
Ну какая польза фашистам от того, что на окраине развалились — бревна торчком — несколько старых деревянных домов, обвалился угол у дома на площади, испортив несколько квартир, и в больницу отвезли раненых и раскопали несколько убитых под обломками?
Больше всего от начавшегося пожара пострадала усадьба-музей с её галереей портретов чьих-то предков, старинными клавикордами, столиками разноцветного наборного дерева, узорчатыми паркетными полами. Рухнул потолок в зале, весь расписанный древними богинями, летящими по воздуху, и крылатыми конями…
Пожар перекинулся на старый каретный сарай, и там сгорела карета, обитая бархатом, с забавным домиком-кузовом, подвешенным на широких ремнях над громадными колёсами.
В пустовавшей конюшне, где с наступлением холодов пришлось приютить циркового слона, загорелись ворота, и обезумевший от грохота, ослеплённый пламенем слон выбил их, бросился бежать и с тех пор пропал.
— Если бы на город набросился бешеный допотопный дракон, чтоб навредить нам, я бы сказал: злобная ты скотина, дурак — и больше ничего, — заключил Володя и, хотя уже вечерело, поплёлся опять в ремонтные мастерские узнать, не набежала ли какая-нибудь срочная работа для фронта.
А в это время, в четырёх километрах от города, посреди заметённой снежком полянки, в берёзовом лесочке, понуро опустив голову, стоял слон. Он по временам встряхивал ушами, на которые садился лёгкий беспрерывный снежок. Он стоял в каком-то недоумении и как будто с ожиданием смотрел на людей. А люди — это были два солдата — худой, длиннорукий Терёхин и скуластый, широколицый бурят с таким длинным и трудным именем, что его простоты ради звали Лёня, — смотрели на него тоже с недоумением, точно ждали от него какого-то объяснения.
— Видал, какое дело! — сказал Терёхин. — Приснилось бы, я б не поверил. А он вот стоит!
— Похожий видел. Только мороженый, не живой. Мамонт на него похожий. У мамонтов шерсть. А у этого нет шерсти. Ему холодно, когда нет шерсти. Помёрзнет.
— Фу, чёрт! — воскликнул Терёхин. — Ты гляди, у него рана на плече… Он раненый… Да здоровая какая… Что делать будем?
— Надо отвести куда ни на есть. Пропадёт.
— Вот объясни ему… — вздохнул Терёхин. — Кто его знает, как их водят? — Он подошёл и осторожно дотронулся до хобота слона и сказал грубовато-ласково, как говорят со скотиной: — Ну что, брат? Пойдём с нами, что ли! Тебе тут холодно стоять. Снег, понимаешь, зима!..
Слон вдумчиво слушал, шевелил ушами, вздыхал.
Терёхин взялся за хобот обеими руками и потянул за собой. Слон не шелохнулся.
— Вот, повёл. Всё одно танк на верёвочке тянуть!.. Ну что делать? Пойдём так и доложим командиру: "Слон. Стоит посреди леса".
Он повернулся и пошёл было, но, пройдя шагов пять, остановился и ласково, настойчиво повторил:
— Вась, а Вась!.. Ц-ц!.. Ну пойдём с нами, пойдём… От умница! Гляди! Топай, топай за нами!
Действительно, слон опять с шумом выдохнул воздух, качнулся и пошёл за солдатами.
— Ну вот, молодец, — заискивающе приговаривал Терёхин, то и дело опасливо оглядываясь, чтоб слон не слишком-то его нагонял.
Слон шагал послушно, медленно, оставляя на чистом снегу большие круглые следы. Он всё шагал и шагал, неспешно, но удивительно покорно за своими провожатыми, пока его не привели на хозяйственный двор брошенного совхоза, где расположилась кавалерийская часть.
Несколько кавалеристов бросили чистить коней и, держась немного поодаль, окружили слона. Все уже знали, что слона ведут к ним, и ожидали.
Последним медленно появился и стал в дверях конюшни круглолицый кавалерист с лопатой в руке, с засученными по локоть рукавами, долго смотрел и вдруг радостно захохотал:
— Они мне говорят: слон, слон! А я внимания не придаю, что вдруг за слон! А он, оказывается, нет, действительно слон! — и, оборвав смех, пожал плечами.
Лейтенант Смородин невозмутимо вышел навстречу слону, внимательно его оглядел и сказал:
— Так, всё ясно… Чаусова ко мне, быстро!
Побежали за Чаусовым.
— Ему бы, например, соломки под ноги подослать, — мечтательно проговорил круглолицый и поудобней упёрся, налегая грудью на лопату.
Вызванный к лейтенанту военфельдшер Чаусов подошёл с озабоченным видом, точно в его эскадроне индийские слоны были не большей редкостью, чем буланые кони.
— Надо какую-нибудь первую помощь оказать, — сказал Смородин.
— Подвинь поближе! — коротко приказал Чаусов, осторожно, чтоб не пролить розовую жидкость из тазика, ступил на пододвинутый ящик и потянулся рукой к ране.
Слон насторожился, переступил с ноги на ногу и стал коситься на фельдшера.
Фельдшер покачнулся на ящике и сердито крикнул:
— Что же вы стоите? Придерживайте его всё-таки!
— Давай, давай, братцы! — озабоченно сказал Смородин и сам пододвинулся поближе.
Несколько человек подошли, упёрлись в слоновий бок ладонями и стали потихоньку, успокаивающе похлопывать по чёрствой, морщинистой коже.
— Мы-то его держим, — сказал один из кавалеристов, — да как его удержишь? Главное, зацепиться не за что! До того весь гладкий.
— Меньше разговаривай, ты, знай держи, — с досадой сказал фельдшер и осторожно притронулся намоченной марлевой тряпкой к запёкшейся рваной ране на плече.
Сейчас же кожа у слона нервно дёрнулась, и хобот ткнулся в руку Чаусова.
Тот вздрогнул, как от электрического укуса, и плачущим голосом крикнул:
— Да будете вы держать или нет?
— Давай, давай, дружней надо! — поддержал лейтенант, похлопывая обеими руками по крупному боку слона, но сам, видимо, не слишком ясно представляя себе, что надо "давать".
Продолжая нервничать, слон старался заглянуть назад и держал хобот наготове. Однако Чаусов уже смело промывал рану, приговаривая:
— Но, но! Не балуй. Стой смирно!
Слон ещё разок пощупал его руку и снова стал понуро глядеть прямо перед собой.
— Хоть бы какой попонкой его принакрыли! — по-прежнему мечтательно проговорил солдат с лопатой, стоя в дверях. — Ведь животная мёрзнет!..
Фельдшер, заметно успокоившийся после того, как процедура с промыванием прошла благополучно, замазал рану жёлтой мазью и слез с ящика.
— Ну, молодец кавалер! — сказал он весело. — Как теперь самочувствие?.. Вы его все отпустите, он же вполне сознательное животное!
Слон в ответ вздохнул и потянулся хоботом в тазик.
— Это наружное, ты погоди, — отводя тазик в сторону, объяснил уже как знакомому фельдшер и крикнул: — Эй, Фищов! Ну-ка, сюда быстро бадейку подогретую, только тёпленькую. Кавалер пить просит!
Потом он, нагнувшись, стал осматривать слона из-под низу, подлез ему под грудь и вдруг с глубоким разочарованием протянул:
— Э-эх, вот так дело… Ну-ка мне ещё дезинфекции и марли побольше.
Фищов уже поставил ведро с водой, и слон сразу потянулся к ней хоботом и жадно высосал воду до дна.
Из конюшни принесли две попоны, солдат, становясь на ящик закинул их одну за другой на спину слону, встряхивая и распрямляя складки, как стелят простыни на широкую постель.
— Что ж ты две принёс? Пожалел что ли третью? — с горькой укоризной проговорил солдат, обнимая свою лопату и не трогаясь с места.
— Что, серьёзные ранения обнаружены? — спросил лейтенант Смородин.
— Плохо. Совсем плохое дело, — сказал фельдшер. — Осколки.
— Ну, факт… Вчера же вот бомбили почём зря.
Чаусов вылез, вытирая испачканные в крови руки.
— Нет, ничего не получится. Глубоко ушли. Как он дошёл только!.. — И сухо добавил: — А если разобраться… Какой, собственно, своеобразный представитель животного царства… И глазки у него всё равно как у кабанчика, по с другим смыслом… Славные.
Маленькие глазки действительно смотрели на военфельдшера как будто в кротком, доверчивом ожидании. Большие уши тихонько шевелились, стряхивая падающий снежок.
— Товарищ военфельдшер, чего это она?
Чаусов махнул рукой:
— Отойди, посторонись… Я же говорю, ничего не получится.
Слон вздохнул, как будто решившись кому-то уступить: подогнул одну ногу, потом другую и опустился на колени. Так он постоял немного, как будто ещё колеблясь, что ему делать дальше, потом разом грузно осел задними ногами и тяжело повалился на бок и, уже лёжа, ещё раз снизу вверх скосил свои понимающие глазки всё с тем же выражением покорного и доверчивого ожидания. Потом по всему его большому телу пробежала судорога, он шумно выдохнул воздух, так что лёгкий снежок струйками взлетел и закружился. И закрыл глаза.
— Попоны подобрать бы надо, — заметил тот, что всё время стоял с лопатой, и двинулся к лежащему слону.
— Отставить! — резко сказал лейтенант Смородин. — Попонам ничего не сделается. Пускай. Может быть, он ещё чувствует…
Глава двадцать седьмая
А снег, нескончаемый, неторопливый, всё шёл и шёл весь день, легко, наискосок садясь на землю, на деревья, на обгоревшие после ночной бомбёжки брёвна, на чёрные, остывающие головешки, на сырую свежую землю только что законченных окопов укреплённых позиций, на невысоких холмах по берегу реки.
В тот же самый день и даже невдалеке от того берёзового лесочка, где бойцы встретились на поляне со слоном, два солдата из охранения, Шульга и Вяткин, дойдя до самой опушки, тщательно оглядели пустынные огороды и поля, за которыми виднелся город на берегу реки.
— Но следам на снегу всё можно хорошо определить, что не ступала нога человека, — сказал Шульга, опуская бинокль.
Не сговариваясь, они повернули обратно. Приглядываясь на ходу, Вяткин заметил:
— Беличий след. Вот тут она с сосны соскокнула, вот сюда, сюда, скок-скок по снегу — и прямо на эту сосну ушла… Вот зверь, не бросила своего гнезда! Всё к своему лесу мостится.
— А как ей уйти, — рассудительно заметил Шульга. — У ней тут дом. Орехов, разных семечек сосновых она себе напасла. Неужели бросать? Ясно — отсиживается.
— Факт, — согласился Вяткин. — Дрожит, наверное, а терпит. Крепится… Здравствуйте, — вдруг сказал он другим голосом и резко стал на месте, так что Шульга чуть не ткнулся ему в спину. — Ведь это удивление!
След вёл прямо к большой ветвистой берёзе. На нижней ветке сидело маленькое, съёженное и взъерошенное существо, покрытое коричневым мехом.
— Вот тебе и белка… Это напоминает больше мартышку какую-то!
— Ты не шуми, — сморщился Вяткин. — Разгоготался, как леший! — И ласковым голосом заговорил: — Цунь, а Цунь… Пойди ко мне, Цуня! — Он медленно подвигался к дрожащему, трясущемуся комочку шерсти, вцепившемуся в голую ветку берёзы.
Навстречу ему глядели, редко моргая сморщенными стариковскими веками, два живых, печальных глаза.
Это был пропавший Куффи. Он крепко спал, когда бомбёжка обрушилась на загородную усадьбу-музей. Напрасно он гукал и визжал, призывая кого-нибудь на помощь, голос его тонул в грохоте разрывов бомб и стрельбе зениток, а ключ от комнаты был в кармане Козюкова, который, уложив Куффи спать, ушёл по делам в город и сейчас был где-то далеко, хотя и бежал, задыхаясь от страха и волнения, к усадьбе, как только начался налёт. Он бежал на помощь где-то по дороге, а Куффи метался по комнате, кутаясь в своё одеяльце.
Вокруг уже трещало горящее дерево в доме, в щели под дверью появилась багровая полоска огня, в комнате стало светло от пожара во дворе. Потом что-то рухнуло, в запертую комнату пахнуло холодом, и Куффи увидел, что окно как будто открыто — все стёкла со звоном вылетели.
Он выпрыгнул со второго этажа, громким криком выражая своё возмущение всем происходящим; не чувствуя холода, растерявшись, он кинулся бежать и вдруг увидел одного-единственного старого знакомого — слона. Он мгновенно вскарабкался, цепляясь за хвост, ему на спину и, пока слон бежал, а потом шагал по незнакомым полям, цепко держался на его спине и только хныкал от обиды, от холода и от всего непонятного.
Он бежал или, вернее, уезжал на спине у слона из своей тёплой комнатки, от лучшего своего друга и слуги — Козюкова. Там осталось одеяльце, мяконький капотик с кушаком — всё, что было лучшего у него в жизни. Всё это куда-то пропало в грохоте и огне, и он был в отчаянии.
Слон шёл всё медленнее. Они вошли в лес, Куффи совсем замёрз и ослабел, какая-то ветка грубо столкнула его, он упал в снег, встряхнулся и побежал сам не зная куда…
Давно уже рассвело, стоял белый от снега день, когда Куффи, опомнившись, увидел двух спокойных людей.
Один из них подошёл к нему поближе, ласково приговаривая:
— Иди ко мне, Цуня, пропадёшь в лесу. Тут тебя вороны склюют! Лиса тебя заест! Без обмундировки тут нельзя!
Куффи, увидя протянутые руки, потянулся навстречу, но он так закоченел, что упал бы в снег, если бы Вяткин сам его не подхватил.
Вяткин почувствовал, как трясётся на морозе обезьянка всем телом, наскоро обтёр рукавом мокрую шёрстку и бережно сунул себе за пазуху под левую руку, прибавив шагу, пошёл к дому.
Напрасно Шульга, забегая сбоку по узкой дорожке, старался заглянуть ему под полушубок, упрашивая показать хоть на минутку. Вяткин невозмутимо шагал вперёд, отстраняясь локтем:
— Да что тут разглядывать? Мартышка и есть. Натуральная мартышка. Видал ведь, как на ветке сидела.
— То на ветке, а то в руках. Интересно, кого он вблизи более напоминает: кошку или, например, человека. Ты его немножко хоть высунь.
— Так и стану тебе его морозить! Увидишь ещё.
Немного погодя он почувствовал, как мартышка шевелится у него под полушубком, стараясь протиснуться подальше в тепло, и усмехнулся.
— Жив? — спросил Шульга.
— Шевелится. — Вяткин щекотливо поёжился плечами. — Ох, пёс, он, понимаешь, ко мне в рукав всё, как в нору, зарывается. Греется. Ох, хитёр!..
Маленькая, но удивительно деятельная и шумная печка в лесной сторожке гудела вовсю трубой, вызывающе и громко стреляла еловыми дровами.
В углу на соломе лежал Кузьма Ершов и спал, накрывшись с головой полушубком, сквозь сон блаженно купаясь в волнах сухого тепла, доносившегося от печки. Услышав разговаривающие вперебивку громкие голоса, он недовольно поёрзал, зарылся головой глубже под полушубок, но это не помогло. Голоса звучали всё громче, окончательно разгоняя сон.
Кузьма был человек степенный, не очень молодой, и комплекции, располагавшей к солидности в поступках. Он не стал ругаться, как сделал бы на его месте другой, а с глухим упрёком прогудел из-под полушубка:
— Друзья мои! Почему происходит базар? Люди же отдыхают.
Озабоченный весёлый голос Шульги ответил:
— Отдыхай, друг наш, отдыхай. Нам тут обмороженному нужно восстановить кровообращение.
Знакомый голос Вяткина деловито окликнул:
— Ты вот эту пока нагрей у печки, а после мы её завернём в горячее.
— А спиртное внутрь ихняя нация может принимать? — озабоченно спрашивал другой.
Кузьма не выдержал, досадливо сбросил с себя полушубок и сел, сердито моргая и хмурясь на свет, да так и остался сидеть.
Прямо против него Вяткин, сидя на корточках, поддерживал обеими руками под мышки обезьянку, которая полулежала в обессиленной позе, томно раскинув руки по меху полушубка.
Сосредоточенно сопя и низко нагнувшись, Шульга старательно растирал суконной рукавицей обезьянке ладошки её маленьких, мотавшихся у него в руках ног, в то время как Куличенко, озабоченно оглядываясь, грел над печкой вторую рукавицу.
Обезьянка смирно лежала, запрокинув своё морщинистое личико, обведённое кругом, как чепчиком, шоколадного цвета шёрсткой, торчавшей подстриженным бобриком, и редко и устало моргала круглыми, как бусинки, глазками, глядя прямо в лицо наклонившемуся над ней Вяткину.
Куффи наконец шевельнулся, закашлялся и нетерпеливо дрыгнул ногой.
— Гляди ему ногу-то не оторви напрочь своими ручищами. Кузнец! — с беспокойством сказал Вяткин.
— Небось, — самодовольно ответил Шульга. — Я же тебе говорил, что снегом нельзя — шкурка набухнет. А вот от тепла, гляди, оживел… Пусти его теперь.
Почувствовав, что его больше не держат, Куффи вяло подобрал лапы и сел с одурелым видом, почёсывая у себя левой рукой за правым ухом.
Бойцы торжествующе переглянулись.
Куффи сонно осмотрелся по сторонам, подумал и, разгребая руками перед собой мех, полез под полушубок.
— Прямо в рукав, — сказал Вяткин, — всё понимает. Значит, спать. Большого ума мартышка!
Мартышкой все называли теперь бедного Куффи, который не только не умел разъяснить, что он вовсе не мартышечьей породы (если бы он даже сам это знал), но даже не мог им подсказать своего настоящего, приятного имени Куффи, которое он любил и знал отлично.
Часа через два несколько бойцов, и своих и «чужих» из соседнего взвода, прослышавших про интересное, толпились в сторожке, заглядывая во все углы.
— Тебе говорю: не пугай, а пришёл, так сиди спокойно, дожидайся, — распоряжался Куличенко, — сам покажется!
Вяткин, как хозяин, строго позвал "мартышку":
— Цунь, а Цуня!
Но та не показывалась.
— Запугали, — недовольно объяснил Вяткин.
— Что я им и говорю, — запальчиво поддержал его Куличенко, — стой тихо, коли пришли. — И тут же, расплывшись от смеха, начал рассказывать:
— Что тут было! Стал это я в печку дров подкидывать. Она сидит, всё наблюдает… Только это я отвернись, а она как подскочит, как подскочит! Как полено схватит, к-ак его в печку жахнет! Мировая зверина! Уж я поскорее дверцу прикрыл, а то он как взялся, так и садит туда дрова, что кочегар, только искры летят. Честное слово! Вот хоть Кузьму спросите.
Все обернулись на Ершова, и тот, помедлив, степенно подтвердил:
— Действительно. Это было. Полено схватила — и в печку.
— Значит, тепло любит!
— Да где же, однако, он? Вы бы его хоть показали.
— Цуня, Цуня, Цунь-Цунь! Вылезь оттуда. Слышь, кому я говорю?! — уже просительно чмокал Вяткин.
— Не слушает, — сочувственно сказал один из любопытных.
Слегка сконфуженный неудачей, Вяткин встал, отряхивая колени, пожал плечами и сел к столу, где дымился только что снятый с печки котелок щей.
Но в эту самую минуту с полочки свалилась жестяная коробка зубного порошка, и следом за ней оттуда спрыгнула мартышка.
В два скачка она прыгнула на колени к Вяткину, вскарабкалась к нему на плечо и обхватила его рукой за шею.
Вяткин, покраснев от удовольствия, грубо пробурчал:
— Ты чего же это меня за лицо прямо своими лапами хватаешь, а?
Обезьянка потрогала ему рукой ухо, вдумчиво потянув в одну сторону, потом в другую, точно проверяя, правильно ли оно пристроено к голове. Затем вдруг, нахмурив лоб и выпятив губы, стала, близоруко вглядываясь, проворно копошиться в его коротко подстриженных волосах.
Раздался общий хохот, а обезьяна посмотрела на стол, выхватила из кучки сухарей самый большой, отшвырнула его и, зажав в каждой руке по небольшому сухарику, спокойно уселась и стала обгрызать их по очереди.
Вяткин принялся хлебать щи из котелка, осторожно под нося ко рту деревянную ложку, чтобы не облить обезьяну, возившуюся у него на коленях.
Скоро она перестала грызть и, подняв голову, несколько раз внимательно проводила глазами ложку со щами, сновавшую туда и обратно у неё над головой. Видимо заинтересовавшись, она приподнялась и, опираясь одной рукой о край стола, ухватила, потянула другой рукой Вяткина за рукав и тянула до тех пор, пока не пригнула к себе его руку с ложкой. Тогда она, вся вытянувшись от любопытства, ещё приподнялась и через край заглянула в ложку.
— Вот видишь?! — воскликнул Куличенко. — Вы про дрова сомневались. А он, гляди, щи хочет лопать. Вот зверина, так это да!
Придерживая ложку, обезьянка опасливо отхлебнула щи и отдёрнула голову. Несколько раз задумчиво облизалась, разом залезла в ложку всей пятернёй и потащила себе в рот капусту.
Вечером, когда солдаты пили чай, с треском откусывая маленькие кусочки и откладывая остаток каждый около своей кружки, обезьянка, прежде чем кто-либо успел опомниться, выскочила на стол, промчалась по кругу, на ходу обобрала все лежащие около кружек кусочки, набила себе полный рот сахару и, подскочив, повисла на перекладине над столом.
Несколько кусочков она выронила, но висела, покачиваясь и хрустя полным ртом, купаясь в клубах горячего пара из только что вскипевшего чайника.
— Ох ты ж гад! — закричали со всех сторон. — Ты что это делаешь? Разбойничать взялся?
Громче всех кричал, помирая от хохота, Куличенко:
— Ой, ну и вредный, чёрт! Это что ж такое? Скоро от него житья никому не станет. Да он всех отсюда повыживает… Ах, чтоб тебе, ну погляди, на хвосту качается, ведь дразнится, поганец такой, а?
Тут обезьянка, раскачавшись на перекладине, пролетела над головами сидевших, бросилась к тому месту, где спал Куличенко, и, ухватив в охапку лежавшую там его маленькую ситцевую подушечку-думочку, стала её изо всех сил теребить, мять и тискать.
С криком неправдоподобного отчаяния Куличенко бросился отнимать свою подушку, и пошла возня.
Глядя на них, даже степенный Ершов, который старательно орудовал иголкой в кусочках зелёного сукна, покачал головой и затрясся от беззвучного смеха.
На другой день в сторожке было жарко натоплено и необычайно тихо. Ершов всё копался в углу со своим шитьём.
Кто-то хрипло тихонько кашлянул. Вяткин обернулся и увидел, что Куффи сидит на его постели, по-бабьи накрывшись с головой одеялом, и кашляет, держась за грудь рукой. Вяткин подошёл и сел рядом с ним. Из-под одеяла, завёрнутого как платок, смотрели ему прямо в лицо, жалобно-просяще моргая, круглые детские глаза старого старичка.
На одеяле были разложены нетронутые кусочки печенья и сухарей, наколотый сахар и полпалочки шоколада. Немного посидев смирно, обезьянка перевела глаза на белую повязку на руке Вяткина, неуверенно протянула руку, осторожно потрогала, вытащила растрепавшуюся нитку и безучастно её понюхала и вдруг испуганно ухватившись руками за грудь, опять хрипло закашлялась, глядя в лицо человеку, видимо сама боясь и не понимая, что с ней, происходит.
Куличенко присел на корточки и, погремев жестяной коробочкой, подсунул её мартышке. Она послушно взяла её, подержала обеими руками и тут же выронила, вяло опустив руки.
Смущённо усмехаясь, подошёл Ершов.
— Вот, друзья мои, без навыку пришлось повозиться, но сколь сумел. — Ершов показал на ладони только что законченную пару до смешного маленьких, защитного сукна, сапожек вроде валенок на мягкой подошве…
Обезьянка осмотрела валенки у себя на ногах, хотела было их стащить, но раздумала — потихоньку подвигаясь, не вставая, проёрзала по нарам и стала копаться в углу.
Все уже знали, чего она ищет, — там у Шульги лежала бережно им хранимая его «запасная», как он её называл, казацкая баранья лохматая шапка-папаха домашнего изделия.
Вытащив шапку, Куффи опять закашлялся от усилия, едва отдышался и, ухватив её в охапку, обнял, притиснул к груди, с каким-то восторгом прижался щекой и начал баюкать, нежно и радостно попискивая слабеющим голоском…
Вероятно, ему казалось, что он снова нашёл своего старого приятеля Тюфякина, что сидит он с ним на шкафу в знакомой комнате у Рытовых, а за столом его поджидает его собственная нянька, слуга и друг — Козюков…
Если бы сейчас в самом деле его мог увидеть Козюков, в эту минуту лежавший без сна в тарахтевшем вагоне, где-то в тысяче километров от этой землянки, у старого циркача сердце облилось бы кровью от одного звука кашля, разрывавшего узкую грудку Куффи. Но, оглядевшись вокруг, он поблагодарил бы судьбу: вокруг он увидел бы обветренные лица солдат, много раз глядевших в глаза умирающих раненых, молча поднимавших с земли убитых рядом товарищей. Казалось бы, что им после всего этого захворавшая мартышка, баюкающая шапку? Забавное зрелище?.. Нет, лица были хмуры, невеселы. Это были лица друзей. Лица людей, чьи сердца в беде не черствеют, а становятся горячей, отзывчивей на чужую беду, чужое горе, чужое страданье.
Вечером в землянку зашёл лейтенант.
— Что ж невесёлые такие?
— Да ну! — махнул рукой Вяткин.
— Вот, — нехотя проговорил Шульга, — глядите. Мартышке-то нашей конец пришёл. Экая жалость. Уж как берегли, да нет, заболела, видно, обстановка не подходит.
Лейтенант увидел маленькое тельце, скорчившееся в обнимку с лохматой шапкой, до половины прикрытое сверху тряпочкой, из-под которой высовывались ноги в крошечных щегольских зелёных валеночках.
Кузьма Ершов с торжественной горечью крякнул и проговорил:
— Ну ладно, мы люди, мы за себя постоим! Так ведь никакому живому существу не оставили тихого угла на всём земном просторе. Вот до чего эти гады фашисты добились. А больше ни до чего…
Глава двадцать восьмая
Когда человек слышит слово «война», ему сразу же представляется пушечная пальба, разрывы снарядов и бомб, налёты самолётов, танковые атаки и пулемётные очереди.
На самом деле так оно, конечно, и есть, но это ведь только самый передний край воины, последнее звено в длинной цепи общей работы целого народа.
Если мы попробуем проследить, что нужно для того, чтобы на фронте раздался один-единственный выстрел из винтовки, попробуем вглядеться и проследить путь рождения хотя бы одного винтовочного патрона, начало этого пути не разглядеть ни в одну подзорную трубу — так далеко он начинается, где-нибудь на другом конце страны в глубоком руднике, через столько заводов проходит, через столько человеческих рук, управляющих печами, заводами, станками, химическими процессами, железнодорожными составами… И так же длинен путь каждой буханки солдатского хлеба, танка, пушки, подводной лодки: всё, всё это не перечислить в очень толстой книге.
— Война — это гигантская работа десятков миллионов с отчаянным напряжением работающих на своих местах людей самых разных профессий.
Но и на том переднем крае, где война выступает так наглядно и называется фронтом, в самой этой действующей армии люди в солдатской форме тоже ведут свою работу на сто ладов, каждый на своём месте, выполняя самую непохожую, разную, иногда неслышную, иногда громыхающую на десятки вёрст работу на земле, в воздухе, под землёй, и под водой, и на воде.
Елена Павловна Карытова, которую уже давно никто не называл иначе, как Лена, коротко, по-мальчишески, остриженная, в солдатском пятнистом комбинезоне, осторожно ступая, чтоб не задеть спящих и полуспящих, выбралась из блиндажа и постояла, ожидая, пока глаза привыкнут к полной тьме.
Почту привезли в темноте — подходы простреливались с высокого берега, занятого фашистами, за водой к речке тоже ходили в темноте, и не все возвращались, кто ходил, если вдруг неожиданно освещалась ракетой вся окрестность.
Сегодня она получила письмо из далёкого города в Азии. Может быть, от единственно близкого человека, кто у неё остался на свете: от Оли.
При свете коптилки она посмотрела конверт. Нет, почерк не Олин. Значит, письмо не от неё, но, конечно, о ней что-нибудь… Что? Всё равно читать нельзя: разволнуешься, вспоминать начнёшь. Нельзя.
Она спрятала письмо в карман гимнастёрки. Скоро на том месте, где лежало письмо, стало тепло, она гадала, что там написано, — этого тоже нельзя было делать, надо было просто думать: письмо, у меня письмо… вот оно греет, всё хорошо.
Её наблюдатель шагал впереди, осторожно ступая, чтоб не наткнуться на какой-нибудь ящик или жестянку, в траншейной тесноте найдётся всегда какой-нибудь неряха. А тишина стояла удивительная, прострочит где-нибудь в стороне автоматная очередь, и опять тихо. Тут фронт неподвижен уже целый месяц. У фашистов очень удобные позиции на высоком берегу речки, там за холмом они живут довольно удобно, и всё им видать сверху, так что ничейная, нейтральная полоса тут поневоле широкая, под самой горкой сидеть нашим ни к чему. Жизнь была бы спокойная, если б не потери от снайперов.
Только за вчерашний день убит солдат-пулемётчик Иващенко и тяжело ранен подносчик патронов, и это на участке всего одной роты, в тихий день.
Всю местность Лена знает, как будто тут родилась. Стрелковую карточку, где все ориентиры нанесены, она во сне видит, а снайпера засечь всё равно не удаётся ни ей, ни всем наблюдателям.
И каждую ночь, после того как зайдёт луна, она пробирается ползком к своему месту и ждёт, и смотрит, смотрит на пустое поле, лужи. Реки не видно, только чуть проглядывает берег, занятый немцами, с глинистой мокрой осыпью.
Лена пробирается, на ходу притрагивается к плечу, кивает пулемётчику, он будет смотреть в темноту, куда она уползёт, прикрывать её огнём, если понадобится.
Пулемётчики ничего не говорят, только кое-кто тоже ободряюще касается её плеча, и все смотрят в темноту ей вслед с чувством некоторой неловкости, виноватости: они остаются на месте, а вот девчушка сейчас пойдёт одна пробираться ползком к своему подготовленному гнезду. Будет весь день не шелохнувшись лежать и смотреть, не блеснёт ли оптический прицел, не шелохнётся ли травинка в тот момент, когда снайпер поведёт стволом. А может быть, он первым сам её заметит в ямке за кочкой, которую она себе устроила.
Далеко справа взвилась осветительная ракета, медленно прочертила свой след, и ещё некоторое время видно было её слабое зарево на земле.
Лена поднялась на земляную ступень и минуту вглядывалась в темноту бескрайнего изрытого поля ничейной земли.
Здесь, на стрелковой ступени, она была дома, среди своих, а за два шага от неё лежала мёртвая, ничейная земля, и чувство у неё было такое, как у человека, который, оттолкнувшись от твёрдой земли, собирался нырнуть в беспросветную черноту океана.
Она положила свою снайперскую винтовку с оптическим прицелом на бруствер, оттолкнулась, опёрлась коленом, и вот уже она в открытом поле делает первые шаги, прислушиваясь изо всех сил, всматриваясь. Позади она слышит дыхание — это наблюдатель Поликарпов сопровождает её до места.
У неё за спиной остались пулемётчики. Минуту, другую, они ещё могут различить плотное пятнышко темноты, когда она привстаёт, чтоб оглядеться. А вот теперь они уже её не видят: наверное, она утонула во мраке.
Вдруг вспыхнула тревога, поднялась перестрелка за излучиной реки.
Сейчас будет ракета. Лена растянулась на земле с широко раскрытыми глазами. Есть ракета, она её угадала за секунду, а теперь быстро оглядеть всё вокруг — ведь, может быть, где-то, вот так же пригибаясь к земле, ей навстречу ползут фашистские автоматчики…
Но вот она на своём месте. Это маленькая воронка, перед ней кочка, поросшая точно той же травкой, что и всё поле.
Шагах в двадцати от неё вдавленный в землю валун — идеально удобная позиция для снайпера. Для неопытного снайпера. Именно за таким валуном и будут наблюдать вражеские снайперы, они-то тоже опытные. А уж этот, который нашим головы из окопов не даёт поднять, этот чёрт своё дело знает.
Поликарпов дожидается, пока она устроится, и после этого ещё больше, чем нужно, задерживается, не сразу уползает, на всякий случай. Это сильный немолодой мужик — ему, видно, тревожно оставлять одну эту Ленку.
Всё тихо, если не считать, что кое-где постреливают, но к этому привыкаешь, как к тиканью часов. Это не тревожная стрельба — всё равно ночь кажется тихой.
Медленно бледнеют звёзды — это к рассвету. Письмо, нераспечатанное, лежит в кармане. Если она вернётся благополучно на свой берег ночного моря, она распечатает письмо, когда никто не будет мешать, и услышит, что ей говорит Оля или об Оле.
А сейчас нет никакой Оли. Есть ночь, есть снайпер, который убивает, как мастер своего дела, наших солдат. И надо его обнаружить, найти, убить, надо мёртво лежать, беречь, чтоб не устали, глаза и думать только об одном: где?
Не надо даже думать, что вместе с её письмом, той же почтой, из деревни пришло письмо убитому этим снайпером пулемётчику Иващенко. Не надо думать ни о любви, ни о ненависти. Надо укрыться, чтоб тебя не засекли, и ждать, ждать, ждать.
Перед рассветом она потёрла себе лоб пучком свежей травы, захваченной с собой, прикрыла сверху оптический прибор, чтоб не блеснуло стекло.
Стрелковая карточка была отпечатана у неё в памяти, как фотография, и она сверяла все отметины, ориентиры, не сдвинулось ли что-нибудь, не изменилось ли с прошлого дня.
Солнце уже встало высоко, тени стали короче, потом начали ложиться на другую сторону — всё совпадало со вчерашним. Лена прикрыла глаза, чтоб отдохнули. Открыла, глянула, снова отдохнула.
День тянется бесконечно; это было привычно, это была её работа, для которой её прислали сюда. Её маленькая работа в огромной работе войны: лежать, не выдавая себя, и видеть всё.
Как о далёком прошлом, она вспоминала о том, как больше года назад начала свою солдатскую работу санинструктором, вытаскивала раненых. Вспомнила, как её подружка Дуня говорила ей: "Уйдём отсюда, попросимся лучше хоть в пулемётчики, хоть куда хочешь, а то ты солдата спасаешь-спасаешь, а он у тебя на руках умирает, и все такие хорошие люди, не могу я этого выносить больше!"
Потом она однажды тащила сама мальчишку-солдата, он был лёгонький, да попробуй его тащить по земле на шинели, да ещё с винтовкой, да ещё зная, что наши отступают. И мальчик был в полной памяти и всё старался ей помочь и не мог. Она дотянула его, теряя последние силы, в укрытие до половины отрытого окопчика — стрелковой ячейки.
Какой-то раненый солдат полулёжа сидел там, прислонясь к земляной стенке, не шевелился и безучастно смотрел перед собой. Оглохнуть можно было от шалой автоматной пальбы наугад, как стреляли тогда фашисты в атаке. Потом уже их крики ясно стали слышны, и тогда солдат спросил:
— Заряжать можешь? Скорей на… бери, — и слабыми пальцами провёл по винтовке.
Она открыла затвор. Не по-бабьи, хватаясь пальцами за стебель затвора, а одним ударом толкнула налево — на себя — мгновенно и долго потом вспоминала, с каким облегчением, заметив это, выдохнул, странно это сказать, радостный стон раненый солдат.
Она зарядила полной обоймой, положила винтовку не на бруствер — его тут ещё и не было, — так, на откинутую комковатую глинистую землю; винтовка ей была тяжеловата с непривычки, и руки устали. Она прицелилась в бежавшего в полный рост автоматчика, выстрелила и промахнулась, хотя он был близко. Её жаром обдало от досады, и больше она ничего связного не помнила.
Заряжала, стреляла, быстро перенося прицел на тех, кто был ближе, очередь хлестнула по земле совсем рядом, она опять мягко нажала спуск, и автомат замолк, и беспорядочная цепь залегла.
Её раненый мальчишка, со стоном волоча ноги, торопливо ощупывал солдата, убитого очередью, вытаскивал и подавал ей обоймы, подбирал отдельные рассыпанные патроны.
Потом её кто-то, кажется, поднял с земли и понёс. Рядом с ней тащили раненого этого мальчишку, а он, захлёбываясь, говорил, говорил.
"Это у него такой шок", — хотелось ей объяснить кому-то.
Потом всё совсем спуталось на минуту или на час, и вдруг она широко открыла глаза.
— Это у тебя такой шок, — говорил ей кто-то.
— Как это я промазала, не понимаю, — говорила она. — Просто не понимаю, вот испугалась, думаю, вот, думаю, они его сейчас захватят…
— Ах, промазала? — участливо спросил тот же голос.
И она, хотя глазами всё видела прекрасно, только тут поняла, что это над ней стоит сгорбившись долговязый комбат Гаврилов, а она сидит и вслух разговаривает. Она замолчала и хотела встать, но он угадал её движение и схватил за плечи, нажал, прижимая к месту.
— Ты опомнись… — сказал он. — Ты сейчас где?.. Ты кто? Ты кругом оглянись… опомнись… Ну, посмотри!
И она увидела свою ногу: штанина солдатских кальсон была разрезана выше колена и плотно забинтована. Нога лежала, как палка, только очень толстая, и глухо ныла.
— Что это? Без ноги? — спросила она. Сильной боли в ноге она не чувствовала, только где-то гораздо выше, как будто в пояснице.
— Тебе укол сделали. Нога твоя при тебе, на своём месте, это осколками тебя. И оглушило. Ты сейчас-то всё соображаешь, а, Лена?
— Я всё время соображаю.
— Ничего ты не соображаешь. Тебя сейчас отправят. Я вот на минутку вырвался проститься. Ты пиши.
— Хорошо. А что писать? То есть куда писать?
— Ничего не соображаешь, — сказал Гаврилов. — Нам пиши. Сюда пиши. В свою часть. По своему адресу. Ясно? Кому — неважно. Напиши "от Лены", можешь фамилию свою добавить, можешь и не надо, тебя все будут помнить. — Он нагнулся и поцеловал её в лоб и грубо гаркнул: — Носилки! Давай бери живей… На тебя это такое вдохновение обрушилось или ты где-то так стрелять выучилась?
— А-а… — сказала Лена. — Вы, значит, в стереотрубу видели?.. Я первый раз промахнулась.
— Первый раз, а дальше? Что было? Это у тебя откуда взялось?
У неё закружилась голова, она увидела, что на неё смотрят знакомые лица.
— Чудо-снайпер!
— Что?
— Это я! — сказала она, и ей показалось, что она засмеялась своим смешным словам…
В госпитале её догнала медаль "За отвагу". Что там Гаврилов ещё написал, она не знала, но когда зажили осколочные раны, на комиссии её расспросили и направили на курсы снайперов.
Ей немножко смешно было, что её станут учить на снайпера, когда она на первых же учебных стрельбах показала такие результаты, что инструктор велел ей оставаться на месте, пошёл за начальником, поставили ей пять головных мишеней, засекли время по секундомеру, и начальник долго жевал губами, недоверчиво разглядывая пробитые мишени, хмыкнул и сказал:
— Таким, значит, образом? Э?.. Ну что ж… Это хорошо.
Она думала, что её тут же, после этой проверки отправят на фронт, подождала немножко, а потом попросилась сама.
Ей отказали. Она подала рапорт.
Тогда её вызвал старший инструктор курсов вечером в канцелярию. Он сидел за столом, где днём строчили ведомости и расписания, а сам он никогда не сидел.
В руках он держал её рапорт и смотрел на него так, будто там разглядывал очень скучную или даже грустную картинку.
— Вы, товарищ Карытова, проситесь на фронт, полагаете, что вполне подготовлены вести работу снайпера и учиться вам нечему?
— Надеюсь справиться, — сухо ответила Лена.
— Так, — сказал он. — Я ещё одного знаю, кто на это сильно надеется.
— Кто?
— Сейчас скажу. Вы, товарищ Карытова, полагаете, что снайпер — это кто умеет стрелять? Вижу, можете не отвечать. Конечно, не без этого. А встретитесь вы со снайпером, который окончил специальную школу. Фашистскую, очень злую, но вполне толковую. Очень для нас опасную школу. И он себя под вашу пулю вовсе не подставит. А вы себя подставите и не заметите как, когда напоретесь на снайпера, конечно. Обыкновенного стрелка вы уничтожите при равных условиях. Так. Опытного фронтового стрелка — тоже очень возможно, потому что у вас действительно реакция, как у чертёнка или, например, у трясогузки — вот она тут, а вот её уже нет. И цель поражаете на стрельбище отлично. Это когда вам цель видна. А настоящий снайпер себя не покажет. А как этого добиться — это целая наука, и ради этого, чтоб вас выучить, я тоже сижу тут и обучаю, когда моё место на фронте, и я тоже сам снайпер, а рапортов не подаю… Хотя подавал, было время, но вот терплю. А терпение — это для снайпера половина характера. Ровно пятьдесят процентов. Кто кого перетерпит, тот и выиграл.
Кто такой снайпер? Он для нас как ядовитый змей, он может вокруг себя десятки солдат выбить за короткий срок… И когда такой заведётся, ядовитый, его только и может такой же специальной выучки снайпер обезвредить…
Надо не так думать: ах, я мечтаю скорей на фронт! Это всё хорошо и понятно. А думать: а о чём мечтает сейчас враг? А он мечтает, чтоб мы его дураком считали. Это самая его приятная мечта и отрада, потому что он совсем не дурак, а наоборот, своё дело очень даже знает.
Своей стрельбой ты его не возьмёшь, потому что не увидишь — вроде именно того подколодного змея: укусил и опять под колоду! А у солдата пуля во лбу.
Вот возьми свой рапорт и никому не показывай, а через неделю занятий приходи, и поговорим: зря я тебя не отпустил или правда тебе учиться тут нечему…
К концу беседы он перешёл на «ты» — это был признак доброго расположения.
В этот день, когда Лена Карытова кончила курсы, она зашла к инструктору и сказала:
— Насчёт того моего там рапорта. Наверное, вы подумали — вот дура. Я и была дура.
— Какой рапорт? Я и забыл. — Он усмехнулся, потому что нисколько не забыл, конечно. — "Обыкновенная история", как один писатель сочинил название. Сердце горит, а надо учиться. Вот такая зануда, вроде меня, скрипит тебе, скрипит и на ящике с песком фигурки показывает. Это ничего. Сам был глуп да и сейчас не совсем поумнел, кажется.
Сердце горит, пускай, только ровным огнём! Чтоб прицел не дрогнул. А я тоже ведь хорош. Сам подал рапорт, что подготовил замену. Теперь жду, как меня начальник вызовет, будет объяснять то именно самое, что я тебе втолковывал…
Ты теперь всё знаешь, что я знаю. Я бы тебя тут оставил обучать, а? Не-ет, я знаю. Счастливо тебе, Лена. У тебя муж есть?
— Нет.
— А был?
— До начала войны был.
— Ясно… Вот так, всё поговорить некогда, всё собирался — да уже поздно. — Он улыбнулся виноватой улыбкой встал и протянул руку.
Глава двадцать девятая
Теперь это где-то далеко позади, хотя после окончания курсов прошло всего два месяца; у неё двузначный счёт уничтоженных врагов, солдатский орден, слава на всю дивизию, и после того, как на участке у речки стали нести потери от снайперов, её командировали сюда, и вот четвёртую ночь она ждёт, смотрит, и ещё убит фашистским снайпером наш солдат, а снайпер себя не обнаружил. Она расслышала этот отдалённый выстрел вчера и не увидела ничего, вся напряглась, ждала, ждала… И наблюдатель ничего не видел.
Солнце пошло к западу, тени перешли на другую сторону. Лена все тени осмотрела, но они ничего не открыли. Нет, снайпер-фашист был не дурак, который укрылся в тени дерева или камня, не сообразив, что рано или поздно тень уйдёт.
Вдруг в одной из множества луж что-то будто блеснуло, мельком. Так может стёклышко блеснуть, когда на него попадёт луч низкого, закатного солнца, но тогда оно не погаснет в ту же секунду. Стрекоза крыльями может блеснуть, задев воду, но вода не дрогнула.
Припав к оптическому прицелу, уловила, как будто трава около лужи не так колыхнулась от ветра, как кругом, будто мешало этим считанным травинкам с ромашкой так же свободно качнуться, что-то их придерживало. Она не отрывала больше глаз, в голове у неё стучало: ствол… ствол… ствол… Она его не видела, но ждала, изо всех сил ждала, автоматически уже определила, где должен быть человек, если обрез ствола покажется среди травинок, и увидела, как ромашка качнулась, наклонилась и не выпрямилась, бездонный чёрный провал отверстия обреза ствола плавно и быстро чуть-чуть повернулся прямо к ней, головной убор из травы вокруг каски, точно травинки двинулись хороводом, повернулся, и она плавно нажала спуск, кажется, прежде, чем полностью разглядела, и уже после вспомнила, что видела всё: замаскированную травой каску, оптический прицел и потом ствол, вставший дыбом, застывший, точно целясь в небо.
Сразу после её выстрела перед ней открылась новая цель — в воронке, накрытой маскировочной сеткой, сейчас быстро, неровно, в торопливом поиске цели, поворачивался в её сторону другой снайперский прицел, нащупывая её там, куда целился первый снайпер и не успел выстрелить. Лена выстрелила — и вот тут сделала непростительную ошибку. Её не обнаружили, но то, что два снайпера были убиты, подняло переполох. Надо было намертво лежать не шевелясь и пережидать, а она вдруг увидела новую цель. Это была азбука: снайпер стреляет один раз. Может быть, в особых случаях, очень редко — два раза. Но стрелять в третий раз — значит обнаружить себя и погубить. Но она увидела цель, в первый раз такую цель, и всё забыла.
Странно сказать, Лена, которая и сейчас ни за что не согласилась бы выстрелить в кошку, не то что в живого человека, учившаяся стрелять по фанерным головным мишеням, сейчас только убила двух снайперов и очень удивилась бы, если б ей сказали, что это были люди. Она убивала убийц — значит, просто-напросто спасала тех наших солдат, которых убили бы эти убийцы. Это была её работа, её специальность, её доля в громадной всенародной многообразной работе, которая обозначается словами "Отечественная война".
И когда в разгаре мгновенно вспыхнувшей тревоги Лена вдруг увидела поднятую руку с ракетницей над узким ходом сообщения и эта рука поднялась ещё выше, она увидела в самый первый раз в жизни, на одно-единственное мгновение, фашистского офицера. Он был в точности такой, каких она видела на фото: "Фашистские войска у Триумфальной арки в Париже" и "Фашисты в белорусской деревне". Они стояли там непринуждённой компанией, столпившись, как любят сниматься на память туристы на фоне какого-нибудь водопада, — фотографировались на фоне виселицы, где, неподвижно застыв, с искривлёнными шеями, висели двое босых мужчин и девушка в рваной юбке…
Лена знала, что почти наверняка губит себя: она безошибочно посадила пулю чуть ниже козырька каски, рука офицера дёрнулась, и ракета пошла не вверх, а вбок, почти по земле.
"Третий выстрел — это конец". Она слышала голос инструктора, повторявшего эти слова, она выползла из воронки, вскочила и, сгибаясь, побежала навстречу заходящему солнцу, к своим, понимая, что никогда не добежит по открытому полю до окопа. Ноги от долгого лежания были как деревянные, не давали бежать быстро.
Появление бегущей согнутой фигурки в пятнистом комбинезоне было до нелепости полной неожиданностью. И вот эти секунды неожиданности, позволившие ей пробежать десяток шагов, кончились; она ждала, чувствовала всей спиной, знала: сейчас конец, тишина разорвётся прицельной пулемётной очередью — и, сама не зная, нарочно или нечаянно, споткнулась на краю воронки и скатилась на дно.
Приподняла голову и среди вспыхнувшего громыхания стрельбы по всему участку фронта увидела, как бесконечная пулемётная очередь беснуется, взбивая землю на краю воронки, отрезая ей выход в сторону своих окопов.
Издали предупреждая о себе мерзким звуком, мины шлёпались и вот уже прямо накрыли её укрытие, где она лежала минуту назад. Ещё одна ударила в сухую землю, перелетев через её голову, взметнув целую тучу дыма и земляной пыли.
Тогда Лена выскочила из воронки не вперёд, куда бежала, а в сторону, упала, поднялась, кинулась опять в сторону, прямо в муть и сумрак облака взбитой земли и дыма.
Ей казалось, да, можно сказать, что так оно и было, что это в неё бьют сзади миномёт и пулемёты, вся линия фашистских окопов, а ей в защиту, прикрывая, бьют наши пулеметы, и вот уже пушки ударили — и с нашей стороны.
Её толкнуло что-то громадное, тяжкое и горячее, чему она не могла сопротивляться, потому что стала лёгкой, невесомой и потеряла землю под ногами. Это было мимолётное, мгновенное ощущение, после которого она не чувствовала ничего.
Глава тридцатая
Поезд всё дальше уходил от войны на восток. Часто он простаивал у какой-нибудь станции долгими сутками, точно завязнув среди бесчисленных, бесконечных цепочек таких же вагонов.
Навстречу им с востока мчались эшелоны с углем, нефтяными цистернами и воинские эшелоны со спокойными, рослыми солдатами. Они стояли, облокотившись на перекладины, положенные поперёк открытых дверей вагонов, легонько кивали и усмехались в ответ, когда дети или девушки махали им вслед, как будто ехали из Сибири не на фронт, а действительно отправлялись куда-то на работу…
Оля свыклась уже с мыслью, что они, наверное, всем вагоном так и останутся жить на всю зиму около этой чужой станции, никогда не сдвинутся с места, и вдруг, среди ночи, сквозь сон, слышала постукивание колёс, знакомое подрагивание пола: поезд продолжал свой путь! Они опять куда-то ехали, и, хотя впереди её не ожидало ничего хорошего, всё-таки это было лучше, чем стоять.
Бывало, что поезд вдруг замедлял ход и останавливался на пустом месте среди безлюдных полей, и стоял, не двинувшись, час, два, и, точно набравшись сил, опять полз дальше.
Уполномоченные от вагонов ходили получать на больших станциях хлеб, а за кипятком бегали добровольцы, и тут Оля была одной из первых.
С каждым днём в нетопленных вагонах делалось всё холоднее. Оля никогда не думала, что кружка кипятка способна согреть, развеселить, успокоить, а иногда, казалось, прямо вернуть к жизни окоченевшую, застывшую в неподвижном унынии старушку Ландышеву. Это была вовсе не знакомая никому старушка, а как она очутилась в вагоне, никто не знал, и кто она — не интересовался; где-то у неё остались дети, усадившие её в поезд, и где-то были внуки, к которым она смутно надеялась добраться, — вот и всё.
Ещё стало известно, что у неё нет ни чайника, ни бидончика, ни кувшинчика, как у других. У неё была не то чашка, не то вазочка, такая неудобная и мелкая, что когда до Ландышевой доходила очередь у кипятильника на станции, как ни старалась она только чуть-чуть повернуть толстенную деревянную рукоятку широкого медного крана, из которого так быстро наполнялись полуведёрные солдатские чайники, струя крутого кипятка хлестала с такой силой, что вазочка оставалась почти пустой, очередь нетерпеливо напирала и ворчала сзади, и Ландышева уступала, бережно уносила, стараясь не расплескать свою несчастную вазочку-чашечку, заползала кое-как с ней по ступенькам, усевшись в свой уголок, пробовала прихлебнуть разок-другой и долго подслеповато моргала, пытаясь сообразить, как это опять получилось, что кипятка вовсе нет, как не бывало.
С ней делились владельцы чайников, хотя им самим не хватало, и она стеснялась и приговаривала: "Спасибо, спасибо, довольно, куда мне столько, и так уж вы мне ужас как много налили, я даже не могу…" — хотя ей, видно, хотелось ещё.
Оля стала первым человеком, чемпионом по доставанию кипятка. Едва поезд подходил к станции, она уже стояла на площадке, с двумя чайниками в руках, безошибочно определяла: проехали кипятильник или не доехали до него. На замедляющемся ходу соскакивала, мчалась первой из всего поезда к заветным кранам и возвращалась первой, как победитель. И все ужасались её отчаянности и восхищались её удачей и ловкостью, а Ландышева выпивала по три вазочки и оживала надолго. А потом всё начиналось сначала: станции долго не было, поезд еле полз, все мёрзли, кутались, цепенели, ждали.
Оля давно уже лежала поперёк сидений на чьих-то узлах и тючках, которыми был заложен проход, смотрела в потолок и время от времени без особенного любопытства вдруг отмечала, что вот она лежит, смотрит и ни о чём не думает.
Счёт дням и неделям этого пути уже спутался у неё в голове. Куда мы все едем?.. Мы просто едем из города, который, наверно, уже захватили фашисты. Едем «оттуда», а не «туда». Едем и едем. Где-то там есть дедушка, которого она никогда не видела, хотя он-то её видел, кажется, маленькую.
Но дедушка — это было что-то неясное и неопределённое, старое, с белой бородой, и неинтересное. Позади осталась мама, милая, единственная мама, похожая на подростка в солдатской шинели со взрослого солдата. "Мама!.. А отец? У меня нет отца", — повторяла она себе, и это была неправда. Он всё-таки был. Было на его месте какое-то незаживающее больное место в душе, неразборчивая смесь давних обид, новой обиды, оскорбления за маму, отвращения, злобы и какого-то непрошеного, постыдного чувства скрываемой любви, в которой даже себе стыдно, до ожесточения стыдно, признаться.
Она и не признавалась себе. Твердо решила всю свою жизнь прожить, до самой старости так, чтобы никто заподозрить даже не мог, что могла бы у неё расцвести, раскрыться эта возможная, но так и не сбывшаяся, стыдная любовь к отцу, так предательски оскорбившему маму.
А поезд, равномерно постукивая, всё шёл куда-то на восток. Оле казалось, что некуда и незачем ему было приезжать, она ничего не ждала. Пускай едет… Надо только добывать кипятку для соседей, для Козюкова, для себя, для Ландышевой…
Привычным слухом уловив, что поезд стал замедлять ход, она проворно вскочила, расправила куртку рыжего лыжного костюма с шароварами на резинках, натянула вязаную шапочку и, выйдя на площадку, стала высматривать, нет ли признаков приближающейся станции. Поезд уже еле полз и скоро остановился опять на пустом месте. Слева — никакого жилья, справа — стог сена, какой-то дом или изба, а дальше дорога в лес, присыпанная снегом.
Зачем живут здесь люди, что они делают тут, на краю леса, неужели им не скучно тут на безлюдье?.. А поезд-то ведь стал и стоит!
Оля схватила чайник и соскочила на землю. Состав длиннющий, паровоз где-то далеко. Стоит и совсем затих, даже не пыхтит, точно спать тут собрался.
Оля сбежала с насыпи, отошла шагов на двадцать и ещё раз внимательно пригляделась к паровозу, не собирается ли он проснуться и двинуться дальше. Нет, он застыл, видно, надолго.
Несколько раз она опасливо оглянулась, пока шла к домику, добежать обратно она всегда успеет, даже с полдороги.
С полдороги она оглянулась ещё раз, на минутку стало жутковато: а вдруг поезд тронется?
"Добегу!" — и она бегом помчалась к домику у леса.
— Пожалуйста, не можете ли вы нам кипяточку, воды согреть?.. — торопливо подбегая, ещё издали крикнула Оля.
Унимая собачонку, старуха в платочке вышла к ней навстречу, во дворик, как-то вроде бы символически огороженный тонкими, кривыми жердинами. Вместо ворот было просто пустое неогороженное место, через которое шла чёрная, уже чуть присыпанная свежим снегом по краям колея проехавшей телеги.
Оля на разные лады всё повторяла про кипяток, показывала и совала старухе под нос чайник с открытой крышкой и рубль вытаскивала из кармана, а старуха всё унимала собачонку, грозилась на неё, даже тогда, когда та сама подошла к Оле и далась погладить…
Ничего не помогало, разговор всё равно шёл, как у двух глухих:
— Бабушка! Бабуля! Мне кипяточку бы!
— В будку! Пошёл в свою будку, чертище!
— Водички бы! Согреть бы, а, бабушка!
— Кому я велела в будку? Неслух пёс до чего!
Во время разговора Оля ежеминутно оглядывалась, посматривала, не подаёт ли признаков жизни паровоз, и уже последнее терпение теряла, а бабка всё ругалась с собакой.
Наконец собачонке первой всё это надоело, она повернулась и, еле передвигая ноги, двинулась по направлению к будке, больше похожей на рассохшийся скворечник. На полдороге она демонстративно уселась и принялась скрести лапой за ухом, стараясь достать подальше, всё дальше, пока, потеряв равновесие, не завалилась на бок.
И тут вдруг старуха сказала:
— Сейчас скоро вскипит, — приоткрыла дверь.
И Оля разглядела в сенях маленький чумазый самоварчик, чуть дымивший прогорелой трубой.
Оля потрогала чумазый его тёплый бок. До кипения было далеко.
— Ну, ну… — сказала старуха, когда Оля попросила позволения подложить в самовар сосновых шишек из корзины, стоявшей в углу.
Самоварчик вскоре оживился, стал греться не на шутку. Оля то и дело выскакивала поглядеть, как ведёт себя поезд, — он стоял, как длинный ряд одинаковых домиков, решивших основать тут постоянный посёлок и остаться жить навсегда.
Самоварчик зашумел, пыхнул даже тонкой струйкой пара, Оля хотела подставить свой чайник, но кран самоварчика был низок, нужно было его поставить на стол, и тут какое-то чувство непоправимости чего-то вдруг пробежало по спине у Оли, она, подхватив пустой чайник, бросилась из сеней к двери и увидела сразу, что поезд тронулся, пошёл, уже идёт, погромыхивая колёсами, а сонный паровоз очень бодро бухает паром, вдалеке, уходя за плавный поворот дороги, таща за собой длинный хвост вагонов.
Оля бросилась бежать к поезду, в первую минуту той же дорогой, что шла к дому, но быстро сообразила, что к своему вагону ей, пожалуй, не добежать — он был в середине состава, — и она свернула напрямик, к железной дороге, не выбирая вагона, просто чтоб добраться до какой-нибудь площадки, уцепиться и хоть на ступеньках проехать до ближайшей остановки, только бы не отстать.
Она мчалась во весь дух, крышка чайника, привязанная верёвочкой к ручке, гремела, подпрыгивая. Чайник мешал бежать, но она всё не решалась его бросить — это был чужой чайник, поивший горячей водой десять человек.
В груди было больно, при каждом вдохе не хватало воздуха, но сейчас это ей было всё равно, только бы добежать! Карабкаясь на насыпь, она уже видела совсем близко последние четыре вагона, она успевала! Только что, очень медленно, прошёл у неё перед глазами обыкновенный пассажирский вагон, за ним шёл товарный… Она уронила чайник, освободив руки, приготовилась схватиться за любую железку, поручень, выступ, буфер, — поезд шёл так медленно!..
Вот и последний хвостовой вагон — с наглухо задраенными дверьми, без ступенек, без площадки… Она кинулась за ним вслед, пробежала по шпалам несколько шагов, даже ладонью ударилась о край — вагон был обтекаем, как рыба, схватиться было не за что.
Оля споткнулась о шпалу, упала, ударившись коленом, мгновенно вскочила, готовая действовать, и медленно опустилась на землю. Ей казалось, грудь у неё сейчас разорвётся.
Поезд очень медленно уходил. Очень медленно для поезда и очень быстро для человека, даже отличного бегуна.
Не страх, а какая-то ужасная, злая досада на непоправимость происшедшего терзала Олю. Она бы заревела, но после отчаянного бега слишком болела у неё грудь и дыхания не хватало.
Подумать только — вот минуту назад тут проходил пассажирский вагон с обыкновенными ступеньками, вот на этом самом месте, где она стоит. А уж вскочить она бы сумела.
Поезд, уползавший за редкий придорожный лесок, был очень хорошо виден.
Может быть, до станции совсем недалеко? Может быть, там поезд простоит целые сутки? Оля спустилась под откос, подобрала чайник и быстрым шагом пошла по извилистой, еле заметной, но всё-таки какими-то живыми людьми протоптанной тропке, тянувшейся параллельно железнодорожной насыпи. Солнце мутным пятном светило, низко спускаясь над тёмным лесом, — значит, скоро стемнеет. Одиночество, какого она не знала никогда, ужаснуло её: её никто не ждал, она потерялась в пустыне, на чужой планете, где нет людей, некуда ей идти… Разве догонять поезд?
Едва отдышавшись, она побежала, сколько могла, опять пошла и опять побежала. Ещё некоторое время было видно, как длинный поезд уже беззвучно втягивался в не очень дальний лес, пока последний вагон не исчез за деревьями.
Без всякой надежды Оля шла и шла по шпалам, в ту сторону, куда ушёл поезд.
Утихла жгучая досада, что вот на минуточку только она не поспела, упустила…Что?.. Своё место в двигающемся куда-то закутке на чужих чемоданах рядом с Козюковым?
Но другого места на всём земном шаре у неё ведь не было, позади война, и где-то на этой войне мама Лёля, а впереди какой-то незнакомый дедушка, к которому надо добираться до Ташкента.
Опушка леса, в котором исчез поезд, точно заколдованная, нисколько не приближалась, хотя Оля шла очень быстро.
Одна на всей необитаемой земле с бесконечными полями, присыпанными сухим снежком, обещавшим скорое наступление холодов и зимней тьмы… Нет, хуже чем необитаемой. Мимо Оли с громом и долгим тарахтеньем колёс проносились поезда в обе стороны. Иногда на неё смотрели из окошек без удивления и сочувствия — наверно, думали: вот идёт куда-то девочка, помахивая чайником. Кричать, подавать знаки бессмысленно — поезда не останавливаются.
И они проносились мимо, скрывались вдали, оставляя после себя пустоту.
Холодное солнце касалось краем горизонта, когда кончился лес и впереди открылись опять пустынные и бесконечные поля. Ещё не было страшно, но было уже таинственно.
Посреди луга показалась избушка.
Быстро темнело. Оля обошла вокруг избушки, отыскивая дверь, но двери вовсе не было. Она даже не удивилась. Окно без рамы, без стёкол было странно высоко от земли. Она покричала под окошком, позвала хозяев, чувствуя, что хозяев тут и быть не должно. Вскарабкалась на окно — хотела заглянуть внутрь — и ткнулась лбом в сено. Очень кололо руки и щёку, пока она прорывала себе проход, но с другого края было просторнее. Оля повозилась, устраиваясь поудобнее в порке, и легла свернувшись, глаза сами закрывались от усталости. Длинные переломленные травинки, подсохшие цветочки перед самыми глазами ещё виднелись в красноватом свете из окошка. Чья-то мордочка вынырнула как на пружинке, осматривая и прислушиваясь с озабоченным видом, точно хозяйка, забежавшая поглядеть, какой беспорядок устроили в её доме. Оля вдруг встретилась глазами с чёрными крошечными глазками, глядевшими на неё в упор. Похоже на мышонка, только ещё меньше. Оля хотела улыбнуться, но сил не хватило, и она заснула.
Полупроснулась в темноте, в неизвестности, в шуршащей пустоте, смутно поняла: вот какой нелепый сон, колючий, душный.
Когда приснится плохой сон, надо сказать себе, это сон, сон, надо поскорей проснуться — и сна не будет. Она пошевелилась, заморгала и вдруг с испугом поняла, что вот она уже не спит, «это» не сон, а взаправду, но что «это», она понять всё равно не могла, где она? Кто она? Что это вокруг?
Мама?.. Нет, мамы тут нет, она на фронте… Ага, поезд! Она едет в поезде, куда-то к дедушке…
И вдруг её разом обдало, точно на неё выплеснули целое ведро ледяного страха: она отстала от поезда, не успела добежать, уцепиться, поезда проходят мимо, все поезда на свете будут проходить мимо неё, а она, потеряв последние силы, свалится где-нибудь в поле, заснёт, замёрзнет, умрёт.
Ей нестерпимо жалко стало себя: как она лежит около бугорка и её заносит снегом, а бедная, милая мама, дорогая мама, она одна бы пожалела и спасла — мама даже не узнает, и никто не узнает, что вот сейчас ночью она, одинокая девочка, лежит в избушке без дверей.
Вдруг вспомнила об отце, и ей даже полегчало от какой-то злорадной ненависти. Она даже плакать перестала, и страх утих.
— Ага! — заговорила она вслух, удерживая прерывающие голос рыдания, нарочно, чтоб ему было слышно, как если б отец был рядом. — Добился своего. Теперь доволен? Вот где я очутилась из-за тебя! И погоди, что ещё будет, — вот подохну тут, а ты грейся с фруктами на солнце, грейся, грейся. Вот узнаешь когда-нибудь, тогда посмотрим… Ну пускай и не узнаешь, всё равно ты во всём виноват. Низкий человек…
Конечно, лучше бы, чтоб он всё-таки узнал, хотя ей-то всё равно, она его презирает… За маму. За себя бы она могла его и простить. Так, пожав плечами, равнодушно. За себя. Но за маму? Ну никогда. За маму? Это беспощадно. Это навек. Навсегда…
Она проснулась от озноба, когда уже рассвело, выкарабкалась из сена и, вылезая из окошка, почувствовала, до чего холодней снаружи.
За ночь ещё выпал снег. Пряча замёрзшие руки под мышки, подцепив дужку чайника на сгиб локтя, она поплелась к железнодорожному полотну, тупо и равнодушно проводив глазами поезд, который зачем-то шёл откуда-то, куда-то.
Глава тридцать первая
Минутами Оля вдруг старалась припомнить, сколько времени она вот так идёт пешком, следом за уехавшим поездом, и не могла припомнить: выходило не то три дня, не то четыре… А вдруг шесть?.. Или это вчера она ночевала в избушке без окон, без дверей?
Шла и всё думала о тех горячих картошках, которыми с ней поделился путевой сторож. Их было четыре: одна так себе, одна громадная, пузатая, с шишками и головкой, и две совсем маленькие. Даже шкурка у них была вкусная, с солью…
Шла и шла, помахивая пустым чайником, безо всякого интереса отметила, что вместо тропинки, которая вечно бежит, виляя, рядом с железнодорожным полотном, под ногами появилась наезженная дорога со следами шин.
Далеко в стороне показался дом, потом домики пошли всё чаще — деревянные, одноэтажные, все с заборами, за которыми слышался собачий лай со злобным сиплым придыханием.
Навстречу прохожие стали появляться, некоторые оглядывались на Олю, даже приостанавливались, хотели, наверное, что-то спросить.
И спросили бы, наверное, но тут помогал чайник. Идёт девочка, худая, угрюмая, по сторонам не глядит. Откуда попала эта, никому не знакомая девочка на улицу их посёлка? Однако чайник у неё в руке всё объяснял: идёт девочка за водой. Или несёт кому-то кипяток. И никто её не останавливал, а ей того только и нужно было: идти, идти до самой станции, где может быть, или не может быть, а всё-таки вдруг стоит её поезд.
Натёртые, усталые ноги ныли и горели, но её это не касалось. Она давно твердо решила, что ноги должны идти до станции, и больше не желала ничего о них знать.
И ноги послушно шли, шагом, как им было ведено, а сама Оля сквозь усталость, лёгкое голодное головокружение, точно сквозь полудрёму, с чувством постороннего равнодушия видела всё, что было вокруг.
Услышала паровозный гудок. Рельсы стали разбегаться в разные стороны, путей становилось всё больше…
Показалась кирпичная башня водокачки, стрелки, пакгаузы, ещё один поезд, обгоняя девочку, прогрохотал мимо, медленно и всё замедляя ход. Слышно было, как он близко остановился где-то среди других, растянувшихся, ждавших своей очереди на отправку, длинных составов.
И вот она уже на вокзальном перроне, и вот будка с надписью «Кипяток», и очередь людей с чайниками и бидончиками, сбегающихся со всех сторон к этим толстым, с большими деревянными ручками кранам, из которых с силой бьют окутанные паром струи кипятка.
Это было так знакомо, привычно, как будто она домой попала. Она всунулась и стала в очередь, на полсекунды опередив двух подбегавших бородатых мужиков.
Потом с полным горячим чайником, бесцельно побрела сквозь суматошную толпу, двигавшуюся впопыхах, толкавшуюся по перрону.
На минуту ей показалось, что кто-то машет ей, бежит навстречу, она представила себе Козюкова, как он, изнемогая от волнения, радостно, по-бабьи всплёскивает руками, вот сейчас подбежит, схватит и поднимет её на воздух… Она даже улыбнулась своим мыслям и тут же всё позабыла.
Стараясь не расплескать кипяток, прошла мимо нескольких вагонов совершенно чужого поезда, пролезла через площадку на соседний путь, где тоже стоял поезд, и тоже чужой.
Опять поезд с наглухо закрытыми окнами и дверьми…
Свой-то поезд она узнала бы сразу — ведь он почти весь был составлен из вагонов электрички… Скоро искать стало нечего. Она опять стала припоминать, сколько дней прошло с тех пор, как она отстала, опять не вспомнила, только подумала: «Много» — и снова выбралась на перрон.
Мимо неё какой-то мальчишка протопал большущими сапожищами. Его ноги в узких штанишках болтались в них, как пестики в ступках.
Он мчался зигзагами, ныряя под руки встречным, протискиваясь боком в тесноте. На шее у него, свисая до колен, мотаясь на бегу в виде какого-то шутовского ожерелья, болталась связка ливерных колбас.
За ним, с виду неторопливо, однако не отставая нисколько, гналась крупная женщина с совершенно спокойным лицом, настойчиво, даже не повышая голоса, она всё время повторяла строго и терпеливо:
— Колымакин!.. Я к кому обращаюсь, Колымакин!
Мальчишка добежал уже до дверей вокзала, сунулся было туда, но отскочил обратно, попробовал пригнувшись проскочить дальше через толпу и влетел с разгона головой в живот человеку с чайником. Человек громко икнул, кому-то плеснуло кипятком на ноги, мальчишка заверещал:
— Пусти, чёрт толстопузый! — И тут же стало видно, что он брыкает ногами в воздухе, а кто-то поднял и держит, не допуская коснуться земли.
Из дверей вышел милиционер и взял мальчишку за руку, тут же подоспела и женщина, но прежде чем она взяла беглеца за другую руку, тот схватил колбасу, висевшую на конце «ожерелья», и погрозил ею тому, кто его поймал. Колбаса мягко моталась у него в кулаке, когда он потрясал ею, как дубинкой.
В толпе кто-то засмеялся.
— Позор, — сказала женщина спокойным голосом. — До чего ты докатился, Колымакин. Откуда эта колбаса?
— И где колбаса? Которая колбаса?.. Ух ты! Гляди-ка!.. А я безо всякого внимания!.. Даже удивляюсь, чего это на мне будто в виде кашне болтается…
— Иди и не болтай, Колымакин. Почему никто у нас не убегает, один ты?
— Какой такой Колымакин? Я нипочём не признаюся! Даже в первый раз вижу!
Милиционер, придерживая за плечо увешанного ливерной колбасой Колымакина, повёл его в здание вокзала, а женщина оглянулась и, наткнувшись взглядом на Олю, внимательно её оглядела:
— А ты, мальчик?.. Ты откуда?
Оля вытаращила глаза, моргала и тупо молчала. Вид у неё был действительно странный, диковатый, а выражение лица ещё странней: смесь напускной самоуверенности, испуга, растерянности… Вообще всего того, что бывает, когда человека напрасно заподозрили, и чем меньше он виноват, чем более ему хочется своим видом поскорее это показать, тем подозрительней он выглядит.
Тут же она почувствовала прикосновение шершавой маленькой руки, цепко схватившейся рядом с её рукой за ручку её чайника.
Искоса глянув, увидела меховую ушанку с одним задранным кверху ухом, как у прислушивающегося зайца, курносый конопатый нос и круглую мордёнку мальчонки, совсем детскую. Да и ростом парнишка был пониже её.
— Тётенька, а мы с ним во-он с того вагона! — с простодушной готовностью, не задумываясь ответил мальчик и рукой показал в хвост поезда. — Во-он мы оттуда!
Женщина посмотрела на чайник, который они теперь держали вдвоём, прямо дружная парочка приятелей, и сразу изменившимся голосом сказала:
— А-а! Ну-ну! Бегите, смотрите не опоздайте.
— Ниееет! — протяжно пропел, успокаивая её, мальчик. — Мы жи-иво!
И они быстро пошли, держась с двух сторон за чайник, в ту сторону, куда показывал мальчик.
— Где ж твой вагон? — спросила Оля, когда они уже подходили к самому хвосту поезда. — Куда ты меня тащишь?
— Ходи, ходи за мной, — весело и таинственно, как при игре в прятки, буркнул мальчик.
Они через площадку вагона пробрались на второй путь, пролезли под товарными вагонами и выбрались на дорогу.
— Тебя спрашивают, куда ты меня тащишь? — строго спросила Оля, останавливаясь.
— Дурачища ты? — постучал себя по лбу мальчонка. — Тётка эта, видал?.. Разом загребут в детдом. Тебе этого надо?
— Нет, не надо, — сказала Оля.
— Ага! Скажеф, я не хитрый? Я же тебя выручил! Меня зовут Толька, настояще — Анатолий. А тебя?
— Олька.
— Настояще — Олег? Ага? Угадал?
— Олег, да… — ответила Оля и сама очень удивилась, откуда этот Олег взялся.
С этой минуты, когда она стала мальчиком, назвалась Олегом, ей легко стало врать, и она пошла уже врать без остановки, точно приняла правила какой-то игры вроде «да» и «нет» не говорить, «чёрного», "белого" не называть. Точно попала в какую-то ненастоящую жизнь, где правда не годится, пока не кончится игра.
— За это отдавай мне чайник! — нахально сказал конопатый и дёрнул за ручку, но Оля тоже дёрнула чайник к себе.
— Отдавай чичас, а то как в нос стукну! — пригрозил конопатый, заметив, что силы вырвать у него не хватает.
— Это за что? За что ты меня собираешься стукнуть?
— А ты отдавай!
— В честь чего это я тебе мой чайник буду отдавать? — Мальчишка был не страшный, Оля его не боялась.
— Стукну. Вот до трёх считаю: раз… два…
— Так ты что? Воришка? — презрительно выпятив нижнюю губу, сказала Оля, отодвигая руку с чайником за спину.
Конопатый задумался.
— Нет, не ворифка (он выговаривал: "ворифка"). Я так… Так хочешь, я тебя огорчу?
— Зачем? Это как?
— А вот стукну по носу.
Оле даже смешно уже делалось — он был похож на драчливого зайчонка.
— Нет, не хочу.
— Ага, отказываефься, значит, боисси? Признаёфься? А то бы я ка-ак двинул! То-то! — с торжеством объявил конопатый и великодушно добавил: — Да чайника я не возьму… Ты меня больше не бойси! Куда мне его, верно?
Они пошли рядом.
— Чего ты лучше всего на свете любишь? Всего-всего?
— Как чего?
— Так, чего? Ну, чего каждый человек может лучше всего на свете любить? Ну?.. Ну, чего?
— Н-не знаю… Смотря…
— Чего смотреть-то! Лопать чего любишь? Понял? Чего же ещё?
Лицо у него просветлело, и он мечтательно прижмурился.
— Знаефь халву? Я халвищи этой могу слопать враз два кило, потом проснусь и опять… и так всю жизнь… — И он захохотал. — А ты?
— Да, — слабо сказала Оля. — Халва…
— Ага… А то суп гороховый со свинятиной…
— Тошнит меня, что ли… — сказала Оля.
Они шли вдоль какого-то забора, сквозь щели виден был заснеженный пустырь со свалкой разного лома.
Наверное, на какое-то время сознание у неё совсем затуманилось, но она быстро очнулась от холода в спине, когда прислонилась к забору. Конопатый смотрел ей в лицо с любопытством и спрашивал:
— Ты фто?.. Чего ты валишься, ты не вались. Ты фто? Подыхаешь, фто ли? А?
Оля сползла спиной по забору, поискала в воздухе рукой, оперлась о плечо мальчика и с болью во всём теле, с тяжёлым усилием выпрямилась.
— Держись за меня, не боись, я чего хочешь удержу, — сказал Толька и покраснел от натуги, напрягая плечо. — Нашёл место где подыхать… Тут снег!.. Да ты, верно, подыхаешь?
Оля равнодушно сказала, с трудом разжав сухие, холодные губы:
— Подыхаю.
— Врёшь. Ты уже держишься. Ты куда идёшь-то?
Оля встряхнулась, огляделась и удивилась:
— Верно, куда же это я иду?
— Это я тебя напугал, — самодовольно отметил Толька. — Не боись, иди куда идёшь. Это я так.
— Мне на поезд надо. На станцию.
— Давай-давай, тебя там сразу в детскую комнату и в детдом бац!.. Я тебя спасать больше не стану.
— Когда это ты меня спасал? Это мой чайник тебя, свинёнка, спасал!
— Чайник!.. Меня-то не заберут, я здешний! Вон дом, зелёная калитка, это мой дом! За это я тебя и поколотил, что ты мне чайник должен подарить… Да не боись, мне его и не надо. У нас знаешь сколько чайников на куфне!.. — Он задумался, припоминая. — Вот такой… и такой… и ещё двадцать. Полна полка заставлена!
Он вприпрыжку побежал вперёд и, приподняв щеколду, действительно открыл калитку и исчез.
Глава тридцать вторая
Оля осталась одна. За домами, где-то вдалеке слышно было, как два поезда шли друг другу навстречу, загремели, встретившись, и разошлись.
Оля пошла обратно к вокзалу.
Просто не способна была придумать ничего другого. До сих пор у неё была одна цель: идти вдогонку за поездом до станции. Теперь станция была рядом. А идти было некуда, не было цели и силы обдумать своё положение.
Дошла до запасных путей, где уже какие-то новые составы всё загромоздили: одинаковые цистерны с нефтью на её глазах тронулись и пошли, мелькая перед глазами, ускоряя ход.
Открылся пассажирский длиннющий состав. Она взобралась на подножку, попробовала ручку — заперта. Пошла дальше, попробовала ещё одну дверь, там не было заперто, она вошла на площадку, потом открыла дверь в вагон. Сразу повеяло теплом. Внутренность вагона была похожа на табор, на туристский лагерь, на безалаберное общежитие, где все чего-то ждут и ничего не делают: люди валялись по полкам, кричал, капризничая, ребёнок. Сидя на корточках перед чугунной печуркой, щурясь и отворачивая лицо от жара, мужчина брезгливо брал двумя пухлыми пальцами с золотым перстнем кусочки угля и подбрасывал в топку. От кастрюльки, стоявшей на печурке, пахло вкусным варевом.
Четыре женщины, расстелив клетчатый плед, играли в карты.
Одна из них мельком обернулась и проговорила:
— Затворяй дверь, мальчик… Значит, вы объявляете бубны!.. Славны… бубны… Ах, бубны!.. Славны бубны за горами!..
Оля стояла, млея от тепла, от сытного запаха варева, оттого, что она опять оказалась в каком-то вагоне…
— А ты что?.. — спросила другая женщина, поднимая глаза от карт. — Да, бубны… с вашего любезного разрешения… Ты к кому?
Они не сразу бросили играть, когда Оля довольно развязно, бойко стала плести им историю про то, что её зовут Олегом, её папа, Никифораки, воюет на фронте, а она (то есть он) отстал от своего поезда по дороге в Ташкент к маме.
— Какая странная фамилия! Разве такие бывают? — спросила та, что объявляла бубны.
— Отчего же? Не мог же он придумать.
Они совсем бросили карты и начали сочувственно расспрашивать Олю, сказали даже, что вполне возможно, что их поезд отправят именно в Ташкент, хоть сейчас никто, конечно, ничего наверняка знать не может. От тепла Оля размякла, ей плакать захотелось, когда её спросили, не голодная ли она.
— Да, большое спасибо, как волк!
— Погоди, я сейчас-сейчас!.. — торопливо, громко шурша бумагой в пузатом дорожном мешке, какой-то человек свесил ноги с верхней полки, уже готовясь соскочить, но в тот же момент захлопали у Оли за спиной двери и голос, захлебнувшийся от злорадного восторга, пронзительно заорал на весь вагон:
— Во-он он, голубчик! — У него выходило это очень протяжно и даже с переливами, вроде "во-охо-хот о-он!.." — По всем вагонам шарил, замки щупал, где не заперто! Я сразу! Я, брат, издали заметил, чего тебе надо!
Чуть было не спрыгнувший с полки человек замер в последний момент, прижимая к груди полураскрытый пакет, весь просаленный от завёрнутого в нём чего-то жирного, съестного, и смотрел сверху испуганными глазами.
— Это он что у вас тут? Сумасшедший? Чего он орёт? — со спокойным достоинством (как ей казалось) или с нахальным вызовом (как могло показаться другим) спросила Оля. Правильнее сказать, ответила вовсе не Оля, а тот одичавший, приготовившийся лгать и кусаться мальчишка Олег, чей образ и манеру говорить, даже думать она на себя приняла, надела, как актёр театральный грим и костюм, соответствующий роли.
— Мальчик, зачем же ты сразу грубишь старшему! И вы не кричите! Вы из нашего эшелона? Ну, объясните!
— А-ат, я ему сейчас объясню!
— Скажите ему, пускай он меня не смеет трогать, — стараясь стряхнуть руку со своего плеча, холодея от ненависти, сказала Оля.
— Правда, не трогайте его. Ну, Олег, расскажи ещё раз по порядку, куда ты едешь?
— Он всё врёт! — еле удерживая руку, чтоб опять не вцепиться в плечо Оли, почему-то ликовал тот, что за ней гнался.
Вот это самое невыносимое и было — он не придирался, но злился, а вот именно ликовал, что её поймал.
У тётки, ловившей Колымакина, лицо было бесстрастное и даже забавное своей бесстрастностью. Милиционеру было как будто даже неловко, и он нехотя добросовестно гонялся за колбасой и, видно, старался поскорей избавиться от своей обязанности. А этот безо всяких обязанностей упивался и ликовал.
— Ты говори, ты не бойся! — добродушно подбадривал Олю тот, с верхней полки. — Только правду говори, ладно?
Стиснув зубы, Оля начала врать, сначала еле удерживаясь, чтоб не зареветь или не подраться, как уже её подзуживал Олег.
Ровным голосом, вполне толково рассказала свою историю почти до конца, получилось убедительно, трогательно — она сама это чувствовала. И на верхней полке зашуршала бумага, и человек спрыгнул вниз со своим растрёпанным кульком просаленной бумаги, и в этот момент заговорила одна из игравших в карты с испугом на добром вялом лице — сразу видно, что добром, потому что она сама пугалась и огорчалась.
— Постой-постой-постой минуточку, Олег, остановись, опомнись, пожалуйста… Ты куда… то есть к кому же ты едешь? К маме?
— Ну ясно, к маме.
— А ты сейчас только что сказал, что мама у тебя на фронте? Ты спутался просто, да? Мама же у тебя, ты говорил, в Ташкенте, да?
Оля смертельно устала, измучилась, изголодалась. Олег ей подсказывал: говори скорее «да», но что-то вспыхнуло уже в ней, она не могла остановиться. Как это так, она вот сейчас, в этом тёплом вагоне раскисла до того, что солжёт про маму! Она предаст маму, скажет, что она сидит и ждёт её в Ташкенте, солжёт про неё. "Она же на фронте, а я буду врать, что…"
— Нет (отпихнула она Олега), я сказала — мама на фронте.
— Да ведь ты сперва нам рассказывал…
— На фронте!
— Ну, всё же врёт, заливает, а вы слушаете!
— К кому же ты едешь, если у тебя там нет мамы. И зачем ты нам неправду говорил?
Оля закрыла глаза от усталости, и тогда Олег выговорил:
— Потому что… ну вас всех к чёрту!
Повернулась и пошла из вагона.
— Нет, брат, погоди-постой, от меня так не уйдёшь!.. Мы тебя доставим куда следует!.. Я имею права коменданта эшелона!.. Нет, не дрыгайся, не уйдёшь!
В тамбуре, на приступках, потом на грязной земле между двух рельсовых путей Оля ожесточённо, молча вырывалась и не могла вырваться, да теперь уже Оли вовсе не было — был остервенелый, брыкливый, злобно хрипящий мальчишка Олег.
— Пусти, чёрт, а то как двину в нос! — Это, конечно, только Олег мог такое брякнуть. Выворачиваясь из вцепившихся рук, этот самый Олег ткнулся носом в пиджак врага — прямо перед глазами, из бокового карманчика, торчала голубая расчёска, и Олег с выкрученными, как связанными, руками мгновенно сообразил, откуда что взялось, зубами выдернул расчёску и выплюнул её на землю, в снежную, рыхлую, чёрную грязь.
Ругаясь, человек нагнулся и отпустил одну руку, чтоб подобрать расчёску.
При этом произошло как-то само собой: не то нос человека стукнулся о согнутую коленку Оли, не то Оля — Олег ткнула его коленкой в нос, оказавшийся в слишком уж соблазнительной близости. Так оно было или не так, Оля и сама не знала и выпутываться окончательно предоставила отчаянному Олегу. Тот рванулся, вырвался и побежал, уверенный, что теперь-то уж он освободился совсем, и вдруг почувствовал, как в заколдованном сне, что ноги ему будто подменили, всегда лёгкие, быстрые, теперь они топали тяжело и медленно: топ… топ… — и ничего нельзя с ними поделать…
Переливчатый звонкий гром пробежал из конца в конец длинного товарного состава, колёса дёрнулись, замерли и еле заметно начали первый оборот…
Олег, не раздумывая, согнулся и нырнул под вагон, пригибая голову, на четвереньках сунулся дальше, что-то гремящее, тёмное плыло у него над головой, впереди было пространство между колёс, куда нужно было выскакивать, и заднее колесо медленно накатывалось, закрывая выход.
Олег бросился, кубарем перекатился через рельсы, выдернул ноги, откатился ещё подальше, проводил глазами колесо, проехавшее по тому месту рельса, где он только что перелезал, и на мгновение с такой ясностью представил себе, как это тяжёлое, до блеска накатанное о блестящий рельс колесо разрезает его самого ровно пополам, что его затошнило от запоздалого ужаса.
А по ту сторону состава человек выронил во второй раз, уже сам, расчёску в грязь, и у него помутилось в глазах, потому что он тоже представил себе несчастного мальчишку, разрезаемого колесом. И он с ужасом, сторонясь от грохочущего на ходу поезда, как от дракона-людоеда, попятился, спотыкаясь, и зашагал, боясь даже оглянуться, вздрагивая плечами…
Пройдя шагов десять, он вдруг, выбившись из сил, ухватился за поручень, присел на ступеньку вагона и, нашарив дрожащей рукой платок в кармане пальто, стал вытирать пот с холодного лба.
Товарный состав, вагон за вагоном, катился, грохотал мимо, казалось, ему конца не будет, но всё-таки он кончился. Прошёл последний вагон, путь остался пустым.
Оля встала на ноги и увидела того самого человека, который гнался за ней, совсем близко. Их ничто не разделяло больше. Он сидел на приступке вагона, и платок свисал у него из руки, как белый флаг капитуляции. Оля не думала о капитуляции, но почувствовала, что теперь почему-то можно не бежать от этого человека.
— Ox… проклятый… — жалобно сказал человек. — Я думал, у меня сердце… Я думал, ты под колёса… окаянный…
— Не гоняйся… — слабым голосом сказала Оля.
— Ты ничего? Не отрезало? Ты целый?
Он с таким испугом, со злобой, похожей на нежность, торопливо расспрашивал, что Оля усмехнулась:
— Отрезало… Меня всю отрезало.
Она уже могла идти и пошла, а сзади человек бессвязно повторял:
— Мальчик, а?.. Может, тебе чего, а?.. Ты погоди, а?..
Глава тридцать третья
Сидя за столом у окошка в кухне, Толька ел блины, искоса следил за всем происходящим во дворе, а ногой в толстом шерстяном носке гладил и щекотал кота, увивавшегося около его стула.
Он долго возил блином по масленой тарелке, перевернул его вилкой на другую сторону и, выждав, когда мать отвернётся, бросил вилку и двумя руками, ухватив и сложив блин, запихнул его в рот.
Блин был толстый, а Толькин рот, вообще-то довольно поместительный, по сравнению с блином был маловат. Его так закупорило блинным тёплым маслянистым тестом, что жевать никак было невозможно. И в это время сидевший на дворе под мухомором на детской площадке, засыпанной снегом, мальчишка встал и подошёл близко к окошку.
В знак того, что он его узнал, Толька подмигнул и очень живо изобразил, как он наносит своим маленьким кулачонком сокрушительный удар себе в нос, а после чего воображаемый противник, закатив глаза и раскиснув, начинает трястись и валится на бок. При этом он и в самом деле едва не свалился со стула.
Оля через стекло его передразнила, очень наглядно изобразив мимически, что именно самому Тольке предстоит трястись и валиться в раскисшем виде, если она его стукнет. У неё получилось лучше, потому что она ещё и язык высунула набок, как у забегавшейся до изнеможения собачонки.
Толька с залепленным блином ртом не мог достойно ответить тем же. Он двумя пальцами наполовину вытащил блин, подразнился и, громко чавкая, стал кусать и, заглатывая, изображать блаженство.
— Кому ты такие рожи свинячьи корчишь? — спросила Толькина мама.
— Мальчишка один.
— Откуда ты его знаешь?
— Я его вздул.
— А рожи зачем?
— А он сам дражнится!
— Блин-то, блин ты зачем ему показываешь, я тебя спрашиваю, свинёнок?
— А так… Это я ему блином дражнюся! Во! Видал блины?.. Охота слопать?.. На-кася! — Толька обернулся к матери и, ухмыляясь, пояснил: — Ему жрать охота. Подыхает прямо.
Мать прошла в сени, приоткрыла обитую войлоком дверь и крикнула:
— Эй ты, чего тут под окошком встал? Нечего под чужими окнами мотаться. Домой уходи…
— А у него дома нету! Бездомовый!.. — весёлым голосом сообщил Толька, стоя у неё за спиной.
— Тебя кто в сени звал? — шуганула мать. — Брысь отсюда. Сквозит!.. Ну-ка, зайди сюда, парень.
Оля оказалась в небольшой кухне.
Со всех сторон её охватило влажное тепло, блаженное, густое, ласковое тепло от печки с плитой, на которой кипели, пузырясь и булькая, два громадных бака с бельём.
— Откуда ты такой? — спросила Толькина мама.
Оля вяло начала рассказывать ей историю мальчика по фамилии Никифораки, но та даже не дослушала. Взяла Олю за руки и повернула ладонями вверх.
— Лёд… А грязи!..
У женщины руки были шершавые, горячо распаренные, их прикосновение было очень приятно.
Через минуту женщина, подталкивая в плечо, отвела Олю в угол к столику, где стоял таз с горячей водой, со стуком поставила рядом эмалированную мыльницу с дырочками и громадным куском простого мыла.
Оля погрузила руки в горячую воду и минуту не двигалась, потом намылила и стала тереть лицо. Вода в тазу почернела.
— Во морда грязнущая! — радостно воскликнул Толька, всё время с интересом наблюдавший за мытьём.
Женщина отняла таз, выплеснула воду в раковину, наполнила снова и опять поставила перед Олей:
— Мой ещё. Уши не забудь. Шею. Вот этим потом вытрешься…
Потом она пододвинула ногой табуретку к столу:
— Садись, ешь, — шлёпнула на тарелку блин, приготовилась положить ещё, но задумалась, приглядываясь, как Оля ест.
Как только Оля надкусила блин, её резанула боль во рту, мгновенно наполнившемся слюной, блин мгновенно исчез, растаял.
— Ты сколько не ел по-человечески? А?
— Не помню, — сказала Оля, глотая слюну, не отрывая жадных глаз от блина, уже поддетого на вилку, уже отделившегося от целой стопки, выглядывавшей из-под полотенца в деревянной чашке.
— Вижу, — сказала женщина. — Погоди. — Принесла мисочку с борщом, деревянную ложку и горбушку хлеба. — Не давись, ешь медленно.
Толька поплёлся с тарелкой к плите, выклянчил у матери ещё три блина и, усевшись прямо против Оли, уставился во все глаза на неё, точно ему фокус показывали.
Задумчиво и без удовольствия он обкусывал маленькими кусочками по краям блин. Время от времени он подмигивал потихоньку Оле. Наконец, выбрав момент, когда мать обеими руками поворачивала в баке бельё, отворачивая лицо от пара, он воровато подсунул под край Олиной чашки с борщом свой блин. Очень хитро подсунул с того боку, который матери не мог быть виден.
Потом он долго давился от еле сдерживаемого смеха, фыркал и мигал по очереди обоими глазами, восторгаясь своей ловкостью.
Оля незаметно нагнулась над столом и сунула блин в рот, после чего Толька чуть не захлебнулся от восторга…
Потом Оля проснулась оттого, что ей было жарко. Она лежала под жёстким одеялом на какой-то коечке, приткнутой вплотную к тёплому кирпичному боку печки, и услышала Толькин хохот.
— Он уже прошнулся, не спит! — Толька подскочил и дёрнул Олю за ухо, торжествующе хохоча. — Ты думаешь, сейчас вчерашний вечер? Ага? Вот и дурак! Сейчас уже сегодняшний вечер, ты всё продрыхнул!
Оля проспала целые сутки, и с этого началась и пошла у неё новая и очень странная жизнь. Её кормили, спать было тепло, но несколько дней ей всё казалось, что где-то глубоко внутри она ещё не оттаяла и не наелась. Всё боялась холода и что кончится в доме еда.
Евсеевна, Толькина мать, была прачка, целыми днями стирала, гладила, подкрахмаливала белые халаты для какой-то лаборатории мясокомбината, откуда приносила ненормированную ливерную колбасу. Кроме того, где-то недалеко в деревне у неё были родные, которые помогали мукой, картошкой, сочувствовали, что муж у неё на фронте, а она одна в городе с Толькой живёт, не хочет бросать квартиру, то есть домик.
Однажды, когда Оля, помогая Евсеевне, гладила на доске халат, та вдруг спросила:
— Тебя мама учила? Гладить? Или сама у меня выучилась?
— Сам. Я вообще всё быстро умею…
— Ну-ну. Сам так сам… Люди все мечтают: сына. А мне бы девочку. Мальчишка, он всё вроде собачонки. А девочка, как котик: когда приласкается, помурлычет. Я бы девочку приютила. И Толька, свинёнок, к тебе привязался… Оставайся. Хочешь?.. Тебя как звать-то?
— Почему? — неловко выговорила Оля. — Вы почему так?..
Евсеевна тихонько улыбалась:
— Как ты умылась, только рожица твоя из-под грязи прояснилась, я же сразу и увидела: девочка… Да миленькая такая. Как же звать-то?
— Оля.
— Оля. Хорошо. Мне бы вдруг Олю?.. А?.. — Она тихонько засмеялась от радости, представив, что вот у неё появилась Оля.
— У меня мама.
— Это ты по правде говоришь?
— Да, правда она на фронте. Правда.
— Ну вот видишь, а ты пока поживи, куда тебе одной ехать? Платьице сошьём, в школу пойдёшь, а летом в деревню. Там дедушка с бабушкой обрадуются…
— Мама велела мне ехать к дедушке… главное, туда письма от мамы начнут приходить…
— Дедушку ты любишь?
— Ни капельки. Я даже его не видала никогда. Я из-за мамы.
Разговор очень надолго прервался, обе молчали.
— Ну-ну, — бодро сказала Евсеевна, гремя утюгами на плите. — Поедешь к своему дедушке… Чего ж ты плачешь?
— Жа-алко… — совсем вслух разревевшись, всхлипывала Оля. — Я, честное слово, его не люблю, и никого другого не люблю, одну только маму, а я вас люблю, вы добрая, мне жалко, что вы так со мной говорите…
— Ну-ну… Ну-ну… Это мне бы плакать полагалось. — Она грубовато погладила Олю по голове, как-то издали протянув руку. — Рукавички я тебе сошью. Кофтёнку под низ оденешь, это всё так. И тапочки твои — никуда. — Она прищурила глаз, точно прицеливаясь вдаль. — Это мы вот как оборудуем… Живо всё обделаем. Ехать, так ехать поскорей… Верно?.. А то я, дура, чтой-то уж чересчур будто к тебе привыкать стала.
Глава тридцать четвёртая
Многоуважаемый дедушка!
Вам пишет незнакомая вам ваша заочная внучка Оля.
Вы получили, наверное, извещение от моей мамы, что я к вам должна приехать по семейным обстоятельствам, потому что мама ушла на фронт.
Я немножко отстала от поезда, который ушёл без предупреждения, а потом захворала так, что меня уложили в больницу, но я уже почти выздоровела, хотя меня ещё не пускают из-за перестраховки.
Если вы не очень ещё старый и в настоящее время вам нечего делать, я буду рада вас повидать, если вы зайдёте навестить в приёмные часы.
Дальше следовал адрес больницы и подпись: "Ваша внучка Оля Карытова".
Спустив ноги с постели, неудобно, боком, пристроившись к краю тумбочки, она с трудом дописала письмо и от усталости снова привалилась спиной к подушке, немножко отдохнув, спихнула с ног шлёпанцы и, вытянувшись на спине, стала смотреть в знакомый потолок, на котором весело играл солнечный зайчик от чашки с водой на тумбочке.
Он что-то хорошее ей напоминал, этот зайчик, но она не могла вспомнить что. Где-то смутно мелькала весна, солнце, школа… ага, Володя и школа, класс, где она была новичком, и опять Володя… Но всё это был совсем другой мир, когда у неё была мама… да, даже и папа, и не было войны.
И вот когда она добралась до этого Ташкента, когда ей в вагонное стекло показали — вон он, Ташкент, смотри! — как раз в этот момент она говорила что-то не то, ей было ужасно жарко и прямо с вокзала её отправили в эту больницу…
На другой день после того как больничная няня отнесла и опустила её письмо, едва начался приём, ей сказали, что пришёл дедушка и ждёт её в приёмной комнате.
У неё заколотилось сердце: сию минуту она увидит дедушку. Приехала! Добралась! Теперь с ним придётся жить вдруг целый год! Войне конца всё ещё не видно.
Она уже шла по коридору к приёмной комнате. "Ой, вот сейчас я его увижу, деда, который всю жизнь не любил папу. Из-за этого мы и не видались с ним, наверное… Что ж, может, он и прав был — догадывался, каким окажется папа… Но он ведь точно так же может и меня невзлюбить, и мне тогда плохо придётся… Ну ничего, я тоже не очень-то собираюсь его любить!"
Няня отворила дверь в очень светлую от солнца комнату, посреди которой стоял стол, накрытый красной скатертью.
Посетители, кучками сбившись вокруг своих маленьких больных в голубых халатиках, вполголоса разговаривали.
— Вот вам Оля! — сказала няня, пропуская её впереди себя в дверь.
Оля, замирая от волнения и страха, закусила губу… глянула. Прямо на неё из другого конца комнаты смотрел человек, нервно поглаживая неподстриженную серебристую бородку.
Его наполовину загораживали три женщины в цветных, с разводами, халатах, ворковавшие вокруг своей девочки с мелкими косичками. Он выглядывал из-за них и не спешил подойти поближе. Оля тоже не двигалась с места. "Похоже, он меня тоже побаивается?" — подумала она с облегчением.
Наконец они кончили переглядываться и пошли друг другу навстречу.
— А вот и Оля, — ласково сказал ей бородатый человек.
— А вы мой дедушка? Вас как зовут?
— Разве сразу не видно, что я дедушка? Дедушка Шараф.
— Видно, — согласилась Оля. — Здравствуйте. Вы от мамы письмо получили, что я к вам еду?
— От твоей мамы? Письмо? Четыре!
— Ой!.. — со стоном выдохнула Оля. — Говорите скорей. Что?
— Тихо-тихо… Нельзя волноваться, ты слабенькая! Мама на фронте, работает снайпером. Кушай кишмиш, очень сладкий. — Он развязал платок, расправил его на столе и подправил ребром ладони, чтоб образовалась ровная горка.
От изюма во рту было очень сладко, и это как-то навсегда соединилось для Оли в одно: сладость во рту и рассказ про маму.
— Кушай, очень полезный — сладкий… А твою маму я очень люблю, я всегда её любил! Вот такая маленькая она была… О-о, ты перед ней сейчас великан! Вот такую её помню, она на старое дерево у меня во дворе лазила, как кошка или как обезьянка какая-нибудь.
— А папу?
— Какого папу? Твоего папу не знаю, не видал даже. А дерево я тебе покажу. Ты хочешь дерево посмотреть?
— Мамино дерево? Куда лазила маленькой? Ой, дедушка, попросите, чтоб меня выписали сегодня… Я хочу дерево. А дом ваш стоит?.. Мама рассказывала, что домик маленький.
— Вот увидишь… Зачем нам большой?
— Мама говорила, что вы не очень виноваты, что папу не любите. Просто уж у вас характер такой.
— Да… да… — кивал дедушка, соглашаясь. — У меня характер. Соседи говорят: ай, Шараф, ай какой характер!..
Глава тридцать пятая
Больница была переполнена. С запада подходили всё новые и новые поезда из тихих деревень, окружённых заревом пожарищ, оглушённых накатившими на них жестокими боями. Из городов и с улиц, где рушились школы от воздушных бомбёжек… Исхудалые, притихшие дети из голодного Ленинграда и маленькие ребятишки, с подвязанными к шее белыми гипсовыми повязками — раненые дети, так похожие этими повязками на раненных в бою и так непохожие на солдат своими тонкими ручками, худыми шейками и как будто навсегда удивлёнными детскими глазами. Они ранены были, при обстреле с воздуха машин и поездов, уходивших в тыл…
Всё больше мест им требовалось, и врач устало махнул рукой и отпустил Олю к дедушке.
Возле подъезда щипал травку на обочине маленький ослик мышиного цвета. Он даже не обернулся, когда дедушка сажал Олю ему на спину.
— А как им править? — спросила Оля, усаживаясь поудобнее на мешочке с шуршащим сеном, привязанном на спине у ослика.
— Им не надо править, он сам дорогу знает. Ну, давай… трогай… Ну, поехали!.. Двинулись!.. Ну!..
Ослик щипал себе травку, даже ухом не повёл.
— Ну, ослик, давай! — сказала Оля.
— Это не ослик, это ишачок… Ну, некрасиво получается, — вполголоса продолжал уговаривать дедушка. — Уже люди на тебя смотрят, Джафар! Что молчишь, оглох, что ли? Ну, пожалуйста!..
Точно этого вот слова он только и дожидался, ишачок поднял голову и зашагал по улице. Да так бодро, будто вдруг вспомнил, что опаздывает куда-то на деловое свидание.
— Эй-эй!.. Ты гляди-ка! То он даже разговаривать не желает, а вот как припустил! Тут тебе скачки, да?..
Дедушка сразу отстал на несколько шагов и бросился вдогонку. Оля засмеялась, и тогда дедушка стал отдуваться, делая вид, что ему никак не догнать невозмутимо шагающего, пощёлкивающего по мостовой игрушечными копытцами, ишачка…
Оля ехала, держась за ремешок, с опасливым любопытством поглядывая по сторонам.
Ишачок действительно знал дорогу: сворачивая за угол, выбирая нужный переулок, а на шумном перекрёстке, приостановившись, огляделся, пропустил автобус и деловито зашагал дальше, выбирая переулки потише.
Где-то за домами на соседней улице неслись машины, слышались гудки, а ишачок пробирался, выбирая дорогу по своему вкусу до тех пор, пока не кончилась мостовая. Наверное, тут ему было хорошо — вместо твёрдых звонких камней у него под ногами лежал мягкий ковёр лёгкой пыли.
Теперь уже не дома, а домики пошли по обе стороны кривых переулочков. Да и домиков-то, собственно, не было видно, они где-то прятались за толстенными глиняными оградами, за кустами и деревьями или стояли спиной к дороге без единого окна на улицу.
Оля начала уставать, всё окружающее стало сливаться: покачивание шагающего ослика, переулки без окон, кривые стволы деревьев за оградами, канавки, по которым медленно текла вода…
Вдруг ослик стал как вкопанный. В ограду тут была вделана толстая деревянная рама и в ней дверь — калитка, закрытая наглухо.
Дедушка повёл куда-то ишачка "на его место", а Оля осталась перед дверью, разглядывая её побелевшее, выжженное жарким солнцем дерево, на котором виден был потрескавшийся узор старой резьбы.
Калитка отворилась, за ней открылась дорожка и зелёный дворик, залитый солнцем, перерезанный чёрной тенью дерева.
Встречая Олю, стояла молодая седая женщина. Она отворила дверь и певуче-ласково торопливо заговорила:
— Не волнуйтесь, главное, не надо отчаиваться, всё ещё будет хорошо, вы увидите, всё, всё хорошо! Всё, всё, всё уладится, и все будут счастливы. Правду я говорю?..
— Да, да, да, — уже издали говорил дедушка, появляясь из глубины двора. — Всё будет хорошо, а как же иначе?
Оля с недоумением заметила, что он говорит это не ей, а женщине.
— А как же иначе? — беспокойно-радостно подхватила женщина и, улыбаясь, стояла и смотрела вслед Оле, когда дедушка уводил её в дом. — Только не падать духом!
В доме после яркого блеска солнца показалось совсем темно и прохладно.
— Ну, вот ты и дома… Не обращай внимания, это она всегда так разговаривает… Это одна соседка… Приезжая соседка…
Глава тридцать шестая
За окном светило солнце такое яркое, что казалось, на дворе должно быть жарко, и только в комнате почему-то холодно. Но стоило Оле, кутаясь в ватный халат, выбраться за порог — там оказывалось ещё холоднее.
По вечерам дедушка вносил в комнату странную печку — ведро, выложенное изнутри кирпичами. Её топили во дворе, варили на ней рис с кусочками мяса или овощей, и в этих нагретых кирпичах сохранялась ещё капелька тепла, обогревавшего на ночь холодный воздух в доме.
Они с дедушкой усаживались на подушки, кутаясь в шёлковые цветные, с жёлто-зелёными разводами, подбитые ватой халаты, как можно ближе к теплу, и начинался вечерний разговор о маме.
— Я не знала, что папа у неё узбек. Как интересно. Я, значит, тоже немножечко узбечка?
— Немножечко, немножечко… — кивал, улыбаясь, дедушка и тихонько, неумело гладил её время от времени по лбу, точно котёнка или куклу. — Разве тебе это не нравится?
— Почему? Наоборот, даже интересно… Как это я прежде не догадалась, я ведь знала: дедушка всегда жил в Ташкенте! А я не сообразила, дурья башка!.. А мама, маленькая, тоже носила такой халатик?
— Такой, такой, только маленький!.. — как-то особенно оживился дедушка. — Я ведь её вот такой ещё знал. Во-от такой!
Он показывал рукой невысоко от пола, примерно по пояс взрослому человеку, для точности покачивая рукой повыше-пониже и, видимо, радовался, вспоминая.
"Конечно, тут есть какая-то небольшая семейная тайна, — думала Оля, — почему так получилось, что мама так давно не виделась с дедушкой. Но ведь всё началось с того, что дедушка невзлюбил папу?.."
— Вот такой? — переспросила она и опустила руку пониже. — А такой?
— Нет, нет, — держался за своё дедушка, продолжая радоваться своему. — Вот такой, как сейчас вижу, стоит с кушачком в халатике и для важности ещё пузо надует и выпятит! Во-от такая!
Как это часто бывает, разговор ничем не кончился — Оля с нежностью представляла себе маленькую маму, горделиво выпятив пузо щеголяющую в своём новом халатике, дедушка вспоминал разные подробности и детские её словечки…
В одно прекрасное утро появился Козюков, которого дедушка давно уже поджидал.
Первое время Козюков по два раза в день наведывался, всё справлялся, не появилась ли пропавшая в дороге Оля, но потом ему пришлось уехать с цирковой труппой на гастроли, его долго не было в городе, и вот наконец он появился. Оля услышала, как приезжая соседка ведёт кого-то от калитки через двор, по обыкновению ласково и настойчиво убеждая его ни в коем случае не падать духом, не поддаваться унынию, потому что всё это только слухи и слухи, а потом окажется, что всё хорошо, очень хорошо, скоро все сами убедятся!..
И грустный голос — Оля сразу узнала Козюкова — рассеянно соглашался:
— Да, да, совершенно правильно… Зачем это уныние? Ни к чему!.. А вы не заметили, не появилась тут у вас во дворе девочка? Мы её всё ждали, помните?
— Это не играет роли, главное, не поддаваться этим впечатлениям, от которых человек вдруг падает духом…
— Простите!.. — перебил голос Козюкова где-то уже совсем близко у порога домика. — Я вас спрашиваю про девочку, не знаю до сих пор, как вас звать?
— Меня?.. Какое это имеет значение? Вообще меня называют: приезжая соседка… Это я и есть!..
Оля выкарабкалась из-под всех одеял, на ходу вдела ноги в громадные дедушкины шлёпанцы и распахнула настежь дверь.
Козюков чуть не наткнулся на вдруг возникшую перед ним странную фигурку.
Длинный полупустой халат с почтенного рослого человека висел складками и волочился по земле, рукава и вовсе казались пустыми, а из непомерно широкого ворота еле высовывалась стриженая маленькая головка.
Козюков отпрянул, вскрикнул и схватился за голову. Фигурка, взмахнув в воздухе длинными рукавами, выпрыгнув из громадных шлёпанцев, бросилась его обнимать.
Козюков схватил её в объятия, путаясь в складках халата, поднял в воздух, чуть не уронил, хохотнул дурацким клоунским смешком и, заливаясь обыкновенными человеческими слезами, снова прижал её к себе, всё время бессвязно бормоча:
— Неправда, не может быть!.. Что ты со мной сделала, змеёныш! А? Где ты пропадала? Что с тобой было, ангелочек, обезьянка моя, скорпион моего сердца, мартышка души моей!..
Скоро вернулся дедушка, и они до глубокой темноты все втроём пили зелёный чай с лепёшками и изюмом вместо сахара из чашек без ручек и блюдец, и всё рассказывали друг другу, и перечитывали, перечитывали короткие мамины письма, фронтовые письма, полученные уже давным-давно.
Глава тридцать седьмая
Она проснулась ночью оттого, что бежала за поездом, мимо неё проходили, уходили самые последние вагоны, а она никак не могла протянуть руку и уцепиться за поручень, она задыхалась от страха, видела, что вот сейчас упустит поезд, в котором было всё, что у неё есть в жизни, всё уходило от неё с этим поездом: мама, жаркое лето на реке, радость, Володя, обезьянка Куффи и ещё что-то, кажется, это был отец, какой-то прежний, каким он был или казался ей, — всё, всё, и руки не слушались, она не могла их поднять, и мимо проходили закрытые двери вагонов.
Она сделала страшное усилие и, как-то без рук, вскочила, очутилась в вагоне и тут увидела, что тут пусто, и вагона за дверью нет, и поезд никуда не идёт, и вот тут проснулась от отчаяния пустоты.
За тонкой дощатой перегородкой тихо, вполголоса, в четверть голоса… нет, почти совсем без голоса, на одних вздохах, всё ещё разговаривали дедушка с Козюковым.
Под дверью лежала полоска света, там горела керосиновая лампочка.
Значит, ещё не ночь, а вечер. Оля представила себе эту лампочку, начала её разглядывать своей памятью во всех подробностях, и ужасный сон стал бледнеть, сердце забилось ровнее, она улыбнулась в темноте.
Это была мамина детская, почти игрушечная, керосиновая лампочка с переводными картинками на зелёном стеклянном абажурчике. Теперь, когда электричество давали только изредка и гасили рано, а то и вовсе не давали, эта лампочка снова заняла почётное место в доме. У неё бережно подстригали фитилёк, осторожно доливали из жестяной баночки керосину и собирались вокруг её славного ровного огонька долгими вечерами, когда ветер шуршал, перекатывал сухие листья по низкой крыше глинобитного домика, а за окнами в непроглядной тьме тревожно шумели ветки старых тополей.
На абажурчике лампы, местами стёртые, но всё равно необыкновенно интересные и милые Оле, вкривь и вкось налеплены были переводные картинки: долгоносый охотник в зелёном камзоле, с очками на носу, взвалив на плечо неимоверно длиннющее ружьё, горделиво отправляется на охоту. Одна нога в гамаше с пуговками у него плохо получилась, наверное, когда еще клеили картинку, но все-таки видно, до чего он заносчиво вышагивает….
Дальше на абажуре были разноцветные неровные крапинки, небесно-голубые, жёлтые, зелёные и красные. Хорошо сохранился только очень крупный жёлтый заяц, похожий на кенгуру. Сидит сначала, как в букете, в кусте каких-то лопухов, и, самое замечательное, конец истории: на другой стороне абажура — тот же жёлтый заяц победоносно марширует в очках, с громадным ружьищем, наверное отнятым у охотника, на плече.
И всё это было мамино. С невыразимым облегчением Оля вспоминала: да, там, за стеной в соседней комнате, откуда пробивался свет под дверью, по абажурчику, налитому тёплым светом лампочки, шествует гордый заяц, похожий на кенгуру, мамин заяц, которого она знала и, наверное, любила в детстве, когда у мамы было детство, и она ходила, для важности выпятив пузо, в халатике… Оля едва расслышала несколько обрывков слов через стенку и не вдумывалась в них. Ей стало спокойно, и она погрузилась в сон, без поезда, без страха и пустоты, в мягкий и тёплый сон…
Наверное, во сне люди думают. А может быть, всё последнее время в голове у Оли шла какая-то работа, помимо её воли. Точно кто-то там переставлял разноцветные обрывки и осколочки мыслей, разговоров, маленьких открытий. И тут ещё несколько слов, вскользь услышанных после страшного сна и как будто забытых, вдруг вспомнились, когда она снова проснулась, и как раз заполнили пустое пространство между рассыпанными кусочками мозаики.
Как на абажуре — два-три обрывочка, синего, и белого, и коричневого вдруг точно сливаются у тебя в глазах в картинку: море, корабль, парус…
Она вдруг поняла то, что как будто знала, но не могла, боялась или не успела понять.
— Что вы там шепчетесь? — проговорила она негромко и постучала согнутым пальцем в перегородку.
Голоса в соседней комнате смолкли.
— Ты что? Не спишь? — неуверенно спросил дедушка. — Ай-ай… Поздно так!.. Ну что с ней делать? Не спит…
— Я сейчас к вам приду!
Дедушка опять начал: "Ай-ай-ай…", но Козюков сказал:
— Пускай приходит, какая разница. Всё равно же нам придётся…
Моргая на свет, Оля вошла, кутаясь в халат, и села, поджав ноги, на тахту. Все помолчали. Она повернула лампу так, чтоб победоносный заяц в очках был прямо перед глазами.
— Ну, теперь я слушаю.
Они смотрели на неё с грустным замешательством.
— Ничего плохого не случилось, ты не думай, — сказал Козюков. — Ничего решительно! Пришло письмецо от мамы. Она была в госпитале, но это уже всё прошло, она опять здорова, опять уже в строю… А может быть, сейчас уже на фронте снова… Письмо долго добиралось… Ей что-то странным стало казаться, что ты сама не отвечаешь, мы с ним вместе сочиняли кое-какие писульки Лёле… пока тебя не было.
— А когда я приехала, почему?..
— Некуда было писать, пойми ты, у нас же её адреса не было!
— А в госпитале?.. Что с ней было? Маму ранили? Где письмо?
— У меня, я тебе дам, не беспокойся. Ранили, да, но видишь, как всё обошлось хорошо, ты сама увидишь. Ты же знаешь, что я никогда не обманываю.
— Н-не знаю… — сомнительно сказала Оля, пристально вглядываясь. Все эти слова про маму как-то смутно, точно издали, доходили до неё. Откуда-то издалека шли, приближались, но ещё не дошли до её сознания. — Почему вы мне письма не показываете? Чего вы тут всё шепчетесь?
— Не наскакивай, детка, просто всё нужно делать по порядку, чтоб не запутаться… Вот… дедушка… вот он тебе хочет сперва рассказать. Верно?
— Да, конечно. Рассказать. Я сейчас расскажу. — Дедушка волновался и старался улыбаться. — Вот сейчас расскажу, и всё будет в порядке… Погоди минуточку, я сейчас начну…
Он совсем разволновался, на него смотреть было жалко, в особенности потому, что он всё старался пошучивать. Он даже хохотнул, смущённо пряча глаза. Вдруг поднялся с места — до этого он сидел на подушке на полу, скрестив ноги, — подошёл и погладил Олю по головке.
— Ну что? Я очень паршивый дедушка? А? Совсем никуда не годный? Да? Ну-ка, скажи по правде. По правде!
— Нет, вы ничего… — запинаясь, еле выговорила Оля, глядя в его несчастное от волнения лицо. — Я гораздо хуже ожидала… А вы очень-очень ничего… Хороший. Я никак не ожидала, честное слово.
— Приличный, в общем, да?..
— Может, и ужасно хороший, только я ещё мало вас изучила, ведь правда?
Дедушка пошёл и сел на место и начал тихонько раскачиваться на своей подушке вправо-влево, вправо-влево.
— Знаешь, на что будет похож мой рассказ?.. Однажды досточтимому Ходже Насреддину его сосед оставил перед отъездом на сохранение горшочек мёду. Бедный Ходжа спрятал горшочек и долго крепился, старался о нём даже не думать, потом решил только попробовать — обмакнул в мёд и облизал палец. И больше уже не мог удержаться, каждый день пробовал мёд, пока не вылизал всё начисто…
И вот, как всегда бывает, в один прекрасный день сосед, конечно, возвращается и спрашивает про свой горшочек, и бедный Ходжа, ни жив ни мёртв от стыда и страха, подаёт ему пустой горшочек. Сосед поднял крышку, а там пусто!
"Ходжа! А где же мёд? Куда девался мёд?"
И несчастный Ходжа, ему ведь очень стыдно, он виновато, вот так складывает руки и жалобно просит:
"Пожалуйста, лучше ты меня не спрашивай, чтоб мне не пришлось тебе рассказывать!.."
Никто не засмеялся, а Козюков даже вздохнул.
— Всё-таки придётся. Раз надо, так надо.
— Да, это так. Я сейчас!.. Как это бывает, слово ещё не сказано, и дом твой стоит на месте. Слово сказано, и он рухнул… Оля, Оленька… Я ведь не твой дедушка… Вот сказал.
Он перестал раскачиваться и сидел, нервно перебирая обеими руками свободный кончик своей подпояски, согнувшись, как будто ждал, что глинобитные стены его домика вместе с кровлей сейчас и вправду рухнут ему на голову.
— Да, я уж знаю, — покусывая губу, тихонько, точно в раздумье, про себя проговорила Оля.
Дедушка медленно выпрямился и огляделся по сторонам, точно изумлялся, что всё осталось на месте: стены, Оля с Козюковым и крыша над его головой.
Оле захотелось поскорее сказать ему что-нибудь хорошее: ведь он так волновался и так ему не хотелось признаваться.
— Нет, я не притворяюсь, не думайте. Я чуточку понимала, что всё как-то не так, а совсем поняла вот сейчас. Там, за перегородкой… А почему вы не дедушка?
— Дедушки нет, вот в чём дело, — сказал Козюков.
— Он хорошо умер, — торжественно сказал "не дедушка". — Он спокойно умер. Война началась, а он уже не слышал, что началась. Ничего не знал. Спокойно умер. Хорошо. Ты о нём не беспокойся.
— А вы его знали?
— Столько лет!.. Стенка к стенке с ним прожили. Друзья мы не были. У него друзей не было. Трудный человек был. Для других трудный, для себя ещё трудней.
Оля хотела спросить ещё, но он остановил её движением руки.
— Где он жил, хочешь спросить?.. Тут жил. В этом самом дворике. Где теперь приезжая соседка живёт, и другие приезжие, эвакуированные, тот домик побольше моего. Мой, видишь, совсем маленький, да и жителей в нём немного, а? Было двое нас с тобой. Теперь я один останусь… Ты, значит, догадалась, а? А я думал: "Ай, какой я хитрый, как хорошо тебя обманул". Дурак старый, оказывается. Ты меня сразу раскусила!
— Неправда! Не раскусила… Я только сейчас… разобралась… ну, дошло… вот вы говорили: маму знали во-от такой, а я подумала: странно, почему же он никогда не вспомнит, как она совсем маленькая была? Странно. Я это заметила, но потом позабыла, а сегодня, когда вы тут шептались, я почуяла, что тайна. И стала думать… А лампа правда мамина?
— Остальное всё правда.
— А теперь вы останетесь один? А мне отсюда, значит, выметаться?
— Ай! — с болью прошептал старик и прикрыл ладонями глаза.
— Оля, — заговорил Козюков, — стыдно тебе говорить такое человеку, который горюет, что ты ему не внучка. Стыдно.
— Чего тут стыдного? Он же сам объявил, что хочет один остаться. — Оля старалась себя ожесточить, ей было страшно, обидно и жалко.
— Прочтёшь письмо мамы. Она узнала, что дедушки уже нет. И велит тебе разыскать отца и жить с ним.
— С ним? Не желаю!..
— Мама!..
— Не может быть, чтоб мама!..
— Мама пишет, слышишь!
Так они повторяли одно и то же, пока Оля не сдалась. Перестала кипеть, утихла.
— А где он есть?.. Отец?
— Мы, кажется, достали адрес. Там большой завод. Он там работает. Поживёшь с ним, пока не кончится война. В школу пойдёшь. А там и мама вернётся, и всё будет хорошо.
— Только не падать духом и не унывать, как пристаёт ко всем эта приезжая соседка?.. Да? Ничего не будет хорошо!
Оля долго пыхтела сквозь стиснутые зубы, угрюмо выдавила:
— Извините, что я нагрубиянила… Я думала, хотите отделаться. Я бы хотела такого дедушку… Можно, я вас буду так называть?..
Старик отнял ладони от глаз, быстро посмотрел на неё и не ответил.
— Хотите?.. Хотите?
Глаза у старика влажно блестели, в них отражался зелёный свет маленькой лампочки. Он смотрел на неё, робко начиная улыбаться.
— Ну, хотите? Можно?
— Ай, цветочек мой!.. — тихонько проговорил старик, не оборачиваясь.
Глава тридцать восьмая
Козюков не мог ехать с Олей, чтоб отвезти её к отцу. Дорога предстояла дальняя, а Козюков каждый вечер был на работе: он выступал по госпиталям со своей собачонкой, которую он в память незабвенной обезьянки назвал тоже Куффи.
Собачонка была молодая и мало чего умела делать, но очень смышлёная и смешная: жесткошёрстная, с раскосыми глазами, с мордой, похожей на деревянную лошадку, украшенной к тому же торчащей бородёнкой.
Она умела прыгать, взлетая без разбега сразу до плеча Козюкова, безо всякого усилия, как будто это не она прыгала, а что-то подбрасывало её с земли.
Козюков играл на маленькой скрипочке, Куффи показывал свои незамысловатые фокусы, подкидывал носом и ловил в воздухе палочки с двумя мячиками на концах, и успех номера был неизменным и удивительным.
Само появление собачонки в госпитале вызывало весёлое оживление, просто необъяснимую радость. Наверное, для этих забинтованных, исхудалых от страданий, боли и усталости солдат, столько раз глядевших в мёртвые жерла пушек волной надвигающихся фашистских танков, на трескучие цепи орущих автоматчиков, на пикирующие с нечеловеческим воем «мессершмитты», на спалённые деревни и убитых товарищей, эта шершавая мордочка, которую все наперебой стремились погладить, протягивая руки: "Куфя… Куфя, поди сюда, Куфя!..", была живым напоминанием о том, другом и милом мире, где остались у них тихие речки, кукование в мокром лесу, утоптанные тропинки под босыми ногами через вечерние поля, кривые улочки, родное скрипучее крылечко и, наверное, свои Шарики, Букеты или Тузики…
И вот Козюков, усадив Олю вместе с её бывшим дедушкой в уголок тесного вагона, помахал им вслед и поплёлся с неспокойным сердцем на репетицию в цирк, который собирались вскоре открыть в городе.
Прощание было невесёлое — ведь Оля уезжала совсем, надолго, всё равно как навсегда. Она невесело шутила, называла старика своим "приёмным дедушкой", а он укоризненно качал головой и всё думал, что едет её провожать в город, где всё равно придётся расставаться навсегда.
Дедушка оказался совсем неопытным путешественником. Похоже было, что Оля везёт куда-то этого человека, напоминает, где нужно пересаживаться, когда пить чай и до какой станции брать билеты.
Поздним вечером они увидели за тёмной лесистой горой, вокруг которой бежал поезд, ровное зарево — отсветы печей завода. Они подъезжали к далёкому сибирскому городу.
Слепой баянист поднял круглое щербатое лицо, точно прислушиваясь, и радостно проговорил:
— А я зарево вижу… Что, неправда?.. Видать?.. Ага, я уж знаю, что видно! — Он передвинул баян на колени, надел ремень и, улыбаясь, потихоньку стал наигрывать "Раскинулось море широко". — Шахтёры же! — совсем приглушая звук, сказал мечтательно и хвастливо. — Эти шахтёры — народ! Они же меня во как любят!..
Ночевать они остались на вокзале среди толпы других приезжих. В зале ожидания был слышен плеск водопада и ровный непрерывный грохот камней бурной горной речки Громотухи, и, когда отворялись двери, оттуда врывался иногда запах фабричного дыма, но чаще — запах густых лесов на горах, обступивших город со всех сторон.
Дождавшись света, они пошли по адресу, который добыл Козюков. В громадной котловине, как они и ждали, дымила какая-то обогатительная фабрика или завод, а вокруг — целый городок, обросший посёлками, и всё это занимало только донышко котла, а края его были — нетронутые, пышные леса. Небольшой водопад лентой падал с высоты в реку.
"Вот, значит, где придётся мне жить, — думала Оля, оглядываясь. — Вот, значит, где «он» устроился жить, чтоб не пришлось идти на фронт? Или ещё почему-нибудь?.."
Дедушка Шараф заметно пал духом, когда им показали наконец дом № 88 в каком-то необыкновенно длинном и кривом Поречном переулке, на откосе.
— Может быть, он ещё от меня откажется и не возьмёт к себе! — в утешение ему сказала Оля.
— Ай, откажется!.. Ничего он не откажется!.. — с безнадёжной горечью отмахнулся дедушка.
Во дворе баба развешивала бельё. Дул ветер, бельё взлетало в самый неудобный момент, шлёпало бабу по лицу, и она всё время злобно переругивалась с мокрыми рубахами и простынями.
— Родивон?.. А чтоб тебя!.. Нету тут никакого!.. Переехал или уехал, мне откуда знать?.. Ты будешь висеть, нет? Окаянная сила!..
Они нашли ещё один адрес, и оказалось, что и там «переехал». Было уже так поздно, что они пошли опять ночевать на вокзал. Наконец в заводоуправлении им дали настоящий адрес, встречный мальчишка провёл их по мосткам через глубокую канаву во двор, там указал им на дверь в длинный полутёмный коридор.
Одна-единственная голая лампочка тлела под потолком вполнакала жёлтым светом.
"Вот тут мне придётся жить", — с тоской думала Оля.
В коридор выходило несколько совершенно одинаковых дверей, и все они были закрыты.
Дедушка Шараф выбрал одну и робко, деликатно постучался и отступил на шаг, вежливо покашливая и уже готовясь извиниться и даже заранее улыбаясь, чтоб не рассердить того, кто откроет. Но никто не открывал.
Так они обстучали пять или шесть дверей, когда одна вдруг распахнулась прямо перед их носом, на пороге возникла фигура мужчины в ватнике. Он, смеясь и нахлобучивая на ходу лохматую ушанку, переступил через порог и, оглядываясь назад на прощание, видимо доканчивая дурашливый разговор, что-то выговорил бессмысленное вроде: "… Ещё ему фифку со свистком, рыжего!"
В комнате грубо засмеялись, а человек, повернувшись, с первого шага налетел прямо на Олю и, схватив за плечи, придержал, чтоб не сбить с ног.
— Карытова? — спросил он с удивлением на вежливый вопрос дедушки. — Да чего его искать, вон он сидит! — и пошёл своей дорогой, оставив дверь открытой.
— Ай, ну иди, — шепнул дедушка Шараф.
Оля шагнула два раза и переступила порог; сердце колотилось от гадкого волнения, ожидания увидеть сию секунду отца, хохочущего над тем, что сказал лохматый мужик.
Тот вдруг раздумал почему-то уходить, наверное, заинтересовался, вернулся и встал рядом с ней на пороге.
— Ну, что стала? Тебе Карытова?
— Да, Родиона… Родионыча… — застывшими, как на морозе, губами еле выговорила Оля.
— Ну, Родионыча, ну, Родиона. А что ж ты стоишь? На тебе его, возьми!
В комнате было трое, но отца среди них не было. Какое-то мгновение она ещё вглядывалась, боясь узнать его в одном из этих мужиков. Может быть, он стал совсем другим, вот таким?.. Но тут же поняла: его тут нет.
Рыжий, детского роста, кажется горбун, смотрел на неё, приподняв голову с подушки: он лежал на койке, согнув колени, закинув ногу за ногу. Другой, сидя на койке, держал в руках сапог и осматривал подошву, измазанную в глине, а третий сидел за столом и курил. Потом он стал давить окурок, втыкая его в консервную банку с отогнутой крышкой, испачканной томатным соусом.
— Родион, тебя, — сказал он, справившись с окурком, не желавшим гаснуть.
— Ну? — сказал тот, что занимался своим сапогом. — Ну, я. Чего надо-то? Прислал кто? — Он поднял голову и равнодушно посмотрел на Олю.
— Его тут нет? — шёпотом спросил Шараф.
Оля ничего выговорить не могла, ей только хотелось поскорее уйти.
— Пожалуйста, не надо сердиться, тогда, пожалуйста, за беспокойство нас извините, — говорил Шараф. — Девочка родственника потеряла. Ну, вот. Ошибка произошла. Что поделать, такая ошибка…
Карытов нагнулся опять над сапогом у себя на руках, вдумчиво разглядывая его, как врач заболевшего ребёнка…
Обратно они шли через мостки вместе с мужиком в лохматой шапке.
— Вы, ребятки, глядите, тут с мостка не рухните в канаву. Склизко!.. — В голосе его слышалось сочувствие. — Потеряли кого?.. Такое время! Все кого потеряли, кто сами потерялись… Водоворот событий! И ехали далеко?.. Ах ты пёс! Досадно, обидно… А что поделаешь? Водоворот!
Около вокзала он с ними простился, объяснив, что ему надо в ночную смену, а то он бы им помог насчёт билетов или хотя пристроил, где отдохнуть… Ну, ночная смена — что поделаешь?
Глава тридцать девятая
Обратный путь был ужасен. Денег на два билета у них не хватало, и Оля ехала "на птичьих правах", то есть на сочувствии пассажиров, которые то вступались за неё, уверяя, что ей нет десяти лет, то складывались, чтоб взять билет до ближайшей станции, то помогали ей прятаться под лавками, а то принимались стыдить проводников, что в такое время, когда кругом война и человеческое горе, они придираются к ребёнку, потерявшему отца.
Оля снова превратилась в грязного и довольно нахального мальчишку Олега, спала под лавкой, криво ухмыляясь, принимала горбушки хлеба.
По военному времени, иногда проверяли документы у пассажиров, но для них всё сходило в конце концов благополучно: странная они были пара — загорелый, невозмутимо-вежливый старик с почтенной бородой, в опрятном халате и девчонка в протёртом лыжном костюме — с их рассказами о маме на фронте и потерянном отце.
Добросердечные женщины тащили иной раз чуть не насильно Олю к умывальнику, и она, как маленькая, нехотя отворачиваясь, позволяла вытереть себе перепачканную физиономию мокрым краем полотенца. Странное дело, с ранних лет привыкшей к чистоте, Оле теперь хотелось и нравилось быть грязнулей. Потому что Олег такой и должен быть: грязный, с драными локтями и с сажей на морде.
Когда дедушка Шараф заговаривал с ней об отце, она, высунув голову из-под лавки, щёлкала языком (Олег тут бы сплюнул на сторону сквозь зубы, но до этого у неё дело не дошло) и равнодушно говорила:
— А я его ненавижу!
Бедный дедушка приходил в ужас, нагибаясь, шептал, объясняя, что так нельзя, это стыдно, непростительно и даже грех.
— А что такое "грех"? — усмехаясь, спрашивал Олег. — Это у попов, что ли? У муллов?..
Шараф от волнения молчал, долго подыскивая нужные слова.
— Зачем попы, зачем молла?.. Глупости говоришь. Человек нарушил закон. Судья наказал. Это закон. Правильно. А человек сделал плохое, сказал, подумал плохо другому человеку. Никто не видел, никто не слышал. Нарушения нет. Он сам один про себя знает. Вот это раньше называлось грех… Теперь не могу объяснить… Ну, это, что на душе у самого человека. Название всё равно какое!
— А душа разве бывает?
— А как нет? Кто дышит, у того душа. Живой ведь.
— Тогда у ишачка… У Джафара?
— Конечно, есть, даже хорошая душа. Глупый человек очень высоко про себя понимает! Очень-очень! Он вот человек!.. А остальное так, тьфу, разная природа… А умный человек понимает, он сам тоже природа. Да ещё маленький кусочек…
— Всё равно ненавижу!
— Ай-ай-ай!.. — медленно и слабо всплёскивал руками, ужасался Шараф. — Ай-ай…
Оля ныряла обратно под лавку, укладывалась щекой на чей-то грязный, шершавый мешок и думала своё.
Вся её наружная грубость и грязь были ей нужны потому, что она чувствовала себя испачканной изнутри. Всё началось или, вернее, взорвалось в её жизни в момент получения мамой того ужасного, невыносимого письма от отца.
Блуждания вслед за безвозвратно ушедшим поездом — это была вина отца. Тёплый ветерок и яркие звёзды в тёмном небе, спокойные огни в каком-то далёком городе, где отец «удачно» устроился, отказавшись от мамы, от Оли, от участия в бедах, борьбе и страданиях всех других людей, — это не смываемая ничем вина отца. И то, что она валяется в пыли под вагонной полкой, — тоже вина отца, и этот мужик, другой Карытов, нянчивший свой сапог, сидя на койке, и грязная канава со скользкими мостками — это тоже всё от отца. Это он сделал из Оли мерзкого мальчишку Олега, она такой и будет, пожалуйста!
Минутами ей думалось: да на самом-то деле было ли когда-нибудь это всё? Детство, в котором жила какая-то другая, мамина Оля — Фабиола. Одна-единственная и самая любимая на свете? Детские дурачества в школе, дружба с Володей… Мамины сказочки, которые «он» со снисходительным мужественным высокомерием обзывал "сантименты".
Потому сказки стали от «него» тайными, их общей с мамой тайной до самого того часа, когда она без колебаний ушла туда… в то огромное, страшное, благородное и священное, что называется словами: "На фронт"…
И среди ночи на гремящем, трясущемся полу вагона чумазый Олег вдруг в тоске порывисто протягивал руки, стукался о лавку над головой и неслышно, кусая губы, плакал, размазывая сажу по щекам, беззвучно, одними губами призывая всё своё маленькое прошлое, общее имя которому было "мама".
Глава сороковая
Казалось просто нелепым ходить и стараться не опаздывать в школу, учить уроки. Кому это нужно — учить, сколько жителей во Франции, когда самой Франции-то уже почти нет: половина захвачена фашистами, а в другой половине засели какие-то паршивые вишисты?
В сводке сегодня: "Наши войска вели тяжёлые оборонительные бои…" — а ты в это время решай какие-то примеры, задачки, как будто от этого что-нибудь зависит там, где наши ведут тяжёлые бои!..
Но высказывать всё это вслух было, конечно, бессмысленно, и Оля прилежно училась, ходила в школу, готовила уроки.
Дедушка Шараф работал сторожем в пригородном колхозе, и у него там был маленький участочек, так что в доме всегда была кукуруза и кое-какие овощи; кроме того, ишачок Джафар не только сам зарабатывал себе на жизнь, а кое-что даже прирабатывал. Шараф часто отпускал его на работу, когда нужно было свезти кому-нибудь из знакомых мешки на базар или с поля к себе в дом.
По ночам, когда Оля оставалась одна в доме, бывало чуть жутковато, но тут на помощь приходил Олег. Он презрительно говорил: "Подумаешь! Что это тут страшного? То ли я повидал!.. Тут соседи рядом во дворике… Не то что, когда я ночевал в сене в избушке без окон, без дверей! А ведь тогда я был ещё почти девчонкой!"
Зато в те дни, когда Шараф был свободен от дежурства — это бывало через двое суток на третьи, — всегда было немножко похоже на праздник. На столе появлялись ломтики сушёной сладкой дыни, какие-то, похожие на финики длинные «ягодки» со сладкой мучнистой мякотью, кипел чайник и приятно было, что заяц на светящемся абажуре всё так же бодро марширует со своим длинным ружьём на плече, как он маршировал когда-то перед мамой.
Это бывал день приятной встречи после двухдневной разлуки, в течение которой Оля жила совсем одна в домике-комнате.
В такие вечера странные у них иногда заводились разговоры.
— Я на маму немножко похожа? — вдруг спрашивала Оля. — Ага, я так и знала.
Потом, раздумывая, долго молчала и неожиданно брякала:
— Ты, скорей всего, меня за это и полюбил. Верно?
Старик даже вздрагивал от удивления — он непривычен был к таким разговорам, ёжился, обижался на грубость вопроса, терпеливо объяснял, что ему очень не хватало внучки, но Оля непримиримо мотала головой:
— Нет, нет, нет… Уж ты не отвиливай, пожалуйста! Научись разговаривать честно. Отвечай: я угадала или нет?
Дедушка сокрушённо вздыхал: не должна внучка так разговаривать с дедушкой, полузакрыв глаза, начинал покачиваться на своей подушке:
— Разве я сам знаю? Откуда человек может знать, что откуда у него берётся?..
— Ну вот, сознался! — хвалила Оля. — И мямлить нечего было!.. Если хочешь знать, я тебя даже люблю за это! Понял? За то, что ты любишь мою маму… Наверное, бывает, что тебе кажется, это она опять маленькая стала?
— Ай, глупости говоришь!.. Кажется!.. Никогда она не смела так со старым человеком разговаривать!.. — Он сердито грозил тонким, коричневым, очень длинным пальцем. — Кажется!.. Хм!.. Конечно, если подумать, кое-когда, так, на минуточку, может что-нибудь показаться… Она меньше тебя была: вот такая!.. Лё-ёля!.. И вот перебирает маленькими ножками, путается в халатике, бежит ко мне через этот вот дворик!..
Козюков заходил редко. В городе начались цирковые представления, он был много занят.
Оля сидела, упершись кулаками в лоб, перед раскрытым учебником, в который был заложен листок со старым маминым письмом. "Вот дозубрю до конца правой страницы и опять открою там, где лежит листок, и опять почитаю всё сначала, медленно, по слогам".
Вдруг появился Козюков.
— Я помешал тебе уроки учить? — сказал он, пожимая обеими руками руку дедушки Шарафа и как-то искоса, через плечо, поглядывая на Олю.
— Ничего, я это люблю! — сказала Оля, вставая, чтобы поздороваться.
— Я человек прямой. — Козюков уселся с натянутым видом на стул и стал с силой потирать себе колени. — Я неуклюжий человек и не умею… Может быть, нужно как-нибудь более исподволь и тому подобное. Но у меня не получится, чтоб таким образом, вот какое дело. Ты не маленькая. А если б ты была маленькая… В общем, я видел Родиона. Твоего отца… Ты что, не поняла? Почему ты ничего не говоришь?
Оля молчала, вся напряглась и молча ждала.
— Ладно, не надо говорить, а почему ты всё-таки… молчишь? То есть ничего не выражаешь?
— А что надо выражать?
— Ну, что-нибудь. Радость или хоть удивилась бы.
— Я удивилась.
— Это хорошо… Я, собственно, и сам не знаю, что мне самому… думать?..
— Что ж, он, наверное, у вас в цирке будет выступать? Или уже выступает? — отчуждённо, равнодушно поинтересовалась Оля.
— Ах нет, совсем ничего похожего! — Козюков морщился и прятал глаза. — Ты бы его, может, и не узнала. Он изменился… Он совсем не то, что был прежде.
— Да-а, мы это знаем. Мы давно знали, что он изменился.
— Ты всё не про то… — И вдруг в голос закричал: — Что я тебе могу сказать, когда я сам не понимаю?!
— Говорил с ним? — отрывисто, с беспокойством спросил дедушка Шараф.
— Не хотел он разговаривать со мной. Совсем не желал… Уж потом еле-еле… Ну, там про Лёлю спросил, про Олю. Я сказал.
— Спросил, значит? Может, обрадовался немножко?
— Может, испугался немножко? — зло передразнила Оля. — Он же от нас отказался. Он же нас бросил, чего ему радоваться? Вдруг я побегу за ним, к нему на шею кинусь!.. Вот, разбежалась!
— Нельзя так про отца говорить, — грустным голосом, как-то очень слабо проговорил Шараф. — Вот он придёт, тебя заберёт. К себе заберёт. Отец — это отец, что поделаешь?.. Так я и знал, этим кончится. Сердце всю неделю вот тут чувствует.
— Ничего этого я не знаю, а ты совсем ничего не знаешь, Шараф. Оля, пойдём сейчас, попробуй поговори с ним. Сейчас пойдём, а то он уйдёт.
— Ну и пускай уходит куда хочет.
Шараф развёл руками, раскрыв ладони, и так и сидел, как статуя горестного недоумения, не двигаясь целую минуту.
— Дочка, однако. Отец он, однако.
Козюков вёл её на дальнюю окраину города, где в путанице переулков над беспорядочным стадом неровных крыш приземистых домиков возвышалась громада старинной мечети. Над самой водой круглого пруда, на мостках, покрытых ковром, скрестив ноги сидели седобородые старики узбеки, пили чай.
Темно-загорелые кисти рук, высвобождаясь из широких рукавов узорных халатов, держали и подносили ко рту пиалы точно тем же изящным, плавным движением, как Шараф.
Они прошли под каменной аркой, свернули в переулок и попали в негустую, лениво подвигавшуюся толпу. Это был старый, маленький, уже давно полузаброшенный базар.
Около маленьких горок фруктов, кишмиша, орехов или лука в какой-то полудрёме сидели те, кто принесли их на продажу, но, кажется, вовсе и не старались продать.
Древний старец с полным равнодушием сидел, повесив на верёвочку свои изделия — частые, удивительно тонко сработанные гребни из одного куска дерева.
Откуда-то, вылетая из-под старой арки на другом конце базара, тянулся скрипучий, переливчатый звук гармони, наигрывавшей восточную мелодию.
Очень странный звук русской гармошки, поющей, подражая то высокому гортанному голосу, то струнному аккомпанементу.
— Нет, он не ушёл, — сказал Козюков.
Они стали пробираться через маленькую площадь базара к арке. Заунывная мелодия вдруг оборвалась, и гармонь заиграла "Синий платочек".
Оля увидела несколько раненых солдат. Госпиталь был тут неподалёку, на соседней улице. Двое были на костылях, один опирался на палку, а у других на руках были тяжёлые гипсовые повязки. Все они стояли кружком, сдвинувшись вокруг гармониста, который сидел под древней аркой на низкой, вделанной в камень доске, в углублении ниши.
Солдаты слушали не шевелясь, глаз не отрывали от маленькой обшарпанной гармоники, которая ходуном ходила в руках у уличного музыканта. Оля глянула ему в лицо и узнала отца.
Он тоже как будто смотрел на Олю, но либо не узнавал её, либо вовсе не видел.
Только доиграв до конца, опустил гармонь, поднял голову, угрюмость медленно, как пелена, сползла, и Оля узнала его прежние глаза.
— Нашли?.. Так я и знал. Надо было меня искать, а?.. Ну, вот нашли! — Он вдруг схватился снова за гармонь и опять разом опустил руки так, что она повисла на ремне. Усмехнулся: — Ну, как? Нравится?.. Привёл, значит, всё-таки?.. Ну что ж, всё равно, я даже рад тебя повидать, да тебе-то, Оля, сама видишь, радоваться нечему. Видишь? Я ведь вам написал.
— Я помню, что ты написал.
— А я не помню, что я там писал, плохо помню, но самое основное — там правда: меня нужно оставить в покое… Ты что же, с дедушкой живёшь?
— С дедушкой.
— Пальто у тебя какое старенькое… А как у вас… питание?.. Тебе там не очень плохо?
— Что у тебя с глазами? — всё всматриваясь, спросила Оля.
— Это вроде близорукости осталось… Я привык, и не мешает. Только к строевой службе негоден. К нестроевой — тоже негоден, вот и всё… Ты худая или выросла?
— Ты просто меня плохо помнишь. Позабыл.
— Да, да, скорей всего, так! — охотно подхватил Родион. — Именно так и есть.
Подошёл молодой красивый узбек — парень в ярко начищенных сапогах, достал из пачки папиросу, сунул себе в рот, а другую протянул Родиону. Тот не заметил протянутой папироски, и парень, добродушно улыбнувшись, поднёс папироску почти к самому его рту.
— А-а! Халид! — Родион взял папироску.
Халид закурил сам и поднёс горящую спичку Родиону. Кивнул на прощание и пошёл своей дорогой.
— Что у тебя с глазами? — опять спросила Оля. Она хотела присесть рядом с отцом.
Он загородил рукой место на сиденье.
— Не садись! Это не для тебя место… — Он глубоко затянулся и, выпустив дым, насмешливо и зло усмехнулся: — В старину, пятьсот лет назад, это было место для странников, питающихся подаянием. Для купцов, чьи караваны с товарами разграблены в далёкой пустыне разбойниками…
Козюков всё время точно стоял на горячей плите, мучился, переминаясь с ноги на ногу, еле терпел. Наконец, покряхтывая, поскрипывая от неловкости, вмешался сам:
— Родя, тебя же не грабили разбойники… Пойдём с нами отсюда… Ко мне пойдём! А? Ну, я тебя прошу.
— Караван разграблен, не всё ли равно, кто его разграбил… Да хоть сам купец взял да и разграбился… И остался в рубище среди пустыни… Ну, это я шучу так остроумно.
— У тебя что-то с глазами! — всё присматриваясь, тихонько, почти про себя, опять проговорила Оля.
Родион отмахнулся нетерпеливо.
— Мы же тебя искали, справки наводили, а про тебя никто не знает, сведений нет, где ты живёшь.
— Правильно, я тут как бы проездом. Искать моё имя в списке почётных граждан этого города бесполезно.
— А… работать? — с тоской спросил Козюков. — Родион, ты же наш, всю жизнь с нами работал… Знаешь, цирк открывается, и не хватает людей.
— Негоден. Ни к строевой, ни к цирковой службе негоден. Справки трёх комиссий могу показать.
— Только пойдём со мной. Пойдём, ты цирк увидишь, вдохнёшь этот воздух… Что-нибудь мы с тобой изобретём.
— В цирк? Могу предложить номер: чудо-снайпер, стреляет с завязанными глазами ничуть не хуже, чем с развязанными!.. Зачем я пойду в цирк? Делать мне там нечего.
— Придумаем, найдём… — умолял Козюков.
— А-а! — вдруг вскинулся Родион. — Может быть, у вас униформы не хватает, и ты мне предлагаешь ангажемент: выводить под уздцы артистам лошадей с конюшни, убирать за жонглёрами шарики, ковёр раскатывать, да?
— Я ничего не предлагаю, но какую-то работу… Тебе… в штат жизни вернуться нужно… — Он сбился и замолчал, расстроенный чуть не до слез, и, ни к селу ни к городу, вдруг пожаловался:
— Да… А Куффи-то мой… знаешь?.. Пропал ведь… Куффи, а?
Родион нахмурился с тупым каким-то недоумением. Губы его беззвучно шевелились. Он недоверчиво поглядел на Козюкова и отвёл глаза.
— Куффи!.. А? Действительно, Куффи. Я, кажется, это помню. Это разве правда?.. Ну конечно, Куффи. А где он сейчас?.. Да, да… Куффи!..
— Погиб маленький мой. При бомбёжке, как на грех, он был совсем один. Наверное, растерялся… до того напугали его, он и… погиб.
— При бомбёжке?.. Бедняга Куффи… У меня в документе, знаешь, тоже так и написано: "Пострадавший при бомбёжке". Вы не обращайте особенно-то внимания. Это я опять шучу. Вообще-то я больше молчу, а вот вдруг возьму и разболтаюсь… Я ведь не думал, что и увижу-то когда-нибудь, а она вот… явилась, Оля.
— Ты был на фронте, — вдруг утвердительно спросила Оля.
— Это всё сны и фантазии. Разве надо быть на фронте, чтоб попасть под бомбёжку? Я как Куффи. Был штатский, даже не мобилизованный, и вот попал… Меня и вывезли оттуда подальше… Вот ты маме и напиши, где и как мы с тобой повстречались… И что письмо… Скажи, прошу за то письмо прощения… что там было грубое, я не помню, очень уж второпях писал. Но грубое-то оно лучше. Чтоб разом. Видеться нам ни к чему. Да и не придётся… Спасибо, что забежали, а теперь мне работать надо. Видите, люди ждут? Идите, мне не мешайте… Оль, а Оль… Постой!.. Ну всё, прощай!..
Они постояли минутку, но он уже снова играл тоскливый, однообразный напев, который, наверное, и вправду под этими арками пятьсот лет назад слушали люди, когда входили сюда из пустыни с караванами верблюдов, на площадь старого базара.
Отодвинувшиеся было к сторонке во время разговора солдаты снова придвинулись. Женщина с тяжёлой корзиной на локте с трудом нагнулась и сунула в уголок ниши рублёвую бумажку, а он, не обернувшись, продолжал играть…
Глава сорок первая
Когда на другой день, после долгих мучительных обсуждений, принятых и тут же отброшенных решений, заготовленных заранее самых верных слов, после того, как все трое совсем почти не спали — Оля пошла, одна, снова на базар, древняя скамейка под каменной аркой была пуста.
Родиона Родионыча не было. Не было его и на другой день, и на следующей неделе.
Оля ничего не написала матери потому, что и вправду нечего писать, когда сам ничего не понимаешь.
Так почти месяц прошёл. Однажды днём, пока Оля была в школе, Шараф услыхал скрип старой двери-калитки и голос приезжей соседки, уговаривавшей кого-то бодрее смотреть в будущее и не падать духом.
— Вы дедушка Оли?
Дедушка Шараф холодно сказал:
— Садитесь, пожалуйста, — и пододвинул стул.
Но Родион сел в углу на подушку, скрестив ноги.
— Привык, — сказал он. — Я на минутку. Вот тут одна справка, что Карытов является… работает… Это ей нужно. И тут денег немножко. Сейчас у меня больше нет. Потом я ещё принесу. — Он стеснительно выложил тонкую, слежавшуюся пачку бумажных мятых денег на край стола. — Лучше всего будет, если вы не будете ей говорить, что это я принёс.
— А что я должен говорить?
— Ничего не надо говорить. Просто купите ей что-нибудь, что там надо… или по хозяйству. А то ведь она от меня может и не взять. Характер мамин. Вашей дочки.
— Её дедушка русский был, не знаете?
— Вот я и удивляюсь, а вы ведь…
— Да, узбек. Дедушка Шараф она меня зовёт. Она так смеётся: приёмный дедушка.
— Я ведь просто по адресу пришёл, адрес-то я давно помню. А сам дедушка где, Павел Петрович?
— Как говорили в старинных сказках: "Он больше не в оковах жизни". Война началась, он ещё вот тут жил. Сосед.
— Значит, это про вас она говорила, что живёт с дедушкой?
— Я сказал: это она так смеётся. Она всё надо мной смеётся. Старому человеку хорошо, когда в пустом доме слышен смех. Что делать? Права ваши. Забрать хотите Олю к себе?
— Куда? Некуда мне её забирать. Забрать! С её характером! Кто её может забрать, если она не захочет.
— Может, она захочет.
— Нет, она не захочет. Она меня стыдится… Вам что же… Не тяжело… с ней?
— Много лет мне не легко. А теперь, даже когда мне трудно, мне с ней всё равно легко.
— Я понимаю. Очень это понимаю. Ну, вот я пошёл.
— Сиди… — сказал Шараф, повелительно ткнув пальцем. — Теперь сиди… Ты, значит, Лёлин муж. Родион тебе имя. Так… А я её знал вот такой, маленькой. Отец у неё был странный человек: как запертый дом. Может, там внутри мягкие ковры, кальяны, серебро, да? А может, голые стены, трещины, тарантул бегает? Никто не знал. Меня Лёля немножко любила… "Лёля!" — и сразу бежит ко мне через двор! — Он вдруг спохватился. — Отец ох сердитый был, зачем она там в России замуж вышла. Ой сердитый, зачем в цирк пошла.
— Да, ей не повезло.
— Я смотрю, думаю, правда не повезло. Почему на гармошке играешь? Работа тебя не любит?
— Вот она, гармошка. — Он презрительно мотнул головой в ту сторону, где лежала на столе пачечка денег.
— Дальше что думаешь? Работать думаешь?
— Взяли на работу. Даже форму выдали. В цирк.
— На старую работу тянет?
— На старую. Только не на старое место.
— А хорошей работы почему не искал?
— На военный завод, что ли? Да кто меня возьмёт? У меня документов никаких не осталось. На мне штамп «негоден». Никуда не годен. Зачем жить на свете человеку, который никуда никому не годен?
— Долгий это разговор: зачем человек на свете живёт. Ты коротко скажи: куда ночевать пойдёшь?
— Ну… Это обойдётся…
— Снег всё-таки и у нас не тёплый.
— Мне обещали…
— Обещание — самая тёплая постель, знаю. Ты не здоровый человек. Тебя куда ушибло? Или ранило?
— Что там вспоминать… Голову… верно, ушибло, да теперь я уж ничего.
— Не здоров, нет… Какой-никакой, ты Лёлин муж. Отец, какой-никакой, Олин. Можешь тут остаться. Вот место в углу. Ложись, ночуй. Я сутки дежурю, вторые дежурю, она в доме одна. Не так страшно будет одной оставаться.
Родион медленно покачал головой:
— Нет, ничего не получится… Нет.
— Как желаешь, — сказал Шараф, надолго замолчал, как замкнулся, и вдруг быстро, сердито спросил: — Почему оставаться не желаешь?
— Она не захочет, ты пойми. Сама не захочет. Знаю всё, что она скажет, а слышать этого я всё-таки не хочу. Как она мне это будет говорить. Не хочу, и всё!
— Погоди, дверь не заперта, уйти поспеешь… Давай такой заговор с тобой сделаем. Я буду сам с ней говорить, ты слышать не будешь. Вечером приходи. Вот занавеска на окошке. Закрыта занавеска — значит, она всё так и сказала, как ты предсказание сделал. Открыта занавеска — вся комната видна, лампочка светит — тогда, значит, твоё предсказание совсем глупое оказалось. Входи тогда, ночуй.
— Да ну… Не знаю… Может быть, когда и зайду поглядеть… Только поглядеть.
Глава сорок вторая
То, что Оле требовалась для школы какая-то справка с места работы отца, было выдумкой Козюкова. Поверил ли Родион в эту выдумку или просто ему какой-то капли не хватало, чтоб сделать шаг к тому, чтоб как-то изменить свою жизнь? Он и сам бы не мог ответить на этот вопрос.
Цирковое представление сколачивали с большим трудом, и зрелище получилось далеко не блестящее, но всё равно в холодном здании всегда полно было людей, которые рады были передохнуть после тяжёлого труда, отдохнуть от ещё более тяжких воспоминаний и невесёлых мыслей, тревог, своих и общих: о том, что делается на фронтах, где решалась их личная судьба и общая — всей страны.
И люди, отогревая руки, засунутые в рукава пальто, с застывшими ногами, сидели на холодных скамейках и хохотали, когда клоун шлёпался мимо стула, аплодировали акробатам и восхищались, когда шершавая собачонка Куффи одним прыжком взлетала на голову Козюкову и, стащив с него шляпу, весело удирала, подкидывая и хватая шляпу на всём скаку.
Вначале представления, под музыку оркестра, игравшего бравурный марш, торжественно распахивая занавес, выходили и выстраивались у входа в цирковой униформе всего четыре служителя: два худеньких подростка, на которых штаны с широкими лампасами морщились в гармошку, а рукава курток то и дело сползали, закрывая до половины пальцы, старик костюмер Захар Степаныч и Родион Карытов, высокий, широкоплечий, в прекрасно сидевшем форменном костюме.
Из всех четырех он один умел правильно подбросить булавы или обручи жонглёру, помочь правильно натянуть и закрепить трос для канатоходцев, придержать канат, по которому спускалась из-под купола гимнастка на трапеции, вовремя отодвинуть барьер для окончившей свою работу лошади и подать условную реплику визгливо рыдающему клоуну: "Чем это вы сегодня так расстроены, Василь Василич?.."
В течение всего вечера он зычным голосом объявлял публике: "Сейчас выступят!.." — и, как положено, выдерживал паузу, прежде чем разом, во весь дух выстрелить фамилию артиста и отойти в сторону, уступая дорогу артистам, которые тут же, радостно улыбаясь, оживлённо выбегали вприпрыжку под яркий свет ламп на круглую арену, в своих пёстрых, праздничных костюмах, сверкающих блёстками и лаком, вызывая взрывы аплодисментов, жонглировали, взлетали в воздух с трамплинов, танцевали на проволоке, летали на трапециях и раскланивались, ещё тяжело дыша, сияя, низко приседая и разводя руками.
А он целый вечер стоял в стороне, в тени, за чертой ярко освещённого радужного солнечным сиянием прожекторов волшебного круга…
Он снова дышал любимым, знакомым воздухом цирка, но путь через границу праздничного круга ему был закрыт навсегда. И он стоял весь вечер с непроницаемо-торжественным лицом, всегда в тени, в стороне.
После конца представления он надевал пальто и шёл в Старый город. Пробираясь по переулкам, он доходил до самой калитки, вернее, двери в толстой глиняной стене.
Встав одной ногой на обломок бетонной трубы, заглядывал во дворик. Ветки большого дерева, с которого ещё не облетели сухие листья, мешали, но всё-таки, приглядевшись, он различал красное освещённое пятно окошка в глубине двора. Красная занавеска была задёрнута.
Он смотрел минуту, другую и медленно шёл обратно, возвращался в пустой цирк. Присаживался помолчать, слушая сонные рассуждения сторожа в проходной при конюшне. Скоро сторож приступал к ночному дежурству, то есть засыпал, и он мог сидеть на старом, продавленном троне, оставшемся после какой-то феерии, и дремать думая и думать дремля. Совсем по-настоящему он спал теперь редко.
Однажды он осторожно попробовал рукой калитку — она оказалась незапертой. Потихоньку её приоткрыл пошире, она так громко скрипнула в ночной тишине, что он стиснул зубы и поморщился от досады.
Подождал немного, вслушиваясь в тихие ночные шорохи спавшего Старого города и, крадучись, сделал несколько шагов по дорожке, обойдя кругом дерева.
Отсюда всё было видно хорошо. Занавеска была отдёрнута, на шнурке сдвинута в одну сторону, и вся комната была на виду.
Какая-то маленькая лампочка тихонько светила на стол, на тетрадку, в которой писала очень медленно Оля, нагнув голову набок… Вот старый Шараф прошёлся из угла в угол по комнате…
Остановился, что-то, наверное, сказал. Оля подняла голову и глаза, закусила зубами кончик ручки… Сделала гримаску, растянув рот в ниточку до ушей. Шараф укоризненно покачал головой и ушёл в другой угол, которого не видно было в окне.
Всё было опять то же самое: Родион стоял в тени на пороге освещённого яркого круга и не мог переступить порог — там ему не было места.
Он тихонько вышел, притворил за собой калитку и пошёл своей дорогой по пустынным, освещённым по одной стороне месячным светом, переулкам.
Всё отнято, всё, даже эта вот её гримаска-улыбка — губы в ниточку…
Он сказал себе, что больше не пойдёт, и пошёл опять и опять.
И опять калитка оказалась не заперта. Он вошёл и встал на своё место под деревом. В окне не было света. Он подождал. Почувствовал лёгкое беспокойство. Что это значит, что свет не горит?.. Тревога быстро разрасталась. Может быть, случилось что-то? Или вот сейчас происходит что-то плохое и можно ещё помочь, а он стоит как трус, как жулик и боится шелохнуться из-за своих каких-то мыслей. Он твердо шагнул, решив постучать, войти, узнать, что там такое делается в тёмном доме, и в этот момент что-то слабо мигнуло светом в комнате за задёрнутой занавеской.
Маленький огонёк вспыхнул, поплыл, передвинулся по воздуху, замер на месте, затрепетал и вдруг разгорелся ровным, ясным маленьким пламенем. Это вставили стекло в лампочку… свет стал зелёным… Ага, это от абажура… Ничего не случилось в доме. Занавеска была задёрнута, но у него всё равно отлегло от сердца: ничего не случилось. Он тяжело перевёл дыхание и тогда заметил, что от тревоги почти не дышал, глядя в темноту.
Потом он увидел руки Оли. Они дотянулись до высоко натянутого шнурка занавески и, аккуратно подвигая, расправляя сборки, сдвинули её в одну сторону — к правому углу.
Открылась вся комната. Оля стояла у окошка и смотрела в темноту.
Ему показалось, что она видит его, смотрит прямо на него.
Ни о чём не думая, не решая, почти не понимая, что делает, он постучался и вошёл в дом.
— Я уж подумал было… — проговорил он, входя. — Почему… без огня? Ты что ж, одна?
— Дедушка Шараф дежурит… Вот тут у перегородки место, ты сюда ложись… Я сейчас.
Она вышла в темноту двора, оставив дверь приоткрытой. Послышался ржавый звук тяжёлого засова. Она запирала калитку.
Вернувшись в дом, она спокойно, аккуратно расправляя сборки, задёрнула красную ситцевую занавеску и деловито сказала:
— Теперь давай пей чай, а то спать пора.
Перегородка, отделявшая закуток, где спала Оля, была из старых-престарых, сухих-пересушенных солнцем и временем, побелевших и потрескавшихся досок.
Когда Родион лёг на приготовленный ему ватный, комковатый тюфяк — роскошное ложе по сравнению с царским троном в проходной при конюшне, — его отделяла от дочери только вот эта щелястая дощатая перегородка. Проникая сквозь щели и овальную дырочку от выпавшего сучка, свет из её чуланчика нарисовал целый узор, как только она зажгла у себя ночничок в баночке из-под мази.
Лёжа в тёмной комнате, он смотрел на этот узор и запоминал навсегда. Потом свет погас. Он слушал её дыхание, скоро ставшее ровным, спящим. Он не спал, потому что всё хотелось слушать. Услышал, как, поворачиваясь во сне, она легонько стукнулась о доску локтем, вздохнула. И это запомнил навсегда, как человек, подобравший на пыльной дороге и бережно спрятавший за пазуху сверкающий камушек.
Так началась их новая, странная жизнь — не чужих, не близких.
Глава сорок третья
Дорогая моя, никогда ненаглядная мама, не знаю, где найдёт тебя моё письмо.
Я тебе уже писала, что, раз ты меня просила, я, правда, пробовала найти отца, ездила, но не нашла, а потом он нашёлся сам.
Про дедушку ты знаешь, что его нет, об этом тебе писали, чтоб ты не волновалась, вместе Козюков и дедушка Шараф, ты его должна хорошо помнить — он сосед.
Ты не представляешь себе, до чего он подходящий! Если бы мне предложили нарисовать по своему вкусу дедушку, я бы себе вот такого как раз бы и нарисовала. Мне даже иногда всерьёз кажется, что он мой дедушка, потому что у него характер напоминает твой. Он любит шутить и сам смешливый, хотя и старый… Знаешь, до чего он расстраивался, всё боялся, что отец меня у него заберёт. Это он уговорил отца жить у нас. А я не хотела, а он меня стыдил, и пилил, и угрожал, что напишет тебе. Я была, конечно, скотина, но теперь это у меня прошло. Мы живём вместе, втроём, благополучно, так, что даже стыдно, когда идёт война и ты на фронте.
Домик маленький, весь, кажется, из глины, но мы не очень мёрзнем. У меня за перегородкой закут, или загон, вроде как для пары осликов. А дедушка Шараф и отец живут в остальной комнате, где мы вместе пьём чай и сидим у твоей лампочки с зайцем на абажуре. Он шлёт тебе горячий привет.
Самое главное, что я должна тебе написать, — это что тут гнездится какая-то тайна или, может быть, загадка. Во всяком случае, то письмо, которое нас оскорбило, где он выставлял себя шкурником и негодяем, — это письмо фальшивка, на самом деле всё не так, хотя я не знаю как.
Ни в каком цирке он не выступал и не сидел среди фруктов, всё это неправда. Он очень нездоров: ну, представляешь, он признан негодным даже для нестроевой. службы. Иногда он что-то забывает или начинает вдруг путать, и он прихрамывает, я подглядела — это рубец от осколка на ноге. И он не очень хорошо видит, хотя для обычной жизни — ничего. Даже стал читать.
Значит, мерзкое, постыдное письмо он написал, скорее всего, потому, что считал, что он больше никому не нужен и только всем обуза, а валялся в это время в больнице или в госпитале — ему было совсем плохо. Он всё объясняет, что попал под бомбёжку, но и тут что-то не очень так.
Елена Павловна Карытова читала это письмо, сидя в зелёном плюшевом креслице на трёх ножках. Вместо четвёртой ножки были подложены четыре кирпича с закопчёнными, обломанными краями.
Кресло это вместе с тремя другими украшало подвальное помещение котельной, где, кроме неё, жили девушки-связистки.
Елена Павловна и тут, на новом месте, тоже звалась давно уже "снайпер Лена". Она перечитывала письмо уже второй раз, радовалась знакомому почерку Оли, слышала её голосом произнесённые слова письма, но никак не могла как следует до конца понять его смысл…
Город был расколот надвое извилистой, зазубренной линией фронта, проходившей по улицам и площадям, застывшего уже несколько недель.
Карытову прислали сюда по её собственной просьбе, хотя она была инструктором и её не хотели отпускать, но она всё-таки выпросилась. Тут положение было совсем особенное. Каждый день части, занимавшие город, несли потери от снайперов. Наконец обнаружился по почерку один какой-то снайпер. Пленный солдат подтвердил, что это ас. Начальник школы фашистских снайперов. Он долго вёл дуэль с Крепышовым, нашим замечательным снайпером, и наконец убил его. После этого Лёлю и отпустили — Крепышов сам был прежде инструктором, и Лёля его знала и сама училась у него.
А в самый день, даже в самый час приезда Лёли, когда сё вёл задними дворами связной вот в этот подвал, им навстречу у подножия крутой лесенки встретились четыре солдата, тащившие что-то тяжёлое, завёрнутое в плащ-палатку. Дверь была узкая, разойтись было негде, и они сперва попятились, потом повернули совсем и вышли обратно, на изрытый двор, пропуская солдат с их ношей.
Стояли и смотрели на то, что несли мимо них.
Связной издал какой-то странный звук, точно скрипнул всем нутром, махнул рукой и грубо сказал Лёле:
— Идём, что ли. Или тут стоять будем?
— Кто это?
— Да Соснин это…
— Снайпер?
— Вроде… Наблюдателем у Крепышова был, вот его и разобрало. Решился самостоятельно мстить… А что он может, если тот гад самого Крепышова!..
— Зачем же его пускали?
— Кто его пускал. Сам.
— Наблюдатель?.. Погоди, Крепышова? А стрелковые карточки, наверное, у него?
Она догнала и остановила солдат.
— Если у него остались стрелковые карточки, мне нужны.
— Тебе ещё зачем? — угрюмо сплюнул солдат. — Не мешайся под ногами.
Другой солдат сказал, кивнув на Лёлю:
— Это из школы прислали. Снайпер.
— На место Крепышова? — быстро спросил третий, с любопытством и недоверием оглядывая Лену.
— Карточки у него посмотрите.
— Сама посмотри, видишь, руки занятые.
Она отстегнула карман гимнастёрки, потом другой, вынула два конверта, бумагу — фотографию молодой женщины с жалобными глазами, в вязаной шапочке колпачком.
— Нет, — сказала она. — А где вы его подобрали? Там бумажек не было?
— Постой-ка. Мы и не поглядели. Верно. Ты тут постой, я туда схожу, вернусь, жди тут.
— Нет, мне всё равно туда надо самой.
— Ух ты! Учили вас там. Попробуй. Ну идём.
Они положили тело убитого к стенке, и Лёля пошла следом за солдатом путаными коридорами, полуобвалившимися лестницами. Проползли на четвереньках, прижимаясь к стенке, мимо ряда пустых оконных проёмов.
— Вот тут где-нибудь гляди, — сказал солдат. Они были в пустой комнате, засыпанной кирпичной крошкой. В углу стояла детская кроватка с сеткой, в которой вместо ребёнка лежали тоже кирпичи и гипсовый разбитый карниз, который, рухнув, оставил дыру, зиявшую под потолком. В трещину дома видна была очень просторная площадь.
— Та сторона — это уже его передний край, оттуда бьют снайперы, откуда — пёс их знает. Соснина мы вон там, под тем окошком, подобрали, — объяснял солдат.
Лена долго смотрела.
— Плохое он место выбрал.
— А хороших тут у нас, пожалуй, и нету. Чем тебе плохое?
— Ну как же. Все окна как окна. А это одно — самое узенькое.
— Вот и ладно, что узенькое. Удобно.
— Тем, что напрашивается. Чтоб они вот именно за ним и вели наблюдение… То и плохо, что удобное… А бумажку не подобрали?
Лёля опустилась опять на колени, пробралась под подоконниками. Уголок квадратного куска фанеры, величиной с развёрнутый тетрадочный лист, выглядывал из-за битого кирпича. Она перевернула фанеру — с исподки виднелось что-то белое. Так и есть, это было что-то вроде только начатой грязной стрелковой карточки. Она вернулась к щели, чтоб ориентировать значки: кружки, крестики — по предметам на площади.
— Гляди-ка, угадала… — заинтересовался солдат и стал ей помогать. — Вот это, значит, от проспекта жилой дом, развалины, будка, наверное, трансформаторная, а это универмаг с часами и вот бульварчик, парикмахерская вывеска, вот она, дохлая лошадь, он её с четырьмя ножками на бумажке изобразил, вот танк разбитый, только он что-то мало чего пометил. У Крепышова разве такие были!
— Что же, он сам эту составлял?.. Соснин?
— Неаккуратная… сам, наверное. Вот даже и криво.
Крепышовскую снайперскую винтовку вручил Лёле комбат.
Она сказала, что хочет её проверить.
— Это зачем? Она и не поцарапалась, когда он её выронил.
— Мне для себя надо. Себя на ней проверить.
— Дело хозяйское, — холодно сказал комбат, который думал, что надо бы как-нибудь поторжественнее всё оформить с передачей оружия, но как-то слов не нашлось напутствовать эту как-никак вроде девушку, девчонку, чтоб она приняла на себя работу, на которой погиб знаменитый, опытный, всеми уважаемый снайпер Крепышов.
Лёля Карытова попрощалась, прошла через два отделения подвала бывшего продовольственного склада гастронома, отошла шагов на двадцать и остановилась, осматриваясь по сторонам, подыскивая цель.
Комбат, оказывается, вышел следом и стоял у неё за спиной.
Шагов в двухстах копошились на пустыре четыре вороны.
— Ну вот, — сказал комбат. — Ту, что слева.
Вороны точно услыхали, взлетели и, тяжело махая крыльями, уселись на мёртвое, чёрное, как зимой, и голое дерево.
— Которую? — спросил комбат, видя, что Лёля вскидывает винтовку к плечу.
— На телеграфном столбе верхний изолятор, — и выстрелила.
Изолятор брызнул фарфором в разные стороны.
— Я говорю, что исправная винтовка, — сказал комбат. — А что ж ворону?
— По живому не упражняемся, — сухо ответила Лёля.
Когда Лёля ушла, стоявший поодаль и наблюдавший, будто нечаянно, офицер связи сказал:
— Лутаков!.. Ты смотри, а?
— Думаешь, Крепышов хуже стрелял? — задумчиво-сердито сказал комбат. — Нет, брат, не хуже.
— Ну, эта, если увидит, она ему вмажет.
— Вот если только увидит.
Всё это было давно, несколько дней назад, а ей самой уже казалось, что она, снайпер Карытова, возится тут целый месяц.
Перед рассветом уходила на дежурства и возвращалась опять в темноте. Участок фронта был всё ещё тихий, то есть не было бомбёжек, огневых налётов, массированной артподготовки. Шла фронтовая жизнь с осветительными ракетами ночью, вспыхивающей пулемётной стрельбой, не всегда понятными выстрелами то там, то тут. И каждый день уносили в санбат убитых и раненых снайперами. От пленных уже давно было известно, что прибыл великий специалист своего дела, полковник, начальник школы фашистских снайперов, к нам в руки даже попал свежий печатный листок с его портретом — упитанный, гладко выбритый, усмехающийся, — и сверху жирными буквами, фамилия Крепышова: Крепишофф — заметка о том, как полковник расправился с этим знаменитым снайпером на второй день после приезда, между завтраком и ужином.
Лёля Карытова по многу часов лежала, не двигаясь, и только смотрела, наблюдала за той стороной площади. Иногда глаза так уставали, что всё начинало двоиться, она их закрывала на несколько минут и снова смотрела. Она уже наизусть знала, ночью во сне видела каждое окно, каждый камень мостовой, повисшую криво отбитую вывеску "Маг…", насмерть перебитый тонкий ствол деревца на бульваре, который лежал кроной на земле и на глазах зазеленел весенней листвой, как будто не зная, что ствол перебит и ей не распуститься; и часы без стрелок на универмаге, «Парикмахерская», подорванный сгоревший танк, очертания каждого пятна отбитой штукатурки, чтоб отметить малейшее изменение контура, передвижение какого-нибудь предмета на несколько сантиметров… Проверяла свои карточки, заново рассматривала карточку погибшего Крепышова. Ничего не могла найти, а вечером узнавала, что опять кого-то под странным, невероятным углом поразила пуля невидимого снайпера.
Сама она видела уже не раз, как осторожно высовывается верхушка немецкого шлема, и безошибочным чутьём угадывала, что это ее, это наших вызывают на выстрел, чтоб заставить себя обнаружить…
Она сидела и читала письмо от Оли, хотя понимала его как сквозь сон. Сном ей казалась вся её прежняя жизнь Не сном была только площадь, все её окна и тяжёлые, не в ногу, шаги солдат, выносящих по обвалившимся лестницам ещё одного стонущего раненого или молчащего солдата, опять как-то неслышно за стрельбой, мгновенно убитого снайпером.
Она слабо, рассеянно улыбнулась, перечитав это слово «фальшивка», отложила письмо и снова погрузилась в рассматривание карточек. Что-то было тут недодумано, недосмотрено, и это всё время её беспокоило, мучило и вдруг внутренне вздрогнула, испытав какое-то мгновенное чувство ускользающей догадки, похожее на испуг…
Почему-то на грязной, предсмертной, испачканной кирпичной пылью, похожей на кровь, карточке Соснина карандашный кружок, обозначавший часы на башне универмага, в одном месте был толще, как будто его начали обводить во второй раз, но не довели и до половины. Только чиркнула карандашная линия в сторону.
Она перевернула листок — бумага была глубоко продавлена карандашом именно этой, второй, начатой и брошенной линией.
Что хотел отметить Соснин? Она легла, закрыла глаза и стала думать.
Конечно, никакой дурак не станет выбирать себе для укрытия бросающиеся в глаза, привлекающие внимание предметы: какой-нибудь отдельный куст… тем более циферблат часов на площади!
А вдруг дерзость и хитрейший расчёт в том и заключается, чтоб, нарушив азбучно-правильное решение, выбрать такое нелепое, что никому и в голову не придёт? Может, это и обмануло Крепышова?
Едва дождавшись предрассветного часа, она уже лежала на своём месте, на пороге второй от фасада дома внутренней комнаты, и ждала, когда взойдёт солнце.
Быстро светало, и башня вставала всё явственней. Невысокая, насквозь просвечивающая дырами-пробоинами от снарядов… Ни один наблюдатель не полезет на такую открытую голую верхушку, с которой и видны-то одни только крыши да площадь…
Часы выворочены снарядом и нависли над пустотой, так что обнаружились болты рамы и колёса старого, громоздкого механизма.
Циферблат прогнулся и в верхней части отделился от рамы, а за ним виден простор голубого ясного неба. Кажется, всё видно насквозь, не то что человеку, кошке не спрятаться… Ну, кошке-то хватит и ещё останется место… а много ли больше нужно, чтоб скрыть лежащего человека?
В целости, несогнутыми, остались только цифры "2, 3, 4, 5", и то пятёрка сдвинулась ниже края отверстия в стене, она не в счёт, ничего не может прикрывать… Отбросить пятёрку, двойка? Высоко! Там нужно бы стоять человеку во весь рост. Значит, может быть только три или четыре…
Она лежала посреди разгромленной кухни, от которой не осталось ничего, кроме плиты и нескольких сверкающих белизной кафельных плиток над раковиной. Лежала, смотрела на часы и чувствовала, как с той стороны площади за каждым движением её следят десятки глаз и чёрных обрезов стволов с чёрными круглыми отверстиями, готовыми выплюнуть смерть.
После полудня солнце перешло за дома на той стороне площади, глаза силой приходилось держать открытыми, мгла усталости их застилала, и тут произошло то, от чего в сердце толкнуло её, грубо, как кулаком. Было какое-то мгновение, которое она пропустила, но в глазах остался как бы фотографический отпечаток виденного: чёрная вертикальная палочка цифры «4» чуть изменила цвет, стала глубже, и в глубине открылся чёрный обрез ствола и трубка оптического прицела. Выстрела в общей стрельбе она не слыхала, и снова палочка уже была на месте. И казалось, что ничего не произошло, ничего и не было.
— Шейхуддинов! — не шевельнувшись, не разжимая даже губ, позвала она своего наблюдателя. — Смотри на часы, цифра «четыре». Там бойница у него устроена. С затвором. В случае не справлюсь, передай.
— Что такое? Что такое? Зачем часы?..
— Выполняй, что сказано.
Она очень медленно повела стволом, всё время видя на своей мысленной фотографии, где должен быть оптический прицел, где ствол, как должен лежать там снайпер, нашла воображаемую точку и нажала спуск, и даже увидела в оптическом прицеле круглую дырку от своей пули в пробитом циферблате, и понизила прицел для второго выстрела, и тут что-то произошло — там уже засекли, откуда она стреляла, и заслонка мгновенно открылась, она снова увидела всё: чуть доворачивающийся прямо на неё обрез чёрного ствола и припавшего к прицелу человека, — послала вторую пулю, и винтовка у неё дёрнулась, чуть не вырвалась из рук, что-то случилось, её ударило в плечо, она всё ещё видела открытую заслонку и, не обращая внимания на то, что случилось, почти одной рукой подправила точно прицел и выстрелила в третий раз.
Ответа не было. За прямым, незакрывшимся затвором столбика четвёрки зияла пустота.
Она слышала беспорядочный переполох стрельбы, перекатывающейся с площади на улицы, чувствовала, как Шейхуддинов, обдирая ей щёку о кирпичные осколки, оттаскивает её за угол кухни и кричит, задыхаясь:
— К шайтану в зубы пошёл! Чёрт проклятый, собака поганый, сатана, бисов сын! Взяли! Ай, взяли тебя! Ай, взяли!..
Она всё слышала и видела, как будто сквозь толщу текучей воды. Её несли, что-то делали с её плечом, это было очень больно, она хотела попросить, чтобы там, как раз там, и не трогали, но вместо этого потеряла сознание.
На другое утро пленный фашистский солдат подтвердил, что да, это уже все знают, полковник, командир школы, погиб смертью, достойной древнегерманских героев, в последний миг своей жизни уничтожив даже своего убийцу, командира роты русских снайперов.
Только недели через две Лёля, уже лёжа в тыловом госпитале, попросила подержать перед ней бумажку на подложенной книжке и здоровой рукой написала, с трудом выводя буквы, коротенькую записку дочери.
Глава сорок четвёртая
Когда-то давным-давно — было время — Оля гордилась, восхищалась и как-то неразделенно, как ей казалось, стесняясь это показывать, любила своего отца: красивого, гордого, сильного… В громе аплодисментов, в сиянии прожекторов, в разгаре удачи.
Потом она его осуждала, презирала, ненавидела всей силой своей прежней любви к нему.
Теперь же, после того как она написала на фронт маме письмо, она сама не знала, как к нему относится, всё было в какой-то путанице: ненависть вся вылиняла до того, что она поняла: её по-настоящему и не было никогда, просто она решила, что должна ненавидеть, вот и старалась, а теперь и стараться стало не из-за чего.
И она всё только очень присматривалась к отцу, незаметно и зорко.
Стал он некрасив и плохо одет, и лицо у него было часто неприятно в усмешке или угрюмо от какой-то постоянной недоверчивости. Только тогда, когда он крепко спал, она узнавала его прежнее открытое, беззаботно-добродушное лицо.
Но теперь он часто стал разговаривать во сне. Это было так странно, что она сначала пугалась, потом вставала, зажигала ночник, подходила к изголовью его тюфяка и смотрела, прикрывая ладонью свет.
Родион говорил быстро, невнятно. Только отдельные странные слова можно было понять… Потом он точно просыпался во сне, успокаивался и начинал дышать вольным, глубоким дыханием и тут делался похож на прежнего себя.
Днём они, как чужие, почти не разговаривали, обменивались незначащими словами по хозяйству, о том, что сегодня передавали по радио о войне.
Только когда гасили свет и они перед сном лежали на своих тюфяках по обе стороны перегородки, им легче становилось разговаривать. Точно они начинали узнавать друг друга только с закрытыми глазами. Точно возвращались назад, в прежние старинные времена Олиного детства. Осторожно, понемногу, точно ощупью, боясь оступиться.
Началось это так. Однажды Оля, сделав над собой усилие, вдруг проговорила почти шёпотом:
— Спокойной ночи.
— Ты… мне? — спросил он дрогнувшим от неожиданности голосом. — Да, да… Спокойной ночи.
— Почему ты за мной ходил?
— Я?.. Хожу?.. А-а, это когда ты из школы возвращалась? Ну, это так. Спокойнее, знаешь. Ходишь одна… Вот беспокойно почему-то… Я и пошёл. Посмотреть. Издали.
На следующий вечер им стало уже легче заговорить.
— Ты разговариваешь во сне.
— Всё ещё болтаю? Это у меня было. Ты мне сразу стукни в перегородку, я перестану.
— А почему "застава"?
— Просто застава, наверное. Ведь это ж у меня бред… Мало ли кому что снится?
— А почему её окружают? Кто её окружает, тебе снится?
— Ты не слушай лучше. Стукни. Я проснусь.
— Значит, я недостойна? Мне не стоит говорить ничего серьёзного… Твоего…
— Ох, детка! (В первый раз он это слово выговорил.) Ты достойна не путаться вместе со мной в моём ночном бреду. Это у меня после того, как голову… контузило. Ночная болезнь… Это бывает…
— Да, да, да!.. Всё понятно. Надо знать своё место… Да я его и всегда знала, и прежде знала, и буду…
— Какое место, о чём ты? — с тоской спросил Родион.
— Такое. Меня надо выносить, раз у мамы есть дочка, я… — И вдруг ядовито передразнила, удивительно похоже на его голос: — "Э-э, ты наша славнушка!.. Ну что, бутузина?.. Делишки как?"
Он очень долго молчал и заговорил, напрягаясь:
— Неужели это так было?.. Вот так, как ты показываешь?.. Так не было. Это тебе казалось… Я виноват, что тебе могло так показаться. Не умел.
— Не умел, потому что…
— Нет, не потому! В том-то и дело, что не потому! Разве я мог тебя не любить? Я тебя любил, а не умел или мне, наверное, всё некогда было тебе это показать. Да, да… я очень виноват… Я другим был занят уж очень… Другим, конечно: самим собой. У тебя и у Лёли я давно признаю полное, справедливое право, чтоб меня не любить. Я сам себя вспоминаю, какой я был, и не верю… — Добавил с тихим отвращением: — До чего он мне противен!.. Этот я.
— Ты и сейчас противный! — крикнула она сорвавшимся от слез голосом.
— Так и быть должно, так оно и есть! — сказал он самому себе. — И не из-за чего тебе плакать.
— Сам говоришь, что я не достойна влезать в твоё… чем ты болен… Я достойна только на шуточки или там чтоб из школы проводить, а поделиться со мной своим горем… Не-ет, куда там!.. И не надо!
— Ну, ну… Что я там болтал во сне? Застава? Да, была застава, понимаешь ли. Концертная бригада. Мы давали там концерт. А в воскресенье началась война. На погранзаставе: мы, кучка циркачей, шесть человек. Не знаю, что с ними сталось… Ну, в общем, я один штатский в пиджачке… А кругом идёт бой… Солдата-пограничника убило, я подобрал его винтовку… и как все… Мне кто-то крикнул… Нет, капитан это крикнул: "Фуражку хоть надень!" Я чью-то надел. Он мне команды стал подавать… "Рытов, на правый фланг, бегом!" Фамилию-то он по афише только знал. Ну, и тому подобное…
— А почему "окружают"?
— Было и это. Потом. В какой-то день. А дальше все уже сон… сон. Мы отступали… То есть солдаты. А я с ними шёл, конечно. Пробивались к своим. Майор один там командовал… Но ты никому об этом не вздумай говорить. Это всё только мои сны… Это я просто тебе объясняю. Что мне, бывает, снится.
— Что же мне говорить?
— Попал где-то под бомбёжку. В поезде. Может, и правда так. Медицинская комиссия, одна, другая, третья — все подтвердили: «негоден»… Значит, был под бомбёжкой, раз негоден и память потерял.
— Ничего ты не потерял, неправду мне говоришь. Путаешь меня нарочно, будто я маленькая.
— Нет-нет, было это. Терял. А потом очнулся я на койке, как голый человек на острове. Где-то меня подобрали, привезли сюда, в госпиталь, лечили. Какой части? Никакой. Как на фронт попал? С концертом поехал!.. Смех! Где это было? На временно оккупированной фашистами территории?.. Ловко, не проверишь!.. Фамилия командира? Не помню, и так всё дальше. Документы? Утрачены. Проверить, кем выданы, — пожалуйста, на оккупированную территорию. Доставлен такого-то числа, а где три месяца находился? Опять на те же круги, обратно… "Плохо ты, брат, — мне говорит тут один, — больно плохо ты врёшь, совсем неубедительно. Другие, подобные непроверенные личности, похитрее придумывают. Заладил: "не имею, не помню". Одно твоё счастье, что медкомиссии подтверждают, что ты негодный. Значит, ты военкомат не интересуешь. Может быть, ты был дезертир или уклоняющийся от фронта. Под бомбёжку ведь всякий может угодить". Вообще-то правда, я ведь и в военном госпитале не должен был находиться. Гражданский. Почему-то попал, не знаю… случайно…
Наутро Оля собиралась в школу, внимательно укладывая в портфельчик тетрадки, не оглядываясь, мельком спросила:
— Вот тогда ты и послал письмо?
— Это ночной разговор. Сны… Ты днём не думай об этом… Я теперь уже сам всё стараюсь позабыть, стараюсь…
Глава сорок пятая
Оля плелась из школы, блаженно подставив лицо тёплому, почти жаркому солнцу, так непохожему на наши северные ранние весенние дни с их сыростью, внезапно налетающими порывами холодного ветра, с сердитыми тучами, то и дело грозящими накрыть небо.
Совсем разомлев, она обрадовалась тени в доме, где ещё так недавно трудно было согреться.
Приезжая соседка, только что успевшая посоветовать Оле не придавать значения и не поддаваться скверному настроению, уже встретила кого-то у калитки и убеждала его бодриться, что бы там ни было в письме.
Все давно знали, в чём дело: приезжая соседка была воспитательницей в детском доме. Во время эвакуации ночью на льду озера одна машина с детьми ушла под лёд при воздушной бомбёжке. Вся, целиком, со всеми детьми, шофёром и другой воспитательницей.
Когда ей об этом рассказали, вот эта самая приезжая соседка не только отказалась поверить, но бросилась утешать всех окружающих, уверяя, что ничего не случилось, всё выяснится, обойдётся, только не надо падать духом. Так у неё это и осталось до сих пор. В остальном она была вполне разумным, очень тихим и кротким существом.
Старый узбек-почтальон шёл по двору:
— Зачем бодриться, говоришь, зачем надо? Хорошее письмо принёс. От живого человека. Бывает плохое письмо. Про мёртвого человека. Вот ты тогда говори.
Оля выскочила навстречу. Письмо ей. Треугольник. Солдатское. Мама из госпиталя. Во второй раз из госпиталя. Очень плохой почерк. Не её? Нет, её, её!..
Родная Оленька, пишу плохо, пальцы плохо гнутся, лежу в госпитале. Плечо уже заживает, но не очень быстро. Уже почти не больно, только очень досадно терять время. Мне сюда можно пока писать. Пиши. Или пишите? Верно я поняла, что ты с отцом? Что то его письмо было неправдой, я поняла, почувствовала давно. Я знала, что, если он не на фронте, с ним какая-то беда. Пиши.
Целую тебя. А если вы рядом, то вас обоих. Лёля.
Когда вернулся отец, Оля сказала: вот тут на столе письмо от мамы, можешь прочитать, она в госпитале.
— Кому?
Она увидела, как у него побелели щёки, лоб, даже нос, быстро проговорила:
— Нам. А я сейчас приду, — и выскочила во двор.
Долгое время спустя он отворил дверь и позвал её обратно в дом.
— Значит, ты ей написала?
— Значит, написала! — заносчиво, чтоб не разнюниться, отвечала Оля.
— Что же ты ей написала?..
— Что то твоё письмо было фальшивка! Вот что!
— Да-а, — сказал он, не замечая странности слова. — А что она подумала? Тогда? Что она тебе сказала?
— Тогда: "Он нас не любит".
С удивлением она увидела, что он странно, криво улыбается.
— Я?.. Да?.. Не люблю?.. Да если хочешь знать, кроме этого, во мне ничего и нет. Мы ведь расстались в ссоре… А тут мне надо было либо мириться, либо… Люди стреляются, пускают пулю в лоб. А я пустил письмо. Вас освободить от моего позора и всей моей негодности в такое-то время! Погорюют и позабудут… Думал, вы там будете тихонько жить. Жили же без меня… и привыкнете…
Он говорил всё тише, всё ниже опуская голову, и наконец замолчал.
— Надо ей сейчас же написать. Она ведь в госпитале… Я сейчас сяду и буду писать… А ты будешь?
— Может, попробуем… вместе?.. — сказал он, несмело поднимая голову, неуверенно, с робостью, такой непохожей на него.
— "Если мы рядом". Мама ведь спрашивает. Мы рядом?
— Рядом. Пиши, и я буду сидеть всё время рядом и сам подпишу… что-нибудь.
Оля села к столу, поспешно начала и задумалась на второй фразе:
— Как же про тебя писать, что с тобой было? Что бомбёжка?
— Хорошо, лучше всего так и напиши…
Когда они писали это письмо к матери, странным образом получилось так, как будто в то же время они писали его друг другу.
И каждое новое письмо в госпиталь, куда они теперь писали, постоянно было письмо Оли к отцу и его к дочери — так всё теснее их связывала общая любовь к Лёле.
И, получая ответы, написанные всё более твёрдым почерком — она уже вставала потихоньку, с рукой, прибинтованной к груди, в гипсовой повязке, — они мучительно старались себе представить её, какая она стала теперь. И получалось странное: теперешняя она — снайпер со счётом уничтоженных врагов, приближавшимся уже к трёхзначной цифре, с орденами, ранениями и долгим фронтовым стажем, — по письмам (и видно, и в самом деле) оставалась той же Лёлей, которую людям даже Еленой Павловной-то странно было звать, такая она была несолидная, несерьёзная, мучительно стеснявшаяся даже поторговаться, нанимая комнату, совершенно не умевшая воспитывать свою дочку (так считали все знакомые), вместо строгих внушений и полезных бесед сочинявшая потихоньку детские сказочки, в которые они играли с Олей вдвоём с одинаковым удовольствием, как две подружки в куклы,
Они теперь спрашивали себя: и это наша Лёля?! На этом фото в газете? Так же, как, наверное, миллион других людей спрашивали: "И этот подвиг сделал Васька, конюх нашего колхоза?" или: "Это, что написано в газете, наш электрик Петя мог совершить? Кто мог подумать, что он такой?.."
Дедушка Шараф и Родион уходили теперь на работу вместе. Ещё до того, как цирк уехал из города, у них произошёл такой разговор.
— Руки тебе аллах оставил здоровые, вижу? — сердито спросил дедушка Шараф.
— Есть руки.
— А зачем тогда кричишь?.. Я ходил в цирк, глядел. Стоишь кричишь. За каким шайтаном тебе такая работа?
— На завод не возьмут.
— На завод не зову. А справки тебе там не надо. Колхоз справку даст, какую хочешь. Две справки даст.
Теперь и цирк давно уехал, и они вдвоём уходили чуть свет и поздно возвращались, усталые, но мирные и дружелюбные друг к другу.
— Самый лучший доктор такая работа, — говорил дедушка Шараф. — Но ночам ты совсем мало стал с чертями драться. Большие были, теперь, наверно, маленькие совсем стали?
Что-то вроде семьи составилось в глинобитном домике. Стояло жаркое лето, темнело поздно, но иногда по вечерам зажигалась лампа с бравым зайцем. Родион знал уже, что это не простая, а Лёлина детская лампочка, и заяц не простой, а Лёлин.
Оля очень медленно и выразительно, ради дедушки Шарафа, начинала читать какую-нибудь сказку из своих тетрадок.
Приезжая соседка без спросу заглядывала на огонёк, присаживалась в сторонке и, высоко подняв брови, слушала, с трудом удерживаясь, чтоб не посоветовать кому-нибудь бодриться.
Дедушка Шараф сначала недоверчиво морщился и неодобрительно отворачивался. Даже делал вид, что не слушает. Сказки начинали ему нравиться только после того, как Оля читала их в третий, четвёртый раз и он успевал привыкнуть ко всем волшебникам, принцессам и злодеям. Тогда он начинал радоваться встрече с ними, точно со старыми знакомыми, и начинал приговаривать: "А-а! Это та девочка, которая спрячется от него в сундуке!.. Так, так, правильно!.." или: "Это всё он врёт! Обманывает этого беднягу! Помню, помню, насквозь тебя вижу, старый ты мошенник!"
Новых сказок он не любил, а время от времени просил ему, бог знает в который раз, "рассказать ту Лёлину, где принц ишачка такого, как Джафар, пожалел. В глаза ему смотрел". Старую, знакомую и тем самым ставшую милой ему, привычную сказку.
— О чём ты всё время сейчас думаешь? — как-то спросила Оля у отца после чтения именно этой сказки.
— О сказке, о чём же ещё?
— Об ослике? Неправда! Правду скажи, о чём?
— О царевне.
— А что о царевне?
— Просто… что её звали Лёля.
Глава сорок шестая
— Вот увидите, вы увидите, что всё выяснится и обойдётся совершенно благополучно — главное, не позволяйте себе падать духом! Вот увидите, всё не так страшно, это сначала только всегда так кажется! А как только возьмёте себя в руки — всё окажется не так и всё выяснится, вот увидите, выяснится!
Загорелый пожилой милиционер в белой гимнастёрке рассеянно кивал, внимательно оглядывая на ходу весь дворик:
— Понимаю, понимаю… Зачем падать духом? Не надо падать, не надо…
Приезжая соседка довела его до самой двери и, видя, что утешать больше некого, поплелась к себе.
Шараф встретил милиционера приветливо, пригласил садиться и принёс домовую книгу.
"Книга" эта была тетрадка, и записей в ней было — раз-два и обчёлся, но милиционер довольно долго сидел над ней, задумавшись, и листал туда-обратно всё одну и ту же страничку.
Шараф достал маленькую дыню, разрезал её на блюде и поставил перед милиционером. Они были старые знакомые, но тот посмотрел на дыню и, извиняясь, сказал:
— Я сейчас при исполнении обязанностей, отец.
— А-а! — сказал Шараф. — Тогда, пожалуйста, исполняй.
— На меня не обижайся, отец. Кое-что искать надо.
— Как можно обижаться? Спасибо, что пришёл. Может, у нас во дворе где-нибудь разбойник найдётся. Поможешь тогда нам, а?
— Ай, не обижайся только, отец! Ну, сказано мне — проверить, я пришёл вот, сижу проверяю.
— Так-так-так! Ну, когда проверишь, ты мне скажи.
— Он что тут делает? Чем занимается? Ай, отец, я же тебя просил: только ты не обижайся. Ну, этот человек Рытов-Карытов. Ну?
— В колхозе работает. Я работаю, он работает.
— Вот что, — как будто с облегчением сказал милиционер, — нельзя сказать: "без определённых занятий"?
— Колхоз. Колхоз. Понял? Какие ещё занятия!
— А не замечается пьянство? Дебоширство не замечается? Почему тут живёт, не в колхозе?
— Замечается хороший человек. На войне пострадал. На работу пешком ходит. А тут живёт, я его пустил. С дочкой живёт. Внучка моя, вот я пустил. Ещё что нужно?
— Больше ничего не нужно, я так и напишу. Спрашивают — надо отвечать.
Шараф вежливо спросил:
— Ну как? Ты кончил теперь "при исполнении"?
— Кончил, отец.
— Кушай дыню тогда.
— Спасибо. Книжку убери. Сочная дыня, может накапать на бумагу… Сладкая дыня… Из колхоза?
— Из колхоза. Кушай больше. Жарко на улице…
Дня через два Шараф, выбрав удобную минуту, как будто между прочим рассказал возвратившемуся из поездки Козюкову о том, какой приятный человек у них милиционер. И как они с ним беседовали.
Козюков схватился за волосы и долго не отпускал их из рук, точно решая — вырвать ли совсем, с корнем, или ещё погодить.
Дело было в том, что только они двое знали, что Козюков сочинил длинное (и довольно путаное) заявление, в котором, ссылаясь на давнее знакомство, совместную работу в цирке и ещё на разных свидетелей, которых отыскать сейчас было совершенно невозможно, утверждал, удостоверял личность Родиона Рытова и ручался, что он является артистом цирка. К заявлению была приложена сильно помятая афиша с оторванным углом, где красовалось среди восклицательных знаков:
!ЧУДО-СТРЕЛОК РОДИОН РЫТОВ!
Разобрав это заявление, товарищ Пономаренко почти с жалостью посмотрел на взволнованного и уже отчасти торжествующего Козюкова.
— Значит, так: пропал Карытов, нашёлся Рытов. Две фамилии у человека?
Он не дал Козюкову пуститься в объяснения насчёт цирковых фамилий. Он, конечно, это и без него знал.
— Всё это я знаю. Но у нас не цирк. А военное время. И даже не в удостоверении его фамилии дело. А вопрос, где он находился в период начала военных действий три и более месяца и чем там занимался. Вы этого не знаете. И мы этого не знаем. Вот как.
Глава сорок седьмая
Стояла глубокая осень, но воздух был мягкий, и тёплый дождик шуршал в ветках деревьев.
Они шли в темноте, держась за руки, вдоль длинного ряда тополей, которыми были обсажены улицы.
Редкие огоньки слабых фонарей отражались в тёмной воде арыка у края дороги.
Только у самого фонаря падало бледное пятно света на неровные плиты тротуара, на ветки какого-нибудь дерева с подсохшей и поредевшей, но не успевшей опасть листвой.
Они шли, держась за руки, просто потому, что было поздно, темно, можно было оступиться на неровных камнях, и, значит, тут и речи не было ни о каких нежностях, ничего особенного не было в этом — держаться за широкую тёплую руку отца. Только хотелось идти так подольше, подольше.
Впереди возникло большое расплывчатое пятно света у подъезда заводского клуба. Два круглых фонаря освещали пустые ступеньки — наверное, кино ещё не кончилось. Рукописные плакаты под навесом были забрызганы косым дождём. Они уже проходили мимо, машинально читая на ходу крупные буквы, когда Родион вдруг остановился и так стиснул руку, что Оля чуть не вскрикнула. Он и не заметил этого, стоял, будто наткнулся на стенку, и смотрел в одну точку. Она спрашивала, он не отвечал. Стала дёргать руку, он не выпускал — стоял и не то со страхом, не то с недоумением смотрел на отсырелую, с загнутым отлепившимся краем афишу. Не отрывал от неё глаз.
Это было объявление о каком-то вечере встречи.
— Руку больно, пусти! — дёрнула она ещё раз, и он разжал руку, даже не оглянувшись.
С отчуждённым удивлением она всматривалась в его лицо: нахмуренное, напряжённое и в то же время какое-то бессмысленное, будто спящее. Она так и сказала:
— Ты что, заснул?
Медленно приходя в себя, он заморгал и робким, едва начатым и тотчас обратно спрятанным движением руки указал на афишу.
Тогда она стала читать:
"Вечер встречи рабочих завода с фронтовиками, участниками боёв Великой Отечественной войны…
… поделится полковник тов. Бульба".
— Пойдём туда… Зайдём в клуб. А?..
— Да кто нас туда пустит? Это же для рабочих завода, — напомнила Оля.
— А мы зайдём, мы попросим.
— Зачем тебе? Да что с тобой?
— Бульба! — сказал он с запинкой. — Встреча… видишь? Понимаешь?
— Папа, опомнись, это же в прошлое воскресенье было! Ты читай!
Он долго читал, стараясь понять, прежде чем согласился, что верно, в прошлое… Он взял её опять за руку, и они медленно пошли дальше.
Вдруг он опять остановился.
— Я тебе больно сделал? Правда?
— Да уж, я думала, раздавить хочешь.
— Прости. Это опять всё сны… — и, нагнувшись, поцеловал ей руку в ладошку.
Однажды утром дедушка Шараф долго присматривался к Родиону и, сочувственно-укоризненно покачав головой, сказал:
— Какого-то, я думал, мы уже выгнали из тебя последнего шайтанёнка. А сегодня, самое малое, ты с тремя дрался. Что так?
— Какие шайтаны?
— Раньше шайтан назывался. Теперь доктор невроз называет. Пожалуйста. А мне какая разница? Шайтан кусил, невроз кусил — всё одинаково от зубов больно. Опять я ночью много болтал?
— Много?.. Ты молчал мало. Я тебя будить хотел. Испугать боялся. Пошли работать, опять станем из тебя выгонять твою шайку ночную. Человек ночью спать должен, а не спорить со своими снами… Тьфу…
— Я сегодня не могу… На работу не пойду. Мне нужно в другое место идти. Сегодня же надо… Я им скажу…
Дедушка Шараф очень внимательно смотрел ему в лицо. Неожиданно мягко, как больному или ребёнку, сказал:
— Так бывает с человеком. Ты всю ночь мучился, спорил. Может, сейчас не совсем проснулся? Всё спорить хочешь?
— Надо, надо… Я пойду.
— Такое дело… Даже работу бросить?.. Хорошо, я тоже работать не пойду без тебя. Пойду твоё дело посмотрю.
Родион как будто не слышал. Тщательно побрился, всё время посматривая на часы.
Оля с беспокойством, переглядываясь с дедушкой, всё время следила за отцом так, что облилась чаем из пиалы. Отряхивая платье на груди, не отрывала глаз от отца.
— Я не пойду в школу. Я тоже с вами пойду.
— Не знаю, — значительно и громко выговорил дедушка Шараф, — какой сегодня праздник. Видно, большой у кого-то праздник, никто на работу не идёт, в школу не идут.
— Праздник?.. Какой праздник, глупости… Тут всё может быть и… Не знаю ничего.
Они вышли на улицу все втроём и через час уже сидели на длинной скамейке в прихожей около приёмной. Дверь в соседнюю комнату часто открывалась и оставалась незатворенной, и тогда им была видна деревянная перегородка с окошком, в которое подавали документы или заглядывали, отвечая на вопросы, посетители. Иногда там показывалась голова с ровным, как по линейке, пробором, и молодое курносое лицо. Это и был Пономаренко, которого им велели ждать.
Они пришли из самых первых, и Родион, с трудом сдерживая нетерпеливое оживление, что-то начал говорить в окошко. Оле с дедушкой издали было видно, что он даже торопливо. покладисто кивнул, когда ему велели ждать, не дав договорить, даже вроде улыбнулся с готовностью выполнить такое приказание. Вернулся и сел на скамейку в прихожей, бодро объяснил, что это ничего, просто придётся подождать.
Действительно, к окошку подходили люди, шла обычная работа. Пономаренко захлопывал окошко, потом снова открывал и выдавал какие-то маленькие книжечки и листы. Потом никого не стало, он захлопнул окошко надолго. Родион неуверенно подошёл, кашлянул, потом чуть стукнул, поскрёб ногтем фанеру.
Окошечко отворилось.
— Как фамилия?.. Документы!
— Я как раз по этому вопросу, — с вежливой готовностью быстро сказал Родион Родионович. — Карытов фамилия, Родион Карытов, вы, наверное, помните.
— Изложите дело, товарищ, как вас… Карытов? Чего вы хотите?
— Насчёт восстановления утраченных документов.
— А-а! Вот оно что, — Пономаренко протянул из окошечка руку.
— На руках никаких документов не имею, но… Пальцы руки Пономаренко, приготовленные взять щепоткой воображаемый документ, раскрылись, помахали и спрятались за окошко.
— Та-ак. Документа опять никакого нет. А что же есть?
— Я бы так не пришёл. Тут новое дело возникло. Я вчера случайно прочитал, в клубе выступал полковник Бульба. Я даже и другие фамилии могу назвать, всё вспомнил. А главное, Бульба — он в любое время засвидетельствует. Он командир группы был. Меня знает. В любое время…
— Та-ак, — внезапно оживившись, протянул Пономаренко. — Значит, Бульбу припомнил? Так.
Родион стоял, опустив, почти совсем закрыв глаза, и ровным, мертвенно-спокойным голосом, тихо повторял:
— Мне бы только найти товарища полковника Бульбу, Дениса…
— …Ульяныча. Значит, прочитал? Там написано. Ну что ж, я газету тоже читаю.
— Газету?.. В газете я ничего не читал.
— Верно, там отчёт был помещён о состоявшейся встрече с полковником, товарищем Бульбой, и его имя-отчество там. И он фамилии упоминал разные, может, две дюжины: и Шитова, и Мытова, и Бритова, и, кажись, Карытова — и вот, значит, прочитал и решил, что этого достаточно? Ай-ай-ай!..
Глава сорок восьмая
Пишу вам, мои милые, всё ещё из госпиталя, но у меня всё самое трудное уже позади — я встаю и прогуливаюсь по коридору. А это уже великое дело! В нашей палате сейчас нас только двое таких богатырей — я да стрелок-радист Аня.
Родя, я очень благодарна, я теперь просто счастлива, что ты наконец доверился мне до конца и написал всю правду, всё, как было с тобой с первого часа войны и до сегодняшнего дня. И ты ещё мог сомневаться: поверю ли я тебе?
Да в нашей палате девушки сто таких историй расскажут, как человек из-за тяжёлой контузии или раны в голову терял память надолго, совсем или частично, и долго не мог оправиться. Может быть, они кое-что даже и приукрашивают для моего ободрения, но это всё равно правда.
Я так прекрасно себе представила, что ты пережил, когда вдруг увидел на плакате эту фамилию: Бульба, написанную крупными буквами, и вдруг поверил, что всё было не сон, всё правда, реальность и можно этого Бульбу найти, поговорить с ним и руку его пожать, что Бульба твоих «снов» — живой полковник, он тебя сразу узнает и все твои беды, болезни и мучения кончатся… А пока твоё письмо шло до меня, может быть, ты уже его нашёл и, может быть, вы будете сидеть и читать вместе. Милый полковник! Скажи ему, что лейтенант Карытова стоит перед ним по стойке «смирно», держит руку под козырёк и будет стоять так час или весь день только за то, что он нашёлся и существует на земле.
Ты не должен обижаться на то, что я пишу дальше. Ты всё поймёшь. Девушки в моей палате... ведь ты понимаешь, что тут не дом отдыха и не общежитие девчат. Многим тут очень трудно, и не всех ждёт впереди радость и лёгкая жизнь… ты понимаешь. Так вот ЭТИ девушки мне завидовали, что я больше всех получаю толстых писем.
Кроме вас, мне ещё и из части иногда присылают треугольнички, с орденом поздравляли и вообще — вот и получилось, что много.
Треугольнички я давала всем читать, но им этого было мало: "Нет, ты вон то толстое прочитай вслух!" Это не простое любопытство — ведь многим и грустно, и обидно за что-нибудь и так хочется тепла, хоть и не своего, а чужого… хотя мы тут не очень-то чужие, говоря по правде.
Я не давала твоих писем. Меня дразнили, что, значит, у меня возлюбленный, и даже описывали его наружность — с большими усами — и высказывали всякие, очень смешные предположения, как он мне объясняется в любви и грозит, в случае чего, покончить жизнь самоубийством или обрить усы, в которых у него заключена вся его красота.
Сколько ни говори: письма от мужа, они только на смех меня поднимали. "Пускай он тебе и муж! А всё равно возлюбленный. Мужья так много не пишут!"
Даю слово, я им писем так и не показала, они сами их вытащили из наволочки под подушкой, когда меня увезли на перевязку. А когда я вернулась, они все, притихшие, лежат и на меня не смотрят.
Я сразу догадалась и тоже молчу. И наконец Аня мне строго говорит: "Как же тебе, Лена, не стыдно! Ты этих писем нас лишить хотела! Вот у Тони послезавтра повторная операция назначена, она так бы и уехала и ничего бы этого не знала! А ей за тебя же трогательно и всё хочется знать, вон погляди на неё!"
Ты не рассердишься, Родя? Я поглядела. И подумала, что она права. От своих я писем больше не прячу, они только деликатно дают мне сперва прочесть про себя, молча… Так что все они нашу историю знают наизусть, да ещё мне же внушают: "Слышь, Лена, это он тебе всю правду пишет. Уж мы-то понимаем! Ты ему верь, раз уж тебе такой мужик достался, пускай немножко неудачливый, зато хороший-то какой и до чего тебя любит…"
Вот какая я стала… Это я-то, которая когда-то письма писать садилась в сторонку, в уголок, чтоб никто не видел даже моего лица…
Вот какие девки негодные, можешь себе представить, они сейчас требуют, чтоб я им и это своё письмо вслух прочла! Разнуздались совсем… Но если б ты был тут, в нашей палате, и всё бы видел своими глазами, ты бы не рассердился. И они такие хорошие — вот этого я им не прочту. Я так рада, что Оля рядом с тобой. Я вижу вас вместе, рядом. Она пишет, что вы держитесь за руки, когда идёте по улице. Говорите "спокойной ночи". Обо мне говорите. Вспоминаете. Как это хорошо!
Пусть она поцелует дедушку Шарафа. Конечно же, я, как самоё себя, на всю жизнь помню его и его кишмиш помню, только он не был тогда Олиным дедушкой.
Я вас прижимаю к сердцу и целую, мои милые.
Ваш лейтенант Лёля.
Он отдал письмо Оле, молча лёг на свой тюфяк и, заложив руки за голову, уставился в потолок. Так он лежал теперь часто, часами, думал о чём-то так сосредоточенно, что, когда его окликали, всегда переспрашивал, хмурился, стараясь сосредоточиться, чтоб ответить. Точно его вернули откуда-то издалека.
Хлопоты, давно им заброшенные и с новой силой всполошившие всю энергию Родиона, ни к чему не привели.
Всё время Родиона поддерживала только одна упрямая до одержимости надежда, что он разыщет полковника Бульбу. Но в военное время расспрашивать адреса полковников было нелепо. В райвоенкомате один лейтенант нехотя, из жалости сказал только:
— Насколько я слышал, неофициально, могу сказать — полковник заезжал проездом, после ранения. Так что он либо где-нибудь на родине в отпуску, либо отбыл но назначению к месту службы…
Оля прочла письмо два раза, чтоб успеть успокоиться.
— Важное письмо, да? — спросил дедушка Шараф.
— Можно? — спросила Оля у отца.
— Всё можно… Дедушке? Он же дедушка!
Оля в третий раз начала читать письмо вслух и от того, что теперь слышала собственный голос, произносящий мамины слова, точно говорила это она сама, заволновалась и еле могла дочитать до конца, сразу обняла дедушку и, пряча слезы, поцеловала его несколько раз.
— Это за меня… За маму Лёлю… Она велела!
Медленно, рассудительно заговорил Шараф:
— Дочка тебе верит. Лёля верит. Это ещё не чудо. Я другое дело. Я старый человек, опытный. Хитрый человек. Я знаю: во сне человек не лжёт. Глаза у человека не умеют лгать. Голос немножко умеет, только ненадолго… Всё равно как горшок с трещиной. Постучи палкой — задребезжит.
Родион всё лежал, пристально хмурясь, разглядывая потолок, точно старался разглядеть там какую-то стёртую надпись, от которой решится его судьба.
Оля закрыла ему глаза ладошкой.
— Хватит смотреть, ну!.. — прижала ладонь ему ко рту.
Он привычно поцеловал, как всегда. Потом полез в боковой карман своей куртки и вытащил смятую, узкой полосой сложенную газету.
— Вот ещё. Читайте. Внизу заметка. Это про Бульбу. Нашла?
— Да. — Оля медленно, всё медленнее стала читать: -
"В одной из газет недавно был помещён отчёт о беседе полковника тов. Бульбы с рабочими Н-ского завода в гор. Н., где, между прочим, он назвал имена некоторых бойцов — героев боёв на фронтах Великой Отечественной войны.
Сегодня нашему корреспонденту удалось побывать в далёком сибирском городе Н. и повидаться лично с одним из этих героев, тов. Карытовым. Он трудится на одном из крупных заводов. Здоровье не позволяет ему вернуться в строй фронтовых бойцов.
Это скромный, ладно скроенный, с тяжёлыми плечами человек, несловоохотливый, неторопливый. Долго он отмахивался от наших вопросов, скромно повторяя: "Да что я сделал? Ну, воевали. Много там было настоящих героев, вот с ними вам поговорить надо, а я что!.."
Наш корреспондент воспользовался случаем, чтоб передать тов. Карытову боевой привет полковника Бульбы.
"Хорошо ли вы помните тов. Бульбу?" — задал вопрос он Карытову.
"Такое не забывается. Под его командованием мы сражались до последнего".
"Как ваше здоровье сейчас?"
"Трудиться мне не мешает. Как на фронте, так и далеко в тылу, мы вносим посильную лепту в дело разгрома ненавистного врага. — При этом тов. Карытов, со свойственным ему юмором, показал свои крупные, трудовые руки и добавил: — Надеюсь, что от моей лепты фашистам не поздоровится".
В заключение тов. Карытов просил через нашу газету также передать горячий привет полковнику тов. Бульбе вместе с благодарностью за то, что он не позабыл скромного боевого товарища".
Что же это значит? Как ты думаешь? — подавленно спросила Оля.
— Я всё время думаю вот это самое: что это значит? Значит, или это какой-то совершенно другой Бульба приветствуется с другим Карытовым. Или хуже того — майор Бульба всё позабыл, читает доклады, чтоб только покрасоваться на виду?..
Дедушка Шараф тихо сказал:
— Ты всё говорил "полковник Бульба"? Почему теперь сказал "майор"?
— Да… Правда, ничего не сходится. Сон!.. Майор… Фамилия уж очень редкая… Майор!.. Но сколько времени прошло. Мало майоров стали полковниками?
— Не обязательно, я слышал.
— Да, не обязательно. Впрочем, теперь всё всё равно. Всё. Тупик. Конец. На улице встречу хотя бы даже и «того», пройду мимо и не остановлю. Никуда больше не пойду. Ни в одну дверь не стукну. К чёрту всё… Нет, я не сумасшедший был, когда Лёле то письмо написал! Всем было бы меньше стыда и мученья!
Оля смотрела на отца, не находя, что сказать: лицо у него было такое ожесточённое и грубое, в точности как в тот день, когда они с ним встретились на Старом базаре под древней аркой, где он, забившись в нишу, играл на хриплой гармошке.
Глава сорок девятая
Знакомый ишачок Джафар привёз из колхоза старичка.
Дедушка Шараф увёл в сарай ишачка, вернее, только отворил ему дверь, а тот сам пошёл, превосходно зная, что надо делать. Только на минутку задержался, дал себя погладить Оле.
Старичок слез на землю ещё за калиткой и медленно подходил к дому. Он был сухонький, в загорелых морщинах, отчего похоже было, что он улыбается. Халат и тюбетейка на нём были разноцветные, нарядные, на него смотреть было весело.
— Вот эта девочка, отец, Оля зовётся, теперь у меня внучка.
— Здравствуйте, — очень медленно проговорил старичок, заговорил по-узбекски и засмеялся.
Дедушка Шараф перевёл:
— Он говорит, значит, ты его правнучка, это очень хорошо, ему это нравится… Это мой отец, Оля.
— Не может быть, он ещё совсем… молодой! — отчасти искренне, отчасти вежливо сказала Оля, кланяясь.
Дедушка Шараф перевёл на узбекский, и старичок опять тихонько засмеялся.
Все вошли в дом и стали пить чай с дыней, которую старичок привёз с собой.
Пили очень долго, неторопливо и всё время разговаривали, всё больше по-своему, так что Оля не понимала. Но старичок каждый раз, как встречался глазами с Олей, благосклонно наклонял голову, точно хотел сказать ей: "Да, да, всё хорошо, мне нравится, очень приятно".
Когда Джафар отдохнул и с очень недовольным видом позволил вывести себя снова в переулок, старичок попрощался, сел на ишачка.
Джафар вздохнул, подумал и вдруг зашагал, никого не спрашивая, куда надо идти, да ему никто и не указывал.
Вернувшись в дом, дедушка Шараф долго молчал и вдруг тихонько позвал:
— Лёля!..
Он иногда стал путать их имена, и, кажется, не только имена.
— Что делать будем?.. Он совсем плохой стал: говоришь — не слушает. Ночью смеётся. Это совсем худо… Из уличного комитета приходили, про него расспрашивали. Понимаешь?
— Пускай расспрашивают… А зачем приходили?
— Не знаю. Зря не будут. Странный гражданин у тебя проживает, говорят. Загадочный. Разве не странный? Теперь слушай. Мама Лёля ему поверила. А ты сама веришь? Всё так было, как он говорил?
— Конечно, верю. Как я могу?..
— Совсем веришь? Совсем, совсем? Без оглядки? Подумай, помолчи минуту. Много не говори. Только «да» или «нет». Молчи… Ну, теперь говори.
— Да.
— Тогда пойдём. Я с хорошими людьми говорил. Советовался. Сам думал. С отцом советовался. Такая загадка. Отец с другими стариками советовались, узнавали. Даже одно имя назвали. Вот он приезжал, совет привёз. Пойдём. Куда надо идти? В такое место, где загадки умеют разгадывать, да? Вот туда пойдём, сами всё расскажем. Тебе не страшно? Смотри.
— Страшно, но я не боюсь. Только кто станет нас слушать? Пустят нас туда?..
Дежурный смотрел с удивлением на эту странную пару. Сперва ему казалось, что они просто не понимают, куда пришли, эти двое: седобородый старик узбек и девочка-подросток.
Однако старик назвал фамилию начальника — видно, они и вправду пришли, куда хотели.
Дежурный звонил по телефону, говорил с какими-то людьми. А они сидели и невозмутимо спокойно ждали. Этому Оля выучилась у дедушки Шарафа: когда надо чего-то ждать — не кипеть, не волноваться, не рваться, а давать себе отдых. Выключаться, как плитка или лампочка, у которой выдернули вилку из штепселя, когда незачем зря тратить энергию.
Им наконец дали пропуск, и они через проходную вошли в заросший травой двор двухэтажного дома, похожего на все дома в городе.
Им показали дорогу, они поднялись на второй этаж, посидели в коридоре, и потом какой-то военный их подробно расспрашивал, что им нужно от начальника.
Дедушка Шараф оказался на высоте: изысканно-вежливо, доброжелательно, даже ласково он терпеливо, со множеством извинений объяснял молодому военному, что у него сердце разрывается от обиды, ему самому стыдно слушать свои слова, но он решительно никому не имеет права ничего рассказывать, кроме как именно вот этому начальнику, которого зовут так: Осокин.
Военный откинулся на спинку своего деревянного кресла и задумался. Дедушка Шараф невозмутимо-доброжелательно ждал, видимо очень довольный разговором, точно побеседовал с добрым другом.
— Ну и ну!.. — сказал военный, покачал головой и взялся за телефонную трубку.
Их попросили опять посидеть и подождать, но уже не в коридоре, а в низкой светлой комнате, совсем пустой, где только в одном углу сидел солдат с винтовкой в форме пограничника.
Они приготовились опять долго, терпеливо ждать и не сразу поняли, услышав:
— Входите!
В открывшейся двери стоял, дожидаясь их, высокий человек в военном, он усталым движением, слегка поморщившись, провёл рукой по коротко остриженным седоватым волосам. И тут Оля заметила, что вместо другой руки у него хорошо выглаженный, подогнутый и пришпиленный к гимнастёрке пустой рукав.
Они все втроём вошли в кабинет, он усадил их на жёсткий диванчик, а сам сел на стул у окна, так что письменный стол остался в стороне.
— Ну, что вам необходимо сообщить обязательно мне лично?
Совершенно нелепым образом дедушка Шараф вдруг сморщился и почмокал губами.
Мягким, деликатным, плавно-округлым движением показал на пустой рукав и с глубоким сочувствием, соболезнующе проговорил:
— Война? А?.. Тс-тс-тс… Ай-ой!
Осокин ожидал чего угодно, но не этого.
— Война, — очень удивлённо подтвердил он и чуть было не усмехнулся. — Ну, так почему вам меня надо?
— Ну, так вот… — вежливо и сдержанно, видимо он не хотел, чтоб его заподозрили в желании польстить, медленно подыскивая слова, сказал Шараф. — Советовались со старыми людьми. Люди отзывы давали… ничего… благоприятное говорили… Иди, говорили, к этому, у кого… вот это…
— Руки нету? — почти весело спросил Осокин.
— Правильно, так и советовали. Осокин, товарищ.
— Понятно. Ну, а дело какое? Это кто?
— Это его дочка, Оля. Мать на фронте у неё, лейтенант… Из госпиталя письма получаем. Снайпер. Портрет в газете был. Орден имеет. Даже не один.
— Как фамилия?
— Девочки фамилия Карытова, мамы — тоже.
— А вы им кто?
— Я ей приёмный, это всё равно, я за всё отвечаю вот этой старой головой.
— За что?
— За её отца. Теперь пускай она будет говорить, она письмо с собой принесла, она скорее всё расскажет.
— Дело это действительно важное? Чего вы от меня хотите?..
— Пропадает человек. Разве не важное? Хотим? Мы правду хотим. Вот зачем пришли.
— Слушаю. Только покороче и пояснее, ладно?
— Я умею, — твердо сказала Оля. — Я всё коротко и ясно. Только вы будете мне верить, обещаете?
Глава пятидесятая
Осень как будто бы прошла, и вместо зимы опять вернулось лето. Подсохли тротуары, и листья, не успевшие опасть во время дождей, так и остались на деревьях, грелись на солнечном припёке.
Надежды, ожившие после разговора с начальником Осокиным, мало-помалу стали тускнеть и вянуть. Вспоминалось, что он ровно ничего им не обещал, только выслушал Олин рассказ и черкнул несколько раз по блокнотику, лежавшему на письменном столе.
Хорошо ещё, что Родиону они ни словом не проговорились о своём приключении, а он, как слепой, даже и не заметил радостного возбуждения дедушки Шарафа и Оли, которого и хватило-то им всего на несколько дней.
В школе шёл урок, в классе было тихо, солнце пригревало сквозь стёкла, стучал и крошился мел, которым лихо выводил геометрическую фигуру мальчик с большой головой, стриженной «ёжиком», когда дверь тихонько приотворилась, дежурная девочка из старшего класса извинилась вполголоса и тронула Олю за плечо.
Преподавательница, следя за доской с задачей, рассеянно обернувшись, кивнула.
Оля, недоумевая, но почему-то слегка встревоженная, вышла с дежурной в коридор.
— Тебя там дожидаются!
Дожидался дедушка Шараф.
— Пойдём, — сказал он мягко и взял её за руку. — Ты не беспокойся. Волноваться не надо. Это никому не помогает. А? — Он насильно усмехнулся: видно, сам-то он как раз и волновался.
— Куда мы идём? Почему мне волноваться не надо? Я не волнуюсь.
— Просто пойдём посидим. Может, что узнаем. Может, его увидим… Кого, кого! Папу твоего! Понимаешь, ведь его увезли.
— Как это? Кто мог? Куда увезли?
— Ты не волнуйся. Меня дома не было. Машина приехала, в переулок не заехала, на улице стояла. За ним зашёл один в форме, повёл, в машину усадил, и уехали. Это приезжая соседка мне сказала. Что она может понять? Ну вот ты волнуешься.
— Что ж нам делать?.. Что делать?
— Пойдём туда, хоть посидим, подождём у входа.
— Куда мы ходили, к этому… Осокину? Пойдём. Только нас не пустят больше.
— Я тоже так думаю, больше не пустят, а мы так посидим. Около дверей.
На всякий случай, они всё-таки попробовали попросить пропуск, но оказалось, раз их фамилий нет в списке, им и пропуска не полагается.
Другого они и не ожидали, приготовившись уже выйти на улицу, когда хлопнула дверь и быстрыми шагами прямо к дежурному подошёл Пономаренко.
Молча протянул свой документ и, пока ему выписывали пропуск, спокойно, по-домашнему, барабанил ногтями по подоконнику.
Они смотрели на него во все глаза, он это заметил и тоже осмотрел их равнодушным взглядом.
Потом, не глядя, небрежно протянул руку за пропуском, что-то хмыкнул вроде "ага!" или "есть!" и, бодро стуча по дощатому полу твёрдыми каблуками сапог, ушёл во внутреннюю дверь.
— Погодите! — сказал дежурный и поговорил с кем-то по телефону.
Потом ещё раз переспросил фамилии и опять кому-то звонил, потом кто-то обратился к нему за пропуском. Он выписал и ещё раз позвонил, сказал "есть!" и положил трубку.
— Можете подождать. Посидите.
В это время на втором этаже за всеми дверьми и часовыми, в кабинете начальника Осокина, сбоку от его стола, сидел другой военный, закуривая новую папиросу, позабыв, что прежняя, недокуренная, ещё догорает в пепельнице.
— Впустите! — сказал начальник громко. Отворилась дверь. Конвоир ввёл человека и по знаку начальника вышел.
— Фамилия?
— Карытов.
— Имя, отчество?
— Родион Родионович.
— Военнообязанный?
— Младший лейтенант запаса.
— Почему не были мобилизованы?
— Такое стечение обстоятельств. Я у самой границы находился. А тут фашисты напали… Так, знаете, как был, в куртке, принял участие в боях… потом — бах! — контузило голову. Очнулся я в санпоезде, даже, кто меня вынес из боя, не знаю. Потерял память, зрение повреждено. Справка у вас находится!.. Я и сейчас по вечерам, знаете, иногда чувствую… вроде кажется что-то не то… Проходит потом.
— Хорошо. Название части, фамилии командиров припомнить можете?
Человек сокрушённо покачал головой:
— Товарищ начальник, там такое творилось… я же фактически штатский, попал прямо в бой с винтовкой в руках. Я своё-то имя вспомнить долго не мог. После контузии этой. Вот, оказывается, товарищ полковник Бульба меня припомнил, даже помянул добрым словом.
— Значит, Бульбу вы вспомнили. А ещё кого-нибудь?..
— Да ведь и он не полковник тогда был, подполковник, или майор, может… плохо это помню… А ещё? Сашка был всё рядом со мной, Мельников Сашка. Его убило, кажется… Если дозволено спросить, в чём же дело-то со мной?
— Дозволено, дозволено… У вас нет вопросов? — спросил сидевшего сбоку военного.
Тот погасил папиросу и медленно проговорил, повернувшись всем телом:
— Карытов!.. А не припомните ли вы название населённого пункта, где вас контузило?
— Ну как же! Соломахино. Деревня такая. И овраг большой.
— Правильно, — сказал военный и стал закуривать снова. — И овраг правильно.
— Уведите, — сказал начальник.
— Ну и работка у вас! — сказал военный, когда они остались одни. — Ну и работка, я вам скажу… Что теперь будем делать?
— Вы в ту комнату лучше всего пройдите, дверь пусть открытая. Всё будет слышно. Только уж потерпите, пока я не позову, ладно? Пепельницу с собой заберите, там нету… Ну, следующего.
Он внимательно посмотрел на этого следующего.
— Отчего вы хромаете?
— Нога болит.
— Так. Фамилия, имя, отчество?
— Карытов, Родион Родионович.
— Воинское звание?
— Младший лейтенант запаса.
— Когда и кем мобилизованы?
— Никогда, никем! Вот справка, если хотите, медкомиссии: к несению нестроевой службы негоден. Вот повторное освидетельствование.
— Это сейчас, — ловко разглаживая справки одной рукой сказал однорукий начальник. — А как у вас до начала войны обстояло дело?
— Хорошо обстояло. Был здоров… Ну что? Дальше вам рассказывать?
— Вот именно: дальше.
— У меня никаких документов нет, кроме этих справок. Вы всё равно не станете верить. Слова, одни слова!.. Я всё уже говорил.
— Я это знаю. Вы мне расскажите.
— Откуда вы?.. Хотя, прошу прощения, глупый вопрос. Слушаюсь. Рассказываю. Был артистом цирка… доказательств нет… хотя тут один клоун, да ведь это и неважно: артист — не артист…
Так вот, в день начала войны находился с концертной бригадой на погранзаставе. С субботы на воскресенье ночевали, утром должны были уезжать. А вот началось… Мой номер цирковой, знаете, назывался «снайперы»… Что же мне было делать, я подобрал винтовку и стал стрелять, как все.
Потом мы отходили в составе группы, соединились со штабом одной дивизии и долго, месяца два, пробивались из окружения.
— И пробились?
— Основная группа пробилась. Это я помню.
— А лично вы?
— Лично я оставался в группе прикрытия. Меня контузило, и меня вынесли из какого-то оврага, я часто терял сознание, но меня дальше куда-то переправили. А потом я плохо помню… в санитарном поезде. Потом меня поставили на ноги. И я стал жить, как голый человек на голом острове, — ни военный, ни гражданский, памяти нет, от документов меня кто-то начисто избавил. Дали кое-какую одежонку, прошёл комиссию: «негоден». Теперь вы скажете: "Ах, ты какую себе легенду придумал!" А мне всё равно… Я на базаре на гармошке играл. И сейчас бы играл, да дочка нашла… хотя я ото всего уже отказался.
— Оля?
— Ну, вы всё знаете. А мне и говорить-то не хочется. Надоело, надоело вот до сих пор!.. — Ребром ладони он полоснул себя по горлу.
— Название деревни, где вас ранило, не припомните?
— А чёрт с ней, с этой деревней. Какая разница… Маломахина… Соломахина, что ли?
— Вы ведь добивались восстановления документов?
— Вот на этом-то я и надорвал себе душу. Вот и вам я подозрительная личность? И до вас дошло? Надоел всем! Я назойливый! Придумал ловко: все мои доказательства и свидетели или воюют, или на оккупированной территории, так и знайте.
— Фамилию начальника погранзаставы припоминаете? Или командира группы прорыва?
— На что она мне? Того убили. Вы скажете, на мёртвых свидетелей ссылаюсь. Уже слышал. А кого помню — вспоминать не хочу.
— Что так?
— Бывает, помнишь человека, как брата родного помнишь, а он для красного словца в газете на тебя и наплевал… Или узнать не захочет. Что, не бывает?
— Бывает. Так и не припомните фамилии?
— Прорывом командовал кто? Бульба, Бульба!.. Спросите, читал ли я Гоголя! Читал. А вот Бульба был майор, начальник штаба дивизии. Не я ему фамилию придумывал. Только у меня надежда, что это всё-таки не тот, который в газете боевыми приветами обменивался с каким-то ещё Карытовым… От души надеюсь, иначе он… такое… что у вас ругаться не полагается. Можете улыбаться.
— Я не улыбаюсь вовсе. Только должен вам заметить, что полковник Бульба с этим Карытовым приветствиями не обменивался. Это вы ошибаетесь. Это корреспондент из Сибири так художественно передавал в своей заметке привет по своей инициативе.
— Это мне безразлично. Пускай хоть целуются.
Начальник новым каким-то голосом, громко проговорил, не глядя на Родиона:
— Я думаю, можно. Пожалуйста.
В соседней комнате, куда дверь оставалась всё время открытой, опрокинулся стул, кто-то тихо чертыхнулся, и слышно было, как скребнули по полу ножки стула, когда его торопливо ставили на место.
Военный, дожидавшийся в комнате, вошел, остановился в трёх шагах от Родиона и в упор уставился ему в лицо.
— Товарищ Карытов, вот перед вами человек. Вы его знаете или нет? — спросил начальник как-то вскользь и увидел, как белые пятна медленно стали проступать на лице Родиона, губы побелели, беззвучно шевельнулись, всё лицо стиснулось, сжалось от напряжения. Сдавленным голосом он еле выговорил:
— Не знаю… Я никого больше не знаю… — Сквозь стиснутые зубы, глядя исподлобья, зло и быстро вдруг добавил: — Вы товарища полковника лучше спросите, он вам лучше ответит.
Было странно видеть, что волнуется больше всех, кажется, полковник.
Он открыл рот, прерывисто вздохнул и позвал:
— Родя!.. Родя! Живой! — Голос его с каждым новым словом наливался силой и радостью. — Ты же убитый… Ты же награждённый посмертно… Да ты правда живой! Дай-ка сюда!
Широко раскинув руки, он с размаху обхватил, стиснул Родиона, который всё ещё стоял, опустив руки, и даже покачнулся от толчка. Полковник Бульба поцеловал его прямо в губы, еле начавшие слабо кривиться в бледной ответной улыбке.
Осокин вдумчиво, необыкновенно внимательно курил папиросу, с наслаждением затягивался и пристально следил за тем, как мутная струйка дыма выплывает вверх и вдруг оживает, вспыхивает, попав в полосу солнечного луча, и клубится, как белые весенние облачка.
Полковник Бульба обернулся к нему и откашлялся.
— Вы извините… Но ведь вы это сами устроили. Засадили там меня слушать. Я измучился там.
— Мой грех, — сказал Осокин. — Хочется, чтоб всё побыстрей и, главное, с полной ясностью.
— Ведь мы, — не слушая, продолжал полковник, — знаете, как с ним в последний раз прощались? Мы перед смертью прощались. Восемь человек оставались на месте — прикрывать огнём, когда вся группа, человек восемьсот, с обозом уходила. Кучка снайперов, представляете, что может сделать в таких условиях: один выстрел — водитель готов, машина в кювет, и так далее. И уходить-то им некуда было… А шоссе держали больше четырёх часов, ни машины не пропустили! И кто тебя потом вытащил, не представляю. Герой какой-то!
— Бабы, — улыбнулся Родион. — Бабы из оврага ночью меня тащили. Я как-то в овраг скатился, а там кусты, колючки…
— Я бы на вас, друзья, любовался до вечера, однако, извините, работа… Садитесь в сторонке, послушайте.
Конвоир снова ввёл человека.
— Вот что, Карытов! — быстро заговорил начальник. — Фамилия Голобородько вам не знакома?
Человек чуть недоуменно задумался, припоминая, потом удивился, пожимая плечами, и, наконец, от изумления развёл руками.
— Как это вы произнесли, недослышал? Бородька… или… Никак нет, моё фамилие Карытов, Родион. Согласно со всеми документами.
— Документы у вас хорошие. Правда, чужие. Я вас спрашивал, знакома ли вам фамилия Голобородько, а вы отвечаете, что ваша — Карытов… Что же это вы так слабо подготовились?
— Это вырвалось… У меня волнение путается, в справке обозначено, что контузия в результате… Это ничего не означает, что я сказал… — Он размашисто мотнул рукой. — Я ж уже всё понимаю, раз меня в горах взяли и сюда доставили… Что тут говорить.
— Голобородько, Никифор Остапович. Согласны?
— Согласен.
— Как к вам попали документы Карытова Родиона?
— Та… В той деревне Соломахино. Он без памяти в баньке лежал. Меня и натолкнуло. Я сам был раненый, вместе нас вывезли, эвакуировали и в один госпиталь было попали… Ему хорошую справку дали, я её переписал на бланк… Испугался. От войны хотелось подальше, виноват.
— А дальше, скрываясь с чужими документами, устроились на военный завод. Подробности мы знаем. Может, желаете сами что-нибудь добавить? Так или нет?
— Желаю! Очень желаю, добровольно! — заспешил Голобородько. — Я заявляю, что да, всё действительно, но никак не по своей воле! А как попавши в оккупацию фашистов, они насильственно мне угрожали, и я сильно напуганный был и вынужденный был согласиться… А потом случайно пораненный был от бомбы… И всё исключительно под угрозой…
— А когда газетчик явился беседовать о подвиге товарища Карытова, вы испугались: всё-таки в газету попали. И пытались бежать через горы. И маршрут был разработан заранее. И при побеге к границе были задержаны. Всё так?
— В точности! Чистосердечно!
— Вам дадут бумагу, напишете всё по порядку.
— Слушаюсь. Всё будет выполнено. Только бумаги побольше чтоб дали… у меня почерк крупный…
Когда Голобородько увели, позвонил телефон. Начальник сказал:
— А-а? Ну-ну, пусть подождут обязательно, — положил трубку, взял другую и сказал: — Пономаренко.
Молодцеватой походкой явился — именно не вошёл, а явился Пономаренко.
Он встал «смирно» перед столом начальника, даже слегка прищёлкнул каблуками.
— Вы знакомы с делом товарища Карытова?
— Так точно. Вполне знаком.
— К вам приходил товарищ Карытов?
— Множество раз.
— Заявления его через вас проходили?
Пономаренко вдруг виновато моргнул два раза.
— Действительно. Подавал всякие. Но я полностью ни на одну минуту не поддался. Ничего он у меня не добился… Однако медицинские комиссии, с другой стороны… Ну уж когда поступило письмо насчёт него…
— Написанное крупным почерком.
— Крупным, точно…
— Значит, вы не поддались. Ни одному слову не верили, что он вам говорил?
— Ни в какой мере. Там и слушать-то нечего было. Ни единой бумажки, свидетелей якобы нет, а что надо, он всё якобы позабыл.
— Это что? — спросил начальник, не дав договорить. — Но вашему бдительность?
— Так точно.
— Значит, вы полагаете, что бдительность — это никому не верить. Нет, товарищ Пономаренко, главное заключается в том, чтобы разобраться: кому и чему верить, а кому нет. Вот вы не желали верить ни слову одного человека и тем самым помогли кое-кому прозевать того, кому верить было действительно никак нельзя. Потому что у того бумажки были складные. Много на себя взяли, Пономаренко, сами всё решили, а распутывать пришлось другим. Ну, об этом ещё будет разговор. Идите.
Глава пятьдесят первая
В проходной зазвонил телефон. Дежурный высунулся и поманил к себе дедушку Шарафа.
— Получите пропуск, документ, пожалуйста.
— Нас двое.
— Пропуск на двоих.
Держа пропуск прямо перед собой, дедушка Шараф прошёл по двору, поднялся на второй этаж. Оля, как маленькая, держалась за рукав его халата.
Осокин шёл уже им навстречу, когда они только входили в большую пустую комнату.
— Мы же вам всё сами рассказали. Зачем же вы?.. А где он сейчас? — горячо и быстро спросила Оля.
— Зачем вы прибежали сюда? Я думал, он сам вернётся прежде, чем ты из школы придёшь.
— Где он, я спрашиваю? — отчаянно говорила Оля.
— Тут, сейчас он выйдет. Ему нужно было срочно встретиться с одним старым товарищем, а у того времени в обрез, ему на фронт.
— Это Бульба?.. Ну, скажите, что неправда! Бульба? Да?
— Да, да, да. Ну, с такой дочкой не пропадёшь.
— Он же честный всё-таки оказался, да?
— Честный, как и твой отец.
Оля быстро проговорила:
— Вот теперь я больше не могу!.. — отвернулась и заревела так, как давно уже разучилась. Как умела реветь только маленькой.
— Ну вот горе… — растерянно сказал Осокин. — Да ты понимаешь хоть, что я тебе говорю: ты можешь гордиться своим отцом, девочка!
— Вот… от этого… — прерывисто от всхлипывания говорила она, — от этого я и реву!.. Что вы не по-они-маете?
— Ну, тогда валяй, — сказал начальник, опасливо дотронулся до её плеча и вздохнул. — И вам, отец, спасибо, вы нам помогли.
— Ай, помогли! — странно улыбнулся дедушка Шараф. — Как будто вы сами бы не разобрались… За что спасибо?
— За доверие. За то, что пришли. Спасибо.
Он протянул свою единственную руку. Шараф с поклоном её бережно принял и пожал:
— Очень приятно. Я нашим старикам спасибо передам от вас, можно?
— Прошу вас, передайте!.. Вот твой отец!
Родион подходит к ней, но на ходу его заслонил полковник и, не давая подойти, отодвинул, придерживая рукой:
— Постой, постой, Родя, кто ж это такой? Твоя дочка?.. Ты его дочка?
Он хмурился, вспоминая, и про себя бубнил.
— Постой… Постой… Дочка, да, дочка, и зовут тебя, дочка, сейчас я вспомню как… имя у тебя какое-то дурацкое… в смысле то есть… заковыристое.
— Зовите меня Оля!
— Ничего подобного!.. Иола?.. Фа-биола? Бывает такое? Верно, а?.. Фабиола, честное пионерское!
— Откуда вы такое знаете? Меня так только собирались назвать.
— Он же мне тогда много чего рассказывал…
— Тогда? — испытующе впиваясь в него взглядом, вцепляясь пальцами в гимнастёрку, выпытывала Оля. — Он, значит, ещё ТОГДА обо мне?.. Тогда? — и подняла просиявшие глаза на отца, уже почти не замечая, как полковник чмокает её в щёку.
Глава пятьдесят вторая
"Когда празднуют день рождения, например, человеку, которому вчера было ровно одиннадцать лет, сегодня вдруг стало ровно двенадцать, собственно говоря, он состарился ровно на один день, — размышляла Оля. — Это всё равно, как граница между Европой и Азией, вот этот камушек лежит в Европе, а вон то деревце стоит уже в Азии!
И с детством моим то же самое: было у меня детство, даже когда мы с мамой приехали и поселились у Ираиды Ивановны, на втором этаже, и потом подружились с Володей… и даже когда мы прятали от военных опасностей бедного Тюфякина — всё это было ещё детство. А когда оно кончилось?.. Кто его знает!"
Уже полгода, как война кончилась. Как будто ты шёл-шёл по длинному тоннелю и вот наконец вышел на солнечный свет, увидел белые праздничные облака в небе над головой и услышал ветер над живым простором шелестящих трав.
Даже развалины в городе на ярком солнечном свету вы глядели не так уж мрачно. Старого вокзала больше не существовало. Телеграфные провода со столба на станции уходили вниз, прямо под землю. А широкие ступеньки, по которым они с мамой, приехав в город, когда-то спустились и вышли на занесённую снегом площадь и остановились, оглядываясь по сторонам, не зная куда идти, — эти старые, стёртые ступеньки были целёхоньки, вели к огороженной фундаментом площадке, поросшей травой, на том месте, где было здание вокзала.
Они с мамой ненадолго остановились в офицерской гостинице. Мама была ещё в военном, только её лейтенантские погоны хранились у Оли в её личном чемоданчике, завёрнутые в косынку.
Отец ещё работал на заводе, но они ждали его скорого приезда. В письмах они обменивались мечтами: как оно получится замечательно — они будут работать, восстанавливая город, работать, учиться, все вместе, всё вместе, всегда рядом. Они старались и не могли уже представить, как они прежде не понимали, как не додумались, ведь этого-то им и не хватало: быть всегда рядом, наравне, вместе, всем троим. И тогда ничего не страшно.
Писать отцу уже нельзя было, письмо могло его не застать. Но по старому адресу в глинобитный домик письма продолжали приходить.
В ответ приходили коротенькие записочки и небольшие посылки с вяленой дыней, изюмом и орехами.
— Мама, мы же не можем теперь его оставить одного. Как будто он чужой и мы его позабыли: взять и бросить? Ты это понимаешь? Это совершенно невозможно. Ведь мы его никогда не оставим, правда?
— Дедушку Шарафа? Никогда. Что за вопрос, детка? Разве близких людей бросают?
— Но ведь он всё-таки не совсем?.. Он у нас считается приёмный? Это же неважно, правда? Ты не смеёшься?
— Ты что же, совсем меня забыла, Оля? Такие вопросы!
— Ни капельки… Только ты сама мне скажи, правда, ты не стала другой, ты так и осталась… такая несерьёзная, как была? Всё-таки ты лейтенант и война была такая долгая, может, ты стала… повзрослей?
— Безнадёжно, — смешливо прищурясь, покачала головой мама. — Никогда я не повзрослею. Даже когда со всем состарюсь.
— Мама, я тоже хочу так! И я с тобой вместе состарюсь и всё равно останусь, какая есть.
— А как тот ужасный мальчишка Олег? Как обстоит с ним дело?
— О, прекрасно! Его, знаешь ли, не стало! Ведь он сперва был такой… Ну, озверелый, понимаешь? Потом у него отвалились рога, потом хвост, ну и, наконец, его вовсе не стало.
В дверь постучали.
— Володька является! Здравствуй, Володя!
Оля открыла скрипучую дверцу маленького шкафчика — единственного предмета меблировки их крошечного мансардного номерка со скошенным потолком.
— Вот, — сказала она, достав с полочки квадратный листок газетной бумаги, — это твоя порция. Три щепотки изюма, по-нашему кишмиш, хвостик дыни и ещё урюк. Ешь, не сходя с места.
— Нет, спасибо, — хрипловатым голосом сказал Володя, здороваясь с Еленой Павловной. — Я к этому не очень, — и, повернувшись к Оле, грубовато буркнул: — Что я, закусывать к вам хожу?
— А зачем же ещё? Сказано — твоя порция.
— Володя, эта порция правда ваша.
— Хм, стоит, не берёт! Ты что такой несообразительный стал? Гляди-ка, ты длинный какой вытянулся, а мозг, наверно, не растёт… Ты следи за собой, а то получится как у ихтиозавра: сам с троллейбус, а мозг, как у маленькой собачки.
— Приветливая ты хозяйка, — сказала Елена Павловна. Берите, Володя, не обращайте на неё внимания.
— Ну пожалуйста. Я могу. Что ж я… Спасибо…
Он покорно защипнул изюм и, задрав голову, высыпал его себе в рот.
Оля внимательно наблюдала, как он ест.
— Ну как? Здорово вкусно?
— Здорово. А в тех краях такого много? Насчёт сладкого у нас всё время было слабовато… Вот я всё съел. Спасибо, Елена Павловна.
— А этого мы тоже не бросим? — спросила, усмехаясь, Елена Павловна у Оли.
— Ещё поглядим. Большой вопрос.
— Насчёт чего это вы? — заинтересовался Володя.
— Ты всё равно не знаешь. Мы тут о дедушке рассуждали.
— Мировой старик! — Володя, конечно, давно уже знал всю историю, так же, как и Оля и Елена Павловна знали его собственную историю и всё про Анну Иоганну, преподавательницу немецкого языка и про её отца.
Володя рассказывал, как сразу же после того, как город оккупировали гитлеровцы, она сама, добровольно, предложила свои услуги фашистской комендатуре и два года усердно работала там переводчицей. С ней не здоровались на улице её прежние ученики. Бывшие учителя отворачивались от неё с гадливостью, весь город её презирал и ненавидел до того дня, когда её вдруг, к общему удивлению, арестовали. Партизанская группа сделала отчаянную попытку спасти её перед самым расстрелом. Попытка не удалась, и старую женщину расстреляли. Она два года передавала через связных бесценно важные сведения партизанам. Связными были некоторые бывшие её ученики. Первым начал эту работу Володя.
Её дряхлый отец при аресте дочери швырнул свой старый железный крест четырнадцатого года в лицо гестаповцу, и, пока его дочь вели по улице в тюрьму, он шёл следом, слабо, но неутомимо выкрикивал с ужасным немецким акцентом, по-русски:
— Я не есть никакой дейтше… Я есть чисты русски человек! — И всячески ругал их по-немецки такими словами, что его застрелили на Мельничной улице, около аптеки.
Незадолго до ареста, который она, видно, очень ясно предвидела, Анна Иоганна дала Володе томик стихотворений Гейне на немецком языке. Там были отмечены птичками несколько стихов, в том числе и «Лорелея», а на заглавном листе было написано:
Милой Оле
Вспомни однажды о старой учительнице.
Анна
Она просила отнести и передать книгу для хранения на партизанскую базу, в надежде, что, если и Володю убьют, партизаны расскажут о ней людям.
По вечерам Оля и Володя выходили погулять. Это были какие-то бестолковые, скучноватые гулянья. Оля легко шутила, острила, дразнила Володю, когда они были втроём с мамой, но едва оставались они вдвоём, всё её оживление как рукой снимало, и разговор не вязался.
Володя говорил простуженным, сиповатым голосом, всё хмурился, откашливался.
Они всё точно присматривались друг к другу, не узнавая главного.
Оттоптав ноги, они, усталые, возвращались в гостиницу, очень недовольные друг другом и каждый сам собой. И на другой день опять упрямо шли гулять.
Все разрушенные места своего разрушенного детства они обошли, не сговариваясь, нигде не задерживаясь.
— Подумать только! Смотри: остался кусок забора и колодец — тут был двор, где Танкред жил.
— А ты помнишь Танкреда? — живо спросил Володя.
— Помню. До чего мы глупые были!
Шли дальше.
— На этом месте водная станция была!
— Никифораки!.. Где-то он теперь?
— Ушёл на фронт. Разве теперь узнаешь? Может быть, вернётся и опять себе каюту устроит. А может, нет…
— Конечно… мы же совсем ребята были. Даже вспомнить странно.
Они шли дальше. Володя мечтательно улыбнулся:
— Тут когда-то цирк шапито стоял! И вот здесь загородка. И ты на слоне сидела. Вот тут. Точно на этом месте.
— На слоне? — небрежно усмехнулась Оля, презрительно выпятив нижнюю губу. — Какая я была смешная дура тогда!
— Кто смешная дура? — затихающим от возмущения голосом с угрозой спросил Володя и круто остановился. Вот именно так, в последний момент перед тем как сцепиться в драке, мальчишки спрашивают: "А ну-ка, повтори ещё раз, что ты сказал!" — и тут уж разговоры окончены.
Оля остановилась в изумлении и неуверенно повторила:
— Я была. Дура. И смешная, и…
Драка не началась, так как перед Володей не было мальчишки и бить было некого. Поэтому он только с выражением глубоко снисходительного презрения сказал:
— Если ты про неё так можешь говорить, то ты сама дура… Жаль, ты не парень, а то я бы тебе сейчас дал!
— Это за что же? — с интересом быстро спросила Оля.
— За то, что ты про неё смеешь говорить, вот за что.
— Это почему же? Ведь это же я про себя. Это же я была!
— Вот потому ты сейчас и… дурак!.. Мало ли что ТЫ! Да знаешь, до чего ты была замечательная! Ты тогда такая была!.. Ты такая была… какие даже не бывают! Вот какая… — Он махнул рукой с ожесточением. — Что тебе объяснять, раз ты сама не понимаешь! — и пошёл дальше.
— А ты ведь меня чуть было не треснул! — с видимым удовольствием заметила Оля, догоняя его.
До самого оврага они шли молча. Он не изменился, и деревья и кусты по его склонам не изменились. Знали свой закон: опять пожелтели в своё время и шуршали на ветру, как в позапрошлые осени, как в будущую осень. И река текла своей дорогой под высоким берегом.
— Ах да! — вдруг с небрежной рассеянностью хмыкнула Оля. — Я и забыла совсем. Мы тут где-то недалеко когда-то закапывали… этого… Тюфякина! Ну и чудачили мы с тобой в детстве. Наверное, не осталось от него ничего.
— Вот о чём вспомнила… Я думал, ты и не вспомнишь.
— А ты разве помнишь?
— Мне-то что его помнить? Твой Тюфякин, по-моему, ты первая и помнить его должна.
— Правильно замечено. Моё — это моё.
Домой они возвращались опять молча, хотя Володя несколько раз принимался откашливаться всё сильней, как охрипший певец, которому подходит время шагнуть на освещённую эстраду и разом запеть полным голосом, а он в своём голосе не очень-то уверен.
— Я всё ждал! — невнятно буркнул он наконец сиплым голосом.
Оля не отвечала, ничего не спрашивала, как он надеялся. До площади, на которой стояла военная гостиница, остался один переулок и два поворота.
— А я всё ждал! — с силой повторил Володя. — Я всё ждал, неужели же ты не спросишь!
Столько гнева и отчаяния было в его голосе, что Оля приостановилась и всмотрелась ему в лицо. Через минуту удивлённо спросила:
— Куда это ты меня тащишь?
— Сейчас!..
Он продолжал тянуть её за руку по переулку, потом во двор, окружённый когда-то со всех сторон большими домами, из которых невредимым оказался только один. Железная пожарная лестница уходила вверх на крышу пятого этажа.
— Теперь лезь за мной, она крепкая.
Он быстро стал взбираться по железным перекладинам, и Оля цепко, послушно полезла следом за ним. Железо холодило ладони, но ей не было страшно.
Володя остановился против окна третьего этажа и подождал, пока Оля его не догнала. Тогда он молча зажёг трофейный электрический фонарик и направил его луч в окно.
Две светящиеся точки мелькнули в мотнувшемся луче, напоминая что-то до невозможности знакомое, потом луч остановился, и прямо на Олю, проглядывая сквозь кудрявую шёрстку, уставились зелёные хитроватые глазки. Оля увидела тщедушное тельце и толстые лапки, круглые ушки и розовое пятнышко носа — словом, сам Тюфякин с бодро торчащим коротеньким хвостом сидел на подоконнике и смотрел в упор на неё через стекло…
Она заметила, что Володя схватил и крепко держит её под руку.
— Чего ты вцепился?
— Испугался, что ты вдруг свалишься. От неожиданности.
— Не свалюсь. Я не в обмороке.
Она спустилась вниз, Володя спокойно, как к себе домой, да это и был его дом — комната, куда можно было подниматься только по пожарной лестнице, так как обыкновенная обрушилась от взрыва, — влез в окно, вылез обратно и спустился, держась одной рукой.
— На, держи! — сказал он, осторожно передавая Тюфякина.
Оля бережно приняла его на руки, прижала к себе, погладила. Немного подумала и сказал:
— Спасибо.
— Это за что? — угрюмо отозвался Володя.
— За Тюфякина. За что же ещё? Спасибо.
— За это спасибо?.. Думаешь, я всё только ради тебя… Это я просто ради него… Что ж он там валялся зарытый… — отворачиваясь, бормотал Володя.
Оля вдруг тихонько неудержимо рассмеялась:
— Ты сам-то слышишь, что ты говоришь?
— Почём я знаю… Может быть, и не всё… А что я такого сказал?
— Ты всё ещё сердишься на меня… Так тебе грустно вспомнить, до чего я была хорошая и замечательная… тогда, а теперь… А вот теперь, фу, вот какая стала!.. Да?..
— Теперь? Ну, теперь… Что теперь! Конечно, ты теперь ещё лучше, сама знаешь. Даже в сто раз.
Они шли вдвоём, рядом, по еле освещённой улице, с Тюфякиным. Редкие прохожие удивлённо оборачивались на странную пару, стараясь разглядеть, кто это там едет у них на руках, насторожив ушки, и таращит зелёные глазки на свет.
— Я ведь тоже всё время ждала, — сказала Оля. — Ведь это же считается такое ребячество!.. Я боялась — мы теперь должны быть уже взрослые. И ты, наверное, всё позабыл.
— Нет, это я вот как боялся, что ты!.. А значит, всё-таки… У нас опять всё может быть, как было? Неужели правда?
Обращаясь к Тюфякину, потягивая его мягкое круглое ухо, Оля спросила:
— Всё правда?.. Что-что?.. Старичок говорит: правда! Тогда, значит, правда, Володя! Это уж точно!
|