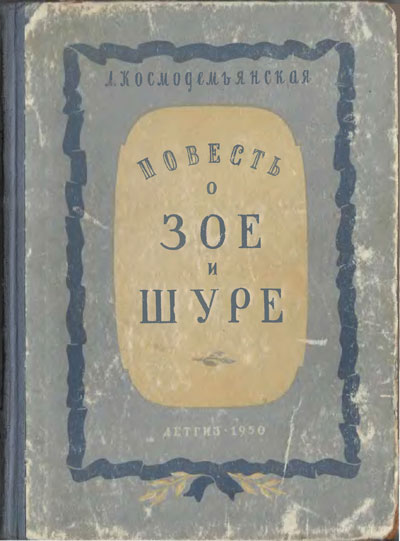|
ВСТУПЛЕНИЕ
Апрель 1949 года. Огромный зал Плейель в Париже. Конгресс защитников мира. Флаги всех наций украшают трибуну, и за каждым флагом — пароды и страны, человеческие надежды и человеческие судьбы.
Алый флаг нашей страны. На нём — серп и молот, символ мирного труда, нерушимого союза между теми, кто работает, строит, созидает.
Мы, члены советской делегации, всё время ощущаем, что нас окружает горячая любовь участников конгресса. Нас встречают так сердечно, нас приветствуют так радостно! И каждый взгляд, каждое рукопожатие словно говорит: «Мы верим в вас. Мы надеемся на вас. Мы никогда не забудем того, что вы сделали...»
Как велик мир! Это с особенной, поражающей силой чувствуешь здесь, в просторном, высоком зале, глядя на белые, жёлтые, оливково-смуглые лица, лица всех цветов и оттенков — от молочно-белого до чёрного. Две тысячи человек со всех концов земли собрались сюда, чтобы от имени народа сказать своё слово в защиту мира, в защиту демократии и счастья.
Я смотрю в зал. Тут много женщин. На их лицах страстное, неотступное внимание. Да и может ли быть иначе! Призыв к миру несётся поистине со всех концов земли, и в нём — надежда всех жён и матерей.
Сколько услышала я здесь рассказов о людях, которые пожертвовали жизнью для того, чтобы победить фашизм, чтобы минувшая война закончилась победой света над тьмой, благородного над подлым, человеческого над бесчеловечным!
И я думаю: неужели кровь наших детей пролилась напрасно? Неужели мир, добытый ценою жизни наших детей, ценою наших слёз — слёз матерей, вдов и сирот, — будет вновь нарушен по воле злобных и гнусных сил?
На трибуну конгресса поднимается наш делегат — Герой Советского Союза Алексей Маресьев. Его встречают бурей аплодисментов. Для всех присутствующих Алексей Маресьев олицетворяет русский народ, его мужество и стойкость, его беззаветную отвагу и выдержку.
— Каждый человек должен спросить себя: «Что я делаю сегодня в защиту мира?» — несутся в зал слова Алексея Маресьева. — Нет сейчас более почётной, более благородной, более высокой цели, чем борьба за мир. Это обязанность каждого человека...
Я слушаю его и спрашиваю себя: что же я могу сделать сегодня для дела мира? И отвечаю себе: да, я тоже могу вложить свою долю в это великое дело. Я расскажу о своих детях. О детях, которые родились и росли для счастья, для радости, для мирного труда — и погибли в борьбе с фашизмом, защищая труд и счастье, свободу и независимость своего народа. Да, я расскажу о них...
ОСИНОВЫЕ ГАИ
На севере Тамбовской области есть село Осиновые Гаи. «Осиновый гай» значит «осиновый лес». Старики рассказывали, что когда-то здесь и вправду росли дремучие леса. Но в пору моего детства лесов уже не было и в помине.
Кругом далеко-далеко расстилались поля, засеянные рожью, овсом, просом. А у самого села земля была изрезана оврагами; с каждым годом их становилось всё больше, и казалось — крайние избы вот-вот сползут на дно по крутому, неровному откосу. В детстве я побаивалась зимними вечерами выходить из дому: всё холодно, неподвижно, всюду снег, снег без конца и края, и далёкий волчий вой — то ли он слышится на самом деле, то ли мерещится настороженному детскому слуху...
Зато весной как преображалось всё вокруг! Зацветали луга, земля покрывалась нежной, словно светящейся зеленью, и всюду алыми, голубыми, золотыми огоньками вспыхивали полевые цветы, и можно было целыми охапками приносить домой ромашки, колокольчики, васильки.
Село наше было большое — около пяти тысяч жителей. Почти из каждого двора кто-нибудь уходил на заработки в Тамбов, Пензу, а то и в Москву — клочок земли не мог прокормить бедняцкую крестьянскую семью.
Я росла в большой и дружной семье. Мой отец, Тимофей Семёнович Чуриков, был волостной писарь, человек без образования, но грамотный и даже начитанный. Он любил книгу и в спорах всегда ссылался на прочитанное.
— А вот, помнится, — говорил он собеседнику, — пришлось мне прочитать одну книгу, так там насчёт небесных светил объяснено совсем по-другому, чем вы рассуждаете...
Три зимы я ходила в земскую школу, а осенью 1910 года отец отвёз меня в город Кирсанов, в женскую гимназию. Более сорока лет прошло с тех пор, но я помню всё до мелочей, словно это было вчера.
Меня поразило двухэтажное здание гимназии — у нас в Осиновых Гаях не было таких больших домов. Крепко держась за руку отца, я вошла в вестибюль и остановилась в смущении. Всё было неожиданно и незнакомо: просторный вход, каменный пол, широкая лестница с решётчатыми перилами. Здесь уже собрались девочки со своими родителями. Они-то и смутили меня больше всего, больше даже, чем непривычная, показавшаяся мне роскошной обстановка. Кирсанов был уездным купеческим городом, и среди этих девочек, пришедших, как и я, держать экзамены, мало было крестьянских детей. Мне запомнилась одна, по виду настоящая купеческая дочка — пухлая, розовая, с ярко-голубой лентой в косе. Она презрительно оглядела меня, поджала губы и отвернулась. Я прижалась к отцу, а он погладил меня по голове, словно говоря: «Не робей, дочка, всё будет хорошо».
Потом мы поднялись по лестнице, и нас стали одну за другой вызывать в большую комнату, где за столом сидели три экзаменатора. Помню, что я ответила на все вопросы, а под конец, забыв все свои страхи, громко прочла:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложён
Назло надменному соседу...
Внизу меня ждал отец. Я выбежала к нему, не помня себя от радости. Он сразу поднялся, пошёл мне навстречу, и лицо у него было такое счастливое...
Так начались мои гимназические годы. Я сохранила о них тёплое благодарное воспоминание. Математику у нас ярко, интересно преподавал Аркадий Анисимович Белоусов, русский язык и литературу — его жена, Елизавета Афанасьевна.
В класс она всегда входила улыбаясь, и устоять перед улыбкой её мы не могли — такая она была живая, молодая и приветливая. Елизавета Афанасьевна садилась за свой стол и, задумчиво глядя на нас, без всякого вступления начинала:
Роняет лес багряный свой убор...
Мы могли слушать её без конца. Она хорошо рассказывала, увлекаясь и радуясь красоте того, о чём говорила.
Слушая Елизавету Афанасьевну, я поняла: учительский труд — большое искусство. Чтобы стать хорошим, настоящим учителем, надо иметь живую душу, ясный ум и, конечно, надо очень любить детей. Елизавета Афанасьевна любила нас. Она никогда не говорила об этом, но мы это знали без всяких слов — по тому, как она смотрела на нас, как иной раз сдержанно и ласково клала руку на плечо, как огорчалась, если кого-нибудь из нас постигала неудача. И нам всё нравилось в ней: её молодость, красивое вдумчивое лицо, ясный, добрый характер и любовь к своему труду. Много позже, уже став взрослой и воспитывая своих детей, я не раз вспоминала любимую учительницу и старалась представить себе, что сказала бы она мне, что посоветовала бы в трудную минуту.
И ещё одним памятна мне Кирсановская гимназия: учитель рисования нашёл у меня способности к живописи. Рисовать я очень любила, но даже себе боялась признаться, что хотела бы стать художницей. Сергей Семёнович Помазов однажды сказал мне:
— Вам надо учиться, непременно надо учиться: у вас большие способности.
Он, как и Елизавета Афанасьевна, очень любил свой предмет, и мы на его уроках узнавали не только о цвете, линиях, пропорциях, о законах перспективы, но и о том, что составляет душу искусства — о любви к жизни, об умении видеть её повсюду, во всех её проявлениях. Сергей Семёнович первый познакомил нас с творениями Репина, Сурикова, Левитана — у него был большой альбом с прекрасными репродукциями. Тогда в моей душе зародилась ещё одна мечта: поехать в Москву, побывать в Третьяковской галерее...
Но как ни хотелось мне учиться дальше, я понимала: нельзя. Семья едва сводила концы с концами, надо было помогать родителям. Окончив гимназию, я вернулась в Осиновые Гаи,
НОВАЯ ЖИЗНЬ
Весть об Октябрьской революции застала меня ещё в Кирсанове. Признаться, тогда я не очень поняла, что произошло. Помню только одно радостное ощущение: настал большой народный праздник. Город шумит и ликует, плещутся на ветру красные флаги. На митингах выступают простые люди — солдаты, рабочие.
Когда я вернулась в родное село, брат Сергей, друг моего детства и старший товарищ, сказал мне:
— Начинается новая жизнь, Люба, понимаешь, совсем новая! Пойду добровольцем в Красную Армию, не хочу оставаться в стороне.
Сергей был всего двумя годами старше меня, во я рядом с ним была ещё совсем девчонкой. Он больше знал, лучше разбирался в происходящем. И я видела, что решение он принял твёрдое.
— Серёжа, а мне что делать? — спросила я.
— Учительствовать! Конечно, учительствовать, — ни секунды не колеблясь, ответил брат. — Знаешь, теперь, школы начнут расти как грибы. Думаешь, в Осиновых Гаях по-прежнему будет только две школы на пять тысяч жителей? Ну нет! Все учиться будут, вот увидишь. Народ больше без грамоты жить не станет.
Через два дня после моего приезда он ушёл в Красную Армию, а я, не откладывая дела в долгий ящик, пошла в отдел народного образования и тут же получила назначение: в деревню Соловьянку, учительницей начальных классов.
Соловьянка была в трёх вёрстах от Осиновых Гаев: бедная, неприглядная деревенька, убогие избы, крытые соломой.
Немного утешила меня школа. Бывший барский дом стоял на краю деревни, утопая в зелени. Листва деревьев уже была тронута желтизной, но ещё издали так весело и приветливо алели кисти рябины, вытянувшейся перед самыми окнами, что я невольно повеселела. Дом оказался довольно крепким и вместительным. Кухонька, прихожая и две комнаты: одна, побольше, — класс, другая — маленькая, с железными ставнями, — предназначалась мне. Я тут же разложила на столе привезённые с собой тетради, буквари и задачники, карандаши, ручки и перья, поставила бутыль с чернилами и пошла по деревне. Надо было переписать всех ребятишек школьного возраста — мальчиков и девочек.
Я заходила подряд во все избы. Встречали меня в первую минуту с недоумением, но потом разговаривали приветливо.
— Учительница, стало быть? Ну, учи, учи! — сказали мне высокая худая старуха с густыми и, показалось мне, сердито сдвинутыми бровями. — А только девчонок напрасно записываешь. Не к чему им учиться. Ткать да прясть, а там и замуж — для чего тут грамота?
Но я твёрдо стояла на своём.
— Теперь не прежнее время. Теперь совсем новая жизнь начинается, — сказала я словами брата Сергея. — Учиться всем надо.
... На другой день класс был битком набит — пришли все тридцать ребят, записанных мною накануне.
В крайнем ряду, у окон, сидели малыши — первоклассники, в среднем ряду — ученики второго класса, с другого края, у стены, — самые старшие, четырнадцатилетние, их было всего четверо. На первой парте, передо мной, сидели две девочки, обе светловолосые, веснушчатые и голубоглазые, в одинаковых цветастых платьях. Они были самые младшие, звали их Лида и Маруся Глебовы. Четыре старших мальчика у стены чинно встали, за ними поднялись и остальные.
— Здравствуйте, Любовь Тимофеевна! — услышала я нестройный хор детских голосов. — С приездом вас!
— Здравствуйте. Спасибо! — ответила я.
Так начался мой первый урок, а потом дни пошли за днями. Мне было очень трудно справляться одновременно с тремя разными классами. Пока малыши старательно писали палочки, а старшие решали задачи на именованные числа, я рассказывала среднему ряду, отчего день сменяется ночью. Потом я проверяла задачку у больших, а вторая группа писала существительные женского рода с мягким знаком после шипящих. Тем временем малыши уставали выводить свои палочки, я возвращалась к ним, и они начинали читать, во всё горло выкликая по складам: «Ау, ма-ма!» Или: «Ма-ша е-ла ка-шу!»
Я с головой ушла в работу. Мне было весело и хорошо с моими ребятами. Дни пролетали незаметно. Раза два приходил ко мне из соседней деревни учитель, у которого был огромный, по моим тогдашним понятиям, опыт: он преподавал в школе уже целых три года! Он сидел у меня на уроках, слушал, а потом давал советы и на прощанье всегда говорил, что дела мои идут хорошо.
— Детишки любят вас, — пояснял он, — а это самое главное.
СНОВА ДОМА
В Соловьянке я учительствовала одну зиму. С нового учебного года меня перевели в Осиновые Гаи. Жалко мне было расставаться с соловьянскими ребятишками — мы успели привыкнуть друг к другу, — но переводу я обрадовалась: хорошо быть снова дома, среди родных!
Вернувшись в Осиновые Гаи, я снова встретилась с товарищем детства Толей Космодемьянским. Он был моим сверстником, но казался много взрослее: по серьёзности, по жизненному опыту я не могла равняться с ним. Анатолий Петрович около года служил в Красной Армии, а теперь заведовал в Осиновых Гаях избой-читальней и библиотекой.
Тут же, в избе-читальне, собирался на репетиции драматический кружок: молодёжь Осиновых Гаев и окрестных деревень, школьники и учителя ставили «Бедность не порок». Я играла Любовь Гордеевну, Анатолий Петрович — Любима Торцова. Он был и нашим руководителем и режиссёром. Объяснения он давал весело, интересно. Если кто-нибудь путал, перевирал слова Островского или начинал вдруг кричать не своим голосом, неестественно таращить глаза и размахивать руками, Анатолий Петрович так остроумно, хоть и беззлобно, передразнивал его, что у того сразу пропадала охота становиться на ходули. Смеялся он громко, весело, неудержимо — ни у кого больше я не слышала такого искреннего, радостного смеха.
Вскоре мы с Анатолием Петровичем поженились, и я переселилась в дом Космодемьянских. Анатолий Петрович жил с матерью — Лидией Фёдоровной — и с младшим братом Федей. Другой брат — Алексей — служил в Красной Армии.
Жили мы с Анатолием Петровичем хорошо, дружно. Он был человек сдержанный, не щедрый на ласковые слова, но я в каждом его взгляде и поступке чувствовала постоянную заботу обо мне, и понимали мы друг друга с полуслова. Очень обрадовались мы, узнав, что у нас будет ребёнок. «Непременно будет сын!» — решили мы и вместе придумывали мальчугану имя, гадали о его будущем.
— Ты только подумай, — вслух мечтал Анатолий Петрович, — как это интересно: впервые показать ребёнку огонь, звезду, птицу, повести его в лес, на речку... а потом повезти к морю, в горы... понимаешь, впервые!
И вот родился он, наш малыш.
— С дочкой вас, Любовь Тимофеевна, — сказала ходившая за мной старушка.
— А вот и сама она голос подаёт.
В комнате раздался звонкий плач. Я протянула руки, и мне показали крошечную девочку с белым личиком, темноволосую и синеглазую. В эту минуту мне показалось, что я вовсе никогда и не мечтала о сыне и всегда хотела и ждала именно её, вот эту самую девочку.
— Назовём дочку Зоя, — сказал Анатолий Петрович.
И я согласилась.
Было это 13 сентября 1923 года.
ДОЧКА
Может быть, тому, у кого никогда не было детей, кажется, что все младенцы на один лад: до поры до времени они ничего не понимают и умеют только плакать, кричать и мешать старшим. Это неправда. Я была уверена, что узнаю свою девочку из тысячи новорождённых, что у неё особенное выражение лица, глаз, свой, не похожий на других голос. Я могла бы, кажется, часами — было бы только время! — смотреть, как она спит, как сонная вытаскивает ручонку из одеяла, в которое я её туго завернула, как открывает глаза и пристально смотрит прямо перед собою из-под длинных густых ресниц.
А потом — это было удивительно! — каждый день стал приносить с собой что-то новое, и я поняла, что ребёнок действительно растёт и меняется «не по дням, а по часам». Вот девочка стала даже среди самого громкого плача умолкать, услышав чей-нибудь голос. Вот стала улавливать и тихий звук, и поворачивать голову на тиканье часов. Вот начала переводить взгляд с отца на меня, с меня на бабушку или на «дядю Федю» (так мы после рождения Зои стали шутя называть двенадцатилетнего брата Анатолия Петровича). Пришёл день, когда дочка стала узнавать меня — это был хороший, радостный день, он запомнился мне навсегда. Я наклонилась над люлькой. Зоя посмотрела на меня внимательно, подумала и вдруг улыбнулась. Меня всё уверяли, будто улыбка эта бессмысленная, будто дети в этом возрасте улыбаются всем без разбору, но я-то знала, что это не так!
Зоя была очень маленькая. Я её часто купала — в деревне говорили, что от купанья ребёнок будет расти быстрее. Она много бывала на воздухе и, несмотря на то что приближалась зима, спала на улице с открытым личиком. На руки мы её попусту не брали — так советовали и моя мать, и свекровь Лидия Фёдоровна: чтоб девочка не разбаловалась. Я послушно следовала этому совету, и, может быть, именно поэтому Зоя крепко спала по ночам, не требуя, чтобы её укачивали или носили на руках. Она росла очень спокойной и тихой. Иногда к ней подходил «дядя Федя» и, стоя над люлькой, упрашивал: «Зоенька, скажи: дя-дя! Дай! Ну, говори же: ма-ма! Ба-ба!»
Его ученица широко улыбалась и лепетала что-то совсем не то. Но через некоторое время она и в самом деле стала повторять, сперва неуверенно, а потом всё твёрже: «дядя», «мама»... Помню, следующим её словом после «мама» и «папа» было странное слово «ап». Она стояла на полу, совсем крошечная, потом вдруг приподнялась на цыпочки и сказала: «Ап!» Как мы после догадались, это означало: «Возьми меня на руки!»
ГОРЬКАЯ ВЕСТЬ
Стояла зима, такая жестокая и морозная, какой не помнили старики. В моей памяти этот январь остался леденяще холодным и тёмным: так изменилось и потемнело всё вокруг, когда мы узнали, что умер Владимир Ильич. Ведь он был для нас не только вождь, великий, необыкновенный человек. Нет, он был словно близкий друг и советчик для каждого; всё, что происходило в нашем селе, у нас дома, было связано с ним, всё шло от него — так понимали и чувствовали все.
Прежде у нас было всего две школы, а теперь их больше десяти — это сделал Ленин. Прежде бедно и голодно жил народ, а теперь он поднялся на ноги, окреп, зажил совсем по-другому, — кого же, как не Ленина, благодарить нам за это? Появилось кино. Учителя, врачи и агрономы беседовали с крестьянами, читали им лекции: полно народу было в избе-читальне и в Народном доме. Быстро росло село, светлее и радостнее становилась жизнь. Кто не умел грамоте — научился; кто овладел грамотой — подумывает о дальнейшем ученье. Откуда же всё это, кто принёс нам эту новую жизнь? На этот вопрос у всех был один ответ, одно дорогое и светлое имя: Ленин.
И вдруг нет его... Это не укладывалось в сознании, с этим нельзя было примириться.
Каждый вечер крестьяне заходили к Анатолию Петровичу, чтобы поделиться горем, которое остро и глубоко переживали все.
— Какой человек умер!.. Ильичу бы жить да жить, до ста лет жить, а он умер... — говорил старик Степан Корец.
Через несколько дней в Осиновые Гаи приехал рабочий Степан Забабурин, наш бывший деревенский пастух. Он рассказал о том, как со всех концов страны потянулись люди к гробу Владимира Ильича.
— Мороз, дыханье стынет, — говорил он, — ночь на дворе, а народ всё идёт, всё идёт, краю не видно. И детишек с собой взяли, чтоб посмотрели в последний раз.
— А мы вот не увидим его, и Зоюшка не увидит, — с грустью сказал Анатолий Петрович.
Мы не знали тогда, что у вечной Кремлёвской стены будет выстроен Мавзолей и ещё через много лет можно будет прийти и увидеть Ильича.
СЫН
Анатолий Петрович любил, сидя за столом, брать Зою к себе на колени. За обедом он обычно читал, а дочка сидела совсем тихо, прижавшись головой к его плечу, и никогда ему не мешала.
Как и прежде, она была маленькая, хрупкая. Ходить она стала к одиннадцати месяцам. Окружающие любили её, потому что она была очень приветлива и доверчива. Выйдя за калитку, она улыбалась прохожим, и если кто-нибудь говорил шутя: «Пойдём ко мне в гости?» — она охотно протягивала руку и шла за новым знакомым.
К двум годам Зоя уже хорошо говорила и часто, вернувшись «из гостей», рассказывала:
— А я была у Петровны. Знаешь Петровну? У неё есть Галя, Ксаня, Миша, Саня и старый дед. И корова. И ягнята есть. Как они прыгают!
Зое не было ещё и двух лет, когда родился её младший братишка, Шура. Мальчуган появился на свет с громким, заливистым криком. Он кричал басом, очень требовательно и уверенно. Был он гораздо крупнее и здоровее Зои, но такой же ясноглазый и темноволосый.
После рождения Шуры Зое часто стали говорить: «Ты старшая. Ты большая». За столом она сидела вместе со взрослыми, только на высоком стуле. К Шуре относилась покровительственно: подавала ему соску, если он ронял её; покачивала его колыбель, если он просыпался, а в комнате никого не было. И я теперь нередко просила её помочь мне, сделать что-нибудь.
— Зоя, принеси пелёнку, — говорила я. — Дай, пожалуйста, чашку.
Или:
— Ну-ка, Зоя, помоги мне убрать: убери книжку, поставь стул на место.
Она делала всё очень охотно и потом всегда спрашивала:
— А ещё что сделать?
Когда ей было года три, а Шуре шёл второй год, она брала его за руку и, захватив бутылочку, отправлялась к бабушке за молоком.
Помню, раз я доила корову. Шура вертелся рядом. С другой стороны стояла Зоя с чашкой в руках, дожидаясь парного молока. Корову донимали мухи; потеряв терпение, она махнула хвостом и хлестнула меня. Зоя быстро отставила чашку, одной рукой схватила корову за хвост, а Другой стала прутиком отгонять мух, приговаривая:
— Ты зачем бьёшь маму? Ты маму не бей! — Потом посмотрела на меня и прибавила, не то спрашивая, не то утверждая: — Я помогаю тебе!
Забавно было видеть их вместе: хрупкую Зою и толстого увальня Шуру. О Шуре на селе говорили: «У нашей учительницы мальчонка поперёк себя шире: что на бок положи, что на ноги поставь — все одного роста».
И впрямь: Шура был толстый, крепко сбитый и в свои полтора года много сильнее Зои. Но это не мешало ей заботиться о нём, как о маленьком, а иногда и строго покрикивать на него.
Зоя сразу стала говорить чисто, никогда не картавила. Шура же лет до трёх не выговаривал «р». Зою это очень огорчало.
— Ну, Шура, скажи: ре-ше-то, — просила она.
— Лешето, — повторял Шура.
— Нет, не так! Повтори; «ре».
— Ле.
— Не «ле», а «ре»! Какой ты бестолковый мальчишка! Давай снова: режь.
— Лежь.
— Корова.
— Колова.
Раз, выйдя из терпения, Зоя вдруг стукнула брата ладонью по лбу, но двухлетний ученик был куда сильнее четырёхлетней учительницы: он возмущённо тряхнул головой и оттолкнул Зою.
— Отстань! — крикнул он сердито. — Чего делешься!
Зоя посмотрела на него удивлённо, но не заплакала. А немного погодя я уже снова слышала:
— Ну, скажи: кровать.
И Шуркин голос покорно повторял:
— Кловать.
Не знаю, понимал ли Шура, что он младший в семье, но только с самых ранних пор он умел этим пользоваться. «Я маленький!» — то и дело жалобно говорил он в свою защиту. «Я маленький!» — требовательно кричал он, если ему не давали чего-нибудь, что он непременно хотел получить. «Я маленький!» — гордо заявлял он иногда без всякого повода, но с сознанием собственной правоты и силы. Он знал, что его любят, и хотел всех — и Зою, и меня, и отца, и бабушку — подчинить своей воле.
Стоило ему заплакать, как бабушка говорила:
— А кто обидел моего Шурочку? Поди ко мне скорей, дорогой! Вот я что дам своему маленькому внучку!
И Шура с весёлой, плутоватой мордочкой забирался на колени к бабушке.
Если ему в чём-нибудь отказывали, он ложился на пол и начинал оглушительно реветь, бить ногами или жалобно стонать, всем своим видом ясно говоря: «Вот я, бедный маленький Шура, и никто меня не пожалеет, не приголубит!.. «
Однажды, когда Шура начал кричать и плакать, требуя, чтобы ему дали киселя до обеда, мы с Анатолием Петровичем вышли из комнаты. Шура остался один. Сначала он продолжал громко плакать и выкрикивал время от времени:
«Дай киселя! Хочу киселя!» Потом, видно, решил не тратить так много слов и кричал просто: «Дай! Хочу!» Плача, он не заметил, как мы вышли, но, почуяв тишину, поднял голову, огляделся и перестал кричать: стоит ли стараться, если никто не слушает! Он подумал немного и стал что-то строить из щепочек. Потом мы вернулась. Увидев нас, он снова попробовал покричать, но Анатолий Петрович строго сказал:
— Если будешь плакать, мы оставим тебя одного, а сами жить с тобой не будем. Понял?
И Шура замолчал.
В другой раз он заплакал и из-под ладошки поглядывал одним глазом: сочувствуем мы его слезам или нет? Но мы не обращали на него никакого внимания: Анатолий Петрович читал книгу, я проверяла тетради. Тогда Шура потихоньку подобрался ко мне и влез на колени, как будто ничего не произошло. Я потрепала его по волосам и, спустив на пол, продолжала заниматься своим делом, и Шура больше мне не мешал. Эти два случая его вылечили: капризы и крики прекратились, как только мы перестали им потакать.
Зоя очень любила Шуру. Она часто с серьёзным видом повторяла слова, сказанные кем-нибудь из взрослых: «Нечего ребёнка баловать, пускай поплачет — беда невелика». Выходило это у неё очень забавно. Но, оставшись одна с братишкой, она была с ним неизменно ласкова. Если он падал и начинал плакать, она подбегала, брала его за руку и старалась поднять нашего толстяка. Она вытирала ему слёзы подолом своего платья и уговаривала:
— Не плачь, будь умным мальчиком. Вот так, молодец!.. Вот, держи кубики. Давай построим железную дорогу, хочешь?.. А вот журнал. Хочешь, покажу тебе картинки? Вот, посмотри...
Любопытно: если Зоя чего-нибудь не знала, она сразу честно признавалась в этом.
Шура же был необычайно самолюбив, и слова «не знаю» просто не шли у него с языка. Чтоб не признаться, что он чего-нибудь не знает, он готов был на любые уловки.
Помню, купил Анатолий Петрович большую детскую книжку с хорошими, выразительными картинками: тут были нарисованы самые разные животные, предметы, люди. Мы с детьми любили перелистывать эту книгу, и я, показывая на какой-нибудь рисунок, спрашивала Шуру: «А это что?» Знакомые вещи он называл тотчас, охотно и с гордостью, но чего только не изобретал, чтобы увернуться от ответа, если не знал его!
— Что это? — спрашиваю я, показывая на паровоз.
Шура вздыхает, томится и вдруг говорит с хитрой улыбкой:
— Скажи лучше сама!
— А это что?
— Курочка, — быстро отвечает он.
— Правильно. А это?
На картинке — незнакомое, загадочное животное: верблюд.
— Мама, — просит Шура, — ты переверни страницу и покажи что-нибудь другое!
Мне интересно, какие ещё отговорки он изобретёт.
— А это что? — говорю я коварно, показывая ему бегемота.
— Вот сейчас поем и скажу, — отвечает Шура и жуёт так долго, так старательно, словно вовсе не собирается кончить.
Тогда я показываю ему картинку, на которой изображена смеющаяся девочка в голубом платье и белом фартучке, и спрашиваю:
— Как зовут эту девочку, Шурик?
И Шура, лукаво улыбнувшись, отвечает:
— А ты спроси у неё сама!
БАБУШКА
Дети очень любили ходить в гости к бабушке Мавре Михайловне. Она встречала их весело, поила молоком, угощала лепёшками. А потом, улучив свободную минуту, играла с ними в их любимую игру, которая у них так и называлась: «Репка».
— Посадила бабка репку, — задумчиво начинала бабушка, — и говорит:
«Расти, репка, сладкая, крепкая, большая-пребольшая». Выросла репка большая, сладкая, крепкая, круглая, жёлтая. Пошла бабка репку рвать: тянет-потянет, вытянуть не может... (Тут бабушка показывала, как она тянет упрямую репку.) Позвала бабка внучку Зою (тут Зоя хваталась за бабушкину юбку): Зоя за бабку, бабка за репку — тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала Зоя Шуру (Шура только того и ждал, чтобы уцепиться за Зою): Шурка за Зою, Зоя за бабку, бабка за репку — тянут-потянут (на лицах у ребят — восторженное ожидание)... вытянули репку!
И тут в руках у бабушки появлялось неведомо откуда взявшееся яблоко, или пирожок, или настоящая репка. Ребята с визгом и смехом повисали на Мавре Михайловне, и она вручала им гостинец.
— Баба, потянем репку! — просил Шура, едва переступив бабушкин порог.
Когда года через два кто-то попытался рассказать ребятам эту сказку, начав её обычными словами: «Посадил дед репку...» — оба они дружно запротестовали:
— Бабка посадила! Не дед, а бабка!
... Всю свою жизнь моя мать работала от зари до зари. На руках у неё было всё хозяйство — дом, поле, шестеро ребят; всех надо было одеть, умыть, накормить, обшить, и мама гнула спину, не жалея себя. С нами, ребятами, а позднее с внуками, она всегда была неизменно ровна и ласкова. Она не говорила просто: «Уважайте старших», — она всегда старалась, чтобы мысль её стала понятна детям, дошла до ума и до сердца. «Вот мы в дому живём, — говорила она Зое и Шуре, — его старики построили. Вот печь нам Петрович какую хорошую сложил! Петрович — старый, умный, руки у него золотые. Как же старых-то не уважать?» Мать была очень добра. Бывало, ещё в дни моего детства увидит странника — в ту пору много ходило бездомных людей, — непременно зазовёт, напоит, накормит, даст какую-нибудь старую одежду.
Однажды отец полез в сундук, долго рылся в нём, а потом спросил:
— Мать, а где же моя голубая рубашка?
— Не сердись, отец, — смущённо ответила мама, — я её Степанычу отдала. (Степаныч был старик-бобыль, неухоженный и хворый, мать навещала его и помогала чем могла).
Отец только рукой махнул.
Теперь, через долгие-долгие годы, я часто вспоминаю, какая выносливая, терпеливая, сильная духом женщина была моя мать.
Раз случилось — увели у нас корову. Всякий знает, какое это горе для крестьянской семьи. Но мать ни словом не пожаловалась, не пролила ни слезинки. В другой год, помню, случился пожар, и у нас всё сгорело дотла. Отца это совсем пришибло. Он сидел на поваленном дереве, безнадёжно опустив руки, и с отчаянием глядел в землю.
— Наживём, отец, ничего! — сказала мама, подходя к нему. Подошла, постояла и добавила ещё: — Не горюй смотри, справимся!
Мать моя была совсем неграмотная, до самой своей смерти не знала ни одной буквы, но грамоту очень ценила и уважала. Именно благодаря её заботам мы, дети, стали грамотными людьми: она настояла, чтобы нас отдали в школу, а потом и в гимназию.
Семью нашу нередко посещала нужда, и, помню, когда стало совсем худо, отец решил взять моего брата Сергея из четвёртого класса гимназии. Мать и слышать об этом не хотела. Она готова была на всё — ходила к начальству, унижалась, просила принять сына в гимназию на казённый счёт, — лишь бы он продолжал учиться.
— Ты, мать, ни одной буквы не знаешь, а вот живёшь же, обходишься, — хмуро говорил отец.
Мама не спорила, но упорно стояла на своём. «Верно говорят; ученье — свет, неученье — тьма», — любила она повторять. Она по опыту знала, как темно живётся тому, кто не учен.
— Пойдёте в школу, смотрите учитесь хорошенько, — наставляла она Зою и Шуру. — Станете умнее, знать будете много — и вам хорошо, и другим около вас легче будет.
Бабушка была мастерица рассказывать сказки. Она знала их великое множество и умела рассказывать, ни на минуту не оставляя своего дела: вяжет, чистит картошку или месит тесто, а сама приговаривает спокойно, неторопливо, точно думая вслух!
— Бежит лиса по лесу, видит — на дереве сидит тетерев, и говорит:
«Терентий, Терентий! Я в городе была».
«Бу-бу-бу! Была так была».
«Терентий, Терентий! Я указ добыла!»
«Бу-бу-бу! Добыла так добыла».
«Чтобы вам, тетеревам, не сидеть по деревам, а всё бы гулять по зелёным лугам».
«Бу-бу-бу! Гулять так гулять».
«Терентий, Терентий! А кто там едет?»
«Бу-бу-бу! Мужик».
«Терентий, Терентий! А за мужиком кто бежит?»
«Бу-бу-бу! Жеребёнок».
«Терентий, Терентий! А какой у него хвост-то?»
«Крючком!»
«Ну, так прощай, Терентий, недосуг мне с тобой лясы точить!»
Зоя с Шурой сидят рядом на низкой скамеечке и не сводят с бабушки глаз.А она кончит сказку — и тут же начинает новую: про серого волка, про лакомку-медведя, про трусливого зайца и опять про хитрую лису...
БРАТ И СЕСТРА
С Шурой Зое разрешалось играть только у самого дома, в палисаднике, чтобы не ушибла лошадь или корова, которые свободно паслись возле дома, на лужке. А вот с девочками постарше — Маней и Тасей — она уходила далеко, на огороды и на речку, мелкую, но весёлую, где можно было купаться целыми днями, не боясь утонуть.
Летом Зоя часами бегала с сачком за бабочками, собирала цветы, потом снова купалась и даже сама — в пять лет! — стирала в речке своё бельё, высушивала и в чистом приходила домой.
— Посмотри, мама, — говорила она, внимательно глядя мне в лицо, — хорошо я выстирала? Ты меня не будешь ругать?
Как сейчас вижу её пятилетнюю — загорелую, румяную, с ясными серыми глазами. Только что прошёл быстрый летний дождь — и снова жарко светит солнце, с высокого неба ветром сметает куда-то далеко за горизонт последние облака, с ветвей ещё падают крупные капли, и Зоя бежит ко мне босая по тёплым лужам и смеётся, показывая, как промокло её платье...
А как хорошо было поехать на дальний луг за сеном (пусть на тряской, скрипучей телеге, которую нескладной рысцой везёт плохонькая лошадёнка — что за беда!) и возвратиться на высоком возу, а потом вместе со взрослыми раскидывать и ворошить душистое сено, чтоб досохло за сараем, всласть кувыркаться и прыгать в нём, как в волнах, и, наконец, уснуть от блаженной усталости, свернувшись в комочек тут же, на сене!..
А как весело лазить по деревьям! Забраться повыше, так, чтобы страшновато было взглянуть вниз, чтобы сердце немножко сжималось, когда попадается под рукой тонкая ветка... И потом потихоньку слезать, нащупывая босой ногой сучья и стараясь не изорвать платье.
А ещё лучше забраться на крышу сарая или на колокольню — любимый наблюдательный пункт всех ребятишек. Всё село перед тобой как на ладони, а там — поля, поля и в полях окрестные деревни... А за ними что? Далеко-далеко?..
Возвращаясь домой, Зоя подсаживалась ко мне и спрашивала:
— Мама, а за Осиновыми Гаями что?
— Село такое — «Спокойные хутора» называется.
— А потом?
— Соловьянка.
— А за Соловьянкой что?
— Павловка, Александровка, Прудки.
— А потом? А за Кирсановом что? А за Тамбовом Москва? — И вздыхала: —
Вот бы туда поехать!
Когда отец был свободен, она взбиралась к нему на колени и забрасывала самыми разнообразными и подчас неожиданными вопросами. И, как самую увлекательную сказку, слушала его рассказы обо всём, что делается на белом свете: о высоких горах, синих морях и дремучих лесах, о далёких больших городах и о людях, которые там живут. В такие минуты Зоя вся превращалась в слух: рот её приоткрывался, глаза блестели, мгновениями она, кажется, даже забывала дышать. И, случалось, утомлённая новизной услышанного, она под конец так и засыпала на руках у отца.
Четырёхлетний Шура — озорной, шумный, ему всё нипочём.
— У Шуры карман шевелится! — слышу я изумлённый Зоин голос.
И в самом деле шевелится! Что за чудеса?
— Что у тебя там?
Всё очень просто: карман полон майских жуков — они трепыхаются, пытаются выползти, но Шура зажимает карман в кулак. Бедные жуки!
Чего только я не нахожу по вечерам в этих карманах! Рогатка, кусок стекла, крючки, камешки, жестянки, строго-настрого запрещённые спички — всего не перечтёшь. И постоянно у Шуры на лбу шишка, ноги и руки в ссадинах и царапинах, коленки разбиты. Сидеть на одном месте для него самое тяжёлое наказание. Он бегает, прыгает, скачет с самого раннего утра и до часа, когда я зову детей домой ужинать и спать. Не раз я видела, как после дождя он бегает по двору и бьёт палкой по лужам. Брызги взлетают искристыми фонтанами выше его головы, он весь вымок, но, кажется, даже не замечает этого — всё сильнее размахивает палкой и во всё горло распевает песню собственного сочинения. Я не могу разобрать слов, слышится только какое-то воинственное и ликующее: «Трам-ба-бам! Барам-бам!» Но всё понятно: надо же Шуре излить свой восторг перед всем, что его окружает, надо выразить, как радуют его и солнце, и деревья, и тёплые глубокие лужи!
Зоя была постоянным товарищем Шуры во всех его играх, бегала и скакала так же шумно, весело и самозабвенно. Но она умела и подолгу молча сидеть и слушать, и глаза у неё при этом были внимательные, тёмные брови слегка сдвигались. Иногда я заставала её на поваленной берёзе неподалёку от дома: она сидела, подперев лицо ладонями, и сосредоточенно смотрела прямо перед собой.
— Ты что так сидишь? — спрашивала я.
— Я задумалась, — отвечала Зоя.
Из тех далёких, слившихся друг с другом дней я вспоминаю один. Мы с Анатолием Петровичем собрались в гости к моим старикам и захватили с собой детей. Едва мы пришли, дедушка Тимофей Семёнович сказал Зое:
— А ты что же, озорница, мне вчера неправду сказала?
— Какую неправду?
— Я тебя спросил, куда ты мои очки девала, а ты говоришь: «Не знаю». А потом я их под лавкой нашёл — уж верно, ты их туда кинула, больше некому.
Зоя исподлобья посмотрела на деда и ничего не ответила. Но, когда нас немного спустя позвали к столу, она сказала:
— Я не сяду. Раз мне не верят, я есть не стану.
— Ну чего там, дело прошлое. Садись, садись!
— Нет, не сяду.
Так и не села. И я видела, что дед почувствовал себя неловко перед пятилетним ребёнком. На обратном пути я пожурила её, но Зоя, глотая слёзы, повторяла одно: «Не трогала я его очков. Я правду сказала, а он мне не верит».
Зоя очень дружила с отцом. Она любила бывать с ним даже тогда, когда он занимался своим делом и не мог разговаривать с нею. И она не просто ходила вслед за ним, а примечала.
— Смотри, папа всё умеет делать, — говорила она Шуре.
И правда, Анатолий Петрович умел справиться с любым делом. Это признавали все. Старший сын в семье, рано потерявший отца, он сам пахал, сеял, убирал хлеб. При этом успевал много работать в избе-читальне и в библиотеке. Односельчане очень любили и уважали Анатолия Петровича, доверяли ему, советовались с ним по семейным и иным делам, а уж если надо было выбрать надёжного человека в ревизионную комиссию — проверить работу кооперации или кредитного товарищества, неизменно говорили: «Анатолия Петровича! Его не проведёшь, он во всём разберётся».
Ещё одно привлекало к нему людей: он был на редкость правдив и прямодушен. Если кто-нибудь приходил к нему за советом и он видел, что человек этот неправ, он не задумываясь говорил!
— Неправильно ты поступил, я на твою сторону не стану...
«Анатолий Петрович никогда душой не покривит», — нередко слышала я от самых разных людей.
При этом он был очень скромен, никогда не кичился своими знаниями. К нему охотно шли за советом люди гораздо старше его, даже старики, уважаемые люди на селе.
В самом деле, его можно было спросить решительно обо всём, и он на всё умел дать ответ. Он очень много читал и хорошо, понятно рассказывал о прочитанном. Зоя подолгу сиживала в избе-читальне, слушая, как он читал крестьянам газеты и рассказывал о событиях, которые тогда переживала наша страна, о гражданской войне, о Ленине. Всякий раз слушатели засыпали его градом вопросов:
— Анатолий Петрович, вот ты говорил про электричество, а теперь скажи про трактор — это, верно, ещё почудней будет? Где же такой махине повернуться на ваших полосках?.. А вот ещё: неужели и вправду есть такая машина, что и жнёт, и молотит, и чистое зерно в мешок ссыпает?..
Однажды Зоя спросила меня:
— А почему папу все так любят?
— Ну, а ты как думаешь?
Зоя промолчала, а вечером того же дня, когда я укладывала её, сказала мне шёпотом:
— Папа умный, всё знает. И добрый...
«ЛЮДЕЙ ПОСМОТРЕТЬ, МИР ПОВИДАТЬ!»
Когда Зое исполнилось шесть лет, мы с мужем решили поехать в Сибирь. «Людей посмотреть, мир повидать!» — как говорил Анатолий Петрович. И вот дети впервые поехали на лошади до станции, впервые увидели паровоз, услышали неумолчный говор колёс под полом вагона — беспокойную и задорную песню дальнего пути. За окном мелькали деревни и сёла, стада на лугах, реки и леса, проплывала широкая степь.
Путешествие наше продолжалось целую неделю, и всё это время нам с Анатолием Петровичем отбою не было от вопросов: «А это что? А это зачем? Почему? Отчего?» В дороге обычно хорошо спится, но ребята были так полны всем виденным, что днём их невозможно было уложить. Шура всё-таки уставал к вечеру и засыпал сравнительно быстро, но Зою и вечером нельзя было оторвать от окна. Только когда стекло заливала сплошная синяя тьма, девочка со вздохом поворачивалась к нам.
— Не видно уже ничего... одни огоньки... — с сожалением говорила она и соглашалась наконец улечься.
На седьмой день мы приехали в город Канск, Енисейского округа. Городок был маленький, дома одноэтажные, деревянные, и тротуары тоже деревянные. Ребят мы отвели в гостиницу, а сами отправились в отдел народного образования, чтобы выбрать село, где мы могли бы учительствовать вместе, в одной школе. Нам дали назначение в село Шиткино, и мы решили сразу, не теряя времени, двинуться туда. С этим решением мы и вернулись в гостиницу — и видим: Шура на полу мастерит что-то из кубиков, а Зои нет.
— Где Зоя, Шурик?
— А Зоя сказала: «Ты посиди тут, а я на базар пойду, серы куплю. Тут все серу жуют».
Я так и ахнула и кинулась на улицу. Городок маленький, до леса рукой подать — что, если девочка забрела туда?! Не помня себя, мы с Анатолием Петровичем обходили улицу за улицей, заглядывали во все дворы, расспрашивали всех встречных, побывали и на базаре... Зои нигде не было.
— Вот что, — сказал наконец Анатолий Петрович, — иди в гостиницу и жди меня там. Я уж боюсь, как бы и с Шуркой чего не случилось. А я пойду в милицию.
Я вернулась в гостиницу, взяла сынишку на руки и снова вышла на улицу — ждать в комнате не было сил.
Так мы с ним простояли с полчаса. И вдруг Шура закричал:
— Папа! Зоя!
Я кинулась к ним навстречу. Зоя вся раскраснелась и смотрела смущённо и чуть испуганно. В руке она держала какой-то тёмный комок.
— Вот, — сказала она таким тоном, как будто мы расстались всего минут пять назад. — Это сера. Только она невкусная...
Оказалось, она и в самом деле пошла на базар, купила серу, а дорогу назад, к гостинице, забыла и не знала, как спросить. Она пошла наугад, совсем не в ту сторону, и добрела чуть не до самого леса. Тут её заметила какая-то чужая женщина («большая такая, в платке») взяла за руку и отвела в милицию. Здесь и застал её Анатолий Петрович. Зоя сидела за столом, как гостья, пила чай и спокойно, серьёзно отвечала на вопросы: как её зовут, откуда она приехала и с кем, как зовут папу, маму и братишку. Она сразу объяснила, что ей надо поскорее вернуться к брату, потому что он ещё маленький.
— Как же ты оставила Шуру одного? — с упрёком спросила я. — Ведь ты большая, ты старшая, мы на тебя надеялись...
Зоя стояла рядом с отцом и, слегка закинув голову, чтобы лучше видеть, переводила глаза с него на меня:
— Я думала, я сразу вернусь. Я думала, тут, как в Осиновых Гаях, я всё сразу найду, Ты не сердись, я больше не буду.
— Ладно, — пряча улыбку, сказал Анатолий Петрович. — На первый раз прощается, но только в другой раз никуда не уходи без спросу. Видишь, как мама перепугалась?
В СИБИРИ
Наш дом в Шиткине стоял на высоком берегу, а мимо текла река — широкая, быстрая. Смотришь — и голова кружится, и кажется, сама плывёшь куда-то. А рядом, в нескольких шагах, — лес. И какой лес! Громадные кедры, такие высокие, что, запрокинув голову, не увидишь вершины; густые, пушистые пихты, лиственницы, ели — в тени их широких лапчатых ветвей темно, как в каком-то таинственном шатре.
А тишина какая! Только хрустнет сучок под ногой да изредка крикнет потревоженная птица — и снова глубокая, ничем не нарушаемая тишина, словно в сказочном сонном царстве.
Помню нашу первую прогулку по лесу. Мы пошли все вчетвером и сразу же забрели в густую чащу. Шура остановился как вкопанный под огромным, в два обхвата, кедром. Мы прошли дальше, окликнули его — он не отозвался. Мы обернулись. Наш мальчуган, маленький и одинокий, стоял всё там же, под кедром, широко открыв глаза и словно прислушиваясь к шёпоту леса. Он был зачарован, ничего больше не видел и не слышал — и не мудрено: никогда прежде, за всю свою короткую жизнь, он не видывал такого леса. Ведь в Осиновых Гаях каждое деревцо было на счету! Кое-как мы растормошили Шуру. Но и после, бродя с нами по лесу, он оставался непривычно тихим и молчаливым: лес будто околдовал его.
Вечером, перед сном, Шура долго стоял у окна.
— Ты что, Шура? Почему спать не идёшь? — спросил Анатолий Петрович.
— Я говорил деревьям «спокойной ночи», — ответил Шура.
... И Зоя тоже полюбила лес. Гулять по лесу стало для неё самым большим, ни с чем не сравнимым удовольствием. Захватив корзинку для ягод, она весело сбегала с крыльца.
— Не ходи далеко, — напутствовала я её. — Ты слышала, что соседи говорят? Тут в лесу волки, медведи!
И правда, небезопасно было ходить по малину: медведь — лакомка, с ним не диво повстречаться в густом малиннике. Зато и малина была крупная, сочная, сладкая как мёд, и ходили за ней с вёдрами, большой гурьбой, и обычно сборщиков сопровождал кто-нибудь из мужчин с ружьём, на случай встречи с мишкой. Собирали сибиряки и чернику и черёмуху, на всю зиму запасались грибами — всей этой лесной благодати было великое изобилие, и Зоя тоже всегда возвращалась из своих странствий гордая, с полной корзинкой.
Ходили они с Шурой и на реку за водой — это Зоя тоже любила. Аккуратно зачерпнёт воды небольшим ведёрком, постоит на берегу, посмотрит на светлые быстрые волны. И потом, стоя на крыльце или у окна, ещё подолгу задумчиво смотрит вниз.
Однажды Анатолий Петрович решил научить Зою плавать. Он отплыл от берега, взяв её с собою, а потом вдруг оставил. Зоя захлебнулась, вынырнула, снова погрузилась в воду...
Я стояла на берегу ни жива ни мертва. Правда, Анатолий Петрович плыл рядом; правда, он был превосходным пловцом и уж конечно, нечего было бояться, что девочка утонет, а всё-таки страшно было смотреть, как она захлёбывается, то и дело уходя с головой под воду. Но, помню, не крикнула она ни разу — барахталась и плескалась изо всех сил, но молча. Потом отец подхватил её и выплыл с ней на берег.
— Молодец! Раза через два поплывёт, — уверенно сказал он.
— Страшно было? — спросила я, насухо вытирая её.
— Страшно, — призналась она.
— А ещё поплывём?
— Поплывём!
ЗИМОЙ
Наступила снежная сибирская зима. Лёд сковал реку, морозы доходили до пятидесяти семи градусов, но ветра не было, и потому ребята легко переносили холод.
Помню, как радовались они первому снегу: без устали играли в снежки; точно в сене, кувыркались в мягких, пушистых сугробах, которые разом выросли вокруг дома; вылепили большую, выше Зои ростом, снежную бабу. Я с трудом дозвалась их к обеду — они пришли румяные, разгорячённые, усталые и с небывалым аппетитом накинулись на кашу с молоком и чёрный хлеб.
Мы купили ребятам тёплые пимы, Анатолий Петрович смастерил отличные салазки, и каждый день Зоя с Шурой подолгу катались: то возили друг друга, то садились вдвоём — Зоя впереди, Шура сзади, ухватившись за сестру толстыми короткими руками в красных варежках, — и во весь дух летели с горы.
Целый день мы с мужем были заняты. По утрам, уходя из дому, я наставляла Зою:
— Не забудь: каша в печке, молоко в крынке. Следи, чтоб Шура вёл себя хорошо. Пускай не садится за стол, а то упадёт, расшибётся, станет плакать. Будьте умными, играйте и не ссорьтесь.
И вечером, когда мы возвращались из школы, Зоя встречала нас словами:
— У нас всё хорошо, мы были умными!
В комнате — полнейший беспорядок, зато лица у детей такие весёлые и довольные, что не хватает духу бранить их. Из стульев сооружён двухэтажный дом, какие-то ящички и коробочки нагромождены друг на друга, всё это завешено одеялом. В самых неподходящих местах попадаются самые неожиданные вещи: я едва не наступаю на зеркальце, перед которым всегда бреется Анатолий Петрович, а он через минуту спотыкается о перевёрнутый чугунок. Посреди комнаты — нехитрые ребячьи игрушки: оловянный солдатик, лошадка на колёсах с наполовину оторванной гривой, однорукая кукла, какие-то бумажки, тряпочки, чурбачки, тут же чашки и тарелка.
— Сегодня мы ничего не разбили и не пролили, — докладывает Зоя. —
Только Шура опять расцарапал Манюшке обе щёки, она немножко поплакала, а я угостила её вареньем, и она замолчала. Мам, ты скажи Шуре — пусть больше не дерётся, а то мы с ним играть не будем.
Шура, который и вправду растёт забиякой, смотрит на меня виновато.
— Я не буду больше... Это я её нечаянно поцарапал, — говорит он без особой уверенности.
Долгие вечера мы проводили все вместе, вокруг стола или возле печки, где жарко и весело трещал огонь. Хорошие это были вечера! Надо сказать, что и эти часы мы не могли целиком отдавать детям: у меня, а особенно у Анатолия Петровича, оставалось на вечер ещё много дел. И слово «работа» рано стало понятным для наших ребят:
— Мама работает... Папа работает...
Это значит: полная тишина, которую нельзя нарушить ни вопросом, ни ссорой, ни стуком и беготнёй. Иногда дети забирались под стол и тихо играли там — их часами не было слышно. Как когда-то в Соловьянке, за окном завывала метель, свистела в ветвях густой сосны, росшей у самого дома, уныло и жалобно пело что-то в трубе... Но в Соловьянке я была одна, а тут рядом сидел Анатолий Петрович, сосредоточенно склонившись над книгой или проверяя ученические тетради, тихонько копошились и шептались Зоя и Шура, и нам было хорошо и тепло всем вместе.
Много лет спустя, уже став школьниками, мои ребята любили вспоминать эти вечера в далёком сибирском селе. Правда, Шура в пору нашей жизни в Шиткине был слишком мал — ему было всего четыре с половиной года, — и воспоминания его сливались во что-то смутное, хотя и приятное. Но в Зоиной памяти эти вечера запечатлелись отчётливо и ярко.
Покончив с делами или отложив их на время, когда дети уснут, я подсаживалась поближе к огню — тут-то и начинался «настоящий» вечер.
— Расскажи что-нибудь, — просили ребята.
— Что же рассказывать? Все сказки вы знаете наизусть.
— Всё равно, расскажи!
И начиналось: петушок — золотой гребешок, колобок, серый волк и Иван-царевич, сестрица Алёнушка и братец Иванушка, Хаврошечка и Кузьма Скоробогатый — кто только не побывал у лас в гостях в эти долгие зимние вечера! Но самой любимой, самой желанной всегда была сказка о Василисе Прекрасной.
— В некотором царстве, в некотором государстве... — начинала я чуть ли не в сотый раз, а Зоя и Шура смотрели на меня так, словно слышали эту историю впервые.
Иногда и Анатолий Петрович отрывался от работы и вступал в разговор, и его рассказы дети слушали с особенным интересом. Чаще всего это бывало неожиданно. Иной раз ребята, кажется, вовсе забудут о нас, старших: сидят в уголке и тихонько толкуют о чём-то своём — и вдруг Анатолий Петрович прислушается, отодвинет книги, подойдёт к печке, усядется на низкой скамеечке, Шуру возьмёт на одно колено, Зою — на другое и скажет не спеша:
— А я вот что вспомнил на этот счёт...
И сразу лица у ребят станут счастливые, любопытные и нетерпеливые: что-то расскажет отец?
Помню один такой случай. Ребята много слышали разговоров о том, что весной река разольётся. В этих местах полая вода не шутит: смывает дома, уносит скотину, затопляет на несколько дней целые деревни. Нам, новичкам, немало рассказывали о грозных здешних наводнениях.
— Что мы тогда будем делать? — спросил как-то Шура Зою, наслушавшись таких рассказов.
— Уйдём из дому. Сядем в лодку и поплывём. Или убежим в горы.
Помолчали.
— Вода придёт, всё затопит, — поёживаясь, словно от холода, сказала Зоя. — Шур, ты боишься?
— А ты?
— Я нет.
— Ну и я нет.
Шура встал, неторопливо прошёлся по комнате, подражая отцу, и уже совсем воинственно добавил:
— Пускай вода приходит! Я не боюсь. Я ничего не боюсь!
И тут Анатолий Петрович промолвил обычное: «А я вот что вспомнил на этот счёт...» — и рассказал такую историю.
— Сидели на кусте воробьи и спорили: кто из зверей самый страшный?
«Всех страшнее рыжий кот», — сказал бесхвостый воробей. Прошлой осенью его кот чуть было не зацапал — еле успел воробей увернуться, а хвоста всё-таки лишился.
«Мальчишки хуже, — сказал другой воробей, — гнёзда разоряют, из рогаток стреляют...»
«От мальчишек улететь можно, — заспорил третий воробей, — а вот от коршуна никуда не спрячешься. Он всех страшнее!»
И тут совсем молоденький, желторотый воробышек чирикнул (Анатолий Петрович заговорил тонким голосом):
«А я ничего не боюсь! И кот мне нипочём, и мальчишки, и коршуны! Я сам их всех съем!»
И пока он так чирикал, над кустом пролетела какая-то большая птица и громко крикнула. Воробьи помертвели от страха: кто стремглав улетел, кто спрятался под листом, а храбрый воробышек крылышки опустил и не помня себя побежал по траве. Тут большая птица как щёлкнет клювом, как кинется на воробышка, а он, бедный, из последних сил рванулся и нырнул в хомячью нору. А в норе, свернувшись, спал старый хомяк. Воробышек ещё пуще испугался, но решил: «Не я съем, так меня съедят!» — и как подскочит да как клюнет хомяка в нос! «Что такое? — удивился хомяк и открыл один глаз (Анатолий Петрович прищурился, зевнул и продолжал басом). — А, это ты? Голодный, верно? На, поклюй зёрнышек».
Очень стыдно стало воробышку, и он пожаловался хомяку:
«Чёрный коршун хотел меня съесть!»
«Ишь разбойник! — сказал хомяк. — Ну-ка, пойдём потолкуем с ним».
И хомяк полез из норы, а воробышек запрыгал следом. Страшно было ему, и жалко себя, и досадно; зачем он храбрился? Вылез хомяк из норки, высунул за ним нос воробышек да так и обмер: прямо перед ним сидела большая чёрная птица и грозно на него смотрела. Воробышек глянул да тут же и упал со страху. А чёрная птица ка-ак каркнет, а все воробьи кругом как засмеются! Потому что был это вовсе не коршун, а старая тётка...
— Ворона! — в один голос закричали Зоя и Шура.
— Ворона, само собой, — продолжал Анатолий Петрович. — «Что, хвастунишка, — сказал хомяк воробышку, — надо бы тебя посечь за хвастовство! Ну да ладно, принеси мне побольше зёрен да шубу зимнюю — что-то прохладно стало».
Надел хомяк шубу и стал песенки насвистывать. Только воробышку было невесело — он не знал, куда деваться от стыда, и забился в кусты, в самую густую листву...
— Так-то, — прибавил, помолчав, Анатолий Петрович. — А теперь пейте-ка молоко и ложитесь спать.
Ребята неохотно поднялись.
— Это ты про меня рассказывал? — смущённо спросил Шура.
— Зачем про тебя? Про воробья, — улыбаясь одними глазами, ответил отец.
НЕИЗГЛАДИМЫЙ СЛЕД
— Мама, — спросила однажды Зоя, — почему у Бурмакина и дом такой большой, и овец много, и лошади, и коровы? Зачем одному человеку так много всего? А у Руженцовых сколько детей и бабушка с дедушкой, а домик плохой, и коровы нет, и даже овец нет?
Это был наш с Зоей первый разговор о том, что такое бедность, богатство и несправедливость. Нелегко мне было ответить на такой вопрос шестилетней девочке. Чтобы объяснить ей всё это всерьёз, пришлось бы говорить о многих вещах, которые она ещё не могла понять. Но жизнь заставила нас вернуться к этому разговору.
Это было в 1929 году. В нашем районе кулаки убили семерых сельских коммунистов. Весть об этом быстро разнеслась по Шиткину.
Я стояла на крыльце, когда семь гробов везли по улице. Следом шёл оркестр, медленно и сурово играя «Вы жертвою пали в борьбе роковой». А дальше сплошным потоком шли люди, и на всех лицах были горе и гнев.
И вдруг я невольно оглянулась на наше окно. К стеклу прильнуло побледневшее Зоино лицо, она испуганно смотрела на улицу. Через секунду она выбежала на крыльцо, схватила меня за руку и, крепко прижавшись ко мне, долго смотрела вслед похоронной процессии.
— За что их убили? Кто такие кулаки? А ты коммунист? А папа коммунист? А вас не убьют? А нашли тех, кто убил?
Не только Зоя, но и маленький Шура не уставал задавать эти вопросы.
Похороны семерых коммунистов оставили в нашей памяти неизгладимый след. ... И ещё одно незабываемое воспоминание.
В сельском шиткинском клубе часто показывали кинофильмы, и время от времени я водила туда Зою с Шурой. Но и меня и ребят привлекали в клуб не картины.
Всякий раз, когда зал наполнялся народом, кто-нибудь непременно говорил вопросительно, нараспев, упирая на «о»:
— Споём?
И всегда сразу несколько голосов откликалось:
— Споём!
Пели удивительно: с воодушевлением, со страстью, и всё больше старинные сибирские песни и песни времён гражданской войны. Далёкие дни оживали в этих протяжных, широких и вольных напевах, грозные события, суровые и смелые люди вставали перед нами. Голоса были глубокие, сильные. Над большим, дружным хором разливался высокий молодой тенор или волной раскатывался могучий, низкий поистине таёжный бас, за сердце хватая такой неподдельной задушевностью, что иной раз слёзы навёртывались на глаза.
Зоя и Шура пели вместе со всеми. Особенно любили мы одну песню. Всех слов её я теперь не припомню, в памяти осталась мелодия да последние четыре строки:
Ночь прошла. Веял ласковый ветер.
День весенний и яркий настал.
И на солнечном тёплом рассвете
Молодой партизан умирал.
Низкие мужские голоса протяжно, печально повторяли:
И на солнечном тёплом рассвете
Молодой партизан умирал.
В ПУТЬ-ДОРОГУ
Прошёл год. Наводнения весной не случилось, и ребята, кажется, были немало разочарованы, узнав, что в горы им бежать не придётся. В глубине души они надеялись, что река смоет и потопит всё, а они — на лодке ли, пешком ли по горам — пустятся куда глаза глядят, навстречу всяким приключениям.
Снова оделась зеленью земля, запестрели цветы в густой, высокой траве.
В мае я получила письмо из Москвы от сестры Ольги и брата Сергея.
«Приезжайте в Москву, — писали они, — поживёте пока с нами, — а потом подыщете работу и жильё. Скучаем по вас, хотим видеть и не устанем звать к себе».
Мы тоже соскучились по родным местам и лицам и, как только кончился учебный год, уехали из Сибири. Ребят решили на время завезти в Осиновые Гаи, к дедушке с бабушкой.
И вот опять знакомая широкая дорога, поля, засеянные рожью, овраг на краю села, одинокие вётлы в огородах и густые кусты сирени, старая, дуплистая берёза и стройный ясень у отцовского дома. И, глядя на всё это, такое родное и памятное, я поняла, как много значит год в жизни малышей: и наш старый дом, и луг перед окнами, и речушка, и люди — всё было забыто, со всем пришлось породниться заново.
— Какие большие стали! — любовно повторяла бабушка, разглядывая ребят. — Помните меня, сибиряки?
— Помним, — неуверенно отвечали они, стараясь всё-таки держаться поближе ко мне.
Шура, впрочем, освоился быстро: вскоре после приезда он уже носился по улице с ватагой прежних приятелей.
А Зоя ещё долго дичилась и ходила за мной по пятам. Когда к осени мы с Анатолием Петровичем собирались уезжать, она спросила о отчаянием: «Без нас?!» — в этом возгласе были испуг, недоумение, упрёк.
Первое расставание все мы переносили тяжело. Но мы не решались везти ребят в Москву, пока сами там не устроились, не нашли квартиру. И пришлось разлучиться.
ГОД СПУСТЯ
— Зоя, Шура! Где вы запропастились? Идите скорее, мама приехала! — слышу я чей-то встревоженный и радостный голос.
— Мы уж думали — не дождёмся, — говорит бабушка Мавра Михайловна, обнимая меня. — Ребята соскучились. Особенно Зоя. Большая стала — не узнаешь. Беспокойная такая, всё боялась, что ты не приедешь.
— Ну, как доехали? — спрашивает отец, обращаясь не то ко мне, не то к вознице, распрягавшему лошадь.
— Доехали хорошо, да только всю дорогу нас дождик поливал. Вот Любовь Тимофеевна и вымокла малость. А уж лошадь я гнал вовсю, старался вашу дочку поскорее доставить. Так что с тебя, Тимофей Семёнович, угощение.
Пока добродушный и разговорчивый возница распрягал лошадь, отец развязывал мой нехитрый багаж, а соседский мальчонка помчался отыскивать Зою и Шуру. Бабушка уже поставила самовар и суетилась у стола. Услыхав, что к Тимофею Семёновичу приехала из Москвы дочка — та самая, которая деревенских ребятишек учила в школе, — пришли к ним соседи:
— Как жизнь в Москве? Как вы сами, живы-здоровы? Анатолий Петрович как?.. А мы теперь в колхозе, почти всё село. Единоличником мало кто остался, а то все колхозники.
— И как живёте?
— Да хорошо. Коли работать будем, так и с хлебом будем!
Новости так и сыплются, я не успеваю удивляться каждой в отдельности. До чего же всё изменилось! Я едва успела переступить порог отцовского дома, а как много нового услышала! Появились трактора, о которых здесь совсем недавно слушали, как о чуде, и даже комбайн. В первый день, говорят, всё село вышло смотреть на работу новых, невиданных машин.
— Такие машины, что не нарадуешься! — слышу я — Шутка ли сказать — с ними в один день с поля убрались!
— Ну, вы все с новостями, дали бы человеку с дороги отдохнуть! — ревниво вмешивается отец.
— И правда, отдыхайте, Любовь Тимофеевна, мы вас в другой раз навестим, потолкуем, — сконфуженно откликается кто-то.
Я, признаться, и в самом деле плохо слушаю новости, как они ни удивительны. Меня гложет нетерпение: где же мои ребята? Куда они запропастились?
Я выхожу в палисадник, где каждая ветка, каждый лист то и дело вздрагивает и роняет одинокие запоздалые капли после недавнего дождя. Стою, смотрю по сторонам, вспоминаю...
Старый наш дом в 1917 году сгорел, а этот, новый, считался самым красивым на селе. Он был обшит тёсом, выкрашен тёмно-вишнёвой краской, окна и высокое крыльцо украшены резьбой. Он казался особенно высоким, наш дом, потому что стоял на пригорке и у крыльца было целых десять ступенек. За последние годы палисадник разросся, и теперь чуть выцветшие стены едва проглядывали из-за кустов акации и сирени. По бокам ещё выше, чем прежде, поднялись мои любимые тополя и берёзы. Сейчас они стояли нарядные, дочиста вымытые дождём. Выглянуло солнце — и в последних каплях, повисших на кончиках листьев, вспыхнули радужные огоньки. Эту сирень и акацию я сама поливала лет тринадцать назад, когда была совсем девчонкой. Теперь их не узнать — кусты стоят сплошной стеной. И я уже взрослая, у меня двое детей... Да где же они, наконец, мои ребята?
И тут я увидела их. По дороге неслась целая ватага ребятишек, впереди — Зоя, а позади всех едва поспевал Шура. Зоя первая увидела меня.
— Мама! Мама приехала! — крикнула она и кинулась ко мне.
Мы крепко обнялись. Потом я обернулась к Шуре. Он стоял чуть поодаль под деревцом и смотрел на меня во все глаза. Встретив мой взгляд, он вдруг обеими руками схватился за ствол молоденького ясеня и изо всех сил стал трясти его. На нас посыпались дождевые капли. Тут Шура совсем растерялся и, оставив деревцо, обхватил меня обеими руками и уткнулся лицом в моё платье.
Нас плотным кольцом обступили румяные, загорелые девочки и мальчики — черноволосые и с волосами, как лён, веснушчатые и без веснушек, с исцарапанными руками и ногами. Сразу видно было, что это боевой, неугомонный народ, любители побегать, поплавать, полазить по деревьям. Всё это были соседские ребятишки — Шура Подымов, Саня и Володя Филатовы, толстушка Шура Кожаринова и её братишка Васек, Ёжик и Ванюшка Полянские. И все они застенчиво и с любопытством разглядывали меня.
— Я сегодня больше не играю! Потому что мама приехала! — торжественно объявила Зоя.
И детишки вереницей, как гуси, направились к калитке. Взяв Зою и Шуру за руки, я пошла с ними в дом к дедушке и бабушке, которые уже ждали нас за столом.
... Когда живёшь постоянно со своими детьми, перемены, происходящие в них, не так заметны, не так поражают. Но теперь, после долгой разлуки, я не могла наглядеться на своих ребят и поминутно открывала в них что-нибудь новое.
Зоя очень выросла. Она стала совсем худенькая, большие серые глаза точно светились на смуглом лице. Шура тоже вытянулся и похудел, он был очень силён для своих шести лет: он без труда приносил воду из колодца, помогал бабушке, когда она стирала, — носил к речке таз с бельём.
— Он у нас богатырь, — сказала она мне, с гордостью поглядывая на внука.
В первые дни дети ходили за мною повсюду, не отпуская меня ни на минуту.
— Мы с тобой уедем, да? Ты нас больше не оставишь? — спрашивали они меня по десяти раз на день, заглядывая в глаза.
— Да разве вам плохо тут?
— Хорошо, только без тебя скучно. И без папы. Нет, уж ты нас больше не оставляй! Забери с собой, ладно? Заберёшь?
Зимой Зоя и Шура болели скарлатиной. Около трёх месяцев они совсем не встречались со сверстниками; единственным их обществом были дедушка с бабушкой. Неудивительно, что ребята переняли «взрослую» манеру рассуждать. Забавно было слышать, как солидно и вразумительно разговаривала Зоя.
— Маленьким курить не годится, — веско, с расстановкой, совсем как бабушка, сказала она как-то соседским мальчикам, — долго ли до беды, ещё пожар наделаете!
В другой раз я слышала, как она наставляла подругу:
— Параня, ты зачем говоришь по-рязански: «ня знаю», «ничаво»? Ты послушай, как другие говорят: «не знаю», «ничего».
Как-то Шура разбил чашку, но не сознался. Зоя посмотрела на него в упор и нахмурилась.
— Зачем говоришь неправду? Врать нельзя! — строго сказала она со всей убеждённостью своих неполных восьми лет.
... Мы не расставались в то лето. Вместе ходили в поле, на речку, вместе помогали бабушке по хозяйству и даже спали рядом. И никак не могли наговориться.
— Я пойду осенью в школу? — спрашивала Зоя. — В московскую? А меня не засмеют, что я читаю плохо? Скажут: вот, деревенская, как читает! Ты им скажешь, что я всю зиму болела? Ты не забудь, скажи!
— И я тоже в школу пойду, — повторял Шура. — Я один не хочу. Я с Зоей хочу.
Они ещё больше подружились за этот год. И прежде они редко жаловались друг на друга, а теперь этого никогда не случалось: все свои споры и размолвки они решали между собой, без старших; повздорив, быстро сами, мирились и всегда горой стояли друг за друга.
Бабушка рассказала мне такой случай.
Незадолго до моего приезда в Осиновых Гаях гостила жена брата Сергея со своими детьми, Ниной и Валерием. Дни стояли жаркие, ночи душные, и решено было, что Анна Владимировна вместе со своими ребятами будет ночевать на сеновале. Туда же отправились Зоя с Шурой. Легли. И вдруг Шуре, лежавшему с краю, вздумалось напугать гостей. Он укрылся с головой, уткнулся носом в сено... и в ночной тишине послышалось какое-то таинственное шипенье.
— Мам, слышишь, змея! — прошептала испуганная Нина.
— Какая ещё тебе змея, глупости!
Шура прыснул, подождал немного и снова зашипел. Сообразив, в чём дело, тётя Аня сказала строго:
— Шура, ты нам мешаешь спать! Уходи в комнату и там лежи и шипи, если тебе хочется.
Шура послушно отправился в дом. Вслед за ним поднялась и Зоя.
— Зоенька, а ты куда? Ты оставайся.
— Нет, раз вы Шуру услали, так и я не останусь, — ответила Зоя.
И так было всегда: они неизменно заступались друг за друга. Но это не мешало Шуре иной раз сердито кричать, когда Зоя делала ему замечание:
— Уйди! Отстань! Хочу и буду!
— А вот не будешь, я не велю! — спокойно и уверенно отвечала Зоя.
ВСЕ ВМЕСТЕ
В конце августа мы приехали в Москву, Анатолий Петрович встречал нас на вокзале. Ребята чуть не первыми выскочили из вагона и со всех ног кинулись к отцу, но не добежали и остановились: ведь целый год не видались, как не растеряться!
Но Анатолий Петрович понял их растерянность и нерешительность, сгрёб обоих в охапку и, всегда сдержанный, скупой на ласку, крепко расцеловал ребят, погладил по стриженым головам и сказал так, словно они расстались только вчера:
— Ну, сейчас я покажу вам Москву, Поглядим: похожа она на наши Осиновые Гаи?
Мы сели в трамвай — какое это было испытание храбрости и любопытства! — и с грохотом и звонками понеслись по Москве, мимо высоких домов, мимо блестящих автомобилей, мимо спешащих куда-то пешеходов. Ребята так и прилипли носами к оконному стеклу.
Шура был совершенно потрясён тем, что на улицах такое множество народу. «Куда они идут? Где они живут? Зачем их столько?» — кричал он, позабыв обо всём и вызывая улыбки пассажиров. Зоя молчала, но у неё на лице читалось такое же страстное нетерпение: скорее, скорее! Всё увидеть, всё разглядеть, всё понять в этом новом, огромном, удивительном городе!
И вот наконец окраина Москвы, небольшой домик близ Тимирязевской академии. Мы поднимаемся на второй этаж и входим в маленькую комнату: стол, кровати, неширокое окно... Вот мы и дома!
... Из всех памятных дней в жизни человека день, когда он впервые ведёт своего ребёнка в школу, — один из самых хороших. Наверно, все матери помнят его. Помню и я. Это первое сентября тридцать первого года было такое ясное, безоблачное, деревья Тимирязевки стояли все в золоте. Сухие листья шуршали под ногами, нашёптывая что-то таинственное и ободряющее — должно быть, о том, что с этого часа начинается для моих ребят совсем новая жизнь.
Я вела детей за руки. Они шли торжественные, сосредоточенные и, пожалуй, немного испуганные. Зоя крепко сжимала свободной рукой сумку, в которой лежали букварь, тетради в клетку и в косую линейку, пенал с карандашами. Шуре очень хотелось самому нести эту замечательную сумку, но она досталась Зое — по старшинству. Через тринадцать дней Зое должно было исполниться восемь лет, а Шуре едва пошёл седьмой год.
Что и говорить, Шура был ещё мал — и, однако, мы решили отдать его в школу. Он очень привык к сестре и даже представить себе не мог, как это Зоя пойдёт в школу, а он останется дома. Да нам и не с кем было оставлять его: и я и Анатолий Петрович работали.
Первой школьной учительницей моих детей была я сама. Я вела в тот год подготовительный, «нулевой» класс, и заведующий школой определил Зою и Шуру ко мне.
И вот мы вошли в класс. Тридцать таких же малышей — девочек и мальчиков — поднялись нам навстречу. Я усадила Зою и Шуру на одну парту, неподалёку от доски, и начала урок...
Помню, в первые дни один мальчуган принялся скакать вокруг Зои на одной ножке, распевая: «Зойка, Зойка, упала в помойку!» Он выкрикивал этот стишок с настоящим упоением. Зоя слушала молча, с невозмутимым видом, а когда мальчуган умолк на мгновение, чтобы перевести дух, сказала спокойно:
— Я даже и не знала, что ты такой глупый.
Мальчуган недоуменно моргнул, повторил дразнилку ещё раза два, но уже без прежнего воодушевления, а потом и совсем отошёл от Зои.
Однажды, когда Зоя была дежурная, кто-то разбил в классе стекло. Я совсем не собиралась наказывать виновника: мне думается, невозможно найти такого человека, который в жизни не разбил бы хоть одного стекла, без этого детства не бывает. Мой Шура, например, разбил столько стёкол, что с лихвой хватило бы ещё на двоих. Но мне хотелось, чтобы виновный сознался сам. Я медлила войти в класс и стояла в коридоре, обдумывая, как начать разговор с ребятами. И тут я услышала из-за двери Зоин голос:
— Кто разбил?
Я тихо заглянула в класс. Зоя стояла на стуле, вокруг толпились ребята.
— Кто разбил, говори! — требовательно повторила Зоя. — Всё равно я по глазам узнаю, — добавила она с глубочайшим убеждением.
Наступило короткое молчание, и потом курносый, толстощёкий Петя Рябов, один из первых озорников в нашем классе, сказал со вздохом:
— Это я разбил...
Как видно, он вполне поверил, что Зоя может узнавать по глазам самые сокровенные мысли. Она и впрямь говорила так, словно ни капли не сомневалась в этой своей способности, но объяснялось это очень просто. Бабушка Мавра Михайловна обычно говорила внучатам, когда им случалось напроказить: «Это кто натворил? Ну-ка, погляди мне в глаза, я по глазам всё узнаю!» — и Зоя хорошо запомнила бабушкино чудесное средство узнавать правду.
... Вскоре Зою и Шуру пришлось перевести из моего класса в другой, и вот почему.
Зоя вела себя очень сдержанно и никак не проявляла своих родственных отношений. Иногда она даже говорила: «Любовь Тимофеевна», подчёркивая, что в классе она такая же ученица, как и все, и я для неё, как для всех, — учительница. А вот Шура вёл себя совсем иначе. Во время урока, дождавшись минуты полной тишины, он вдруг громко окликал меня: «Мама!» — и при этом лукаво поглядывал по сторонам.
Шурины выходки неизменно вызывали в классе суматоху: учительница, Любовь Тимофеевна, и вдруг — мама! Это очень веселило детей, но мешало работать. И через месяц пришлось перевести моих ребят в параллельный класс, к другой учительнице.
Школа, школьные занятия завладели Зоей безраздельно. Придя домой и поев, она тотчас садилась за уроки. Напоминать ей об этом никогда не приходилось. Учиться — это было теперь для неё самое важное, самое увлекательное, об этом были все её мысли. Каждую букву, каждую цифру она выводила с чрезвычайной старательностью, тетради и книги брала в руки так бережно и осторожно, как будто они были живые. Учебники мы всегда покупали новые — Анатолий Петрович считал, что это очень важно.
— Плохо, когда ребёнку в руки попадает грязная, неопрятная книга, — говорил он, — такую и беречь не захочется...
Когда ребята собирались сесть за уроки, Зоя спрашивала строго:
— Шура, а руки у тебя чистые?
Сначала он пробовал бунтовать:
— А тебе какое дело? Ну тебя! Отстань!
Но потом смирился и, прежде чем взяться за учебники, уже сам, без напоминаний, мыл руки. Надо признаться, предосторожность была не лишняя: набегавшись с ребятами, наш Шура обычно возвращался со двора перемазанный до ушей; иной раз просто понять нельзя было, как это он умудрился выпачкаться, словно по очереди вывалялся в песке, в угле, извёстке и толчёном кирпиче...
Дети готовили уроки за обеденным столом. Зоя подолгу просиживала над книгой. У Шуры терпения хватало на полчаса кряду, не больше. Ему хотелось поскорее убежать опять на улицу, к ребятам. И он то и дело тяжело вздыхал, косясь на дверь.
Однажды он притащил ворох кубиков и спичечных коробков и старательно выложил их в ряд, перегородив стол пополам.
— Это твоя половина, а это моя, — объявил он Зое. — Ко мне не смей переходить!
— А букварь как же? А чернильница — в недоумением спросила Зоя.
Шура не растерялся:
— Букварь тебе, а чернильница мне!
— Будет тебе баловать! — строго сказала Зоя и решительно сняла кубики со стола.
Но Шуре было скучно просто так, без затей, готовить уроки, и он всякий раз старался превратить занятия в игру. Что поделаешь! Ему ведь не было и семи лет.
ПРАЗДНИК
Седьмого ноября мои ребята поднялись ни свет ни заря: отец обещал взять их с собой на демонстрацию, и они ждали этого дня с огромным нетерпением.
С завтраком они справились необычайно быстро, Анатолий Петрович стал бриться. Ребята никак не могли дождаться, пока он кончит. Они пробовали заняться чем-нибудь, но это им плохо удавалось. Даже излюбленная «тихая» игра (в крестики и нолики) не шла на ум.
Наконец мы оделись и вышли на улицу. День был ветреный, неприветливый, шёл мелкий дождь пополам со снегом. Но не прошли мы и десяти шагов, как впереди зазвучал шум праздника: музыка, песни, говор, смех» Чем ближе к центру, тем шумней, веселей, радостней становилось на улицах. На счастье, скоро и дождь перестал, а серого неба не замечали ни ребята, ни взрослые — столько алых, горячих знамён, столько ярких красок было вокруг.
Увидев первые колонны демонстрантов, Шура и Зоя пришли в совершенный восторг и уже не переставали восхищаться и радоваться до конца демонстрации. Они громко, хоть и не без запинки, читали каждый плакат, подпевали каждому хору, начинали приплясывать под звуки каждого оркестра. Они не шли — их несло тёплой, широкой волной праздника. Раскрасневшиеся, с блестящими глазами, с шапками, сползающими на затылок (надо было всё время смотреть вверх!), они не разговаривали связно, а только вскрикивали:
— Смотри, смотри! Как украшено! Звезда какая! А там, там! А вон шары летят! Смотри скорее!
Когда мы подошли к Красной площади, ребята притихли, повернули головы направо и уже не сводили глаз с Мавзолея.
... Красная площадь! Сколько мыслей, сколько чувств было связано с этими словами! Как мы мечтали в Осиновых Гаях о дне, когда увидим её! Год назад, впервые приехав в Москву, я пришла на Красную площадь. Сколько я слышала о ней, сколько читала — и всё же не представляла её себе такой простой и такой величавой. Теперь, в торжественный час, она казалась мне совсем новой.
Я вижу зубцы и башни Кремлёвской стены, суровые и задумчивые ели у могил борцов революции, бессмертное имя — ЛЕНИН — на мраморных плитах.
Бескрайний людской поток течёт и течёт, жаркой волной омывая простые и строгие стены Мавзолея. И кажется мне, что вся вера, вся надежда и любовь человечества бесконечным прибоем хлынули сюда, к великому маяку, указывающему путь в грядущее.
Мощное «ура» прокатилось по площади. Шура уже не шёл, а почти плясал рядом со мной. Зоя тоже бежала вприпрыжку, крепко держась за руку отца.
Мы спустились к набережной, Из-за туч вдруг выглянуло солнце, в реке отразились кремлёвские башни и купола, задрожали золотые блёстки. У моста мы увидали продавца воздушных шаров. Анатолий Петрович подошёл к нему и купил три красных и два зелёных — получилась красивая пёстрая гроздь. Он вручил один шар Зое, другой — Шуре.
— А с остальными что будем делать? — спросил он.
— Отпустим на волю! — воскликнула Зоя.
И Анатолий Петрович на ходу стал пускать один шар за другим. Они взлетали вверх плавно, неторопливо.
— Постоим, постоим! — разом закричали Зоя и Шура.
Остановились и другие люди, взрослые и дети. И долго мы стояли, закинув головы, и следили, как улетали в прояснившееся небо наши яркие, весёлые шары, как они становились всё меньше и меньше и, наконец, исчезли из глаз.
ВЕЧЕРОМ...
Несколько лет назад мне пришлось прочитать письмо человека, который потратил много внимания и заботы на своих детей, а когда они уже стали взрослыми, вдруг понял, что воспитал он их плохо. «В чём я ошибся?» — спрашивал он, перебирая в памяти прошлое. И вспоминал эти ошибки: не обратил внимания на вспыхнувшую между ребятами ссору; сделал за ребёнка то, что тот с успехом мог сделать сам; принося подарки, говорил: «Это тебе, а это тебе», а ведь лучше было сказать: «Это вам обоим»; подчас легко прощал неправду, недобросовестность и придирчиво наказывал за пустячную провинность. «Как видно, пропустил я ту минуту, когда у ребят только зарождалось себялюбие, желание освободиться от трудного дела, — писал этот человек. — И вот из пустяков, из мелочей вышло большое зло: дети мои выросли совсем не такими, какими я хотел их видеть: они грубы, эгоистичны, ленивы, между собой не дружат».
«Что же делать? — спрашивает он под конец. — Переложить дальнейшее на общество, на коллектив? Но ведь, выходит, общество должно тратить лишние силы на исправление моих ошибок — это раз. Во-вторых, самим ребятам придётся в жизни трудно. А в-третьих, где же я сам? Что я сделал?» Это письмо было напечатано в одной из наших больших газет, кажется в «Правде». Помню, долго я сидела тогда над этими горькими строками и думала, вспоминала...
Анатолий Петрович был хорошим педагогом. Я никогда не слышала, чтоб он читал ребятам длинные нотации, чтоб подолгу им выговаривал. Нет, он воспитывал их своим поведением, своим отношением к работе, всем своим обликом. И я поняла: это и есть лучшее воспитание.
«У меня нет времени воспитывать ребят, я целый день на работе», — слышу я нередко. И я думаю: да разве в семье надо отводить какие-то особые часы на воспитание детей? Анатолий Петрович научил меня понимать: воспитание — в каждой мелочи, в каждом твоём поступке, взгляде, слове. Всё воспитывает твоего ребёнка: и то, как ты работаешь, и как отдыхаешь, и как разговариваешь с друзьями и недругами, каков ты в здоровье и в болезни, в горе и радости, — всё замечает твой ребёнок и во всём станет тебе подражать. А если ты забываешь о нём, о его зорких, наблюдательных глазах, постоянно ищущих в каждом твоём поступке совета и примера, если ребёнок растёт рядом с тобою сыт, обут, одет, но одинок, — тогда ничто не поможет правильно воспитывать его: ни дорогие игрушки, ни совместные увеселительные прогулки, ни строгие и разумные наставления. Ты должен быть со своим ребёнком постоянно, и он должен во всём чувствовать твою близость и никогда в ней не сомневаться.
Мы с Анатолием Петровичем были очень заняты и совсем мало времени могли проводить с детьми. Учительствуя в начальной школе, я одновременно сама училась в Педагогическом институте. Анатолий Петрович работал в Тимирязевской академии, учился на курсах стенографии и усиленно готовился к поступлению в заочный технический институт — это была его давнишняя мечта. Часто мы приходили домой так поздно, что заставали ребят уже спящими. Но тем радостнее были выходные дни и вечера, которые мы проводили вместе.
Как только мы появлялись в дверях, дети со всех ног кидались к нам и наперебой выкладывали всё, что накопилось за день. Выходило не очень связно, зато шумно и с чувством:
— А у Акулины Борисовны щенок в чулан залез и суп пролил! — А я уже стихотворение выучила! — А Зойка ко мне приставала! — Да, а почему он задачку не решает? — Посмотрите, что мы вырезали. Правда, красиво? — А я щенка учил лапу подавать, он уже почти совсем выучился!..
Анатолий Петрович быстро разбирался, что к чему. Он выяснял, почему не решена задача, выслушивал выученное стихотворение, расспрашивал про щенка и, словно мимоходом, замечал:
— Грубо разговариваешь, брат Шура. Что это за выражение: «Зойка приставала»? Терпеть не могу, когда так разговаривают!
Потом мы все вместе ужинаем, дети помогают мне убрать со стола — и наступает наконец долгожданная минута...
Казалось бы, чего тут было ждать? Всё очень обыкновенно, буднично.
Анатолий Петрович расшифровывает свои стенографические записи, я готовлюсь к завтрашним урокам, перед Зоей и Шурой — альбом для рисования.
Лампа освещает только стол, вокруг которого мы сидим; а вся комната — в полутьме. Поскрипывает стул под Шурой, шуршат листы альбома.
Зоя рисует дом с высокой зелёной крышей. Из трубы идёт дым. Рядом — яблоня, а на ней круглые яблоки, каждое величиной с пятак. Иногда тут же птицы, цветы и в небе, по соседству с солнцем, пятиконечная звезда... По страницам Шуриного альбома мчатся во всех направлениях лошади, собаки, автомобили и самолёты. Карандаш в руке Шуры никогда не дрожит — он проводит ровные, уверенные линии. Я давно поняла, что Шура будет хорошо рисовать.
Так мы сидим, занимаемся каждый своим делом и ждём, когда Анатолий Петрович скажет:
— Ну, а теперь отдохнём!
Это значит, что сейчас мы все вместе во что-нибудь поиграем. Играем чаще всего в домино: Зоя с отцом против нас с Шурой. Шура азартно следит за каждым ходом, горячится, спорит, а проигрывая, краснеет, сердится и готов заплакать. Зоя тоже волнуется, но молча: закусывает губу или крепко сжимает свободную руку в кулак.
Иногда мы играем в игру, которая называется «Вверх и вниз». Тут уж ничто не зависит от вашего умения, а только от того, какой стороной ляжет подброшенный белый кубик с чёрными точками по бокам — от одной до шести.
Если вам повезёт, вы взлетите на самолёте вверх, прямо к цели — пёстрому куполу, а не повезёт — покатитесь вниз и проиграете. Нехитро, но как увлекательно! И как ребята хлопают в ладоши, когда им посчастливится залететь вверх, минуя сразу десяток клеток на пёстрой доске!
Очень любили Зоя и Шура игру моего изобретения, которая называлась у нас попросту «каляки»: кто-нибудь из них чертил на чистом листе бумаги любой зигзаг, кривую линию, загогулину — словом, «каляку», и я должна была в этой бессмысленной закорючке найти зерно будущей картины.
Вот Шура вывел на бумаге что-то вроде длинного яйца. Я смотрю, думаю полминуты, потом пририсовываю плавники, хвост, чешую, глаз, и перед нами...
— Рыба! Рыба! — в восторге кричат дети.
А вот Зоя посадила на листе самую обыкновенную чернильную кляксу, и я делаю из неё красивый цветок: мохнатую лиловую хризантему.
Когда дети немного подросли, мы поменялись ролями: я чертила «каляку», а они придумывали, что из неё можно сделать. Шура был неистощимо изобретателен: из маленькой закорючки у него вырастал сказочный терем, из нескольких крапинок — лицо, из кривой линии — большое ветвистое дерево.
Но больше всего мы любили, когда Анатолий Петрович брал в руки гитару и начинал играть. Не знаю даже, хорошо ли он играл, но мы очень любили его слушать и совсем забывали о времени, когда он играл одну за другой русские песни.
Пусть такие вечера выдавались редко, но они освещали нам все остальные дни, о них с удовольствием вспоминали.
Замечание, упрёк, сделанные детям в эти часы, оставляли в их душе глубокий след, а похвала и ласковое слово делали счастливыми.
— Что ж ты, Шура, сам сел на удобный стул, а маме поставил с поломанной спинкой! — сказал как-то Анатолий Петрович, и после этого я уже никогда не замечала, чтобы Шура выбрал себе вещь получше, поудобнее, оставив другим то, что похуже.
Однажды Анатолий Петрович пришёл хмурый, поздоровался с детьми сдержанней обычного.
— За что ты сегодня поколотил Анюту Степанову? — спросил он Шуру.
— Девчонка... пискля... — угрюмо ответил Шура, не поднимая глаз.
— Чтоб больше я о таком не слышал! — раздельно и резко произнёс Анатолий Петрович, помолчав, прибавил чуть мягче: — Большой мальчишка, скоро восемь лет будет, а задираешь девочку! Не стыдно тебе?
Зато как сияли лица детей, когда отец хвалил Шуру за хороший рисунок, Зою — за аккуратную тетрадку, за чисто прибранную комнату!
Когда мы приходили поздно, дети ложились спать, не дождавшись нас, и оставляли на столе свои раскрытые тетради, чтобы мы могли посмотреть, как сделаны уроки. И пусть мы немного часов могли уделить ребятам, но мы всегда знали обо всём, чем они жили, что занимало и волновало их, что случалось с ними без нас. А главное, всё, что мы делали вместе — будь то игра, занятия или работа по хозяйству, — сближало нас с детьми, и дружба наша становилась всё более глубокой и сердечной.
ПО ДОРОГЕ В ШКОЛУ
Мы жили на старом шоссе. От дома да школы было не меньше трёх километров.
Я вставала пораньше, готовила завтрак, кормила детей, и мы выходила из дому ещё затемно. Путь наш лежал через Тимирязевский парк. Деревья стояли высокие, неподвижные, точно выведенные тушью на синем, медленно светлеющем небе. Снег поскрипывал под ногами, воротники понемногу покрывались инеем от дыхания.
Мы шли втроём — Анатолий Петрович выходил из дому позже.
Сначала шагали молча, но понемногу остатки недавнего сна словно истаивали вместе с темнотой, и завязывался какой-нибудь неожиданный и интересный разговор.
— Мама, — спросила раз Зоя, — почему так: деревья чем старше, тем красивее, а человек, когда старый, становится совсем некрасивый? Почему?
Я не успела ответить.
— Неправда! — горячо возразил Шура. — Вот бабушка старая, а разве некрасивая? Красивая!
Я вспоминаю свою маму. Нет, сейчас никто не назовёт её красивой: у неё такие усталые глаза, впалые, морщинистые щёки...
Но Шура, словно подслушав мою мысль, говорит:
— Я кого люблю, тот для меня и красивый.
— Да, правда, — подумав, соглашается Зоя.
... Однажды, когда мы шли втроём вдоль шоссе, нас нагнала грузовая машина и вдруг затормозила.
— В школу? — коротко спросил шофёр, выглянув из окошка.
— В школу, — удивлённо ответила я.
— Ну-ка, давайте сюда ребятишек.
Не успела я опомниться, как Зоя с Шурой оказались в кузове, и под их восторженный крик машина покатила дальше.
С того дня до самой весны в один и тот же час нас нагонял на дороге этот грузовик и, захватив ребят, довозил их почти до самой школы. Там, на углу, они вылезали, а машина мчалась дальше.
Мы никогда не дожидались «нашей машины», нам нравилось вдруг услышать за спиной знакомый басовитый гудок и такой же густой, низкий оклик: «Ну-ка, забирайтесь в кузов!» Конечно, добродушному шофёру просто было с нами по дороге, но ребята почти поверили, что он нарочно приезжает за ними. Очень приятно было так думать!
НОВОСЕЛЬЕ
Через два года после приезда детей в Москву Анатолию Петровичу дали другую комнату, более просторную и удобную, в доме № 7 по Александровскому проезду.
Теперь Александровского проезда не узнать: по обе стороны выросли новые большие дома, тротуары и мостовая залиты ровным, гладким асфальтом. А в те времена здесь едва набралось бы с десяток домишек совсем деревенского вида, за ними тянулись какие-то грядки, огороды, а дальше — большой, неуютный пустырь.
Наш домик стоял совсем одиноко, как говорится, — на отшибе, и, возвращаясь с работы, я видела его ещё издали, как только выходила из трамвая. Жили мы во втором этаже. Новая комната была куда лучше нашего прежнего жилья: теплее, светлее, просторнее.
Ребята очень радовались новоселью. Они любили всё новое, и переезд доставил им большое удовольствие. Немало времени они потратили на сборы. Зоя бережно складывала книги, тетради, вырезанные из журналов картинки. Шура тоже деловито собирал и упаковывал своё хозяйство: стёклышки, камешки, крючки, железки, согнутые гвозди и ещё множество предметов, назначение которых оставалось для меня загадкой.
В новой комнате мы отвели ребятам угол, поставили туда небольшой стол, повесили полку для учебников и тетрадей.
Увидев стол, Шура немедленно закричал:
— Левая сторона, чур, моя!
— А правая — моя, — охотно согласилась Зоя, и, как бывало не раз, повод для спора исчез сам собой.
Наша жизнь потекла по-прежнему: день шёл за днём, мы работали, учились. По воскресеньям «открывали» какой-нибудь новый кусок Москвы: ездили то в Сокольники, то в Замоскворечье, то катались в трамвае «6 по Садовому кольцу, то гуляли по Нескучному саду.
Анатолий Петрович хорошо знал Москву, и старую и новую, и немало мог порассказать нам о ней.
— А где же мост? — спросил однажды Шура, когда мы проходили по Кузнецкому мосту, и в ответ выслушал интересный рассказ о том, как здесь в старину был настоящий мост и как речка Неглинка ушла под землю.
Так мы узнали, откуда взялись в Москве всякие «валы», «ворота», Столовый, Скатертный, Гранатный переулки, Бронные улицы, Собачья площадка.
Анатолий Петрович рассказывал, почему Пресня называется Красная, почему есть Баррикадная улица и площадь Восстания.
И страница за страницей раскрывалась перед ребятами история нашего чудесного города.
ГОРЕ
Однажды в конце февраля были взяты билеты в цирк. В кино, в цирк мы водили детей не часто, зато каждый такой поход был настоящим праздником.
Ребята ждали воскресного дня с нетерпением, которое ничем нельзя было укротить: они мечтали о том, как увидят дрессированную собаку, умеющую считать до десяти, как промчится по кругу тонконогий конь с крутой шеей, украшенный серебряными блёстками, как учёный тюлень станет перебираться с бочки на бочку и ловить носом мяч, который кинет ему дрессировщик...
Всю неделю только и разговоров было что о цирке. Но в субботу, вернувшись из школы, я с удивлением увидела, что Анатолий Петрович уже дома и лежит на кровати.
— Ты почему так рано? И почему лежишь? — испуганно спросила я.
— Не беспокойся, пройдёт. Просто неважно себя почувствовал...
Не могу сказать, чтобы меня это успокоило: я видела, что Анатолий Петрович очень бледен и как-то сразу осунулся, словно он был болен уже давно и серьёзно. Зоя к Шура сидели подле и с тревогой смотрели на отца.
— Придётся вам в цирк без меня пойти, — сказал он, заставляя себя улыбнуться.
— Мы без тебя не пойдём, — решительно ответила Зоя.
— Не пойдём! — отозвался Шура.
На другой день Анатолию Петровичу стало хуже. Появилась острая боль в боку, стало лихорадить. Всегда очень сдержанный, он не жаловался, не стонал, только крепко закусил губу. Надо было пойти за врачом, но я боялась оставить мужа одного. Постучала к соседям — никто не отозвался, должно быть, вышли погулять: ведь было воскресенье. Я вернулась растерянная, не зная, как быть.
— Я пойду за доктором, — сказала вдруг Зоя, и не успела я возразить, как она уже надела пальтишко и шапку.
— Нельзя... далеко... — с трудом проговорил Анатолий Петрович.
— Нет, пойду, я пойду... Я знаю, где он живёт! Ну, пожалуйста! — И, не дожидаясь ответа, Зоя почти скатилась о лестницы.
— Ну, пусть... девочка толковая... найдёт... — прошептал Анатолий Петрович и отвернулся к стене, чтобы скрыть серое от боли лицо.
Через час Зоя вернулась с врачом. Он осмотрел Анатолия Петровича и сказал коротко: «Заворот кишок. Немедленно в больницу. Нужна операция».
Он остался с больным, я побежала за машиной, и через полчаса Анатолия Петровича увезли. Когда его сносили вниз по лестнице, он застонал было и тотчас смолк, увидев расширенные от ужаса глаза детей.
... Операция прошла благополучно, но легче Анатолию Петровичу не стало. Всякий раз, как я входила в палату, меня больше всего пугало его безучастное лицо: слишком привыкла я к общительному, весёлому характеру мужа, а теперь он лежал молчаливый, и лишь изредка приподнимал слабую, исхудалую руку, клал её на мою и всё так же молча слабо пожимал мои пальцы.
5 марта я пришла, как обычно, навестить его.
— Подождите, — сказал мне в вестибюле знакомый санитар, как-то странно взглянув на меня. — Сейчас сестра выйдет. Или врач.
— Да я к больному Космодемьянскому, — напомнила я, думая, что он меня не узнал. — У меня постоянный пропуск.
— Сейчас, сейчас сестра выйдет, подождите, — повторил он.
Через минуту поспешно вошла сестра.
— Присядьте, пожалуйста, — сказала она, избегая моего взгляда.
И тут я поняла.
— Он умер? — выговорила я невозможные, невероятные слова.
Сестра молча кивнула.
***
... Тяжело, горько терять родного человека и тогда, когда задолго до конца знаешь, что болезнь его смертельна и потеря неизбежна. Но такая внезапная, беспощадная смерть — ничего страшнее я не знаю... Неделю назад человек, никогда с детства не болевший, был полон сил, весел, жизнерадостен — и вот он в гробу, не похожий на себя, безответный, безучастный...
Дети не отходили от меня: Зоя держала за руку, Шура цеплялся за другую.
— Мама, не плачь! Мамочка, не плачь! — повторяла Зоя, глядя на неподвижное лицо отца сухими покрасневшими глазами.
... В холодный, сумрачный день мы стояли втроём в Тимирязевском парке, ожидая моих брата и сестру: они должны были приехать на похороны. Стояли мы под каким-то высоким, по-зимнему голым деревом, нас прохватывало холодным, резким ветром, и мы чувствовали себя одинокими, осиротевшими.
Не помню, как приехали мои родные, как пережили мы до конца этот холодный, тягостный, нескончаемый день. Смутно вспоминается только, как шли на кладбище, потом как вдруг отчаянно, громко заплакала Зоя — и стук земли о крышку гроба...
БЕЗ ОТЦА
С той поры моя жизнь круто изменилась. Прежде я жила, чувствуя и зная, что рядом — дорогой, близкий человек, что я всегда могу опереться на его надёжную руку. Я привыкла к этой спокойной, согревающей уверенности и даже представить себе не могла, как может быть иначе. И вдруг я осталась одна, и ответственность за судьбу наших двоих детей и за самую их жизнь безраздельно легла на мои плечи.
Шура всё-таки был ещё мал, и ужас случившегося не вполне дошёл до его сознания. Ему словно казалось, что отец просто где-то далеко, как бывало во время прежних наших разлук, и ещё вернётся когда-нибудь...
Но Зоя приняла наше горе, как взрослый человек.
Она почти не заговаривала об отце. Видя, что я задумываюсь, она подходила ко мне, заглядывала в глаза и тихонько предлагала:
— Хочешь, я тебе почитаю?
Или просила:
— Расскажи что-нибудь! Как ты была маленькая...
Или просто садилась рядом и сидела молча, прижавшись к моим коленям. Она старалась, как умела, отвлечь меня от горьких мыслей. Но иногда по ночам я слышала, что она плачет. Я подходила, гладила её по волосам, спрашивала тихо:
— Ты о папе?
И она неизменно отвечала:
— Нет, это я, наверно, во сне.
... Зое и прежде часто говорили: «Ты старшая, смотри за Шурой, помогай маме». Теперь эти слова наполнились новым смыслом: Зоя действительно стала моей помощницей и другом.
Я начала преподавать ещё в одной школе и ещё меньше, чем прежде, могла быть дома. С вечера я готовила обед. Зоя разогревала его, кормила Шуру, убирала комнату, а когда чуть подросла, стала и печь сама топить.
— Ох, спалит нам Зоя дом! — говорили иной раз соседи. — Ведь ребёнок ещё!
Но я знала: на Зою можно положиться спокойнее, чем на иного взрослого. Она всё делала вовремя, никогда ни о чём не забывала, даже самую скучную и маловажную работу не выполняла кое-как. Я знала: Зоя не бросит непогашенную спичку, вовремя закроет вьюшку, сразу заметит выскочивший из печки уголёк.
Однажды я вернулась домой очень поздно, с головной болью и такая усталая, что не было сил приниматься за стряпню. «Обед завтра сготовлю, — подумала я. — Встану пораньше...»
Я уснула, едва опустив голову на подушку, и... проснулась на другой день не раньше, не позже обычного, через каких-нибудь полчаса надо было уже выходить из дому, чтобы не опоздать на работу.
— Вот ведь беда! — сказала я, совсем расстроенная. — Как же это я заспалась! Придётся вам сегодня обедать всухомятку.
Вернувшись вечером, я спросила ещё с порога:
— Ну что, совсем голодные?
— А вот и не голодные, а вот и сытые! — победоносно закричал Шура, прыгая передо мной.
— Садись скорее обедать, мама, у нас сегодня жареная рыба! — торжественно объявила Зоя.
— Рыба? Какая рыба?
На сковородке и в самом деле дымилась аппетитно поджаренная рыбка. Откуда она? Дети наслаждались моим изумлением. Шура продолжал прыгать и кричать, а Зоя, очень довольная, наконец объяснила:
— Понимаешь, мы, когда шли в школу мимо пруда, заглянули в прорубь, а там рыба. Шура хотел поймать её рукой, а она очень скользкая. Мы в школе у нянечки попросили консервную банку, положили в мешок для калош, а когда шли домой, задержались на часок возле пруда и наловили...
— Мы бы и побольше поймали, да нас какой-то дядя оттуда прогнал, говорит: утонете или руки отморозите. А мы и не отморозили! — перебил Шура.
— Мы много наловили, — продолжала Зоя. — Пришли домой, зажарили, сами поели и тебе оставили. Вкусно, правда?
В тот вечер мы с Зоей готовили обед вдвоём: она аккуратно начистила картошку, вымыла крупу и внимательно смотрела, сколько чего я кладу в кастрюлю.
... Впоследствии, вспоминая те первые месяцы после смерти Анатолия Петровича, я не раз думала, что именно тогда утвердилась в Зоином характере ранняя серьёзность, которую замечали в ней даже малознакомые люди.
НОВАЯ ШКОЛА
Вскоре после смерти мужа я перевела ребят в 201-ю школу; до прежней было слишком далеко ходить, и я побаивалась отпускать детей одних. Сама же я там больше не работала: я стала преподавать в школе для взрослых.
Новая школа детям понравилась сразу, безоговорочно — они с первого дня полюбили её и просто не находили слов, чтобы выразить своё восхищение. В самом деле, прежде они учились в небольшом деревянном доме, напоминавшем школу в Осиновых Гаях. А эта школа была большая, просторная, и рядом строилось новое великолепное здание в три этажа, с огромными, широкими окнами... Сюда они переселятся в будущем учебном году. Хозяйственная Зоя быстро оценила Николая Васильевича Кирикова, директора 201-й школы.
— Ты бы видела, мама, какой у нас будет зал! — говорила она с увлечением. — А библиотека! Книг сколько! Я столько никогда не видала: полки по всем стенам, с полу до потолка, и ни одного свободного места... Яблоку упасть негде, — подумав, прибавила она (и я опять услышала бабушку — это было её выражение). — Николай Васильевич нас водил на стройку, всё показывал. Он говорит: у нас большой сад будет, сами посадим. Увидишь, мама, какая будет наша школа: лучше во всей Москве не найдёшь!
Шура был захвачен всем, что делалось в новой школе, но больше всего ему нравились уроки физкультуры. Мальчуган без конца мог рассказывать о том, как он подтянулся на трапеции, как перепрыгнул через «козла», как научился попадать мячом в баскетбольную «корзинку».
Новая учительница, Лидия Николаевна Юрьева, сразу пришлась обоим по сердцу. Это я видела по тому, как охотно они шли каждый день в школу, какие оживлённые и довольные возвращались, как старались слово в слово пересказать мне всё, что говорила учительница, — всё, до мелочей, было для них важно и полно значения.
— По-моему, ты оставляешь слишком большие поля, — сказала я однажды Зое, просматривая её тетрадь.
— Нет, нет! — вспыхнув, торопливо ответила Зоя. — Лидия Николаевна велит такие, меньше нельзя!
Так было во всём: раз Лидия Николаевна сказала, значит, только так и должно быть. И я знала: это хорошо, это значит, что учительницу любят и уважают, именно потому старательно и охотно выполняют любую её просьбу, любое приказание.
И Зоя и Шура всегда принимали близко к сердцу всё, что происходило в классе.
— Сегодня Борька опоздал и говорит: «У меня мама заболела, я ходил в аптеку!» — с жаром рассказывал Шура. — Ну, раз мама больна, что тут делать. Лидия Николаевна и говорит ему: «Садись на своё место». А после уроков как раз приходит Борькина мать — она с ним хотела куда-то прямо из школы ехать, — а смотрим, она здоровая и совсем даже не больная. Лидия Николаевна покраснела, рассердилась и говорит Борьке: «Я больше всего не люблю, когда говорят неправду. У меня такое правило: если сам сознался, не соврал... не солгал, то есть, — поспешно поправляется Шура, чувствуя, что начинает слишком вольно передавать речь учительницы, — значит, полвины долой». А я спросил: «Почему, если сознался, полвины долой?» А Лидия Николаевна отвечает: «Если человек сам сказал, значит, он понял свою вину, и незачем его сильно наказывать. А если отпирается, говорит неправду — ну, значит, ничего он не понимает и в другой раз опять так сделает, и, значит, надо его наказать...»
Если класс плохо справлялся с контрольной работой, Зоя приходила домой с таким печальным лицом, что вечером я с тревогой спрашивала:
— У тебя «неудовлетворительно»?
— Нет, — грустно отвечала она, — у меня «хорошо», я всё решила, а вот у Мани всё неправильно сделано. И у Нины тоже. Лидия Николаевна сказала: «Мне очень жаль, но придётся вам поставить неудовлетворительную отметку»...
Однажды я вернулась с работы раньше обычного. Детей дома не оказалось. Встревоженная, я пошла в школу, отыскала Лидию Николаевну и спросила, не знает ли она, где Зоя.
— По-моему, все уже разошлись, — ответила она. — А впрочем, давайте заглянем в класс.
Мы подошли к дверям класса и заглянули в стекло. У доски стояли Зоя и ещё три девочки: две — повыше Зои, с одинаковыми тоненькими косичками; третья — маленькая, толстая и кудрявая. Все были очень серьёзны, а кудрявая даже рот приоткрыла.
— Что же ты делаешь? — негромко и внушительно говорила ей Зоя. — Когда складывают карандаши с карандашами, так и получаются карандаши. А ты складываешь метры с килограммами. Что же у тебя получается?
В это время слева, в глубине класса, мелькнуло что-то белое. Я покосилась в ту сторону: на последней парте сидел Шура и безмятежно пускал бумажных голубей.
Мы отошли от дверей. Я попросила Лидию Николаевну немного погодя послать Зою домой и больше не позволять ей подолгу задерживаться в школе после уроков. Вечером я и сама сказала Зое, чтобы она, когда кончаются занятия, сразу шла домой.
— Видишь, я постаралась сегодня освободиться пораньше, хотела побыть с вами, а вас нет, — сказала я ей. — Ты уж, пожалуйста, не задерживайся в школе понапрасну...
Зоя выслушала меня молча, но потом, уже после ужина, вдруг сказала:
— Мама, разве помогать девочкам — напрасное дело?
— Почему же напрасное? Очень хорошо, когда человек помогает товарищу.
— А что же ты говоришь: «Не задерживайся понапрасну»?
Я закусила губу и в сотый раз подумала: до чего осторожно надо выбирать слова в разговоре с детьми!
— Просто я хотела побыть с вами, я ведь очень редко освобождаюсь рано.
— Но, ведь ты сама говоришь: дело прежде всего.
— Это верно. Но ведь твоё дело и в том, чтобы Шура был сыт, а он сидел в школе голодный и ждал, пока ты освободишься.
— Нет, я не сидел голодный, — вступился Шура. — Зоя захватила большущий завтрак.
На другое утро, уходя в школу, Зоя спросила:
— Можно, я сегодня опять позанимаюсь с девочками?
— Только не задерживайся надолго, Зоя.
— На полчасика! — ответила она.
И я знала: это будет действительно полчаса, и ни минутой больше.
ГРЕЧЕСКИЕ МИФЫ
Мне очень хотелось сохранить в нашей жизни обычаи, которые завёл Анатолий Петрович. По выходным дням мы, как и при нём, гуляли по Москве, но прогулки эти стали для нас горькими: мы всё время думали об отце. По вечерам не клеились наши игры — не хватало отца, его шуток и смеха...
Как-то в свободный вечер, возвращаясь домой, мы задержались возле ювелирного магазина. Ярко освещённая витрина была ослепительна: алые, голубые, зелёные, фиолетовые огоньки вспыхивали и переливались в драгоценных камнях. Тут были ожерелья, броши, какие-то блестящие безделушки. Перед самым стеклом на широкой бархатной подушке рядами лежали кольца, и в каждом тоже сверкал какой-нибудь камешек и, казалось, от каждого камешка, словно из-под точильного колеса или от дуги трамвая, отлетают и брызжут в глаза колючие разноцветные искры. Незнакомая сверкающая игра камней привлекла ребят. И вдруг Зоя сказала:
— Мне папа обещал объяснить, почему в кольцах всегда камешки, да так и не объяснил... — Она так же внезапно умолкла и крепко сжала мою руку, словно прося прощения за то, что напомнила вслух об отце.
— Мам, а ты знаешь, почему в кольцах камешки? — вмешался Шура.
— Знаю.
Мы пошли дальше, и по дороге я рассказала ребятам историю Прометея. Ребята шли, заглядывая с двух сторон мне в лицо, ловя каждое слово и едва не наталкиваясь на прохожих. Древняя легенда о храбреце, который ради людей пошёл на небывалый подвиг и на жестокую муку, сразу завладела их воображением.
— ...И вот однажды к Прометею пришёл Геркулес, необыкновенно сильный и добрый человек, настоящий герой, — рассказывала я. — Он никого не боялся, даже самого Зевса. Своим мечом он разрубил цепи, которыми Прометей был прикован к скале, и освободил его. Но осталось в силе повеление Зевса, что Прометей никогда не расстанется со своей цепью: одно звено её с осколком камня так и осталось на его руке. С тех пор в память о Прометее люди носят на пальце кольцо с камешком.
Через несколько дней я принесла ребятам из библиотеки греческие мифы и стала читать их вслух, И странное дело: несмотря на весь свой интерес к Прометею, они сначала слушали меня не очень охотно. Видимо, полубоги, чьи имена так трудно запоминались, казались им какими-то холодными, далёкими, чужими. То ли дело старые приятели: мишка-лакомка, Лиса Патрикеевна, простофиля-волк, польстившийся на рыбу и оставивший полхвоста в проруби, и другие старые знакомцы из русских народных сказок! Но постепенно герои мифов тоже проложили дорогу к ребячьим сердцам: Шура и Зоя стали говорить о Персее, Геракле, Икаре, как о живых людях. Помню, Зоя пожалела Ниобею, а Шура сказал запальчиво:
— А зачем она хвастала?
Я знала: ещё многие герои книг станут дороги и близки моим детям. Может быть, поэтому мне очень запомнился ещё один короткий разговор.
— Большая, а плачешь... — задумчиво и удивлённо сказала Зоя, застав меня за перечитыванием «Овода».
— Посмотрю я, как ты будешь читать эту книжку, — ответила я.
— А когда я её прочту?
— Когда тебе будет лет четырнадцать.
— У-у, это ещё не скоро, — протянула Зоя.
Ясно было, что такой срок кажется ей ужасно долгим, почти невозможным,
ЛЮБИМЫЕ КНИГИ
Теперь, если у меня выдавался свободный вечер, мы уже не играли в домино; мы читали вслух, вернее — читала я, а дети слушали.
Чаще всего читали мы Пушкина. Это был совсем особый и очень любимый мир, прекрасный и радостный. Пушкинские строки запоминались совсем легко, и Шура мог без устали декламировать про белку, которая
... песенки поёт
Да орешки всё грызёт;
А орешки не простые,
Все скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд...
И, хотя дети много знали на память, они снова и снова просили:
— Мама, ну пожалуйста, про золотую рыбку... про царя Салтана...
Как-то я начала читать им «Детство Темы». Мы дошли до того места, где рассказывается, как отец высек Тему за сломанный цветок. Ребятам очень хотелось знать, что будет дальше, но было уже поздно, и я отослала их спать. Вышло так, что ни на неделе, ни в следующее воскресенье я не смогла дочитать им историю Темы: набралось много работы — непроверенных тетрадей, незаштопанных чулок. Под конец Зоя не вытерпела, взялась за книжку и дочитала её сама.
С этого началось: она стала читать запоем всё, что попадало под руку, будь то газета, сказка или учебник. Она словно проверяла своё умение читать, как большая: не просто заданную страницу из учебника, но целую книгу. Только если я говорила: «Это тебе рано читать, подрасти ещё», она не настаивала и откладывала книгу в сторону.
Любимцем нашим стал Гайдар. Меня всегда удивляло его умение говорить в детской книге о самых главных, самых важных вещах. Он разговаривал с детьми всерьёз, без скидки на возраст, как с равными. Он знал, что дети ко всему подходят с самой большой меркой: смелость любят беззаветную, дружбу — безоглядную, верность — без оговорок. Пламя высокой мысли освещало страницы его книг. Как и Маяковский, он каждой строкой поднимал своего читателя, звал не к маленькому, комнатному, своему собственному счастью, но к счастью большому, всенародному, которое строится в нашей стране, — звал и учил бороться за это счастье, строить его своими руками.
Сколько разговоров бывало у нас после каждой книжки Гайдара! Мы говорили и о том, какая справедливая наша революция, и о том, как не похожа царская гимназия на нашу школу, и о том, что такое храбрость и дисциплина. У Гайдара эти слова наполнялись удивительно близким, осязаемым смыслом. Помню, особенно потрясло Зою и Шуру то, как Борис Гориков невольно погубил своего старшего друга, Чубука, только потому, что в разведке забыл об осторожности и самовольно ушёл купаться.
— Нет, ты только подумай: купаться ему захотелось, а Чубука схватили! — горячился Шура.
— И ведь Чубук подумал, что Борис его предал! Ты представь, как Борис потом мучился! Я даже не понимаю, как тогда жить, если знаешь, что из-за тебя товарища расстреляли!
Мы читали и перечитывали «Дальние страны», «Р. В. С. «, «Военную тайну». Как только выходила новая книжка Гайдара, я добывала её и приносила домой. И вам всегда казалось, что он разговаривает с нами о том, что волнует нас сегодня, вот в эту самую минуту.
— Мама, Гайдар где живёт? — спросила как-то Зоя.
— Кажется, в Москве.
— Вот бы посмотреть на него!
НОВОЕ ПАЛЬТО
Любимым Шуриным развлечением была игра с мальчишками в «казаки-разбойники». Зимой в снегу, летом в песке они рыли пещеры, разводили костры и с воинственными криками носились по улицам.
Однажды под вечер в передней раздался ужасающий грохот, дверь распахнулась, и на пороге появился Шура. Но в каком виде! Мы с Зоей даже вскочили со своих мест. Шура стоял перед нами с головы до ног перемазанный в глине, взлохмаченный, потный от беготни — но всё это нам было не в диковину. Страшно было другое: карманы и пуговицы его пальто были вырваны с мясом, вместо них зияли неровные дыры с лохматыми краями.
Я похолодела и молча смотрела на него. Пальто было совсем новое, только что купленное.
Всё ещё не говоря ни слова, я сняла с Шуры пальто и принялась его чистить. Шура стоял пристыжённый, и в то же время на лице его появилось выражение какой-то упрямой независимости. «Ну и пусть!» — словно говорил он всем своим видом. На него иногда находил такой стих, и тогда с ним трудно было сладить. Кричать я не люблю, а спокойно говорить не могла, поэтому я больше не смотрела на Шуру и молча приводила пальто в порядок. В комнате было совсем тихо. Прошло каких-нибудь пятнадцать-двадцать минут, они показались мне часами.
— Мама, прости, я больше не буду, — скороговоркой пробормотал у меня за спиной Шура.
— Мама, прости его! — как эхо, повторила Зоя.
— Хорошо, — ответила я, не оборачиваясь.
До поздней ночи я просидела за починкой злополучного пальто.
... Когда я проснулась, за окном было ещё темно. У изголовья моей кровати стоял Шура и, видимо, ждал, когда я открою глаза.
— Мама... прости... я больше никогда не буду, — тихо и с запинкой выговорил он. И хотя это были те же слова, что вчера, но сказаны они были совсем по-другому; с болью, с настоящим раскаянием.
— Ты говорила с Шурой о вчерашнем? — спросила я Зою, когда мы с ней остались одни в комнате.
— Говорила, — не сразу и, как видно, с чувством неловкости ответила она.
— Что же ты ему сказала?
— Сказала... сказала, что ты работаешь одна, что тебе трудно... что ты не просто рассердилась, а задумалась: как же теперь быть, если пальто совсем разорвалось?
«ЧЕЛЮСКИН»
— Помнишь, Шура, папа рассказывал тебе про экспедицию Седова? — говорю я.
— Помню.
— Помнишь, как Седов говорил перед отъездом: «Разве с таким снаряжением можно идти к полюсу! Вместо восьмидесяти собак у нас только двадцать, одежда износилась, провианта мало...» Помнишь?.. А вот, смотри, отправляется в Арктику ледокольный пароход. Чего там только нет! Ничего не забыли, обо всём подумали — от иголки до коровы.
— Что-о? Какая корова?
— А вот смотри: на борту двадцать шесть живых коров, четыре поросёнка, свежий картофель и овощи. Уж, наверное, моряки в пути голодны не будут.
— И не замёрзнут, — подхватывает Зоя, заглядывая через моё плечо в газету. — Смотри, сколько у них всего: и меховая одежда всякая, и спальные мешки — они тоже меховые, и уголь, и бензин, и керосин...
— И лыжи! — немного невпопад добавляет Шура. — Нарты — это такие сани, да? И научные приборы всякие. Вот снарядились!.. Ух, ружья! Это они будут белых медведей стрелять и тюленей.
Я никак не могла подумать, что «Челюскин» скоро станет главной темой наших разговоров. Газетные сообщения о его походе были не так уж часты, а может, они не попадались мне на глаза — только известие, с которым однажды примчался Шура, оказалось для меня совершенно неожиданным.
— Мама, — ещё с порога закричал встрёпанный, разгорячённый Шура, — «Челюскин»-то! Пароход, помнишь? Ты ещё мне рассказывала... Я сейчас сам слышал!..
— Да что? Что случилось?
— Раздавило его! Льдом раздавило!
— А люди?
— Всех выгрузили. Прямо на льдину. Только один за борт упал...
Я с трудом поверила. Но оказалось, что Шура ничего не спутал — об этом уже знала вся страна. 13 февраля («Вот, не зря говорят: тринадцатое — число несчастливое!» — горестно сказал Шура) льды Арктики раздавили пароход: их мощным напором разорвало левый борт, и через два часа «Челюскин» скрылся под водой.
За эти два часа люди выгрузили на лёд двухмесячный запас продовольствия, палатки, спальные мешки, самолёт и радиостанцию.
По звёздам определили, где находятся, связались по радио с полярными станциями чукотского побережья и тотчас начали сооружать барак, кухню, сигнальную вышку...
Вскоре радио и газеты принесли и другую весть: создана комиссия по спасению челюскинцев. И в спасательных работах немедля приняла участие вся страна: спешно ремонтировались ледоколы, снаряжались в путь дирижабли, аэросани. На мысе Северном, в Уэлене и в бухте Провидения самолёты готовились вылететь на место катастрофы. Из Уэлена двинулись к лагерю собачьи упряжки. Через океан вокруг света пошёл «Красин». Два других парохода поднялись до таких параллелей; где ещё не бывал в зимнее время ни один пароход, и доставили самолёты на мыс Олюторский.
Не думаю, чтобы в те дни нашёлся в стране человек, который не волновался бы, не следил затаив дыхание за судьбой челюскинцев. Но Зоя и Шура были поглощены ею безраздельно.
Я могла бы не слушать радио, не читать газет — дети знали всё до мельчайших подробностей и целыми часами горячо и тревожно говорили только об одном: что делают сейчас челюскинцы? Как себя чувствуют? О чём думают? Не боятся ли?
На льдине было сто четыре человека, в том числе двое детей. Вот кому неистово завидовал Шура!
— И почему им такое счастье? Ведь они ничего не понимают: одной и двух лет нет, а другая и вовсе в пелёнках. Вот если бы мне!..
— Шура, одумайся! Какое же это счастье? У людей такая беда, а ты говоришь — «счастье»!
Шура в ответ только машет рукой. Он вырезает из газет каждую строчку, относящуюся к челюскинцам. Рисует он теперь только Север: льды и лагерь челюскинцев — такой, каким он ему представляется.
Мы знали, что застигнутые страшной, внезапной катастрофой, челюскинцы не испугались и не растерялись. Это были мужественные, стойкие, настоящие советские люди. Ни у одного не опустились руки, все работали, продолжали вести научные наблюдения, и недаром газета, которую они выпускали, живя во льдах, называлась «Не сдадимся!».
Они мастерили из железных бочек камельки, из консервных банок — сковородки и лампы, из остатков досок вырезали ложки, окна в их бараке были сделаны из бутылей — на всё хватало и изобретательности, и смётки, и терпения. А сколько тонн льда перетаскали они не спине, расчищая аэродром! Сегодня расчистят, а назавтра снова повсюду вздыбятся ледяные хребты — и от упорной, тяжёлой работы не останется следа. Но челюскинцы знали: страна не оставит их в беде, им непременно придут на помощь.
И вот в начале марта («Прямо к Женскому дню!» — воскликнула при этом известии Зоя) самолёт Ляпидевского совершил посадку на льдине и перенёс женщин и детей на твёрдую землю. «Вот молодец Ляпидевский!» — то и дело слышала я.
Имя «Молоков» Зоя и Шура произносили с благоговением. В самом доле, дух захватывало при одной мысли о том, что делал этот удивительный лётчик. Чтобы ускорить спасение челюскинцев, он помещал людей в прикреплённую к крыльям люльку для грузовых парашютов. Он делал по нескольку рейсов в день. Он один вывез со льдины тридцать девять человек!
— Вот бы посмотреть на него! — вслух мечтал Шура.
Правительственная комиссия дополнительно отправила на спасение челюскинцев самолёты с Камчатки и из Владивостока. Но тут же стало известно, что лёд вокруг лагеря во многих местах треснул. Образовались полыньи, появились новые широкие трещины, лёд перемещался, торосился. В ночь после того, как улетели женщины и дети, разломило деревянный барак, в котором они жили. Самолёт Ляпидевского поспел вовремя!
Вскоре новая беда: ледяным валом снесло кухню, разрушило аэродром, на котором стоял самолёт Слепнева. Опасность подступала вплотную и с каждым днём, с каждым мгновением становилась всё более грозной. Весна брала своё. Шура встречал тёплые дни просто с ненавистью: «Опять это солнце! Опять с крыш Капает!» — возмущался он.
Но всё меньше людей оставалось на льдине, и наконец 13 апреля она совсем опустела — никого не осталось, никого! Последние шесть челюскинцев были вывезены на материк.
— Ну что, несчастливое число тринадцать? Несчастливое, да?! — торжествующе кричала Зоя.
— Ух, я только сейчас и отдышался! — от души сказал Шура.
Я уверена: если бы это их самих вывезли со льдины, они не могли бы радоваться больше.
Кончились два месяца напряжённого ожидания: ведь за жизнь каждого из тех, кто оставался на льдине, непрестанно тревожились все живущие в безопасности на твёрдой земле.
... Я много читала об арктических экспедициях. Анатолий Петрович интересовался Севером, и у него было немало книг об Арктике — романов и повестей. И я помнила из книг, прочитанных в детстве: если в повести рассказывалось о людях, затерявшихся во льдах, частыми их спутниками были озлобление, недоверие друг к другу, даже ненависть и звериное стремление прежде всего спасти свою жизнь, сохранить своё здоровье, хотя бы ценою жизни и здоровья недавних друзей.
Моим ребятам, как и всем советским детям, такое и в голову прийти не могло. Единственно возможным, единственно мыслимым было для них то, как жили долгих два месяца сто челюскинцев, затерянных во льдах: их мужество и стойкость, их товарищеская забота друг о друге. Да и могло ли быть иначе!
... В середине июня Москва встречала челюскинцев. Небо было пасмурное, но я не помню более яркого, более сияющего дня! Ребята с самого утра потащили меня на улицу Горького. Казалось, сюда сошлись все москвичи: на тротуарах негде было ступить. В небе кружили самолёты, отовсюду — со стен домов, из окон и огромных витрин — смотрели ставшие такими знакомыми и дорогими лица: портреты героев-челюскинцев и их спасителей — лётчиков. Повсюду алые и голубые полотнища, горячие слова приветствий и цветы, цветы без конца.
И вдруг со стороны Белорусского вокзала показались машины. В первую секунду даже нельзя было догадаться, что это автомобили: приближались какие-то летящие сады, большие яркие цветники на колёсах! Они пронеслись к Красной площади. Ворох цветов, огромные букеты, гирлянды роз — среди всего этого едва различаешь смеющееся, взволнованное лицо, приветственный взмах руки. А с тротуаров, из окон, с балкона и крыш люди бросают ещё и ещё цветы, и в воздухе, как большие бабочки, кружатся сброшенные с самолёта листовки и сплошным шелестящим слоем покрывают мостовую.
— Мама... мама... мама... — как заклинание, твердил Шура.
Какой-то высокий загорелый человек подхватил его и посадил на своё крепкое, широкое плечо, и оттуда, сверху, Шура кричал, кажется, громче всех.
— Какой счастливый день! — задыхающимся голосом сказала Зоя, и, думаю, это были те самые слова, которые про себя или вслух произносили в эти минуты все.
СТАРШАЯ И МЛАДШИЙ
Зоя всегда разговаривала с Шурой, как старшая с младшим, и ему частенько от неё доставалось:
— Шура, застегнись!.. Где же пуговица? Опять оторвал? На тебя не напрашиваешься. Ты их нарочно отрываешь, что ли? Придётся тебе самому научиться пуговицы пришивать.
Шура был в полном её ведении, и она заботилась о нём неутомимо, но строго. Иногда, рассердившись на него за что-нибудь, она называла его «Александр» — это звучало гораздо внушительнее, чем обычное «Шура»:
— Александр, опять у тебя коленки продрались? Сними чулки сейчас же!
Александр покорно снимал чулки, и Зоя сама штопала все дырки. Брат и сестра были неразлучны: в одно время ложились спать, в один час вставали, вместе шли в школу и вместе возвращались. Хотя Шура был без малого на два года моложе Зои, они были почти одного роста. При этом Шура был сильнее: он рос настоящим крепышом, а Зоя так и оставалась тоненькой и с виду хрупкой. По совести говоря, она подчас надоедала ему своими замечаниями, но бунтовал он редко, и ему даже в самом бурном споре в голову не приходило толкнуть или ударить её. Почти всегда и во всём он слушался её беспрекословно.
Когда они перешли в четвёртый класс, Шура сказал:
— Ну, теперь всё. Больше я с тобой на одну парту не сяду. Хватит мне сидеть с девчонкой!
Зоя спокойно выслушала и ответила твёрдо:
— Сидеть ты будешь со мной. А то ещё начнёшь на уроках пускать голубей, я тебя знаю.
Шура ещё пошумел, отстаивая свою независимость. Я не вмешивалась.
Вечером 1 сентября я спросила:
— Ну, Шура, с кем из мальчиков ты теперь сидишь?
— Того мальчика зовут Зоя Космодемьянская, — хмурясь и улыбаясь, ответил Шура. — Разве её переспоришь!
... Меня очень интересовало, какова Зоя с другими детьми. Я видела её только с Шурой да по воскресеньям с малышами, которых немало бегало по нашему Александровскому проезду.
Малыши тоже, как Шура, любили её и слушались. Когда она возвращалась из школы, они издали узнавали её по быстрой походке, по красной шерстяной шапочке и бежали навстречу с криками, в которых можно было разобрать только:
«Почитай! Поиграй! Расскажи!» Зоя передавала портфель с книгами Шуре и, весёлая, оживлённая, с проступившим от ходьбы и мороза румянцем на смуглых щёках, широко раскидывала руки, стараясь забрать в охапку побольше теснящихся к ней детишек.
Иногда, выстроив их по росту, она маршировала с ними и пела песню, которой выучилась в Осиновых Гаях: «Смело, товарищи, в ногу», или другие песни, которые пели в школе. Иногда играла с малышами в снежки, но снисходительно, осторожно, как старшая. Шура за игрой в снежки забывал всё на свете: лепил, кидал, увёртывался от встречных выстрелов, снова бросался в бой, не давая противникам ни секунды передышки.
— Шура, — кричала Зоя, — они же маленькие!.. Уходи отсюда! Ты не понимаешь, с ними нельзя так.
Потом она катала малышей на салазках и всегда следила, чтобы каждый был как следует застёгнут и укутан, чтобы никому не задувало в уши и снег не набивался в валенки.
А летом, возвращаясь с работы, я раз увидела её у пруда, окружённую гурьбой детишек. Она сидела, обхватив руками колени, задумчиво глядела на воду и что-то негромко рассказывала. Я подошла ближе.
— ...Солнце высоко, колодец далеко, жар поднимает, пот выступает, — услышала я. — Смотрят — стоит козье копытце, полно водицы. Иванушка и говорит: «Сестрица Алёнушка, напьюсь я из копытца!» — «Не пей, братец, козлёночком станешь»...
Я тихонько отошла, стараясь не хрустнуть веткой, не потревожить детей: они слушали так серьёзно, на всех лицах было такое горестное сочувствие непослушному, незадачливому Иванушке, и Зоя так точно и выразительно повторяла печальные интонации бабушки Мавры Михайловны...
Но какова Зоя со сверстниками?
Одно время она ходила в школу с Леной, девочкой из соседнего дома. И вдруг я увидела, что они уходят и возвращаются порознь.
— Ты поссорилась с Леной?
— Нет, не поссорилась. Только я дружить с ней не хочу.
— Отчего же?
— Знаешь, она мне всё говорит: «Неси мой портфель». Я иногда носила, а потом раз сказала: «Сама неси, у меня свой есть». Понимаешь, если бы она больная была или слабая, я бы понесла, мне не трудно. А так зачем же?
— Зоя правильно говорит: Ленка — барыня, — скрепил Шура.
— Ну, а с Таней почему перестала дружить?
— Она очень много врёт, что ни скажет, потом всё окажется неправда. Я ей теперь ни в чём не верю. А как же можно дружить, если не веришь? И потом, она несправедливая. Играем мы в лапту, а она жульничает. И когда считаемся, так подстраивает, чтоб не водить.
— А ты бы ей сказала, что так нехорошо делать.
— Да Зоя ей сколько раз говорила! — вмешивается Шура. — И все ребята говорили, и даже Лидия Николаевна, да разве ей втолкуешь!
Меня беспокоило, не слишком ли Зоя строга к другим, не сторонится ли она детей. Выбрав свободный час, я зашла к Лидии Николаевне.
— Зоя очень прямая, очень честная девочка, — задумчиво сказала, выслушав меня, Лидия Николаевна. — Она всегда напрямик говорит ребятам правду в глаза. Сначала я побаивалась, не восстановит ли она против себя товарищей. Но нет, этого не случилось. Она любит повторять: «Я за справедливость», — и ребята видят, что она и в самом деле отстаивает то, что справедливо... Знаете, — с улыбкой добавила Лидия Николаевна, — на днях меня один мальчик во всеуслышание спросил: «Лидия Николаевна, вот вы говорите, у вас любимчиков нет, а разве вы Зою Космодемьянскую не любите?» Я, признаться, даже опешила немного, а потом спрашиваю его: «Тебе Зоя помогала решать задачи?» — «Помогала», — отвечает. Обращаюсь к другому: «А тебе?» — «И мне помогала». — «А тебе? А тебе?» Оказалось, почти для всех Зоя сделала что-нибудь хорошее. «Как же её не любить?» — спрашиваю. И они все согласились со мной... — Нет, они её любят... И, знаете, уважают, а это не про всякого скажешь в таком возрасте.
Лидия Николаевна ещё помолчала.
— Очень упорная девочка, — снова заговорила она. — Ни за что не отступит от того, что считает правильным. И ребята понимают: она строга со всеми, но и с собой тоже; требовательна к ним, но и к себе. А дружить с нею, конечно, не легко. Вот с Шурой другое дело, — Лидия Николаевна улыбнулась, — у того много друзей. Только вот заодно пожалуюсь: не даёт проходу девочкам — и дразнит и за косы дёргает. Вы с ним об этом непременно поговорите.
СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ
В траурной рамке — лицо Кирова. Мысль о смерти несовместима с ним — такое оно спокойное, открытое, ясное.
Горе было поистине всеобщим, народным — такое Зоя и Шура видели и переживали впервые. Всё это глубоко потрясло их и надолго запомнилось: неиссякаемая человеческая река, медленно и скорбно текущая к Дому Союзов, и слова любви и горя, которые мы слышали по радио, и исполненные горечи газетные листы, и голоса и лица людей, которые могли в эти дни говорить и думать только об одном...
— Мама, — спрашивает Зоя, — а помнишь, в Шиткине убили коммунистов?
И я думаю: ведь она права. Права, что вспомнила Шиткино и гибель семи деревенских коммунистов. Старое ненавидит новое лютой ненавистью. Вражеские силы и тогда сопротивлялись, били из-за угла — и вот сейчас они ударили подло в спину. Ударили по самому дорогому и чистому. Убили человека, которого уважал и любил весь народ.
Ночью я долго лежала с открытыми глазами. Было очень тихо. И вдруг я услышала шлёпанье босых ног и шёпот:
— Мама, ты не спишь? Можно к тебе?
— Можно, иди.
Зоя примостилась рядом и затихла. Помолчали.
— Ты почему не спишь? — спросила я. — Поздно уже, наверно, второй час.
Зоя ответила не сразу, только крепче сжала мою руку. Потом сказала:
— Мама, я напишу заявление, чтобы меня приняли в пионеры.
— Напиши, конечно.
— А меня примут?
— Примут непременно. Тебе уже одиннадцать лет.
— А Шура как же?
— Ну что ж, Шура поступит в пионеры немного погодя.
Опять помолчали.
— Мама, ты мне поможешь написать заявление?
— Лучше сама напиши. А я проверю, нет ли ошибок.
И снова она лежит совсем тихо и думает о чём-то, и я слышу только её дыхание. В ту ночь она так и уснула рядом со мной. Накануне того дня, когда Зою должны были принимать в пионеры, она опять долго не могла уснуть.
— Опять не спишь? — спросила я.
— Я думаю про завтрашний день, — негромко отозвалась Зоя.
Назавтра (я как раз рано пришла домой и за столом проверяла тетради) она прибежала из школы взволнованная, раскрасневшаяся и тотчас ответила на мой безмолвный вопрос:
— Приняли!
«А КТО У НАС БЫЛ!»
Прошло некоторое время, и однажды, вернувшись с работы, я застала Зою и Шуру в необычном возбуждении. По их лицам я сразу поняла, что произошло что-то из ряда вон выходящее, но не успела ничего спросить.
— А кто у нас был!.. Молоков! Молоков к нам в школу приезжал! — наперебой закричали они. — Понимаешь, Молоков, который челюскинцев спасал! Он больше всех спас, помнишь?
Наконец Шура начал рассказывать более связно:
— Понимаешь, сначала он был на сцене, и всё было торжественно, но как-то не так... не так хорошо... А потом он сошёл вниз, и мы все его окружили, и тогда получилось очень-очень хорошо! Он знаешь как говорил? Просто, ну совсем просто! Он знаешь как сказал?.. «Многие мне пишут по такому адресу: «Москва, Молокову из Арктики». А я вовсе не из Арктики, я живу в селе Ирининском, а в Арктику летал только за челюскинцами». И потом ещё сказал: «Вот вы думаете, что есть такие, какие-то особенные герои-лётчики, ни на кого не похожие. А мы самые обыкновенные люди. Посмотрите на меня — разве я какой-нибудь особенный?» И правда, он совсем-совсем простой... Но всё равно необыкновенный! — неожиданно закончил Шура. И добавил с глубоким вздохом: — Вот и Молокова повидал!
И видно было: человек дождался часа, когда сбылась его заветная мечта.
ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Уже давно мы встречаем на улице юношей и девушек в перепачканных землёй и рыжей подсыхающей глиной спецовках, в резиновых сапогах и широкополых шахтёрских шляпах. Это строители метро. Они озабоченно перебегают от шахты к шахте или после смены неторопливо шагают посреди улицы. И, глядя на них, не замечаешь запачканных мешковатых спецовок, а видишь только лица — удивительные лица, на которых сквозь усталость светятся радость и гордость.
На людей в таких спецовках смотрят с уважением и интересом: первые строители метрополитена — это не шутка! Наверно, не только в Москве, но и в Осиновых Гаях и в далёком Шиткине люди каждый день ищут в газете сообщения о том, как строится наше метро. И вот помню, в весенние дни 1935 года мы узнали: метро готово!
— Мама, мы в воскресенье всем отрядом пойдём смотреть метро! — сообщила Зоя. — Пойдёшь с нами?
В воскресенье утром я выглянула в окно: лил дождь. Я была уверена, что экскурсию в метро отложат, но ребята вскочили и стали торопливо собираться. Ясно было, что им в голову не приходит отказаться от затеянного.
— А погода? — нерешительно сказала я.
— Подумаешь, дождик! — беспечно отозвался Шура. — Польёт, польёт и перестанет.
У трамвайной остановки уже собралось много ребят. Дождь, по-моему, даже веселил их: они кричали, шумели и весело приветствовали нас.
Потом мы все забрались в трамвай — в вагоне сразу стало шумно и тесно — и вскоре были уже у Охотного ряда.
Ступив на мраморный пол вестибюля, ребята тотчас притихли, словно по команде: тут уж некогда было даже разговаривать — так много надо было рассмотреть!
Мы чинно спустились по широким ступеням и невольно приостановились: дальше начинались настоящие чудеса! Ещё секунда — и мы с Зоей и Шурой первыми ступаем на убегающую вниз рубчатую ленту. Шура шумно вздыхает. Нас неуловимо, плавно сносит куда-то. Рядом скользят чёрные, чуть пружинящие под рукой перила. А за ними, за гладким блестящим барьером бежит живая дорожка другого эскалатора, но уже не вниз, а вверх — навстречу нам. Так много людей, и все улыбаются. Кто-то машет нам рукой, кто-то окликает нас, но мы едва замечаем их: мы слишком поглощены своим путешествием.
И вот под ногами снова твёрдый пол. Как красиво кругом! Там, наверху, хлещет холодный дождь, а здесь...
Я как-то слышала об одной старой сказительнице: всю свою жизнь она прожила в родной деревне — и вот её привезли в Москву, она увидела трамваи, автомобили, самолёты. Окружающие были уверены, что всё это поразит её. Но нет, она всё приняла как должное. Ведь она давно свыклась со сказочным ковром-самолётом и сапогами-скороходами, и то, что она увидела, было для неё просто осуществлением сказки.
Нечто похожее случилось и с ребятами в метро. Восхищение, но вовсе не удивление было написано на их лицах, как если бы они воочию увидели знакомую и любимую сказку.
Мы вышли на платформу — и вдруг в конце её, в полумраке туннеля, возник глухой, нарастающий гул, вспыхнули два огненных глаза... Ещё секунда — и у платформы мягко останавливается поезд: длинные светлые вагоны с красной полосой по нижней кромке широких зеркальных окон. Сами собою открываются двери, мы входим, садимся и едем. Нет, не едем — мчимся!
Шура приникает к окну и считает огоньки, мгновенно проносящиеся мимо. Потом поворачивается ко мне.
— Ты не бойся, — говорит он, — в метро аварий не бывает. Об этом даже написано в «Пионерской правде». Тут есть такие автостопы и светофоры — они называются «электрические сторожа»...
И я понимаю: этими словами он успокаивает не только меня, но немножко — самую малость! — и себя тоже.
Мы побывали в этот день на всех станциях. Всюду мы выходили, поднимались на эскалаторе наверх и потом снова спускались. Мы смотрели и не могли насмотреться: аккуратные плитки изразцов, точно пчелиные соты, на станции имени Дзержинского, огромный подземный дворец Комсомольской площади, серый, золотистый, коричневый мрамор — всё было чудесно.
— Смотри, мама! Тут и правда красные ворота сделаны! — воскликнул Шура, указывая на ниши в стене станции «Красные ворота».
Нас с Зоей совершенно покорили наполненные светом колонны на станции «Дворец Советов»! вверху, сливаясь с потолком, они раскрывались, как какие-то удивительные, гигантские лилии. Никогда я не думала, что камень может казаться таким мягким и излучать столько света!
Вместе с нами был темноглазый круглолицый мальчик. («Вожатый первого звена», — пояснила Зоя, заметив, как я прислушиваюсь к тому, что он рассказывает.) Сразу чувствовалось, что он из тех ребят, которые интересуются всем на свете, запоминают слово в слово всё, о чём читают.
— Тут мрамор со всей страны, — сообщает он. — Вот это — крымский, а это — карельский. А на Кировской станции эскалатор в шестьдесят пять метров. Давайте сосчитаем, сколько времени мы спускаемся.
Они с Шурой тут же поднялись наверх и снова спустились.
— Давайте ещё сосчитаем, сколько человек спускается зараз! — предложил Шура.
Минуту они стояли неподвижно, сосредоточенно наморщив лбы и беззвучно шевеля губами.
— У тебя сколько получилось? Сто пятьдесят? А у меня сто восемьдесят.
Считай, что сто семьдесят. Десять тысяч человек в час — вот это здорово! А если бы он был неподвижный? Вот давка была бы! А за постройку эскалатора иностранцы знаете, сколько спрашивали? — без передышки говорил вожатый первого звена. — Я забыл сколько, только очень много — по-нашему миллион золотых рублей. А мы взяли и сделали сами, на наших заводах. Знаете, какие заводы работали? Московский Владимира Ильича, в Ленинграде Кировский, потом ещё в Горловке, в Краматорске...
... Мы вернулись домой под вечер, едва не падая от усталости, но полные впечатлений, и ещё несколько дней все вспоминали чудесное подземное царство.
Прошло не так уж много времени — и метро стало привычным. То и дело слышалось: «Поеду на метро», «Встретимся у метро». И всё же, завидев в вечерних сумерках рубиновую светящуюся букву «М», я вспоминаю день, когда мы с детьми побывали в метро впервые.
«ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ, СИНИЕ НОЧИ!»
Обычно, когда начинались летние каникулы, Зоя и Шура уезжали в пионерский лагерь. Они писали оттуда восторженные письма: о том, как ходят в лес по ягоды, как купаются в полноводной и быстрой реке, как учатся стрелять. Помню, раз Шура даже прислал мне свою мишень. «Видишь, как я научился? — писал он с гордостью. — Ты не смотри, что не все пули в яблочке. Это не беда. Главное, кучность хорошая. Видишь, как легли тесно, в кучку!» И в каждом письме они просили: «Мама, приезжай, посмотри, как мы живём».
Однажды я приехала к ним в воскресенье утром, а уехала последним поездом — ребята не отпускали меня. Они водили меня по лагерю, показывали всё своё хозяйство: грядки с огурцами и помидорами, цветочные клумбы, «гигантские шаги», волейбольную площадку. Шуру то и дело тянуло поближе к большой белой палатке, в которой жили старшие мальчики: младшие спали в доме, и это безмерно его огорчало.
— Никакого самолюбия у него нет! — неодобрительно сказала мне Зоя. — Куда Витя Орлов, туда и он...
Витя Орлов оказался председателем совета отряда. Это был рослый энергичный мальчик, на которого наш Шура смотрел почти с благоговением: Витя лучше всех играл в баскетбол, лучше всех стрелял, отлично плавал и обладал ещё многими достоинствами... Не один Шура — десятка два малышей так и ходили за Витей по пятам. А у Вити для каждого находилось какое-нибудь важное поручение. «Сходи к дежурному, скажи, что можно горнить на обед», — говорил он. Или: «Ну-ка, подмети дорожки. Смотри, как насорили!» Или: «Полей клумбы. Третье звено воды пожалело — погляди, цветам жарко». И малыш со всех ног кидался исполнять поручение.
Шура очень хотелось побыть со мной — мы так давно не видались: ведь родителям разрешалось приезжать только раз в месяц. Но в то же время ему не хотелось отставать от Вити. — он явно был одним из первых Витиных адъютантов.
— Понимаешь, — с жаром рассказывал он, — Витя, когда стреляет, всегда только в яблочко попадает! Понимаешь, пуля в пулю! Это он меня стрелять научил. А плавает как! Ты бы видела: и брассом, и кролем, и сажёнками — ну, как ты только хочешь!
Ребята сводили меня на речку, и я с удовольствием увидела, что оба они стали хорошо плавать. Шура «выставлялся» передо мной как только мог: долго лежал на воде без движения, потом плыл, работая только одной рукой, потом — держа в руке «гранату». Для его десяти лет это было, по совести, совсем неплохо.
Потом были соревнования в беге, и Зоя пробежала расстояние в сто метров быстрее всех: она бежала легко, стремительно и как-то очень весело, словно это были не настоящие соревнования со строгим судьёй и отчаянными болельщиками, а просто игра.
Минута наивысшего торжества настала для Шуры, когда стемнело.
— Шура! Космодемьянский! — раздался голос Вити Орлова. — Пора зажигать костёр!
И я не успела оглянуться, как Шуру, только что сидевшего рядом, точно ветром сдуло.
Один из самых младших, Шура тем не менее был в лагере костровым. Разжигать костёр его давно, ещё в Гаях, научил отец, и он владел этим искусством в совершенстве: сучья находил самые сухие, укладывал их как-то особенно ловко, так что занимались они мгновенно и горели жарко и весело. Но небольшой костёр, который Шура иногда разводил неподалёку от нашего дома, конечно, не мог сравниться с тем, который должен был вспыхнуть сейчас на большой лагерной площадке.
Шура весь ушёл в работу. Тут уж он забыл и о моём приезде и обо всём на свете. Он таскал сучья, укладывал, готовил запас, чтоб был под рукой. И когда совсем стемнело и ребята уселись вокруг, он, по знаку Вити, чиркнул спичкой. Тотчас послушно вспыхнули тонкие сухие ветки, по чёрному ломкому хворосту с неуловимой быстротой поползли огненные змейки — и вдруг, далеко отбрасывая обнимавшую нас темноту, вскинулось вверх ослепительно-яркое пламя. Мне давно надо было уехать, почти никого из родителей уже не осталось в лагере, но Зоя крепко держала меня за руку, повторяя:
— Ну пожалуйста, останься! Подожди, посиди ещё. Костёр — это так хорошо! Вот сама увидишь. Ведь до станции близко, и дорога прямая. Мы тебя проводим всем звеном, нам Гриша позволит.
И я осталась. Я сидела вместе с детьми у костра и смотрела то на огонь, то на лица ребят, освещённые розовым отблеском смеющегося, неугомонного пламени.
— Ну, о чём сегодня поговорим? — сказал вожатый, которого все ребята называли просто Гришей.
И я сразу поняла: тут не готовят особой программы для костра, тут просто беседуют, разговаривают по душам, потому что когда же и поговорить, как не в этот тихий час, когда за плечами, чутко прислушиваясь, стоит прозрачная синь тёплого летнего вечера, и нельзя отвести глаз от костра, и смотришь, смотришь, как наливаются расплавленным золотом угли и вновь тускнеют под пеплом, и летят, и гаснут несчётные искры...
— Я вот что думаю, — предложил Гриша, — давайте сегодня попросим Надиного отца рассказать нам...
Я не расслышала, о чём именно рассказать — последние слова Гриши заглушил хор голосов. «Да, да! Расскажите! Просим!» — неслось со всех сторон, и я поняла, что рассказчика ребята любят, его не раз слушали и готовы слушать ещё и ещё.
— Это отец Нади Васильевой, — быстро пояснила мне Зоя. — Он, мама, замечательный! Он в дивизии у Чапаева был. И Ленина слушал.
— Я уж столько вам рассказывал, надоело, наверно, — услышала я добродушный низкий голос.
— Нет, нет! Не надоело! Ещё расскажите!
Надин отец придвинулся поближе к огню, и я увидела круглую бритую голову, загорелое широкое лицо и широкие, должно быть, очень сильные а добрые руки, и на гимнастёрке — потускневший от времени орден Красного Знамени. Рыжеватые подстриженные усы не скрывали добродушной усмешки; глаза из-под густых выцветших бровей смотрели зорко и весело.
Он был из первых комсомольцев, Надин отец. Он слышал речь Ленина на Третьем съезде комсомола и, когда стал рассказывать об этом, вокруг стало так тихо, что был слышен малейший шорох, треск каждой ветки, рассыпавшейся в костре.
— Владимир Ильич нам не доклад читал. Он с нами разговаривал просто, как с друзьями. Он нас заставил подумать о том, что нам тогда и в голову не приходило. Как сейчас помню, спросил он: «Что сейчас самое главное?» И мы стали ждать ответа. Мы думали, он скажет: воевать! Разбить врага! Ведь двадцатый год был. Мы все были кто в шинелях, кто в бушлатах, с оружием в руках: одни — Только что из боя, другие — завтра в бой! И вдруг он говорит:
«Учиться! Самое главное — учиться!»
В голосе Надиного отца звучали и нежность и удивление, словно он снова переживал ту далёкую минуту. Он рассказывал о том, как тогда взрослые, двадцатилетние люди сели за парту, взялись за букварь, чтобы выполнить наказ Ленина. Рассказывал о том, как прост и скромен был Ильич, как дружески, тепло беседовал с делегатами, как умел разрешить простым и ясным словом самые недоуменные вопросы, осветить человеку самое заветное, зажечь, наполнить силой для самого трудного дела, раскрыть глаза на самое прекрасное — на грядущий день человечества, ради которого надо было и воевать и учиться...
— Владимир Ильич говорил, что то поколение, которому сейчас пятнадцать лет, и увидит коммунистическое общество и само будет строить это общество... И важно, чтобы каждый из вас постоянно, изо дня в день делал своё дело — пусть маленькое, пусть самое простое, — но чтобы это была часть общего великого дела...
... Не раз, глядя на своих ребят, я думала: как сложилась бы их жизнь прежде, в то глухое, тёмное время, когда росла я сама? С каким трудом давалось бы всё, как тяжело было бы мне воспитывать детей! А теперь воспитываю их не одна я, мать: воспитывает всё, что они видят и слышат вокруг. И кто знает, в какое пламя разгорится в будущем искра от этого лагерного костра? Какие чувства, какие стремления посеял сегодня вечером в сердцах ребят этот человек, знавший Чапаева, слушавший Ленина? Неторопливо он рассказывал обо всём, что припомнилось ему из далёкого и славного прошлого, а потом вдруг сказал:
— А теперь давайте споём!
Ребята зашевелились, словно очнувшись, потом наперебой стали предлагать:
— «Юность»!
— Чапаевскую!
И вот полилась в темноту задумчивая мелодия песни, которую в те дни пели повсюду;
Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молния блистала,
И непрерывно гром гремел...
Потом запели песню первых пионерских лет;
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы, — пионеры, дети рабочих.
Близится эра светлых годов,
Клич пионера — «Всегда будь готов!».
И ещё и ещё — песня за песней. Зоя тесно прижалась к моему плечу и изредка посматривала в лицо мне взглядом заговорщицы: «Не жалеешь, что осталась? Видишь, как хорошо!»
Незадолго до того, как ребятам надо было строиться на вечернюю линейку, Зоя потянула Шуру за руку:
— Пора! Идём...
Зашептались и ещё мальчики и девочки, сидевшие неподалёку, и тихо, по одному стали отходить от костра. Я тоже хотела подняться, но Зоя прошептала:
«Нет, нет, ты сиди. Это только наше звено. Вот увидишь, что будет».
Немного погодя все ребята строем пошли на линейку. Я шла следом и вдруг услыхала:
— Вот молодцы! Кто это сделал? Как красиво!
Посреди линейки, у подножья мачты с флагом светилась большая пятиконечная звезда. Я не сразу поняла, как это сделано, но тут же услышала:
— Из светляков выложили. Видишь — зелёные огоньки!
Вожатые звеньев отдали рапорты: «День прошёл спокойно!» Флаг спустили, и горн протяжно запел: «Спа-а-ать, спа-ать по пала-аткам!»
Зоя и Шура подошли ко мне, лица у обоих сияли.
— Это наше звено придумало со звездой. Правда, красиво? Только знаешь, мамочка, Гриша говорит, чтобы мы тебя не провожали. Надин папа тоже идёт на поезд, тебе с ним не страшно будет.
Я распрощалась с ними, и мы с Надиным отцом пошли на станцию. Огни её видны были от самого лагеря, дорога и в самом деле прямая и короткая, и страшно мне действительно не было. —
— Хороший народ! — сказал мой спутник. — Люблю с ними разговаривать, замечательно слушают...
Издали нас окликнул паровозный гудок, и мы ускорили шаги.
... Пламя лагерного костра потом освещало ребятам всю зиму. Нет-нет и снова вспомнится лагерь, беседа у огня, звезда из светляков. Эти воспоминания вспыхивали и в школьных тетрадках, в сочинениях на вольную тему.
«У костра хорошо думается, — писала Зоя в 1935 году в сочинении, которое называлось «Как я провела лето». — Хорошо у костра слушать рассказы, а потом петь песни. После костра ещё больше понимаешь, как славно жить в лагере, и ещё больше хочешь дружить с товарищами».
ДНЕВНИКИ
Кто из нас в детстве не вёл дневника! Вёл его и девятилетний Шура. Но я никак не могла читать этот дневник без смеха. Обычно Шура писал так:
«Сегодня встал в восемь часов. Поел, попил и пошёл на улицу. Подрался с Петькой». Или: «Сегодня встал, поел, попил и пошёл гулять. Сегодня ни с кем не дрался». Разница была только в заключении: «Подрался с Петькой», «Подрался с Витькой», «Ни с кем не дрался». В остальном записи походили друг на друга как две капли воды.
Зоя относилась к дневнику добросовестно и серьёзно, как ко всякому делу, за которое бралась: записывала часто и события излагала подробно. У меня сохранился её дневник за весну и лето 1936 года.
Я уже говорила: на время летних каникул дети уезжали в пионерский лагерь. Им было там интересно и весело, но навещать их мне приходилось редко, и мы, как всегда, расставаясь, скучали друг без друга. И поэтому мечтали о том, как соберёмся и поедем на лето к дедушке с бабушкой в Осиновые Гаи. Нас давно звали туда, и нам так хотелось провести лето всем вместе! В 1936 году наша мечта сбылась: думать о поездке в Гаи мы стали ещё весной. Вот от этой поры и сохранилась у меня тонкая ученическая тетрадка — Зоин дневник.
«1 Мая — праздник весёлого счастья! Утром, полвосьмого, мама пошла на демонстрацию. Погода была солнечная, но дул ветер. Когда я проснулась, у меня было хорошее настроение. Быстро убралась, покушала и пошла к трамваю смотреть на демонстрантов, которые идут на Красную площадь. Целый день была на улице, ходила в магазин за конфетами, на поляне бегала и играла. Потом пошёл дождь. Когда мама пришла с демонстрации, начался наш детский вечер. На нём раздавали подарки.
3 мая. Мама сегодня не работала, и я была очень рада. В школе по диктанту получила «хорошо». Но зато по литературе и арифметике — «отлично». Вообще день прошёл хорошо.
12 мая. В девятом часу утра пошла в магазин за молоком и хлебом. Мама купила этажерку. В комнате сразу стало светло и красиво. Этажерка сделана из прутиков, и она красивая. Она мне сразу понравилась.
Настроение у меня было странное, хотелось гулять по улице, бегать, шалить. Но вот, к вечеру стали делить огород. Мне досталась земля под нашим окном. Я свой огород вспахала. И мечта моя: мама купит разных семян — цветочных и овощных, и тогда будет мой огород на славу!
24 мая. Завтра начнутся испытания. Было тёплое, свежее утро. Мама сказала, что купить в магазине, и ушла на работу. Я встала, убрала всю комнату, но тут пришла мама: она быстро освободилась нынче. И мы пошли за молоком, потом за керосином. Мы любим ходить вместе за чем-нибудь. К полудню стало ещё жарче. Нельзя было нигде сидеть — только в тени. Принесли мою «Пионерку», как я называю «Пионерскую правду».
Нет времени читать книги, но читать «Пионерку» я нахожу время. Сегодня в ней напечатано, что в Ростове открылся Дворец пионеров. Очень хороший. В самом лучшем здании. Там восемьдесят комнат — куда хочешь, туда и иди. Там есть игрушечная телефонная станция. А в другой комнате включишь рубильник — и два трамвая понесутся по кругу. Трамваи, конечно, игрушечные, но совсем как настоящие. И ещё в «Пионерке» сказано, что скоро во Дворце будет маленькое метро, как московское, но только маленькое. И тогда те ребята, которые никогда не были в Москве, всё-таки смогут увидеть метро.
И, конечно, в «Пионерке» много про испытания. Написано: «Отвечайте спокойно, уверенно, чётко!» Испытания! Испытания!.. Я только и думаю о них. Учу уроки и готовлюсь. Главное, не бояться учителя и ассистентов, которые будут присутствовать. И я сдам, непременно сдам испытания на «отлично» и не ниже «хорошо».
11 июня. Ой, сегодня нам скажут, кто как сдал испытания, выдадут табели и будут премировать...
Встала я в половине девятого и пошла на утренник. Все ребята чистенькие и нарядно одетые. И вот начался торжественный доклад нашего заведующего учебной частью. В зале тишина. На столе, покрытом красным полотнищем, лежат красивые книги. Их дадут отличникам. И вот вызывают меня: испытания я сдала по русскому и арифметике «отлично», по естествознанию и географии — «хорошо». У Шуры отметки тоже хорошие. Меня вызывают и дарят мне самую хорошую книгу — басни Крылова!
12 июня. В 10 часов 30 минут мы поехали в сад имени Зуева. Дождались автобуса и поехали. А приехав, пошли смотреть замечательный кинофильм «Родина зовёт». Был у нас и спектакль. Потом мы гуляли по саду, катались с гор, ходили в библиотеку. Потом нас угостили пирожным, и мы поехали домой.
26 июня. С самого утра не хотелось ничего делать. Кое-как встала и принялась за дело. Мама работала за полночь и ещё спала. Чтобы не мешать ей отдохнуть, мы с Шурой пошли гулять. Был ветер, но сильно грело солнышко. Вода в пруду была как парное молоко, тёплая, чистая и приятная. Искупавшись, мы вылезли на берег и стали сушиться на травке. После купанья нам захотелось чего-то кисленького, и мы пошли в сад. Там мы стали собирать маленькие кислушки-яблоки.
Вдруг часов в семь-восемь приехал Слава — наш двоюродный брат. Он на пять лет старше меня, но мы с ним дружим. Я показала ему басни И. Крылова, которые мне подарили в школе. И ещё показывала ему папку с Шуриными рисунками. Он очень их хвалил.
Все дни я только и думаю о деревне. И наконец это сбылось.
2 июля. Весь вчерашний день прошёл в приготовлениях, и мы даже не спали всю ночь. И вот в половине пятого утра мы (то есть я, Шура, Слава и мама) пошли к трамвайной остановке. Мне как-то было грустно, что с нами не едет мама, и в то же время весело, что я еду в деревню. Я ведь в ней не была пять лет!
На поезде мы ехали целые сутки. На станции сели на лошадь и поехали в Гаи (так называется наша деревня). Когда мы приехали, то Слава постучался в дверь, а дедушка сказал: «Входи уж!» Он думал, что это тракторист Васятка зашёл в гости. У бабушки было колотьё, но когда мы приехали, то она была очень рада и боль перестала. Она нас кормила блинами и кислым и пресным молоком. После этого я ходила купаться, играла с девочками, а вечером в избе-читальне встретила свою давно знакомую и хорошую подругу Маню. День прошёл хорошо: мы весело играли и дышали чистым воздухом. Легла спать в кухне на дедушкиной кровати.
7 июля. Я гуляю, бегаю, помогаю бабушке в работе. Мне приятно выполнять её указания. Я хожу смотреть за курами на пшеницу, купаюсь три раза в день, хожу в библиотеку. Прочла много интересных книг: «Гулливер у лилипутов», «Ревизор» Гоголя, «Бежин луг» Тургенева и много других.
Бабушка нас очень вкусно кормит: яйцами, жареными цыплятами, блинами; на базаре мы покупаем огурцы, ягоды — смородину, вишню. Но бывают у нас и неприятности. Однажды (не помню какого числа) Шура потерял свою куртку. Ходили искать, да не нашли.
А иной раз пойду я на речку и опоздаю домой. И тогда бабушка сердится.
15 июля. Когда нет работы, то как-то скучно и тоскливо. Но здесь, в деревне, в особенности скучно без работы. И я решила ещё больше помогать бабушке. Когда я встала, то мне в голову пришла мысль: мыть пол. Я с охотой вымыла его. Потом я сделала из красного шёлка себе ленты. Вышли хорошие, не хуже моих голубеньких.
Весь день прошёл хорошо, но вечером была сильная гроза с мелким дождём. То и дело на небе показывалась сверкающая полоса — молния. Гроза пугает животных: наша маленькая козочка отбилась от стада, и её насилу нашла бабушка на чужом огороде. Сегодня писала письма в Москву: маме и своей подруге Ире.
23 июля. Сегодня смотрю — по пшенице (которая посажена на выгоне) идёт Нина (двоюродная сестра) с братом Лёликом и мамой.
Они живут не очень далеко — в деревне Вельможке (36 километров от Гаев). Я и все мы были очень обрадованы их приездом.
26 июля. Когда приехала Нина, то я очень была рада. Мы вместе играли, беседовали, читали книги, веселились. Бабушка дала нам шашки и лото, и мы с увлечением играли. Но сегодня я с Ниной не поладила. Но потом мы помирились, и я решила никогда больше с ней не ссориться.
30 июля. Мы спали в сенях. Когда бабушка подошла и разбудила нас с Шурой, мы сразу вспомнили, что будем прощаться с Ниной, Лёликом, тётей Аней. Они уезжали в Вельможку. Подъехала телега. Солнце медленно пускало свои ясные лучи на просыпавшуюся землю.
Мы попрощались, и они уехали. Мне очень жалко, что они уехали.
Днём помогала бабушке кое-какие дела делать: гладила бельё, ходила за водой и другое.
31 июля. Полдень. Очень жарко. Про жару ходят даже такие слухи: как будто бы в воскресенье будет вода в речке кипеть.
Начинает спадать жара, вечереет. Я иду за козами. Их пять: Майка, Черноморка, Барон, Зорька, а одна без имени — просто коза.
Бабушка их доит. Я отношу молоко в погреб. Мы ложимся спать.
1 августа. Косички у меня совершенно маленькие. Но с тех пор как я сюда приехала, бабушка стала мне их крепко заплетать, и они стали понемногу расти. Бабушка у меня очень добрая.
К вечеру нам пришло письмо от мамочки. Она пишет, что больна. И, может, приедет сюда. Мне её очень жалко, что она болеет. Отпуск у неё с 15 августа, и тогда она приедет к нам!
2 августа. На этот раз бабушка меня оставила за хозяйку. Она истопила печку и ушла. Я и нахозяйничала. Бабушка сварила лапшу и велела накрошить в неё яйца. Я хотела поставить чугунок с лапшой на скамью. Чугунок поставила на рогач, он у меня перевернулся, и лапша моя полетела! Я скорей притёрла пол и заварила новую лапшу. К вечеру мы с бабушкой ходили купаться. Ходили слухи, что сегодня будет жара и вода в речке будет кипеть. Но это неправда. День был очень жаркий, но вода в речке не кипела.
5 августа. Сегодня я помогала бабушке: мыла пол, окна, скамейки.
Гладила и катала бельё. Я очень беспокоюсь о маме.
11 августа. Дождей здесь очень мало. Как бы не сгорел урожай! У бабушки на огороде растут огурцы, тыквы, дыни, капуста, табак, помидоры и конопля. На выгоне — картофель, опять же тыква, помидоры. Своих подсолнечников нет. Бабушка не знала, что мы приедем, и не сажала. Очень жарко. Сильный, горячий ветер тащит пыль и хлещет в глаза.
13 августа. Мы было уже собрались чай пить, как пришло письмо от мамы. Она пишет, что приедет в субботу, то есть завтра вечером... Когда мы прочли письмо, то были очень-очень рады. Она приедет сюда и хоть немного, но отдохнёт. Дедушка уехал в Тамбов.
15 августа. Рано утром в дверь тихонько постучали. Я, и Шура, и бабушка сразу вскочили — это приехала мама. Какова была наша радость! Бабушка стала печь блины, а мама привезла гостинцы. Тётя Оля сама не могла приехать, но тоже много прислала.
17 августа. Мы пошли с мамой и Шурой в огород и сорвали там тыкву и семь маленьких (в кулак) дынь. Из тыквы бабушка сделала кашу и насушила тыквенных зёрен.
К вечеру мы с Шурой и мамой ходили купаться. Как здесь хорошо! А с мамой — втрое!
19 августа. Прошёл дождик. Бабушка дала мне разные лоскутки, и я хочу сделать себе одеяльце.
22 августа. Утро было пасмурное. Я и Шура что-то раскапризничались. И решили, что больше сердить маму не будем.
24 августа. Когда я утром встала, мне бабушка подарила старинную расписную коробочку, а дедушка — свою карточку. Этим подаркам я была очень рада. Они мне будут на память.
Думаем о Москве».
«БЕЛАЯ ПАЛОЧКА»
Да, это было славное лето — такое светлое, беззаботное! Зоя и Шура теперь были уже совсем большие, но, как и пять лет назад, когда я приехала за ними из Москвы, они ходили за мной по пятам, словно боялись, что я могу вдруг исчезнуть или убежать от них.
Время, которое я пробыла с ними, слилось для меня в один долгий счастливый день, в котором ничего в отдельности не различишь. И только один случай я помню отчётливо и ясно, словно это было вчера.
То ли Слава научил ребят этой игре, то ли они прочли о ней в «Пионерской правде», но только увлеклись они ею необычайно. Называлась она «белая палочка». Играть в эту игру надо было вечером, когда смеркалось настолько, что тёмные предметы сливались с землёй и глаз различал только светлое или блестящее. Ребята — мои и соседские — разбивались на две команды и выбирали судью. Судья — он же и метальщик — кидал как можно дальше белую палочку, и все участники игры устремлялись на поиски её. Кто найдёт, сразу бежит отдавать судье. Но сделать это надо было хитро, незаметно, чтобы не увидел противник. Игрок передавал свою находку товарищу по команде, тот — другому, чтобы запутать след и не дать противнику догадаться, у кого палочка. Если удастся передать палочку судье незаметно, команда получает два очка. Если противник заметит нашедшего и осадит его, тогда у каждой команды по очку. Играли до тех пор, пока одна из команд не набирала десять очков.
Зоя и Шура страшно увлекались этой игрой и просто уши мне прожужжали, уверяя, что она необыкновенно интересная. А Слава добавлял: «И полезная. Приучает к дружбе. Чтоб не Каждый за себя, а один за всех и все за одного».
Шура часто бывал судьёй: у него была сильная рука, и он метал палочку далеко и ловко — так, что найти её было нелегко. Однажды вызвалась метать палочку Зоя.
— Это не девчонское дело! — сказал кто-то из мальчиков.
— Не девчонское? А вот дай попробую!
Зоя схватила палочку, размахнулась, кинула... и палочка упала совсем близко. Зоя вспыхнула, закусила губу и пошла домой.
— Ты что же ушла? — спросил у неё Слава, когда они с Шурой вернулись после игры.
Зоя молчала.
— Обиделась? Зря. Раз не можешь метать, пускай другой будет судьёй, кто метать умеет. А ты играй со всеми. Обижаться нечего. Самолюбие хорошо в меру, а если чересчур — плохо.
Зоя опять не ответила, но на следующий вечер присоединилась к играющим как ни в чём не бывало. Ребята её любили, и никто не напомнил о вчерашнем.
Я уже и забыла об этом происшествии, но однажды Слава вошёл в избу и поманил меня за собой. Мы обогнули дом, прошли подальше, за палисадник.
— Посмотри-ка, тётя Люба, — шепнул Слава.
Поодаль спиной к нам стояла Зоя. Я не сразу поняла, что она делает: она замахнулась, кинула что-то, побежала поднимать. Подняла, вернулась на прежнее место и снова кинула. Тут я разглядела: это был небольшой деревянный брусок. Мы стояли за деревом, и Зоя не видела нас, а мы довольно долго молча смотрели, как неутомимо она кидает брусок, бежит, поднимает и снова размахивается. Сначала она делала взмах только рукой. Потом стала откидываться и подаваться вперёд всем телом, словно сама летела вслед за бруском, — и забрасывала его всё дальше и дальше.
Мы со Славой тихонько ушли, а вскоре вернулась домой и Зоя. Она раскраснелась, капельки пота блестели у неё на лбу. Зоя умылась и принялась за шитьё: она мастерила тогда из лоскутков одеяло. Мы со Славой переглянулись, и он засмеялся. Зоя подняла глаза:
— Чего ты?
Но Слава не стал объяснять.
Ещё два дня кряду я выходила из дому в один и тот же час и смотрела, как Зоя кидает то камень, то палку. А дней десять спустя, уже незадолго до отъезда, я услышала, как Зоя предлагает собравшимся около нашего крыльца ребятам:
— Давайте в «белую палочку»! Чур, я судья!
— Опять за своё? — удивился Шура.
Но Зоя без слов размахнулась, кинула — вокруг только ахнули: палка мелькнула в воздухе и упала где-то очень далеко.
— Вот зелье-девчонка! — сказал за ужином дедушка. — Ну что тебе далась эта палка? Ведь не ради дела, а ради спора?
Зоя хотела ответить, но бабушка опередила её:
— Есть присловье: «Уж что ни будет, а поставлю на своём!» — и добавила с улыбкой: — А мне это по сердцу. Не стерпела душа, на простор пошла — правда, внучка?
Зоя уткнулась в тарелку, помолчала и вдруг, улыбнувшись, ответила тоже присловьем (недаром она была внучкой Мавры Михайловны!):
— Крут бережок, да рыбка хороша!
И все за столом засмеялись.
«ОВОД»
Весна. Порою налетает тёплый ветер, полный запаха свежести и влажной земли. Хорошо подышать весной! Я раньше времени выхожу из душного трамвая — до дому недалеко, дойду пешком.
Не только меня радует весна: чаще видишь улыбку на лицах встречных, ярче глаза, громче, оживлённее звучат голоса.
— … у Кордовы республиканцы успешно наступают, — ловлю я обрывок фразы.
— А в провинции Эстремадура...
Да, Испания сейчас у всех в сердце и на устах, мысль о ней владеет нами. Крылатые слова Долорес Ибаррури: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» — облетели весь мир, запали в душу каждому честному человеку.
Поутру, едва проснувшись, Зоя бежит к почтовому ящику за газетой: что сегодня на фронтах Испании?
А Шура?.. Неполные тринадцать лет — вот что мучает его, вот что не даёт сейчас же, немедля, оказаться под Мадридом. Каждый вечер он возвращается к этому разговору: то он прочитал в газете о девочке, которая храбро сражается в рядах республиканцев, то слышал по радио об испанском юноше, которого родные не отпускали на фронт, а он всё-таки пошёл.
— … и таким молодцом оказался! Один раз фашистский снаряд разорвал их окоп и разбил противотанковую пушку. А этот парень — Эмутерио Корнехо его зовут — схватил гранату и как выскочит из окопа! Побежал навстречу танкам и как кинет гранату в танк!.. Она разорвалась под гусеницей, танк так и завертелся на одном месте! Тут другие подтащили ящик с гранатами. Корнехо стал кидать одну за другой. Смотрят — второй танк свалился набок, потом третий, а остальные повернули обратно. Вот видите! А уж, кажется, страшнее танка ничего нет.
— Сколько же лет этому Корнехо? — спрашиваю я.
— Семнадцать, — отвечает Шура.
— А тебе?
С моей стороны жестоко задавать такой вопрос. Шура молча вздыхает...
— Мама! — выводит меня из раздумья звонкий голос совсем рядом. — Почему так поздно? Мы заждались!
— Разве поздно? Я обещала в семь.
— А теперь без десяти восемь. Я уж начала беспокоиться.
Зоя берёт меня под руку и примеряется, чтобы попасть в ногу. Мы идём рядом. Она очень выросла за последние два года; скоро, очень скоро она будет одного роста со мной. Иногда мне даже странно, что у меня такая взрослая дочь. Юбка ей уже коротка, и вышитая блузка тоже становится мала; пора подумать о новом...
С 1931 года, с тех пор как я привезла ребят в Москву, мы почти не разлучались. Даже ненадолго уходя из дому, каждый из нас непременно говорил, куда идёт и когда вернётся. Пообещав прийти с работы не позже восьми, я стараюсь сдержать слово. Если меня что-нибудь задерживает, Зоя начинает беспокоиться, выходит мне навстречу к трамвайной остановке и ждёт — вот как сегодня.
Если Шура, придя домой, не заставал сестру, то его первый вопрос был:
— А где Зоя? Куда ушла? Почему её так долго нет?
— Где Шура? — спрашивала Зоя, едва переступив порог комнаты.
И я, когда случалось прийти домой раньше детей, чувствовала себя странно и неприютно, пока не раздавались на лестнице знакомые шаги. А весной иной раз становилась у открытого окна и ждала... Словно сейчас вижу: вот они идут, почти всегда вместе, о чём-то горячо разговаривая, — и сразу тепло становится у меня на сердце...
... Зоя мягко отнимает у меня портфель и сумку:
— Ты устала, давай я понесу.
Мы идём медленно, радуясь славному весеннему вечеру, и рассказываем друг другу обо всём, что случилось за день.
— Ты читала? Испанских ребятишек привезли в Артек, — говорит Зоя. —
Фашисты чуть не потопили пароход, на котором они ехали. Вот бы посмотреть на этих ребят!.. Подумай, после бомбёжки, после всего — оказаться вдруг в Артеке! А там хорошо сейчас? Не холодно?
— Нет, в апреле на юге уже совсем тепло. Розы цветут. Да посмотри на себя: ты и в Москве ухитрилась загореть, нос-то лупится.
— Так ведь мы уже начали сажать вокруг школы сад. Полдня на воздухе — вот и загорела. Знаешь, каждый должен посадить дерево. Я, пожалуй, посажу тополь — люблю, когда тополевый снег идёт. И запах у тополя славный, правда? Свежий-свежий и немножко горький... Ну, вот мы и дома! Скорей умывайся, я сейчас подогрею обед.
Я умываюсь, но, и не глядя, знаю, что делает Зоя. Она зажигает керосинку, чтобы подогреть суп, бесшумно ходит в своих тапочках по комнате, быстро и ловко накрывая на стол. В комнате — чистота, недавно вымыт пол, пахнет свежестью. На окне, в высоком стакане, две веточки вербы, на которой словно уснули серебристые мохнатые шмели.
Чистота и уют в нашем доме — дело Зоиных рук.
На ней лежит всё хозяйство: уборка, покупка продуктов. Зимой она ещё и печь топит. У Шуры тоже есть кое-какие обязанности: он носит воду, колет дрова и ходит за керосином. Но «мелочами» он не занимается; как многие мальчики, он берётся только за «мужские» дела и убеждён, что полы подметать и по магазинам бегать ему не к лицу: «Это может каждая девчонка».
А вот и он!
Дверь не просто открывается — она с треском распахивается, и на пороге — Шура: румянец во всю щёку, руки по локоть в грязи, под глазом, увы, опять синяк.
— Была игра! — весело объясняет он. — Добрый вечер, мама! Уже умылась? Вот твой стул. Сейчас и я умоюсь.
Он долго плещется, фыркает и одновременно рассказывает о футболе с таким увлечением, словно, кроме футбола, ничего на свете не существует.
— А перевод с немецкого когда будет? — спрашивает Зоя.
— Поем — переведу.
Я принимаюсь за свой поздний обед, дети ужинают. Сейчас все разговоры о том, каков будет школьный сад. Я слушаю и понимаю: ребята готовы посадить вокруг своей школы все деревья, какие им только известны.
— Почему ты говоришь, что пальма не будет расти? Вот я в «Огоньке» видел фото: пальмы, а кругом снег. Значит, они отлично переносят холод.
— Что же ты сравниваешь крымскую зиму и нашу, — спокойно возражает Зоя. Потом поворачивается ко мне: — Мама, а ты мне что-нибудь почитать принесла?
Я молча достала из портфеля «Овод». Зоя краснеет от удовольствия.
— Вот спасибо! — говорит она и, не в силах удержаться, начинает бережно перелистывать книгу, но тут же откладывает в сторону.
Потом быстро убирает со стола, перемывает посуду и садится за уроки. Рядом с нею, вздохнув и поворчав немного («Завтра с утра времени нет, что ли!»), усаживается Шура.
Зоя начинает с того, что ей даётся труднее всего, — с математики. Шура открывает учебник немецкого языка, оставляя задачи напоследок: они ему даются легко.
Через полчаса Шура захлопывает учебник и с громом отодвигает стул:
— Кончил! А задачки — завтра утром.
Зоя даже не поворачивает головы. Она вся ушла в работу. Рядом лежит «Овод» — книга, которую она давно уже просила меня принести, но я знаю: пока Зоя не покончит с уроками, читать она не станет.
— Дай-ка я посмотрю твой перевод, Шура, — говорю я. — Так... Это разве дательный падеж? Взгляни-ка сюда.
— Да... соврал.
— Ну вот... А тут надо не «u», a «u: «. И вот ещё: Garten ведь существительное, почему же с маленькой буквы? Три ошибки. Садись, пожалуйста, и перепиши всё заново.
Шура со вздохом выглядывает из окошка: на крыльце сидят его приятели и ждут, не выйдет ли он. Время не такое позднее, ещё можно бы разок сыграть... Но факты — вещь упрямая: три ошибки... с этим не поспоришь! И Шура со вздохом снова садится к столу.
... Ночью я просыпаюсь со смутным ощущением: в комнате что-то не так, как всегда. Так и есть: зажжена и прикрыта газетой настольная лампа; Зоя, подперев кулаками щёки, склонилась над «Оводом». И щёки, и руки, и, кажется, страница мокры от слёз.
Почувствовав мой взгляд, она поднимает глаза и молча улыбается сквозь слёзы. Мы ничего не говорим друг другу, но обе вспоминаем тот день, когда Зоя с укором сказала мне: «Большая, а плачешь!»
ДЕВОЧКА В РОЗОВОМ
По-весеннему яркое небо, на фоне его — голые чёрные ветви и скворечник... Больше ничего нет на этой картинке, но я долго смотрю на неё, и где-то внутри горячей волной поднимается радость и надежда. Тут не просто нарисованы дерево, небо, скворечник — тут есть главное, без чего невозможна живопись: настроение, мысль, умение видеть природу и понимать её.
А вот другой рисунок: мчатся кони, воинственно вскинуты шашки в руках лихих кавалеристов. Тут всё в стремительном, жарком движении... Вот снова пейзаж: знакомый заросший прудик в Тимирязевском парке. А вот Осиновые Гаи — высокая, сочная трава на прибрежном лугу и серебряная рябь нашей маленькой весёлой речки...
Ребят нет, я одна дома, и на коленях у меня пухлая папка с Шуриными рисунками.
Шура с каждым годом рисует всё лучше. Мы часто бываем в Третьяковской галерее: мне хочется, чтобы он не только учился рисовать, но знал и понимал живопись. Памятно мне наше первое посещение Третьяковки. Мы медленно переходили из зала в зал. Я пересказывала детям исторические сюжеты, мифы, вдохновлявшие художников. Ребята слушали, без конца задавали вопросы. Всё им нравилось, всё удивляло их. Зою поразило, что Врубелева гадалка не сводит с неё глаз, куда бы она ни отошла. Огромные чёрные глаза, нерадостные и знающие, провожали нас неотступным взглядом.
Потом мы попали в зал Серова. Шура подошёл к «Девочке с персиками» — и застыл. Темноволосая девочка с нежным румянцем на щёках задумчиво смотрела на нас. Так спокойно лежали на белой скатерти её руки. Позади неё за окном угадывался огромный тенистый сад со столетними липами, с заросшими дорожками, уводящими бог весть в какую глушь... Мы долго молча стояли и смотрели. Наконец я легонько тронула Шуру за плечо.
— Пойдём, — тихо сказала я.
— Ещё немножко, — так же тихо ответил он.
Иногда с ним так бывало: если что-нибудь глубоко и сильно поражало его, он словно весь замирал и не мог двинуться с места. Так было когда-то в Сибири, когда четырёхлетний Шура впервые увидел настоящий лес. Так было и теперь. Я стояла рядом с сыном, смотрела на спокойную, задумчивую девочку в розовом и думала: что так поразило Шуру? Его рисунки всегда полны движения и шума — если можно сказать, что кисть и карандаш передают шум: скачут кони, мчатся поезда, стремительно проносятся в небе самолёты. И сам Шура — озорник, страстный футболист, любитель побегать и покричать. Что пленило его в девочке Серова, в этой картине, где стоит такая светлая и недвижимая тишина? Почему он застыл перед нею, такой присмиревший, каким я его давно не видела?..
В тот день мы больше ничего не стали смотреть. Мы пошли домой, и Шура всю дорогу расспрашивал: когда жил Серов? Рано ли он начал рисовать? Кто его учил? Репин? Тот, который написал «Запорожцев»?
Это было давно, Шуре едва исполнилось десять лет. С тех пор мы не раз бывали в Третьяковской галерее, видели и другие картины Серова, видели и Сурикова: угрюмого Меншикова в Березове, вдохновенного Суворова, боярыню Морозову, светлые, задушевные пейзажи Левитана — словом, всё, что только там есть. Но именно после первого знакомства с серовской девочкой в рисунках Шуры появился пейзаж, и тогда же он в первый раз попытался нарисовать Зою.
— Посиди пожалуйста, — непривычно мягко просил он сестру. — Я попробую тебя нарисовать.
Зоя сидела подолгу, терпеливо, почти не шевелясь. И даже в тех первых портретах, сделанных ещё неумелой рукой, было сходство — правда, едва уловимое, неясное, а всё-таки с листа смотрели несомненно Зоины глаза: пристальные, серьёзные, вдумчивые...
И вот я перебираю Шурины рисунки. Кем же он станет, когда вырастет?
Шура, бесспорно, прекрасный математик, он унаследовал от отца любовь к технике, и у него ловкие и быстрые, действительно золотые руки: он всё умеет, за что ни возьмётся, — всё у него спорится. Меня не удивляет, что ему хочется быть инженером. Он все свои карманные деньги тратит на журнал «Наука и техника» и не только прочитывает каждый номер, но постоянно мастерит что-нибудь по совету журнала.
Работает Шура всегда горячо, с душой. Как-то я зашла к ним в школу взглянуть на сад. Работа была в разгаре: вскапывали землю, сажали кусты и молодые деревца, воздух звенел от громких ребячьих голосов. Зоя, раскрасневшаяся, с растрепавшимися волосами, на секунду опустила лопату и издали помахала мне рукой. Шура в паре с мальчуганом постарше тащил носилки. Трудно было представить себе, как умещается на этих носилках такая груда земли!
— Осторожнее, Космодемьянский, надорвёшься! — крикнула ему вслед высокая белокурая девушка, по виду несомненно спортсменка.
И я слышала, как Шура, замедлив шаг, весело ответил:
— Ну нет! Мне ещё дед говорил: когда работаешь на совесть, не надорвёшься. Работа сутулит, когда её боишься, а если сил не жалеть — ещё сильнее станешь!
В тот день, за ужином, он сказал не то шутя, не то серьёзно:
— Мам, а может, мне после школы в Тимирязевку пойти? Сады буду сажать, в земле копаться. Как ты думаешь?
Кроме того, Шуре хочется быть спортсменом-профессионалом. Зимой они с Зоей катаются на коньках, ходят на лыжах, летом купаются в Тимирязевском пруду.
Шура — богатырь: в тринадцать лет он выглядит пятнадцатилетним. Зимой он натирается снегом, купаться начинает весною раньше всех, а кончает поздней осенью, когда самых отважных купальщиков дрожь пробирает при взгляде на воду. А о футболе и говорить нечего: из-за футбола Шура готов забыть и о еде и об уроках.
И всё же... всё же, кажется, больше всего Шура хочет быть художником. В последнее время он каждую свободную минуту отдаёт рисованию. Из библиотеки приносит и меня просит приносить биографии Репина, Серова, Сурикова, Левитана.
— Знаешь, — с уважением говорит он, — Репин с девяти лет рисовал каждый день, за всю жизнь ни разу не пропустил! Ты только подумай: каждый день! А когда у него заболела левая рука и он не мог держать палитру, он привязал её к себе и всё-таки работал. Вот это я понимаю!
... Я перебираю Шурины рисунки и узнаю то нашу любимую скамейку в парке, то куст боярышника, растущий неподалёку от нашего дома, — под ним Шура любит лежать в жаркие летние вечера. Вот наше крыльцо, где он допоздна засиживается с товарищами после игры, а вот и лужок — их футбольное поле.
Сейчас Шура всё время рисует Испанию: неслыханной голубизны небо, серебристые оливы, рыжие горы, обожжённая солнцем земля, изрытая траншеями, истерзанная взрывами, залитая жаркой кровью республиканских бойцов... Мне кажется, когда зимой в Третьяковке открылась выставка Сурикова, Шура бегал туда несколько раз ещё и ради испанских акварелей: словно Суриков стал ближе ему потому, что путешествовал по Испании, видел и рисовал эту далёкую землю.
А это что?.. Фасад высокого здания со множеством окон кажется мне знакомым. Да это 201-я школа! А вокруг — будущий сад: берёзы, клёны, дубы и... пальмы!
ПАРИ
Зоя и Шура становились уже совсем большими. Но иногда, напротив, они казались мне совсем маленькими.
... Я быстро уснула в тот вечер и проснулась вдруг, как от толчка: мне послышалось, будто кто-то целыми пригоршнями кидает в стекло мелкие камешки. Это дождь так и хлестал в окно, так и барабанил по стеклу. Я села на кровати и увидела, что Шура тоже не спит.
— Где Зоя? — спросили мы оба разом.
Зоина кровать была пуста. Но тут же, словно в ответ нам, на лестнице послышались приглушённые голоса и смех, и дверь нашей комнаты тихо отворилась! на пороге стояли Зоя и Ира — её сверстница, жившая в маленьком домике по соседству.
— Где вы были? Откуда вы?
Зоя молча сняла пальто, повесила его и принялась стаскивать разбухшие, насквозь мокрые туфли.
— Да где вы были? — взорвался Шура.
И тогда Ира, взволнованная до того, что, даже когда она смеялась, по щекам её текли слёзы, стала рассказывать.
Часов в десять вечера к ней в окно постучала Зоя. И когда Ира вышла, Зоя сообщила ей, что поспорила, с девочками. Они уверяли, что Зоя в такой тёмный осенний вечер побоится пройти через весь Тимирязевский парк, а Зоя утверждала: «Не побоюсь». И они заключили пари: девочки поедут на трамвае до остановки «Тимирязевская академия», а Зоя пойдёт туда пешком. «Я буду делать на деревьях заметки», — сказала Зоя. «Мы тебе и так верим», — ответили девочки. Но в последнюю минуту они сами испугались и стали уговаривать Зою отменить пари: очень холодно и темно было на улице, и уже начинался дождь.
— ...Но она только больше раззадорилась, — смеясь и плача, рассказывала Ира. — И пошла. А мы поехали на трамвае. Ждём, а её нет и нет. А потом смотрим — она идёт... и смеётся...
Я с удивлением смотрела на Зою. Она всё так же молча развешивала у печки мокрые чулки.
— Ну, знаешь, не ждала я от тебя этого, — сказала я. — Такая большая и такая...
— … глупая? — улыбаясь, докончила Зоя.
— Да, уж извини, но, конечно, это не слишком умно!
— Если б ещё это сделал я, тогда понятно, — вырвалось у Шуры.
— Так ведь она и обратно хотела пешком, — пожаловалась Ира. — Насилу мы её уговорили, чтоб ехала с нами на трамвае.
— Да раздевайся же, Ира! — опомнилась я. — Грейся скорей, ты тоже совсем промокла!
— Нет, я домой... там мама тоже будет сердиться... — призналась Ира.
Оставшись одни, мы некоторое время молчали. Зоя весело улыбалась, но разговора не начинала, а спокойно сушилась и грелась у печки.
— Ладно, пари ты выиграла, — сказал наконец Шура. — А что же тебе за это полагается?
— Ой, я об этом и не подумала! — отозвалась Зоя. — Мы просто поспорили, а на что — не условились... — И на лице её отразилось искреннее огорчение.
— Эх, ты! — воскликнул Шура. — Хоть бы обо мне подумала: дескать, если я выиграю, гоните Шурке новый футбольный мяч. Нет того, чтобы о родном брате позаботиться! — Он укоризненно покачал головой. Потом добавил серьёзно: — А всё-таки я от тебя этого не ожидал. С чего ты стала таким способом доказывать свою храбрость? Даже я понимаю, что это неправильно.
— А я, думаешь, не понимаю? — сказала Зоя. — Но только мне очень хотелось попугать девочек: шла-то по лесу я, а боялись-то ведь они!
Она засмеялась, и мы с Шурой поневоле присоединились к ней.
ТАТЬЯНА СОЛОМАХА
Очень рано я стала решать наши денежные дела сообща с детьми.
Помню, в 1937 году мы завели сберегательную книжку и торжественно положили на неё первые семьдесят пять рублей. Всякий раз, когда к концу месяца удавалось сэкономить немного денег, Зоя относила их в сберкассу, даже если сумма была невелика: пятнадцать — двадцать рублей.
Сейчас у нас появилась ещё одна статья расхода: в банке существует счёт № 159782, на него граждане СССР пересылают деньги, собранные для женщин и детей республиканской Испании. Делаем это и мы. Мысль эта принадлежит не мне, её первым высказал Шура:
— Мы с Зоей можем меньше тратить на завтрак.
— Нет, — сказала я, — завтрак трогать не будем. А вот не пойти разок-другой на футбол — это даже полезно...
Потом мы составляем список самых необходимых вещей: у Зои нет варежек, у Шуры совсем развалились башмаки, у меня порвались галоши. Кроме того, у Шуры кончились краски, а Зое нужны нитки для вышиванья. Тут случается и поспорить: ребята всегда настаивают на том, чтобы прежде всего покупалось то, что нужно мне.
Но самая любимая статья наших расходов — книги.
Какое это удовольствие — прийти в книжный магазин, порыться в том, что лежит на прилавке, потом издали, привставая на цыпочки и наклоняя голову набок, чтоб было удобнее, читать названия на корешках книг, вплотную уставивших полки, потом долго листать, советоваться... и возвратиться домой с аккуратно перевязанным тяжёлым пакетиком! День, когда наша этажерка (она стояла в углу, у изголовья Зоиной кровати) украшалась новой книжкой, был у нас праздничным, мы снова и снова заговаривали о своей покупке. Читали новую книгу по очереди, а иногда по воскресным вечерам и вслух.
Одной из таких сообща прочитанных книг был сборник очерков, назывался он «Женщина в гражданской войне».
Помню, я сидела и штопала чулки, Шура рисовал, а Зоя раскрыла книгу, собираясь читать. Неожиданно Шура сказал:
— Знаешь, ты не читай подряд.
— А как же? — удивилась Зоя.
— Да так: ты открой наугад; какой откроется, с того и начнём.
Право, не знаю, почему это ему пришло в голову, но так и порешили. Первым открылся очерк «Татьяна Соломаха». Помнится, там были отрывки из трёх тетрадей: сначала о сельской учительнице Татьяне Соломахе рассказывал её брат, потом — ученик и, наконец, — младшая сестрёнка.
Брат рассказывал о детстве Тани, о том, как она росла, училась, как любила читать. Тут было место, дойдя до которого Зоя на секунду остановилась и взглянула на меня: строки о том, как Таня прочла вслух «Овод». Поздно ночью Таня дочитала книгу и сказала брату; «А ты думаешь, я не знаю, зачем живу?.. Мне кажется, что я по каплям отдала бы всю свою кровь, только чтоб людям жилось лучше».
Кончив гимназию, Таня стала учительствовать в кубанской станице. Перед революцией она вступила в подпольную большевистскую организацию, а во время гражданской войны — в красногвардейский отряд.
В ноябре 1918 года белые ворвались в село Козьминское, где в тифу лежала Таня. Больную девушку бросили в тюрьму и пытали, в надежде, что она выдаст товарищей.
Гриша Половинко писал о том, как он и другие ребята, которые учились у Тани в школе, побежали к тюрьме — им хотелось увидеть свою учительницу, чем-нибудь помочь ей. Они видели, как избитую, окровавленную Таню вывели во двор и поставили у стены. Мальчика поразило её спокойное лицо: в нём не было ни страха, ни мольбы о пощаде, ни даже боли от только что перенесённых истязаний. Широко открытые глаза внимательно оглядывали собравшуюся толпу.
Вдруг она подняла руку и громко, отчётливо сказала:
«Вы можете сколько угодно избивать меня, вы можете убить меня, но Советы не умерли — Советы живы. Они вернутся».
Урядник ударил Таню шомполом и рассёк плечо, пьяные казаки стали избивать её ногами и прикладами. «Я тебя ещё заставлю милости просить!» — кричал ей палач-урядник, и Таня, вытирая струившуюся по лицу кровь, ответила: «А ты не жди: у вас просить я ничего не буду».
И Зоя читала дальше: о том, как снова и снова, день за днём пытали Таню. Белые мстили ей за то, что она не кричала, не просила пощады, а смело смотрела в лицо палачам...
Зоя положила книгу, отошла к окну и долго стояла не оборачиваясь. Она редко плакала и не любила, чтобы видели её слёзы.
Шура, давно уже отложивший свой альбом и краски, взял книгу и стал читать дальше. Рая Соломаха рассказывала о гибели сестры:
«Вот что я узнала о её смерти.
На рассвете 7 ноября казаки ввалились в тюрьму. Арестованных начали прикладами выгонять из камеры. Таня у двери обернулась назад, к тем, кто оставался.
— Прощайте, товарищи! — раздался её звонкий, спокойный голос. — Пусть эта кровь на стенах не пропадёт даром! Скоро придут Советы!
В раннее морозное утро белые за выгоном порубили восемнадцать товарищей. Последней была Таня...
Верная своему слову, она не просила пощады у палачей».
Помню: сила и чистота, которой дышал облик Тани, заставили в тот вечер плакать не одну только Зою.
ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТОК
Как-то вечером нас навестил мой брат. Напившись чаю и поболтав с ребятами, которые всегда от души радовались ему, он вдруг примолк, потянулся за своим объёмистым, туго набитым портфелем и многозначительно посмотрел на нас. Мы сразу поняли: это неспроста.
— Что у тебя там, дядя Серёжа? — спросила Зоя.
Он ответил не сразу: заговорщицки подмигнув ей, не спеша открыл портфель, достал пачку чертежей и стал перебирать их. Мы терпеливо ждали.
— Вот чертежи, — сказал наконец Сергей. — Их надо скопировать. У тебя, Шура, какая отметка по черчению?
— У него «отлично», — ответила Зоя.
— Так вот, брат Шура, получай работу. Дело хорошее, мужское, семье поможешь. Вот тебе готовальня. Это моя, старая, она мне ещё в институтские годы послужила, но работает хорошо, всё в исправности. Тушь, надо полагать, у тебя есть?
— И калька есть, — вставила Зоя.
— Вот и превосходно! Подите-ка поближе, я объясню, что к чему. Работа несложная, но требует большой точности и аккуратности, зевать и мазать тут не приходится.
Зоя подсела к дяде. Шура, стоявший у печки, не тронулся с места и не произнёс ни слова. Сергей мельком покосился на него и, склонившись над чертежами, стал давать объяснения. Я, как и брат, сразу поняла, в чём дело.
Одна черта в характере Шуры всегда очень беспокоила меня: необычайное упрямство. Например, Шура любит музыку, у него хороший слух, и он давно уже играет на отцовской гитаре. Случается ему, конечно, и не уловить сразу какую-нибудь мелодию. Скажешь ему: «Ты тут фальшивишь, это не так поётся, вот как надо». Шура выслушает, преспокойно ответит: «А мне так больше нравится», — и продолжает играть по-своему. Он прекрасно знает, что я права, и в следующий раз возьмёт верную ноту, но только не сейчас. У него порядок твёрдый: все решения, большие и малые, он принимает самостоятельно, никто не должен подсказывать ему. Он взрослый, он мужчина, он всё знает и понимает сам!
Как видно, предложение дяди показалось Шуре покушением на его самостоятельность, на право распоряжаться собой, которое он так ревниво оберегал. И пока Сергей объяснял, что и как надо сделать, Шура издали внимательно слушал, но так и не произнёс ни слова. А Сергей больше и не взглянул в его сторону.
Уже в дверях брат сказал, ни к кому в отдельности по обращаясь:
— Чертежи мне понадобятся ровно через неделю.
После его ухода Зоя раскрыла учебник физики. Я, как всегда, проверяла тетради. Шура взялся за книжку. Некоторое время в комнате было тихо. Но вот Зоя встала, потянулась, тряхнула головой (была у неё такая привычка — резким движением отбрасывать тёмную прядь, постоянно сползавшую на лоб и правую бровь). Я поняла, что с уроками покончено.
— Что же, пора за дело, — сказала она. — До ночи с половиной справлюсь, — и стала раскладывать чертежи на столе.
Шура оторвался от книги, покосился на сестру и сказал хмуро:
— Сиди, читай свои «университеты»... (Зоя в те дни читала автобиографическую трилогию Горького.) Я чёрчу лучше. И без тебя управлюсь.
Но Зоя не послушалась. Вдвоём они заняли чертежами весь стол, и мне пришлось передвинуться со своими тетрадками на самый край. Вскоре ребята уже углубились в работу. И вот, как часто бывало за шитьём, за стряпнёй или уборкой — за делом, требующим не всего человека без остатка, а только верности глаза и руки, — Зоя негромко запела:
Расшумелся ковыль, голубая трава,
Голубая трава-бирюза.
Та далёкая быль
Не забыта, жива,
Хоть давно отгремела гроза!..
Шура сначала слушал молча, потом тихонько подтянул, потом запел громче... оба голоса слились, зазвучали чисто и дружно.
Они допели песню о девушке-казачке, погибшей в бою с атаманами, и Зоя запела другую, которую все мы любили и которую когда-то пел Анатолий Петрович:
Ревёт и стонет Днепр широкий,
Сердитый ветер листья рвёт,
До долу клонит лес высокий
И волны грозные несёт...
Так они работали и пели, а я и слушала и не слушала их: не слова доходили до меня, а мелодия и чувство, с каким они пели, и так хорошо мне было...
Через неделю Шура отнёс дяде выполненную работу и вернулся счастливый, с новой пачкой чертежей.
— Сказал: хорошо! Через неделю будут деньги. Слышишь, мама? Наши с Зоей деньги, заработанные!
— А больше дядя Серёжа ничего не говорил? — спросила я.
Шура внимательно посмотрел на меня и засмеялся:
— Он ещё сказал: «Так-то лучше, брат Шура!»
А ещё через неделю, проснувшись утром, я увидела рядом, на стуле, две пары чулок и очень красивый белый шёлковый воротничок — это дети купили мне в подарок из своего первого заработка. Тут же в конверте лежали остальные деньги.
... Теперь, возвращаясь вечерами домой, я нередко ещё на лестнице слышала — поют мои ребята.
И тогда я знала: они опять углубились в свои чертежи.
ВЕРА СЕРГЕЕВНА
Жизнь наша шла ровно, без каких-либо заметных событий — так показалось бы всякому, кто посмотрел бы со стороны. Каждый новый день был похож на предыдущий: школа и работа, изредка — театр или концерт, и опять уроки, книги, короткий отдых — и всё. Но на самом деле это было далеко не всё.
В жизни юноши, подростка важен каждый час. Перед ним непрестанно открываются новые миры. Он начинает самостоятельно мыслить и ничего не принимает на веру, в готовом виде. Он всё передумывает и решает заново: что хорошо, что плохо? Что высоко, благородно и что подло и низко? Что такое настоящая дружба, верность, справедливость? Какая у меня цель в жизни? Не напрасно ли я живу?.. Жизнь ежечасно, ежеминутно пробуждает у молодого существа все новые вопросы, заставляет искать, думать; каждая мелочь воспринимается необычайно остро и глубоко.
Книга давно уже не просто отдых или развлечение. Нет, она — друг, советчик, руководитель. «То, что в книгах, то всегда правда», — говорила Зоя, когда была маленькая. Теперь она подолгу думает над книгой, спорит с ней, ищет в книге ответа на то, что её волнует.
После очерка о Тане Соломахе была прочитана та незабываемая повесть, что не проходит бесследно ни для одного подростка, — повесть о Павле Корчагине, о его светлой и прекрасной жизни. И она оставила глубокий след в сознании и сердце моих детей.
И каждая новая книга для них событие; обо всём, что в ней рассказано, дети говорят, как о подлинной жизни; о её героях горячо спорят, их любят или осуждают.
Встреча с хорошей книгой — умной, сильной, честной — это так важно в юности! А встреча с новым человеком нередко определяет весь твой дальнейший путь, всё твоё будущее.
В жизни моих детей всегда много значила школа.
Они любили и уважали своих учителей и особенно тепло говорили о заведующем учебной частью Иване Алексеевиче Язеве.
— Он очень хороший человек и очень справедливый учитель, — не раз повторяла Зоя. — А садовод какой! Мы его Мичуриным зовём.
Шура всегда с удовольствием рассказывал об уроках математики, о том, как Николай Васильевич заставляет думать, искать и всегда уличит того, кто отвечает наобум или просто механически заучивает правило.
— Ох, и не любит зубрил, попугаев всяких! Но уж если видит, что человек понимает, — дело другое. Даже и поплывёшь иной раз, а он только скажет:
«Ничего, ты не торопись, подумай». И правда, от этого как-то сразу лучше соображаешь!
И Зоя и Шура необыкновенно ласково говорили всегда о своей классной руководительнице Екатерине Михайловне:
— Такая добрая, скромная! И всегда заступается за нас перед директором.
И верно, не раз я слышала, набедокурит, провинится кто-нибудь в классе, первый заступник — Екатерина Михайловна.
Она преподавала немецкий язык. Никогда не повышала голоса, но сидели у неё всегда очень тихо. Она была снисходительна, но никому из ребят в голову не приходило плохо приготовить её урок. Она любила ребят, они отвечали ей тем же, и этого достаточно было, чтобы никогда не вставал вопрос ни о дисциплине на её уроках, ни об успеваемости по её предмету.
Но совсем новая полоса началась в жизни Зои и Шуры с того дня, когда у них в классе стала преподавать русский язык и литературу Вера Сергеевна Новоселова.
И Зоя и Шура очень сдержанно, даже осторожно проявляли свои чувства. По мере того как они подрастали, эта черта в характере обоих становилась всё определённее. Они как огня боялись всяких высоких слов. Оба были скупы на выражение любви, нежности и восторга, гнева и неприязни. О таких чувствах, о том, что переживают ребята, я узнавала скорее по их глазам, по молчанию, по тому, как Зоя ходит из угла в угол, когда она огорчена или взволнована.
Как-то — Зое было тогда лет двенадцать — на улице перед нашим домом один мальчишка мучил и дразнил собаку; кидал в неё камнями, тянул за хвост, потом подносил к самому её носу огрызок колбасы и, едва она собиралась схватить лакомый кусок, тотчас отводил руку. Зоя увидела всё это в окно, и, как была, даже не накинув пальтишка (дело было поздней, холодной осенью), выбежала на улицу. У неё было такое лицо, что я побоялась: она сейчас накинется на мальчишку с криком, может быть, даже с кулаками. Но она не закричала и даже не замахнулась на него.
— Перестань! Ты не человек, ты людишка, — выбежав на крыльцо, сказала Зоя.
Она сказала это негромко, но с таким безмерным презрением, что мальчишка поёжился и как-то боком, неловко пошёл прочь, не ответив ни слова...
— Он хороший человек, — говорила о ком-нибудь Зоя, и этого было достаточно — я знала: она очень уважает того, о ком так отзывается.
Но о Вере Сергеевне и Зоя и Шура говорили с нескрываемым восторгом.
— Если бы ты только знала, какая она! — повторяла Зоя.
— Ну, какая? Что тебе так по душе в ней?
— Я даже не могу объяснить... Нет, могу. Понимаешь, вот она входит в класс, начинает рассказывать — и мы всё понимаем: она не просто ведёт урок, потому что он у неё по расписанию. Нет, ей самой это важно и интересно — то, что она рассказывает. И видно — ей не нужно, чтобы мы просто заучили всё, — нет, она хочет, чтоб мы думали и понимали. Ребята говорят, что она отдаёт нам литературных героев «на растерзание». И правда, она говорит: «Он нравится вам? А почему? А как, по-вашему, он должен был поступить?» И мы даже не замечаем, как она умолкает, а говорит весь класс: то один вскочит, то другой... Мы спорим, сердимся, а потом, когда все выскажутся, она заговорит сама — так просто, негромко, как будто нас тут не тридцать человек, а трое. И всё сразу станет ясно: кто прав, кто ошибся. И так хочется всё прочитать, о чём она говорит! Когда её послушаешь, потом совсем по-новому читаешь книгу — видишь то, чего прежде никогда не замечала... А потом — ведь это ей надо сказать спасибо за то, что мы теперь по-настоящему знаем Москву. Она на первом же уроке спросила нас: «В толстовском музее были? В Останкине были?» И так сердито: «Эх вы, москвичи!» А теперь — где мы только с ней не побывали, все музеи пересмотрели! И каждый раз она заставляет над чем-нибудь раздумывать.
— Нет, правда, она очень хорошая, очень! — поддерживал Шура.
Он всё-таки стеснялся таких чувствительных слов и почему-то, чтобы скрыть смущение или чтобы твёрже прозвучало, всегда хвалил учительницу басом, что ему ещё плохо удавалось. Зато глаза его и выражение лица говорили ясно и без колебаний: «Хорошая, очень хорошая!»
Но по-настоящему я поняла, что такое разбуженный интерес к литературе, к писателю, к истории, когда в классе начали читать Чернышевского.
ВЫСОКАЯ МЕРА
— Ваша дочь учится в институте? — спросила как-то библиотекарша, у которой я брала книги по Зоиному списку.
Списки всегда были длинные и разнообразные. Чего только не прочла Зоя, готовясь к докладу о Парижской коммуне! Тут были и серьёзные исторические работы и переводы из французских рабочих поэтов — Потье, Клемана.
А сколько было прочитано об Отечественной войне 1812 года! Зоя бредила именами Кутузова и Багратиона, описаниями сражений, с упоением повторяла наизусть целые страницы из «Войны и мира». Готовясь к докладу об Илье Муромце, она составила длинный список редких книг, которые я с трудом разыскивала в различных библиотеках.
Да, для меня не было новостью, что Зоя умеет работать серьёзно, добираться до самых глубоких источников, до самой сути дела, умеет уходить в свою тему с головой. Но так безраздельно она не отдавалась ещё ни одному делу. Встреча с Чернышевским стала одной из самых важных в жизни Зои.
Придя с урока, на котором Вера Сергеевна познакомила ребят с биографией Чернышевского, Зоя сказала решительно:
— Я хочу знать о нём всё. Понимаешь, мамочка? А в школе есть только «Что делать?». Ты уж, пожалуйста, спроси, что есть в вашей библиотеке. Мне хочется иметь большую, полную биографию, переписку и воспоминания современников. Хочу представить себе, каким он был в жизни.
Эти слова были только началом, и оставаться в стороне я уже не могла. Обычно не щедрая на слова, Зоя вдруг стала разговорчива — видно, ей необходимо было поделиться каждой мыслью, каждой своей находкой, каждой новой искрои, вспыхнувшей в часы раздумья над прочитанным.
— Смотри, — говорила она, показывая мне какую-то старую биографию Николая Гавриловича, — тут сказано, что в первые студенческие годы он ничем не интересовался, кроме занятий. А вот взгляни, какие латинские стихи он давал тогда переводить своему двоюродному брату: «Пусть восторжествует справедливость или погибнет мир!» Или вот ещё: «Пусть исчезнет ложь или рушатся небеса!» Неужели же это случайно?.. А вот из письма к Пыпину:
«Содействовать славе не преходящей, а вечной своего отечества и благу человечества — что может быть выше и вожделеннее этого?» Мама, я больше не буду тебе мешать, но только ты послушай ещё одно место. Это запись в дневнике: «Для торжества своих убеждений я нисколько не подорожу жизнью! — Для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и порока. Если бы только убеждён был, что мои убеждения справедливы и восторжествуют они, даже не пожалею, что не увижу дня торжества и царства их, и сладко будет умереть, а не горько, если только буду в этом убеждён». Ну, ты подумай: разве после этого можно говорить, что он интересовался только своими занятиями?
Раз начав читать «Что делать?», Зоя уже не могла оторваться — она была так поглощена книгой, что, кажется, впервые в жизни не подогрела обед к моему приходу. Она едва заметила, как я вошла: на секунду подняла на меня далёкие, неузнающие глаза и тотчас снова углубилась в чтение. Я не стала тревожить её, разожгла керосинку, поставила суп и взялась за ведро, чтобы налить воды в умывальник. Тут только Зоя спохватилась, вскочила и отняла у меня ведро:
— Что ты, мама! Я сама!
Кончился ужин, Шура лёг спать, позже легла и я, уснула, потом проснулась, полежала немного с открытыми глазами, снова уснула и снова проснулась уже глубокой ночью, — а Зоя всё читала. Тогда я поднялась, молча взяла у неё книгу, закрыла и положила на этажерку. Зоя посмотрела на меня виновато и умоляюще.
— Мне трудно спать при свете, а завтра надо рано вставать, — сказала я, понимая, что только это и прозвучит для неё убедительно.
Поутру Шура не удержался, чтоб не подразнить сестру:
— Знаешь, мама, она вчера как пришла из школы, так и утонула в книжке.
Читает — и ничего не видит и не слышит. По-моему, она скоро начнёт спать на гвоздях, как Рахметов!
Зоя промолчала, но вечером принесла из школы книжку, в которой были приведены слова Георгия Димитрова о Рахметове — о том, как герой русского писателя стал когда-то любимым образом для молодого болгарского рабочего, делавшего первые шаги в революционном движении. Димитров вспоминал, что тогда, в юности, он стремился стать таким же твёрдым, волевым, закалённым, как Рахметов, так же подчинить свою личную жизнь великому делу — борьбе за освобождение трудящихся.
Зоя взяла для сочинения тему «Жизнь Чернышевского». Она без конца читала, неутомимо разыскивала всё новые материалы и подчас добиралась до фактов, о которых я прежде не знала.
О гражданской казни Чернышевского Зоя рассказала коротко, скупо, но выразительно. Немногими словами она описала пасмурное, дождливое утро, эшафот и на нём — чёрный столб с цепями и чёрную доску с надписью белыми буквами: «Государственный преступник», которую надели на шею Чернышевскому.
Потом — три месяца тяжкого, изнурительного пути, сотни, тысячи долгих, немеряных вёрст. И, наконец, Кадая — глушь, каторга, где царское правительство пыталось угасить «яркий светоч науки опальной».
Зоя нашла в какой-то книге рисунок тушью, вернее, набросок, сделанный одним из политических ссыльных: домик, в котором жил Николай Гаврилович. Шура — его тоже не могло не захватить Зоино увлечение — перерисовал этот набросок в её тетрадь, причём сумел уловить и передать главное: уныние, сковавшее пустынный, холодный край. Жёсткая черта горизонта, болото, песок, хилый, низкорослый лес, кресты над могильными холмами, и всё словно придавлено нависшим, угрюмым небом, и придавлен страшной тяжестью маленький домик, за стенами которого не угадываешь ни тепла, ни уюта, ни радости...
Тянутся годы и годы в одиночестве — мучительная, безотрадная жизнь. И невероятными кажутся письма, которые пишет Николай Гаврилович жене и детям, — письма, полные тепла, света, нежности и любви; они месяцами идут сквозь ночь, сквозь снег.
Так проходят долгие семь лет. И вот Чернышевский накануне освобождения.
Какое письмо пишет он своей жене, Ольге Сократовне!
«Милый мой друг. Радость моя, единственная любовь и мысль моя... пишу в день свадьбы нашей. Милая радость моя, благодарю тебя за то, что озарена тобою жизнь моя... 10-го августа кончается мне срок оставаться праздным, бесполезным для тебя и детей. К осени, думаю, устроюсь где-нибудь в Иркутске или около Иркутска и буду уж иметь возможность работать по-прежнему... Скоро всё начнёт поправляться. С нынешней же осени...»
Каждое слово дышит уверенностью в скором свидании, надеждой на встречу. А вместо этого — ссылка в Вилюйск и ещё долгие, бесконечные тринадцать лет одиночества. Холодная, суровая зима тянется полгода, вокруг — болота, тундра. Это самая тяжёлая пора заключения, даже не освещённая надеждой на освобождение. Ничего впереди. Одиночество, ночь, снег...
И вот тогда к Чернышевскому приезжает полковник Винников и передаёт ему предложение правительства: подать прошение о помиловании. В награду обещано освобождение, возвращение на родину.
«В чём же я должен просить помилования? — говорит в ответ Чернышевский.
— Это вопрос... Мне кажется, я сослан только потому, что моя голова и голова шефа жандармов Шувалова устроены на разный манер, а об этом разве можно просить помилования? Благодарю вас за труды... От подачи прошения я положительно отказываюсь...»
И снова медленно тянется время. День за днём, год за годом уходит жизнь. У него деятельный, могучий ум, который так жаждет работы и творчества, так умеет предвидеть! Рука, написавшая гневные и страстные прокламации, обращённые к русским крестьянам. Голос, который призывал Герцена, чтоб его «Колокол» не благовестил, а звал Русь к топору. Всю свою жизнь он посвятил одному, стремился к одной цели: чтобы угнетённый народ обрёл свободу. Он и невесте сказал когда-то: «Я не принадлежу себе, я избрал такой путь, который грозит мне тюрьмой и крепостью». И этот человек обречён на самую страшную для него муку — на бездействие. Он не может даже пожать руку умирающему другу, сказать ему прощальное слово.
Некрасов умирал. Весть об этом была для Чернышевского жестоким ударом. «Если, когда ты получишь моё письмо, Некрасов ещё будет дышать, — пишет он Пыпину, — скажи ему, что я горячо любил его, как человека, что я благодарю его за доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убеждён: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов. Я рыдаю о нём...»
Три месяца шло это письмо и застало Некрасова ещё живым. «Скажите Николаю Гавриловичу, — просил умирающий, — что я очень благодарю его. Я теперь утешен: его слова дороже мне, чем чьи-либо слова...»
После двадцати лет каторги и ссылки Чернышевский наконец возвращается на родину. Он весь — нетерпение, весь — порыв, он мчится не останавливаясь, не давая себе в этом длинном и тяжком пути ни часу отдыха. Наконец он в Астрахани. И тут снова жестокий удар: Чернышевский лишён возможности работать. Кто же, какой журнал станет печатать статьи «политического преступника»? И опять бездействие, опять вокруг безмолвие и пустота...
Незадолго до смерти Чернышевского с ним виделся Короленко. Николай Гаврилович не позволял жалеть себя, вспоминает Короленко: «Он всегда отлично владел собою и если страдал — а мог ли он не страдать очень жестоко! — то всегда страдал гордо, один, ни с кем не делясь своей горечью».
... Зоя прочла нам своё сочинение вслух. Мы оба — и я и Шура — сказали то, что думали: «Очень хорошо!»
— Знаешь, — добавил Шура, шагая по комнате, — я когда-нибудь непременно напишу большую картину. Она будет называться: «Гражданская казнь Чернышевского».
— А Герцен ведь так и писал, — быстро сказала Зоя. — Знаешь, он писал: неужели никто не нарисует такой картины — Чернышевский у позорного столба? Он говорил, что этот холст обличит... как это он сказал?.. обличит тупых злодеев, привязывающих человеческую мысль к позорному столбу.
— Я всё вижу, — едва дослушав её, продолжал Шура. — И девушку, которая бросила ему цветы, и офицера, который крикнул: «Прощай!» И Чернышевского вижу... Знаешь, в ту минуту, когда палач переломил у него над головой шпагу, Чернышевского поставили на колени, но всё равно — лицо у него такое... понимаешь, сразу видно, что он не покорён и никогда не покорится!
На другой день, едва я появилась в дверях, Шура закричал:
— Мама, Вера Сергеевна вызывала Зою! И ты только подумай: спросила как раз про жизнь и деятельность Чернышевского!
— И что же?
— Отлично! Отлично! Весь класс прямо заслушался, даже я — уж на что мне всё это знакомо! И Вера Сергеевна была очень довольна.
За сочинение Зоя тоже получила «отлично».
— Заслуженная отметка, — сказала я.
— Ещё бы! — откликнулся Шура.
Казалось бы, «отлично» за сочинение — вот завершение Зоиной работы. Но это было не так. Встреча с Чернышевским, знакомство с его судьбой и с его книгами значили очень много для Зои. Его жизнь стала для неё высокой мерой поступков и мыслей. Таков был настоящий итог Зоиной работы над сочинением по литературе.
«ОТЛИЧНО» ПО ХИМИИ
Зоя училась очень хорошо, хотя многие предметы давались ей с трудом. Над математикой и физикой она просиживала иногда до глубокой ночи и ни за что не хотела, чтобы Шура ей помог.
Сколько раз бывало так: вечер, Шура давно приготовил уроки, а Зоя всё ещё за столом.
— Ты что делаешь?
— Алгебру. Задача не выходит.
— Дай я тебе покажу.
— Нет, я сама додумаюсь.
Проходит полчаса, час.
— Я иду спать! — сердито говорит Шура. — Вот решение. Смотри, я кладу сюда.
Зоя даже не поворачивает головы. Шура, с досадой махнув рукой, укладывается спать. Зоя сидит долго. Если её одолевает сон, она ополаскивает лицо холодной водой и снова садится к столу. Решение задачи лежит рядом, стоит только руку протянуть, но Зоя и не глядит в ту сторону.
На другой день она получает по математике «отлично», и это никого в классе не удивляет. Но мы-то с Шурой знаем, чего ей стоят эти «отлично».
... Шура, способный и всё схватывающий быстро, часто готовил уроки небрежно и, случалось, приносил домой «посредственно». И каждая посредственная отметка брата огорчала Зою сильнее, чем его самого:
— Это работа твоя, понимаешь? Ты не имеешь права недобросовестно относиться к своей работе!
Шура только морщился и охал, слушая её, потом не выдерживал:
— Что же, по-твоему, я не способен понять всю эту премудрость?
— Если способен — докажи! Перелистал книжку и бросил? Нет, ты начал, так дойди до конца! Тогда скажешь: способен. Не люблю я, когда делают кое-как. Это просто отвратительно!
***
— Зоя, ты почему такая хмурая?
— Получила «отлично» по химии, — нехотя отвечает Зоя.
На моём лице такое изумление, что Шура не выдерживает и громко хохочет.
— Тебя огорчает отличная отметка? — спрашиваю я, не веря своим ушам и глазам.
— Сейчас я тебе всё объясню, — говорит Шура, потому что Зоя упорно молчит. — Она, видишь ли, считает, что отметка незаслуженная, что она химию на «отлично» не знает.
В голосе Шуры неодобрение.
Зоя опускает подбородок в ладони и переводит невесёлые, потемневшие глаза с Шуры на меня.
— Ну да, — говорит она. — Никакой радости мне это «отлично» не доставило. Я ходила-ходила, думала-думала, потом подошла к Вере Александровне и говорю: «Я ваш предмет на «отлично» не знаю». А она посмотрела на меня и отвечает: «Раз вы так говорите, значит, будете знать. Будем считать, что «отлично» я вам поставила авансом».
— И уж наверно подумала, что ты притворяешься! — сердито говорит Шура.
— Нет, она так не подумала! — Зоя резко выпрямляется, горячий румянец заливает её щёки.
— Если Вера Александровна справедливый и умный человек и если она хоть немного знает своих учеников, она о Зое так не подумает, — вступаюсь я, видя, как задели и огорчили Зою Шурины слова.
... В тот же вечер, когда Зоя зачем-то ушла из дому, Шура опять заговорил о происшествии с отметкой по химии.
— Мам, я ведь не зря сегодня Зою ругал, — начал он с необычайной серьёзностью. Он стоял спиной к окну, упираясь обеими руками в край подоконника, сдвинув брови; между бровями появилась косая сердитая морщинка.
— Ты пойми, мам: Зоя иной раз поступает так, что никто не может этого понять. Вот с этой отметкой. Любой в классе был бы рад получить «отлично», и никто бы даже не подумал рассуждать, заслуженная отметка или не заслуженная. Химичка поставила — и всё. Нет, Зоя какая-то уж через меру строгая! Или вот, смотри: на днях Борька Фоменков написал сочинение — хорошее, умное. Но он за собой знает: у него всегда много ошибок. Так он взял и приписал в конце:
«Без грамматической ошибки я русской речи не люблю». Все смеялись, а Зоя осуждала. Это, говорит, его работа, его дело, и тут не место шуткам... Мне что обидно, — горячо продолжал Шура, — ведь она же понимает шутки и посмеяться любит, а вот в школе об этом, по-моему, даже никто не догадывается. Стоит кому-нибудь набузить... ну, в общем, наозорничать, — поправился он, заметив мой взгляд, — и даже не сильно, а совсем немножко — и Зоя уже сразу читает нотацию. Или тоже вчера — ты даже не знаешь, какой шум поднялся в классе! Был диктант. Одна девочка спрашивает у Зои, как пишется: «в течение» или «в течении». И Зоя ей не ответила, ты подумай только! В переменку весь класс разделился — половина на половину — чуть не в драку: одни кричат, что Зойка плохой товарищ, другие — что она принципиальная...
— А ты что кричал?
— Я-то ничего не кричал. Но только имей в виду: я бы на её месте никогда не отказал товарищу.
С минуту мы оба молчали.
— Послушай, Шура, — заговорила я, — когда у Зои не выходит задача, а у тебя всё решено, Зоя просит тебя помочь ей?
— Нет, не просит.
— Помнишь, как она раз просидела до четырёх часов утра, а всё-таки сама решила ту запутанную задачу по алгебре?
— Помню.
— Я думаю, что человек, который так требовательно, так строго относится к самому себе, имеет право требовательно относиться и к другим. Я знаю, ребята считают так: подсказка — дело святое. У нас в гимназии это было законом. Но это старый плохой закон. Я не уважаю тех, кто живёт на подсказках и шпаргалках. И я уважаю Зою за то, что у неё есть мужество сказать об этом прямо.
— Ну да, некоторые ребята тоже так говорили, что, мол, Зоя прямой человек и говорит то, что думает. Вот Петька сказал так: «Если я не понимаю, она мне всегда всё объясняет, никогда не отказывается, а во время контрольной подсказывать нечестно». Но всё-таки...
— Что же «всё-таки»?
— Всё-таки это не по-товарищески!
— Знаешь, Шура, если бы Зоя отказывалась помочь, объяснить — вот это было бы не по-товарищески. А отказать в подсказке, — по-моему, это и есть честный поступок.
Я видела, что мои слова не убедили Шуру. Он долго ещё стоял у окна, не читая перелистывал книгу, и я понимала, что спор с самим собой продолжается.
***
Кое-что в рассказе Шуры растревожило и меня. Зоя — живая, весёлая девушка. Она любит театр и, если смотрит какой-нибудь спектакль без нас, всегда так выразительно и горячо рассказывает о виденном и слышанном, что нам с Шурой кажется, будто мы сами видели пьесу. Сквозь её постоянную серьёзность нередко прорывается неудержимый юмор, унаследованный от отца, и тогда мы весь вечер смеёмся, вспоминая разные забавные случаи. Иногда Зоя разговаривает своим обычным тоном и вдруг едва заметно изменит голос, выражение лица... Сама она при этом никогда не улыбнётся, а мы с Шурой хохочем до слёз, узнавая человека, о котором зашла речь.
Вот Зоя чуть согнулась, поджала губы и говорит степенно, с долгими паузами:
— А я, милые мои, вот что вам скажу, уж вы не обессудьте... Вы, молодые, не верите, а только уж если кошка перебежит дорогу — быть беде...
И перед нами, как живая, встаёт старушка — соседка по прежней квартире.
— Верно, верно: Акулина Борисовна! — кричит Шура.
Вот Зоя нахмурилась и произносит строго, отрывисто:
— Почему непорядок? Немедленно прекратить! Иначе буду принуждён принять меры!
И мы со смехом узнаём школьного сторожа в Осиновых Гаях. Чувство юмора редко покидает её, и она умеет говорить смешные вещи, оставаясь серьёзной.
Зоя любит гостей. Когда к нам заходит дядя Серёжа, или моя сестра Ольга, или кто-нибудь из моих товарищей по работе, Зоя не знает, куда усадить, чем накормить. Она оживлённо хлопочет, непременно угостит своей стряпнёй, всегда огорчается, если у гостя нет времени посидеть подольше. Она хорошо, легко чувствует себя среди взрослых.
Но вот в школе, среди сверстников, Зоя часто кажется замкнутой и необщительной. И это тревожит меня.
— Почему ты ни с кем не дружишь? — как-то спросила я.
— А ты разве мне не друг? А Шура не друг? Да и с Ирой мы в дружбе. — Зоя помолчала и добавила с улыбкой: — Это у Шуры полкласса друзей. А я так не могу.
НАЕДИНЕ С СОБОЙ
— Зоя, ты что пишешь?
— Просто так.
Это значит: Зоя сидит за дневником.
Толстая тетрадь в клетку, в коленкоровом переплёте. Зоя достаёт её изредка, записывает немного.
— Дай почитать, — просит Шура.
Зоя качает головой.
— Ну ладно же! Родному брату не показываешь?
Шура чуть-чуть играет: его сердитый, грозный тон, конечно, шутка, но в этой шутке невольно сквозит и настоящая обида.
— Родной брат прочитает, а потом будет смеяться, знаю я тебя, — отвечает Зоя. А потом говорит мне тихо: — Тебе можно.
... Это был странный дневник. Он совсем не походил на тот, что вела Зоя в двенадцать лет. Она не излагала в нём никаких событий. Иногда она записывала только несколько слов, иногда — фразу из книги, иногда — стихотворную строчку. Но за чужими словами, за чужими стихами было видно, о чём думает, чем тревожится моя девочка.
Среди других я нашла такую запись:
«Дружба — это значит делиться всем, всем! Иметь общие Мысли, общие помыслы. Делиться радостью и горем. Мне кажется, неправду пишут в книгах, что дружат люди только противоположных характеров. Это неверно: чем больше общего, тем лучше. Я хотела бы иметь такого друга, которому могла бы поверять всё. Я дружу с Ирой, но мне всё кажется, что она моложе меня, хоть мы и однолетки».
Были в дневнике строчки Маяковского:
Но мне — люди, и те, что обидели, — вы мне всего дороже и ближе.
А потом слова Николая Островского:
«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы... и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества».
Были и такие слова (не знаю, принадлежали они Зое или она их где-нибудь вычитала):
«Кто не мнит о себе слишком много, тот гораздо лучше, чем думает».
«Уважай себя, не переоценивай. Не запирайся в свою скорлупу и не будь однобокой. Не кричи, что тебя не уважают, не ценят. Больше работай над собой, и больше будет уверенности».
Я закрыла тетрадь со странным и сложным чувством. На этих страницах пробивались ещё очень юная, не сложившаяся, ищущая мысль — словно человек искал дорогу, выходил на верную тропу, а потом снова сбивался, плутал и опять выбирался на правильный путь. Это было большое, чистое зеркало, где отражалось каждое движение ума и сердца. И я решила: не буду больше читать Зоин дневник. Полезно человеку побыть наедине с самим собой, заглянуть в себя, подумать обо всём подальше от постороннего глаза, даже если это глаз матери.
— Спасибо, что веришь мне, — сказала я Зое. — Но дневник — твой, и никому его читать не надо.
«САМО СОБОЙ РАЗУМЕЕТСЯ»
Летом 1938 года Зоя стала готовиться к вступлению в комсомол. Она достала устав, снова и снова читала его, а потом Шура проверял, всё ли она запомнила и усвоила.
Осенью, когда начались занятия, Шура сказал мне:
— Теперь я вижу, что наши ребята уважают Зою. Там ещё некоторые готовятся в комсомол, так они всё время к ней: объясни, да расскажи, да как это понять. И потом, комитет комсомола дал ей такую характеристику, как никому: и добросовестная, и надёжная, и достойная, и всё, что тебе угодно. И на общем собрании было очень торжественно. Зоя вышла, рассказала биографию, потом ей задавали всякие вопросы, а потом стали обсуждать её кандидатуру. И все, ну, просто в один голос говорили: честная, прямая, хороший товарищ, всю общественную работу выполняет, отстающим помогает...
Помню, Зоя писала автобиографию. Вся она уместилась на одной страничке, и Зоя очень сокрушалась.
— Совсем не о чем писать, — повторяла она. — Ну, родилась, ну, поступила в школу, ну, учусь... А что сделала? Ничего!
... В тот день Шура волновался, по-моему, не меньше, чем сама Зоя. Не помню, когда ещё я видела его таким. Он ждал Зою у райкома. Вступавших в тот вечер было много, а Зою вызвали одной из последних. «Едва дождался!» — рассказывал он после.
Я тоже не могла дождаться. То и дело смотрела в окно — не идут ли они, но за окном сгустилась ночная тьма, и в ней ничего нельзя было различить. Тогда я вышла на улицу и медленно пошла в ту сторону, откуда должны были прийти ребята. Не успела я сделать несколько шагов, как они налетели на меня, задыхающиеся, возбуждённые.
— Приняли! Приняли! На все вопросы ответила! — кричали они наперебой.
Мы снова поднялись к себе, и Зоя, раскрасневшаяся, счастливая, стала рассказывать всё, как было:
— Секретарь райкома такой молодой, весёлый. Задавал много вопросов: что такое комсомол, потом про события в Испании, потом спросил, какие труды Маркса я знаю. Я сказала, что читала только «Манифест Коммунистической партии». А под конец он говорит: «А что самое важное в уставе, как по-твоему?» Я подумала и говорю: «Самое главное: комсомолец должен быть готов отдать Родине все свои силы, а если нужно — и жизнь». Ведь правда же это самое главное?.. Тогда он и говорит: «Ну, а хорошо учиться, выполнять комсомольские поручения?» Я удивилась и отвечаю: «Ну, это само собой разумеется». Тогда он отдёрнул занавеску, показал на небо и говорит: «Что там?» Я, опять удивилась, отвечаю: «Ничего нет». — «А видишь, говорит, сколько звёзд? Красиво? Ты их даже не заметила сразу, а всё потому, что они сами собой разумеются. И ещё одно запомни: всё большое и хорошее в жизни складывается из малого, незаметного. Ты об этом не забывай!» Хорошо сказал, да?
— Очень хорошо! — в один голос ответили мы с Шурой.
— Потом он спросил, — продолжала Зоя, — «Ты читала речь Ленина на Третьем съезде комсомола?» — «Конечно!» — отвечаю. « «А хорошо её помнишь?»
— «По-моему, наизусть». — «Ну, если наизусть, скажи самое памятное место». И я сказала: «И вот, поколение, которому теперь 15 лет и которое через 10-20 лет будет жить в коммунистическом обществе, должно все задачи своего учения ставить так, чтобы каждый день в любой деревне, в любом городе молодёжь решала практически ту или иную задачу общего труда, пускай самую маленькую, пускай самую простую».
— Зоя, а ты не помнишь, когда ты в первый раз услышала о том, что говорил Владимир Ильич на Третьем съезде? — спросила я, почти уверенная, что она не сумеет ответить.
Но я ошиблась.
— Нам рассказывали летом, в лагере, — не задумываясь, ответила Зоя. — Помнишь, у костра...
Потом мы сидели и пили чай, и Зоя вспоминала всё новые и новые подробности того, как её принимали. А собираясь спать, сказала:
— Мне кажется, что в чём-то я теперь стала другая, новая...
— Ну что ж, давай познакомимся, — ответила я о невольной улыбкой, но по Зоиным глазам увидела, что она в этот час не примет шутку, и прибавила: — Понимаю, Зоя.
ДОМ ПО СТАРОПЕТРОВСКОМУ ПРОЕЗДУ
Герцен сказал как-то: «Ничто так не облагораживает юность, как сильно возбуждённый общечеловеческий интерес». Когда я вспоминаю, как воспитывались мои дети и их школьные друзья, я вижу: да, это делало их юность одухотворённой и прекрасной. Всё, что совершалось в стране и за её пределами, касалось их непосредственно, было их личным делом.
Страна крепла, строилась, росла, а вместе с нею росли Зоя и Шура — не зрители, а деятельные участники всего, что творилось вокруг. И вновь выстроенный завод, и смелая мысль советского учёного, и успехи советских музыкантов на международном конкурсе — всё это было частью и их жизни, было неотделимо и от их личной судьбы. Всё это было важно, близко моим ребятам, на всё они откликались всем сердцем, обсуждали в школе, дома, снова и снова возвращались к этому мыслью, на этом воспитывались.
Беседа с секретарём райкома комсомола не просто запомнилась Зое, она действительно врезалась ей в память, и каждое слово, сказанное им в тот день — день её второго рождения, — стало для неё законом.
Зоя всегда, на удивленье точно и добросовестно, выполняла свои обязанности. Но теперь в каждое порученное ей дело она вкладывала все силы и всю душу. Словно теперь она заново поняла: её работа — часть той великой общей задачи, о которой говорил когда-то Владимир Ильич.
Очень скоро после её вступления в комсомол Зою избрали групоргом. Она тотчас же составила список комсомольских поручений: «Каждый должен что-нибудь делать, иначе какие же мы комсомольцы?» Она расспросила, кто чем интересуется, кто какую работу хочет вести. «Тогда лучше будет работать», — справедливо заметила она в разговоре со мною. Впрочем, она и прежде внимательно присматривалась к товарищам по классу и хорошо знала, кто на что способен и кто что может. Список поручений получился длинный и подробный: один отвечал за учебную работу, другой — за физкультурную, третий — за стенную газету... Дело нашлось всем. Зоя и ещё несколько комсомольцев должны были обучать неграмотных женщин в одном из домов по Старопетровскому проезду.
— Это трудно, — сказала я, — очень трудно. Да и далеко ходить, а бросить будет неловко. Ты подумала об этом?
— Ну что ты! — вспыхнула Зоя. — «Бросить»! Уж если мы взялись...
В первый же свободный вечер Зоя отправилась в Старопетровский проезд. Вернувшись, она рассказала, что её ученица — пожилая женщина, которая совсем не умеет ни читать, ни писать и очень хочет научиться грамоте.
— Подумай, даже подписать своё имя как следует не умеет! — говорила Зоя. — У неё дел по горло — и хозяйство и дети, но учиться она станет, я верена. Меня встретила приветливо, называла дочкой...
Зоя взяла у меня книгу по методике обучения грамоте и просидела над ней до поздней ночи. Дважды в неделю она стала ходить к своей ученице, и ничто — ни дождь, ни снег, ни усталость — не могло ей помешать.
— Если случится землетрясение, она всё равно пойдёт. Будет пожар — она всё равно скажет, что не может подвести свою Лидию Ивановну, — говорил Шура.
И хоть в голосе его подчас звучали и досада и насмешка, однако он часто выходил встречать Зою после её уроков, потому что осень стояла дождливая, ненастная, и мы беспокоились, как Зоя станет возвращаться в темноте, по грязи. Шуре это даже нравилось: пойти за сестрой, проводить её. Пусть Зоя чувствует, что значит брат — защитник, опора, мужчина в семье!
Шура был теперь выше Зои, широкоплечий, сильный.
— Смотрите, какие мускулы! — любил он повторять.
И Зоя с радостной гордостью, с удивлением говорила:
— Правда, мама, потрогай, какие мускулы, — как железо!
... Однажды я принесла билеты на концерт в Большой зал Консерватории. Исполнялась Пятая симфония Чайковского. Зоя очень любила её, не раз слышала и уверяла, что каждый раз слушает с новым наслаждением.
— Чем музыку больше слушаешь, тем сильнее она действует. Я уж сколько раз в этом убеждалась, — сказала она однажды.
Зоя очень обрадовалась билетам, но вдруг как будто внутренне ахнула, поднесла к губам и слегка прикусила указательный палец, как делала всегда, когда спохватывалась, внезапно вспоминая о чём-то нечаянно забытом.
— Мама, а ведь это в четверг! — огорчённо сказала она. — Я не могу пойти. Ведь я по четвергам у Лидии Ивановны.
— Что за чепуха! — возмутился Шура. — Ну, не придёшь один раз, какая трагедия!
— Что ты! Нет, ничего не выйдет. Не могу же я, чтоб она меня напрасно ждала.
— Я пойду и предупрежу, чтобы не ждала.
— Нет, не могу. Взялся за гуж — так не говори, что не дюж. Она меня ждёт заниматься, а я пойду на концерт? Нет, нельзя.
Так Зоя и не пошла слушать Чайковского.
— Ну и характер! Ну и характер! — твердил Шура и в этом возгласе смешивались возмущение и невольное уважение к сестре.
ПОД НОВЫЙ ГОД
... Наступил новый, 1939 год.
Придя из школы, Зоя рассказала, что девочки в классе пишут друг другу новогодние пожелания. Записку с пожеланием надо сжечь, а пепел проглотить, как только кремлёвские часы пробьют двенадцать.
— Ну, уж и выдумали! — фыркнул Шура.
— Глотать-то я, пожалуй, не стану, — засмеялась Зоя, — вряд ли это вкусно, а прочитать — прочту.
Она достала из кармана тщательно свёрнутую и заклеенную записочку, надорвала и прочла вслух:
— «Зоенька, не суди людей так строго. Не принимай всё так близко к сердцу. Знай, что все почти люди эгоисты, льстецы, неискренние и полагаться на них нельзя. Слова, сказанные ими, оставляй без внимания. Таково моё пожелание к Новому году».
С каждым словом Зоя всё больше хмурилась, а дочитав, резко отбросила записку.
— Если так думать о людях, то зачем жить? — сказала она.
... К новогоднему школьному балу-маскараду Зоя готовилась с увлечением. Девочки решили нарядиться в костюмы национальностей, населяющих Советский Союз. Мы долго думали, кем нарядиться Зое.
— Украинкой, — предложил Шура. — Глаза хорошие, брови подходящие — чем не чернобровая дивчина? Вышитая кофточка есть, юбка есть, надо только ленты и бусы.
А позже, улучив минуту, когда мы с ним остались вдвоём, Шура сказал мне:
— Вот что, мам: надо Зое купить новые туфли. У всех девочек в классе туфли на каких-то там каблуках — не очень высоких, а всё-таки...
— Это называется на венском каблуке, — подсказала я.
— Ну да. А у Зои какие-то мальчиковые.
— В этом месяце не удастся, Шурик.
— Тогда мне не нужно новой рубашки. Я в этой прохожу. И не надо шапки.
— Твоя шапка уже давно ни на что не похожа.
— Мама, но ведь я мальчишка, а Зоя девочка. Девушка даже. Для неё это важнее.
И верно, для неё это было важно. Помню, раз, придя домой, я застала Зою перед зеркалом в моём платье. Услышав шаги, она быстро обернулась.
— Идёт мне? — спросила она со смущённой улыбкой.
Она любила примерять мои платья и очень радовалась каждой пустяковой обновке. Никогда она не просила купить ей новое, всегда удовлетворялась тем, что я сама ей шила, но Шура был прав: ей это не могло быть безразлично.
Мы выкроили нужную сумму, и, горячо поспорив с нами, Зоя всё же пошла и купила себе новые чёрные туфельки — свои первые туфли на том самом венском каблуке.
Новогодний наряд мы тоже «дотянули»: были и бусы и ленты. Шуре выстирали и выгладили рубашку, повязали новый галстук. И мои ребята пошли в школу нарядные и оживлённые. Я долго стояла у окна и смотрела им вслед.
Вечер был удивительно светлый и тихий. За окном медленно, нехотя опускались пушистые хлопья. Я знала, что, пройдя сквозь эту снежную тишину, Зоя и Шура с головой окунутся в пёстрое, шумное молодое веселье, и от всей души желала, чтобы весь новый год был для них таким же светлым, ярким, счастливым.
... Вернулись они только под утро: в школе был большой маскарад, музыка и «танцы до упаду», как сообщил Шура.
— И знаешь, мам, мы играли в почту, и какой-то чудак всё время писал Зое, что у неё красивые глаза. Правда, правда! Под конец даже стихами разразился! Вот послушай...
Шура стал в позу и, еле удерживаясь от смеха, продекламировал:
Ты такая ясноокая —
Даже сердце замирает.
Вся душа твоя глубокая
Под ресницами сияет!
И мы все трое неудержимо расхохотались.
... К концу зимы выяснилось, что та самая девочка, которая в новогоднем пожелании написала Зое о людском эгоизме и неверности и о том, что на людей нельзя полагаться, перестала учить свою «подшефную» домохозяйку грамоте.
— Очень далеко ходить, — объяснила она групоргу Зое. — И уроков так много задают, я не успеваю. Назначь кого-нибудь другого.
У Зои от гнева глаза были совсем чёрные, когда она мне рассказывала об этом.
— Я этого даже понять не могу! Нет, ты послушай: взяла и бросила! И даже не подумала, что этим она подводит всех, не одну себя. Какая же она комсомолка? Да, вдруг она встретит эту женщину — как она ей в глаза посмотрит? И всем в классе?
Сама Зоя за всю зиму не пропустила занятий ни разу. В какой-то из четвергов у неё отчаянно разболелась голова, но она превозмогла себя и всё-таки пошла.
Мы с Шурой немедленно и в подробностях узнавали о каждом успехе Зоиной ученицы:
— Лидия Ивановна уже помнит все буквы...
— Лидия Ивановна уже читает по складам...
— Лидия Ивановна уже бегло читает! — наконец с торжеством сообщила Зоя.
— Помнишь, она даже подписаться не умела. А теперь у неё и почерк становится хороший.
В тот вечер, ложась спать, Зоя сказала:
— Знаешь, мама, всю неделю хожу и думаю: что такое хорошее случилось? И сразу вспоминаю: Лидия Ивановна читать умеет. Теперь я понимаю, почему ты стала учительницей. Это и вправду очень хорошо!
ТЯЖЁЛЫЕ ДНИ
Осень 1940 года неожиданно оказалась для нас очень горькой...
Зоя мыла полы. Она окунула тряпку в ведро, нагнулась — и вдруг потеряла сознание. Так, в глубоком обмороке, я и нашла её, придя с работы домой. Шура, вошедший в комнату одновременно со мною, кинулся вызывать карету «скорой помощи», которая и увезла Зою в Боткинскую больницу. Там поставили диагноз: менингит.
Для нас с Шурой наступило тяжёлое время. Долгие дни и ночи мы могли думать только об одном: выживет ли Зоя?.. Жизнь её была в опасности. У профессора, лечившего её, во время разговора со мной лицо было хмурое, встревоженное. Мне казалось, что надежды нет.
Шура по нескольку раз на день бегал в Боткинскую больницу. Лицо его, обычно открытое, ясное, становилось всё более угрюмым и мрачным. Болезнь Зои протекала очень тяжело. Ей делали уколы в спинной мозг — это была мучительная и сложная операция.
Как-то мы с Шурой после одного из таких уколов пришли справиться о состоянии Зои. Медицинская сестра внимательно посмотрела на нас и сказала:
— Сейчас к вам выйдет профессор.
Я похолодела.
— Что с ней? — спросила я, должно быть, уж очень страшным голосом, потому что вышедший в эту минуту профессор бросился ко мне со словами:
— Что вы, что вы, всё в порядке! Я хотел вас повидать, чтобы успокоить: всё идёт на лад. У девочки огромная выдержка, она всё переносит без стона, без крика, очень мужественно и стойко. — И, взглянув на Шуру, он спросил добродушно: — А ты тоже такой?
В тот день меня впервые пустили к Зое. Она лежала пластом, не могла поднять головы. Я сидела рядом, держа её за руку, и не чувствовала, что по моему лицу текут слёзы.
— Не надо плакать, — тихо, с усилием сказала Зоя. — Мне лучше.
И правда, болезнь пошла на убыль. Мы с Шурой сразу почувствовали огромное облегчение, как будто боль, цепко державшая нас в эти нескончаемо долгие недели, вдруг отпустила. И вместе с тем пришла огромная, ни с чем не сравнимая усталость. За время Зоиной болезни мы устали, как не уставали за все последние годы. Было так, словно страшная тяжесть, которая надолго придавила нас, вдруг исчезла и мы ещё не в силах распрямиться, перевести дыхание.
Несколько дней спустя Зоя попросила:
— Принеси мне, пожалуйста, что-нибудь почитать.
Через некоторое время врач и в самом деле разрешил мне принести книги, и Зоя почувствовала себя совсем счастливой. Говорила она ещё с трудом, быстро уставала, но всё-таки читала. Я принесла ей тогда «Голубую чашку» и «Судьбу барабанщика» Гайдара.
— Какая чудесная, светлая повесть! — сказала она о «Голубой чашке». — Ничего там не происходит, ничего не случается, а оторваться нельзя!
Выздоровление шло медленно. Сначала Зое разрешили сидеть и только некоторое время спустя — ходить.
Она подружилась со всеми, кто был в её палате. Пожилая женщина, лежавшая на соседней койке, сказала мне однажды:
— Жалко нам будет расставаться с вашей дочкой. Она такая ласковая, даже самых тяжёлых больных умеет подбодрить.
А доктор, лечивший Зою, не раз шутил:
— Знаете что, Любовь Тимофеевна? Отдайте-ка мне Зою в дочки!
Сёстры тоже были приветливы с Зоей, давали ей книги, а профессор сам приносил ей газеты, которые она, немного поправившись, читала вслух соседкам по палате.
А однажды к Зое пустили Шуру. Они давно не виделись. Зоя при виде брата приподнялась на кровати, и лицо её залил горячий румянец. А с Шурой случилось то, что всегда с ним бывало, когда он попадал в общество незнакомых людей: он испуганно оглядывался на Зоиных соседок, покраснел до испарины на лбу, вытер лицо платком и наконец остановился посреди палаты, не зная, куда ступить дальше.
— Да иди же, иди сюда, садись вот тут, — торопила Зоя. — Рассказывай скорей, что в школе. Да не смущайся ты, — добавила она шёпотом, — никто на тебя не смотрит.
Шура кое-как справился с собой и в ответ на повторенный Зоей вопрос:
«Как там в школе? Рассказывай скорей!» — вынул из нагрудного кармана маленькую книжку с силуэтом Ильича. Такую же получила Зоя в феврале 1939 года.
— Комсомольский билет! — воскликнула Зоя. — Ты комсомолец?
— Я тебе не говорил, чтоб был сюрприз. Я знал, что ты обрадуешься.
И, позабыв о непривычной обстановке, Шура принялся со всеми подробностями рассказывать сестре, какие вопросы задавали ему на общем собрании, о чём с ним говорили в райкоме и как секретарь райкома спросил:
«Ты брат Космодемьянской? Помню её. Смотри не забудь, передай ей привет!»
ДОМОЙ
Во время Зоиной болезни Шура набрал очень много чертёжной работы. Он чертил до поздней ночи, а иногда и по утрам, до ухода в школу. Потом он отнёс чертежи и получил деньги, но не отдал их мне, как делал обычно. Я не стала спрашивать, потому что знала: он и сам скажет, что хочет сделать с ними. Так и вышло. Накануне того дня, когда надо было идти в больницу за Зоей, Шура сказал:
— Вот, мам, деньги. Это Зое на новое платье. Я хотел купить материал, да уж лучше пускай она сама. Пускай выберет, что ей по вкусу.
... Зоя вышла к нам побледневшая, похудевшая, но глаза у неё так и сияли. Она обняла меня и Шуру, который при этом, конечно, испуганно оглянулся, не видит ли кто.
— Пойдёмте, пойдёмте, хочу домой! — торопила Зоя, как будто её могли вернуть в палату.
И мы пошли, очень тихо, изредка приостанавливаясь: боялись утомить её. А Зое хотелось идти быстрее. Она на всё глядела с жадностью человека, который долго пробыл взаперти. Иногда она поднимала лицо к солнцу — оно было холодное, но яркое — и жмурилась и улыбалась. А снег так славно поскрипывал под ногами, деревья стояли мохнатые от инея, в воздухе словно дрожали весёлые колючие искорки. Зоины щёки слегка порозовели.
Дома она медленно прошла по всей комнате и потрогала каждую вещь: погладила свою подушку, провела рукой по столу, по ребру шкафа, перелистала книги — словно заново знакомилась со всеми этими, такими привычными, вещами. И тут к ней подошёл серьёзный и немного смущённый Шура.
— Это тебе на новое платье, — сказал он, протягивая деньги.
— Большое спасибо, — серьёзно ответила Зоя.
Она не спорила и не возражала, как обыкновенно делала, когда речь заходила о какой-нибудь обновке для неё. И на лице её было большое, искреннее удовольствие.
— А теперь ложись, ты устала! — повелительно сказал Шура, и Зоя всё так же послушно и с видимым удовольствием прилегла.
... Пока я хлопотала о путёвке в санаторий, где Зоя могла бы окончательно поправиться, она в школу не ходила — сидела дома и понемножку занималась.
— Мне бы очень хотелось, чтобы ты осталась на второй год, — сказала я осторожно. — Тебе ещё нельзя всерьёз заниматься.
— Ни в коем случае! — упрямо тряхнув головой, ответила Зоя. — Я после санатория буду заниматься, как зверь (она мимолётно улыбнулась тому, что у неё сорвалось это Шурино словечко), и летом буду заниматься. Непременно догоню. А то ещё, чего доброго, Шура — моложе, а окончит школу раньше меня. Нет, ни за что!
... Зоя радовалась жизни, как радуется человек, ускользнувший от смертельной опасности.
Она всё время пела: причёсываясь перед зеркалом, подметая комнату, вышивая. Часто пела она бетховенскую «Песенку Клерхен», которую очень любила:
Гремят барабаны, и флейты звучат.
Мой милый ведёт за собою отряд.
Копьё поднимает, полком управляет.
Ах, грудь вся горит, и кровь так кипит!
Ах, если бы латы и шлем мне достать,
Я стала б отчизну свою защищать!
Прошла бы повсюду за ними вослед...
Уж враг отступает пред нашим полком.
Какое блаженство быть храбрым бойцом!
Зоин голос так и звенел: радость жить — вот что звучало в нём. И даже грустные строки «Горных вершин» в её исполнении тоже казались задумчиво-радостными, полными надежды:
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты.
В эти дни Шура часто рисовал Зою, усаживая её у окна.
— Знаешь, — задумчиво сказал он однажды, — я читал, что Суриков с детства любил вглядываться в лица: как глаза расставлены, как черты лица складываются. И всё думал: почему это так красиво? И потом решил: красивое лицо то, где черты гармонируют друг с другом. Понимаешь, пусть нос курносый, пусть скулы, а если всё гармонично, то лицо красивое.
— А разве у меня нос курносый? Ведь ты это хочешь сказать? — смеясь, спросила Зоя.
— Нет, — ответил Шура застенчиво, с непривычной для него лаской в голосе. — Я хочу сказать, что у тебя лицо гармоничное, всё подходит друг к другу: и лоб, и глаза, и рот...
АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ
Вскоре Зоя уехала в санаторий. Находился он недалеко, в Сокольниках, и в первый свой свободный день я приехала её навестить.
— Мама! — крикнула Зоя, бросаясь мне навстречу и едва успев поздороваться. — Знаешь, кто тут отдыхает?
— Кто же?
— Гайдар! Писатель Гайдар! Да вот он идёт.
Из парка шёл высокий широкоплечий человек с открытым, милым лицом, в котором было что-то очень детское.
— Аркадий Петрович! — окликнула Зоя. — Это моя мама, познакомьтесь.
Я пожала крепкую большую руку, близко увидела весёлые, смеющиеся глаза — и мне сразу показалось, что именно таким я всегда представляла себе автора «Голубой чашки» и «Тимура».
— Очень давно, когда мы с детьми читали ваши первые книги, Зоя всё спрашивала: какой вы, где живёте и нельзя ли вас увидеть? — сказала я.
— Я — самый обыкновенный, живу в Москве, отдыхаю в Сокольниках, и видеть меня можно весь день напролёт! — смеясь, отрапортовал Гайдар.
Потом кто-то позвал его, и он, улыбнувшись нам, отошёл.
— Знаешь, как мы познакомились? — сказала Зоя, ведя меня куда-то по едва протоптанной снежной дорожке. — Иду я по парку, смотрю — стоит такой большой, плечистый дядя и лепит снежную бабу. Я даже не сразу поняла, что это он. И не как-нибудь лепит, а так, знаешь, старательно, с увлечением, как маленький: отойдёт, посмотрит, полюбуется... Я набралась храбрости, подошла поближе и говорю: «Я вас знаю, вы писатель Гайдар. Я все ваши книги знаю». А он отвечает: «Я, говорит, тоже вас знаю, и все ваши книги знаю: алгебру Киселёва, физику Соколова и тригонометрию Рыбкина!»
Я посмеялась. Потом Зоя сказала:
— Пройдём ещё немножко, я тебе покажу, что он построил: целую крепость.
И правда, это походило на крепость: в глубине парка стояли, выстроившись в ряд, семь снежных фигур. Первая была настоящий великан, остальные всё меньше и меньше ростом; самая маленькая снежная баба сидела в вылепленной из снега палатке, а перед ней на прилавке лежали сосновые шишки и птичьи перья.
— Это вражеская крепость, — смеясь, рассказывала Зоя, — и Аркадий Петрович обстреливает её снежками, и все ему помогают.
— И ты?
— Ну и я, конечно! Тут не устоишь, такой шум подымается... Знаешь, мама, — несколько неожиданно закончила Зоя, — я всегда думала: человек, который пишет такие хорошие книги, непременно и сам очень хороший. А теперь я это знаю.
Аркадий Петрович и Зоя подружились: катались вместе на коньках, ходили на лыжах, вместе пели песни по вечерам и разговаривали о прочитанных книгах.
Зоя читала ему свои любимые стихи, и он сказал мне при следующей встрече:
«Она у вас великолепно читает Гёте».
— А мне он знаешь что сказал, послушав Гёте? — удивлённо говорила потом Зоя. — Он сказал: «На землю спускайтесь, на землю!» Что это значит?
В другой раз, незадолго до отъезда из санатория, Зоя рассказала:
— Знаешь, мама, я вчера спросила: «Аркадий Петрович, что такое счастье?
Только, пожалуйста, не отвечайте мне, как Чуку и Геку: счастье, мол, каждый понимает по-своему. Ведь есть же у людей одно, большое, общее счастье?» Он задумался, а потом сказал: «Есть, конечно, такое счастье. Ради него живут и умирают настоящие люди. Но такое счастье на всей земле наступит ещё не скоро». Тогда я сказала: «Только бы наступило!» И он сказал: «Непременно!»
Через несколько дней я приехала за Зоей. Гайдар проводил нас до калитки. Пожав нам на прощанье руки, он с серьёзным лицом протянул Зое книжку:
— Моя. На память.
На обложке дрались два мальчика: худенький — в голубом костюме и толстый — в сером. Это были Чук и Гек. Обрадованная и смущённая, Зоя поблагодарила, и мы с нею вышли за калитку. Гайдар помахал рукой и ещё долго смотрел нам вслед. Оглянувшись в последний раз, мы увидели, как он неторопливо идёт по дорожке к дому.
Вдруг Зоя остановилась:
— Мама, а может быть, он написал мне что-нибудь!
И, помедлив, словно не решаясь, она открыла книжку. На титульном листе были крупно, отчётливо написаны хорошо нам знакомые слова:
«Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовётся Советской страной».
— Это он мне опять отвечает, — тихо сказала Зоя.
... Через несколько дней после возвращения из санатория Зоя пошла в школу. О том, чтобы остаться на второй год, она и слышать не хотела.
ОДНОКЛАССНИКИ
— Знаешь, — сказала Зоя задумчиво, — меня очень хорошо встретили в школе. Даже как-то удивительно хорошо... как-то бережно. Как будто я после болезни стала стеклянная и вот-вот разобьюсь... Нет, правда, было очень приятно видеть, что мне рады, — добавила она после небольшого молчания.
В другой раз Зоя вернулась из школы в сопровождении круглолицей, краснощёкой девушки. Она была воплощением здоровья — крепкая, румяная. Про таких говорят: «наливное яблочко». Это была Катя Андреева, одноклассница моих ребят.
— Здравствуйте, добрый день! — сказала она, улыбаясь и пожимая мне руку.
— Катя вызвалась подогнать меня по математике, — сообщила Зоя.
— А почему Шуре не подогнать тебя? Зачем Катю затруднять?
— Видите ли, Любовь Тимофеевна, — серьёзно сказала Катя, — у Шуры нет педагогических способностей. Зоя много пропустила, и ей надо объяснить пройденное очень постепенно и систематично. А Шура... Я слышала, как он объясняет: раз-раз и готово. Это не годится.
— Ну, раз нет педагогических способностей, тогда конечно...
— Нет, ты не смейся, — вступилась Зоя. — Шура и вправду так не умеет объяснять. А вот Катя...
Катя и в самом деле объясняла умело и толково: не спеша, не переходя к дальнейшему, пока не убедится, что Зоя всё поняла и усвоила. Я слышала, как Зоя сказала ей однажды:
— Ты столько времени на меня тратишь...
И Катя горячо возразила:
— Да что ты! Ведь пока я объясняю тебе, я так хорошо всё сама усваиваю, что мне не приходится дома повторять. Вот одно на одно и выходит.
Зоя быстро утомлялась. Катя замечала и это. Она отодвигала книгу и говорила:
— Что-то я устала. Давай немножко поболтаем.
Иногда они выходили на улицу, гуляли, потом возвращались и опять садились заниматься.
— Может, ты собираешься стать учительницей? — пошутил как-то Шура.
— Собираюсь, — очень серьёзно ответила Катя.
Не одна Катя навещала нас. Забегала Ира, приходили мальчики: скромный, застенчивый Ваня Носенков, страстный футболист и горячий спорщик Петя Симонов, энергичный, весёлый Олег Балашов — очень красивый мальчик с хорошим, открытым лбом. Иногда заглядывал Юра Браудо — высокий, худощавый юноша с чуть ироническим выражением лица, ученик параллельного класса. И тогда наша комната наполнялась шумом и смехом, девочки отодвигали учебники, и начинался разговор сразу обо всём.
— А знаете, сейчас Анну Каренину играет не только Тарасова, но и Еланская, — сообщала Ира, и тотчас вспыхивал жаркий спор о том, какая артистка правильнее и глубже поняла Толстого.
Как-то Олег, мечтавший стать лётчиком, пришёл к нам прямо из кино, где он смотрел фильм о Чкалове. Он был полон виденным.
— Вот человек! — повторял он. — Не только необыкновенный лётчик, но и человек удивительный. И юмор такой милый. Знаете, когда он в тридцать седьмом году перелетел через Северный полюс в Америку, там репортёры спросили его: «Вы богаты, господин Чкалов?» — «Да, отвечает, очень. У меня сто семьдесят миллионов». Американцы так и ахнули: «Сто семьдесят миллионов?! Рублей? Долларов?» А Чкалов в ответ так спокойно: «Сто семьдесят миллионов человек, которые работают на меня, так же, как я работаю на них».
Ребята смеются.
В другой раз Ваня прочитал стихи под названием «Генерал», посвящённые памяти Мате Залки, павшего в боях с фашистами на полях Испании. Я помню этот вечер: Ваня сидел за столом, задумчиво глядя перед собой, а остальные примостились кто на кровати, кто на подоконнике и слушали:
В горах этой ночью прохладно.
В разведке намаявшись днём,
Он греет холодные руки
Над жёлтым походным огнём.
В кофейнике кофе клокочет,
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжёлой листвой шелестят.
И кажется вдруг генералу,
Что это зелёной листвой
Родные венгерские липы
Шумят над его головой...
Ваня читал очень просто, без пафоса, но все мы слышали, как в чеканных, сдержанных строчках со страстной силой бьётся большое человеческое сердце. И Ванин взгляд стал непривычно твёрдым, напряжённым, словно юноша скорбно и гордо всматривался во мрак той далёкой арагонской ночи.
... Давно уж он в Венгрии не был,
Но где бы он ни был, над ним
Венгерское синее небо,
Венгерская почва под ним,
Венгерское красное знамя
Его освещает в бою.
И где б он ни бился, он всюду
За Венгрию бьётся свою.
Недавно в Москве говорили,
Я слышал от многих, что он
Осколком немецкой гранаты
В бою под Уэской сражён.
Но я никому не поверю:
Он должен ещё воевать,
Он должен в своём Будапеште
До смерти ещё побывать.
Пока ещё в небе испанском
Германские птицы видны, —
Не верьте: ни письма, ни слухи
О смерти его неверны.
Он жив. Он сейчас под Уэской,
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжёлой листвой шелестят.
И кажется вдруг генералу,
Что это зелёной листвой
Родные венгерские липы
Шумят над его головой.
Ваня умолк. Никто не шевельнулся, не произнёс ни слова.
На нас, как горячим ветром, дохнуло волненьем тех дней, когда все мы жили испанскими событиями, когда слова «Мадрид», «Гвадалахара», «Уэска», звучали как свои, родные, и от каждой вести с тех далёких фронтов быстрей билось сердце.
— Ох, хорошо как! — выдохнул Шура.
И сразу со всех сторон посыпались вопросы:
— Чьи стихи? Откуда?
— Они написаны ещё в тридцать седьмом году, я их недавно нашёл в журнале. Правда, хорошие?
— Дай переписать! — хором попросили ребята.
— Испания... С тех пор ещё только одно так ударило — падение Парижа, — сказал Ваня.
— Да, — подхватила Зоя, — я очень хорошо помню этот день... летом... Принесли газету, а там — Париж взят, И так страшно, так позорно это было!..
— Я тоже помню этот день, — тихо сказал Ваня. — Просто нельзя было поверить, представить нельзя: фашисты шагают по Парижу. Париж под немецким сапогом. Париж коммунаров!
— Хотел бы я быть там! Я бы дрался за Париж, как наши в Испании, — до последней капли крови! — негромко сказал Петя Симонов, и никто не удивился его словам.
В ту зиму я близко познакомилась с одноклассниками Зои и Шуры и узнавала в них черты своих ребят. И думала: так оно и должно быть. Семья — не замкнутый сосуд. И школа — не замкнутый сосуд. Семья, школа и дети живут тем же, что волнует, тревожит и радует всю нашу страну, и всё происходящее вокруг воспитывает наших ребят.
Ну вот, например: сколько тружеников — творцов прекрасных открытий — в прошлом остались безвестными! А теперь каждый, кто работает умно, ярко, талантливо, становится знатным человеком. И всякий, кто созидает, окружён уважением и любовью народа. Вот девушка-текстильщица изобрела способ выпускать во много раз больше, чем прежде, красивой и прочной ткани — и её пример воодушевил всех текстильщиц по всему Советскому Союзу. Вот трактористка — она работает так умно и толково, что вчера ещё никому не известное имя её стало любимо и уважаемо всеми. Вот новая книга для ребят — это «Тимур и его команда», повесть о чести, о дружбе, о нежности к другу, об уважении к человеку. Вот новый фильм — это «Зори Парижа»: о французском народе, о польском патриоте Домбровском, который боролся за свободу и счастье своей родины на баррикадах Парижа. И ребята жадно впитывают всё хорошее, честное, смелое, доброе, чем полны эти книги, фильмы, чем полон каждый день нашей жизни.
И я видела: для моих детей и для их товарищей нет ничего дороже родной страны, но им дорог и весь большой мир. Франция для них не родина Петэна и Лаваля, но страна Стендаля и Бальзака, страна коммунаров; англичане — потомки великого Шекспира; американцы — это те, у кого были Линкольн и Вашингтон, Марк Твен и Джек Лондон. И хотя они видели уже, что немцы навязали миру чудовищную, разрушительную войну, захватили Францию, топтали Чехословакию, Норвегию, — настоящая Германия была для них не та, что породила Гитлера и Геббельса, а страна, где творили Бетховен, Гёте, Гейне, где родился великий Маркс и боролся замечательный революционер Эрнст Тельман. В них воспитывали глубокую и горячую любовь к своей родине и уважение к другим народам, ко всему прекрасному, что создано всеми нациями, населяющими земной шар.
Всё, что видели дети вокруг себя, всё, чему учили их в школе, воспитывало в них подлинный гуманизм, человечность, горячее желание строить, а не разрушать, созидать, а не уничтожать. И я глубоко верила в их будущее, в то, что все они станут счастливыми и жизнь их будет хорошей и светлой.
«ЗЕЛЁНЫЙ ШУМ»
Дни шли за днями. Зоя теперь была здорова, совсем окрепла, перестала быстро утомляться, — а это было так важно для нас! Она понемногу догнала класс, и в этом ей очень помогли товарищи. Зоя, всегда такая чуткая к дружескому, доброму слову, очень дорожила этим.
Помню, раз она сказала мне:
— Ты ведь знаешь, я всегда любила школу, но сейчас... — Она замолчала, и в этом молчании было такое большое чувство, какого не выскажешь словами.
Чуть погодя она добавила:
— И знаешь, я, кажется, подружилась с Ниной Смоляновой.
— С Ниной? С какой Ниной?
— Она учится не в нашем, а в параллельном классе. Она очень мне по душе. Такая серьёзная. И прямая... Мы как-то разговорились с ней в библиотеке о книгах, о ребятах. И у нас одинаковые взгляды на всё. Я тебя с ней непременно познакомлю.
Через несколько дней после этого разговора я встретилась на улице с Верой Сергеевной Новосёловой.
— Ну как? — спросила я. — Как у вас там моя Зоя?
— По моему предмету она давно уже догнала. Это и неудивительно: ведь она так много читала... Нас радует, что она поправилась, окрепла. Я постоянно вижу её среди товарищей. И мне кажется, что она подружилась с Ниной. Они чем-то похожи — обе очень прямые, обе серьёзно относятся ко всему: к занятиям, к людям.
Я проводила Веру Сергеевну до школы. Возвращаясь домой, я думала: «Как она знает ребят! Как умеет видеть всё, что происходит с ними!.. «
... Незаметно подошла весна — дружная, зелёная. Уж не помню, чем провинился тогда девятый «А», но только ребята всем классом пришли к своему директору с повинной головой и просили не наказывать, а просто дать им самый трудный участок школьного двора, который решено озеленить.
Николай Васильевич согласился и действительно поблажки не дал: поручил им и впрямь самое тяжёлое место — то, где недавно закончили пристройку к школе трёхэтажного корпуса. Всё вокруг было завалено всяким строительным мусором.
В тот день Зоя и Шура вернулись домой поздно и наперебой стали рассказывать, как поработали.
Вооружившись лопатами и носилками, девятый «А» выравнивал и расчищал площадку, убирал щебень, рыл ямы для деревьев. Вместе со школьниками работал и Николай Васильевич — таскал камни, копал землю. И вдруг к ребятам подошёл высокий худощавый человек.
«Здравствуйте», — сказал он.
«Здравствуйте!» — хором ответили ему.
«Скажите; где тут у вас можно найти директора?»
«Это я», — отозвался Кириков, оборачиваясь к незнакомцу и вытирая чёрные, покрытые землёй руки...
— Понимаешь, — смеясь, рассказывала Зоя, — стоит грязный, с лопатой, как ни в чём не бывало, как будто директор для того и существует, чтоб сажать деревья со своими учениками!
Худощавый оказался корреспондентом «Правды». Это был Лев Кассиль. Он сначала удивился, услышав, что плечистый землекоп в косоворотке и есть директор 201-й школы, потом рассмеялся и больше уже не уходил с участка, хоть и пришёл в школу по каким-то другим делам. Он осмотрел молодой фруктовый сад, посаженный руками учеников, густой малинник, розовые кусты. «Как хорошо!.. — говорил он задумчиво. — Ты был, допустим, в средних классах, когда сам, своими руками, посадил яблоню в школьном саду. Она росла вместе с тобой, ты бегал смотреть на неё во время перемен, окапывал её, опрыскивал, уничтожал вредителей. И вот ты кончаешь школу, а твоя яблоня уже даёт первые плоды... Хорошо!»
— Хорошо! — мечтательно повторяла и Зоя. — Хорошо! Вот я в девятом классе и сегодня посадила липу. Будем расти вместе... Моя липа третья — запомни, мама, А четвёртая липа — Кати Андреевой.
А через несколько дней в «Правде» появился рассказ о том, как девятиклассники озеленили школьный двор. И кончался этот рассказ такими словами:
«Заканчиваются выпускные испытания. Из школы уходят молодые люди, получившие тут верную прививку, хорошо подросшие, не боящиеся ни заморозков, ни ветров под открытым небом. Питомцы школы уйдут работать, учиться, служить в Красной Армии...
Идёт-гудёт Зелёный Шум,
Зелёный Шум, весенний шум!..»
БАЛ
А 21 июня был вечер, посвящённый выпуску десятого класса. Девятый «А» решил явиться на этот вечер в полном составе.
— Во-первых, потому, что мы любим наших выпускников, — сказал Шура. —
Там чудесные ребята, один Ваня Белых чего стоит!..
— А во-вторых, — подхватила Катя, — мы посмотрим, как у них получится, и в будущем году устроим ещё лучше!
Они готовились к выпускному балу как гости, как участники и как соперники, которые через год намерены устроить такой ослепительный бал, какой ещё и не снился ни одному выпуску. Они украшали школу. Им помогал в этом учитель-художник Николай Иванович. У него было то, что так высоко ценили и уважали в 201-й школе, — умелые, золотые руки. Он всегда украшал школу изящно и просто и всякий раз — к годовщине Октября, к Новому году, к майским дням — придумывал что-нибудь новое, необычное. И ребята с восторгом, с увлечением выполняли его указания.
— А сейчас он сам себя превзойдёт! — уверял Шура.
... Вечер был тёплый и светлый. Я вернулась домой поздно, часам к десяти, и не застала ребят — они уже ушли на бал. Немного погодя я снова вышла на улицу, села на крыльцо и долго сидела спокойно и бездумно — просто отдыхала, наслаждаясь тишиной и свежим запахом листвы. Потом поднялась и не спеша пошла к школе. Мне захотелось хоть издали взглянуть на то, как «превзошёл себя» Николай Иванович, как веселятся ребята... Да я и не отдавала себе отчёта, зачем иду: гуляю — вот и всё.
— Вы не знаете, где тут двести первая школа? — услышала я глуховатый женский голос.
— Кириковская? — отозвался кто-то густым добродушным басом, прежде чем я успела обернуться. — Да так прямо и идите, а вон у того дома — видите? — повернёте, там она и есть. Слышите, музыка?
Да, и я слышала музыку и уже издали увидела школу, всю залитую светом.
Окна были распахнуты настежь.
Я тихо вошла, огляделась и стала медленно подниматься по лестнице. Да, Николай Иванович сделал самое хорошее: он дал лету ворваться в школу. Всюду были цветы и зелень. В вазах, в кадках и горшках, на полу, на стенах и на окнах, в каждом углу и на каждом шагу — букеты роз и тёмные гирлянды еловых веток, охапки сирени и кружевные ветви берёзы, и ещё цветы, цветы без конца...
Я пошла туда, откуда неслись музыка, смех и шум. Подошла к распахнутым дверям зала и остановилась, ослеплённая: столько света, столько молодых лиц, улыбок, блестящих глаз... Я узнала Ваню — того самого, о котором не раз восторженно и уважительно рассказывал Шура: он был председатель учкома, прекрасный комсомолец, хороший ученик, сын штукатура и сам мастер по штукатурной части, тоже — золотые руки и светлая голова... Увидела я Володю Юрьева, сына Лидии Николаевны, которая учила Зою и Шуру в младших классах. Этот ясноглазый, высоколобый мальчик всегда удивлял меня каким-то очень серьёзным выражением лица, но сейчас он осыпал пригоршнями конфетти пролетавшие мимо пары и весело смеялся... Потом я отыскала глазами Шуру; он стоял у стены, белокурая девушка, смеясь, приглашала его на вальс, а он только застенчиво улыбался и мотал головой...
А вот и Зоя. На ней красное с чёрными горошинками платье — то самое, что было куплено на деньги, подаренные Шурой. Платье ей очень шло. Шура, увидев его впервые, сказал с удовольствием: «Оно тебе очень, очень к лицу».
Зоя разговаривала о чём-то с высоким смуглым юношей, имени которого я не знала. Глаза её светились улыбкой, лицо разгорелись...
Вальс кончился, пары рассыпались. Но тут же раздался весёлый зов:
— В круг! В круг! Все становитесь в круг!
И снова замелькали перед глазами голубые, розовые, белые платья девушек, смеющиеся, раскрасневшиеся лица... Я тихонько отошла от дверей.
Выйдя из школы, я остановилась ещё на секунду — такой взрыв весёлого смеха долетел до меня. Потом я медленно пошла по улице, глубоко, всей грудью вдыхая ночную прохладу. Мне вспомнился тот день, когда я впервые повела маленьких Зою и Шуру в школу. «Какие выросли... Вот бы отцу поглядеть!» — подумала я.
... Коротки летние ночи в Москве, и тишина их непрочная. Звонко простучат по асфальту запоздалые шаги, прошуршит неизвестно откуда взявшийся автомобиль, далеко разнесётся над спящим городом хрустальный перезвон кремлёвских курантов...
А в эту июньскую ночь тишины, пожалуй, и не было. То тут, то там неожиданно раздавались голоса, взрывы смеха, быстрые, лёгкие шаги, вдруг вспыхивала песня. Из окон удивлённо выглядывали разбуженные в неурочный час люди, и тут же на их лицах появлялась улыбка. Никто не спрашивал, почему в эту ночь на улицах столько неугомонной молодёжи, почему юноши и девушки, взявшись под руки, по десять — пятнадцать человек шагают прямо посреди мостовой, почему у них такие оживлённые, радостные лица и им никак не сдержать ни песни, ни смеха. Незачем спрашивать, все знали: это молодая Москва празднует школьный выпуск.
Наконец я вернулась домой и легла. Проснулась, когда в окне чуть забрезжил рассвет: эта ночь на 22 июня была такой короткой...
Шура стоял подле своей постели. Должно быть, это его приглушённые, осторожные шаги разбудили меня.
— А Зоя? — спросила я.
— Она пошла ещё немножко погулять с Ирой.
— Хороший был вечер, Шурик?
— Очень! Очень! Но мы ушли пораньше, оставили выпускников одних с учителями. Из вежливости, понимаешь? Чтоб не мешать им прощаться, и всё такое.
Шура лёг, и мы некоторое время молчали. Вдруг за открытым окном послышались тихие голоса.
— Зоя с Ирой... — прошептал Шура.
Девочки остановились под самым нашим окном, горячо о чём-то разговаривая.
— … это когда ты самый счастливый человек на свете, — донеслись до нас слова Иры.
— Это так. Но я не понимаю, как можно любить человека, не уважая его, — сказала Зоя.
— Ну как ты можешь так говорить! — огорчённо воскликнула Ира. — Ведь ты прочла столько книг!
— Потому и говорю, что знаю: если я не буду уважать человека, то не смогу его любить.
— Но в книгах о любви говорится иначе. В книгах любовь — это счастье... это совсем особенное чувство...
— Да, конечно. Но ведь...
Голоса стали глуше.
— Пошла провожать Иру, — тихо сказал Шура. И озабоченно, как старший, добавил: — Ей будет трудно жить. Она ко всему относится как-то по-особенному.
— Ничего, — сказала я. — Она только растёт. Всё будет хорошо, Шурик.
И сейчас же на лестнице зазвучали осторожные шаги. Зоя едва слышно приотворила дверь.
— Вы спите? — шёпотом спросила она.
Мы не отозвались. Неслышно ступая, Зоя подошла к окну и ещё долго стояла, глядя на светлеющее небо.
ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ИЮНЯ
Как запомнилась мне каждая минута этого дня!
В воскресенье 22 июня я должна была принимать последние экзамены в военной школе. Ясным, солнечным утром я спешила к трамваю. Зоя провожала меня.
Она шла рядом со мной — совсем взрослая девушка, стройная, высокая, с ярким и чистым румянцем на щёках. И улыбка у неё была славная, ясная: она улыбалась солнцу, разлитой вокруг свежести, запаху щедро цветущей липы.
Я вошла в трамвай. Зоя помахала мне рукой, постояла секунду на остановке и повернула к дому.
От нас до моей школы чуть не час езды. Я всегда читаю в трамвае, но это утро было такое хорошее, что я вышла на площадку, чтобы за дорогу вдохнуть побольше ласкового летнего ветра. Не признавая никаких правил, он на ходу врывался в трамвай, трепал волосы весёлой молодёжи, заполнявшей площадку. Попутчики мои то и дело менялись. У Тимирязевской академии сошли студенты и разбрелись по факультетам: горячая экзаменационная пора не знает воскресений. У памятника Тимирязеву, на скамьях, среди пёстрых цветников тоже виднелись группы юношей и девушек: должно быть, готовятся, а некоторые счастливцы, пожалуй, уже и сдали. А на следующей остановке и площадку и вагон заполнили школьники в парадных костюмах, в красных галстуках. Очень молодая и очень строгая учительница в очках зорко следила, чтобы ребята не шумели, не стояли на подножке, не высовывались в окна.
— Марья Васильевна, — взмолился широкоплечий крепыш, — как же так: и в классе не шуми и здесь не разговаривай... Ведь у нас теперь каникулы!
Учительница ни слова не возразила, только посмотрела на мальчугана, но так, что он со вздохом опустил глаза и умолк. Ненадолго в вагоне стало совсем тихо. Потом девочка с волосами, как огонь, озорными глазами и весёлыми веснушками по всему лицу толкнула локтем подругу, что-то шепнула ей на ухо — и разом все зашушукались, засмеялись, вагон снова зажужжал и загудел, как улей.
Я сошла с трамвая. До начала экзаменов оставалось ещё полчаса, и я не торопясь шла по широкой улице, заглядывая в окна книжных магазинов. Надо сказать Шуре, чтобы приехал сюда, купил книги для десятого класса и географические карты. Пусть всё будет готово заранее: ведь предстоит последний, самый серьёзный школьный год... А вот художественная выставка, сюда мы на днях пойдём все вместе...
Я подошла к школе и поднялась на второй этаж. Всюду было как-то не по-экзаменационному пустынно и безлюдно. В учительской меня встретил директор.
— Сегодня экзаменов не будет, Любовь Тимофеевна, — сказал он. —
Учащиеся не явились, причина пока неизвестна.
Ещё ничего не подозревая, я ощутила где-то глубоко внутри странный холодок. Наши учащиеся — военные, люди образцовой аккуратности. Какая же причина могла задержать их в день экзаменов? Что случилось?.. Этого пока никто не знал.
Когда я снова вышла на улицу, мне показалось, что стало душно, а на всех лицах появилось неспокойное, напряжённое выражение. Куда девались утренняя свежесть, беззаботное, шумное веселье праздничной московской толпы? Все словно ждали чего-то, и ожидание это было томительно, точно перед грозой.
Трамваи проходили переполненные, почти всю обратную дорогу я прошла пешком. Ближе к дому наконец села в трамвай и поэтому не слышала радио. Но первое олово, которым встретили меня дома, было то, каким для всех нас разразилась предгрозовая духота этого памятного утра.
— Война! Мама, война! — Дети кинулись ко мне, едва я переступила порог, и заговорили разом: — Ты знаешь, война! Германия на нас напала! Без объявления войны! Просто перешли границу и открыли огонь!
У Зои было гневное лицо, и говорила она горячо, не сдерживая возмущения. Шура старался казаться спокойным.
— Ну что ж, этого надо было ждать, — сказал он задумчиво. — Разве мы не понимали, что такое фашистская Германия?
Мы помолчали.
— Да, теперь вся жизнь пойдёт по-другому, — сквозь зубы, негромко, словно про себя, сказала Зоя.
Шура стремительно повернулся к ней:
— Может, и ты собираешься воевать?
— Да! — почти зло ответила Зоя. Потом быстро повернулась и вышла из комнаты.
... Мы знали: война — это смерть, которая унесёт миллионы человеческих жизней. Мы знали, что война — это разрушение, несчастье и горе. Но в тот далёкий первый день мы даже и представить себе не могли всего, что принесёт нам война. Мы ещё не знали бомбёжек, не знали, что такое щель и бомбоубежище, — скоро нам самим пришлось их устраивать. Мы ещё не слышали свиста и разрыва фугасных бомб. Мы не знали, что от воздушной волны вдребезги разбиваются оконные стёкла и слетают с петель запертые на замок двери. Мы не знали, что такое эвакуация и эшелоны, переполненные детьми, — эшелоны, которые враг спокойно и методично расстреливает с самолёта. Мы ещё ничего не слышали о сожжённых дотла сёлах и разрушенных городах. Мы не знали о виселицах, пытках и муках, страшных рвах и ярах, где находят могилу десятки тысяч людей — женщины, больные, глубокие старики, младенцы на руках у матерей. Мы ничего не знали о печах, где тысячами, сотнями тысяч сжигают людей, сначала надругавшись над ними. Мы не знали о душегубках, о сетках из человеческих волос, о переплётах из человеческой кожи... Мы ещё очень многого не знали. Мы привыкли уважать человеческое в человеке, любить детей и видеть в них своё будущее. Мы ещё не знали, что звери, по виду не отличимые от людей, могут бросить грудного ребёнка в огонь. Мы не знали, сколько времени продлится эта война...
Да, мы ещё многого тогда не знали...
ВОЕННЫЕ БУДНИ
Первым из нашего дома проводили на фронт Юру Исаева. Я видела, как он вышел на улицу. Он шагал рядом с женой, а чуть позади, вытирая глаза то платком, то фартуком, брела мать. Пройдя немного, Юра оглянулся. Должно быть, в каждой квартире, как и у нас, кто-нибудь стоял у открытого окна и смотрел ему вслед. И, видно, таким милым показался Юре этот двухэтажный домик среди разросшихся зелёных кустов и все люди в нём — такими родными и близкими...
Он увидел нас с Зоей в окне, улыбнулся и помахал фуражкой.
— Счастливо оставаться! — крикнул он.
— Счастливо возвратиться! — ответила Зоя.
Юра ещё несколько раз оглядывался, словно хотел вернее запомнить всё, что оставлял, каждую чёрточку в облике дома, как в лице родного человека, и эти открытые окна, и кусты вокруг...
Вскоре призвали Сергея Николина. Он уходил один: жена работала на заводе и не могла проводить его. Отойдя немного, Сергей, так же, как и Юра, оглянулся на дом. Они были разные люди и внешне совсем не походили друг на друга, но глаза их в эту прощальную минуту показались мне совсем одинаковыми: оба словно обнимали взглядом всё, что могли охватить, и столько любви и тревоги было в этом взгляде!
... Жизнь стала совсем иной, суровой и неспокойной. Изменился и облик нашей Москвы. Окна были перечёркнуты бумажными полосами: у одних решительно, крест-накрест, у других — каким-нибудь несмелым узором. Витрины магазинов забиты фанерой, заложены мешками с песком. Казалось, все дома смотрят исподлобья, хмуро и настороженно.
Во дворе нашего дома рыли щель. Люди несли из сараев доски, чтобы сделать в убежище настил. Один из жильцов громче всех доказывал, что ничего нельзя жалеть для общего дела, но почему-то забыл открыть свой сарай — вместо этого он вдруг накинулся на игравших во дворе ребятишек (отец их был на фронте, мать — на работе) и с криком потребовал, чтобы они сейчас же, немедленно притащили доски. Зоя подошла к нему и спокойно, раздельно сказала:
— Вот что: сейчас вы откроете свой сарай и дадите доски, а пока мы будем работать, придёт с работы мать этих детей и тоже сделает всё, что надо. На малышей легко кричать!
... В первые же дни войны к нам забежал проститься мой племянник Слава.
Он был в лётной форме с крылышками на рукаве.
— Еду на фронт! — сообщил он. Лицо у него было такое радостное, словно он собирался на праздник. — Не поминайте лихом!
Мы крепко обняли его, и он ушёл, пробыв у нас едва полчаса.
— Как плохо, что девушек не берут в армию! — сказала Зоя, глядя ему вслед.
И столько горечи и силы было в этих словах, что даже Шура не решился, по своему обыкновению, пошутить или заспорить.
... Мы никогда не ложились спать, не прослушав по радио сводку Информбюро. А в те первые недели невесёлые это были сообщения. Зоя слушала их, сдвинув брови, сжав зубы, и часто отходила от репродуктора, не говоря ни слова. Но однажды у неё вырвалось:
— Какую землю топчут!
Это был первый и единственный крик боли, который я слышала от Зои за всю её жизнь.
ОТЪЕЗД
1 июля под вечер к нам постучали.
— Можно Шуру? — спросил кто-то, не заходя в комнату.
— Петя? Симонов? — удивилась Зоя, вставая из-за стола и приотворяя дверь. — Зачем тебе Шура?
— Надо, — таинственно ответил Петя.
В эту минуту явился сам Шура, выходивший зачем-то из комнаты, кивнул товарищу и, не говоря ни слова, вышел с ним. Мы выглянули в окно: внизу ждали несколько подростков, все — одноклассники и приятели. Они о чём-то потолковали вполголоса, потом всей гурьбой пошли прочь.
— В школу, — задумчиво, про себя сказала Зоя. — Что у них там за секреты?
Шура вернулся поздно вечером. Вид у него был такой же серьёзный и озабоченный, как перед тем у Пети.
— Что случилось? — спросила Зоя. — Почему такая таинственность? Зачем тебя вызывали?
— Не могу сказать, — решительно ответил Шура.
Зоя слегка пожала плечами, но промолчала.
На другое утро она чуть свет убежала в школу и возвратилась взволнованная.
— Мальчики уезжают, — сказала она мне. — Куда и зачем — не говорят.
Девочек не берут. Если б ты знала, как я уговаривала их взять меня! Ведь стрелять я умею. И я сильная. Ничего не помогло! Сказали: берут одних мальчиков.
По лицу Зои, по глазам я видела, сколько горячности вложила она в эти тщетные уговоры.
Шура вернулся поздно и сказал спокойно, словно о чём-то совсем обычном:
— Мам, собери мне, пожалуйста, пару белья. И еды на дорогу. Только много не надо.
Знает ли он, куда их отправляют, — этого мы добиться не могли.
— Если я с первого шага начну болтать, какой же я буду военный? — сказал он твёрдо.
Зоя молча отвернулась.
Сборы были несложные. Зоя купила Шуре на дорогу сухарей, конфет, колбасы. Я приготовила бельё и увязала всё в один небольшой узелок. А во второй половине дня мы пошли провожать Шуру.
В Тимирязевском парке было уже много ребят из разных школ. Сначала они все перемешались, потом постепенно сгруппировались по школам. Матери и сёстры стояли в стороне с узелками, чемоданчиками, заплечными мешками, которые они держали за лямки, точно сумку. Отъезжающие — почти все рослые, широкоплечие, но с мальчишескими весёлыми лицами — делали вид, будто разлучаться с домом и с родными для них привычное дело. Кое-кто уже успел сбегать к пруду искупаться, другие ели мороженое, шутили, смеялись. Но невольно они всё чаще поглядывали на часы. Те, от кого не отходили мать или сестра, немного смущались: едем на важное, серьёзное дело — и вдруг с мамой, как маленькие! Я знала, что и Шура будет стесняться, поэтому мы с Зоей отошли в сторону и сели на скамейку в тени.
Часам к четырём на круг пришло много пустых трамвайных вагонов, и началась посадка. Ребята торопливо прощались с родными, шумно занимали места. У тех, чьи матери плакали, были сумрачные, грустные лица. Мне не хотелось омрачать последние минуты, которые мы были вместе, и я не заплакала — только обняла Шуру и крепко сжала ему руку. Он был взволнован, хоть и старался не показать виду.
— Не ждите, пока мы двинемся, идите домой! Береги маму, Зоя! — С этими словами Шура вскочил в вагон, потом помахал нам из окошка и снова сделал знак: не ждите, мол.
Но уйти, пока Шура был ещё здесь, у нас не хватало духу. Стоя поодаль, мы видели, как дрогнули вагоны, как один за другим со звоном и грохотом они двинулись в путь, — и очнулись только тогда, когда последний трамвай скрылся из глаз.
Парк, только что такой людный и шумный, сразу опустел и затих. Под дубами-великанами стояли скамейки, но никого на них не было. Пруд лежал широкий, прохладный, чуть подёрнутый рябью, но никто не купался в нём. Ни голоса, ни смеха, ни звука быстрых, размашистых шагов. Тихо. Слишком тихо...
Мы медленно шли по дорожке... Лучи солнца с трудом пробивались сквозь густую листву над головой. Не сговариваясь, мы подошли к скамье у самого пруда и сели.
— Как красиво! — сказала вдруг Зоя. — Знаешь, Шура часто приходил сюда рисовать. Вон тот мостик рисовал, видишь?
Она обращалась ко мне и в то же время как будто говорила для одной себя — тихо, медленно, углублённо.
— Пруд широкий. А Шура переплывал его много раз, — вслух вспоминала она. — Знаешь, как один раз вышло? Давно ещё, Шуре тогда было лет двенадцать. Он, как всегда, начал весной купаться раньше всех. Вода холодная. И вдруг ему свело ногу, а до берега ещё далеко. Он работал одной ногой, другая совсем онемела. Еле доплыл. Он меня так просил, чтоб я тебе ничего не говорила! Я и не сказала тогда. А теперь уже можно.
— И, конечно, на другой день он опять поплыл? — спросила я.
— Конечно. Утром и вечером плавал, во всякую погоду, чуть не до самой зимы. А вот там, около кустов, зимою всегда прорубь. Мы там ловили рыбёшку — помнишь? Сначала консервной банкой ловили, а после сачком. Помнишь, как мы тебя угощали жареной рыбой?
— Хорошая моя! — сказала я вместо ответа и тихо погладила её загорелую руку.
И вдруг под моей ладонью её тонкие сильные пальцы сжались в кулак.
— Какая я хорошая! — Зоя порывисто встала, и я поняла, что мучило её всё время. — Какая я хорошая, если осталась здесь? Ребята поехали, может быть, воевать, а я осталась дома. Да как же можно сейчас ничего не делать?!
ПЕРВЫЕ БОМБЫ
Мы сидим с Зоей за столом. Перед нами — зелёная грубая материя: мы шьём из неё вещевые мешки. Для фронта. А ещё мы делаем петлички для военных. Пусть это простая работа, пусть это не такое уж важное дело, но это для фронта. Эти петлички — бойцу, тому, кто защищает нас от врага. Этот мешок тоже для бойца: он положит туда свои вещи, мешок пригодится ему, послужит в походах...
Мы работаем молча, не отрываясь. Изредка я опускаю шитьё и разгибаю спину — она у меня побаливает. И смотрю на Зою. Её тонкие загорелые руки проворны и неутомимы. Работа так и горит в них. Сознание, что и она делает что-то нужное для фронта, если и не освободило Зою от мучительных мыслей, то всё-таки помогло обрести какое-то внутреннее равновесие. Она даже внешне преобразилась: не так сумрачно смотрят глаза, порою и улыбка трогает губы...
Однажды, когда мы сидели за шитьём, дверь отворилась и вошёл Шура. Вошёл подчёркнуто спокойно, словно просто вернулся из школы, скинул с плеч дорожный мешок и только тогда поздоровался. Мы уже знали, что он был на трудовом фронте. Но и сейчас, в день возвращения, как и в день отъезда, он ничего не стал нам рассказывать.
— Важно, что я опять с вами, — решительно сказал он, когда мы попытались о чём-то спросить. — А рассказывать мне просто нечего. Очень много работал, вот и всё. — И, хитро прищурясь, добавил: — Я просто вернулся, чтоб справить дома день своего рождения. Надеюсь, вы не забыли про двадцать седьмое июля? Как-никак шестнадцать исполнится.
А умывшись и сев за стол, он сказал Зое:
— Я знаю, что мы с тобой сделаем. Пойдём на «Борец» учениками-токарями. Ладно?
Зоя опустила шитьё на колени и посмотрела на брата. Потом, снова принимаясь за работу, сказала:
— Ладно. Это будет настоящее дело.
Шура вернулся 22 июля, а вечером этого дня вражеские самолёты впервые прорвались к Москве. Впервые немецкие бомбы падали на столицу. Шура держался совсем спокойно, уверенно распоряжался, настоял на том, чтобы женщины и дети спустились в убежище. «Только своих женщин никак не ушлю», — пожаловался он мимоходом, а сам всё время бомбёжки провёл на улице. Зоя не отходила от него ни на шаг.
Спать нам в эту ночь не пришлось. А под утро по нашему двору разнеслась весть: бомба попала в школу.
— В нашу? В двести первую?! — в один голос крикнули Зоя и Шура.
Я не успела и слова сказать, как они оба сорвались с места и бросились к школе. Я едва поспевала за ними, но остаться дома просто не могла. Мы шли быстро, молча и, только увидев издали здание школы, вздохнули с облегчением: она стояла цела и невредима.
Невредима? Нет, это только так показалось. Подойдя ближе, мы увидели: бомба упала напротив школьного здания, и, видно, воздушной волной вышибло все окна — вокруг, куда ни глянь, стекло, стекло, стекло... Оно холодно поблёскивало всюду, хрустело под ногами. Школа стояла ослеплённая. Какой-то беспомощностью веяло от этого большого, всегда такого спокойного здания: точно огромный и сильный человек вдруг ослеп. Мы невольно приостановились, потом тихо поднялись на крыльцо. И вот я иду по тем коридорам, где была месяц назад, в вечер выпускного бала. Тогда тут звучала музыка, звенел смех, всё было полно молодости и веселья. Теперь двери выворочены, под ногами — стекло, штукатурка...
Нам встретилось ещё несколько старшеклассников, и Шура побежал с ними куда-то — кажется, в подвал. Я машинально шла за Зоей, и через минуту мы стояли на пороге библиотеки. Вдоль стен высились пустые полки: та же взрывная волна, как огромная злобная лапа, смахнула с них книги и как попало расшвыряла по полу, по столам. Книги валялись повсюду: глаз выхватывал из хаоса то светло-жёлтый корешок академического издания Пушкина, то синие переплёты Чехова. Я едва не наступила на помятый томик Тургенева, нагнулась, чтобы поднять его, и увидела рядом, под слоем известковой пыли, том Шиллера. А со страниц большой распахнувшейся книги на меня смотрело удивлённое лицо Дон-Кихота.
На полу посреди этого хаоса сидела немолодая женщина и плакала.
— Мария Григорьевна, встаньте, не плачьте! — побелевшими губами сказала Зоя, наклоняясь к ней.
Я поняла, что это заведующая школьной библиотекой Мария Григорьевна: мне не раз говорила о ней Зоя, приходя домой с новой интересной книжкой. Эта женщина любила и знала книгу, она посвятила книге всю свою жизнь. А теперь она сидела на полу среди раскиданных, смятых, изорванных книг — тех книг, которые она привыкла брать в руки так бережно и любовно.
— Давайте соберём, давайте приведём всё в порядок, — настойчиво повторяла Зоя, помогая Марии Григорьевне встать.
Я снова нагнулась и стала подбирать книги.
— Мама, смотри! — вдруг услышала я.
Я удивлённо вскинула голову, и заплаканная Мария Григорьевна, осторожно ступая среди книг, тоже подошла к нам — так странно, словно торжествующе прозвучал голос Зои. Она протянула мне раскрытый томик Пушкина.
— Смотрите! — всё с той же странной радостью, с торжеством в голосе повторила Зоя.
Быстрым движением она смахнула пыль со строк, и я прочла:
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
ЧЕМ ТЫ ПОМОГ ФРОНТУ?
А 27 июля, в день своего шестнадцатилетия, Шура сообщил:
— Ну вот, теперь ты — мать двух токарей!
... Они поднимались чуть свет, возвращались с работы поздно, но никогда не жаловались на усталость. Вернувшись из ночной смены,; ребята не сразу ложились: приходя домой, я заставала их спящими, а комнату — чисто прибранной.
... Воздушные налёты на Москву продолжались. Вечерами мы слышали напряжённо-спокойный голос диктора:
— Граждане, воздушная тревога!
И ему вторили надрывный вой сирен, угрожающий рёв паровозных гудков.
Ни разу Зоя и Шура не спустились в убежище. К ним приходили их сверстники — Глеб Ермошкин, Ваня Скородумов и Ванюшка Серов, все трое, как на подбор, крепкие, коренастые, — и они впятером отправлялись дежурить: обходили дом, стояли на посту на чердаке. И дети и взрослые — все мы жили тем новым, грозным, что вторглось в нашу жизнь, и ни о чём другом не могли думать.
Осенью учащиеся старших классов, а с ними и Зоя, « уехали на трудовой фронт: надо было в совхозе спешно убрать картофель, чтобы уберечь его от морозов.
Уже начались заморозки, выпадал снег, и я беспокоилась за здоровье Зои. Но она уезжала с радостью. Захватила она с собою только смену белья, чистые тетрадки и кое-какие книги. Через несколько дней я получила от неё письмо, потом другое:
«Мы помогаем убирать урожай. Норма выработки — 100 килограммов. Второго октября собрала 80. Это мало. Непременно буду собирать 100!
Как ты себя чувствуешь? Я всё время о тебе думаю и беспокоюсь. Очень скучаю, но теперь уже скоро вернусь: как только уберём картошку.
Мамочка, прости меня, работа очень грязная и не особенно лёгкая, я порвала галоши. Но ты, пожалуйста, не беспокойся: вернусь цела и невредима.
Всё вспоминаю тебя и всё думаю: нет, мало я похожа на тебя. Нет у меня твоей выдержки! Целую тебя. 3оя».
Я долго думала над этим письмом, над последними строчками. Что скрывается за ними? Почему Зоя вздумала упрекать себя в невыдержанности? Уж, наверно, это неспроста.
Прочитав вечером письмо, Шура сказал уверенно:
— Всё ясно: не поладила с ребятами. Знаешь, она часто говорила, что ей недостаёт выдержки, терпения к людям. Она говорила: «К человеку надо уметь подойти, нельзя сразу сердиться на него, а мне это не всегда удаётся».
В одной из своих открыток Зоя писала: «Дружу я с Ниной, о которой я тебе говорила». «Значит, права была Вера Сергеевна», — подумалось мне.
Поздним октябрьским вечером я вернулась домой немного раньше обыкновенного, открыла дверь — и сердце у меня так и подпрыгнуло: за столом сидели Зоя и Шура. Наконец-то дети со мною, наконец мы опять все вместе!
Зоя вскочила, подбежала к дверям и обняла меня.
— Опять вместе, — сказал и Шура, словно услышав мои мысли.
Всей семьёй мы сидели за столом, пили чай, и Зоя рассказывала о совхозе. Не дожидаясь моего вопроса о странных строчках из письма, она рассказала нам вот что:
— Работать было трудно. Дожди, грязь, галоши вязнут, ноги натирает.
Смотрю — трое ребят работают быстрее меня: я долго копаюсь на одном месте, а они двигаются быстро. Тогда я решила проверить, в чём дело. Отделилась и стала работать на своём отрезке. Они обиделись, говорят: единоличница. А я отвечаю: «Может быть, и единоличница, а вы нечестно работаете...» Ты понимаешь, что получилось: они работали быстро потому, что собирали картошку поверху, лишь бы побыстрее, и много оставляли в земле. А ведь та, которая лежит поглубже, самая хорошая, крупная. А я рыла глубоко, чтоб действительно всю вырыть. Вот почему я им сказала про нечестную работу, Тогда они мне говорят: «Почему же ты сразу не сказала, почему отделилась?» Я отвечаю:
«Хотела проверить себя». А ребята говорят: «Ты и нам должна была больше верить и сразу сказать...» И Нина сказала: «Ты поступила неправильно». В общем, много было споров, шума. — Зоя покачала головой и докончила тише: — Знаешь, мама, тогда я поняла, что хоть я и права, а такта мне не хватает. Надо было сначала поговорить с ребятами, объяснить. Может быть, тогда и отделяться бы не пришлось.
Шура пристально смотрел на меня, и в его взгляде я прочла: «Ведь я тебе говорил!»
***
А Москва с каждым днём становилась всё суровее, всё настороженней. Дома притаились за маскировкой. По улицам проходили стройные ряды военных. Удивительны были их лица. Плотно сжатые губы, прямой и твёрдый взгляд из-под сведённых бровей... Сосредоточенное упорство, гневная воля — вот что было в этих лицах, в этих глазах.
Проносились по улицам санитарные машины, с грохотом и лязгом проходили танки.
Вечерами, в густой тьме, не нарушаемой ни огоньком окна, ни светом уличного фонаря, ни быстрым лучом автомобиля, надо было ходить почти ощупью, настороженно и вместе с тем торопливо, и такими же осторожными и торопливыми шагами проходили мимо люди, чьи лица нельзя было увидеть. А потом — тревоги, дежурства у подъезда, небо, разорванное вспышками, изрезанное лучами прожекторов, озарённое багровым отблеском далёкого пожара...
Было нелёгкое время. Враг стоял на подступах к Москве.
... Однажды мы с Зоей шли по улице, и со стены какого-то дома, с большого листа, на нас глянуло суровое, требовательное лицо воина.
Пристальные, спрашивающие глаза смотрели на нас в упор, как живые, и слова, напечатанные внизу, тоже зазвучали в ушах, точно произнесённые вслух живым, требовательным голосом: «Чем ты помог фронту?»
Зоя отвернулась.
— Не могу спокойно проходить мимо этого плаката, — сказала она с болью.
— Ведь ты же ещё девочка и ты была на трудовом фронте — это тоже работа для страны, для армии.
— Мало, — упрямо ответила Зоя.
Несколько минут мы шли молча, и вдруг Зоя сказала совсем другим голосом, весело и решительно:
— Я счастливая: что бы ни задумала, всё выходит так, как хочу!
«Что же ты задумала?» — хотела я спросить — и не решилась. Только медленно и больно сжалось сердце.
ПРОЩАНЬЕ
— Мамочка, — сказала Зоя, — решено: я иду на курсы медсестёр.
— А завод как же?
— Отпустят. Ведь это для фронта.
В два дня она достала все необходимые справки. Теперь она была оживлённая, радостная, как всегда, когда находила решение. А пока мы с ней шили мешки, рукавицы, шлемы. Во время воздушных налётов она, как и прежде, дежурила на крыше или на чердаке и завидовала Шуре, который у себя на заводе потушил уже не одну зажигалку. Накануне того дня, когда Зое нужно было идти на курсы, она рано ушла из дому и не возвращалась до позднего вечера. Мы с Шурой обедали одни. Он работал в эти дни в ночной смене и сейчас, собираясь уходить, что-то рассказывал мне, а я едва слушала — неотвязная, пугающая тревога вдруг овладела мною.
— Мам, да ты не слушаешь! — с упрёком сказал Шура.
— Прости, Шурик. Это потому, что я не могу понять, куда девалась Зоя.
Он ушёл, а я проверила затемнение на окнах, села у стола, не в силах приняться ни за какое дело, и снова стала ждать.
Зоя пришла взволнованная, щёки у неё горели. Она подошла ко мне, обняла и сказала, глядя мне прямо в глаза:
— Мамочка, это большой секрет: я ухожу на фронт, в тыл врага. Никому не говори, даже Шуре. Скажешь, что я уехала к дедушке в деревню.
Боясь разрыдаться, я молчала. А надо было ответить. Зоя смотрела мне в лицо блестящими, радостными и ожидающими глазами.
— А по силам ли тебе это будет?.. — сказала я наконец. — Ты ведь не мальчик.
Она отошла к этажерке с книгами и оттуда по-прежнему пристально, внимательно смотрела на меня.
— Почему непременно ты? — продолжала я через силу, — Если бы тебя призвали, тогда другое дело...
Зоя снова подошла и взяла меня за руки:
— Послушай, мама: я уверена, если бы ты была здорова, ты сделала бы то же, что и я. Я не могу здесь оставаться. Не могу! — повторила она. Потом добавила тихо: — Ты сама говорила мне, что в жизни надо быть честной и смелой. Как же мне быть теперь, если враг уже рядом? Если бы они пришли сюда, я не смогла бы жить... Ты же знаешь меня, я не могу иначе.
Я хотела что-то ответить, но она снова заговорила, просто и деловито:
— Я еду через два дня. Достань мне, пожалуйста, красноармейскую сумку и мешок, который мы с тобой сшили. Остальное я сама добуду. Да, ещё: смену белья, полотенце, мыло, щётку, карандаш и бумагу. Вот и всё.
Потом она легла, я осталась сидеть у стола, чувствуя, что не смогу ни уснуть, ни читать. Всё было решено — это я видела. Но как же быть? Ведь она ещё девочка...
Мне никогда не приходилось искать слов в разговоре со своими детьми, мы всегда сразу понимали друг друга. А теперь мне казалось, что я стою перед стеной, которую мне не одолеть. Ах, если бы жив был Анатолий Петрович!..
Но нет: всё, что я ни скажу, будет напрасно. И никто — ни я, ни отец, будь он жив, — не удержит Зою...
В тот день Шура впервые после целой недели работал в утренней смене. Он пришёл усталый и грустный и поел как-то нехотя.
— Зоя твёрдо решила ехать в Гаи? — спросил он.
— Да, — коротко ответила я.
— Ну что ж, — сказал Шура задумчиво, — это хорошо, что она уезжает.
Девочкам сейчас в Москве не место...
Голос его прозвучал неуверенно.
— Может быть, и ты поедешь? — добавил он, чуть помедлив. — Там тебе будет спокойнее.
Я молча покачала головой. Шура вздохнул, поднялся из-за стола и вдруг сказал:
— Знаешь, я лягу. Что-то я устал сегодня.
Я прикрыла лампу газетным листом. Шура некоторое время лежал молча, с открытыми глазами и, кажется, сосредоточенно думал о чём-то. Потом повернулся к стене и вскоре уснул.
***
Зоя вернулась поздно.
— Я так и знала, что ты не спишь, — сказала она тихо. И добавила ещё тише: — Я еду завтра, — и, словно желая ослабить силу удара, погладила мою руку.
Тут же, не откладывая, она ещё раз проверила вещи, которые надо было взять с собой, и аккуратно уложила в дорожный мешок. Я молча помогала ей. Так буднично просты были эти сборы, когда стараешься сложить каждую вещь, чтоб она занимала поменьше места, и деловито засовываешь в свободный уголок кусок мыла или запасные шерстяные носки... А ведь это были наши последние, считанные минуты вместе. Надолго ли мы расстаёмся? Какие опасности, какие тяготы, едва посильные порою и мужчине, солдату, ждут мою Зою?.. Я не могла заговорить, я знала, что не имею права заплакать, и только всё стоял в горле горький комок.
— Ну вот, — сказала Зоя, — кажется, всё.
Потом выдвинула свой ящик, достала дневник и тоже хотела положить в мешок.
— Не стоит, — с усилием выговорила я.
— Да, ты права.
И, прежде чем я успела остановить её, Зоя шагнула к печке и бросила тетрадь в огонь. Потом присела тут же на низкую скамеечку и тихонько, по-детски попросила:
— Посиди со мной.
Я села рядом, и, как в былые годы, когда дети были маленькие, мы стали смотреть прямо в весёлое, яркое пламя. Но тогда я рассказывала что-нибудь, а разрумянившиеся от тепла Зоя и Шура слушали. Теперь я молчала. Я знала, что не смогу вымолвить ни слова.
Зоя обернулась, взглянула в сторону спящего Шуры, потом мягко взяла мои руки в свои и едва слышно заговорила:
— Я расскажу тебе, как всё было... Только ты никому-никому, даже Шуре... Я подала заявление в райком комсомола, что хочу на фронт. Ты знаешь, сколько там таких заявлений? Тысячи. Прихожу за ответом, а мне говорят: «Иди в МК комсомола, к секретарю МК».
Я пошла. Открыла дверь. Он сразу внимательно-внимательно посмотрел мне в лицо. Потом мы разговаривали, и он то и дело смотрел на мои руки. Я сначала всё вертела пуговицу, а потом положила руки на колени и уже не шевелила ими, чтобы он не подумал, что я волнуюсь... Он сначала спросил биографию. Откуда? Кто родители? Куда выезжала? Какие районы знаю? Какой язык знаю? Я сказала: немецкий. Потом про ноги, сердце, нервы. Потом стал задавать вопросы по топографии. Спросил, что такое азимут, как ходить по азимуту, как ориентироваться по звёздам. Я на всё ответила. Потом: «Винтовку знаешь?» — «Знаю». — «В цель стреляла?!» — «Да». — «Плаваешь?» — «Плаваю». — «А с вышки в воду прыгать не боишься?» — «Не боюсь». — «А с парашютной вышки не боишься?» — «Не боюсь». — «А сила воли у тебя есть?» Я ответила: «Нервы крепкие. Терпеливая». — «Ну что ж, говорит, война идёт, люди нужны. Что, если тебя на фронт послать?» — «Пошлите!» — «Только, говорит, это ведь не в кабинете сидеть и разговаривать... Кстати, ты где бываешь во время бомбёжки?» — «Сижу на крыше. Тревоги не боюсь. И бомбёжки не боюсь. И вообще ничего не боюсь». Тогда он говорит: «Ну хорошо, пойди в коридор и посиди. Я тут с другим товарищем побеседую, а потом поедем в Тушино делать пробные прыжки с самолёта».
Я пошла в коридор. Хожу, думаю, как это я стану прыгать — не сплоховать бы. Потом опять вызывает: «Готова?» — «Готова». И тут он начал пугать... (Зоя крепче сжала мою руку.) Ну, что условия будут трудные... И мало ли что может случиться... Потом говорит: «Ну, иди подумай. Придёшь через два дня». Я поняла, что про прыжок с самолёта он сказал просто так, для испытания.
Прихожу через два дня, а он и говорит: «Мы решили тебя не брать». Я чуть не заплакала и вдруг стала кричать: «Как так не брать? Почему не брать?»
Тогда он улыбнулся и сказал: «Садись. Ты пойдёшь в тыл». Тут я поняла, что это тоже было испытание. Понимаешь, я уверена: если бы он заметил, что я невольно вздохнула с облегчением или ещё что-нибудь такое, он бы ни за что не взял... Ну, вот и всё. Значит, первый экзамен выдержала...
Зоя замолчала. Весело потрескивали дрова в печке, тёплые отсветы дрожали на Зоином лице. Больше света в комнате не было. Долго ещё мы сидели так и смотрели в огонь.
— Жаль, что дяди Серёжи нет в Москве, — задумчиво сказала Зоя. — Он поддержал бы тебя в такое трудное время, хотя бы советом...
Потом Зоя закрыла печку, постелила себе и легла. Немного погодя легла и я, но уснуть не могла. Я думала о том, что Зоя не. скоро ещё будет снова спать дома, на своей кровати. Да спит ли она?.. Я тихонько подошла. Она тотчас шевельнулась.
— Ты почему не спишь? — спросила она, и по голосу я услышала, что она улыбается.
— Я встала посмотреть на часы, чтобы не проспать, — ответила я. — Ты спи, спи.
Я снова легла, но сон не шёл. Хотелось опять подойти к ней, спросить: может, она раздумала? Может, лучше эвакуироваться всем вместе, как нам уже не раз предлагали?.. Что-то душило меня, дыхания не хватало... Это последняя ночь. Последняя минута, когда я ещё могу удержать её. Потом будет поздно... И опять я встала. Посмотрела при смутном предутреннем свете на спящую Зою, на её спокойное лицо, на плотно сжатые, упрямые губы — и в последний раз поняла: нет, не передумает.
Шура рано уходил на завод.
— До свиданья, Шура, — сказала Зоя, когда он стоял уже в пальто и шапке.
Он пожал ей руку.
— Обними деда, — сказал он. — И бабушку. Счастливого тебе пути!.. Знаешь, нам будет скучно без тебя. Но я рад: в Гаях тебе будет спокойнее.
Зоя улыбнулась и обняла брата. Потом мы с нею выпили чаю, и она стала одеваться. Я дала ей тёплые зелёные варежки с чёрной каёмкой, которые сама связала, и свою шерстяную фуфайку.
— Нет, нет, не хочу! Как же ты будешь зимой без тёплого? — запротестовала Зоя.
— Возьми, — сказала я тихо.
Зоя взглянула на меня и больше не возражала.
Потом мы вышли вместе. Утро было пасмурное, ветер дул в лицо.
— Давай я понесу твой мешок, — сказала я.
Зоя приостановилась:
— Ну зачем ты так? Посмотри на меня... Да у тебя слёзы? Со слезами провожать меня не надо. Посмотри на меня ещё.
Я посмотрела: у Зои было счастливое, смеющееся лицо. Я постаралась улыбнуться в ответ.
— Вот так-то лучше. Не плачь...
Она крепко обняла меня, поцеловала и вскочила на подножку отходящего трамвая.
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
Дома каждая вещь сохраняла тепло недавнего Зоиного прикосновения. Книги стояли на этажерке так, как она их расставила. Бельё в шкафу, стопка тетрадей на столе были уложены её руками. И аккуратно замазанные на зиму окна, и ветки с сухими осенними листьями в высоком стакане — всё, всё помнило её и напоминало о ней.
Дней через десять пришла открытка, всего несколько строк: «Дорогая мамочка! Я жива и здорова, чувствую себя хорошо. Как-то ты там? Целую и обнимаю тебя. Твоя 3оя».
Шура долго держал в руках эту открытку, читал и перечитывал номер полевой почты, словно хотел затвердить его наизусть.
— Мам?! — сказал он только, и в этом возгласе было всё; удивление, упрёк, горькая обида на нас за наше молчание.
Самолюбивый и упрямый, он ни о чём не хотел меня спрашивать. Его поразило и безмерно обидело, что Зоя не поделилась с ним, ни слова ему не сказала.
— Но ведь и ты, когда уезжал в июле, тоже Зое ничего не сказал. Ты тогда не имел права рассказывать, и она тоже.
И он ответил мне словами, каких я никогда не слышала от него (я и не думала, что он может так сказать):
— Мы были с Зоей одно. — И, помолчав, с силой добавил: — Мы должны были уйти вместе!
Больше мы об этом не говорили.
...»Не нахожу себе места» — вот когда я поняла, что значат эти слова!
Каждый день до глубокой ночи я сидела за шитьём военного обмундирования и думала, думала: «Где ты сейчас? Что с тобой? Думаешь ли ты о нас?.. «
Однажды у меня выдалась свободная минута, и я стала приводить в порядок ящик стола: мне хотелось освободить место для Зоиных тетрадей, чтобы они не пылились напрасно.
Сначала мне попались листки, густо исписанные Зоиным почерком. Я прочла их: это были разрозненные страницы её сочинения об Илье Муромце, по-видимому, черновик. Начиналось сочинение так:
«Безграничны просторы русской земли. Три богатыря хранят её покой. Посредине, на могучем коне, Илья Муромец. Тяжёлая булава в его руке готова обрушиться на врага. По бокам — товарищи верные: Алёша Попович с лукавыми глазами и красавец Добрыня».
Мне вспомнилось, как Зоя читала былины об Илье, как принесла однажды репродукцию со знаменитой картины Васнецова и долго, сосредоточенно рассматривала её. Описанием этой картины она и начала сочинение.
На другом листке стояло:
«Народ относится к нему ласково, жалеет, когда он ранен в бою, называет Иленькой и Илюшенькой: «Ножка у Иленьки подвернулася». Когда его одолевает злой «нахвальщик», то сама земля русская вливает в него силы: «Лежичи, у Ильи втрое силы прибыло».
И на обороте:
«И вот спустя столетия чаяния и ожидания народные сбылись: у нашей земли есть свои достойные защитники из народа — Красная Армия. Недаром поётся в песне: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Мы делаем былью чудесную сказку, и поёт народ о своих героях с такой же глубокой любовью, как пел он когда-то об Илье Муромце».
Я бережно вложила эти листки в одну из Зоиных тетрадей и увидела, что в этой тетради сочинение об Илье Муромце, уже исправленное, переписано начисто, а в конце его рукою Веры Сергеевны отчётливо выведено: «Отлично».
Потом я стала укладывать всю стопку в ящик и почувствовала, что в самом углу что-то мешает. Протянула руку, нащупала что-то твёрдое и вытащила маленькую записную книжку. Я открыла её.
На первых страничках были записаны имена писателей и названия произведений, против многих стояли крестики: значит, прочтено. Тут были Жуковский, Карамзин, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Диккенс, Байрон, Мольер, Шекспир... Потом шли несколько листков, исписанных карандашом, — полустёршиеся, почти неразборчивые строки. И вдруг — чернилами, бисерно мелким, но чётким Зоиным почерком:
«В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» (Чехов).
«Быть коммунистом — значит дерзать, думать, хотеть, сметь» (Маяковский).
На следующей страничке я увидела быструю запись карандашом: «В «Отелло» — борьба человека за высокие идеалы правды, моральной чистоты и духовной искренности. Тема «Отелло» — победа настоящего, большого человеческого чувства!»
И ещё: «Гибель героя в шекспировских произведениях всегда сопровождается торжеством высокого морального начала».
Я листала маленькую, уже чуть потрёпанную книжку, и мне казалось, что я слышу голос Зои, вижу её пытливые, серьёзные глаза и застенчивую улыбку.
Вот выдержка из «Анны Карениной» о Серёже: «Ему было девять лет, он был ребёнок; но душу свою он знал, она была дорога ему, он берёг её, как веко бережёт глаз, и без ключа любви никого не пускал в свою душу».
Я читала — и мне казалось, что это сказано о самой Зое. Всё время, из-за каждой строчки, это она смотрела на меня.
«Маяковский — человек большого темперамента, открытый, прямой. Маяковский создал новую жизнь в поэзии. Он — поэт-гражданин, поэт-оратор».
«Сатин: «Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша! Когда труд — обязанность, жизнь — рабство!»
«...Что такое — правда? Человек — вот правда!»
«...Ложь — религия рабов и хозяев... Правда — бог свободного человека!.. Человек! Это — великолепно! Это звучит... гордо!.. Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... уважать надо!.. Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми. Не в этом дело!.. Человек — выше! Человек — выше сытости!» (Горький, «На дне».)
Новые странички — новые записи:
«Мигуэль де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский». Дон-Кихот — воля, самопожертвование, ум».
«Книга, быть может, наиболее сложное и великое чудо из всех чудес, сотворённых человечеством на пути его к счастью и могуществу будущего» (М. Горький).
«Впервые прочёл хорошую книгу — словно приобрёл большого, задушевного друга. Прочёл читанную — словно встретился вновь со старым другом. Кончаешь читать хорошую книгу — словно расстаёшься с лучшим другом, и кто знает, встретишься ли с ним вновь» (китайская мудрость).
«Дорогу осилит идущий».
«В характере, в манерах, стиле, во всём самое прекрасное — это простота» (Лонгфелло).
И снова, как в тот день, когда я читала Зоин дневник, мне казалось, что я держу в руках живое сердце — сердце, которое страстно хочет любить и верить. Я всё перелистывала книжку, подолгу задумываясь над каждой страничкой, и мне чудилось: Зоя рядом, мы снова вместе.
И вот последние листки. Дата: октябрь 1941.
«Секретарь Московского комитета — скромный, простой. Говорит кратко, но ясно. Его тел. К 0-27-00, доб. 1-14».
А потом — большие выписки из «Фауста» и целиком — хор, славящий Эвфориона:
Лозунг мой в этот миг —
Битва, победный крик.
. . . . . . . . . . . .
Пусть! На крылах своих
Рвусь туда!
Рвусь в боевой пожар,
Рвусь я к борьбе.
«Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России» (Салтыков-Щедрин).
И вдруг, на последней странице, как удар в сердце, — слова из «Гамлета»:
«Прощай, прощай и помни обо мне!»
ТАНЯ
Вспоминать прошлое мне было и радостно и горько. Я вспоминала — и мне казалось, что я снова качаю колыбель маленькой Зои, снова держу на руках трёхлетнего Шуру, снова вижу их вместе, моих детей, — живыми, полными надежд. Но чем меньше остаётся рассказывать, тем мне тяжелее, тем зримее близкий, неотвратимый конец, тем труднее находить нужные слова...
Дни после ухода Зои я помню отчётливо, до мелочей.
Она ушла — и наша с Шурой жизнь вся превратилась в ожидание. Прежде, придя домой и не застав сестру, Шура всегда спрашивая: «Где Зоя?» Теперь его первые слова были: «Письма нет?» Потом он перестал спрашивать вслух, в только в его глазах я неизменно читала этот вопрос. Но однажды он вбежал в комнату взволнованный и счастливый и, чего никогда не случалось, крепко обнял меня.
— Письмо? — сразу догадалась я.
— Ещё какое! — воскликнул Шура. — Слушай: «Дорогая мама! Как ты сейчас живёшь, как себя чувствуешь, не больна ли? Мамочка, если есть возможность, напиши хоть несколько строчек. Вернусь с задания, приеду навестить домой. Твоя Зоя».
— От какого числа? — спросила я.
— Семнадцатого ноября. Значит, ждём Зою домой!
И мы снова стали ждать, но теперь уже не так тревожно, с радостной надеждой. Мы ждали постоянно, ежечасно, ждали днём и ночью, всегда готовые вскочить на стук открывшейся двери, ежеминутно готовые стать счастливыми.
Но прошёл ноябрь, прошёл декабрь, подходил к концу январь... Ни писем, ни других вестей больше не было.
Мы с Шурой оба работали. Все домашние заботы он взял на себя, и я видела: он старается во всём заменить Зою. Придя домой первым, он спешил подогреть к моему возвращению еду. Я слышала, как он поднимался ночью и укрывал меня потеплее, потому что с дровами стало трудно и мы экономили как могли.
Однажды — это было в конце января — я возвращалась домой поздно. Как часто бывает, когда очень устанешь, машинально слушала обрывки разговоров. В этот вечер на улице то и дело слышалось:
— Читали сегодня «Правду»?
— Читали статью Лидова?
И в трамвае молодая женщина с огромными глазами на исхудалом лице говорила своему спутнику:
— Какая потрясающая статья!.. Какая девушка!..
Я поняла, что в газете сегодня что-то необычное.
— Шурик, — сказала я Дома, — ты читал сегодня «Правду»? Говорят, там очень интересная статья.
— Да, — сдержанно ответил Шура, не глядя на меня.
— О чём же?
— О молодой партизанке Тане. Её повесили гитлеровцы.
В комнате было холодно, мы привыкли к этому. Но тут мне показалось, что и внутри у меня всё похолодело и сжалось. «Тоже чья-то девочка, — подумалось мне. — И её ждут дома, и о ней тревожатся...»
Позже я услышала радио. Сообщения о боях, вести с трудового фронта. И вдруг диктор сказал:
— Передаём статью Лидова «Таня», напечатанную в «Правде» сегодня, двадцать седьмого января.
Скорбный и гневный голос стал рассказывать о том, как в первых числах декабря в селе Петрищеве фашисты казнили партизанку-комсомолку по имени Таня.
— Мама, — вдруг сказал Шура, — можно, я выключу? Мне завтра рано вставать.
Я удивилась: Шура всегда спал крепко, обычно ему не мешали ни громкий разговор, ни радио. Мне хотелось дослушать, но я выключила громкоговоритель, сказав только: «Ну что ж, спи...»
Назавтра я пошла в райком комсомола: может быть, там что-нибудь знают о Зое?
— Задание секретное, писем может не быть ещё долго, — сказал мне секретарь райкома.
Прошло ещё несколько томительных, нескончаемых дней и 7 февраля — это число я запомнила навсегда, — вернувшись домой, я нашла на столе записку:
«Мамочка, тебя просили зайти в райком ВЛКСМ».
«Наконец-то! — подумала я. — Конечно, какое-нибудь известие от Зои, может быть, письмо!»
Я мчалась в райком, как на крыльях. Вечер был тёмный, ветреный, трамваи не шли, но я почти бежала, спотыкалась, скользила, падала и снова бежала, и ни одной сторонней горькой мысли не было у меня — я не ждала никаких плохих вестей, я только хотела узнать: когда я увижу Зою? Скоро ли она вернётся?
— Вы разминулись. Идите обратно домой, к вам поехали из МК комсомола, — сказали мне в райкоме.
«Скорее, скорее узнать, когда приедет Зоя!» И я не пошла, а побежала домой. Я распахнула дверь и остановилась на пороге. Из-за стола навстречу мне поднялись двое: заведующий Тимирязевским отделом народного образования и незнакомый молодой человек с серьёзным, чуть напряжённым лицом. Изо рта у него шёл пар: в комнате было холодно, никто не снял пальто.
Шура стоял у окна. Я посмотрела на его лицо, глаза наши встретились, и вдруг я всё поняла... Он рванулся ко мне, что-то опрокинув по дороге, а я не могла двинуться, ноги словно приросли к полу.
— Любовь Тимофеевна, вы читали в «Правде» о Тане? — услышала я. — Это ваша Зоя... На Днях мы поедем в Петрищево.
Я опустилась на пододвинутый кем-то стул. У меня не было ни слёз, ни дыхания. Хотелось только скорее остаться одной, и в мозгу стучало одно только слово: «Погибла... погибла...»
***
Шура уложил меня в кровать и всю ночь просидел рядом. Он не плакал. Он смотрел перед собой сухими глазами и крепко сжимал обеими руками мою руку.
— Шура... как же мы теперь? — сказала я наконец.
И тут Шура рухнул на постель и громко, отчаянно разрыдался.
— Я давно уже знаю... всё знаю, — глухо, сдавленно повторял он. — Ведь тогда в «Правде» была фотография... с верёвкой на шее... Имя другое... Но я понял, что это она... я знал, что это она... Я не хотел тебе говорить... думал — может, ошибся... Уверял себя, что ошибся. Не хотел верить. Но я знал... я знал... я знал...
— Покажи, — сказала я.
— Нет! — ответил он сквозь слёзы.
— Шура, — сказала я, — мне ещё многое предстоит. Мне предстоит увидеть её. Я прошу тебя...
Шура вытащил из внутреннего кармана пиджака свою записную книжку; я чистой странице был приклеен четырёхугольник, вырезанный из газеты. И я увидела её лицо — родное, милое, страдальчески застывшее.
Шура что-то говорил мне, я не слышала, и вдруг до меня дошли его слова:
— Знаешь, почему она назвалась Таней? Помнишь Татьяну Соломаху?
Тогда я вспомнила и сразу поняла всё. Да, конечно, это о той далёкой, давно погибшей девушке думала она, когда назвала себя Таней...
В ПЕТРИЩЕВЕ
Через несколько дней я поехала в Петрищево. Плохо помню, как это было. Помню только, что асфальтированная дорога к Петрищеву не подходит и машину почти пять километров тащили волоком. В село мы пришли замёрзшие, оледенелые. Меня привели в какую-то избу, но отогреться я не могла: холод был внутри. Потом мы пошли к Зоиной могиле. Девочку уже вырыли, и я увидела её...
Она лежала, вытянув руки вдоль тела, запрокинув голову, с верёвкой на шее. Лицо её, совсем спокойное, было всё избито, на щеке — тёмный след удара. Всё тело исколото штыком, на груди — запёкшаяся кровь.
Я стояла на коленях подле неё и смотрела... Отвела прядь волос с её чистого лба — и опять поразило меня спокойствие этого истерзанного, избитого лица. Я не могла оторваться от неё, не могла отвести глаз.
И вдруг ко мне подошла девушка в красноармейской шинели. Она мягко, но настойчиво взяла меня за руку и подняла.
— Пойдёмте в избу, — сказала она.
— Нет.
— Пойдёмте. Я была с Зоей в одном партизанском отряде. Я вам расскажу...
Она привела меня в избу, села рядом со мной и стала рассказывать. С трудом, как сквозь туман, я слушала её. Кое-что мне уже было знакомо по газетам. Она рассказывала, как группа комсомольцев-партизан перешла через линию фронта. Две недели они жили в лесах на земле, занятой гитлеровцами. Ночью выполняли задания командира, днём спали где-нибудь на снегу, грелись у костра. Еды они взяли на пять дней, но растянули запас на две недели. Зоя делилась с товарищами последним куском, каждым глотком воды...
Эту девушку ввали Клава. Она рассказывала и плакала.
... Потом пришла им пора возвращаться. Но Зоя всё твердила, что сделано мало. Она попросила у командира разрешения проникнуть в Петрищево.
Она подожгла занятые фашистами избы и конюшню воинской части. Через день она подкралась к другой конюшне на краю села, там стояло больше двухсот лошадей. Достала из сумки бутылку с бензином, плеснула из неё и уже нагнулась, чтобы чиркнуть спичкой, — и тут её сзади схватил часовой. Она оттолкнула его, выхватила револьвер, но выстрелить не успела. Гитлеровец выбил у неё из рук оружие и поднял тревогу...
Клава замолчала. Тогда хозяйка избы, глядя в огонь печи, вдруг сказала:
— А я могу рассказать, что дальше было... Если хотите...
Я выслушала и её. Но говорить об этом я не могу, Я сделаю так: пусть здесь будет рассказ Петра Лидова. Он первый написал о Зое, он первый пришёл в Петрищево, он по свежим следам узнал и расспросил о том, как её мучили и как она погибла...
КАК ЭТО БЫЛО
«...И вот ввели Зою, указали на нары. Она села. Против неё на столе стояли телефоны, пишущая машинка, радиоприёмник и были разложены штабные бумаги.
Стали сходиться офицеры. Хозяевам дома (Ворониным) было велено выйти. Старуха замешкалась, и офицер прикрикнул: «Матка, фьють!» — и подтолкнул её в спину.
Командир 332-го пехотного полка 197-й дивизии подполковник Рюдерер сам допрашивал Зою.
Сидя на кухне, Воронины всё же могли слышать, что происходит в комнате. Офицер задавал вопросы, и Зоя (тут она и назвалась Таней) отвечала на них без запинки, громко и дерзко.
— Кто вы? — спросил подполковник.
— Не скажу.
— Это вы подожгли конюшню?
— Да, я.
— Ваша цель?
— Уничтожить вас.
Пауза.
— Когда вы перешли через линию фронта?
— В пятницу.
— Вы слишком быстро дошли.
— Что ж, зевать, что ли?
Зою спрашивали о том, кто послал её и кто был с нею. Требовали, чтоб выдала своих друзей. Через дверь доносились ответы: «нет», «не знаю», «не скажу», «нет». Потом в воздухе засвистели ремни, и слышно было, как стегали по телу. Через несколько минут молоденький офицерик выскочил из комнаты в кухню, уткнул голову в ладони и просидел так до конца допроса, зажмурив глаза и заткнув уши. Не выдержали даже нервы фашиста... Четверо дюжих мужчин, сняв пояса, избивали девушку. Хозяева дома насчитали двести ударов, но Зоя не издала ни одного звука. А после опять отвечала: «нет», «не скажу»; только голос её звучал глуше, чем прежде...
Унтер-офицер Карл Бауэрлейн (позже попавший в плен) присутствовал при пытках, которым подверг Зою Космодемьянскую подполковник Рюдерер. В своих показаниях он писал:
«Маленькая героиня вашего народа осталась тверда. Она не знала, что такое предательство... Она посинела от мороза, раны её кровоточили, но она не сказала ничего».
Два часа провела Зоя в избе Ворониных. После допроса её повели в избу Василия Кулика. Она шла под конвоем, по-прежнему раздетая, ступая по снегу босыми ногами.
Когда её вводили в избу Кулика, на лбу у неё было большое иссиня-чёрное пятно и ссадины на ногах и руках. Она тяжело дышала, волосы её растрепались, и чёрные пряди слиплись на высоком, покрытом каплями пота лбу. Руки девушки были связаны сзади верёвкой, губы искусаны в кровь и вздулись. Наверно, кусала их, когда пытками хотели вырвать признание.
Она села на лавку. Немецкий часовой стоял у двери. Сидела спокойно и неподвижно, потом попросила пить. Василий Кулик подошёл было к кадушке с водой, но часовой опередил его, схватил со стола лампу и поднёс Зое ко рту. Он хотел этим сказать, что напоить надо керосином, а не водой.
Кулик стал просить за девушку. Часовой огрызнулся, но потом нехотя уступил и разрешил подать Зое напиться. Она жадно выпила две большие кружки.
Солдаты, жившие в избе, окружили девушку и громко потешались. Одни шпыняли кулаками, другие подносили к подбородку зажжённые спички, а кто-то провёл по её спине пилой.
Вдосталь натешившись, солдаты ушли спать. Тогда часовой вскинул винтовку наизготовку и велел Зое подняться и выйти из дома. Шёл по улице сзади, почти вплотную приставив штык к её спине. Потом крикнул: «Цурюк!» — и повёл девушку в обратную сторону. Босая, в одном белье, ходила она по снегу до тех пор, пока мучитель сам не продрог и не решил, что пора вернуться под тёплый кров.
Этот часовой караулил Зою с десяти часов вечера до двух часов ночи и через каждый час выводил её на улицу на пятнадцать — двадцать минут...
Наконец на пост встал новый часовой. Несчастной разрешили прилечь на лавку.
Улучив минутку, Прасковья Кулик заговорила с Зоей.
— Ты чья будешь? — спросила она.
— А вам зачем это?
— Сама-то откуда?
— Я из Москвы.
— Родители есть?
Девушка не ответила. Она пролежала до утра без движения, ничего не сказав более и даже не застонав, хотя ноги её были отморожены и, видимо, сильно болели.
Поутру солдаты начали строить посреди деревни виселицу.
Прасковья снова заговорила с девушкой:
— Позавчера — это ты была?
— Я... Немцы сгорели?
— Нет.
— Жаль. А что сгорело?
— Кони ихние сгорели. Сказывают — оружие сгорело...
В десять часов утра пришли офицеры. Один из них снова спросил Зою:
— Скажите: кто вы?
Зоя не ответила...
Продолжения допроса хозяева дома не слышали: их вытолкнули из дому и впустили, когда допрос уже был окончен.
Принесли Зоины вещи: кофточку, брюки, чулки. Тут же был её вещевой мешок, и в нём — спички и соль. Шапка, меховая куртка, пуховая вязаная фуфайка и сапоги исчезли. Их успели поделить между собой унтер-офицеры, а рукавицы достались рыжему повару с офицерской кухни.
Зою одели, и хозяева помогли ей натягивать чулки на почерневшие ноги.
На грудь повесили отобранные у неё бутылки с бензином и доску с надписью:
«Поджигатель». Так и вывели на площадь, где стояла виселица.
Место казни окружали десятеро конных с саблями наголо, больше сотни немецких солдат и несколько офицеров. Местным жителям было приказано собраться и присутствовать при казни, но их пришло немного, а некоторые, придя и постояв, потихоньку разошлись по домам, чтобы не быть свидетелями страшного зрелища.
Под спущенной с перекладины петлёй были поставлены один на другой два ящика. Девушку приподняли, поставили на ящик и накинули на шею петлю. Один из офицеров стал наводить на виселицу объектив своего кодака. Комендант сделал солдатам, выполнявшим обязанность палачей, знак подождать.
Зоя воспользовалась этим и, обращаясь к колхозникам и колхозницам, крикнула громким и чистым голосом:
— Эй, товарищи! Чего смотрите невесело? Будьте смелее, боритесь, бейте фашистов, жгите, травите!
Стоявший рядом фашист замахнулся и хотел то ли ударить её, то ли зажать ей рот, но она оттолкнула его руку и продолжала:
— Мне не страшно умирать, товарищи! Это счастье — умереть за свой народ!
Фотограф снял виселицу издали и вблизи и теперь пристраивался, чтобы сфотографировать её сбоку. Палачи беспокойно поглядывали на коменданта, и тот крикнул фотографу:
— Абер дох шнеллер! [Поскорее!]
Тогда Зоя повернулась в сторону коменданта и крикнула ему и немецким солдатам:
— Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов, всех не перевешаете. Вам отомстят за меня. Солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен: всё равно победа будет за нами!
Палач подтянул верёвку, и петля сдавила Зоино горло. Но она обеими руками раздвинула петлю, приподнялась на носках и крикнула, напрягая все силы:
— Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь...
Палач упёрся кованым башмаком в ящик, который заскрипел по скользкому, утоптанному снегу. Верхний ящик свалился вниз и гулко стукнулся оземь. Толпа отшатнулась. Раздался и замер чей-то вопль, и эхо повторило его на опушке леса...»
РАССКАЗ КЛАВЫ
«Дорогая Любовь Тимофеевна!
Меня зовут Клава, я была с Вашей Зоей в одном партизанском отряде. Я знаю, когда мы встретились с Вами в Петрищеве, Вам было трудно слушать меня. Но я знаю и другое: Вам важно и дорого знать о каждой минуте, которую Зоя провела без Вас. А читать, наверно, легче, чем слушать. Поэтому я постараюсь рассказать Вам в этом письме обо всём, что я знаю и помню.
В середине октября я вместе с другими комсомольцами ждала в коридорах Московского комитета комсомола той минуты, когда меня примет секретарь. Я, как и другие, хотела, чтоб меня направили в тыл врага. Среди большой толпы я заметила смуглую сероглазую девушку. Она была в коричневом пальто с меховым воротником и с такой же меховой оторочкой внизу. Она ни с кем не разговаривала и, видно, никого не знала вокруг. Из кабинета секретаря она вышла с блестящими, радостными глазами, улыбнулась тем, кто стоял у дверей, и быстро пошла к выходу. Я с завистью посмотрела ей вслед: было ясно, что её признали достойной.
Потом побывала на приёме и я. А 31 октября — этот день я никогда не забуду — я пришла к кинотеатру «Колизей». Оттуда большую группу московских комсомольцев должны были отправить в часть. Моросил мелкий дождик, было холодно, сыро.
У входа в «Колизей» я опять заметила сероглазую девушку. «Вы в кино?» — спросила я. «Да», — ответила она, улыбаясь одними глазами. Стали подходить ещё и ещё девушки и ребята. «Вы в кино?» — спрашивали мы приходящих, и все отвечали: «Да». Но когда касса кино открылась, никто не стал покупать билетов. Мы поглядели друг на друга, и все засмеялись. Тогда я подошла к сероглазой девушке и спросила: «Как вас зовут?» И она ответила: «Зоя».
Потом Зоя и ещё одна девушка, Катя, принесли из магазина миндальные зёрна и стали всех оделять. «Чтоб не скучно было смотреть кино», — улыбаясь, говорила Зоя. Вскоре мы все перезнакомились. А потом подъехала машина, мы уселись и поехали через всю Москву к Можайскому шоссе. Ехали и пели:
Дан приказ: ему — на запад,
Ей — в другую сторону.
Уходили комсомольцы
На гражданскую войну...
Мы миновали последние московские дома и выехали на Можайское шоссе. Там женщины и подростки строили укрепления. И, наверное, все мы подумали об одном: никому не взять нашу Москву; ведь вот все москвичи, и старый и малый, готовы укреплять и защищать её!
Часам к шести вечера мы приехали в свою часть. Она была расположена за Кунцевом. Сразу же после ужина началось ученье. Мы изучали личное оружие — наган, маузер, парабеллум: разбирали, собирали, проверяли друг друга. Зоя очень быстро осваивалась с тем, что нам объясняли. «Вот бы сюда моего брата, — сказала она мне. — У него хорошие руки, он любой механизм мигом разберёт и соберёт, даже без всякого объяснения».
В комнате нас было десять девушек. Мы все едва знали друг друга по именам, но, когда надо было выбрать старосту, сразу несколько голосов сказали «Зою». И я поняла, что и другим, не только мне, она пришлась по сердцу.
На другое утро нас подняли в шесть часов. В семь уже должны были начаться занятия. Зоя подошла к моей кровати и сказала шутливо: «Скорей вставай, а то устрою холодный душ!» А другой девушке, которая немножко завозилась, она сказала: «Какой же ты солдат? Раз подъём, значит, сразу вскакивай!» Во время еды она тоже торопила нас, и кто-то ей сказал: «Да что ты всё командуешь?» Я подумала: вот сейчас она скажет что-нибудь резкое. Но Зоя только в упор посмотрела на ту девушку и сказала: «Сами меня выбирали. А уж если выбрали — слушайтесь».
После я не раз слышала, как о Зое говорили: «Она никогда не ругается, но уж как посмотрит...»
Занимались мы не в классе, не за партой. Своё ученье мы проходили в лесу. Учились ходить к цели по компасу, ориентироваться на местности, упражнялись в стрельбе. Захватив с собой ящики с толом, учились подрывному делу — «рвали деревья», как говорил наш преподаватель. Занимались все дни напролёт, почти без отдыха.
Потом пришёл день, когда нас по одному стал вызывать к себе майор Спрогис и снова спрашивал: «Не боишься? Не струсишь? Ещё есть возможность уйти, отказаться. Но это — последняя возможность, потом будет поздно». Зоя вошла к нему одной из первых и вышла почти мгновенно — значит, ответила сразу и решительно.
Потом нам выдали личное оружие и разделили на группы.
4 ноября мы выехали под Волоколамск, где должны были перейти линию фронта и углубиться в тыл врага: вам предстояло заминировать Волоколамское шоссе. К Волоколамску шли две группы — наша и Константина П. Уходили мы в разных направлениях. В группе Кости были две девушки — Шура и Женя. Прощаясь, они сказали: «Девушки, выполнять задание будем по-геройски, а если умирать, так тоже как герои». И Зоя ответила: «А как же иначе?»
Линию фронта мы перешли глубокой ночью, Очень тихо, без единого выстрела. Потом меня с Зоей направили в разведку. Мы двинулись в путь с радостью, нам очень хотелось поскорее приняться за дело. Но едва мы прошли несколько шагов, как, откуда ни возьмись, мимо промчались два мотоцикла, и так близко, что можно было бы дотянуться до них рукой. Тут мы поняли, что об осторожности забывать нельзя.
И сразу же условились: живыми не попадаться. Потом поползли. Осенние листья отяжелели, шуршат, и каждый звук кажется таким громким. А всё-таки Зоя ползла быстро и почти бесшумно и как-то очень легко, словно для этого не требовалось никаких усилий.
Так мы с ней проползли вдоль шоссе километра три. Потом вернулись на опушку, чтоб сказать нашим, что путь свободен. Ребята разошлись по двое и начали устанавливать мины — шоссейные мины всегда надо ставить вдвоём. А мы — четыре девушки — стояли в боевом охранении. Не успели ребята кончить, как мы услыхали вдалеке гул машин, сперва еле слышный, потом всё громче, ближе. Мы предупредили ребят и все вместе, пригибаясь, побежали в лес. Едва перевели дыхание, как раздался взрыв. Сразу стало светло. И потом наступила такая тишина, как будто всё вокруг вымерло, Даже лес перестал шуметь. А потом второй взрыв, третий, выстрелы, крики...
Мы ушли в глубь леса. Когда совсем рассвело, объявили привал. И поздравили друг друга с праздником, потому что было 7 Ноября.
В полдень мы с Зоей отправились на большак, по которому шли машины, и разбросали колючие рогатки — они прокалывали шины у автомобилей. И я заметила одно, в чём потом с каждым днём убеждалась всё больше: с Зоей не страшно. Она всё делала очень точно, спокойно, уверенно. Может быть, поэтому все наши любили ходить с нею в разведку.
Вечером того дня мы вернулись «домой», в часть. Рапортовали о выполнении задания, вымылись в бане. Помню, после этого мы с Зоей в первый раз заговорили о себе. Мы сидели на кровати. Зоя обхватила руками колени. Коротко стриженная, раскрасневшаяся после бани, она показалась мне совсем девочкой. И вдруг она спросила:
— Слушай, а ты кем была до прихода в часть?
— Учительницей.
— Тогда, значит, я должна называть тебя на «вы» и по имени-отчеству! — воскликнула Зоя.
А надо Вам сказать, что Зоя всем девушкам говорила «ты», а ребятам «вы». И они тоже все стали обращаться к ней на «вы». Но тут у неё это так забавно вышло, что я невольно засмеялась: сразу почувствовалось, что Зоя и в самом деле ещё девочка, что ей едва восемнадцать лет и пришла она сюда прямо со школьной скамьи.
— Что это тебе пришло в голову — на «вы» и по имени-отчеству! — сказала я. — Я только на три года тебя старше.
Зоя задумалась, потом спрашивает:
— А ты комсомолка?
— Да.
— Ну, тогда буду говорить «ты». У тебя родители есть?
— Есть. И сестра.
— А у меня мамочка и брат. Мой отец умер, когда мне было десять лет.
Мама сама нас вырастила. Вот когда вернёмся с задания, всю группу повезу в Москву, к маме. Увидишь, какая она. И маме вы все очень понравитесь. Я к вам ко всем привыкла и до конца войны буду с вами.
В первый раз мы так откровенно поговорили.
На другой день мы получили новое задание. Состав группы совсем изменился, но девушки остались прежние: Зоя, Лида Булгина, Вера Волошина и я. Мы все очень подружились. Нашего нового командира звали Борис. Он был очень выдержанный, спокойный, немного резковатый, но никогда не ругался и другим не разрешал. Зоя любила повторять его слова: «Выругаешься — и сам умнее не станешь и другого умнее не сделаешь». Обвешанные бутылками с горючей жидкостью и гранатами, пошли мы в тыл врага. На этот раз прорвались с боем, но все остались целы. А на следующий день получили настоящее боевое крещение: нас взяли с трёх сторон в перекрёстный огонь.
— Братцы, ложись! — крикнула Вера.
Легли, вжались в землю. Когда огонь стих, отползли метров на восемьсот, и тогда оказалось, что троих наших товарищей не хватает.
— Разрешите, я вернусь, посмотрю, нет ли раненых, — сказала Зоя командиру.
— Кого возьмёте с собой? — спросил Борис.
— Одна.
— Погодите, пускай сперва немцы успокоятся.
— Нет, тогда будет поздно.
— Хорошо, идите.
Зоя поползла. Ждём, ждём, а она не возвращается. Прошёл час, другой, третий... Во мне росла страшная уверенность: Зоя погибла. Иначе нельзя понять, почему её так долго нет. Но, когда забрезжил рассвет, она вернулась. Она была увешана оружием, руки в крови, лицо серое от усталости.
Трое товарищей погибли. Зоя подползла к каждому, у всех взяла оружие. Из кармана Веры взяла фотографическую карточку её матери и маленькую книжку со стихами, у Коли — письма.
Первый костёр мы разожгли в глубине леса, из сухого лапника — он не дымит. Костёр был маленький: он весь уместился бы на тарелке. Разжечь большой мы боялись. Мы грели руки, разогревали консервы. Зима начиналась совсем бесснежная, воды негде было взять, и нас очень мучила жажда.
Меня послали в предварительную разведку. Только я залегла в мелком ельнике, как подошли несколько гитлеровцев, остановились совсем рядом и стали разговаривать. Говорят, смеются. Прошло около часа. Ноги у меня совсем закоченели, губы пересохли. Еле я дождалась, пока они ушли, и ни с чем вернулась из своей неудачной разведки. Встретила меня Зоя. Она ни о чём не стала спрашивать, только повязала мне шею своим шарфом и усадила поближе к огню. Потом ушла куда-то, возвратилась с кружкой в руках и говорит:
— Я тут для тебя припасла сосулек, вот — растопилось немного воды. Пей.
— Я этого никогда не забуду, — сказала я.
— Пей, пей, — ответила Зоя.
Потом наш отряд опять двинулся в путь. Мы с Зоей как разведчики шли на сто метров впереди, за нами — остальные, гуськом, метра на полтора друг от друга. И вдруг Зоя остановилась и подняла руку, давая сигнал остановиться всей группе. Оказалось, на земле перед Зоей лежит убитый красноармеец. Мы осмотрели его. У него были прострелены ноги и висок. В кармане мы нашли заявление; «От лейтенанта противотанкового истребительного батальона Родионова. Прошу считать меня коммунистом». Зоя сложила этот листок и сунула во внутренний карман своего ватника. Лицо у неё было суровое, брови сдвинулись, и я в ту минуту подумала, что она больше похожа не на девочку, а на бойца, который будет мстить врагу без пощады.
Мы продвигались к Петрищеву, где сосредоточились большие силы противника. По пути мы резали связь. Ночью подошли к Петрищеву. Лес вокруг села густой. Мы отошли вглубь и развели настоящий огонь. Командир послал одного из ребят в охранение. Остальные сели вокруг костра. Луна взошла круглая, жёлтая. Уже несколько дней падал снег. Громадные густые ели стояли вокруг нас, покрытые снегом.
— Вот бы такую ёлку на Манежную площадь! — сказала Лида.
— Только в том же самом наряде! — подхватила Зоя.
Потом Борис стал делить последний паёк. Каждому досталось по полсухаря, по куску сахару и маленькому кусочку воблы. Ребята сразу всё проглотили, а мы откусывали понемножку, стараясь растянуть удовольствие. Зоя посмотрела на своего соседа и говорит:
— Я наелась, не хочу больше. На, возьми, — и протянула ему сухарь и сахар.
Он сперва отказался, а потом взял.
Помолчали. Лида Булгина сказала:
— Как жить хочется!
Не забыть, как прозвучали эти слова!
И тут Зоя стала читать на память Маяковского. Я никогда прежде не слышала, как она читает стихи. Это было необыкновенно: ночь, лес весь в снегу, костёр горит, и Зоя говорит тихо, но звучно и с таким чувством, с таким выражением:
По небу тучи бегают, дождями сумрак сжат, под старою телегою рабочие лежат.
И слышит шёпот гордый вода и под и над:
«Через четыре года здесь будет город-сад!»
Я тоже люблю Маяковского и стихи эти знала хорошо, но тут как будто в первый раз их услышала.
Свела промозглость корчею — неважный мокр уют, сидят впотьмах рабочие, подмокший хлеб жуют.
Но шёпот громче голода — он кроет капель спад:
«Через четыре года здесь будет город-сад!»
Я оглянулась, смотрю — все сидят, не шелохнутся и глаз не сводят с Зои.
А у неё опять лицо порозовело, и голос всё крепче, всё звонче:
Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране в советской есть!
— Ещё! — в один голос сказали мы, когда она кончила.
И Зоя стала читать подряд всё, что знала наизусть Маяковского, А знала она много. Помню, с каким чувством прочитала она отрывок из поэмы «Во весь голос»;
... Я подыму, как большевистский партбилет, все сто томов моих партийных книжек.
Так и запомнилась нам эта ночь: костёр, Зоя, стихи Маяковского...
— Вы, наверно, его очень любите? — спросил Борис.
— Очень! — ответила Зоя. — Поэтов много «хороших и разных», но Маяковский — один из самых моих любимых.
После того как была разведана местность, Борис стал распределять обязанности. Я слышала, как между ним и Зоей произошёл короткий разговор:
— Вы останетесь дежурить, — сказал Борис.
— Я прошу послать меня на задание.
— На задание пойдут только ребята.
— Трудности надо делить пополам. Я прошу вас!
Это «прошу» у неё прозвучало как требование. И командир согласился. Я шла в разведку, Зоя — на задание, к Петрищеву. Перед тем как уйти, она сказала мне:
— Давай поменяемся наганами. Мой лучше. А я и своим и твоим владею одинаково.
Она взяла у меня простой наган и дала мне свой самовзвод. Он и сейчас у меня — № 12719, Тульского завода, выпуск 1935 года. Я с ним не расстанусь до самого конца войны.
С задания Зоя вернулась преображённая — иначе не скажешь. Она подожгла конюшню, дом и надеялась, что там погибли гитлеровцы.
— Совсем другое чувство, когда делаешь настоящее дело! — сказала она.
— Да разве ты до сих пор ничего не делала? В разведку ходишь, связь рвёшь...
— Не то! — прервала меня Зоя. — Этого очень мало!
С разрешения командира она пошла в Петрищево ещё раз. Мы ждали её три дня. Но она не вернулась. Остальное Вы знаете.
Зоя говорила мне, что вы в своей семье жили очень дружно, почти не расставались. И я решила, что Вам дорого будет и то немногое, что я сумею Вам рассказать. И, хотя я знала Зою всего месяц, она стала для меня, как и для других членов нашего отряда, одним из самых светлых, самых чистых людей, каких мы только знали.
Когда Вы приезжали в Петрищево, я видела и Вашего сына Шуру. Он стоял рядом с Вами у Зоиной могилы. Зоя мне как-то сказала: «Мы с братом совсем не похожи, характеры у нас очень разные». А я смотрела на Шуру и понимала, что характеры очень похожие. Как сейчас вижу — стоит он, смотрит на Зою, губу закусил и не плачет.
Слов утешения у меня нет. Да их и не может быть. Я понимаю, нет таких слов на свете, чтоб можно было утешить Вас в Вашем горе. Но я хочу Вам сказать: память о Зое никогда не умрёт, не может умереть. Она живая среди нас. Она многих ещё поднимет на борьбу, многим осветит путь своим подвигом. И наша любовь, любовь Ваших дочерей и сыновей, по всей нашей земле всегда с Вами, дорогая Любовь Тимофеевна.
Клава».
***
Через несколько дней после моей поездки в Петрищево радио принесло известие о том, что Зое посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
... Ранним утром в начале марта я шла в Кремль получать Зоину грамоту. Тёплый весенний ветер дул в лицо. Я думала о том, что стало для нас с Шурой горько привычным, что вторило каждой нашей мысли и каждому шагу: «Зоя этого не увидит. Никогда. Она любила весну. А теперь Зои нет. И по Красной площади она больше не пройдёт. Никогда».
Ждать мне пришлось недолго. Вскоре меня провели в большую, высокую комнату. Я не сразу огляделась, не сразу поняла, где нахожусь, — и вдруг увидела, что из-за стола поднялся человек.
«Калинин... Михаил Иванович...» — вдруг поняла я.
Да, это Михаил Иванович шёл мне навстречу. Его лицо было так знакомо мне по портретам, не раз я видела его на трибуне Мавзолея. И всегда его добрые, чуть прищуренные глаза улыбались. А теперь они были строгие и печальные. Он совсем поседел, и лицо его показалось мне таким усталым... Обеими руками он пожал мою руку и тихо, удивительно ласково пожелал мне здоровья и сил. Потом протянул мне грамоту.
— На память о высоком подвиге вашей дочери, — услышала я.
... Месяц спустя тело Зои перевезли в Москву и похоронили на Ново-Девичьем кладбище. На могиле её поставлен памятник, и на его чёрном мраморе высечены слова Николая Островского — слова, которые Зоя когда-то, как девиз, как завет, вписала в свою записную книжку и которые она оправдала своей короткой жизнью и своей смертью: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь, все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества».
ШУРА
Тяжкие дни настали для нас с Шурой. Мы перестали ждать, мы знали, что ждать нечего. Прежде вся наша жизнь была полна надеждой на встречу, верой в то, что мы снова увидим и обнимем нашу Зою. Подходя к почтовому ящику, мы с надеждой смотрели на него: он мог принести нам весть о Зое. Теперь мы проходили мимо него не глядя; мы знали — там ничего для нас нет. Ничего, что принесло бы нам радость.
Очень горькое письмо пришло из Осиновых Гаев от моего отца. Он был потрясён смертью Зои. «Не пойму я. Как же это так? Я, старик, живу, а её нет...» — писал он, а таким смятением, таким безутешным горем веяло от этих строк! Всё письмо было в пятнах от слёз, некоторых слов я так и не могла разобрать.
— Жаль стариков... — тихо сказал Шура, прочитав письмо Деда.
Шура был теперь моей поддержкой, им я жила. Он старался как можно больше времени проводить со мной. Он, прежде как огня боявшийся всяких «нежностей», был теперь со мною мягок и ласков. «Мамочка», — неизменно говорил он, чуть ли не с пяти лет не произносивший этого слова. Он стал видеть и замечать то, что прежде ускользало от него. Я начала курить, и он заметил: если я закуриваю. значит, слёзы близко. Увидит, что я разыскиваю папиросы, вглядится в лицо, подойдёт:
— Что ты? Не надо. Ну, пожалуйста... прошу тебя...
По ночам он всегда чувствовал, если я не спала. Он подходил, садился на край моей постели и молча гладил мою руку. Когда он уходил, я чувствовала себя покинутой и беспомощной. Старшим в семье стал Шура.
После уроков (в школе возобновились занятия) он сразу приходил домой и, если не было воздушной тревоги, садился за книгу. Но, и читая, он не забывал обо мне. Иногда просто окликал тихонько:
— Мама!
— Да, Шурик...
И он снова углублялся в книгу. А время от времени говорил:
— Ты не спишь? Вот послушай... посмотри, как хорошо сказано, — и читал мне вслух особенно понравившиеся строки.
Один раз, читая письма Крамского, он сказал:
— Смотри, как это верно: «Драгоценнейшее качество художника — сердце».
Хорошо, да? Я так понимаю: умей не только видеть — этого мало, надо понимать и чувствовать... Эх, мама! — вдруг воскликнул он. — А после войны как я буду учиться, если бы ты только знала!..
— Ты не спишь? — спросил он в другой раз. — Можно, я включу радио? Там, кажется, музыка.
Я кивнула. И вдруг звуки вальса из Пятой симфонии Чайковского заполнили комнату.
Всё было в те дни испытанием для нас, и это оказалось тоже испытанием:
Пятую симфонию больше всего любила Зоя. Мы молча слушали, боясь вздохнуть погромче, боясь, что это кончится, прорвётся тревогой, что не удастся дослушать...
А когда отзвучал финал, Шура сказал с глубоким убеждением:
— Вот увидишь, в День Победы непременно будут исполнять финал Пятой симфонии. Как по-твоему?
... Дни шли за днями. Врага отбросили от Москвы, но он сопротивлялся упорно и жестоко. Он захватил большую часть Украины, Белоруссию, сдавил в кольце блокады Ленинград, рвался к Волге. Он жёг и истреблял всё на своём пути. Он мучил, пытал, вешал, душил. Все прежние понятия о зверстве, о жестокости померкли перед тем, что пришлось нам узнать в эту войну. Газетный лист обжигал руки и сердце, радио приносило такие вести, что останавливалось дыхание.
Слушая сводки Совинформбюро, Шура скрипел зубами и потом подолгу молча ходил по комнате, сведя брови, сжав кулаки. Изредка к нам заходили его товарищи: худенький Володя Юрьев, сын Лидии Николаевны, которая учила Зою и Шуру в четвёртом классе; Юра Браудо, с которым я была уже знакома; Володя Титов и ещё мальчик, имени которого я не помню, со странной фамилией Неделько. Теперь они стали заходить чаще, но когда я заставала их у нас, они сразу замолкали и спешили уйти.
— Почему мальчики уходят, как только я прихожу?
— Не хотят мешать, — уклончиво ответил Шура.
СО ВСЕХ КОНЦОВ СТРАНЫ
Однажды, когда я вынимала из ящика газету, к моим ногам упало несколько писем. Я подняла их и развернула первое попавшееся — чуть потёртый на сгибах фронтовой треугольник без марки.
«Дорогая мать...» — прочла я и заплакала.
Это писали незнакомые люди, бойцы Черноморского флота. Они старались поддержать меня в моём горе, называли Зою сестрой и обещали мстить за неё.
И вот каждое утро почта стала приносить мне письма. Откуда только не приходили они! Со всех фронтов, со всех концов страны столько тёплых, дружеских рук протянулось к нам с Шурой, столько сердец обратилось к нам. Писали и дети, и взрослые, матери, потерявшие своих детей на войне, ребята, у которых фашисты убили родителей, и те, кто в это время был на поле боя. И все они словно хотели принять на себя часть нашего горя.
Мы с Шурой были слишком тяжко ранены, и эту рану ничто не могло залечить. Но — не знаю, какими словами выразить это, — любовь и участие, которыми дышало каждое письмо, согревали нас. Мы не были одиноки в своей беде. Столько людей старались утешить нас, облегчить наше горе сердечным словом — и это было так дорого, так поддерживало нас!
Вскоре после того как я получила первое письмо, в дверь нашей комнаты несмело постучали, и вошла незнакомая девушка. Она была высокая, худенькая; смуглое лицо, короткая стрижка и большие глаза — только не серые, а синие — напомнили мне Зою. Она стояла передо мною смущённая и неловко теребила в руках платок.
— Я с военного завода, — сказала она, запинаясь и робко поглядывая на меня из-под ресниц. — Я... наши комсомольцы, мы все очень просим вас: приходите к нам на комсомольское собрание... и выступите. Мы очень-очень просим вас, очень! Я понимаю, вам это трудно, но мы...
Я сказала, что выступать не могу, но на собрание приду.
На другой день к вечеру я пошла на завод. Он находился на окраине Москвы; многие строения вокруг были полуразрушены.
— Фугаска упала. Пожар был, — кратко пояснила провожатая, отвечая на мой безмолвный вопрос.
Когда мы вошли в красный уголок, собрание уже началось. Первое, что я увидела, — лицо Зои, смотревшее на меня со стены за столом президиума. Я тихо села в стороне и стала слушать. Говорил юноша, почти подросток. Он говорил о том, что план уже второй месяц не выполняется, говорил сердито, горячо. Потом выступил другой, постарше, и сказал, что опытных рук в цехе становится всё меньше и меньше, вся надежда на ремесленников.
— А холод какой! Цех не лучше погреба! Руки к металлу примерзают! — раздался голос с места.
— Не стыдно тебе! — крикнула моя спутница, резко обернувшись в ту сторону. — Посовестись!
Неожиданно для себя я встала и попросила слова. Меня пригласили пройти на невысокую трибуну, и пока я шла, Зоины глаза с портрета смотрели мне прямо в глаза. Теперь портрет Зои был за мною, немного сбоку, как будто она стояла за моим плечом и смотрела на меня. Но я не говорила о ней.
— Ваши братья, ваши сёстры на фронте каждый день, каждый час жертвуют жизнью, — сказала я. — Ленинград голодает... Каждый день от вражеских снарядов гибнут люди...
Нет, не стану пытаться передать то, что я сказала тогда. Я не помню слов. Но глаза молодёжи, устремлённые на меня, подтвердили: я говорю то, что нужно.
Потом они отвечали мне — коротко, решительно.
— Мы будем работать ещё злее, — сказал тот, кто выступил первым.
— Мы назовём нашу бригаду именем Зои, — сказал другой.
... Через месяц мне позвонили с того завода.
— Любовь Тимофеевна, мы теперь перевыполняем план, — услышала я.
И я поняла: дать горю сломить себя — значит оскорбить память Зои. Нельзя сдаться, упасть, нельзя умереть. Я не имею права на отчаяние. Надо жить.
Выступать перед людьми, говорить с большой аудиторией мне было очень трудно. Но я не могла отказать, когда меня просили приехать, а это бывало всё чаще. Не смела отказать потому, что поняла: если моё слово помогает, если оно доходит до людей, до молодёжи, если я могу внести хоть небольшую долю в великую борьбу с врагом — значит, я должна это сделать,
«ПОЖЕЛАЙ МНЕ ДОБРОГО ПУТИ!»
— Где ты был, Шура? Почему так задержался?
— Ох, мамочка, прости, пожалуйста. Так уж вышло.
С каждым днём Шура приходил всё позже. Он чем-то встревожен, о чём-то всё время сосредоточенно думает. О чём? Почему он не говорит мне? У нас не в обычае расспрашивать друг друга. Если хочешь поделиться тем, что у тебя на душе, — скажи сам. Так оно и бывало всегда. Почему же сейчас он молчит? Что случилось? Что у нас может ещё случиться? Может быть, пришло письмо из Гаев? Здоровы ли старики?.. Вот вернётся сегодня Шура, и я сама его обо всём спрошу.
И вдруг, убирая со стола, я нечаянно смахнула какой-то забытый листок. Нагнувшись, подняла. На листке рукою Шуры были переписаны стихи о водителе танка, который, как капитан Гастелло, в последний миг повёл на врага свою охваченную пламенем машину:
Вот он по рытвинам крутым
Идёт неудержимо,
И вьются по ветру за ним
Густые космы дыма.
Он возникает тут и там,
Как мститель, в самой гуще,
И настигает по пятам
Идущих и бегущих.
Дымится в поле снежный прах
На узком перекрёстке, —
Трещат у танка на зубах
Обозные повозки
Он через рвы летит вперёд, —
В глазах мелькают пятна, —
И землю ту, что он берёт,
Он не отдаст обратно...
Ты различишь его в огне
По свету славы вечной,
По насечённой на броне
Звезде пятиконечной.
Я прочитала эти стихи и вдруг поняла то, о чём боялась думать всё это время: Шура уйдёт. Уйдёт на фронт, и ничто, ничто его не остановит. Он ещё ничего не сказал мне, ни словом не обмолвился, ему ещё семнадцати не исполнилось, но я знала: так будет.
И я не ошиблась. Как-то вечером, вернувшись домой, я ещё в коридоре услышала шумный разговор и, открыв дверь, увидела: сидят впятером — Шура, Володя Юрьев, Володя Титов, Неделько и Юра Браудо; у каждого в зубах папироса, комната полна табачного дыма. До этой минуты я никогда не видела, чтобы Шура курил.
— Зачем это ты? — спросила я только.
— Нас сам генерал и то угощал, — быстро, словно решившись, ответил Шура. — Мы... знаешь, мы едем в Ульяновское танковое училище. Нас уже приняли.
Я молча опустилась на стул...
— Мамочка, — говорил Шура ночью, присев ко мне на кровать, — ты только пойми. Ну пожалуйста! Чужие люди пишут тебе: «Мы будем мстить за Зою». А я, родной брат, останусь дома? Да как же я посмотрю в глаза людям?
Я молчала. Если тогда я не нашла слов, которые остановили бы Зою, какие слова найду я теперь?..
1 мая 1942 года Шура уехал.
— Их не будут провожать, — сказал он про своих друзей. — И меня не надо, хорошо? А то им обидно станет. А ты пожелай мне доброго пути!
Я боялась, что голос мне изменит, и только молча кивнула. Сын ещё раз обнял меня, крепко поцеловал и вышел из комнаты. Дверь захлопнулась, и на этот раз я осталась совсем одна.
... А через несколько дней пришло письмо из Осиновых Гаев: умерла моя мать. «Не смогла она пережить Зоиной гибели», — писал отец.
ВЕСТИ ИЗ УЛЬЯНОВСКА
Шура писал мне почти каждый день. Он попал со своими товарищами в одно отделение и шутя называл его «Ульяновским филиалом десятого класса 201-й московской школы».
«Эх, мама, — писал он в одном из первых писем, — ничего-то я не умею! Даже ходить в строю толком не умею; сегодня, например, отдавил товарищу пятку. Командиров приветствовать тоже не умею. И меня за это по головке не гладят».
Время шло — и в другом письме он писал:
«Устаю, недосыпаю, но работаю, как зверь. Уже хорошо изучил винтовку, гранату, наган. На днях мы ездили на полигон, где стреляли из танка. Мои результаты для начала нормальные: по стрельбе из танка на дистанцию 400 и 500 метров из пушки и пулемёта я поразил цели на «хорошо». Ты теперь меня не узнаешь: командиров хорошо приветствую и в ногу хожу молодцом».
Когда дело стало подходить к экзаменам, Шура в каждом письме начал меня умолить: «Мама, если можешь, то достань мне широкий ремень; если можешь, то о портупеей». И через несколько дней снова: «Мама, поищи получше! Какой я буду офицер, если ремень у меня совсем никуда не годится». Сквозь эти строки на меня смотрели отчаянные глаза маленького Шуры. Точно так же, почти теми же словами, он просил в детстве, когда ему чего-нибудь очень хотелось.
Вот передо мною сто Шуриных писем, от самого первого до последнего, — и, перечитывая их, я вижу, как рос, как мужал мой мальчик.
Однажды я получила от него такое письмо:
«Мама, мои занятия в училище близятся к концу — 1 ноября начинаются экзамены. Я устаю, недосыпаю, но работаю много. Сказалось, что я нахожусь здесь почти вдвое меньше времени, чем другие. Отстал.
Экзамены эти будут самыми главными в моей жизни. Я напрягу все свои силы, всё внимание, потому что страна должна получить хорошо подготовленного танкиста-лейтенанта, именно лейтенанта, а не младшего лейтенанта и не старшего сержанта. Ты пойми — это не честолюбие, не тщеславие; просто я должен сделать всё, что смогу, чтобы быть нужнее, полезнее. Я читаю о том, как фашисты жгут наши города и сёла, как они мучают детей и женщин, я вспоминаю о том, как замучили Зою, и хочу только одного: скорее на фронт».
И другое письмо:
«Мама, слушай: госэкзамены закончились. По технике — «отлично», по огневой подготовке — «отлично», по тактике и военной топографии — «отлично»...»
А в конце этого гордого, праздничного письма — приписка:
«Получил письмо от дедушки — он болен и одинок».
... Однажды в тёплый осенний вечер я сидела у окна и смотрела на улицу.
Передо мною лежали письма, на которые надо было ответить, а я всё не могла отвести взгляда от светлого, безоблачного неба. И вдруг на глаза мне легли широкие тёплые ладони.
— Шурик!.. — только и могла я сказать.
— Ты не слыхала ни стука, ни того, как мне открыли, ничего! — смеясь, говорил он. — Я стою в дверях, смотрю на тебя, а ты всё сидишь и сидишь! — И, снова закрыв мне глаза рукой (словно думал, что так мне легче будет выслушать это), сказал: — Я приехал проститься. Завтра уезжаю на фронт.
Он возмужал, стал ещё шире в плечах, но синие глаза смотрели всё так же по-мальчишески весело и открыто.
И опять была трудная, горькая ночь. Шура крепко спал, положив ладонь под щёку, а я то и дело вставала взглянуть на него и не могла наглядеться. Мне страшно было думать, что эта ночь кончится. Но в урочный час пришёл рассвет, Шура вскочил, быстро умылся и оделся, наскоро выпил чаю и, подойдя ко мне, сказал уже привычное:
— Не провожай. Береги себя. А за меня не беспокойся.
— Будь честным... и стойким... пиши чаще... — с трудом ответила я.
ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ
Шура уехал, и писем от него не было. Прошёл месяц. Я боялась подходить к почтовому ящику — мне всё казалось, что я найду в нём беспощадное известие... Это были очень тяжкие дни, полные такого давящего, такого мучительного ожидания, какого я не испытывала даже после ухода Зои. Ведь тогда я ещё не знала, что значит потерять ребёнка. Теперь я знала это.
Иногда тревога становилась такой неотвязной, что я пыталась бежать от неё, как будто можно бежать от самой себя, от мыслей... Я ходила по улицам, стараясь устать так, чтобы, придя домой, уснуть. Но это редко удавалось мне. Сколько бы улиц я ни исколесила, сколько бы километров ни прошла, всё равно потом почти всю ночь, до рассвета, лежала с открытыми глазами.
Часто я пешком ходила на Новодевичье кладбище, на Зоину могилу. Однажды, подходя к могиле, я увидела возле неё широкоплечего военного. Когда я подошла ближе, он обернулся. Это был человек лет тридцати пяти, с открытым, славным лицом и прямым, проницательным взглядом серых глаз. Мне показалось, будто он хочет что-то сказать. Я вопросительно посмотрела на него, но он, помедлив секунду, отошёл. Я забыла о нём. Но, уходя, я снова увидела его на повороте дорожки; он шёл мне навстречу.
— Любовь Тимофеевна? — спросил он нерешительно.
— Да, — удивлённо ответила я.
И тогда он назвал себя!
— Лидов.
Я не забыла это имя: ведь им были подписаны те памятные строки в «Правде»! — рассказ о том, как погибла партизанка Таня...
Я крепко пожала руку Лидову... Мы медленно пошли по дорожке к выходу.
— Я рада познакомиться с вами, — сказала я от всей души. — Мне давно хотелось повидать вас...
И мы стали разговаривать так, словно были знакомы долгие годы. Он рассказал мне о том, как он впервые услышал о Зое. Он ночевал в маленькой полуразрушенной избушке под Можайском. Когда почти все уснули, в избушку зашёл погреться какой-то старик. Он прилёг на полу рядом с Лидовым.
— Слышу я, — рассказывал Пётр Александрович, — старику не спится.
Охает, стонет, не по себе ему. «Куда идёшь, отец? — спрашиваю. — Что ты всё охаешь?»
И тут старик рассказал Лидову, что он слышал о девушке, которую повесили гитлеровцы в селе Петрищеве. Никаких подробностей он не знал. Он только повторял: «Её вешали, а она речь говорила...»
Лидов тотчас пошёл в Петрищево. И с этой ночи он десять дней кряду неутомимо разузнавал обо всём, что касалось гибели неизвестной девушки, назвавшей себя Таней. Он брал только факты, потому что был убеждён: их голос прозвучит громче, чем всё, что мог бы сказать журналист от себя.
— Почему вы ни разу не пришли ко мне? — спросила я.
— Боялся, что вам будет тяжело, — просто ответил он.
— Вы давно на фронте?
Тут он впервые улыбнулся — эта открытая улыбка удивительно красила его лицо.
— На фронте я с первого часа войны, — сказал он. — Тогда в Москве о войне ещё не знали! Двадцать второе июня застало меня в Минске, я был там корреспондентом «Правды»... Это было любопытно, — задумчиво прибавил он и с улыбкой вспомнил о том, как в подвале телеграфа, куда он забежал во время сильной бомбёжки, ему передали телеграмму из Москвы, посланную накануне.
Это была совсем мирная телеграмма: редакция просила Лидова написать о подготовке к уборочной кампании. Он спрятал телеграмму в карман и помчался на своей машине в часть, которая готовилась к оборонительным боям. Улицы Минска уже были охвачены пламенем, и бомбёжка не прекращалась.
Тогда же, в этот первый день, Лидов передал корреспонденцию в «Правду», но она не касалась уборочной кампании...
Он рассказывал обо всём этом очень просто, немногословно. А я шла, слушала его и думала: «Вот бывает — знаешь человека годами и ничего не можешь сказать о нём. А тут я и часу не провела с Петром Александровичем и совсем немного рассказал он о себе, но я знаю о нём очень много, знаю самое главное. Знаю, что он прям и честен, отважен и спокоен, умеет держать себя в руках, никогда не теряется. Знаю, что в трудной фронтовой обстановке не словами, а делом, всем своим поведением он учит окружающих спокойствию и выдержке».
— Я сегодня снова на фронт, — сказал он мне на прощанье и прибавил негромко: — А после войны я непременно напишу книгу о Зое. Большую, хорошую книгу.
ПЯТЬ ФОТОГРАФИЙ
День 24 октября 1943 года принёс мне новое испытание. В газете были помещены пять фотографий: их нашли у гитлеровского офицера, убитого советским бойцом под деревней Потапово, близ Смоленска. Фашист сфотографировал убийство Зои, её последние минуты. Я увидела виселицу на снегу, увидела мою Зою, мою девочку среди гитлеровцев... доску с надписью «Поджигатель» на её груди... — и тех, кто пытал и мучил её.
С того часа, как я узнала о гибели моей девочки, я всегда, днём и ночью, неотступно мучилась одним: о чём думала она, когда шла в свой последний, страшный путь? Что чувствовала? О чём вспоминала?.. Бессильная тоска охватывала меня: я не была с нею тогда, когда была ей, должно быть, всего нужнее; я не могла облегчить ей последние минуты ни словом, ни взглядом... И пять фотографий словно провели меня Зоиным смертным путём. Теперь я своими глазами видела, как её казнили, сама была при этом, но слишком поздно... Эти снимки, казалось, кричали: «Смотри, как её мучили! Смотри и будь молчаливым свидетелем её гибели, переживи снова всю боль, всю муку — её и свою...»
Вот идёт она одна, истерзанная, безоружная, но сколько силы и гордости в её опущенной голове! Должно быть, в эти минуты она даже не замечает палачей вокруг, О чём она думает? Готовится умереть? Вспоминает всю свою короткую светлую жизнь?..
Я не могу говорить об этой... Пусть тот, кто прочтёт ату книгу, вспомнит страшный немецкий снимок, лицо Зои. И он увидит: Зоя — победительница. Её убийцы — ничто перед нею. С нею — всё высокое, прекрасное, святое, всё человеческое, вся правда и чистота мира. Это не умирает, не может умереть. А они — в них нет ничего человеческого. Они не люди. Они даже не звери — они фашисты. Они заживо мертвы. Сегодня, завтра, через тысячу лет их имена, самые их могилы будут ненавистны и омерзительны людям.
«Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ЖИТЬ!»
... А писем от Шуры всё не было. И вдруг, ещё через несколько дней, развернув «Правду», я увидела на третьей странице сообщение:
«Действующая армия. 27 октября (по телеграфу). Части энского соединения добивают в ожесточённых боях остатки 197-й немецкой пехотной дивизии, офицеры и солдаты которой в ноябре 1941 года в деревне Петрищево замучили и убили отважную партизанку Зою Космодемьянскую. Опубликованные в «Правде» пять немецких фотоснимков расправы над Зоей вызвали новую волну гнева у наших бойцов и офицеров. Здесь отважно сражается и мстит за сестру брат Зои — комсомолец-танкист, гвардии лейтенант Космодемьянский. В последнем бою экипаж танка «KB» под командованием тов. Космодемьянского первым ворвался во вражескую оборону, расстреливая и давя гусеницами гитлеровцев. Майор Г.Вершинин».
Шура жив! И мстит за сестру.
И снова я стала получать письма, но уже не из мирного Ульяновска, а из самого пекла войны.
А 1 января 1944 года меня разбудил громкий звонок.
— Кто бы это? — вслух удивилась я, открыла дверь и окаменела от неожиданности: передо мной стоял Шура.
Он показался мне настоящим великаном — стройный, широкоплечий, в длинной, пахнущей морозом шинели. Лицо его порозовело от ветра и быстрой ходьбы, на густых бровях и ресницах таяли снежинки, глаза весело блестели.
— Что так смотришь, не узнала? — спросил он, смеясь.
— Смотрю — Илья Муромец пришёл! — ответила я.
Это был самый нежданный и самый драгоценный новогодний подарок. Шура тоже был бесконечно рад. Он не отходил от меня ни на шаг и, если хотел выйти на улицу — за папиросами или просто немного пройтись, — просил, как маленький:
— Пойдём со мной!
Он несколько раз в день заговаривал всё об одном:
— Расскажи, как ты живёшь.
— Да ведь я писала тебе...
— Что писала! Ты расскажи. Тебе по-прежнему пишут? Покажи письма...
Давай я помогу тебе ответить...
Это было не лишнее: письма по-прежнему текли без счёта, рекою.
Люди писали мне, писали в школу, где училась Зоя, в редакции газет, в райкомы комсомола.
«Когда я стою на посту, мне кажется, что Зоя — рядом со мной», — писала мне с Волги девушка-воин, Зоина сверстница Октябрина Смирнова.
«Даю клятву: буду честно служить народу, буду такой же, как Зоя», — писала девушка-москвичка, сверстница Зои, в Таганский райком ВЛКСМ, прося послать её на фронт.
«Я буду воспитывать своих школьников так, чтобы они походили на Зою, на смелую, чудесную Вашу дочку», — писала мне молодая учительница из Башкирии.
«Это горе — наше, это горе — народное», — писали ученики новосибирской школы.
И ещё и ещё шли искренние, сердечные письма, клятвы, стихи из Сибири, Прибалтики, с Урала, из Тбилиси. Приходили письма из-за рубежа — из Индии, Австралии, Америки...
Шура перечитал их все. Потом снова взял в руки одно, пришедшее из Англии. Вот что было в этом письме:
«Дорогой товарищ Любовь Космодемьянская!
Мы с женой живём в маленькой квартире под Лондоном. Только что мы прочли о Вашей милой, храброй дочке. Её предсмертные слова вызвали у нас слёзы: сколько храбрости, сколько мужества в такой юной девушке! В начале будущего года мы ожидаем нашего первого ребёнка, и, если это будет девочка, мы назовём её именем Вашей дочери — дочери великого народа первого социалистического государства.
С безграничным восхищением мы слышим и читаем о вашей великой борьбе. Но мало восхищаться, мы хотим бороться рядом с вами — не слова, а дела, вот что сейчас нужно. Мы уверены, что недалёк тот час, когда наконец мы увидим гибель гнусного фашизма, который мы ненавидим так же, как и вы. Ваш народ войдёт в историю как народ, чья отвага, мужество и стойкость сделали возможной победу над фашизмом. Английский народ хорошо понимает, что он в неоплатном долгу перед Россией, и у нас часто говорят: «Что стало бы с нами, если бы не русские!»
Кончаем письмо пожеланием: за победу и за нашу вечную дружбу — в войне и мире!
Да здравствует советский народ и его славная Красная Армия!
С братским приветом — Мэйбл и Дэвид Риз».
— Ты ответила им? — спросил Шура. — Это хорошо. По-моему, написано от сердца, правда? Видно, они понимают, что мы воюем не только за себя, но и за всех. Только бы они этого не забыли!
... Вечером пришёл мои брат Сергей. Шура очень обрадовался ему. Они уселись за столом друг против друга и проговорили до поздней ночи. Я хозяйничала, то и дело выходила на кухню, и до меня долетали только обрывки разговора.
— ...Вот ты писал раз, что оторвался от колонны и врезался в тыл врага, — говорил Сергей. — Зачем? Это не храбрость, это молодечество. Надо быть смелым, но лихачом — зачем?
— Если думать о своей безопасности, тогда о храбрости надо забыть! — слышала я горячий ответ.
— А разве ты не отвечаешь за жизнь своих солдат? Ведь ты — командир...
— Скажи, только не обижайся, — услышала я немного погодя, — как ты с подчинёнными? С молодыми это бывает: строят из себя больших начальников...
— Нет, я своим товарищ. Знал бы ты, какие они!..
И снова голос брата:
— А насчёт храбрости... Знаешь, перечитай рассказ Толстого «Набег». Там хорошо про это сказано. Коротко и точно...
Шура рассказывал мало и скупо. Он стал сдержанней, чем прежде, и словно взвешивал каждое слово. В этот его приезд я почувствовала, что он очень изменился. Это трудно было определить словами. Быть может, я и ошибаюсь, но мне кажется: кто хоть раз побывал в бою, кто хоть раз прошёл по этой узкой тропинке, где с одной стороны Жизнь, а с другой — смерть, тот не любит многословно рассказывать о войне, об опасностях, которым он подвергался. Я понимала: Шура много видел и пережил, должно быть, поэтому он стал гораздо взрослее, собранней и суровей и вместе с тем — мягче, нежнее.
На другой день Шура пошёл в госпиталь навестить раненого товарища. Когда он вернулся, у него было совсем другое лицо, я едва узнала вчерашнего весёлого богатыря. Он побледнел, осунулся. Я тревожно всматривалась в это родное, такое ещё юное лицо: в нём сразу как-то заметнее стали скулы, челюсти, сдвинулись брови с морщинкой между ними и плотно сжались губы.
— Что сделали фашисты с человеком! — сказал он с болью. — Знаешь, это мой большой друг. У него была не простая жизнь. Ему года не было, когда он остался сиротой. Нелегко приходилось, а вырос человеком. Кончил военное училище, потом выдержал блокаду в Ленинграде, получил ограничение второй степени, но отказался от него и опять пошёл на фронт. И вот совсем недавно всё сразу: осколок в лёгкое, в область сердца, в руку, и ранение в живот, и контузия. Не говорил, не двигался, не слышал — подумай только!.. Коля Лопоха его зовут. Видела бы ты, как он мне обрадовался!..
Шура отошёл к окну и, не оборачиваясь ко мне, вдруг сказал с силой, страстно, как заклинание:
— Я непременно вернусь! Без ног, без рук, ослепну — всё равно буду жить! Я очень, очень хочу жить!
...А на третий день после приезда он сказал:
— Не будь в обиде, мамочка, но я уеду раньше срока. Мне трудно тут. Там люди гибнут...
— Побудь ещё, милый!.. Ведь это твой законный отдых...
— Не могу. Всё равно для меня это не отдых. Я всё равно ни о чём думать не могу, только о фронте... о товарищах. И, если можно, мамочка, на этот раз проводи меня, хорошо? Я хочу подольше побыть с тобой.
Я проводила его на Белорусский вокзал. Был тихий морозный вечер. Далеко над путями в прозрачном зеленоватом небе мерцала низкая звезда. И таким странным казалось мне это спокойствие в час, когда я провожала сына и знала, что скоро его снова охватит вихрь огня и смерти...
Мы взяли билет в мягкий вагон. Шура прошёл туда, чтобы положить на место свой чемоданчик, и выскочил сам не свой.
— Ох, мама, знаешь, там генерал!.. — сказал он, смущённый и растерянный, как мальчишка.
— Эх ты, воин! — пошутила я. — Как же так: на фронт едешь, а своего генерала испугался?
Я простояла с Шурой на платформе до последней секунды. Поезд тронулся, и я пошла рядом с вагоном, а Шура стоял на подножке и махал мне рукой. Потом я уже не могла поспевать и только смотрела вслед. Грохот колёс оглушал меня, стремительный воздушный поток едва не сбивал с ног, глаза застлало слезами. Потом на перроне вдруг стало тихо и пусто, а мне всё казалось, что я вижу лицо сына и прощальный взмах его руки.
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
Я снова осталась одна. Но сейчас мне было не так тяжело и не так одиноко, как прежде: помогала работа.
Мне всегда хотелось от всего сердца поблагодарить тех, кто поддержал меня в те дни своими письмами, своим участием, теплом своей души. Всех тех, что приходил ко мне, говорил настойчиво и твёрдо: «Непременно приезжайте к нам на завод. Вы должны поговорить с нашими комсомольцами».
Я знаю: когда человеку очень плохо, его может спасти только одно — сознание, что он нужен людям, что жизнь его не бесполезна. Когда невыносимое несчастье обрушилось на меня, мне помогли поверить в то, что я нужна не только Шуре, но ещё многим и многим людям. И когда он уехал, мне не дали, не позволили остаться одной — это было очень трудно для меня, но это меня спасло: я была нужна.
Кругом было много работы. Работа, которая требовала любящих рук и любящего сердца: война лишила сотни и тысячи детей крова, семьи. «Сирота» — это почти забытое у нас слово — сурово и требовательно напомнило о себе. И надо было сделать так, чтобы дети, у которых война отняла родителей, не чувствовали себя осиротевшими, одинокими. Надо было вернуть им тепло родительского очага, тепло и любовь семьи.
Я стала работать.
Как можно больше детских домов — хороших, по-настоящему уютных, всем обеспеченных! Как можно больше настоящих воспитателей, умных и любящих! Детям нужны обувь, одежда, питание. И, может быть, ещё необходимее — любовь, тепло, сердечность. Детские дома возникали повсюду — во всех городах, при заводах, при колхозах. Всем хотелось сделать что-нибудь для детей тех, кто пал в бою.
И для меня было так важно, что и я могу принять участие в этой работе!
Мне пришлось много ездить тогда: я побывала в Тамбове, Рязани, Курске, Иванове, потом в Белоруссии и на Украине, на Алтае, в Томске, Новосибирске. Всюду непочатый край дела, всюду осиротевшие дети — им надо было дать пристанище: в новой семье или в детском доме. И везде меня встречали глаза, полные доверия и тепла. И я непрестанно училась: училась мужеству и стойкости у своего народа.
Ещё в конце 1944 года Общество Красного Креста командировало меня в Ленинград.
На постаментах, где прежде трепетали и рвались из рук бронзовых юношей чудесные кони Клодта, теперь стояли ящики с цветами, чтобы не оскорбляла глаз непривычная пустота. Со стен ещё предостерегали надписи: «Эта сторона опаснее при артиллерийском обстреле», но ленинградцы, окружённые заботой и помощью всей страны, давно уже ремонтировали дома, вставляли стёкла, выравнивали и заливали асфальтом мостовые.
Со мною шла немолодая женщина, сварщица завода «Электросила». Она рассказывала: во время блокады они с мужем работали рядом, на соседних станках. Работали обессиленные, истощённые, преодолевая слабость одной только волей, упрямым желанием: не сдаваться. Однажды, обернувшись, чтобы взглянуть на мужа, она увидела его на полу бездыханным. Она подошла к нему, постояла и потом продолжала работать. Работала, а муж лежал рядом, у станка, от которого он не отошёл до последнего дыхания. Остановить работу — значило уступить врагу, а она не хотела уступать.
Я слышала в Ленинграде об одном архитекторе: в самые тяжкие, самые трудные дни блокады он проектировал арку Победы. Мне рассказывали о матерях, чьи дети погибли, защищая Ленинград: они, эти матери, не щадя последних сил, старались спасти чужих детей от голодной смерти. Я слушала эти рассказы и снова и снова говорила себе: «Я не имею права отдаться горю. Эти люди пережили великое несчастье, их страдания и утраты безмерно тяжелы, как и моя утрата. Они живут и работают. Должна жить и работать и я».
И ещё одно я знала: имя Зои стало любимо народом. С её именем наши люди, её и мои товарищи, шли в бой, работали на заводах и на полях, о ней услышал краснодонский мальчик Олег Кошевой и рассказал своим друзьям, и они повторили её подвиг и стали с ней рядом, как родные братья и сёстры, дети одной великой и любимой Родины.
Я чувствовала: жива и трепетна память о Зое. Не для меня одной она родная. Народ помнит её живой, отважной, непреклонной. И это тоже помогало мне жить.
ПИСЬМА
С фронта мне писал племянник Слава, воевавший с самых первых дней. Стал писать после того, как мы познакомились у Зоиной могилы, Пётр Лидов. Чаще всего это были несколько слов привета, и они мне были очень дороги, эти несколько слов. Открывая газету, я всегда искала сообщения с фронта, подписанные Лидовым. Обо всём он умел рассказать так просто, спокойно и мужественно. Это был особый дар. В этой простоте, в этом спокойствии была огромная сила. А когда подолгу не появлялась в «Правде» знакомая подпись, мне становилась не по себе; я тревожилась о нём, как о родном, близком человеке.
И каждые несколько дней приходили письма от Шуры.
«... Настроение хорошее, особенно после последней атаки. В этом бою я не вылезал из танка больше двух суток. Чудом уцелел, вокруг всё горело и содрогалось от взрывов, танк бросало во все стороны, как спичечную коробку. В общем, мама, за меня не беспокойся».
«... Сейчас я получаю новый экипаж и новую боевую машину «KB». Это у меня уже третья: одна подбита, другая сгорела, сам еле успел из неё спикировать... Из моего старого экипажа Джигирис убит, остальные ранены... Я написал деду, пиши и ты. Он болен и одинок».
«... Я был ранен, но не покидал поле боя. Перевязал рану и вступил снова в строй. Сейчас у меня всё затянулось и поджило. В одном из боёв выбыл мой старший командир, я принял командование на себя и вместе с товарищами ворвался в расположение противника. И утром Орша была наша. Сейчас я жив и здоров, так же как и мой экипаж. Получил письмо от деда. Трудно ему. Всё вспоминает Зою и бабушку. Я ответил ему, постарался поласковее».
«... Местные жители тепло встречают нас. Им всё интересно, всё кажется необычным. В одной избе я показал книжку о Зое. И меня долго расспрашивали и очень просили, чтобы я оставил им книжку. Я не мог — она у меня одна. Поэтому прошу: если можешь, пошли им — г. Орша, Перекопская улица, дом 69».
«... В Белоруссии настал желанный час освобождения. Люди встречают нас цветами, угощают молоком. Старушки со слезами рассказывают о мучениях, которые им пришлось перенести. Но всё это позади. И воздух кажется особенно чистым, а солнце особенно ярким. Мама, мама, скоро победа!»
«... Передай отдельно мой привет дяде Серёже, скажи, что я помню всё, что он мне говорил. Пишет ли тебе дедушка? У меня от него давно нет писем».
«... Ты спрашиваешь, в каком я звании, какова моя должность. Отвечу тебе словами одного большого начальника, который сказал про меня так: «Не смотрите на его звание и должность: этот человек создан не для чинов, а для боевых действий».
«... Спасибо за поздравление, я действительно получил золотой орден — орден Отечественной войны 1-й степени. У меня на руках находится и приказ о моём награждении орденом Красного Знамёна. Не думай про меня, будто я изменился. Характер у меня остался тот же. Но только стал я сильнее, твёрже».
«... Мама, мама, Пётр Лидов погиб! Мама, как это страшно, что он погиб так незадолго до победы! Накануне победы погибать — это так обидно. Он погиб на аэродроме под Полтавой: выбежал из укрытия, чтоб увидеть тех людей, которые отражают налёт вражеской авиации. Он хотел написать о них — он всё хотел видеть собственными глазами. Это был настоящий военный корреспондент и настоящий человек...»
«... Мы идём на запад, по земле врага. Вот уже полмесяца, как я непрерывно в боях, потому и не писал. Но письму твоему я так рад, так рад — это было письмо с родной земли, от родной матери. Сейчас, когда я пишу тебе, в воздухе сплошной гул, моя машина содрогается, земля так и пляшет от разрывов. Через несколько минут наши ребята пойдут в атаку, в глубь немецкой земли», (Это письмо написано карандашом, крупным, торопливым почерком: Шура тоже спешил в бой.)
«... Здравствуй, милая, дорогая моя мама! Прошло уже больше месяца, как я нахожусь в тяжёлых наступательных боях. Знаешь, у меня не было времени не только писать, но даже читать полученные мною письма... Тут и ночные форсированные марши, и танковые бои, напряжённые, бессонные ночи в тылу врага, огненные свистящие снаряды «фердинандов»... Случалось быть молчаливым свидетелем гибели товарищей, видеть, как танк соседа взлетает на воздух со всем экипажем. Приходилось только молча сжимать зубы. От напряжения и бессонницы люди вылезают из машин, как пьяные. И всё же настроение у всех самое счастливое, самое праздничное: мы идём по вражеской земле. Мы мстим за сорок первый год, за боль, за слёзы, за всё унижение, которому фашисты подвергли людей. Мы скоро увидимся в Москве, в знакомой обстановке».
«... Не воюю, жду приказа о наступлении. Стоим в обороне. День за днём проходят в однообразной тишине и томительном ожидании. Живём в немецких домах. Всюду разрушенные серые здания. Огромные воронки от бомб заставляют сворачивать с мрачного асфальтированного шоссе. День и ночь рвутся снаряды, наш дом дрожит и покачивается. Фашисты сопротивляются в яростной злобе, они цепляются за каждый кусок своей земли. Вот и сейчас они начинают обстреливать свой посёлок... В последнем бою меня малость поцарапало, теперь всё прошло, но грудь ещё болит...»
«... Дожди, дожди. Вода в море холодная, серая, так и Beet ненастьем. Мрачно, холодно тут. Хочу домой, и, надеюсь, это скоро исполнится. Береги себя, береги своё здоровье и почаще пиши. За меня не беспокойся. Целую тебя. Твой единственный сын Александр».
На этом письме стояла пометка: «Восточная Пруссия», и дата — «1 апреля 1945».
Я ждала следующего письма — оно не приходило. Я боялась думать, я просто ждала. Я не думала о катастрофе — слишком живым и жизнелюбивым был мой мальчик, и в памяти моей звучали его полные веры слова: «Я непременно вернусь!»
СМЕРТЬЮ ГЕРОЯ
29 апреля я нашла в почтовом ящике письмо. На конверте был номер Шуриной полевой почты, но адрес был написан не его рукой. Я долго стояла неподвижно, держа в руках письмо и боясь распечатать его. Потом распечатала, прочла первые строки. В глазах потемнело. Я перевела дыхание, снова начала и снова не могла читать дальше. Потом изо всех сил стиснула зубы и дочитала до конца.
«14 апреля 1945.
Дорогая Любовь Тимофеевна!
Тяжело Вам писать. Но я прошу: наберитесь мужества и стойкости. Ваш сын гвардии старший лейтенант Александр Анатольевич Космодемьянский погиб смертью героя в борьбе с ненецкими захватчиками. Он отдал свою молодую жизнь во имя свободы и независимости нашей Родины.
Скажу одно: Ваш сын — герой, и Вы можете гордиться им. Он честно защищал Родину, был достойным братом своей сестры.
Вы отдали Родине самое дорогое, что имели, — своих детей.
В боях за Кенигсберг самоходная установка Саши Космодемьянского 6 апреля первой форсировала водный канал в 30 метров и открыла огонь по противнику, уничтожив артиллерийскую батарею противника, взорвала склад с боеприпасами и истребила до 60 гитлеровских солдат и офицеров.
8 апреля он со своей установкой первым ворвался в укреплённый фронт Кениген Луизен, где было взято 350 пленных, 9 исправных танков, 200 автомашин и склад с горючим. В ходе боёв Александр Космодемьянский вырос из командира установки в командира батареи. Несмотря на свою молодость, он успешно командовал батареей и образцово выполнял все боевые задания.
Он погиб вчера в боях за населённый пункт Фирбруденкруг, западнее Кенигсберга. Населённый пункт был уже в наших руках. В числе первых Ваш сын ворвался и в этот населённый пункт, истребил до 40 гитлеровцев и раздавил 4 противотанковых орудия. Разорвавшийся вражеский снаряд навсегда оборвал жизнь дорогого и для нас Александра Анатольевича Космодемьянского.
Война и смерть — неотделимы, но тем тяжелее переносить каждую смерть накануне нашей Победы.
Крепко жму руку. Будьте мужественной. Искренне уважающий и понимающий Вас гвардии подполковник Легеза».
... 30 апреля я вылетела в Вильнюс, оттуда добиралась до Кенигсберга на машине. Пусто, разрушено было всё вокруг. Камня на камне не осталось. И безлюдье — нигде ни души. Потом потянулись вереницы немцев: они шли, толкая перед собою тачку или тележку со скарбом, и не смели голову поднять, взглянуть в глаза...
А потом нахлынул поток наших людей — они возвращались на Родину: ехали на конях, на машинах, шли пешком, и у всех были такие весёлые, такие счастливые лица! По всему было видно: Победа не за горами. Она близка. Она рядом.
Сколько раз Шура спрашивал: «Мама, как ты представляешь себе День Победы? Как ты думаешь, когда это будет? Ведь правда же — весной? Непременно весной! А если даже зимой, то всё равно снег растает и расцветут цветы!»
И вот Победа приближалась. Это был уже канун Победы. Канун счастья. А я сидела у гроба своего мальчика. Он лежал, как живой: лицо было спокойное, ясное. Не думала я, что мы так свидимся. Это было больше, чем могло вынести обыкновенное человеческое сердце...
В какую-то минуту, подняв глаза от лица Шуры, я увидела другое молодое лицо. Я смотрела на него и не могла понять, где я видела его прежде: трудно было думать, вспоминать.
— Я — Титов, Володя, — тихо сказал юноша.
И мне сразу вспомнился апрельский вечер, когда, вернувшись домой, я застала Шуру и его товарищей за оживлённым разговором. «Нас сам генерал угощал папиросами... Мы едем в Ульяновское училище...» — снова услышала я голос сына.
— А остальные? — с усилием спросила я.
И Володя сказал мне, что Юра Браудо и Володя Юрьев погибли. Погибли, как и Шура, не дождавшись Победы... Сколько молодых, сколько славных погибло, не дождавшись этого дня!..
... Я не могла бы связно и подробно рассказать об этих двух днях в Кенигсберге. Но помню, с какой любовью, с каким уважением все говорили о Шуре.
— Отважный... — долетало до меня. — Скромный. А товарищ какой!.. Молод, а командир был настоящий... Никогда его не забуду!
А потом обратный путь.
Провожал меня наводчик Шуриного танка Саша Фесиков. Он ухаживал за мной, как за больной. По-сыновнему заботился обо мне: не спрашивая, угадывал, что нужно делать.
... 5 мая похоронили Шуру на Ново-Девичьем кладбище. Напротив Зоиной могилы вырос новый могильный холм. В смерти, как и в жизни, они снова были вместе.
Это было за четыре дня до Победы.
А 9 Мая я стояла у своего окна и смотрела, как текла мимо людская река: шли дети и взрослые, все — как одна семья, ликующие, счастливые. День был такой яркий, такой солнечный!
Мои дети уже никогда не увидят ни голубого неба, ни цветов, они никогда больше не встретят весну. Они отдали свою жизнь за других детей — за тех, что шли в этот долгожданный час мимо меня.
ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ!
... Я люблю бывать здесь. Ходить по милым, знакомым коридорам школы, где учились мои дети, школы, которая носит сейчас Зоино имя. Я захожу в классные комнаты. Поднимаюсь на третий этаж и подхожу к двери, возле которой есть надпись: «В этом классе учились Герои Советского Союза Зоя и Шура Космодемьянские».
Я вхожу в этот класс, и со стены смотрят на меня портреты моих детей. Вот вторая парта в среднем ряду — тут сидела Зоя. Сейчас за этой партой учится другая девочка, такая же ясноглазая. А вот последняя парта в другом ряду — это Шурино место. Сейчас на меня пристально смотрят оттуда глаза девочки-подростка. Она в коричневом платье с белым воротничком, в чёрном фартуке, и у неё такое вдумчивое, серьёзное лицо...
Я спускаюсь вниз, к малышам. Сажусь за низкую парту рядом с маленькой девочкой и раскрываю хрестоматию для первого класса. На обложке — золотые колосья, голубое небо, сосны: мирная, любимая с колыбели картина родной природы; она словно олицетворяет то, о чём рассказывают страницы хрестоматии. Каждая страница этой книги — гимн мирному труду, родной земле, нашим лесам и водам, нашим людям. Наша страна распрямила плечи, она строит и созидает, сеет хлеб, льёт сталь, возрождает из пепла сожжённые города и сёла. И она растит новых прекрасных людей.
Вот эту девочку, что сидит рядом со мной, и всех её подруг, и всех детей по всей Советской стране учат самому светлому, самому разумному — любить свой народ, любить свою Родину. Их учат уважать труд и братство народов, уважать и ценить всё прекрасное, что создано всеми народами земли.
Они должны быть счастливыми! Они будут счастливы!
Так много крови пролито, так много жизней отдано ради того, чтобы они были счастливы, чтобы новая война не искалечила их будущее...
Да, много погибло молодых, чистых и честных. Погибли Зоя и Шура. Сложил свою голову на поле боя ученик 201-й школы, славный лётчик Олег Балашов. Погиб Ваня Носенков, читавший когда-то у нас стихи о Мате Залке. Погиб горячий спорщик Петя Симонов, отдали свою жизнь Юра Браудо и Володя Юрьев. В первые месяцы войны был убит писатель Аркадий Петрович Гайдар. Совсем незадолго до Победы погиб Пётр Лидов, военный корреспондент «Правды»... Столько родных, милых людей, столько горьких утрат!.. Но павшие в этой великой и жестокой битве проложили своим подвигом, своей отвагой, своей смертью путь к Победе и Счастью.
А те, что живы, работают, строят, творят.
Вот по школьному коридору идёт мне навстречу молодая женщина с милым, приветливым лицом. Это Катя Андреева: она, как и собиралась, стала учительницей и преподаёт в своей школе, в той, где училась она вместе с Зоей и Шурой.
И другие одноклассники моих детей — теперь инженеры, врачи, учителя; они живут и работают, они продолжают то дело, ради которого отдали свою жизнь их товарищи.
... Я иду по знакомому коридору. Дверь библиотеки открыта. Полки, полки по стенам, и книги, несметное множество книг.
— До войны у нас было двадцать тысяч томов, а теперь — сорок тысяч, — говорит мне Катя.
Я выхожу на улицу. Вокруг школы всё зелено: вот они, деревья, посаженные руками детей. И мне кажется, я слышу голос Зои:
«Моя липа третья — запомни, мама».
|