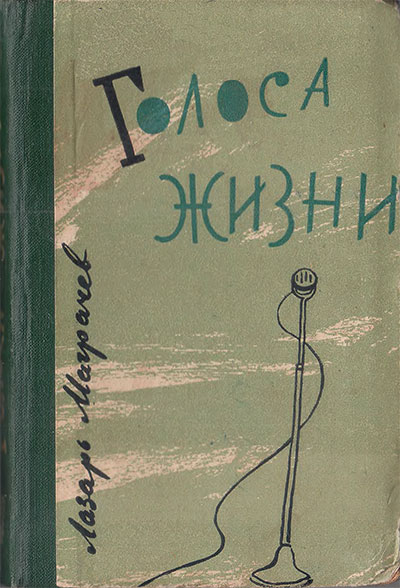Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
Всё, о чём рассказано здесь, рождалось в задушевных беседах радиожурналиста Л. Маграчёва с многими людьми. Герои этой книги не вымышлены, события, о которых идёт речь, происходили в действительности.
В книге собраны лучшие радиорассказы Л. Маграчёва, специально подготовленные им для настоящего издания.
==ГОЛОСА ЖИЗНИ==
Чем дальше уходит время, тем с большим волнением оглядываемся мы на беспримерные в истории человечества сороковые годы в Ленинграде. О них уже немало написано книг и сложено песен. Кинофильмы рассказывают о жестоких боях, кисть художника запечатлела на полотне бессмертные образы героев-богатырей. И сохраняются для потомства живые голоса прошлого — короткие записи на магнитофонной плёнке. Их много, очень много. Они лежат на полках — клубки узенькой гладкой коричневой ленты. В них неповторимые звуки времени: завывание ветра на ладожской трассе, свист снарядов, вой сирены, мелодии боевых песен и — главное — полные душевной боли и гнева человеческие голоса...
И вот радиожурналист — свидетель и участник событий этих лет — «перелистывает» свой военный звуковой «блокнот».,.
23 июня 1941 года. Микрофон включён на мобилизационном пункте, где идёт формирование первых отрядов. Слышны шум, отрывистая команда и отчётливый разговор двух людей:
— Вы что хотите, товарищ?
— Я прошу отправить меня на фронт добровольцем.
Голос звучит твёрдо и сурово.
— Но ведь вы как будто уже в годах?
— Да, мне пятьдесят один год, — отвечает ленинградец, — но я на фронте не уступлю молодому. Прошу отправить, — ещё настойчивее повторяет он.
К сожалению, плёнка не сохранила имени этого патриота. Неизвестен нам также и политрук, сказавший тогда, в первый день войны:
— Товарищи, сейчас вы отправляетесь в часть. Дна слова на прощанье: помните, что вы — граждане города Ленина, а ленинградцы всегда побеждали и будут побеждать врагов своей Родины, врагов революции. Товарищи, держитесь храбро, так, чтобы фашистам тошно было.
Так уходили они на фронт, каждый час, каждый день...
В эти дни у микрофона говорили сотни людей. Страстно звучали их слова: они заверяли партию в своей готовности беззаветно служить Родине и защищать её до последней капли крови.
— Всю жизнь я был сугубо штатским человеком, — слышится с плёнки чуть глуховатый неторопливый голос.— Девятнадцать лет я изучал в лабораториях отвлечённые вопросы строения звёздного неба...
...Голос звучит, а мне вспоминается высокий, уже немолодой, чуть сутуловатый человек в солдатской шинели с чужого плеча. С винтовкой в руках пришёл он в радиостудию, известный астроном профессор Огородников, ставший красноармейцем.
— Война, навязанная нашей Родине фашистскими палачами, — говорил Кирилл Фёдорович, — заставила меня на некоторое время отложить любимую работу. Совершенно естественно, что в такие грозные дни я не мог стоять в стороне от священного дела защиты своего Отечества. У меня много учеников, много знакомых и друзей. Я хочу, чтобы они знали, что их профессор и коллега красноармеец Огородников будет стойко, как подобает советскому воину, сражаться с ненавистным врагом, сражаться до полной победы...
...Многое напомнил этот голос, эти слова, сказанные в первые дни войны.
Особенно ярко в памяти сохранилась первая поездка на фронт.
Это было под Новгородом, у зенитной батареи. Мы едва успели развернуть аппаратуру, как вдали показались фашистские пикировщики. Залпы зенитных пулемётов слились с прерывающимся гулом самолётов...
В нескольких метрах от меня — радиомашина, а в ней звукооператор Любовь Спектор. Крипу в микрофон:
— Включай, включай! Начинаю! Слышишь меня?
Из окна машет, спокойно улыбаясь, мой боевой товарищ: дескать, всё в порядке, давай!
...Пять тяжёлых «юнкерсов» со страшным воем пикируют на батарею. Оглушительно бьют зенитки, и всё это перекрывается сокрушительными взрывами бомб...
Слежу за боем, комментирую обстановку.
Говорю и не слышу собственного голоса...
В этот момент, вспыхнув в воздухе колоссальным пылающим факелом, падает вражеский бомбардировщик.
Остальные разворачиваются и уходят на запад.
Очередная атака отбита.
— Перекур! — говорят солдаты и свёртывают цигарки.
Приглашаю к микрофону одного из бойцов. Это его орудие подбило вражеский пикировщик, но Евсей Десятник упоминает об этом между прочим.
— Сейчас у нас уже тихо, товарищи,— говорит он добродушно, — но несколько минут назад было довольно шумно, как вы слышали. Мы отбили восьмой налёт за сегодняшний день... Придёт время, оно скоро придёт, — голос сержанта становится гневным, — и не Гитлер, а мы наградим каждого фашиста крестом... только деревянным крестом.
В тот день вражеские самолёты не появлялись больше над батареей...
Зенитчики приводили в порядок боевое хозяйство, а мы, убрав аппаратуру, чистили машину и заодно подсчитывали количество пробоин. Их было 127.
Так свершилось наше боевое крещение.
* * *
Осень 1941 года...
Ленинград в опасности.
Сотни тысяч его граждан вышли на сооружение оборонительных рубежей. Ломы, лопаты, топоры, пилы твёрдо взяли в руки люди, не привыкшие к тяжёлому физическому труду: чаще всего это были маленькие, но ловкие руки женщин.
Теперь это кажется непостижимым, но именно благодаря неутомимому труду ленинградок город стал крепостью. Днём и ночью, в стужу, в метель, под дождём, под обстрелами и бомбёжками возводили они кольцо укреплений.
Вот один из таких рубежей под Колпино.
Твёрдая, промёрзлая земля. Ломы не берут её, лопаты сгибаются, но землю надо поднять. И сотни голодных людей вгрызаются в земную твердь, вздыбливают её и при этом... поют. Да, да, поют! Потому, что песня прибавляет сил, вселяет бодрость.
Среди других — хрупкая женщина в ватнике, перетянутом ремнём. Из-под белого платка упрямо выбивается золотистая прядь. Это одна из многих героинь грозовых лет — работница типографии Ольга Новикова.
Муж её сражается на фронте, двое детей оставлены в городе, а она здесь преграждает к ним путь крагу.
Как сейчас вижу её ясные голубые глаза, твёрдую складку у побледневших губ, слышу звонкий голос:
— Здравствуйте, товарищи! Как вы там поживаете, в Ленинграде? Мы здесь работаем вовсю, не жалея сил. Копаем землю, строим заграждения. Мы сделаем наш любимым город недосягаемым для фашистов. Поможем Красной Армии разбить и уничтожит!, врага.
Это была клятва, подтверждённая ценою жизни.
Ольга Новикова погибла, но не пустила врага на ленинградскую землю.
Вслушиваясь в голоса защитников Ленин' града, звучащие сегодня из далёкого прошлого, поражаешься той страстной уверенности в победе, которой они пронизаны. Уже тогда, в те трудные годы наши люди отчётливо видели яркий свет сегодняшнего дня.
Враг всё туже сжимал железные тиски вокруг города. Шёл шестьдесят восьмой день жестокой блокады.
Руководство обороны Ленинграда обратилось по радио к населению с призывом:
— Товарищи ленинградцы, дорогие друзья! Над нашим родным и любимым городом нависла непосредственная угроза нападения немецко-фашистских войск. Враг пытается проникнуть к Ленинграду...
Народ слушал молча, сурово, сжав кулаки, стиснув зубы, и это молчание было красноречивее многих решительных слов.
«Отдать город врагу? Нет — этого не будет никогда!»
И каждый находил в себе новые силы... Зорче видели глаза, быстрее двигались ноги, цепче становились руки... «Всё для фронта! Всё для победы!» — этим и только этим жил Ленинград.
В эти дни работа радио приобрела особо боевой характер. Репродукторы не выключались ни на одну минуту.
Жизнь без радио казалась невозможной, и не случайно сохранилось это коротенькое коллективное письмо от рабочих завода «Большевик».
Из-за обстрела в их районе несколько дней Молчали репродукторы. И они пишут;
«Без хлеба, без воды, без света — трудно, но проживём. Выдержим. А вот без радио, не слыша голоса страны, мы жить не можем. Пусть работает радио...»
И радио в городе работало, несмотря ни на что.
Лучшие писатели и поэты Ленинграда подружились с микрофоном. А некоторые из них на всю войну связали свою судьбу с ленинградским радио.
В длинных коридорах нашего дома можно было встретить порывисто шагавшего Всеволода Вишневского, — он или готовился к очередной речи, как всегда пламенной и страстной, или, возбуждённый, остывал после выступления. Частым гостем бывал здесь Николай Семёнович Тихонов, высокий, подтянутый и, помню, тогда очень худощавый (впрочем тучных в Ленинграде в ту пору не встречалось). Прямо с фронта приходил в студию Михаил Дудин. Разглаживая на пульте смятые, вырванные из блокнота листки со стихами, набросанными где-то в окопе, он тут же читал их в эфир.
А Ольга Берггольц, быстрая, стремительная, — она даже жила в Доме радио и вместе со всеми в положенные часы перекидывала через плечо противогаз, принимая боевое дежурство на крыше.
Своими выступлениями по радио Ольга Берггольц надолго запомнится всем, кто переживал в Ленинграде тяжёлые блокадные годы. Вот она перед микрофоном в декабре 1941 года:
— Я прочту новые свои стихи «Второе письмо на Каму»...
Голос поэтессы звучит оптимистично, сурово, как сами строки:
Ленинградец, мой спутник,
мой испытанный друг, нам декабрьские дни
сентября тяжелей.
Всё равно не разнимем
слабеющих рук: мы и это, и это должны одолеть.
Он придёт, ленинградский торжественный
полдень,
тишины, и покоя, и хлеба душистого полный.
О какая отрада,
какая великая гордость —
знать, что в будущем каждому скажешь в ответ:
«Я жила в Ленинграде
в декабре сорок первого года.
Вместе с ним принимала известия первых побед...»
Закончив читать стихи, Ольга Фёдоровна говорит:
— Дорогие товарищи, нам сейчас очень трудно. Вот уже четвёртый месяц враг старается сломить нашу волю — убить веру в то, что наступит день нашей Победы. Но мы верим, нет, знаем, знаем все, как один, что этот день придёт...
***
Перелистываю пожелтевшие листки военного блокнота. С трудом разбираю полустёршиеся строки:
«...31 декабря 1941 года. Наконец кончается декабрь. Это был очень тяжёлый месяц... Невыносимая стужа. Очень голодно. Совсем темно... Почерневшие от дыма пожаров дома. Окна без стёкол, заткнуты тряпьём, забиты фанерой.
Раннее утро, а уже всюду видны очереди... Ослабевшие женщины безропотно стоят на сорокаградусном морозе у магазинов, переминаясь с ноги на ногу. Ни жалоб, ни споров. Терпеливо ждут, чтобы получить скудны» паёк...
Сегодня — последний день старого года... Что-то принесёт нам новый?»
Перелистываю дальше листки блокнота... Многого не разобрать — стёрся карандаш. Но пот отчётливые строки:
«Сегодня побывал в гостях у Евдокии Васильевны Лебедевой на улице Рубинштейна, дом 15/17. Интересная встреча... Не забыть бы о пей, «е. б. ж.» (если буду жив) — как писал Л. И. Толстой в своих дневниках».
И вот сейчас вспомнил о ней, прочтя эти строки...
Это была одна из многих передач — ничего необычного, разве только то, что обстрел почему-то не нарушил нашей беседы.
Всё было просто и вместе с тем необыкновенно.
Я попросил Евдокию Васильевну Лебедеву пригласить в свою комнату нескольких жильцов из других квартир по лестнице. И она это сделала. Собрала всех, кого нашла дома.
Когда жильцы пришли, я включил микрофон и объяснил присутствующим, что корреспондент радио просит их ответить на один вопрос: «Что каждый из вас делает для фронта в эти грозные дни? Чем помогаете вы защитникам нашего города?»
Первой приблизилась к микрофону совсем молодая пышноволосая женщина.
— Я — врач, — сказала она, — моя фамилия Пасынкова, Анна Борисовна Пасынкова. — Женщина говорила медленно, чётки выговаривая слова. — Работаю я на оборонном заводе. Врат я молодой, поэтому мне иногда приходится трудновато. Работаю много, но чувствую, что труд мой нужен, полезен, а потому испытываю большое удовлетворение. Думаю, что, повсечасно охраняя здоровье рабочих, делающих вооружение, я помогаю фронту.
Этот же вопрос был обращён к пожилому человеку, который оказался водопроводчиком.
Вместо ответа Дмитрий Всеволодович Владимиров повернулся и пошёл прочь из комнаты.
— Куда же вы? — растерялся я.
— Идите за мной, — строго сказал он.
К счастью, он ушёл недалеко — в кухню, и у меня хватило провода дотянуть туда микрофон.
— Видите? — так же строго спросил он, ткнув корявым пальцем в водопроводный кран.
— Ну, вижу, — ещё ничего не понимая, ответил я.
— А на каком этаже, позволю вас спросить, мы находимся? — вдруг лукаво улыбнувшись, продолжал он свой допрос. — А?
— Кажется, на четвёртом...
— Ну вот, пожалуйста...
Старый водопроводчик привычным движением быстро повернул кран, и бойкая струя весело зашумела в раковине.
— Вот это здорово! — вырвалось у меня. — Вода!
Это, действительно, было здорово.
Только ленинградцы, пережившие блокадные зимы, могут понять, что такое был в то время действующий водопровод. Никогда не забыть, как шли мы к Неве с бидонами, чайниками, спускались к прорубям, с невероятными трудностями доставали и несли домой эти драгоценные капли влаги. А тут безудержным праздничным водопадом, не останавливаясь, лилась вода! И я помню, что поймал тогда себя на мысли: «Зачем же она зря течёт? Это же преступно!» —и невольно закрыл кран.
Между тем старый мастер водопроводных дел обстоятельно и с некоторой гордостью пояснял:
— Вот так и во всём доме. Прачечная работает. Душ также в порядке. Дом у нас огромный, народ в нём живёт рабочий, много семей военных. Надеюсь, что и этой зимой с водой будем, какие бы морозы ни грянули. Как хотите считайте, а это и есть моя помощь фронту.
Я не нашёл нужных слов в ответ на эту короткую речь и молча пожал руку старому водопроводчику.
Разговор с остальными товарищами продолжался здесь же, на кухне.
Один из них, Гавриил Павлович Гаврилой, работал слесарем па оборонном заводе. Впрочем, какие заводы в то время не были оборонными?!
— Вы, товарищ корреспондент, меня дома случайно настали, — улыбнулся молодой парень. Я тут редко бываю, с завода сейчас никак нельзя отлучаться — заказы очень срочные, — пояснил он. — Вы спрашиваете, чем я помогаю бойцам на передовой линии? Собираю для них боевые машины, вот и всё.
— А вы что можете сказать? — обратился я тогда к невысокой женщине, стоявшей в стороне, с видом очень решительным и даже воинственным...
Она улыбнулась:
— А что я могу сказать? Я — управхоз. Всё население учится военному делу. В случае чего, наш дом станет крепостью, каждое ОКНО будет стрелять во врага.
Так решительно заявила управляющая хозяйством Клавдия Николаевна Мороз.
Репортаж заканчивался такими словами:
— В Ленинграде нет мирных жителей. Каждый человек в нашем городе — боец. Он знает: тяжко сейчас всей стране и каждому её гражданину. Но думает он только о победе. С этой мыслью ленинградец неразлучен. С ней он трудится сегодня, не зная устали, с ней же он ещё горячее будет работать завтра. Всё для победы, всё для фронта!
* * *
Через несколько дней пришло известие, в которое очень не хотелось верить: фашистское радио передало информацию о гибели мощного советского крейсера «Киров». Со всеми подробностями сообщалось о потоплении советского корабля.
Но на следующий день в эфире звучал репортаж:
— Внимание! Эта передача идёт с борта крейсера «Киров», который вчера по радио был потоплен гитлеровским верховным главнокомандованием. А между тем я сейчас стою с микрофоном на командном мостике. Рядом со мной живой и здоровый командир' корабля, который очень мило улыбается, собираясь что-то сказать.
Командир взял у меня из рук микрофон.
— Сведения о нашей гибели несколько преувеличены, — иронически заметил он. — Действуя таким образом, фашистское командование может легко и в очень короткий срок потопить весь наш флот — на словах... Однако это попытка с негодными средствами...
На этом репортаж был окончен, и только для вящей убедительности, уже из чистого журналистского озорства, покидая корабль, я обратился к большой группе провожавших меня матросов:
— А вы знаете, что ваш крейсер потоплен?
Дружный, долго не смолкавший краснофлотский хохот прозвучал в ответ...
***
1942 год. Блокадная зима.
Город занесён снегом. Сугробы достигают вторых этажей. Редкие пешеходы медленно плетутся по тёмным, ставшим узкими улицам. Обледенелый, застывший, пустынный город... Только метроном, как сердце его, стучит в репродукторе то мерно и глухо — в часы покоя, то, как пульс больного, учащённо и тревожно в часы налётов, обстрелов...
Транспорт бездействовал. Но люди, преодолевая многие километры, ходили на работу пешком... Не было электричества — пользовались коптилками. Не было дров — разбирали старые деревянные дома. Не действовал водопровод — люди с вёдрами и бидонами шли к Неве, спускались к прорубям. И всё это под непрерывный вой сирен, бомбёжки, обстрелы...
И ко всему — голод...
Это нужно было пережить, чтобы понять. 250 граммов хлеба рабочим, 125 граммов — служащим. Да какой хлеб — пополам с древесной корой! И этот ломтик в течение многих месяцев составлял и завтрак и обед, и ужин... И ещё дрожжевой суп иногда: 50 граммов сухого картофеля, 7 граммов дрожжей и 5 — соли.
Но город жил, трудился и воевал.
Кажется невероятным, что именно в это страшное время композитор Дмитрий Шостакович создавал свою героическую Седьмую симфонию — гимн Ленинграду.
И в один из обычных зимних дней 1942 года композитор сообщил ленинградцам по радио:
— Час тому назад я закончил вчерне партитуру моего нового большого симфонического сочинения. Несмотря на военное время, несмотря на опасность, грозящую Ленинграду, я довольно быстро написал эту симфонию. Для чего я сообщаю вам об этом? Для того, чтобы ленинградцы знали: несмотря ни на что, музыкальная жизнь города продолжается...
И вскоре в холодных, давно нетопленных студиях Ленинградского радиокомитета единственный тогда в городе Большой симфонический оркестр исполнил новое произведение своего замечательного земляка. Концерт записан на плёнку. Слушая запись, можно подумать, что она сделана только вчера — так ярко, сочно, вдохновенно звучит оркестр. Но вспоминается то, чего не могла запечатлеть магнитофонная лента.
...Большая холодная студия Ленинградского радио, и музыканты, мужественные музыканты... Их костюмы не очень соответствуют торжественному случаю: они в ватниках, и шинелях, в сапогах... И только один человек по фраке — дирижёр. Он должен быть и форме, потому что он ведёт за собой оркестр, этих ещё опухших от голода людей. Они согревают в минутных паузах собственным дыханием застывшие руки...
Они играют. Играют необыкновенно. Они знают, что игрой своей придают новые силы жителям осаждённого города.
Вот что вспоминается сейчас, когда слушаешь запись этого единственного в истории искусства концерта.
* * *
Так, в труде и борьбе, шли дни и месяцы...
Страна не забывала о судьбе Ленинграда. Ни на минуту не прерывалась связь с осаждённым городом. Родина, партия ободряли ленинградцев словом, помогали всем, чем могли.
Через линию фронта пробивались транспортные самолёты с продовольствием и боеприпасами. Но этого было мало. И тогда родилась дерзкая мысль — проложить ледовую трассу через Ладожское озеро. С Большой земли в Ленинград потянулись колонны машин. Они везли в город всё, что было необходимо для его жизни...
Город накапливал вооружение, силы и постепенно от обороны переходил в наступление...
Ночь на 12 января 1943 года... По заснеженным дорогам идут, исчезая во мраке, войска, бесконечная лента автоколонн.
Дальнобойные батареи заняли фронт от Ладожского озера до Ленинграда. Жерла орудий устремлены на Шлиссельбург, на Дубровку, на Синявино... Мерцают кое-где огоньки... Мчатся с последними распоряжениями офицеры связи. Приказ о наступлении был объявлен артиллеристам в 5 часов утра. Темно, холодно. При скупом свете керосинки только сверкают молодые горячие глаза... Все ждут...
Наконец дан сигнал. Заговорили, загрохотали пушки всех калибров. Дымом заволокло горизонт. Гул, сплошной гул длился многие часы. Орудия накалились, пузырилась краска, на тридцатиградусном морозе бойцы обливались потом, сбрасывали ватники и бушлаты...
Действия наземных сил дружно поддержала авиация. Бомбардировщики и штурмовики конвейером ныряли — пикировали прямо на вражеские позиции...
Ничто не могло остановить огромного наступательного броска наших доблестных войск. 18 января 1943 года блокада города была прорвана.
* * *
Пришли весна надежды... Встречая её, ленинградцы, от мала до стара, выходили после работы на улицы с ломами и кирками, убирали грязь, кололи лёд. А ведь лёд-то на некоторых улицах был метровым.
По ещё замёрзшему, ещё заваленному побуревшим снегом Невскому прошёл первый трамвай. Как музыку, слушали ленинградцы трамвайный звон и грохот.
«Трамвай пошёл, — говорили они, скупо улыбаясь. — Это хороший признак. Значит, теперь жить станет легче».
И жить, действительно, стало легче.
Вскоре зажёгся свет в квартирах. Это было тоже необычайным событием.
В этот же день мы вели по радио беседу с управляющим «Ленэнерго». Отвечая на наши вопросы, он сообщил, какие районы сегодня получили свет и когда зажгутся лампочки в других частях города.
Вскоре после передачи в редакции радио раздался телефонный звонок и взволнованный мужской голос сказал:
Товарищи, с вами говорит мастер завода «Электросила». Понимаете, пришёл я домой Со смены, сидел за столом с женой, и вдруг слышу по радио разговор об электричестве. Честное слово, даже сначала и не поверил. Сынок мне говорит: «Попробуем, а может, и у нас горит!» — «Ну, да, — отмахнулся я. Вряд ли это споро будет». А сынок подбежал, повернул выключатель, и вдруг зажёгся свет! Понимаете, товарищи, что это значит? Вы уж простите, что я вас побеспокоил... Нам было попятно его волнение...
* * *
Город почистился и словно помолодел. Дела на фронте шли всё успешней.
Наши герои начали рассказывать по радио о необычайном боевом порыве, о своём желании быстрее двигаться вперёд, на запад...
И вот один из репортажей на дороге наступления:
— Мы стоим на фронтовой трассе, уже давно позади остался Ленинград. Ещё только несколько дней назад наши войска начали наступление от самых стен города, а сегодня мы говорим с вами, товарищи, стоя на фронтовой дороге, у верстового столба с цифрой «100».
Кругом нас поле войны, беспредельные просторы русской земли.
Ленинград свободен! Вот они идут, солдаты, добывшие нашу победу...
...И слушавшие передачу внимали отчётливой солдатской поступи.
Колонна остановилась. Кругом смех, весёлые шутки. Солдаты окружили микрофон. Кто-то спросил:
— Вы что тут, но радио говорите?
Да, рассказываю о том, что происходит сегодня на фронтовой дороге.
А можно мне передать привет семье своей II Москву?
Отчего же нельзя? Конечно, можно! - Л мне можно в Грузию послать по радио привет?
Можно и в Грузию.
— А в Ленинград?
Псом хотелось воспользоваться таким редким случаем. Солдаты говорили коротко, торопясь уступить место товарищу.
Раздалась команда, колонна построилась и зашагала вперёд.
Фронт уходил всё дальше и дальше...
* * *
Наступил девятисотый и последний день блокады — 27 января 1944 года...
Все вышли на улицы. Все хотели увидеть и услышать салют Ленинграду, запомнить минуту, до которой мы дожили, пройдя такой грозный путь борьбы, лишений и тревог.
Невский налит огнями и буквально забит пародом. Даже на крышах люди. Там во время боевых тревог стояли ленинградцы на пахте, теперь с этих крыш они будут любоваться зрелищем победного салюта.
Восторженные крики, смех и слёзы радости, песни и пляски, ребячьи голоса — всё смешалось в неповторимой симфонии ликования.
В эту минуту включаю микрофон на площадке лестницы под думскими часами и начинаю, не слыша собственного голоса:
— Говорит Ленинград! 19 часов 59 минут.
На Марсовом поле, на берету Невы вытянулись к небу жерла орудий, готовые к торжественному салюту.
Треск орудий перекрывает слова. Кричу в микрофон:
— Вы слышите? Это гремят, перекатываются орудийные залпы, и тысячи счастливых людей славят нашу Родину, её отважных воинов, её великую партию...
Этой минуты Ленинград не забудет никогда...
* * *
Здесь приведено лишь несколько эпизодов из жизни и борьбы Ленинграда. Они возникли в моей памяти, когда я прослушивал старые, чуть потускневшие от времени клубки магнитофонной ленты и перелистывал стёршиеся листочки военного блокнота...
==БЕРЛИН. МАЙ 1945 ГОДА==
В жизни каждого человека бывают минуты, которые запечатлеваются в его памяти па всю жизнь.
Вот и в моей жизни была такая минута.
Это произошло 2 мая 1945 года в 14 часов 45 минут.
И этот момент я — военный корреспондент Ленинградского радио — подошёл к микрофону, установленному на улице в центре города, и сказал:
Дорогие товарищи, ваш корреспондент говорит из Берлина. Я стою на главной здешней улице — Унтер-ден-Линден называется она — и говорю с вами отсюда по радии. Сегодня советские войска овладели столицей фашистской Германии. Над рейхстагом реет красное знамя нашей победы, а по Унтер-ден-Линден шагают наши солдаты. Они пришли сюда от стен Ленинграда, с Персти Полги, из степей Украины. И они добыли победу, за которую так долго боролись...
...Солдаты шли, лишь на мгновение задерживаясь у микрофона, чтобы произнести простые, взволнованные слова, обращённые к Родине, к друзьям и близким. Они говорили о мире, о жизни, о труде, по которому так истосковались их руки...
Скромный сержант коротко доложил всему миру:
— Я, русский солдат Егоров Михаил Алексеевич, по приказу командования водрузил над зданием рейхстага в Берлине знамя нашей победы!
Сказал и пошёл дальше.
Всматриваюсь в серые от пыли и пороха лица. И вдруг... Нет, я никогда раньше не встречал этого пожилого человека в красноармейской форме, по на его гимнастёрке блестит знакомая медаль с изображением Адмиралтейства... Спешу к нему с микрофоном:
— Земляк?
Тут же, на ходу, узнаю, что Василий Михайлович Даль начал войну у стен Ленинграда, прошёл с боями больше двух тысяч километров, сменил восемь пар сапог и пришёл в Берлин.
Василий Михайлович направлялся вперёд, к районам, где ещё держались фашисты.
Кстати, как выяснилось позже, жена и дочь Василия Михайловича узнали о том, что он жив, по радио, услышав тогда его голос из Берлина.
Никогда не забыть этих первых часов... Дождь, туман, дым... Где-то в городе ещё идут бои. 15 воздухе неосевшая пыль, запах гари.
Жилые кварталы превращены в фантастические руины, из которых, словно гнилые зубы гигантского дракона, кое-где возвышаются обломки стен... По улицам к последним очагам сопротивления двигаются наша пехота, артиллерия, проносятся танки...
Идут советские солдаты, с любопытством оглядываясь по сторонам... Они впервые проходят но берлинским улицам, впервые видят этот город. Кто-то вспоминает о случае, происшедшем вчера утром, и знакомит С гвардии рядовым Зуевым, связным штаба дивизиона.
Простой паренёк из-за Невской заставы, в выцветшей форме, подходит к микрофону и охотно рассказывает:
Было дело так. Поехал я на велосипеде из дивизиона с донесением. А по дороге народ всякий идёт, к дому пробирается. Вот один из проходящих мне и говорит: «Там, в лесу, гитлеровцы находятся». Я остановил бойца, и мы с ним пошли в лес. Только вошли, видим офицера. Я навёл на него авто-маг и говорю: «Хенде хох!» Офицер руки поднял, и по-русски: «Сдаюсь». Я ему говорю: «Сколько вас здесь в лесу находится — все сдавайтесь. Нас двести автоматчиков и артиллерия. Не сдадитесь — уничтожим». Офицер меня спрашивает: «Вы посланы командованием?» — «А как же,— говорю я, — специально послан, и сроку вам дано 15 минут». Гитлеровец отвечает: «Я не могу лично вести переговоры, об этом надо говорить с майором». Пришёл майор, спрашивает: «А вы нас расстреливать не будете?» — «Нет, — отвечаю, — мы пленных не расстреливаем». Тогда майор даёт команду и отовсюду из леса стали выходить солдаты. Я и не думал, что их здесь так много: человек пятьсот собралось. Ну, велел им ружья свалить в кучу (потом, думаю, заберём), а офицерские пистолеты мы сложили в чемоданы. Построил всех в колонну по четыре и привёл в штаб. Вот и всё, — закончил гвардий рядовой Зуев, расправил под ремнём гимнастёрку и, повернувшись по-военному, отошёл от микрофона.
В эту минуту стрельба на соседней улице усилилась, потом русское «ура» перекрыло орудийный грохот. Там пошли в атаку.
Агония Берлина продолжалась. Стреляли «фаустники», щёлкали снайперы, вешались и травились гитлеровские главари.
Наши части продолжали продвигаться к центру, всё туже сжимая кольцо вокруг последних солдат Гитлера.
Утром белые флаги взвились над передовой. Явился комендант Берлина генерал артиллерии Вейдлинг. Он заявил, что окружённые войска прекращают сопротивление, а сам он сдаётся в плен.
По предложению командования Вейдлинг тут же написал своим войскам приказ о капитуляции. Приказ этот через мощные радиорупоры передавался для сведения немецких солдат, ещё не бросивших оружия.
Мы предложили генералу Вейдлингу прочесть свой приказ перед микрофоном... Он читал неохотно, мрачно, с трудом, словно едва разбирая слова. И говорил так тихо, что пришлось его остановить и попросить причесть приказ по-военному — громко.
Генерал тяжело вздохнул... и вновь обратился к немецким солдатам:
— «По согласованию с Советским военным командованием я предлагай вам сложить оружие и прекратить сопротивление. Дальнейшие бои бессмысленны, ибо каждая минута увеличивает количество бесполезно проливаемой кропи...»
Это было 2 мая 1945 года. Берлин пал. Стало необычайно тихо... Днём на легковой машине мы ехали по городу. Ещё горели дома и стлался пороховой дым...
Необычайная это была поездка! Хотелось всё увидеть, ничего не упустить, всё запомнить и, конечно, что можно — записать на плёнку.
За рулём нашей машины сидел радиоинженер Николай Свиридов. Вести машину казалось просто невозможным. Лежащий перед нами путь даже отдалённо не был похож на автомобильную трассу: горы битого кирпича, поваленные столбы, невероятные ухабы, обломки стен. Я с беспокойством посматривал на аппаратуру, которая то и дело взлетала вверх. За неё я боялся больше всего. Впереди ведь было столько дела!..
«Мерседес» наш шумел, скрипел и всё-таки брал препятствия, двигался вперёд... к рейхстагу.
По обеим сторонам дороги — мрачные развалины. Когда-то здесь были огромные здания, широкие проспекты...
Унтер-ден-Линден — главная берлинская улица. Её длина — один и три десятых километра. Асфальт изрыт воронками от бомб и снарядов. На нём трупы солдат, подбитые бронетранспортёры с шестиствольными миномётами, орошённые каски и противогазы.
Да и вообще этой улицы, которая мрачностью своих фронтонов ранее создавала напыщенное величие германской столицы, теперь фактически не было. Были одни руи-ны1. Унтер-ден-Линден — в буквальном знамении улица под липами. Но и лип тоже не оказалось...
На уцелевшие стены домов только что наклеены листы жёлтой бумаги. Это первый приказ советского коменданта Берлина генерал-полковника Берзарина.
Едем дальше. Нас обгоняют другие машины. Движение очень оживлённое...
И почти на всех перекрёстках уже заняли места наши регулировщики, так бойко и ловко направляющие бесконечный поток транспорта, словно они не несколько часов, а давным-давно уже стоят здесь.
Сигнал остановиться. Тормозим...
Подходит миловидная девушка и сурово, недоверчиво смотрит. Мы были в штатском, и это, естественно, вызвало подозрение. Она долго разглядывает нас и молчит. Мы молчим. Но магнитофон уже пишет.
Битте... Папир... — вдруг решительно произносит девушка.
Мы с приятелем недоумённо переглядываемся.
— Папир, — повторяет она угрожающе. — Папир!.. Хальт!.. Цурюк!..
Должно быть, этим запас немецких слов у неё ограничивался, потому что она несколько раз их повторила. Мы не выдержали и рассмеялись:
— Да скажите же по-русски, что вы хотите?
Девушка неуверенно улыбнулась:
— Так вы свои? А я думала... Предъявили документы, разговорились.
Она тоже оказалась ленинградкой. И надо было видеть, как обрадовалась и вся засветилась в улыбке, встретив земляков!
— Из Ленинграда, товарищи? Так ведь и я оттуда! На улице Чайковского живу, шестьдесят один, квартира тридцать три, работала на «Электросиле» чертёжницей. Там, наверное, помнят меня. Передайте всем привет от Зины Королёвой...
Сердечно попрощавшись, мы продолжали свой путь.
Вот и район Тиргартена. Повсюду та же картина: мрачные развалины, мёртвые кварталы с пустыми глазницами окон... Ветер кружит обрывки бумаг и разносит пыль...
Пробираемся к центру города и невольно останавливаемся у огромного, безобразным пауком распластавшегося здания. Это — страшная тюрьма Моабит. Пятью длинными лапами расходятся от центра тюрьмы её огромные пятиэтажные корпуса, в каждом из них сотни камор. Кроме того, сбоку тянется ещё один узкий и высокий корпус с маленькими одиночками для особо строгого заключения. Всего в тюрьме Моабит около двух тысяч камер, причём только часть из них одиночки. Таким образом, всего в тюрьме находилось в заключении несколько тысяч человек.
Сейчас тюрьма опустела. Советская Армия разбила тюремные двери, и заключённые вышли на свободу.
Вот мы находимся в камере № 375, расположенной в нижнем этаже корпуса «С». Эта камера имеет в длину два метра с небольшим и в ширину около трёх метров. В ней в течение двух лет — с 1935 по 1937 год — был заключён Тельман — мужественный и благородный боец за свободу и счастье человечества.
С волнением мы переступаем порог этой маленькой камеры и осматриваем её. Складная деревянная кровать, которая опускалась только на ночь, крошечный столик, маленькие полочки и на стене несколько плакатов с тюремными правилами, в которых чаще всего повторяется одно слово: ферботен, ферботен, ферботен — то есть: запрещено, запрещено, запрещено.
К моменту взятия Берлина советскими войсками в тюрьме находилось много людей С Украины и из Белоруссии, а также больший группа особо важных политических
заключённых. Эту часть заключённых гитлеровцы перед самой капитуляцией Берлина вывезли, но некоторые из них остались, — они лежат в госпитале.
Мы входим в тюремную больницу. Вот одна из её палат. Нас приветствует на ломаном русском языке Алоис Горн. Это чех из Праги. Он был арестован 26 июля 1944 года за то, что высказался весьма радостно о прошлогоднем покушении на Гитлера. Говна привезли в Берлин, бросили в тюрьму Моабит, а в феврале нынешнего года гитлеровцы предложили ему на выбор: оставаться в тюрьме или вступить в ряды фольксштурма. Горн решительно отказался стать солдатом и за это был жестоко избит. Теперь он лежит на больничной койке и с нетерпением ждёт минуты, когда сможет вернуться домой в освобождённую Прагу...
Вот другая койка. На ней — француз Марсель Аас. Ему всего двадцать пять лет, но он не может пошевельнуться на постели: у него парализованы ноги. Это тоже последствия избиений, которым его подвергали в гестапо. Он был арестован 2 декабря 1942 года в Бордо, находился в заключении в тюрьмах в Бордо, Париже, Берлине и теперь также с нетерпением думает о возвращении на родину.
А вот Гертруда Каллис. Это — молодая немка из Померании. Она провела в Моабите тридцать месяцев, попав туда за оказапне помощи военнопленному советскому офицеру, который работал в хозяйстве её отца,
И тюрьме Моабит есть ещё одна интересная особенность: с одной стороны к ней примыкает здание прокуратуры и следственных органов, соединённое с тюрьмой мрачными подземными переходами; с другой стороны здание суда, в которое также ведут извилистые узкие и тёмные коридоры. Это — конвейер гитлеровской расправы. Человека вели сперва к так называемым следователям по внутренним проходам, потом доставляли его в суд, а потом отправляли на казнь.
Такова тюрьма Моабит, страшный паук, который распластался в самом сердце Берлина...
...Наш автомобиль, лавируя между развалинами, держит путь дальше... Ориентируясь по карте, въезжаем, наконец, на большую площадь. Перед нами огромное куполообразное здание — немецкий рейхстаг, вернее, скелет его. Несколько попаданий наших тяжёлых снарядов довели это мрачное здание почти до полного разрушения.
Над рейхстагом реяло знамя Победы, и десятки надписей виднелись на его мрачных стенах:
«Волга — Берлин. Сальников».
«Моздок—Берлин. Шубников».
«Рейхстаг пал. Кремль стоял, стоит и стопи, будет. Москвич Овчинников».
И ещё старательно выведенные мелом на грязном мраморе слова:
«Мы пришли и Берлин — ленинградцы Петров, Шубин, Иванов...»
Невдалеке — знаменитые Бранденбургские ворота. Немцы приспособили их для обороны. Проезды завалены брёвнами, засыпаны песком. Здесь были бойницы.
Ещё дальше — новая имперская канцелярия, берлинская резиденция Гитлера. Главный вход. Кондоры со свастикой в лапах разбиты вдребезги. Очередью из автомата прострелена, как бы зачёркнута навсегда, огромная доска с надписью: «Рейхсканцляй» — имперская канцелярия.
Подъезд усыпан тысячами фашистских орденов и грамот. Мы подняли одну из них. В ней говорилось о награждении рыцарским знаком железного креста какого-то полковника. Внизу стояла личная подпись Гитлера и дата: «Берлин. 20 мая 1945 года».
Очень предусмотрительна была гитлеровская канцелярия, — вперёд на месяц разметила торжественную церемонию вручения орденов. Но Советская Армия изменила этот распорядок, и вот валяются фашистские награды в опустошённой имперской канцелярии, и наши солдаты топчут их...
Под этим же зданием было обнаружено огромное бомбоубежище, в котором находились укрытия Гитлера и всех остальных главарей его шайки.
Спускаемся в подземелье...
Главный вход завален. Пришлось лезть сквозь какую-то дыру в стене. Вышли на узкую лестницу.
Тем по — провода перерезаны. Осторожно продвигаемся, освещая путь электрическими фонариками. Автоматчики и каждый из нас держат оружие наготове.
Это, кажется, третий или четвёртый этаж под землёй... Свернули в узкий коридор, такой узкий, что идём, упираясь обеими руками в стены. Прошли метров пятнадцать. Кто-то сказал, показав на небольшую дверь: «Фюрер, — потом на дверь напротив: — Геббельс».
Здесь они скрывались во время тревог... По если вспомнить, как ожесточённо и энергично бомбили столицу Германии, то вероятнее всего, что эти убежища были их постоянными квартирами.
Совершенно темно. Мы толкнули дверь и пошли в логово Гитлера, комнату метров десяти.
Стол, три кресла... Две бутылки недопитого французского вина, несколько бокалов... Больше ничего.
В другой комнате — кровать морёного дуба и шкаф. В нём был обнаружен парадный мундир Гитлера с одиннадцатью орденами. В этом мундире он появлялся на всех сборищах и торжествах.
Квартира Геббельса. Тут ещё теснее. Комната метров восемь, не больше. Письменный стол. Два кресла. У стены чемодан, набитый бумагами. Там был обнаружен список личной охраны Гитлера, состоявший из 211 отборных головорезов, план обороны ставки в случае внезапного нападения и подробный план эвакуации ставки из Берлина...
Мы вышли на улицу и облегчённо вздохнули...
Навстречу нам плелась по обломкам кирпичей длинная колонна пленных.
Впереди — немецкие генералы, за ними ординарцы и адъютанты несли одеяла и портфели. Следом двигались полковники, майоры, полицейские, эсэсовцы — тысячи солдат и офицеров.
Все шли молча, еле волоча ноги... А ведь так недавно эти вояки маршировали тут же под гром бравурной музыки, и каждый из них был начинён сумасбродными мечтами о завоевании мира...
Они плетутся теперь серой, бесцветной массой, понурив головы.
Такого парада Берлин ещё не видел!
Пленные проходят по Франкфурталлее... На углу пылает дом. Флаг с чёрной свастикой ещё развевается над ним. Но вот языки пламени рванулись вверх. Флаг вспыхнул и пеплом осыпался вниз...
Война с Германией близится к концу. Берлинская битва была эпилогом. Сопротивление гитлеровцев повсеместно прекратилось. 7 мая нам стало известно, что на следующий день в Карлсхорсте (это — один из районов Берлина) в здании бывшего сапёрного училища будет подписан акт о капитуляции Германии.
Понятно, что корреспондентов, желавших быть свидетелями этого долгожданного события, оказалось значительно больше, чем мог вместить зал.
Одних советских журналистов было человек тридцать: корреспонденты «Правды», «Известий», «Красной звезды», ТАСС, радио... Ну и, конечно, — кинооператоры и фоторепортёры. Всем известный кинооператор Роман Кармен занял самую выгодную позицию у стола, где должно было произойти подписание...
Ждать пришлось долго, что-то задерживало начало церемонии. Говорили, будто французский и немецкий тексты были плохо переведены, и их сверяют...
Подписание акта назначено было на 10 часов утра, а мы просидели в ожидании до 11 часов вечера.
И вот, наконец, включаю микрофон:
Говорит Берлин. Сейчас двадцать три часа тридцать минут по московскому времени. Мы ведём репортаж из здания немецкого сапёрного училища в Карлсхорсте, где представители Союзного командования и делегация Верховного главнокомандования немецкой армии подпишут сейчас акт о безоговорочной капитуляции Германии.
Подписание акта состоялось в торжественном молчании, прерываемом лишь треском киноаппаратов, щёлканьем фотоаппаратов и вспышками магния...
Весь мир напряжённо внимал происходящему в зале в Карлсхорсте. Наступил час, пришла минута, о которой так долго мечтали сотни миллионов людей. Вот она — победа, за которую пролито было столько крови, принято столько горя и мук. И мы, советские люди, видевшие, как бывший фельдмаршал германской армии Кейтель подошёл к столу, чтобы признать перед всем миром своё поражение, были исполнены великой гордости за свой народ, за свою армию, за свою родную Коммунистическую партию, приведшую нас к победе.
Представителям гитлеровского командования были заданы вопросы: имеют ли они на руках текст, ознакомились ли с ним и готовы ли подписать акт. Ответ дан утвердительный. Кейтель взял в руки перо, обвёл зал тусклым взглядом и поставил свою подпись под русским текстом капитуляции.
Через 15 минут всё было кончено. Немецкая делегация покинула зал заседания.
Исторический акт состоялся.
Это было 8 мая 1945 года. Берлин. Карлсхорст. 23 часа 30 минут по московскому времени.
==СОЛДАТСКАЯ ДРУЖБА==
Это случилось вскоре после войны, в Костроме, на переговорном пункте междугородней телефонной станции.
К столу заказов подошёл огромный мужчина в армейской шинели, видавшей виды, и, с трудом протиснув голову в маленькое окошечко, неестественно громко сказал:
— Нерехта. Вызовите молокозавод, а там Александра Кузьмина. Пять минут. Срочный.
Не дожидаясь, пока телефонистка оформит заказ, он прокричал:
— Гражданочка, когда вызовут, прошу помочь мне переговорить, а то я, маленько того, глуховат.
Усевшись на скамейку в ожидании вызова, он оглядел всех нас, как будто проверяя, что тут за народ, приветливо улыбнулся и, как старым знакомым, начал объяснять:
— Я, знаете, проездом здесь. А за эту самую Нерехту, можно сказать, воевал. Тут же меня и шлёпнуло. Оглох... А вот сейчас друзей своих разыскиваю, фронтовых друзей, — пояснил он и светло улыбнулся: — Здесь, в Нерехте, дружок живёт, он местный. Я ему, значит, сейчас по телефону, как снег на голову...
Он заразительно расхохотался и добавил:
— Не ждёт...
В это время из-за перегородки выбежала, приветливо улыбаясь, дежурная с наушниками на голове.
Она взяла Евсея Ефимовича (так звали нашего собеседника) за руку и потянула к кабине.
Дверь осталась незакрытой, и все мы слышали, как телефонистка втолковывала какому-то Саше, что это говорит Евсей Ефимович... А Саша, видимо, никак не мог понять, какой такой Евсей Ефимович разговаривает с ним женским голосом. Сам же Евсей Ефимович нетерпеливо ворочался в тесной кабине.
Неожиданно он выхватил трубку из рук телефонистки, прижал её к уху, немного неуклюже, как это делают люди, страдающие недостатком слуха, шумно подул в мембрану и вдруг... запел:
Где же вы теперь, Друзья-однополчане, Боевые спутники мои...
Он пел густым приятным баском, при этом с улыбкой поглядывая на ошеломлённую телефонистку.
Затем Евсей Ефимович снова подул в трубку и сказал громче, чем этого требовал телефон:
— Ну что, узнал? Только говори пошибче... Ну то-то. Он самый. Как живёшь? Ну, и у меня порядок. Да, конечно, по старой специальности, — гремел из кабины раскатистый голос. — Слушай, а как Николая Иванова и Сергея Шумкина отыскать? Не знаешь? Вот жалость! А я, понимаешь, адреса растерял. Что же теперь делать?.. Ну ладно. Жди. Скоро приду...
На улице, застёгивая на ходу шинель, он с горечью говорил мне:
— Вот и потерял друзей, да каких! Всю войну вместе прошли, вместе ранены были, вместе песни певали, а вот теперь и не повидаться... Обидно...
Я сказал, что могу попытаться помочь ему.
— Да ну, как же так? — обрадовался Евсей Ефимович.
— Очень просто: обращением по радио... Мы вернулись на почту, и я предложил
сержанту сказать в микрофон, что, дескать, такой-то разыскивает своих друзей таких-то...
— Ага... Понятно, — обрадованно перебил меня бывший сержант.
Он одёрнул шинель, медленно подошёл к микрофону, как будто даже слегка поклонился ему, откашлялся и начал так:
— Говорит с вами Евсей Долготов. Разыскиваю своих друзей по фронту — Николая Иванова и Сергея Шумкина, с которыми прошёл всю войну от Ленинграда до Берлина. Желаю повидать товарищей, узнать про их послевоенную жизнь. А может, чем помочь надо, мало ли... советом или делом... Так я сообщаю, что Евсей Долготов живёт в городе Киеве, на Большой Подольской улице, в доме номер пять, а в квартире четыре. И очень прошу граждан, кто, может, знает Иванова или Шумкина, сообщить мне об этом обязательно...
...Не знаю, может быть, уже давно встретились старые однополчане, а может быть, так и не нашли друг друга, но мне надолго запомнился этот большой неуклюжий человек с детской улыбкой и с таким верным солдатским сердцем.
==ДВЕ ВСТРЕЧИ==
Этот человек принадлежал к числу людей, которые привлекают к себе внимание с первого взгляда.
Он шёл по Невскому твёрдой, уверенной походкой... Высокий, косая сажень в плечах, с открытым мужественным лицом... На его лётной гимнастёрке поблёскивало несколько рядов орденских ленточек, а над ними золотилась Звезда Героя. Прохожие невольно оглядывались, а я даже остановился. Лицо, да и вся внешность этого человека показались мне очень знакомыми.
«Но где я мог его видеть? И когда?» Я повернул и пошёл следом за ним, мучительно вспоминая: «Откуда же я его знаю? Откуда?» В памяти возникали минувшие годы, фронтовые встречи — ведь их было очень много, встреч у микрофона, — и с рядовыми воинами, и с заслуженными полководцами... Но где же я встречал этого человека? В Ленинграде? В солдатских окопах под городом? Нет. Дорога наступления? Берлин? Нет, пот...
И тут неожиданно человек остановился, снял фуражку и привычным жестом — всей пятернёй — закинул назад густую каштановую шевелюру, на которой ярко выделялась широкая серебряная прядь. И всё сразу вспомнилось...
Июнь 1944 года.
Наша репортажная машина мчится по фронтовой дороге вслед наступающим войскам. Держим путь па Лугу. Мелькают сожжённые деревни, разбитые танки, перевёрнутые орудия, уткнувшиеся в обочины автомашины... Обычный пейзаж войны...
Мы не доехали полпути до Луги, как вдруг на крутом повороте мой друг — военный корреспондент Моисей Блюмберг — тронул водителя за плечо: «Остановитесь».
Взглянув па дорогу, мы увидели стоявшего у обочины человека с поднятой рукой. Обыкновенное дело — «голосует»—просит подвезти. Тормозим.
— Недалеко мне, товарищи, — сказал ОН. — Километров сорок, до поворота... Уж больно тяжело идти — подбросьте... — Он, прихрамывая, подошёл ближе...
Присмотрелись...
Это был юноша в серой, залатанной, но чистой гимнастёрке, фуражка на нём лётная, левая рука на перевязи.
Спросили документы. Человек развёл руками. Нет документов. Переглянулись с товарищами. Время военное, кто его знает? Заметив наше колебание, юноша порывисто стал объяснять, что, дескать, он свой — лётчик...
— Понимаете, — горячо говорил он, жадно вдыхая дым папиросы, занятой у нас, — я лётчик, вылетел на поддержку партизанской операции, и мой «ястребок» сбили... Упал... Каким-то чудом остался жив... выбросило, меня из горящей машины...
Он говорил быстро, взволнованно и для вящей убедительности жестикулировал здоровой рукой.
— Давай в кузов! — мрачно скомандовал наш водитель.
Юноша обрадованно вздохнул, широко улыбнулся и, сняв фуражку, всей пятернёй закинул назад густую каштановую шевелюру, на которой мы с удивлением увидели широкую седую прядь...
Уже на ходу, в машине, подпрыгивавшей на ухабах, он продолжал рассказывать о случившемся...
Несколько часов после аварии Сергей Болотников — так звали нашего попутчика — пролежал без сознания, а когда пришёл в себя, то почувствовал, что двигаться не может: нога была разбита, левая рука не действовала... Его спасли те, кому на помощь он вылетел, — партизаны. Подобрали, выходили, подремонтировали, как он выразился, переправили через линию фронта, и вот теперь он направляется в свою часть, где его, вероятно, считают уже погибшим. Ведь это случилось месяц назад...
Конечно, в Лугу мы не поехали. Добравшись до нужного Сергею поворота, мы тоже свернули влево.
Хотелось доставить товарища до самого места — ему было трудно идти, но, кроме того, что скрывать: журналистская интуиция подсказывала, что мы окажемся свидетелями необычного события.
Когда добрались до аэродрома, Сергей сказал:
— Вы знаете, я в таком виде начальству показаться не могу. Надо привести себя в порядок...
Договорились, что будем ждать его в кабинете командира полка и, захватив с собой
аппаратуру, отправились разыскивать начальство.
Командир, худощавый подполковник, с ярким, видимо недавно зажившим, шрамом на щеке, сидел за небольшим столом и о чём-то беседовал с молодыми офицерами.
— Не помешаем? — приоткрыв дверь, спросил я.
Увидя незнакомых людей, да ещё с какими-то чемоданами, подполковник встал из-за стола и приветливым жестом пригласил войти. Представились, предъявили документы и доложили, что хотим рассказать по радио о буднях лётной части.
— На земле или в воздухе? — усмехаясь, спросил командир.
— Предпочитаем разговор приземлённый, но о делах воздушных.
— Тогда включайте ваши приспособления, будем жаловаться на погоду, третьи сутки подводит...
Нам нужно было оттянуть время, и мы, продолжая этот шутливый разговор, не спеша развернули аппаратуру, готовясь к записи.
Повернувшись, я вдруг увидел между окон портрет нашего юного попутчика. Из большой рамки, перевитой чёрным крепом и свежей зеленью, смотрело на нас открытое, умное лицо Сергея Болотникова. На плечах — погоны с двумя лейтенантскими звёздочками. Подполковник перехватил мой взгляд стал вдруг серьёзным и проникновенно сказал:
— Вот вам тема для рассказа. Это наш герой, погиб недавно в бою... Два самолёта фашистских сбил, не пустил в Ленинград, а сам сгорел на лужской земле. Друзья видели, как упал горящий самолёт, а помочь ничем не могли. Вот уж месяц, как наша эскадрилья в трауре. Это был общий любимец — замечательный парень, прекрасный лётчик... Мы его посмертно представили к званию Героя Советского Союза, но вот матери сообщить о гибели такого сына рука не подымается. Хочу сам... съездить к ней в Ленинград...
Только я собрался остановить подполковника и обрадовать его вестью, которую приберегал, как отворилась дверь, и в комнату вошёл подтянутый, едва сдерживающий волнение лейтенант Болотников.
Он подошёл к потрясённому, стоявшему с широко раскрытыми глазами командиру и по всей форме начал рапорт:
— Товарищ подполковник, разрешите доложить...
Минутная тишина разрядилась криками восторга. Все бросились к Сергею, его обнимали, целовали, тискали и, наконец, подняв на руки, вынесли из кабинета. Так шли они по лётному полю... Со всех сторон уже бежали механики, пилоты, повара, врачи... Весь персонал аэродрома.
Сколько нами было записано на плёнку возгласов, поцелуев, хлопков по спине, сколько смеха и просто хороших, необыкновенно хороших слов!
А потом в эфире прозвучал репортаж, и немало было пролито радостных слёз у репродукторов. Об этом мы узнали из сотен писем и откликов, полученных от, людей, слушавших по радио о необычайном событии на аэродроме под Лугой...
...Всё это ярко вспомнилось мне .теперь, на Невском проспекте, когда человек в форме гражданского лётчика остановился у витрины табачного магазина, снял фуражку и я увидел седую прядь на его пышной каштановой шевелюре...
Сергей болотников, возмужавший, раздавшийся в плечах, ставший как будто выше... Конечно, это был он, мой давнишний хороший знакомый.
— Сергей Афанасьевич! Здравствуйте! Он резко повернул голову, секунду всматривался в меня и потом, широко раскинув руки, крикнул на весь Невский:
— Вот это встреча!
==ПОТОМКИ НАДЕЖДЫ ДУРОВОЙ==
Вам когда-нибудь приходилось бывать
Сарапуле? Чудесный городок! Он расположен на самом берегу Камы. И белые, полускрытые в зелени домики возвышаются живописными уступчатыми террасами...
Особенно хорош Сарапул в разгаре лета, когда и небо и река сверкают чистой голубизной, когда кругом желтеют поля, плывут, перекликаясь, по реке пароходы, когда яблоневые сады утопают в розовой пене и от нежно-малиновых зорь до червонных закатов поют неугомонные птицы.
Как почти во всяком старинном городе, в Сарапуле существует краеведческий музей. Там можно увидеть сноп ветвистой пшеницы, выращенной на полях ближайших колхозов, муляжную голову свиньи, кусок бурого угля, найденного вблизи города, и многообразный ассортимент продукции местных предприятий, начиная от долота для бурения нефтяных скважин и кончая пряниками и колбасой.
События, о которых я хочу рассказать, начались именно здесь, в музее. Проходя по его валам, я увидел висевший на стене большой старинный, писанный маслом, портрет и потускневшей позолоченной раме.
На портрете был изображён молодой, руин мы и, чернобровый гусар в синем ментике С меховой опушкой и с саблей, на эфесе котором лежала нежная, женственная рука. На металлической пластинке, прикреплённом к портрету, стояло всего лишь два слоим: «Надежда Дурова».
О Надежде Дуровой слышали, конечно, псе. Славная русская девушка, отважная патриотка, покинула когда-то семью, дом и, облачившись в гусарский мундир и назвав себя мужским именем, отправилась на поле брани защищать Россию от полчищ Наполеона. Но почему портрет знаменитой партизанки, «девицы-кавалериста», как её называли, попал в Сарапульский музей?
Я огляделся, и недоумение моё усилилось. На противоположной стене висел ещё один портрет Дуровой — в синем казачьем чекмене, перепоясанном шёлковым кушаком, и в огромной папахе с пунцовым верхом. Рядом с портретом на столике стоял потемневший бронзовый подсвечник и дощечка с надписью: «Из личных вещей Надежды Дуровой. Руками не трогать».
Совершенно очевидно, что имя Дуровой имело какое-то отношение к этому городку. По какое? Помнится, она родилась где-то на юге, в Херсоне. Воевала, как об этом говорилось в специальной справке, при Гутштадте, при Фридланде, под Смоленском и Бородиным. Похоронена в Елабуге.
Всё объяснила скромная фотография небольшого домика, выходящего окнами на самое приметное место в Сарапуле — на так называемую Старцеву гору. Оказывается, в этом домике Дурова провела свою юность. Здесь, под этой крышей, вспоминая в дневнике своё раннее детство, она писала: «Седло было моею первою колыбелью, лошадь, оружие и полковая музыка — первыми детскими игрушками и забавами». Отсюда, из этого домика, она бежала ночью; оседлав любимого черкесского коня и выдав себя за сына местного помещика, она явилась в расквартированный тогда возле Старцевой горы казачий отряд...
Я приехал в Сарапул собирать материал для большого радиоочерка, рассказать нашим слушателям, как живут, трудятся, к чему стремятся и о чём мечтают простые советские люди в одном из многочисленных маленьких городков нашей Родины.
Меньше всего я думал заниматься историческими исследованиями. Но тут, представьте себе, заговорил во мне этакий историографический бес... «Если нашёлся один подсвечник, — думал я, — принадлежавший прославленной героине Отечественной войны 1812 года, то, может быть, найдётся здесь и отрывок неизвестной рукописи, начертанной при мерцании свечи, горевшей в этом подсвечнике? Дурова, как известно, была не только партизанкой, но и писательницей. Её «Записки» печатал в «Современнике» сам Пушкин. Пушкин переписывался с ней. Может быть, удастся отыскать неведомую ещё нашим современникам драгоценную строку какого-нибудь пушкинского послания? Наконец, как знать, не живут ли здесь и теперь её потомки?» Директор музея посоветовал:
— Обратитесь к нашему местному писателю Петру Ивановичу. Он сочинил уйму романов, живёт всю жизнь в Сарапуле, напорное, и этим вопросом интересовался.
Я последовал этому совету. Меня встретил седовласый улыбающийся человек в потрёпанной шинели времён гражданской войны, надетой поверх нижней рубахи. Стыдливо прикрывая оголённую грудь, он ещё в саду объяснил мне:
— Понимаете, работаю, пишу роман о гражданской войне на Каме. Шинель помогает. Не могу без неё. Как надену, так будто в тысяча девятьсот девятнадцатый год переселяюсь... Да вы не обращайте внимания, она у меня вместо халата...
Мне не терпелось рассказать писателю, зачем я, собственно, пришёл. Он выслушал меня тут же, в саду, сидя под зацветающим сливовым деревом, и,,поразмыслив несколько, сказал так:
— Дело здесь, конечно, не в подсвечнике. И письма Пушкина тут уже без вас искали. Всё обшарили. А вот потомки, — старик хитро прищурился, — потомки — это отличный журналистский приём. Вот вы и походите, поищите потомков, — не без лукавства сказал он. — Увидите людей, познакомитесь с городом, а может быть, что-нибудь и вроде подсвечника подвернётся, — заключил Пётр Иванович, запахивая шинель и провожая меня до калитки.
Уже вдогонку он мне крикнул:
— Непременно держите меня в курсе ваших исследований. Это очень интересно. Я жду...
И начались мои «исследования». Я решил знакомиться с жителями Сарапула несколько необычно. Пришёл в милицию, в адресный стол и спрашиваю:
— Дуровы в Сарапуле живут?
— Какие Дуровы? Фамилия, имя, отчество? — резонно спрашивает девушка в милицейской форме.
— Разные Дуровы, Дуровы вообще, — сказал я неопределённо.
Девушка нахмурилась:
— Как вообще? А вы-то сами кто такой вообще?
Пришлось объяснить...
Тут пришёл дежурный по отделению — щеголеватый младший лейтенант. С пристрастием проверил мои документы и, одобрительно кивнув, сам принялся помогать девушке перебирать карточки с адресами.
Ну вот, — не торопясь произнёс младший лейтенант, словно испытывая моё тёр-пение. — Одна Дурова есть... Умерла в 1928 году. Вот другая выбыла... Посмотрим сейчас, куда выбыла... В Москву... Не годится. Так. Вот Дуров... Видите, мужчина. Анатолий Анатольевич. Подходит?
— Ну, конечно, подходит! — обрадовался я.
— Нет, тоже не подходит, — опечаленно проговорил младший лейтенант. — Это дрессировщик Дуров со зверинцем в прошлом году приезжал...
Тут вметалась девушка:
— Товарищ начальник, смотрите, вот: раз, два, три, четыре. — Она веером разложила на столе карточки. — Вот, пожалуйста, все Дуровы и все сейчас живут. Запишите...
Переписав адреса, я решил не откладывать дела в долгий ящик и отправился в путь, прихватив с собой на всякий случай и магнитофон.
Первый адрес: Советская, 26. На дверях медная табличка с надписью: «Дуров П. Г.»
Ещё не решив, с чего начать предстоящий разговор, нажимаю кнопку звонка. Навстречу выходит сухощавый человек в шёлковой косоворотке с гарусными узорами на ворот-пике и, удивлённо поглядев на меня поверх очков, спрашивает:
— Вам кого? Пытаюсь объяснить:
— Видите ли, ваша фамилия Дуров, а я — журналист, и мне хотелось бы знать, не имеете ли вы какого-нибудь, хотя бы далёкого, отношения к той самой партизанке-героине Отечественной войны Дуровой...
— Как же, как же! — обрадованно восклицает Пётр Григорьевич. — Это наша дочка!
Я опешил: прапрабабушка, прабабушка — это понятно, но дочка-то при чём?
— Да вы заходите в комнату, — заметив моё смущение, пригласил хозяин и крикнул куда-то в глубину квартиры: — Мать! Подай-ка сюда дочки порт рот.
Всё произошло так стремительно, что я даже не успел включить магнитофон. Очень похожая на Петра Григорьевича, такая же высокая, такая же худощавая и тоже с очками на кончике носа, пожилая женщина принесла и положила передо мной па стол фотографию.
Я увидел изображение круглолицей смеющейся девушки с ямочками на щеках и седой прядью волос, упавшей на открытый высокий лоб. Девушка была снята во весь рост, в нарядном платье, на котором рельефно выступало два ордена — Отечественной войны и Боевого Красного Знамени.
— Вот что значит писатель-корреспондент: успел уже узнать, что она партизанка
И героини, - приговаривал Пётр Григорьевич. Да. Четыре года в белорусских лесах воевала. Дна раза в гестапо была. Мучили её. Седая в двадцать лет стала...
— А где она сейчас? — как можно осторожное спросил я.
— Как же, как же, она — делегат, — засуетился Пётр Григорьевич.—В Ижевске, на конференции мира. Она учительница, вот её и послали...
Хозяйка дома успела за это время схлопотать чай, уставить стол разными булочками и ватрушками, не преминув сообщить, что это дело рук самого Петра Григорьевича, который славится в городе как лучший кондитер.
Я решил, наконец, объяснить хозяину, зачем пришёл к нему, что привело меня сюда, тем более, что можно было провести такую близкую параллель между однофамильцами Дуровыми двух разных эпох... И едва успел это сделать, как раздался долгий телефонный звонок. Пётр Григорьевич многозначительно поднял палец:
— Междугородняя...
Он кинулся сначала на кухню и закричал:
— Мать, мать, наверное Верочка!
А потом подбежал к аппарату, снял трубку, подул в неё и, как человек, не привыкший к частым телефонным разговорам, спросил:
— Кто там? Потом началось:
— Верочка!.. Говори громче! Чего? Чего, чего? Не слышу! Ты в трубку говори, в трубку...
Видимо, Пётр Григорьевич очень волновался, потому что, стоя в другом конце комнаты, я отчётливо слышал голос Верочки. Вконец измаявшись, хозяин протянул мне трубку:
— Может быть, вы поможете, я ничего не разберу...
И я помог. Тотчас открыл аппарат, подключился к телефону, попросил Петра Григорьевича сообщить Верочке, кто будет говорить вместо него, а затем уже через несколько минут, к необычайному удивлению хозяев, воспроизвёл записанный на плёнку голос их дочери:
— Передайте папочке, что я его хорошо слышу. Пусть не беспокоится. Конференция проходит успешно. Мы приняли очень важные решения. Возможно, поеду в Москву. Папочка, мамочка, не волнуйтесь. Я чувствую себя хорошо. Спокойной ночи...
— Дальше, давайте дальше, — заторопил' Пётр Григорьевич.
Я не сразу понял — что дальше?
— Дальше пусть говорит...
— Так она же больше ничего не сказала.
— Ах, досада! — поёжился Пётр Григорьевич.
Я решил доставить старикам удовольствие и прокрутил плёнку ещё раз. Отец с матерыо подошли совсем близко к аппарату, нагнулись к нему и движениями губ повторяли то, что говорила их Верочка. А когда она сказала: «Спокойной ночи», — Пётр Григорьевич улыбнулся и с некоторой важностью даже проговорил:
— Какой там «спокойной ночи»! Это раньше твердили: «За Волгой спят и нам велят, а я завтра экзамен сдаю». Так что теперь по-другому: «За Волгой не спят и нам не велят»...
Бережно поглаживая широкопалой рукой крышку магнитофона, как будто в нём сидела живая Верочка, Пётр Григорьевич говорил:
— Вот вы рассказываете — Дурова там, корнет, мужское платье надела, воевать пошла. Оно, конечно, и в прошлые времена смышлёные девушки встречались, а только в нынешнюю пору они стали куда смышлёнее...
Заметив, что я собираюсь уходить, Дуров заволновался:
— Что вы, что вы — так скоро! Оставайтесь. Ещё чайку выпьем, потолкуем. А то, может, переночуете?..
Он сделал паузу и посмотрел искоса на закрытый уже чемодан.
— Переночуете, — повторил Пётр Григорьевич. — А утречком того этого... — он покрутил пальцем в воздухе,— опять с Верочкой поговорим, опять плёнку повертим...
Но я всё-таки решил провести ночь в гостинице.
Первая встреча с Дуровыми, как вы сами понимаете, подогрела мой интерес к этой фамилии. И уже назавтра с утра я стал продолжать «исследования».
Беру следующий адрес, читаю: «Дурова М. Т. Проживает Заречная, 6. Работает директором мебельного комбината...»
Об этом комбинате я уже кое-что слышал. Мебель с его фабричной маркой видел даже в музее. И в магазинах видел. Хорошая мебель, красивая...
Прихожу на фабрику. Спрашиваю у секретаря:
— Директор принимает?
Как полагается, секретарь интересуется:
— По какому делу?
— Скажите, мол, по вопросу, связанному с историей города...
Через несколько минут распахивается дверь и меня приглашают.
Директору на вид лет 25—28. Блондинка с тонкими чертами лица и большими ярко-голубыми глазами, в которых светятся энергия и решительность. Директор Дурова опережает все мои вопросы:
— Интересуетесь работой комбината? Правильно. Пора...
Нажимает кнопку звонка, приказывает вошедшей секретарше:
— Главного инженера ко мне.
И в комнату не входит, а почти вкатывается лысый толстяк в пенсне, с кожаной папкой под мышкой. Директор обращается к нему:
— Корреспондент. Интересуется нашей работой. Что мы можем сказать?
Толстяк мямлит что-то нечленораздельное.
— Можем сказать так, — всё так же энергично продолжает директор: — Работаем неважно...
Главный инженер жестом останавливает начальство:
— Мария Тимофеевна, но зачем же так резко?
— Не резко, а справедливо, — хмурится Дурова. — Потребитель становится зажиточней, культурней. Мы должны украшать его быт... Одним словом, пишите, товарищ, так...
Она, видимо, приготовилась диктовать. Но, как вы догадываетесь наверное, я взял в руки не перо и бумагу, а поднёс к директору микрофон... В первую минуту она растерялась... Между нами говоря, люди всегда теряются, когда им впервые приходится говорить в микрофон. Да что там — впервые! Даже искушённые артисты и те иногда от волнения бог знает что говорят.
Но Дурова быстро овладела собой и без всякой предварительной подготовки, без текста произнесла:
— Сарапульский мебельный комбинат имеет все условия работать лучше. Мы далеко не используем наши возможности...
В этом духе она говорила минут пять--шесть, а когда я выключил аппарат, сказала главному инженеру:
— Вот так. Это правильно. А теперь пройдите с товарищем на производство и покажите ему те колченогие стулья, которые мы чуть-чуть не выпустили в продажу. Да-да,—. повторила она, глядя на растерявшегося инженера: — Надо иметь смелость и мужество признаться в своих ошибках...
Честно говоря, я сам растерялся. Разговор на историческую тему явно не состоялся, и только уже выйдя с главным инженером из комбината, я успел спросить его:
— Скажите, а ваша Дурова имеет какое-нибудь отношение к той самой Дуровой... к девице-кавалеристу?
Мой спутник, видимо, недослышал и, скрестив руки на груди, с чувством воскликнул:
— О да, вы совершенно правы! Это такая девица-кавалерист, что спасу нет...
Моя следующая встреча в Сарапуле состоялась с человеком, который не носил фамилии Дуровых, хотя имел к ней прямое отношение. Это был Аким Иванович Чернов. Дело в том, что Надежда Дурова, ещё до того, как она, назвав себя мужчиной, убежала в казачий полк, была против своей воли
выдана родителями замуж за заседателя земского Сарапульского суда — Василия Степановича Чернова. От этого брака родился сын Иван, о судьбе которого не упоминается ни в каких книгах, но по всей вероятности — так рассуждал я — в числе потомков Дуровой, проживающих в Сарапуле, могли быть и Черновы.
И вот отыскался один Чернов. И не просто какой-нибудь молодой человек, а старик 114 лет от роду. Заманчиво было и то, что этот самый Чернов работает на знаменитой Сарапульской обувной фабрике, которая славится далеко за пределами этого города. Сарапульские сапожники всегда считались чуть ли не лучшими от Волги до Урала. Особенной популярностью пользовались прежде сарапульские солдатские сапоги.
На новой механизированной фабрике старик Чернов работает сторожем.. Правда, не желая расстаться со своей сапожной квалификацией, он выхлопотал себе привилегию и обучает молодёжь искусству шить солдатские сапоги.
Старик говорит:
— Солдатский сапог это что? Часовой! Страж! Можно сказать, охрана всей прочей гражданской обуви...
Аким Иванович Чернов огромного роста. У него косматая сивая борода, брови как запорошённые снегом кусты, и небольшие серые, удивительно тёплые и молодые глаза.
Спрашиваю:
— Как ваше здоровье, Аким Иванович?
— А ты что, доктор? — хмурится дед. — Всё, — говорит, — на месте. Голова, сердце, лёгкие. Только зубов нет. Впрочем, и без зубов жить можно...
И поясняет:
— Щей наварят, я густыш вычерпаю, а жижу ем...
— А вы с кем живёте, Аким Иванович?
— Один живу, — откликается старик. — Советская власть кормит.
— А жена у вас есть?
— Три было, — отвечает Аким Иванович.
— То есть, как ото было?
— Очень обыкновенно. Первая жена в японскую войну померла, третья — в гражданскую, а вторая... — старик призадумывается. — Помню, что вторая была, а вот куды делась — не помню.
Разговорившись, решаю подойти вплотную к интересующему меня вопросу: мол, слышали что-нибудь о Надежде Дуровой?
— Слышал,— уныло кивает дед.
— Может быть, знали кого-нибудь из Черновых, которые продолжили род Дуровой?
— Знал, — так же уныло кивает дед.
— Кого же именно? — ухватываюсь я за это признание.
— Что ты ко мне пристал! — вдруг рассердился старик. — Не помню, и всё тут. Ты меня не убаюкивай. Я, может, самого Наполеона видел, да забыл. Ты меня о будущем пытай, мне с горы видней...
Заметив чемодан с аппаратурой, Чернов оживился:
— Это что такое за машина?
Я объяснил: дескать, магнитофон и всё такое...
— Ишь ты, — усмехнулся Аким Иванович, приседая на корточки и ощупывая катушку с плёнкой. — Может, здесь все факультеты и результаты значатся...
Я попросил Акима Ивановича приблизиться к микрофону и произнести несколько слов для моего очерка. Старик отошёл на РИГ, задумался, почесал бороду и, наконец, озабоченно спросил:
— Л выражаться можно?
И даже руками развёл...
— А может, я этим... американским... что-нибудь сказать хочу, — пояснил он.
Старик опять призадумался, потом сложил руки возле рта рупором и шёпотом; словно боясь сдуть микрофон, произнёс:
— Говорит Аким Иванович Чернов, ста четырнадцати лет от роду...
И затем неожиданно сильно, так, что даже задребезжала аппаратура, крикнул:
— Долой поджигателей войны!.. Услышав свой собственный голос, Аким
Иванович обошёл вокруг нашего аппарата, внимательно разглядывая его, и деловито спросил:
— Слушай, а ты всё так с этой машиной и ездишь?
— Да, так и езжу, — ответил я, с трудом сдерживая улыбку.
— И всё Черновых ищешь? — допытывался старик.
— Ну, не только Черновых...
— А хочешь, я тебя, милый, к настоящему делу приставлю? — но без лукавства спросил Аким Иванович. — У меня, брат, пятьдесят шесть внуков: инженеры есть, токари, механики, два председателя колхоза, восемь доярок. И все в разных концах живут, кто где. И все Черновы. Валял, кати. Я тебе ещё мешок яблок с собой дам. Внукам раздашь, скажешь, от деда. — И старик раскатисто, от души засмеялся.
Расстались мы с дедом добрыми друзьями.
...Ну, а ещё с одним представителем фамилии Дуровых я познакомился совсем неожиданно, ещё до того, как успел отправиться по последнему из записанных в моём блокноте адресов.
Однажды утром в гостинице местное радио передало такое сообщение:
— Внимание. Говорит Сарапул... Начинаем передачу по городу и району. Сегодня токарь-новатор инструментально-механического завода Борис Николаевич Дуров закончил выполнение шестой годовой нормы. Применяя скоростные методы обработки...
Шесть годовых норм! Вы сами понимаете, что это не могло меня не заинтересовать. Магнитофон в руке, и я уже спешу на завод...
А дальше всё произошло как в хорошей классической пьесе. Открывается занавес, начинается действие. Но главный герой появляется не сразу...
Дело в том, что Дурова на заводе не оказалось.
— Вот его станок, — показал старый мастер, — вот его шкафчик для инструментов, а вот его ученики. — И он обвёл рукой чуть ли не весь цех.
— Борис Николаевич сегодня выходной,— уведомил меня молодой рыжеватый паренёк, сменщик Дурова.
— За шесть лет человек вперёд отработал, может и передохнуть, — пошутил кто-то из пожилых рабочих...
Но всё-таки удалось установить, что Дуров с утра был на заводе. Был и взял себе выходной день по каким-то неотложным личным семейным обстоятельствам.
Ну что ж, выходит, что я зря пришёл на завод? Нет.
Знаете, в старину так говорили: «Худая слава бежит, а хорошая лежит». Теперь у нас так не бывает! Люди гордятся хорошей славой своих .товарищей. И я, конечно, немало интересного узнал о Борисе Николаевиче Дурове от его друзей, товарищей по работе:
— Вот посмотрите: старенький станочек ДИП-2. Мы уже его на свалку хотели выбросить. А Дуров не дал. Разобрал станок, перемонтировал, новые детали сделал, и вот, пожалуйста, живёт станок, работает как новый.
Затем мне показали какие-то схемы, вычерченные рукой Бориса Николаевича, смазку для станка, изготовленную по его рецепту, шаблоны, сконструированные им. И ещё показали тетрадь, обыкновенную школьную тетрадь, где на первой странице было, написано: «Метод Борткевича, Ленинград». На другой странице: «Метод Быкова, Москва». И далее советы профессора Богоявленского, замечания инженера Трунова, советы мастера Никитина...
Таким образом, уже можно было представить себе, какой он, этот Дуров, каков круг его интересов. И ещё больше захотелось мне Познакомиться с ним. Узнав, что он живёт недалеко от завода, я отправился к нему в гости. Пришёл. Стучу. Открывает дверь невысокая полнотелая женщина в цветастом капоте и спрашивает:
— Вам, наверно, Борю? А его нету дома.
— Вот те на! А где же он?
Женщина улыбается несколько застенчиво, но отвечает так, словно все обязательно должны знать, где именно находится её Борис:
— Как где?... В родильном доме.
— Простите, а что он, собственно говоря, там делает?
Женщина улыбнулась ещё шире и ответила:
— Ну как что? Обыкновенно, пережинает...
Сразу стало понятно, по каким-таким неотложным семейным обстоятельствам у Бориса Николаевича Дурова оказался выходной день.
И вы знаете, что я сделал? Я тоже отправился в родильный дом «переживать»...
Именно там-то мы и познакомились со знаменитым новатором. Он нетерпеливо вышагивал по коридору, размахивая букетом цветов, как веником.
Познакомились мы на такой что ли общей почве: я сказал, что тоже жду...
— Кого, мальчика? Девочку? — оживился Дуров и, не дожидаясь ответа, доверительно сообщил:
— А у меня будет девочка.
Ну, я не стал, конечно, спорить с ним. Разговорились. Выяснил, что женат Борис Николаевич Дуров на своей Гале уже третий год, что познакомились они с ней в Свердловске, где он служил в армии, и что потом они долго не виделись, пока, наконец, не пришла телеграмма: «Приезжай, а то многие сватаются».
Дуров, конечно, очень испугался и побежал к директору завода. Тот тоже очень испугался, дал ему отпуск и велел немедленно ехать. «Впрочем, — сказал он, — лети-ка лучше самолётом, а то ещё не успеешь...» И вот Дуров вылетел самолётом и успел, понимаете, в самый раз...
Между прочим, Дуровы уже давно решили, что когда у них родится дочка, то они назовут её Надей.
— Надей, Надеждой. Во всех смыслах Надеждой, — пояснил Борис Николаевич.
В этот момент отворилась дверь и в коридор вышла пожилая женщина в белом халате. Она дружелюбно посмотрела на Дурова и сказала:
— Поздравляю вас, дорогой папаша, у вас...
— Девочка! — перебил её Борис Николаевич,
— Две!—торжественно объявила сестра.
Борис Николаевич растерянно переспросил:
— Что?
— Две, понимаете, две девочки.
На лбу Дурова выступили капельки пота. Он провёл дрожащей рукой по волосам ото лба к затылку, выронил букет и вдруг, схватив медсестру в объятия, закружил её по коридору.
...На следующей неделе Галина Александровна Дурова вернулась с младенцами домой и меня пригласили в гости. За столом собрались лучшие друзья. Искрилось рубиновое вино в бокалах, были, конечно, речи, поздравления, и кто-то из присутствующих, кажется, всё тот же рыжеватый молодой паренёк — сменщик Дурова, — даже прочёл свои стихи:
Наше небо ясной чистоты, Звёзды, звёзды и цветы, цветы. Часть государства здесь, любовь моя, И словно крепость каждая семья.
В этот вечер Дуровым преподнесли много подарков. Тут были, конечно, и традиционные конверты для новорождённых, и разно' цветные погремушки, и книжки с картинками, так сказать, про запас, на вырост. Ну и я тоже преподнёс Дуровым свой небольшой подарок: я записал на плёнку и подарил родителям на память плач близнецов, первый диалог новорождённых...
Борис Николаевич был очень взволнован и растроган этим подарком, но озабоченно спросил:
— А что же я с этой штукой делать-то буду? У меня ведь такого аппарата, как у вас, нет.
Потом он вышел в соседнюю комнату, вернулся оттуда с блокнотом, долго что-то чертил, осматривал аппаратуру и, наконец, сказал:
— Ладно. Такую машину я и сам сделаю по вашей схеме...
Но, по-моему, самый красивый и самый трогательный подарок Дуровым преподнесли друзья по заводу. В разгар торжества в комнату внесли огромную корзину цветов, укутанную в бумагу. Когда её водрузили на стол и раскрыли, оттуда из-под ярко-красных тюльпанов вылетел белоснежный голубь...
Все повскакали с мест, зашумели, потом вдруг наступила тишина и было только слышно, как парящий над праздничным столом голубь шелестит крыльями. Он полетал немного, присел к изголовью колыбели младенцев, опять взлетел и опустился на плечо Дурова. Борис Николаевич взял птицу в руки, нежно со погладил и вышел из комнаты. Все прошли за ним. На крыльце Дуров выпустил птицу на волю...
— Хорошая птица, — сказал он, глядя вслед улетавшему голубю: — Пусть летит, пусть поест счастье и мир людям...
...Долго, ещё почти месяц, ходил я по сарапульским улицам, стучался в двери белых, окружённых зеленью домиков, осматривал мичуринские яблоневые сады, встречал и провожал перекликавшиеся гудками пароходы па Каме...
Мои «исследования» закончились неожиданно для меня самого. Однажды позвонил по телефону старый писатель.
— Сегодня вечером, — сказал он, — я покажу вам живую Надежду Андреевну Дурову — настоящую девицу-кавалериста, штаб-ротмистра гусарского полка.
Это было как наваждение. Я решил, что старик разыгрывает меня, шутит...
Но вот наступил вечер, писатель заехал за мной на машине, долго вёз куда-то, а потом... потом передо мной действительно предстала сама Дурова.
Прямо на меня глядело молодое, с чуть вздёрнутым носом, румяное лицо с густыми тёмными бровями. Она была в синем гусарском ментике с меховой опушкой и в мягких лакированных сапогах со шпорами. Нежная женственная рука грациозно лежала на эфесе сабли.
Казалось, что это ожил портрет Дуровой из музея... И вдруг она заговорила — звонко, горячо:
— Я на воле и независима. Я взяла свободу, драгоценный дар, неотъемлемо принадлежащий каждому человеку...
Раздались аплодисменты, дружные, долгие...
Вы уже, наверное, догадались, что я присутствовал на спектакле... Да, писатель Пётр Иванович доставил меня в пригородный совхоз на самодеятельный спектакль. Роль Дуровой в пьесе, написанной участниками совхозного литературного кружка, исполняла зоотехник Надежда... Пучкова.
В зале сидели доярки, конюхи, агрономы, птичницы, полеводы. Взоры всех были устремлены на освещённую зеленоватым светом соффитов сцепу, откуда доносился звонкий высокий голос:
— О Родина, земля отцов и дедов, Клянёмся перед алтарём твоим: Сынов отечества великие победы — Свободу, честь и славу — отстоим...
И, может быть, именно в этих строках я и услышал как бы символическое завершение моих поисков, моего стремления узнать, о чём думают, чем живут и о чём мечтают простые, мирные советские люди в одном из многочисленных маленьких городков нашей великой Родины...
==СЛЕПАЯ ДЕВУШКА==
В погожий, светлый июльский день я сел в поезд, отправлявшийся из Москвы в Одессу.
Моими спутниками по купе оказались два молодых человека, разговаривавших на каком-то совершенно незнакомом мне языке, и невысокая светловолосая милая девушка в тёмных роговых очках. Девушка была слепа...
Её бережно ввела в купе и усадила на нижнюю полку подруга. Как уже потом выяснилось, они когда-то вместе работали. Девушки о чём-то своём заговорили, а мы, мужчины, не желая им мешать, вышли в коридор покурить. И вдруг один из моих спутников сказал, плохо выговаривая русские слова:
— Как это тяжко думать, товарищ: такая молодость, и такой темнота в глазах...
А его приятель довольно бойко заметил:
— И какая очаровательная девушка...
В этот момент дверь купе отворилась и в коридор вышла её подруга. Она очень долго и внимательно нас разглядывала, а потом решительно и даже несколько резковато сказала:
— А что вы здесь стоите? Вы бы лучше пошли поговорили с Катюшей. А то ей там скучно одной...
И тут же она рассказала нам короткую и очень грустную историю Екатерины Арсеничевой. :
Год назад, когда Катя работала в Москве на стройке высотного здания, с ней случилось большое несчастье: оборвался трос, и на голову девушки опрокинулся чаи с негашёной известью. Катюша ослепла. Её положили в больницу. Оперировали лучшие московские специалисты, хирурги-глазники. Ей сделали шесть сложных операций. Но зрение Катюше вернуть не смогли...
Тогда девушки, товарищи по работе, повезли Екатерину Арсеничеву в Одессу, к знаменитому Филатову. Профессора на месте не оказалось. Катюшу приняли его ассистенты. Смотрели долго, внимательно и сказали: «Трудный случай, очень трудный. Но мы всё-таки подумаем. И если только что-нибудь можно будет сделать, мы вам сообщим».
И вот Катя Арсеничева снова едет в Одессу. У неё на руках вызов, направление в клинику. Врачи, видимо, решились ещё на одну операцию...
— Идите же, идите к ней, — заторопила нас её подруга. — И смотрите, не давайте ей скучать... 4
Так распорядившись, девушка попрощалась и побежала к выходу.
Поезд тронулся.
Когда мы вошли в купе, Катюша чуть подвинулась на своей нижней полке и сказала:
— Товарищи, ведь вы тоже, кажется, до Одессы едете? Присаживайтесь, будем знакомиться...
И знакомство состоялось. Наши спутники оказались молодыми иностранцами. Один из них, Софо Кличичи, студент четвёртого курса Московского института киноинженеров, направлялся на родину, на производственную практику. А его друг, молодой певец Менатор Джемали, только что окончил Московскую консерваторию и тоже держал путь домой.
Ну, а потом Катюша Арсеничева сама рассказала нам о себе. Она говорила негромко, но магнитофон запечатлел её печальные слова:
— Ничего я не вижу, темно, темно вокруг... — Она помолчала и потом, уже бодрее, добавила: — Вот еду в Одессу. Меня врачи вызвали, профессор Пучковская. Значит, можно надеяться...
...Катюша смолкла, задумалась о чём-то своём, а Менатор Джемали вдруг поднялся с места и, нервно скомкав папиросу, бросил её. Он вынул из чемодана гитару и, присев совсем близко к Катюше Арсеничевой, откинул назад свои пышные, вьющиеся волосы и сказал:
— А сейчас я для тебя спою...
Катя улыбнулась и потрогала рукой струну.
Джемали запел. Заглушая шум колёс, звучал в купе его сильный, приятный баритон...
Поезд мчался и останавливался. Были какие-то станции, полустанки, но молодой человек пел одну песню за другой. Протяжная русская мелодия сменялась весёлыми звуками народной словацкой частушки, задорной польки...
Катя слушала, затаив дыхание. Многие песни она просила повторить. Но больше всех ей, помню, понравилась народная песня о подснежнике, о молодом цветке, который тянется к жизни, к свету...
На полянках, на лужайках Я смотрю на все цветы, Но тебя нигде не вижу, Мой подснежник. Где же ты?
...Наш поезд подходил к Одессе. На вокзале Катюшу встречали. Мы распрощались и пожелали ей как можно легче перенести предстоящую операцию и как можно скорее увидеть солнечный свет. И Катюша ответила нам, вся засветившись в улыбке:
— Я надеюсь...
Расставались мы добрыми друзьями. Менатор Джемали вложил в руку Катюши свою фотокарточку и сказал:
— Верю, что будешь видеть, потому и дарю...
А я на том же основании записал Кате в тетрадку свой адрес.
...Прошли годы... Не раз за это время я мысленно возвращался к судьбе Екатерины Арсеничевой, не раз перелистывал блокнот, где был записан её московский адрес...
Но как-то неудобным казалось мне к ней обращаться. Я думал: а вдруг опять была неудача, и, может быть, я письмом своим причиню девушке лишнюю боль...
Но вот совсем недавно я сам получил письмо от Катюши Арсеничовой. Небольшой листок бумаги, и на нём такие замечательные слова:
«Дорогой товарищ! Я всё вижу...» И вскоре мы встретились. Я навестил Катю в Москве. Она живёт в уютной светлой комнате, в новом доме (кстати, этот дом она сама и строила).
— Здравствуйте! — сказал я, крепко пожимая Катюшины руки. — Узнаёте?
— Нет... — растерянно ответила девушка. Мне стало неловко за свой вопрос. Ведь при первой нашей встрече Катюша меня не видела. Откуда она могла меня знать? Но тут всё разъяснилось, и, конечно, ей было очень приятно встретить старого знакомого. Я поставил перед ней микрофон:
— Собираюсь написать о вас радиоочерк и хочу, чтобы вы сами сообщили всем о своей большой радости.
И вот звучит взволнованный Катюшин голос:
— Дорогие товарищи! Я всё вижу, вижу солнце, вижу цветы, нижу всё-всё вокруг...— А потом вдруг она смолкла. Микрофон смутил Катю...
Я очень просил её перебороть волнение и продолжить свой рассказ, но это ей не удавалось. И только когда микрофон был отодвинут и сторону, Катя чуть успокоилась и мы могли продолжить разговор.
Окапывается, все эти годы многие, очень многие люди боролись за то, чтобы Катя видела...
Двадцать операций в клиниках Москвы и Одессы было сделано Екатерине Арсеничевой лучшими врачами. Пересадка роговицы. Эта операция требует не только большого мастерства хирурга, но и необычайного терпения и даже мужества самого больного: ведь после каждой операции следуют недели абсолютного покоя, нельзя даже шевельнуть головой...
Но чего только не вытерпишь, если впереди надежда...
И Катя стойко переносила все испытания. Однако был момент — после пятнадцатой или шестнадцатой операции, когда девушка вдруг потеряла веру в благополучный исход.
«Всё равно бесполезно, — сказала она однажды профессору. — Не тратьте на меня время...»
— Ох, и попало же мне тогда! — вспоминает сейчас с улыбкой девушка. — Так на меня Надежда Александровна рассердилась...
А потом была ещё операция, ещё . и ещё...
Настойчивость советских врачей победила.
В глазах девушки блеснул свет. Катюша Арсеничева видит, и видит с каждым днём всё лучше и лучше.
Последние операции ей были сделаны в Одессе профессором Надеждой Александровной Пучковской. Когда Катя узнала, что радиопередачу о ней, может быть, будут слушать в Одессе, она сама попросила меня пододвинуть микрофон и включить аппарат на запись:
— Я обязательно хочу сказать Надежде Александровне несколько слов. Ведь она так много для меня сделала...
Заметно волнуясь, Катя поднялась с места и прерывающимся голосом сказала:
— Дорогая Надежда Александровна! Мне так много хочется вам сказать. Но мысли у меня разбегаются. Я о вас очень много думаю. Ведь вы мне самый близкий человек, как родная мать. Да, именно как родная мать. Ведь вы вернули мне жизнь, дали мне свет, дали мне радость видеть. Спасибо вам большое, Надежда Александровна. Я надеюсь, что скоро с вами встречусь и смогу вас крепко обнять и поцеловать...
Ну, а потом, разумеется, разговор зашёл о нашем друге Менаторе Джемали. Тут Катюша оживилась, даже чуть раскраснелась:
— Мы ведь были так мало знакомы, а как он ко мне душевно отнёсся и какие прекрасные песни пел...
Катя улыбнулась вдруг широко и ясно я снова приблизилась к микрофону:
— Менатор! Дорогой Менатор! Я шлю вам самый большой привет. Это говорит Катя Арсеничева, помните меня?..
— А ведь Джемали вам ответит сейчас, Катюша, — сказал я.
Девушка недоверчиво улыбнулась.
— Нет, серьёзно. Вот слушайте.
И тут я включил плёнку, на которой был действительно записан голос Джемали. Я ему заранее сообщил о том, какие счастливые перемены произошли в жизни Кати Арсеничевой, и он прислал небольшой рулон магнитной плёнки.
Катя, прижав руки к груди, затаив дыхание, слушала голос далёкого друга. А он звучал горячо и взволнованно, как-то особенно громко, заполняя собой небольшую комнатку:
— Катя! Я всё знаю. Я так рад за вас... И, словно отвечая на только что заданный
девушкой вопрос, Джемали, старательно выговаривая русские слова, произносит:
— Я помню вас, милая Катюша, и очень часто о вас думал все эти годы. Примите же от меня самый большой привет, пожелания счастья и ещё — песню, ту самую песню, которая, помните, так понравилась вам в поезде на пути в Одессу...
И мы снова услышали бархатный баритон Джемали. В комнате Катюши Арсеничевой
в Москве прозвучала песня из далёкой страны о подснежнике, о молодом цветке:
На полянках, на лужайках Я смотрю на все цветы, Но тебя нигде не вижу, Мой подснежник. Где же ты?
Катя Арсеничева прозрела. Но перед ней возник не только яркий свет солнца. Она увидела больше, чем можно увидеть просто глазами. Она увидела красоту души, величие и чистоту сердец окружающих её простых, хороших людей...
==РАЗГОВОР С ДУШАМ==
Всё началось с письма. Оно было лаконичным, как телеграмма:
«Приглашаем на разговор по душам». И подпись: «Ш.Ч.К.»
Сознаюсь, что это письмо очень заинтриговало меня. «Что это значит? Кто это писал?» Я снова прочитал и снова ничего не понял...
На конверте внизу был адрес отправителя... К моей досаде, весь следующий день оказался занят неотложными делами, и только на другое утро смог отправиться по указанному адресу. Кстати, поймал себя на том, что всю дорогу напеваю какой-то бравурный мотив со странным словом «ШЧК... ШЧК... ШЧК...»
Только отыскав нужный дом, я понял, что письмо это отправлено из школы.
Войдя в просторный вестибюль, я увидел паренька с красной повязкой на рукаве.
— Как мне найти ШЧК? — неуверенно спросил я его.
— ШЧК сейчас учится, — ответил дежурный. — Это после уроков.
— Скажи, пожалуйста, а что это всё-таки такое? — стараясь не выдать смущения, спросил я.
— Что «это»? —не понял паренёк.
— Так вот это — ШЧК?
Мальчик посмотрел на меня так, как будто я спросил его, что такое «школа»...
— Очень просто, — удивлённо ответил он: — Школьный читательский клуб. Старшие школьники встречаются там с интересными людьми, обсуждают новые книги и, наконец, просто спорят по разным вопросам. Вот вчера, например, у нас был разговор по душам...
— А если не секрет, о чём же разговаривали? — не утерпел я.
— На самые разнообразные темы. Например: «Какие качества должен иметь человек для приобретения друга?», или: «Что такое «стиляга»?»
Мальчик подумал, вспоминая, и добавил:
— Да, вот ещё такой вопрос был: «Что
такое чувство любви и как с ним бороться в
нашем возрасте пятнадцати-шестнадцати
лет?»
— Ну, и что же решили? — всё больше заинтересовываясь, спросил я.
— Разное. Спорили до хрипоты, даже расходиться не хотели...
Раздался неумолимый школьный звонок, и дежурный, бросив мне на ходу: «Простите», — исчез.
...Опоздал на сутки! Было очень обидно... Но тут моё внимание привлёк плакат: «В ближайшую пятницу продолжаем разговор но душам. Ждём старшеклассников
Ровно в три».
Я обрадованно вздохнул. Значит, ещё не всё потеряно. И в пятницу за час до начала мы со звукооператором были в читальном зале школьной библиотеки.
Здесь нас встретил председатель правления ШЧК, высокий светловолосый юноша, и познакомил нас с двумя Валями. Одна из них была организатором разговора по душам, а другая — комсоргом десятого класса.
До начала встречи нам показали устав клуба, из которого явствовало, что это организация любителей книги, работающая при библиотеке, подотчётная комитету комсомола, и что члены клуба стремятся к тому, чтобы их «традиционные пятницы» были «хорошие и разные».
Нам показали также «Альманах» — орган клуба, выпущенный в подарок съезду партии, вспомнили о встречах с писателями и делегацией китайских учителей, об интересной беседе с советскими военными моряками, побывавшими в Англии...
...Ровно в три часа председатель этой «пятницы» заняла место в президиуме рядом с уважаемым старым ленинградским писателем, приглашённым на заседание клуба, а мы включили наш аппарат звукозаписи...
— Сегодня мы продолжаем нашу читательскую «пятницу» — разговор по душам,— объявила председатель — светловолосая девушка с длинными косами.
Вопрос, по которому прежде всего возникли прения, был сформулирован так: «Что хорошего дало совместное обучение мальчиков и девочек?»
Сперва наступила тишина. По сосредоточенным лицам школьников было заметно, что они в затруднении... Как всегда в таких случаях бывает, никто не решался говорить первым.
Но вот послышался шумок и, подталкиваемая подругами, поднялась высокая девушка с серьёзными глазами.
— По-моему, вообще сделали правильно, — неторопливо, словно взвешивая каждое слово, начала она. — Потому что девочки оказывают на мальчиков очень благотворное влияние.
Мужская часть зала неодобрительно загудела...
Девушка спокойно выдержала паузу и, когда наступила тишина, добавила:
— Да, я это утверждаю.
Тут порывисто вскочил коренастый юноша и темпераментно выкрикнул:
— Это ещё вопрос, кто на кого влияет. Но сам факт совместного обучения, безусловно, положителен. Я вам скажу про себя. Раньше я от девочек бегал, как чёрт от ладана... Общий смех чуть смутил парня:
— Ну, в общем, вы меня понимаете...
Он что-то ещё хотел добавить, но, видимо, не решившись, махнул рукой...
Выступавших по этому вопросу было много, но особых разногласий он не вызвал, потому что сама жизнь, собственно, его уже разрешила. Трудно было, пожалуй, только установить — кто же на кого влияет. Но в итоге, кажется, пришли к разумному выводу, что влияние обоюдное, и оставшихся при особом, так сказать, мнении не оказалось.
Страсти разгорелись несколько позднее, когда председательствующая объявила:
— Обсуждаем следующий вопрос: «Будет ли ревность при коммунизме?»
Тут паузы не было. Вскочили сразу несколько человек и вместе заговорили. С трудом удалось навести относительный порядок.
Вихрастый подросток лет пятнадцати категорически заявил:
— По-моему, этого не будет. Надо искоренить пережитки капитализма в нашем сознании.
— А что — любовь, по-твоему, это пережиток капитализма? — срывающимся голосом крикнул кто-то позади.
Оглушительный смех прокатился по классу.
— Нет, — жестикулируя, горячо возразил юноша. — Не любовь, а ревность — пережиток капитализма...
— А я нисколечко не согласна, — звонко перебила оратора покрасневшая восьмиклассница. — Я не помню, кто это сказал, но это сказано очень хорошо: «Ревность — это тень любви». Моё мнение такое: если ты любишь человека, то тебе, конечно, будет неприятно, если он кому-нибудь будет оказывать внимание больше, чем тебе. И это вовсе не зависит от времени и общественного строя. Так будет и при коммунизме... И ревность и любовь. В такой же мере, как и сейчас. Только отношения между людьми будут ещё более возвышенными и чистыми.
Желающих выступить в защиту этого тезиса было так много, что ведущая диспут девушка едва сумела навести порядок...
— Слово имеет Коля, — объявила она, когда, наконец, аудитория несколько утихомирилась.
Коля — толстый бритоголовый юноша — произнёс неожиданным фальцетом:
— А вот такой простой пример. Все хорошо знают своих папу и маму. Ведь родители не ревнуют друг к другу или что-нибудь там такое...
Что он говорил дальше, не было слышно из-за сплошного гула:
— Ого-го-го!
— Ну и сказал!
— Вот так так...
— Там уже отношения выяснены раз и на всю жизнь!
Услышав эту реплику, Коля встрепенулся:
— А большая любовь — это не на всю жизнь?
Его поддержала шустрая черноволосая девушка:
— Если любовь настоящая и обоюдная, то не может быть и ревности. А если она такая. .
— Непостоянная... — подсказал кто-то.
— Нет, не то что непостоянная...
— Перелётная... — помог кто-то другой.
— Нет, не обязательно даже перелётная, а просто...
— Ну, переменная, — не выдержала ведущая собрание.
— Нет, не обязательно даже переменная, а просто не сильная. Вот тогда и возникает ревность...
Конечно, не со всеми утверждениями, которые были высказаны на этом диспуте, можно было согласиться. Очень много было спорных суждений, немало и ошибочных, но, мне кажется, что этот необычный разговор хорош тем, что сами ребята его начали.
Они не стеснялись выносить на широкое обсуждение вопросы, волнующие их, но о которых почему-то не принято говорить во всеуслышание.
Между тем, очень важно, чтобы ребята
Не прятали свои мысли, а высказывали их честно и чисто, не стесняясь, не боясь ошибиться...
А прямое дело взрослых — помочь им разобраться в сложных жизненных вопросах, так, кстати, мягко и тактично, как это сделал, заключая разговор по душам, старый писатель Илья Яковлевич Бражнин, приглашённый на этот своеобразный диспут.
Он обвёл добрым, умным взглядом сидевшую перед ним юность и неторопливо, негромко сказал:
— Я не очень большой сторонник тщательных и скрупулёзных анализов вопросов о любви. Я думаю, что когда есть любовь, то нет вопросов, а когда появляются вопросы, тогда уже нет любви...
Знаю ли я что-нибудь такое о любви, чего не знаете вы? Вероятно, знаю.
Собираюсь ли я сообщить вам об этом? Вероятно, нет.
Почему? Вот бывает, сидишь в кино с друзьями, уже видевшими данную картину, и всё время рядом слышишь: «Вот сейчас будет самое интересное. Вот сейчас он свалится с лошади, сейчас герой и героиня поцелуются... Вот увидите». И уже картину смотреть неинтересно.
Я очень боюсь такой роли и поэтому не буду говорить о том, что вам, вероятно, самим придётся испытать...
Я думаю, ещё и потому этого не следует делать, что есть вещи, которые нельзя поручать другим. Если вы поручите научиться кататься на велосипеде соседу, а потом сядете в седло, вы же упадёте? Надо самому учиться преодолевать препятствия, самому всё видеть и испытать. И тогда научитесь жить и любить...
Поэтому я не буду говорить о том, что я знаю о любви, не буду говорить о том, какой она должна быть. Но я вам скажу, чего не должно быть в любви. Есть у меня на этот счёт очень глубокие убеждения...
Не должно быть лжи в человеческих, настоящих отношениях людей, которые любят друг друга...
В тридцатом томе сочинений Горького опубликованы письма Алексея Максимовича. Это чудная книга, богатая мыслями, книга, где раскрывается чистая душа Горького. Вот там в одном из писем к Макаренко Горький говорит: «Какое у вас хорошее сердце, как оно умело любит и ненавидит...»
Вот видите, и любить и ненавидеть надо уметь. Надо уметь распознавать и в любви, что скверно и что хорошо. Без этого любовь будет мямлей и не будет чувством большим и подлинным.
Вообще ведь любовь у людей — она такой величины, какой величины у человека жизнь. Если у тебя большая жизнь или ты стремишься к ней, у тебя и любовь будет большая. Если у тебя маленькая, мелкая, себялюбивая жизнишка, то и любовишка у тебя будет такая же... мелкая...
Поэтому, прежде чем думать о любви, делай жизнь. Я не буду говорить о ревности, я предпочитаю сказать о дружбе. Любви должна сопутствовать дружба. Я думаю, что они из одного корня растут, — и любовь, и дружба. Но у них есть и сходство и различие. Иногда они существуют вместе, иногда отдельно. Скажем, дружба может быть без любви, а любовь подлинная без дружбы не может существовать. Л там, где будет полнокровное чувство, конечно, взаимное, замешанное па крепкой дружбе, там не будет и ревности, Так я думаю. Почему один человек имеет друзей, а у другого их нет совсем?
Вот есть такая пословица венгерская: «Хочешь иметь друга — будь другом». Очень просто ведь, а как мудро. Потому что прежде чем чего-то требовать по закону дружбы, дай то, что ты требуешь, сам, то есть будь другом. Это же относится и к любви. Быть сердечно щедрым, давать больше, чем получать, это и в дружбе и в любви первый закон.
Ну, вот и всё...
Но это было далеко ещё не всё... Молодёжь окружила Илью Яковлевича тесным кольцом, и долго ещё продолжалась их беседа.
...Разговор по душам, с разрешения членов ШЧК, передавался в эфир. Он вызвал огромный интерес у старшеклассников, да и не только у них...
Я долго раздумывал над услышанным. Тема, может быть, и не очень значительна, но ведь как редко нам, взрослым, удаётся узнать, о чём говорят между собой дети, когда отсутствует бдительное родительское око...
Обратите внимание: когда кто-нибудь из старших подходит к группе ребят, горячо спорящих о чём-то своём, чаще всего разговор обрывается на полуслове... Не потому ли это случается, что дети не доверяют нам своих тайн, считают, что взрослые или совсем не поймут их или поймут превратно, а в общем кончится всё, так или иначе, нравоучением.
И разве в этом нет доли истины? Разве редко, задав взрослым вопрос, подросток слышит: «Это тебе ещё рано знать...»
А между тем человеку в пятнадцать лет, да даже и в двенадцать, совсем не рано помочь разобраться в том, что его волнует, тревожит, интересует...
==РАДИОПОДАРОК==
Сотни писем, самых разнообразных по содержанию, приходят на радио. Тут и отзывы на передачи: одни очень ругают, другие эти же передачи очень хвалят. В одних конвертах цельте критические статьи, требующие специального изучения, в иных — детские большие каракули: «Дорогая товарищ редакция...» и далее сообщение о первых пятёрках перемежается с картинками из жизни, старательно выведенными ребячьей рукой.
Можно найти здесь и заявку на концерт, и просьбу, иногда почти требование «немедленно прочесть по радио прилагаемые стихи».
Разные бывают письма...
И вот одно из них:
«Уважаемые товарищи, обращаюсь к вам по личному поводу. Послезавтра, 26 января, исполняется 50 лет, как мы с Пелагеей Филипповной сочетались законным браком. На наше семейное торжество соберутся и дети, и внуки... И вот я прошу в этот вечер сыграть для нас по радио задушевную хорошую песню, а мы с благодарностью будем слушать». И подпись: «Андрей Ишанин».
Мы несколько раз перечитывали это письмо. Оно нас растрогало. И, конечно, было очень приятно выполнить просьбу «молодожёнов». Мы стали думать о том, что же именно для них исполнить. Прямого указания в письмо не было, а песен задушевных, русских, хороших очень много.
И неожиданно возникла такая мысль: «А что, если самим поехать на это торжество?» Правда, нас не приглашали, но не так уж часто в городе происходят столь знаменательные события.
...В тот момент, когда гости уже собрались, и юбиляры, почтенные Пелагея Филипповна и Андрей Миронович, держась за руки, сидели смущённые на почётном месте и принимали поздравления и подарки от многочисленной родни, появился ещё один гость — радиокорреспондент. И хотя он пришёл непрощеным, но был принят сердечно, с настоящим русским гостеприимством. К всеобщему удивлению, новоприбывший, потеснив вино и бокалы, отодвинув в сторону блюдо с салатом и селёдочницу, установил на столе небольшой металлический цилиндрик:
— Это, как видите, микрофон. Прошу у виновников торжества небольшое интервью.
— Чего, чего вы просите, милый? — переспросила Пелагея Филипповна.
— Хочу с вами поговорить, — объяснил я. — С вами и с мужем.
Они покорно уселись перед микрофоном.
Андрей Миронович Ишанин, коренастый, ладно скроенный старик с седыми усами и бородкой клинышком, большую часть своей жизни провёл на воде — тридцать лет водил суда по реке Свири. А теперь он — вахтёр на Кировском заводе. Должность, правда, менее ответственная, чем на флоте, но справляет он её, как сам говорит, с лоцманской точностью и аккуратностью.
Его жена Пелагея Филипповна — простая добрая женщина, мать четверых детей, уже поднятых на ноги и выведенных на широкую дорогу.
Наша «пресс-конференция» прошла в обстановке искренней теплоты и сердечности. Было задано много вопросов и получены на них исчерпывающие ответы. Конец беседы даю но стенограмме:
Корреспондент. Прожито вместе пятьдесят лет. А как они прожиты?
Андрей Миронович. А мы дружно прожили. Сами видите, если до сих пор вместе и уважаем друг друга и... (Пауза) любим.
В комнате всеобщее оживление.
Корреспондент. Ну, а разве не случалось, чтобы жена вас иногда немного «попилила», как мы, мужчины, говорим?
Андрей Миронович. Как же, случалось. Вот иной раз придёшь «не совсем в порядке», и посерчает моя Филипповна... Бывало..,
Пелагея Филипповна. Всякое бывало...
Интервью было прервано выстрелом пробки шампанского.
— Горько! Горько! — озорно крикнул кто-то из гостей.
— Горько! — подхватили все, и бокалы с шампанским потянулись к «молодожёнам».
Они поднялись, по русскому обычаю раскланялись во все стороны, постояли чуть растерянные, ну и расцеловались под всеобщее одобрение.
Начались тосты.
Каждый старался выразить виновникам торжества свои лучшие чувства.
Речи произносились по кругу, и, когда очередь дошла до меня, я сказал, придвинув к себе микрофон:
— Уважаемые Пелагея Филипповна и Андрей Миронович! В письме, которое вы прислали нам и из которого мы узнали об этом семенном торжестве, вы просили исполнить
русскую песню. Но их так много, что мы решили приехать на ваш праздник, узнать, какие песни вы хотите услышать, и здесь же для вас их исполнить. Это наш маленький радиоподарок.
Тут я вышел в соседнюю комнату и пригласил уже ожидавших там исполнительницу русских песен Анну Михайловну Прокофьеву и баяниста Евгения Балашова... Артистов встретили шумно и радостно. Они .без конца пели по желанию супругов, и, право же, подарок наш оказался не хуже других.
==ДВЕ СКРИПКИ==
В жизни большого города каждый день случаются какие-нибудь события. Иногда они очень важны и представляют всеобщий интерес, а иногда на первый взгляд они и незначительны, незаметны... Так, например, вряд ли кто-нибудь из ленинградцев обратил внимание на круглолицего мальчугана, выскочившего из вагона дальнего поезда в один из августовских дней 1955 года. Едва выйдя на большую привокзальную площадь, малыш растерянно остановился, крепко ухватился за мамину руку и даже зажмурил глаза... Он приехал из далёкой кубанской степи, и Ленинград поначалу просто оглушил его...
Никто, конечно, не заметил этого мальчугана, однако вскоре же все о нём узнали. Он стоял в радиостудии у микрофона, вертел в руках игрушечный самолёт и деловито отвечал на наши вопросы.
Выяснилось, что Володе Устиновскому семь лет, что он трое суток ехал в поезде, не отрываясь от окна, и что отныне он будет жить в Ленинграде, так как приехал сюда по очень важному делу — учиться музыке.
Когда мы поинтересовались, каким музыкальным инструментом владеет наш собеседник, Володя незамедлительно показал маленькую детскую гармошку. На одной
стороне было девять клавиш, а на другой —
только четыре...
— Забавная игрушка, — улыбнулся я.
— Э... это не игрушка, а и...инструмент, — чуть заикаясь, сердито проговорил Володя. — Я на этой гармошке двести вещей могу исполнить...
Видимо, взгляд мой выражал явное недоверие, потому что малыш отошёл в другой конец комнаты, порылся в портфеле и вытащил оттуда объёмистую тетрадь. Раскрыв, он протянул её мне:
— Вот, пожалуйста...
В тетради, действительно, были перечислены двести различных пьес, песенок и вальсов. Я назвал несколько из них, и Володя тут же очень точно сыграл каждую мелодию. Он исполнял и «Яблочко», и польку, и казачок, и вальс «Дунайские волны»... Он собирался, кажется, продемонстрировать весь свой репертуар, чтобы рассеять моё сомнение, но тут, к сожалению, истекло время передачи, и нам пришлось распрощаться.
...Прошло несколько лет. Как-то недавно, просматривая старые документальные записи, я наткнулся на маленький рулон магнитной плёнки, который сохранил мой разговор с Володей Устиновским. Прослушав плёнку, я сразу, конечно, вспомнил своего чудесного беловолосого собеседника и заинтересовался его судьбой.
Разыскать мальчика оказалось нетрудно. Он был принят в школу-десятилетку при Ленинградской государственной консерватории.
Я решил навестить своего «старого» знакомого и зашёл в школу, где мне сообщили, что Володя занимается по классу скрипки, делает успехи и подаёт большие надежды.
...В большой светлой комнате у рояля сидела пожилая женщина и играла «арпеджио» — упражнение, а юный скрипач старательно вёл свою партию. Впрочем, педагог его часто останавливала и заставляла повторять отдельные музыкальные фразы. Володя был ещё очень маленького роста, и скрипка у него была крошечная, но пальцы музыканта уверенно бегали по струнам. Вид у скрипача был очень серьёзный и сосредоточь......111.
Наконец преподаватель Татьяна Исаковна сказала:
— Передохни, Володя.
Мальчик меня сразу узнал, и мы разговорились, как добрые приятели.
Я теперь уже на три года старше стал, — сообщил Володя, — и играю на скрипке.
А гармошку свою забросил? Оказалось, что Володя бережно хранит маленькую гармонь, и не только хранит...
— Вот приду домой после занятий и поиграю на ней. Это мне очень приятно.
Мальчик говорил о том, что занятия в музыкальной школе весьма серьёзны, требуют много усидчивости, старания, что помимо этого надо успеть и задачки по арифметике решить, и грамматические правила выучить, и немецкий стишок запомнить. А потом опять за скрипку. Обязательно каждый день два часа домашних занятий...
Володя глянул за окно и тяжело вздохнул. Я его понял: ведь так мало времени остаётся на то, чтобы побегать по двору, погулять...
Преподавательница опять подошла к роялю, а Володя взял свою скрипку. Урок продолжался...
Когда я смотрел на этого мальчика, а потом, расставшись с ним, думал о его будущем, мне невольно вспомнилась другая встреча и другая скрипка...
...Это произошло далеко от Ленинграда, у Чёрного моря, в городе Измаиле.
Мне довелось как-то побывать в этом чудесном южном городе. Особенно хорош там Суворовский проспект — главная измаильская улица. Она чуть не в два рала длиннее нашего Невского, прямая, как стрела, и вся под навесом стройных кипарисов.
И вот как-то, прогуливаясь по этой самой главной улице, я споткнулся, и при этом у меня с ботинка отлетел каблук. Что делать? Я оглянулся. Прямо передо мной оказалась дверь, а на ней надпись: «Горпромтрест. Сапожная мастерская».
Вошёл. Небольшая, опрятная., видимо недавно отремонтированная, комнатушка... В центре её за просторным верстаком сидел молодой человек с хорошим, открытым лицом и густой иссиня-черпой шевелюрой. Он стучал молотком по натянутому на колодку ботинку и на моё «здравствуйте» произнёс что-то вроде «угу», но тут же, вынув изо рта несколько небольших гвоздичков, ответил на приветствие.
— Вот, неприятность произошла, выручайте, — сказал я, показывая сапожнику на оторванный каблук.
Не говоря ни слова, мастер отложил свою работу и принялся за мой ботинок. Я пытался заговорить с ним, но собеседник оказался неразговорчивым. Бывает так... Всё-таки удалось выяснить, что фамилия сапожника Завальнюк, что зовут его Дорофей Фёдорович, что «точка» у него маленькая, а план довольно большой. Работы, правда, много, но больше всего мелкий ремонт, хотя случается и новые сапоги тачать...
Оглянувшись, я заметил на подоконнике раскрытого окна скрипку.
— Вы что, скрипки тоже ремонтируете?
— Нет, — ответил он, впервые улыбнувшись...
И тут выяснилось, что в Измаиле есть музыкальная школа, где сапожник Завальнюк учится по вечерам играть на скрипке.
В этот вечер занятий в школе не было, и я попал туда только на следующий день.
Когда я зашёл в просторное двухэтажное здание, то сразу же оказался в мире звуков. Где-то играли на баяне, из соседней комнаты неслись мягкие аккорды рояля, а из класса рядом раздавалось нежное пиликанье флейты.
Музыкальная школа работает в две смены. Днём её классы заполняют дети, а по вечерам здесь получает музыкальное образование более ста человек взрослых.
— Где же занимается Дорофей Завальнюк? — спросил я у какой-то молодой женщины.
— Вот здесь. — Она указала на соседнюю дверь.
Я взял микрофон и вошёл в класс. Но решил, что ошибся дверью, потому что здесь кто-то пел. Однако, вглядевшись в лицо певца, я узнал своего вчерашнего собеседника.
— Простите, Дорофей Фёдорович, да вы же сказали, что учитесь играть на скрипке.
— Совершенно верно, — нимало не смущаясь, заметил мой новый знакомый. — Вот сейчас у меня закончился урок по вокалу, а теперь в другой аудитории будет урок по классу скрипки...
И я услышал, как Дорофей Завальнюк играет на скрипке. Его большие рабочие руки ловко бегали по струнам, заполняя большую, светлую комнату чарующими звуками полонеза.
Когда занятия окончились, продолжился наш разговор. Сапожник Завальнюк сообщил о своих дальнейших планах.
Ему уже за тридцать, по он решил обязательно получить музыкальное образование. Правда, эти занятия приходится совмещать с учёбой в вечерней школе, так как общее образование тоже необходимо завершить...
— Позвольте, позвольте, — изумлённо перебил я Дорофея Фёдоровича. — Но как же вы успеваете и работать, и учиться петь, заниматься по классу скрипки, да ещё и в вечерней школе?..
— Трудновато, конечно, — улыбнулся
Завальнюк.— Но ничего не поделаешь. Своего добьюсь обязательно. И работать, конечно, тоже не брошу, так как очень люблю свою профессию. Кстати, если вам ещё когда-нибудь понадобится починить ботинок, милости просим, заходите.
Конечно, если мне случится снова побывать в Измаиле, я обязательно разыщу Дорофея Фёдоровича.
Но не в этом дело.
Несмотря на большую разницу в годах, есть что-то общее в судьбах двух музыкантов: мальчика из кубанских степей и сапожника из Измаила.
Это общее заключается в широчайших творческих возможностях, которые предоставляет наша страна своим гражданам, в многообразия их духовных запросов.
Может случиться, что из Володи Устиновского и не выйдет большого музыканта. Может быть, закончив музыкальную школу-десятилетку, он изберёт себе другую профессию и станет, скажем, инженером. Возможно.
Может быть, и Дорофей Завальнюк не оставит своего ремесла и не сделается профессиональным музыкантом. Может быть...
Но главное в том, что и Володе Устиновскому, и Дорофею Завальнюку музыка всегда будет помогать жить, работать, отдыхать. Мало того, они будут доставлять своей музыкой радость другим. Вот это самое важное...
И чем ближе мы подходим к нашему большому светлому завтрашнему дню, тем всё больше и больше появляется у нас людей с такими широкими духовными запросами.
Я невольно всегда сопоставляю судьбу маленького скрипача Володи Устиновского с судьбой сапожника Дорофея Завальнюка. Эти два скрипичных голоса, так же как и два человеческих голоса — взрослого и мальчика — соединены в моей скромной фонотеке вместе. Я тщательно берегу обе записи. Кто знает, может быть, судьба нас опять сведёт, и мы ещё встретимся...
==ЗВЕЗДА ЭКРАНА==
Как-то пришлось мне побывать в Казани и жить в гостинице. Номер по соседству занимала московская актриса, которую знают все по многим кинофильмам. Сюда она приехала с концертами. Очень скоро мы с ней познакомились, и благодаря ей же я узнал девушку, о которой сейчас пойдёт речь, Катю Медвянникову.
Помнится, моя соседка уже собиралась уезжать, и накануне отъезда вечером я зашёл к ней проститься. В большой комнате уютно горела настольная лампа, а вокруг стола сидели кроме хозяйки пять или шесть незнакомых мне девушек. Оказалось, что они со знаменитого Казанского механического завода, выполнявшего тогда заказы Ангарской гидроэлектростанции. Девушки пришли пригласить артистку в гости к рабочим.
— Я бы, конечно, с радостью побывала у вас, товарищи, но вот уезжаю... — и, улыбнувшись, повторила: — Понимаете, завтра уезжаю.
Но её всё-таки продолжали уговаривать:
— Завтра как раз новаторский четверг.
Вот Катя Медвянникова будет доклад делать.
Только сейчас я заметил, что возле окна, куда едва достигал свет лампы, приглушённый абажуром, в глубоком кресле расположилась ещё одна девушка. Большие чёрные глаза её внимательно и восхищённо глядели на артистку.
— Она у нас тоже хотела играть в кино,— не без гордости отрекомендовали Катю её подруги. — Мы её даже «звездой экрана» называем.
В первую минуту, когда Катя встала и приблизилась к свету, мне показалось, что она и артистка похожи друг на друга, хотя ничего общего в их внешности не было. Катя была высокая, смуглая, с чёрными, гладко зачёсанными на косой пробор волосами. Артистка же — чуть пониже, с золотистыми вьющимися волосами, собранными сзади в тяжёлый узел. У одной глаза тёмные, глубокие, у другой зелёные, как бы искрящиеся. Вероятно, сходство объяснялось так называемой «киногеничностью»: и то и другое лицо можно было легко представить себе снятым, как говорят кинематографисты, «крупным планом», во весь экран.
Артистка сказала Кате:
— У вас очень подходящие внешние данные для кино.
Как мы потом узнали, мечта сделаться киноартисткой родилась у Кати уже давно, с
детства. Семья Медвянниковых жила тогда на берегу Чёрного моря, в Феодосии, на родине художника Айвазовского. Отец Кати работал садовником при картинной галерее, а мать служила в яслях медицинской сестрой.
Впервые Катя Медвянникова призналась себе, что она хочет посвятить себя киноискусству в тот на всю жизнь запомнившийся номер, когда она вместе со школьными подругами посмотрела «Чапаева». Легендарная пулемётчица Лика чуть не решила её, Катину, судьбу. Ей думалось, что никогда не удастся стать такой же, как Айка, только вот разве и кино. И, пожалуй, сама того не замечая, Катя стала всё больше мечтать о нём, и не потому, что ощутила искорку артистического таланта, а от желания хотя бы на экране жить большой, смелой жизнью, почувствовать в себе железную волю, отвагу, стойкость. Буквально на каждом шагу она старалась подражать своей Анке. Подружки, родители и даже некоторые учителя, зная увлечение Кати, поддерживали в ней мысль, что у неё есть все данные стать хорошей киноартисткой и ей следует готовить себя к этому поприщу.
Однако всё изменила война. Сразу погас свет во всех окнах. Воцарилось печальное безмолвие в белых павильонах здравниц и санаториев. Опустели, притихли балконы, увитые лозами дикого винограда, тревожно выли по ночам сирены в порту.
Отец ушёл добровольцем на фронт. На прощанье, поцеловав Катю, сказал: «Ну, держись, Айка, и береги маму».
Вскоре вместе с матерью должна была уехать и Катя. В последний день она выбежала на берег, долго стояла у моря, глядела на него, будто впервые...
Потом — эвакуация. Затемнённые пароходы, притушенный свет маяков, толпы людей на дорогах, машины, повозки, гурты скота, поезда, бомбёжки и, наконец, — Казань. Душный август 1941 года... Шумные запылённые улицы, седые от пыли деревья, обомшелые стены кремля в неси и из всех радиорепродукторов:
Пусть ярость благородная вскипает, как полна, Идёт война народная, священная война.
Разумеется, многое я сегодня дорисовываю в своём воображении, потому что и тот осенний вечер к номере казанской гостиницы, рассказывая по нашей просьбе о себе, Катя старалась упомянуть только главное, наиболее существенное.
Навсегда запомнился день, когда пришло письмо от однополчан её отца, в котором сообщалось, что «старший сержант Медвянников погиб смертью храбрых». Катя, поплакав втихомолку, твёрдо решила поступить в ремесленное училище, желая поскорее встать рядом с матерью и своими руками помогать фронту. Рассказывала Катя и о том, как впервые, чувствуя себя ещё очень беспомощной, подошла к станку и как Володя Петушков — смешной, белобровый парень, не скинувший ещё шинель ремесленника, — трогательно приносил ей, Кате, раскалённые болванки, чтобы отогревать руки, замёрзшие в нетопленном цехе.
Девушка полюбила свою профессию, свой завод и почувствовала, что только здесь, у фрезерного станка, а совсем не в кино, сможет она воспитать в себе черты характера Чапаевской Анки.
После войны решено было не возвращаться в Крым. Катя поступила в вечерний техникум. Занятия помогли ей освоить одной из первых на заводе скоростное фрезерование. Её теперь уважают, ценят. Володя Петушков, сделавшийся мастером цеха, ставит её в пример. А вот завтра она будет даже выступать с докладом о своих методах.
— Я нисколько не жалею, что из меня не вышла, как говорят, «звезда экрана», — сказала Катя.
Артистка всё же не смогла быть на Катином выступлении и оставила ей свой московский адрес. С меня же взяла слово, что, вернувшись в Москву, я расскажу ей, как прошёл «новаторский четверг».
В назначенный час я с магнитофоном пришёл на завод.
Парторг Михаил Алексеевич Королёв, пожилой, болезненного вида человек, в пенсне, сквозь стёкла которого остро смотрели на собеседника небольшие серые глаза с чуть воспалёнными веками, горячо поддержал идею рассказать про Екатерину Медвянникову в специальном радиоочерке. Мы вместе отправились в техническую библиотеку, где должно было происходить собрание.
Когда Катя Медвянникова взошла на кафедру, нельзя было не заметить, что девушка с трудом' преодолевает волнение. Но как только она произнесла .первые слова, скованность исчезла. Словно все эти фрезы, о которых шла речь, названия деталей, сложные геометрические расчёты были тем рулём, за который твёрдо держалась Катя на всём протяжении своего рассказа.
— Узнав, что наш завод будет выполнять заказы новостроек, — говорила девушка, — мы, конечно, решили отдаться этой работе всей душой. В содружестве с инженером Гореловым мы добились...
На первой скамейке сидит грузный, уже немолодой человек и чуть приметно улыбается, запрокинув голову и полузакрыв глаза, как будто думает о чём-то своём или слушает музыку. Это и есть инженер Горелов.
Уже под конец своего выступления Катя обратилась в зал с такими словами:
— Товарищи, к сожалению, мы не всегда встречаем поддержку у наших технических руководителей. Вот сегодня опять отсутствует главный инженер товарищ Аршинником. Не не» душе ему, что ли, наши «новаторские четверги»?
И тот вечер я уносил с собой в магнитофонном ящике живой голос Катюши, мягкий, неторопливый, чуть растягивающий слова, но страстный, горячий, с той убеждённостью в интонации, какая бывает лишь у людей, искренне верящих в своё дело.
В другой раз я услышал этот же голос при несколько неожиданных обстоятельствах.
Я сидел как-то вечером в кабинете парторга, советовался с ним о будущем очерке, демонстрировал ему записанные на плёнку на подённо шумы, или, как их принято именовать, «фоны», для радиопередачи. Тут был и приглушённый рокот моторов, и погромыхивание вагонеток, и свистки локомобиля. Парторг, которому завод был, что называется, домом родным, слушал всё это с удовольствием. Как раз в эту минуту в комнату быстрыми тагами вошёл высокий плечистый мужчина, с крупными, не совсем правильными чертами лица и совершенно седым «ёжиком».
Он поздоровался на ходу и сказал:
— А ну-ка включи радио.
И тотчас мы услышали Катю. Она выступала перед заводским микрофоном.
— Допустимо ли, — требовательно говорила она, — допустимо ли, что два с лишним месяца главный инженер товарищ Аршинников просто-таки мариновал наше предложение?
Умные серые глаза парторга весело поблёскивали за стёклышками пенсне.
Главный инженер (а это был как раз он), всё ещё стоявший вопле репродуктора, недовольно заметил:
— Я понимаю — критика... По можно было как-то иначе. Можно было прийти, объясниться.
А Катя между тем продолжала. Теперь она уже перешла к неполадкам в цехе, к ошибкам Володи Петушкова:
— Напрасно думает товарищ Петушков, что если он мастер, то дли него и законы не писаны...
Парторг молчал, но взгляд его словно бы говорил главному инженеру: «Вот, брат, какие дела, а ты рыпаешься!»
Кончилась вся эта история и неожиданно и поучительно в лучшем смысле.
После передачи псе мы вышли па заводской двор. Было светло, как днём. Сияли фонари, и под крышами горячих цехов пылало багровое зарево. Миновав проходную, мы остановились, чтобы попрощаться.
— Постойте, — вдруг сказал парторг и положил руку на плечо главному инженеру. — Смотри!
Мы обернулись. У заводских ворот стояла Катя. На ней было изящное пёстрое платье, красиво облегавшее её стройную фигуру, и туфли па тонких высоких каблуках. Она, видимо, кого-то ждала. А по направлению к ней, выйдя, должно быть, через другую проходную, шагал невысокий светловолосый парень.
Встретившись, они посмотрели друг на друга, девушка о чём-то спросила его. Он помолчал, опустив голову. Потом Катя нежно взяла его под руку, и они медленно пошли к Волге.
— Вот уж действительно «невзирая на лица»! — весело воскликнул парторг и объяснил нам: — Это же и есть Володя Петушков, мастер, которого она сейчас пропесочила...
Когда работа над очерком о Кате Медвянниковой приближалась к концу, я почувствовал, что не хватает ещё каких-то красок, которые характеризовали бы мою героиню не только с производственной стороны.
Поговорите с любым советским человеком, — он обязательно или рыболов, или охотник, или стихи пишет, спортом увлекается, музыкой, шахматами. На заводе, о котором идёт рассказ, в большом почёте художественная самодеятельность. Здесь даже в анкете, в стандартном листке по учёту кадров, припечатывают на машинке вопрос: «Какими художественными склонностями вы обладаете?» И терпеливо раздувают «искру божью», о которой человек сам порой не догадывается. Вот Володе Петушкову, например, чуть ли не в порядке комсомольской дисциплины предложили играть в «Горе от ума» Чацкого. Конечно, трудно было. А теперь ничего, привык.
В соответствующей графе Катиной анкеты стояло: «Пою». Это была просто находка. Я договорился с Катей и принёс в клуб всю механизацию. Катя встретила меня возбуждённая, раскрасневшаяся и потащила за рукав:
— Пойдёмте, пойдёмте, мы уже начинаем.
— Позвольте, кто это «мы»?
— Как кто? — удивлённо переспрашивает Катя. — Хор...
— А у вас какой же голос?
— А никакого, — бросает на ходу Катя. — Я вместе с хором пою.
Потом она, постукивая каблучками, быстро взбежала на сцену и заняла своё место.
«Да, вместе с хором — вместе с народом», — подумал я, когда дирижёр взмахнул палочкой и под сводами огромного, залитого электрическим светом зала полилась песня:
Широка страна моя родная, Много и пой лесов, полей и рек...
...Я не уславливался, уезжая из Казани, встретиться с Катей Медвянниковой. Очерк был уже готов, озвучен.
Увидев в Москве знакомую киноартистку, я продемонстрировал ей свои записи. Она попросила на память дубликат плёнки. Я подарил ей, только спросив: «Зачем?» Она уклончиво ответила: «Тайна искусства». Казалось бы, всё. Но жизнь продолжила мой рассказ, дописала его.
Пришлось мне как-то летом зайти в гостиницу «Москва». Надо сказать, что ни в одной из наших столичных гостиниц так остро не чувствуется дыхание страны. Вот, чуть слышно ступая по паркету, проходит узбек в модном костюме и в тюбетейке, вот торопится куда-то казах с депутатским значком на лацкане пиджака, а вот не спеша приближается к лифту якутка с чёрными, блестящими, будто намазанными жиром, косичками.
Возле порога встречаются двое друзей, лица у них загорелые, обветренные, — должно быть, не москвичи. По каким делам: приехали эти люди? Откуда они? С Ангары? С Братской? Из Казахстана?
Стою, размышляю... А в это время сверху по широкой, устланной ковром лестнице, отражаясь во множестве зеркал, придерживая перекинутый через плечо белый пыльник, идёт Катя Медвянникова. Она протягивает мне сразу обе руки, и мы, шумно здороваясь, усаживаемся на диван.
Катя выглядит очень счастливой. Сегодня её радует всё. И то, что она приехала на совещание по вызову самого министра рассказывать о своём методе, и праздничное убранство гостиницы, и шум Москвы, и близость кремлёвских звёзд, и то, что завтра она отправится на строительство Ангарской ГЭС, той самой электростанции, для которой она вместе с Володей Петушковым, инженером Гореловым, друзьями и подругами по заводу отфрезеровала не одну сотню деталей,..
— Да, между прочим, — помолчав, сказала в заключение нашего разговора Катя. — Я была у нашей киноартистки. Помните её? Она меня расспрашивала обо всём. Очень интересовалась.
...И вскоре я опять услышал о ней, о нашей Кате.
В одном из журналов появилась статья уже знакомой киноартистки. Она писала, что готовит новую роль, создаёт образ простой советской девушки, что постарается в этом образе собрать черты многих встречавшихся ей современниц, и, в частности, упомянула Катю Медвянникову. Передав краткую биографию этой девушки, автор статьи в шутку заметила, что, дескать, теперь и она, Екатерина Медвянникова, становится своего рода «звездой экрана».
Прочтя эту статью, я представил себе Казань, многолюдные, шумные кварталы этого города, высокие дома, сады, откуда по вечерам слышна музыка, и передо мной снова возник образ Кати.
Я подумал: «Звезда экрана»! Воображение рисует обычно Голливуд, оглушительный рёв джаза, стрельбу, погоню и во весь экран — искажённое ужасом, размалёванное лицо кинокрасавицы. Но в этих же словах есть и другой смысл. Он лучше всего выражен слонами одного из героев горьковского романа «Мать», борца за человеческое счастье — Андрея Находки: „Будет время,— говорил он,— когда люди станут любоваться друг другом, когда каждый будет как звезда перед другим... Велики и прекрасны будут люди этой новой жизни"».
==У МИКРОФОНА САША==
Это началось неожиданно. В районное отделение связи на одно и то же имя стали поступать со всех концов страны десятки открыток и конвертов. И день ото дня их приходило всё больше и больше: двадцать, тридцать, шестьдесят, семьдесят писем в день...
Почта положительно сбилась с ног. Размеренный, привычный ритм его жизни был нарушен.
Работники недоумевали: «Что за новый житель появился вдруг на нашем участке, чем он знаменит и почему на его имя идёт такой поток писем?»
Больше всех были озадачены письмоносцы. Уж они-то знали местных жителей, тем более выдающихся...
Есть в данном районе и депутат Верховного Совета, и заслуженный врач, и знаменитый новатор... Много им пишут, но такого количества писем никогда не поступало.
Все они предназначались как будто одному человеку, но надписи на конвертах были самые неожиданные.
Старая сортировщица, которую, казалось, ничем уже не удивишь, и та была в недоумении.
Надев очки, она подолгу вертела в руках конверты-загадки и ворчала:
— Вот и разберись тут, кому это доставлять...
И действительно, трудно было разобраться, если на конверте написано: «Ленинград. Саше», а на другом: «Ленинград, кажется, Нарымский проспект. Саше», а на третьем: «Саше из Италии».
Тут старушка просто развела руками,
— А Италия-то здесь при чём? — в отчаянии простонала она.
Но, к счастью, стали приходить другие письма. Они помогли установить, что весь этот поток конвертов и открыток предназначен Саше Томази, живущему в Ленинграде на Нарымском проспекте, в доме №... Впрочем, точного адреса я уже не рискую назвать, потому что Саша и так завален письмами и не успевает на них отвечать.
«Почему же этому мальчику столько пишут?— спросите вы. — Кто он такой?»
Но, прежде чем вы узнаете о Саше, вам надо познакомиться с его мамой, как это сделал я, придя с магнитофоном в новый большой жилой дом у парка Победы.
Зоя Алексеевна Мензулова только совсем недавно, после многих лет скитаний, вернулась на родину. Она приехала не одна, а с мужем — итальянским рабочим Карлом Томази и с сыном Сашей, смуглым десятилетним пареньком, который, открыв мне дверь, озорно сверкнул -глазами, чёрными, как спелая вишня, и крикнул, несколько коверкая русские слова:
— Мамо, это, наверно, к тёпе дядя пришла...
...Мы сидели за столом в большой, светлой, скромно обставленной комнате, и Зоя Алексеевна рассказывала по радио о суровом пути, пройденном ею за эти годы.
Родилась Зоя в 1922 году в Ленинграде, кончила школу и готовилась стать преподавателем физкультуры. Казалось, ничто не могло омрачить ясной и радостной жизни советской девушки. Но всё изменила война.
...В этот солнечный, на редкость безоблачный день Зоя была на пляже у Петропавловской крепости. Там было очень много молодёжи.
Полуденное солнце щедро светило, ослепительно отражалось в куполах соборов и купалось в величественной глади Невы...
На душе было спокойно и радостно.
А в 11 часов весь город облетело страшное, грозное известие: «Война!»
Через несколько дней Зоя стала сандружинницей, потом сдала экзамен на медсестру... Прощание с матерью, отправка батальона на фронт и первый бой... Всё это как в страшном, кошмарном сне...
Зоя Алексеевна говорила так тихо, что я осторожно придвинул к ней микрофон.
— Когда меня ранили, — продолжала она всё так же тихо, — я сначала не почувствовала, а потом упала... На меня шли танки. А я не двигалась, решила — лучше попасть под танк, чем в их руки. Но они остановились почти в полуметре от меня. А потом... Меня повезли в Волосово на допрос...
Зоя Алексеевна взглянула на мужа и, увидя ого потемневшие глаза, в которых как бы отразилось её страдание, мягко улыбнулась:
— Я должна, Карло, дать отчёт моей Родине, моему народу, где я была и что делала и эти годы.
Она сказала это по-русски. Не знаю, понял ли Карло, или улыбка успокоила его, но глаза его вновь просветлели.
Зоя Алексеевна продолжала свой рассказ...
Как только девушка поправилась, гитлеровцы заставили её работать. Они пригнали Ною на авиационный завод... Но двадцатилетняя патриотка и в тылу у врага продолжала бороться за Родину. Во время сборки самолётов она незаметно сыпала песок в моторы. Машины быстро выходили из строя, терпели аварии.
На псе донесли... Схватили. Долгие месяцы тюремного заключения, пытки, голодовки, снова пытки. А потом девушку приговорили к казни. Она была брошена в мюн-(терскую тюрьму смертников.
Казалось, борьбе пришёл конец... Но в одну из бессонных мучительных ночей в тюрьму попала спасительная бомба. Стена камеры развалилась, и Зоя вместе с группой арестованных бежала... Судьба забросила её в Италию. Но и там были фашисты, и там надо было скрываться: жить на сеновалах, спать у костров, скитаться по чужой земле...
В этих скитаниях Зоя встретила Карло. Они подружились.
Карло Томази был итальянским рабочим, вернее, безработным. В те времена он был партизаном и тоже скрывался от фашистов.
Молодые люди полюбили друг друга и поженились, а вскоре у них появился черноглазый бомбино — Саша.
Когда кончилась война, они стали добиваться возвращения на родину, именно на родину, потому что и Карло Томази — рабочий, коммунист — тоже считал Советский Союз своей родиной.
Но прошло много лет настойчивых, упорных хлопот, прежде чем итальянское правительство выдало им паспорта.
И вот они в Ленинграде. Живут в новом доме, работают на обувной фабрике. Сын учится.
...Зоя Алексеевна встряхнула головой, будто сбрасывая с себя тяжесть прожитых лет...
Саша сидел, забившись в угол дивана, и внимательно слушал рассказ матери. За всё это время он не проронил ни слова, но его большие, умные глаза были полны печали...
Сашенька, иди ко мне!
Зоя Алексеевна протянула к сыну руки, и он мгновенно очутился у матери на коленях,, крепко обняв её.
И сразу просветлело лицо молодой женщины. Она прижала к себе сына и, погладив: по стриженой голове, сказала:
— Сейчас нам всем хорошо, а главно© ему — Саше. Ведь в Италии мы были часто безработными, и далеко не всегда я могла далее покормить его перед школой...
...Теперь Саша оказался тоже у микрофона. Мальчик понимает по-русски и довольно1 бойко говорит, но, правда, ещё не все слова правильно выговаривает, так что приходится: иногда его переспрашивать.
Выясняется, что он учится в школе, во втором классе, занимается охотно, что у него уже много друзей.
- А с кем ты сидишь, с хорошим мальчиком? — спрашиваю я и передвигаю микрофон, так как Саша, забыв о нём, отодвинулся в сторону.
— Один сижу, — коротко отвечает Саша.
— Почему же один?
— Потому — мальчик может мешать, а с девочкой сидеть плоховато... Некрасиво...
Заметив моё недоумение, Зоя Алексеевна объяснила, что в Италии рядом с девочкой
сажают только провинившихся мальчиков в виде наказания...
Сдерживая улыбку, я постарался объяснить Саше, что он теперь учится в советской школе, где мальчики и девочки одинаковы, и что у нас все хорошие мальчики сидят с девочками.
— Ты понял меня? — спросил я.
Саша что-то быстро сказал по-итальянски. Зоя Алексеевна от души рассмеялась и потом перевела:
— Он говорит, что завтра же попросит учителя посадить его рядом с красивой девочкой.
Саша отрицательно замахал рукой:
— Мама сказала неправильно. Я не сказал с красивой — это она сказала...
— Верно, Саша, ты сказал с хорошей, я ошиблась, — призналась Зоя Алексеевна.
Но Саша был неумолим. Моё внимание привлёк аккордеон, лежавший на диване:
— Кто же у вас в семье увлекается музыкой?
— Это моя, мой инструмент, — гордо заявил Саша.
— Он ещё в Италии начал играть, но потом пришлось бросить: у нас не было возможности платить за обучение, — пояснила Зоя Алексеевна.
— Ну, а теперь Саша начнёт серьёзно заниматься.
— Л как это сделать? — растерянно спросила мать.
— У нас это очень просто, лишь бы у него были желание и способности.
Саша пристально посмотрел на маму и неожиданно сказал:
— Нада кружка, мама плачет.
— Что, что? — переспросил я.
Зоя Алексеевна улыбнулась сквозь слёзы:
— Он хочет принести кружку, чтобы собирать слёзы.
— Зачем, Саша? Мама вовсе не собирается плакать.
— Нет, будет... Смотрите, уже плачет, — жалобно протянул Саша...
Возразить ему было трудно, потому что Поя Алексеевна действительно плакала...
Иго, Саша, хорошие слёзы, — успокаивал я мальчика. — Это слёзы радости. Мама знает, что ты теперь всем обеспечен, что ты вырастешь хорошим, настоящим человеком. Перко ведь, Зоя Алексеевна?
— Правильно, очень правильно, — говорит молодая женщина, вытирая платком глаза.
— А я слышал, Саша, — меняю тему разговора, — что в Доме культуры будет большой концерт и ты там будешь петь?
— Да, — улыбается мальчик.
— А может быть, ты нам сейчас что-нибудь споёшь?
И он без всякого стеснения запел. Он пел мягко, с настроением, по-итальянски. Когда он кончил, Зоя Алексеевна сказала:
— Вы не поняли, конечно. Я вам переведу. Это песенка итальянских детей. Очень грустная песенка. Бедные дети, больные, паралитики. Они не могут ходить. Саша тоща тоже болел менингитом: Лежал в больнице. И там дети пели эту песенку. Они в ней просят у бога, чтобы он их спас и вылечил.
— А почему же Саша решил спеть такую грустную песню? — удивился я.
— Не знаю. Может быть, он вспомнил своих друзей, которые не могут увидеть того, что увидел Саша у нас, в Советском Союзе. У него такая перемена в жизни... И ему вспомнились его друзья в Италии...
Я неожиданно предложил:
— Саша, может быть, ты хочешь сказать своим итальянским приятелям несколько слов? Ведь очень может быть, что они тебя сейчас слушают.
Саша взялся за ножку микрофона, его чёрные глаза блеснули, и он быстро заговорил по-итальянски.
Мать объяснила:
— Он передаёт привет всем оставшимся друзьям 1г по школе, и по дому...
— Теперь, Саша, тебе надо стараться больше говорить по-русски, — заметил я.— Ты ведь теперь будешь среди советских ребят. Ты понял, что я тебе сказал?
— Да, — решительно ответил мальчик. — Понял.
— Договорились?
— Договорились, — старательно выговаривая это слово, ответил Саша и протянул мне маленькую смуглую руку.
Тут я взглянул на часы, — время передачи истекло. Я только успел сказать нашим юным радиослушателям:
— Если кто-нибудь из вас, ребята, захочет написать Саше, он будет этому очень рад. — И сообщил адрес мальчика...
* * *
Прошло не более двух месяцев, как на радио неожиданно позвонила Зоя Алексеевна Мензулова.
— Выручайте! — услышал я её голос. — Только вы можете нам помочь. Саше каждый день приносят пачки писем. Мы даже немного растерялись... Мы едва успеваем прочитывать письма, но ведь необходимо же ответить на них...
Вот почему сбилось с ног почтовое отделение связи за Московской заставой...
Пятьсот двадцать пять чудесных, тёплых, дружественных посланий получил Саша Томази.
Вот выдержки только из двух писем:
«Дорогой Саша! — пишет его ровесник Вадик Овчаренко. — Когда ты хотел дать своей маме кружку собирать слёзы, в этот момент и моя мама тоже плакала. Она объясняет это радостью, что вы вернулись к нам домой, в Советский Союз, и кончились ваши мучения...»
«Здравствуй, Саша! — пишет шестнадцатилетняя школьница Аля из Мордовии. — О твоей бесстрашной маме и о тебе я слышала по радио. Передай твоим маме и папе мой горячий привет. Я — комсомолка. А знаешь ли ты, Саша, кто это комсомольцы? Это — лучшая, передовая молодёжь нашей страны...»
Читая эти письма, думалось, какие у нас хорошие, сердечные и отзывчивые ребята.
Конечно, Саша не смог ответить на каждое письмо в отдельности, и тут ему на помощь опять пришёл микрофон.
— Большое спасибо, — сказал Саша по-русски, — всем детям и всем девочкам, которые прислали письма мне и моей маме, и папе, и большой привет всем, кто слушал нас но радио...
А мама добавила:
Мы желаем всем много здоровья и счастья...
От всех наших слушателей я повторил эти же слова нашим друзьям, и мы расстались до новых встреч, которые, надеюсь, у нас обязательно ещё будут...
==ГЕРОЙ "ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ"==
Есть книги, которые живут и не стареют. К числу таких счастливых книг
относится, на мой взгляд, и «Педагогическая поэма» Антона Семёновича Макаренко.
Каждый, кто её читал, не может остаться равнодушным. Она берёт читателя за самое сердце. Вы невольно как бы живёте вместе с автором этой книги, вместе с ним радуетесь, горюете... И как часто, вероятно, читатель, закрывая последнюю страницу этой чудесной книги, невольно задаёт себе вопрос: «А что же произошло дальше, как сложилась судьба героев „Педагогической поэмы"?»
Совсем недавно мне довелось встретиться и разговаривать с одним из живых героев книги Макаренко — Семёном Карабановым. Помните этого чернявого, озорного паренька, с пронизывающим взглядом, отъявленного хулигана, который впоследствии стал одним из помощников Макаренко по коммуне?
Теперь передо мной стоял огромный — косая сажень в плечах — мужчина с небольшой проседью на висках.
У нас с Семёном Карабановым (в жизни его фамилия Калабалин) был долгий, обстоятельный разговор.
Разговор этот передавался по радио. Мне он представляется настолько интересным, что я полностью воспроизвожу его на этих страницах с небольшими комментариями.
— Знаете ли вы что-нибудь, — спросил я Семёна Афанасьевича, — о своих товарищах по колонии имени Горького и поддерживаете ли с ними связь?
— Многие воспитанники, речь о которых идёт па шестистах страницах «Педагогической поэмы», здравствуют и поныне, живут среди граждан Советской страны, занимаются полезным трудом. Читатели хорошо помнят Задорнова. Сейчас он — офицер Советском Армии. Бурун (в жизни — Супрун Григории Иванович)—ныне полковник в отставке. Живёт под Харьковом. Лапотецкий, или «Лапоть» по поэме, живёт в Москве. Вершнев, он же Ширшнев Николай Фролович, давно врачует в городе Комсомольске-на-Амуре. Голос Иван Георгиевич (в жизни — Колос) — инженер. Большой руки инженер, работает в городе Мончегорске. Рая, та самая девушка, которая задушила подушкой собственного ребёнка, теперь председатель горисполкома в одном из крупнейших городов Белоруссии. Сам я пошёл, как когда-то мне советовал Антон Семёнович, по «соцвосовскому» пути — тоже стал воспитателем детворы и всю жизнь посвятил этому делу.
...Я раскрыл книгу Макаренко, которую предусмотрительно захватил с собой. На одной из её страниц есть фотография нескольких озорных стриженых и кудлатых парней. Это — активисты коммуны. Среди них стоит и задорный черноволосый Семён Карабанов...
Мы долго разглядывали эту старую фотографию, и я сказал, что, хотя прошло много лет, Семён Афанасьевич мало изменился и хорошо выглядит. На это Калабалин, улыбаясь, ответил:
— А вы знаете, на нашей работе трудно измениться. Детский задор, детская улыбка — вот честное слово даю — в какой-то мере отсвечиваются и на нас — педагогах.
— Не могли бы вы вспомнить, как, когда и при каких обстоятельствах вы впервые познакомились с Антоном Семёновичем Макаренко?
— Это интимная сторона моей жизни, — мягко улыбнулся Семён Афанасьевич. — И я уж не знаю, насколько широко она может быть обнародована. Я боюсь, что найдутся люди, которые возмутятся: вот, мол, какой он был, этот Калабалин.
— Но дело ведь не в том, какой он был, а в том, каким он стал, — возразил я.
— Ну что ж, поскольку вы задали вопрос, я на него отвечу. Я познакомился с Антоном Семёновичем Макаренко в декабре месяце 1920 года при несколько необычных обстоятольствах... В тюрьме. Антон Семёнович приехал за очередным воспитанником, и по вызову начальника тюрьмы я там, в его кабинете, впервые встретился с Макаренко. Он был в своей обычной шинельке, с башлыком на плечах. На меня смотрели его умные, сверлящие светлые глаза. Первый вопрос он мне задал: «Так это ты Семён Калабалин?» — «Я». — «А поехал бы ты со мной строить настоящую, новую, красивую, умную жизнь?» Я повёл плечами: «Согласен. Но ведь сне согласие не столько от меня зависит, сколько от начальника тюрьмы».
Однако этот вопрос был урегулирован примерно через пять минут. Двери тюрьмы широко открылись, и я вышел в сопровождении Антона Семёновича на самый радостный и красивый отрезок своего жизненного пути...
Да, я забыл упомянуть об одной интересной детали, об одном очень красивом человеческом поступке.
Антон Семёнович попросил у начальника тюрьмы разрешения выйти на минутку из кабинета. И только лет через десять я узнал, что Антону Семёновичу надо было дать за меня расписку и ещё какое-то там поручительство за мои поступки, могущие быть впредь. И вот он не захотел, чтобы я видел эту оскорбительную для меня процедуру, не хотел унизить моего человеческого достоинства... А я между тем не подозревал тогда, что я человек...
— Ну, о вашей судьбе мы знаем по книге. А что произошло дальше?
— Дальше? Я был одним из первых рабфаковцев, посланных коммуной на учёбу. Годы учёбы в институте, большая общественная работа, направленная прежде всего на борьбу с детской беспризорностью. Должен заметить, что в студенческие годы мы никогда не порывали связи с колонией, переписывались, часто ездили туда, встречались с Антоном Семёновичем. Он непрестанно интересовался, как идёт наша учёба, одаривал иногда, как я подозреваю теперь, из своих личных денег, небольшими суммами... Мы честно учились, честно трудились, памятуя: не для себя учимся, а поддерживаем честь и славу детского коллектива коммуны имени Горького...
— Когда вы последний раз видели Антона Семёновича?
— Последний раз я видел его в тысяча девятьсот тридцать восьмом году, а за день до смерти Антона Семёновича, в ответ на моё письмо о том, что у меня родился сын и что я назвал его Антоном в честь своего учителя, я получил от Макаренко письмо — интересное письмо, в котором он писал примерно так, очень коротенько:
«Я поздравляю вас — родителей — с рождением нового человека. Передайте на понятном ему языке от меня глубокое почтение и поздравление с началом жизненного плавания. К тому времени, когда он вырастет, построим такую славную жизнь, что в каждом квартале будет университет, а шёлковые галстуки будут падать прямо с неба».
И обещал приехать ко мне. А на следующий день я получил телеграмму о его смерти и немедленно выехал в Москву.
— Вы не случайно, вероятно, Семён Афанасьевич, посвятили свою жизнь воспитанию детей?
— Нет, случайно, пожалуй. Правда, быть может, мне от природы дано любить детей, уважать и оберегать их, как уважали и оберегали меня. Антон Семёнович видел, как я во время каникул в колонии помогал ему и особенное удовольствие находил в возне с малышами. Вот тогда-то он мне как бы в шутку и сказал такие слова: «Вряд ли из тебя получится агроном, лесовод или мелиоратор. Неровен час, когда-нибудь, без предупреждения со стороны судьбы, я умру, — кто же поднимет моё знамя?» Спросил и посмотрел на меня...
Я не ответил, но фактически с тех пор я не изменил этому соцвосовскому пути.
— Надо полагать, что вы воспитываете детей по-макаренковски? — задал я последний вопрос.
Герой «Педагогической поэмы» не замедлил с ответом:
— В меру моих способностей я максимально заимствую для своей рабочей практики всё, что можно извлечь из богатейшего и мудрейшего опыта Антона Семёновича.
Некоторые до сих пор считают: как это можно допустить в детской среде какие-то там отряды, командиров и прочее. Хорошее слово — наше советское слово—«командир». Оно значительно лучше и эффективнее чем любой «староста» или «бригадир». Я не отказался от этой терминологии. В нашем детском доме сейчас есть и отряды, и командиры. Может быть, несколько другими сегодня стали формы работы и общения с детьми, но принцип макаренковский живёт и никогда не устареет...
=СТАРИКИ=
Каждый мой рассказ так или иначе связан с микрофоном. И это понятно, потому что для радиожурналиста аппарат звукозаписи — то же самое, что блокнот для газетчика.
По нот случилось однажды так, что я при очень интересных обстоятельствах оказался безоружным: со мной не было магнитофона...
Это было в небольшом удмуртском городке, где мы с литератором Петром Бахмутским остановились проездом на два дня. Мы, конечно, не удержались и заглянули в редакцию местной газеты.
Журналисты, газетчики — народ живой, общительный, и неудивительно, что в городе стало известно о нашем приезде.
...Этой же ночью мы сидели в номере гостиницы и писали письма домой. Был уже второй час. Вдруг у нашей двери послышалось глухое старческое покашливание, и в дверь постучали.
На пороге появилась невысокая фигура в полушубке.
Мы поднялись, чтобы при неярком свете настольной лампы лучше разглядеть пришедшего. Но он, словно не замечая этого, молча разматывал шарф, затем так же молча долго вылезал из полушубка и потирал озябшие руки.
Наконец он сел и широкое соломенное кресло, поглядел на часы и спросил:
— Тоже не спится?.. Вдохновение? Понимаю, — сочувственно добавил он. — Сам на старости лет прикоснулся к чаше сией... Потому и побеспокоил вас, забрёл на огонёк.
Он вынул большую канцелярскую папку:
— Вот, принёс свои произведения на анализ. Нуждаются в шлифовке и озвучании, — серьёзно объяснил он.
Заметив наше недоумение, гость продолжал:
— Жил долгие годы до революции в нравственной слепоте. Высокого образования не имею, хотя и служил в уездных канцеляриях. Но прожито и перечувствовано много...
Он пододвинулся ближе к лампе.
— Считаю обязанностью своей, — подняв палец, произнёс старик, — и на склоне лет послужить Родине. Благодаря Советской власти пользуюсь правом обеспечения в старости, и вот решил попытать свои силы на писательском поприще...
Мы попросили оставить рукопись, условившись о встрече на следующий день. Старик долго прощался, рассуждая о том, что в литературе, дескать, нет столбовой дороги, но что ему бы очень хотелось одолеть «писательские трудности» и ещё быть полезным своему пароду «сколь хватит сил и умения».
Когда он ушёл, мы открыли оставленную им папку и прочитали на заглавном листе: «Сочинения Дрягина Михаила Григорьевича. 1) «Перелом жизни».
Далее каллиграфическими буквами с мудрёными завитушками было написано:
«Какая поучительная у меня судьба! Теперь чувствую весь ужас безграмотной слепоты прошлой жизни, несправедливости, жестокости и униженности. Было время и раньше, когда я пытался изменить своё несогласное положение, но только после Великой Октябрьской социалистической революции наступил перелом и выражение счастья заблестело в моих глазах».
Затем на ста двадцати, .пяти страницах автор, обращаясь к молодёжи, излагал историю одной жизни — историю простого человека, который в условиях царской России до старости не мог найти применения своим силам и способностям.
...Признаться, мы с нетерпением ожидали новой встречи с Михаилом Григорьевичем. В назначенное время опять послышался приглушённый старческий кашель, шарканье, шуршанье. Войдя в комнату, человек долго молча разматывал шарф, вылезал из полушубка, потирал озябшие руки.
Потом повернулся к нам лицом... И мы опешили. Это был совеем другой человек.
— Простите, как фамилия ваша? — неуверенно спросили мы.
— Дрягин, — отозвался пришедший и положил на стол кипу школьных тетрадей, прошитых суровой ниткой.
Мы переспросили:
— Дрягин? А разве это вы были у нас прошлой пом 1.10?
Он без особого удивления посмотрел на нас и ответил:
— Наверно, брат Михаил. А я Константин.
Пока мы перелистывали кипу тетрадей, он раскуривал обгоревшую трубочку-люльку и энергично объяснял:
— Моё дело — машины. Я механик. Двадцать лет в Кизнере у купца на бумажной фабрике проработал. В настоящее время пенсионер. Имею прекрасную память — проклятое прошлое на своём хребте испытал. — Дрягин похлопал себя по затылку. — Пишу об этом для молодёжи... Пусть молодёжь, прочитав о тяжёлой жизни их отцов и дедов до революции, научится ещё больше ценить то великое счастье, которое принесла ей Октябрьская революция и Ленин... Да, чуть не забыл! — уже одеваясь, спохватился Дрягин. - Один молодой писатель тоже просил оставить на проверку свой труд. — Дрягин положил на стол ещё кипу тетрадей и вышел...
Мы перелистали и это неожиданно появившееся произведение. Автор на сей раз, видимо, был совсем молодой, может быть, даже юный, потому что произведение называлось: «Как мы устроили живой уголок в школе». Смущали только почерк — совсем не детский — и приписка в конце:
«Бели кто желает посмотреть на опыт с деревьями, то может побывать в городе Можге, па Пролетарской улице, 31, где посажены 8 стелющихся берёз, и опыт продолжается 18 лет. Обратиться к Андрею Димитриевичу Копытову».
В тот же день мы пришли по указанному адресу в маленький домик со скворешней, на самом краю Можги.
— Я действительно молодой писатель, — улыбаясь, говорил нам высокий широкоплечим старик с аккуратно подстриженной бородой и редкими гладко зачёсанными назад волосами. — Пишу всего лишь около двух лет.
И он принялся разбирать бумаги на столе, где рядом с рукописями лежали какие-то справочники, руководства, календари и книги: «Молодая гвардия» Фадеева, «Как закалялась сталь» Островского, «Тихий Дон» Шолохова.
Хозяин дома был когда-то сельским учителем. Именно поэтому, как он нам объяснил, один из его трудов посвящён организации живого уголка в школе.
Андрей Дмитриевич высказал ту же мысль, которую мы уже слышали от его товарищей по перу: «Пока видят глаза и не очень дрожат руки, хочу быть полезным....»
А потом он, звеня ключами, достал из сундука огромную стопу исписанных листов и, любовно разглаживая загнувшиеся углы, объявил:
— Здесь описаны нравы и быт старой удмуртской деревни. Работа не кончена, мне понадобится, пожалуй, ещё лет пять... Но время у меня есть, никто меня не беспокоит, и я пишу потихоньку. Думаю, что лучше всего отдать рукопись в музей. Вот не сплю по ночам и вижу: при полном коммунизме придут люди в музей, чтобы посмотреть, как жили их далёкие прадеды в нищете и невежестве. И увидят под стеклом труд Андрея Копытова, над которым он работал много лет...
Он пододвинул к нам поближе целый ворох самодельных блокнотов. На каждом было начертано синим карандашом: «Памятная книжка». Мы приоткрыли одну из них и прочли:
«Статьёй о телесных наказаниях хочу покапать молодому советскому поколению, как при царизме издевались над крестьянами».
...Уже под вечер, покидая маленький домик на краю Можги, мы ещё раз взглянули на восемь берёз в палисаднике. Они стояли, осыпанные снегом, но с ещё державшимися редкими красноватыми листьями, словно впитавшими в себя настой вечной жизни.
Через несколько дней мы были приглашены в редакцию можгинской районной газеты. Там должна была состояться встреча двух поколений: юношей и девушек, которые «норные в жизни будут участвовать нынче в выборах, и уже знакомых нам престарелых можгинцев.
Небольшая редакционная комната была переполнена. Старики важно разместились в креслах, положив перед собой тетради, прошитые нитками, старинные канцелярские папки, перевязанные шпагатом свитки. А напротив, на стульях, расставленных по случаю собрания в строгом порядке, сидели, придерживая портфели или степенно скрестив на коленях руки, ученики старших классов можгинских школ.
Старики поочерёдно выходили к столу и, откашливаясь, едва сдерживая волнение, говорили.
— Нынешняя молодёжь и представить себе не может, как жили в старину люди, —начал Константин Григорьевич Дрягин окающим баском. — Вот помню такой случай. Дело было весной тысяча девятьсот двенадцатого года. Посылает мать мальчугана в лавочку на последний грош за хлебом. Нужно было мальчишке через пруд перебежать. Туда он добрался благополучно, а на обратной дороге случилась беда: лёд треснул, и провалился парнишка. Едва спасли... Вытащили и видят: хлеб к груди прижат. Подумать только! Чуть сам не потонул, а про хлеб, купленный на последний грош, не забыл, крепко держал его. И первое, что сказал паренёк, когда очнулся: «Отдайте хлеб маме...»
Дрягин помолчал, видимо, мысленно дорисовывая картину, и задумчиво прибавил:
— Да-да. Расскажи я про это Максиму Горькому, он бы в своих «Университетах» описал...
Константин Григорьевич встал и, сутулясь, поглаживая усы, принялся ходить по комнате.
К столу подошёл Копытов.
— «Разыскать деревню Орловку, — громко прочитал он в своей «Памятной книжке». — В этой деревне, согласно преданию, сто лет назад крестьянин Василий Зуев нашёл закопанное в землю серебро. Напрасно обрадовался богатству, Царские чиновники
серебро отняли. Прозвал себя тогда Зуев с горя Василием Серебряным. И за сыном, и за внуком его то же имя пошло».
Копытов обвёл взглядом присутствующих и заключил:
— Интересно посмотреть и описать, как живёт род Серебряных в наше золотое советское время...
Когда присутствующие как-то незаметно для себя придвинулись ближе к рассказчикам, один из стариков отложил рукопись и вышел на середину комнаты.
— Я прочту вам стихи, — сказал он. — Это по мои стихи. Это песня Джамбула. Но именно такая песня звучит сегодня в наших стариковских сердцах...
И он торжественно, вытянув вперёд руку, продекламировал:
И ходил по степям, я бродил между скал Загорелый, обветренный и седой — Девяносто лет я солнце искал, И солнце предстало передо мной...
* * *
Представьте себе, — впрочем, нет, вы не можете себе представить, — как я досадовал, как я ругал себя за то, что изменил своему правилу и не захватил с собой аппарат звукозаписи. Ведь этот материал, озвученный, с живыми голосами замечательных стариков, с их характерными интонациями и таким уютным «оканьем», был бы куда интереснее и впечатлительней, чем напечатанный любой, даже самый лучший, очерк (да простят меня мои коллеги — газетчики!).
Впрочем, этот случай был мне хорошим уроком, — отныне я с магнитофоном не расстаюсь.
==ТАКИЕ НЕ УМИРАЮТ==
Как-то в «Литературной га зете" была напечатана информация об одном, почти невероятном, эпизоде Великой Отечественной войны...
Даже скупые строки газетной заметки, озаглавленной «Трое отважных», взволновали меня до той степени нервного напряжения, когда сочетание простых слов, набранных петитом, может превратиться в ясно зримые образы.
Я кап бы увидел: безбрежное море, над ним купол августовского звёздного неба... Кругом суровая балтийская вода — бесконечный простор, и кажется, что ничего нет в миро, кроме этой свинцовой, тяжело колышащейся водяной массы...
И вдруг набухшая гигантская волна, разорванная изнутри, обнажает всплывающую на поверхность подводную лодку.
Это впервые за долгие недели военного похода возвращались моряки к родным берегам, на базу, на краткий отдых.
Не знали матросы, не чувствовали в тот момент, что всего каких-нибудь три метра отделяет их от гибели... Зловеще покачиваясь на волнах, протягивала к корпусу лодки своя стальные щупальца вражеская торпедная мина...
Велико море. Могли ведь пройти стороной... И не прошли.
Раздался оглушительный взрыв. Закипела вода и поглотила лодку...
И вот она на дне Балтийского моря. Замурованные, отрезанные от мира, наши моряки были обречены. Ничто не могло их спасти из подводной могилы.
Но в газетных строках сказано ясно: трое советских моряков из команды этой лодки спаслись и живы поныне, а один из них — старший торпедист Николай Андреевич Никишин — ленинградец и работает токарем на заводе «Союз».
Говорят, нет на свете чудес. Но вот он, советский моряк-балтиец, подводник, коммунист Николай Никишин поистине совершил чудо.
Мы сидим с ним в студии у микрофона, и я не могу, да и не хочу скрывать восхищение, которое вызывает во мне мой собеседник — высокий, широкоплечий, с крупными и удивительно приятными чертами мужественного лица, на котором неожиданно добро и приветливо светятся внимательные, умные глаза...
Он рассказывает о пережитом тихим, спокойным, даже, казалось мне, чересчур спокойным голосом.
— В момент, когда это случилось, — вспоминает Николай Андреевич, чуть прищуриваясь и словно вглядываясь куда-то вдаль, — и этот момент мы, то есть Зиновьев, Мазнин и я, отдыхали в своём носовом отсеке, где находятся торпедные аппараты.
Взрыв раздался в восемнадцать ноль-ноль. Удар, второй... Погас свет... Сразу понял — мина. Ещё удар — это лодка стукнулась о грунт. Оторвавшаяся балка прижала меня к койке. Я ощупал себя — вроде цел. Окликнул товарищей. Они тоже живы. И сразу стал действовать...
— Неужели вы не растерялись? — перебил я рассказчика.
— Нет, — ответил Николай Андреевич, не отводя глаз от дальнего угла студии, как будто там происходило всё то, о чём он рассказывал. — Самообладание я не терял ни на одну секунду.
— А остальные товарищи?
— Все команды выполнялись чётко, как в нормальной обстановке. Зиновьев был ранен в голову, но и он так же вёл себя, все были спокойны...
— Но ведь всё-таки вы оказались в такой необычайной обстановке! — не успокаивался я.
— Видите ли, паника — это самое страшное, вот тогда — гибель, — мягко улыбнулся Николай Андреевич.
Всё дальнейшее кажется совершенно невероятным...
Николай Никишин, старший в отсеке, принимал решения быстрые и логичные. Прежде всего трое комсомольцев прекратили доступ воды в отсек. Пошло в ход всё, что было под рукой: матрацы, одеяла, подушки.
Старший торпедист попытался связаться с остальной командой. Телефон не работал, но рядом, в шестом отсеке, слышались голоса. Надо ломать перегородку, спасать товарищей.
— Но там же вода? — не понял я.
— И у нас вода. У них больше, у нас меньше. Если мы откроем, вода от них перельётся к нам — сравняется. Они к нам перейдут, мы закроемся и будем принимать дальнейшие меры к спасению. Мы стали открывать перегородку, пытались и вручную, и ломами, но открыть не удалось.
Николай Андреевич тяжело вздохнул.
— Разрешите закурить? Я протянул портсигар.
— Заклинило — открыть не удалось,—глубоко затянувшись, медленно повторил Николай Андреевич. — Тогда они крикнули нам: «Спасайтесь сами, товарищи! Прощайте, живы будете — отомстите за нас, нам, видно, не выйти!»
Наступила долгая пауза.
Потом мой собеседник энергично потёр лоб, выдохнул большую струю табачного дыма и, кашлянув, продолжал:
— Тут я принял последнее решение — уходить самим...
...Это было в августе 1941 года, на дне Балтийского моря, в затопленной подводной лодке. Стоя по пояс в воде, при свете мигающей лампочки карманного фонаря, двадцатилетний комсомолец Николай Никишин твёрдой рукой выводит на листе бумаги лаконичные строки последнего рапорта:
«Мы, матросы подводной лодки, для спасения лодки и шестого отсека сделали всё, что могли. Принимаем последнее решение — выходим сами».
И три подписи: Николай Никишин, Александр Мазнин, Василий Зиновьев.
«Выходим сами» — это можно написать... Но как выбраться из затопленной лодки?..
— Выход был только один, — всё так же спокойно продолжал Николай Андреевич, — через торпедные аппараты... Мазнина я поставил на открытие передней крышки и стал командовать: «Саша, пол-оборота». — «Есть пол-оборота!» —чётко отвечал он мне. Когда вода стала медленно поступать, я крикнул: «Саша, открывать полностью», и тут я запел: «Это есть наш последний и решительный бой!» Товарищи подхватили и гремела наша песня, пока весь отсек не заполнился водой. Всё поплыло — матрацы, банки, тряпки... Отсек затопляет, мы поём, вода по грудь — мы всё поём и поём...
Потом приготовили трос на выход, а глубина была неизвестна... Проверил я кислородные приборы для каждого товарища, сам лично их испробовал, потом им предложил: «Кто желает первым идти на выход?» Они мне заявили: «Ты сам торпедист, торпедный аппарат твой, давай первым». Я говорю: «Мне всё равно — первым идти или последним, а идти нужно». Я надел кислородный прибор, стал погружаться в воду. И не с первого раза вошёл я в торпедный аппарат, потому что вода была очень холодная, и устал уже, тяжело было дышать в маске... Несколько раз пытался — ничего не получалось. Я маску сбросил. Погрузил тело в воду, чтобы привыкнуть. Несколько раз я так проделал, потом сразу же надел на себя маску и, собрав силы, влез в торпедный аппарат и пополз на выход. С собой я ещё буёк с тросом тащил. Трос закрепили в отсеке, и я медленно, придерживаясь ногами за трос, пошёл наверх.
Весь выход у меня длился, должно быть, минут тридцать. Вышел я на поверхность моря... Ночь, шторм бушует... Стал я искать по горизонту, куда плыть, а ночью в море — ни берегов, ни солнца, нужно иметь какой-то ориентир... На наше счастье были видны звёзды. Я нашёл Большую Медведицу, Малую и определил, как держать путь...
— А вы товарищей не дождались? — задал я вопрос, боясь услышать отрицательный ответ.
— Я дождался Мазнина. Мазнин, когда выходил, неправильно пользовался аппаратом и быстро израсходовал весь свой запас полдуха. Он всплыл на поверхность и ТУТ же стал тонуть. Я за ним нырнул... Поймал его, конечно, в воде, а он ухватился цепко за меня, все мои движения сковал, и тут мне пришлось его несколько раз крепко ударить... — Николай Андреевич взглянул на меня и виновато, совсем по-детски улыбнулся. — Ну, когда я его крепко ударил, он меня отпустил. Я его рукой обнял за шею, всплыл с ним вместе на поверхность, посадил его на буёк и привёл в чувство, а для этого по щекам нашлёпал слева и справа... Посадил я его на буёк. А он маленький, двоих не выдержит. Мне если танцевать вокруг буйка, то потеряю все силы и никуда не выплыву... Поэтому я принял решение: надо плыть. Его оставил на буйке и сказал: «Если к тебе катер какой-нибудь или корабль подойдёт, догоняйте меня, я буду плыть по курсу этих звёзд. А если я выплыву, то пас так не оставлю: если сам не смогу прийти, пришлю за вами». И пустился в путь, а куда — и сам не знаю. Плыву, плыву. Море стонет, кипит... Долго я плыл, пока не услышал шум катера в море. Прислушался — катер наш. Он то корму, то нос покажет, — волна была сильная...
— Сколько баллов примерно?
— Балла три-четыре. Для меня вполне хватало. И вот он то нос, то корму покажет, а я ему кричал... Не услышали. Потом я тут же быстро среагировал, полез в карман, достал фонарик «пигмей», потряс его, он светит. Я сигналы подавал... Не заметили. И опять я поплыл... Вижу — недвижимая полоска земли. Когда присмотрелся, вижу — торчит маяк, как спичка, с потушенными огнями. Тут я уже пошёл держать курс на маяк...
Стало уже рассветать — я всё плыву. Уже сереет — я всё плыву. Стало солнце всходить — а я всё плыву... И тут напоролся я вдруг на проволочные заграждения, порвал себе коленки, грудь распорол...
Раз проволочные заграждения, значит, берег рядом. Пошёл я щупать проход, проплыл этим проходом. Думаю, должно же быть здесь где-то близко дно. И я руки вытянул наверх, встал на дно, стою, но чувствую, что руки ещё в воде... Таким путём я несколько раз пробовал, дно щупал, а потом, когда уже коснулся грунта, тут-то силы меня стали покидать... Как я ни крепился, а силы мне изменили... И потом, когда я вышел уже, примерно до пояса волна вдоль берега стелилась. Идти не могу — волна меня сшибает, и плыть не могу — бьёт об камни. Голову мне пробило... Не знаю, может быть, двадцать минут, может быть, тридцать минут боролся я с волной... Всё смотрел на Большую землю... Большая земля была передо мной. Остров зелёный... Солнце я увидел впервые за столько дней похода. Смотрю на Порогу показались люди, три человека. Мелькнула мысль: «А вдруг немцы? Я же не знаю, куда выплыл... После таких мучений принимать позорный плен?» Тут я собрал силы, нагнулся, поднял хороший камушек, кругленький, зажал. «Ну, — думаю, — принимай мой последний бой, давай иди!» Они, как по команде, двое разделись, сбросили шинели, один остался на берегу, и идут ко мне в воду. Я стою — жду... Они подходят, смотрю — русские, солдаты, наши!..
В этом месте голос Никишина впервые дрогнул, глаза сузились и предательски заблестели. Он смолк, преодолевая волнении...
У меня к горлу подступил комок... Взглянул л окошечко, отделяющее студию от аппаратной. Там мой друг Мария Клеёнышева записывала нага разговор на магнитную плёнку. Маша смотрела на этого удивительного человека и, казалось, не замечала слёз, катившихся по её разгорячённому липу...
Чиркнула спичка. Николай Андреевич опять закурил.
— Сколько же вы находились в воде с тех пор, как затонула лодка? — спросил я, переждав мгновенье.
— Лодка, — уже овладев собой и почти
Спокойно произнёс Николай Андреевич, — была потоплена второго августа в восемнадцать ноль-ноль, а выплыл я на остров Даго, к маяку Туфри, в расположение сорок четвёртой зенитной гвардейской батареи третьего августа утром... В общем, плыл я всего часов семь.
— Непостижимо! — вырвалось у меня.
— Это сделал бы каждый, — просто возразил Никишин.
— Думаю всё-таки, что не каждый...
— Каждый, у кого хватило бы сил, — пояснил Николай Андреевич. — У меня хватило. Я ведь с детства, можно сказать, в море живу, а оно и волю воспитывает, и силу
немалую даёт. Плаваю неплохо, атлетикой интересовался, с гирями играл...
Николай Андреевич улыбнулся, а я подумал: «Вот где она сказалась — комсомольская закалка духа и морская закалка тела».
— Так, значит, я и выплыл к своим, — оказал мой собеседник, стукнув неожиданно по столу тяжёлым кулаком.
По студийным законам стучать во время записи не полагается, потому что каждый звук запечатлевается на плёнке. И обычно в таких случаях оператор прерывает запись. Но на этот раз Маша молчала. Она понимающе улыбнулась сквозь слёзы и кивнула головой, — пусть делает что хочет, не надо прерывать разговор...
А Николай Андреевич вздохнул, переменил попу и продолжал опять, глядя куда-то к угол:
— Мы с трудом вышли на берег. Меня держали с двух сторон... «Товарищи гибнут там, — с трудом разжимая губы, сказал я своим спасителям, — дайте катер, люди гибнут в море».
Солдаты пытались унести меня с берега, но я, собрав последние силы, упирался: «Я не уйду, пока катер в море не пошлёте».
Меня определили в дежурную будку к маяку. Принесли спирту, граммов четыреста, хотели натереть. Я говорю: «Нет уж, дайте-ка я сам натрусь...» Взял и выпил этот спирт. И представьте себе, хватил как воду, ни в одном глазу...
Потом пришла моторная лодка и сообщила, что спасли моих товарищей. И вот тут у меня отнялись и руки и ноги...
Меня повезли в госпиталь. Там обложили грелками, бутылками с горячей водой. Ухаживала за мной эстонка, сестра Сельма звали её. Она дежурила днём и ночью. Когда сестра как-то вышла, я попробовал встать... Оказалось — ничего: ноги держат, дрожат, но держат. Держась за стенку, вышел в коридор; дальше надо было спуститься вниз по лестнице, и тут я полетел кубарем по ступенькам в сад, но ничего, благополучно встал. Раненые играли в бильярд. Я попросил у них кий. Спрятал его в рукав. Отковылял метров около ста. Птички пели какие-то, был солнечный день, хвоей так приятно пахло... Я стал всматриваться, какие же это птицы здесь поют... Поднял на миг голову, и тут передо мной всё закружилось, помутнело, и я упал без сознания. Очнулся я через сутки всё в той же палате. Пришёл врач и хорошо меня выругал: «Мы вам стараемся жизнь сохранить, а вы что делаете?» Ну я, конечно, сказал, что больше так не буду. Врач ушёл. Это был обход в восемь часов, а в десять я всё равно пробрался в кладовую, оделся кое-как и убежал искать свою часть, своих моряков... В то время отлёживаться было некогда... Надо было воевать, — словно оправдываясь, сказал Николаи Андреевич и нервно провёл большой рукой по полосам. И только сейчас я заметил и его полосах две яркие седые пряди.
— Это седина с тех пор?
— Да, в ту ночь в море поседел. Никишин встал, и я поторопился спросить:
— А как же сложилась ваша дальнейшая военная судьба?
— День Победы застал меня в Данциге, а до этого я ещё служил на подводных лодках и на сухопутном фронте был. Демобилизовался в тысяча девятьсот сорок седьмом году.
— С Зиновьевым и Мазниным после войны по встречались?
— Нет, я даже не знал, где они находятся.
— Неплохо бы повидаться? — не без зад-пси мысли спросил я. Мне хотелось устроить эту встречу друзей.
— Это, конечно, было бы хорошо, — задумчиво промолвил Николай Андреевич. — Но ещё бы я хотел узнать, не подняли ли с морского дна нашу лодку? Я хоть на могилу бы съездил к своим подводникам, помянул бы своих товарищей по русскому обычаю, как принято... — Он опять помолчал...
— Вот вы говорите — герой... Какой я герой? Таких героев, как я, миллионы, весь советский народ. Каждый, как мог, дрался
за мирную жизнь. Сколько было за неё людских жизней отдано, крови пролито и сколько слёз... Ценить её крепче надо, эту мирную жизнь, бороться за неё надо. Потому наш народ и трудится не покладая рук, потому и стеной гранитной стоит за свою партию — самого горячего борца за мир.
— А как себя чувствует старший торпедист в мирной жизни? — спросил я.
— Я ещё себя штатским не полностью считаю, — улыбнулся Николай Андреевич. — Я ведь ещё в запасе... Так что, в случае чего, готов занять своё место у торпедных аппаратов... Только, конечно, лучше, если этого никогда не потребуется. Я предпочитаю делать вечные перья и добиваться, чтобы они писали лучше всех перьев в мире.
Расставаясь с Николаем Андреевичем, я задал ему ещё один вопрос:
— Первого сентября в «Литературной газете» было сообщение о вашем подвиге. Почему вы не откликнулись? Ведь вас с трудом разыскали!
Никишин улыбнулся:
— Видите ли, прошло девятнадцать лет. Как говорится, это уже «преданье старины глубокой»... А тогда я только выполнил свой долг: сделал всё, что мог. Зачем же себя выставлять? Я не хотел...
Он не хотел... А я рассказал о нём, о Николае Никишине, и очень многие люди слушал по радио этот рассказ, восхищались стойкостью и мужеством отважного человека.
Образ Никишина увлёк и работников студи II телевидения. Они решили создать небольшой документально-художественный фильм о подвиге матроса-подводника.
В качестве консультанта был привлечён сам Николай Андреевич. Он участвовал во всех съёмках, терпеливо разъяснял и режиссёру, и оператору, и актёрам все детали этого необыкновенного эпизода... Наконец фильм готов, он уже должен был появиться на экранных телевизоров. И вдруг произошло негаданное, неожиданное, о чём трудно даже писать: Николая Никишина — этого большого, сильного человека — нет в живых... Он умер не от болезни, его не настиг несчастный случай. То, что произошло,— дико, жестоко, чудовищно...
Выл майский вечер. Николай Андреевич возвращался домой пешком. И вдруг в воротах какого-то дома он услышал сдавленный крик о помощи. Крикнула женщина. Он бы мог пройти мимо... Нет, он не мог пройти мимо! Никишин бросился на помощь. Кто-то загородил ему дорогу: «Куда лезешь? Не твоё дело!..» Николай Андреевич лёгким движением отшвырнул бандита, но тут появились второй, третий... И Никишин вступил в неравный бой. Он бы легко справился с хулиганами, расшвырял бы
Их своими сильными руками, но у одного из мерзавцев был нож, и подлый удар в сердце свалил Никишина.
И вот его нот с нами... Пройти всю войну, столько выстрадать, перенести, выжить, победить — и погибнуть от подлой руки в светлый, мирный майский вечер, — ему, молодому ещё, сильному и так любящему жизнь, — как это нелепо, несправедливо, жестоко...
Я проводил его в последний путь...
На заводском дворе, у гроба, утопающего в цветах, — почётный морской караул...
Сотни людей пришли проститься с прекрасным русским человеком. И были среди тех, кто пришёл сказать ему последнее слово, два старых его боевых товарища, которых он спас от смерти двадцать лет назад: Александр Мазнин и Василий Зиновьев... Они стояли рядом и, едва сдерживаясь от рыданий, прощались со своим верным другом.
Александр Мазнин сказал:
— Трудно поверить, что его нет в живых. Это неправда. Такие люди не умирают...
И были ещё речи, раздирающие душу, и печаль в каждом сердце, и тихие слёзы, и неудержимые рыдания близких...
Николая Андреевича Никишина не вернуть. Против смерти мы бессильны, но мы должны быть сильными против живых, посягающих на честь нашего народа. Мы должны быть беспощадными, мы обязаны словом и делом вытравлять это зло из нашего общества.
Ушёл большой, настоящий человек. Он жил героем и погиб как герой... И хочется ещё раз повторить слова его друга: «Трудно покорить, что Николая Никишина нет в живых. Это неправда. Такие люди не умирают...»
=ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ=
Это было как наваждение.
Долгое время меня прямо-таки преследовал один голос. Я слышал его то совершенно ощутимо, то приглушённо, как бы издали... Он звучал во мне, как мелодия знакомой песни, хотя произносились простые, обыкновенные слова:
«Мне очень понравилась эта тёлочка. У неё чубчик на лбу, такой кудрявый-кудрявый, и звали её Кудряшка. Очень была строгая тёлочка, такая бодатая, лягучая!..»
Девичий задорный говорок звучал так молодо и непосредственно, а смех был таким искренним и счастливым, что я, никогда не видя этой девушки, отчётливо представлял себе её внешний облик.
Мне казалось, что у неё копна ржаных кудрявых полос, большие серые, обязательно удивлённые, глаза и широкая улыбка ярких ненакрашенных губ.
Этот образ возник у меня, когда я впервые случайно услышал в Московской радиостудии Катин голос, записанный на плёнку одним из моих коллег...
Девушка-доярка рассказывала о своей работе. Тема её рассказа была, казалось бы, сугубо прозаической... /
— Работа доярки такая живая, такая интересная! К каждой корове нужен свой подход. У каждой какой-то свой характер. Вот другим нравятся спокойные коровы, которые не бодаются, ногами не бьют, а мне почему-то нравятся норовистые, может быть, потому, что у меня у самой такой характер.
Простые слова, но как увлечённо произносила их Катя! И невольно думалось: «Как же она счастлива, эта девушка! Как она влюблена в своё дело!»
Может быть, именно поэтому так запомнился мне Катин голос, так неотступно во мне звучал. И когда я однажды получил редакционное задание сделать радиоочерк о молодом человеке, нашедшем правильное место в жизни и влюблённом в свою профессию, то, естественно, сразу же подумал: «Ну конечно, она, Катя Евтехова, должна быть героиней такого очерка».
Я решил отправиться в подмосковный колхоз имени Ленина, где работала молодая доярка, чтобы познакомиться с ней лично.
Уже в дороге я рисовал себе эту встречу, обдумывал вопросы и намечал контуры будущего очерка.
Но журналист предполагает, а жизнь располагает...
В селе Борисове я не нашёл Екатерину Евтехову.
Девушка уехала из колхоза, оставив любимую работу, дом, семью, друзей...
Никто не мог, а может быть, и не хотел объяснить, почему это произошло. Но даже в словах людей, осуждавших Катин поступок, звучали какие-то, я бы сказал, сочувственные нотки:
— Жаль, очень жаль Катюшу, такая хорошая девушка, так работала замечательно, а вот ведь случилось такое...
А что случилось — добиться было невозможно. Даже близкие Катины подруги отмалчивались и, тяжело вздыхая, отводили глаза.
Тогда я обратился к самому верному источнику — к Катиной маме.
Меня встретила невысокая женщина с добрым морщинистым лицом.
Когда Мария Фёдоровна узнала, что я интересуюсь её дочерью, она вначале встревожилась: а не будет ли какого вреда её Катюше?.. И только уверившись в моём искреннем к ней расположении, стала разговорчивее:
— В Свердловске Катя моя. Поначалу-то она из колхоза в Ленинград уехала, а теперь в Свердловске живёт. Город большой, работает она там и думает учиться...
Мария Фёдоровна показала мне Катины письма. Крупный, почти детский почерк и такие простые слова:
«Дорогая мама, низко вам кланяюсь и сообщаю, что жива и здорова. Работаю на стройке не хуже других. Подруги у меня славные...»
Нёс как будто хорошо и гладко. Только нет-нет да и промелькнёт между строк грустная нотка: «А как в колхозе дела у нас? Опишите, прошу, мама, подробно. Да загляните па скотный двор, как там мои Найда и Кудряшка. Небось выросли, не узнать. А много ли молока дают?»
И так с каждым письмом: всё больше вопросов о колхозе, и всё меньше о себе...
Я долго сидел в гостях у Марии Фёдоровны, слушал её неторопливый, обстоятельный рассказ о дочери, перечитывал Катины Письма и разглядывал большую в резной рамке фотографию, с которой смотрело открытое Катино лицо — обыкновенное, с чуть вздёрнутым носом и непокорными завитками волос на лбу.
«Что же произошло с Катюшей? — думал Я. -Не может ведь быть, чтобы вот просто так, ни с того ни с сего, сорвалась девушка и ушла, бросила любимое дело, родную мать... Ведь она действительно была счастлива, но что-то с ней случилось серьёзное. И это надо обязательно выяснить...»
Я сделал в колхозе кое-какие записи и решил поехать в Свердловск.
Так и сделал. Магнитофон на плечо, два дня пути, и вот я в большом уральском городе, на его окраине, где целый лес башенных кранов возвышается над десятками новых вырастающих зданий.
Тут, на Берёзовском тракте, разыскал я улицу Ирбицкого, дом № 13, где в общежитии строителей жила паша Катя.
Меня всё время мучил один «опрос: как же мне с ней познакомиться, как начать разговор, чтобы не испугать девушку? А то часто бывает так: увидит человек микрофон, насторожится, замкнётся, и уж, конечно, никакого откровенного разговора не получится... И выйдет, что зря я тысячу километров проехал, время потерял, а главное — ничего не узнаю и, может быть, человеку помочь не сумею...
И тут я поначалу немного схитрил. Просто представился Катюше как корреспондент, который приехал в Свердловск, интересуется жизнью города, встречается с разными людьми, вот и с ней хочу, мол, поговорить...
Катя очень охотно откликнулась на мою просьбу.
— Отчего же не поговорить? Давайте, — улыбнулась она, спокойно присела к микрофону, заправила под платок непослушные завитки волос и сосредоточилась, ожидая вопросов.
Я внимательно разглядывал свою собеседницу. Живая-то она была ещё лучше, чем на фотокарточке. Улыбка делала её просто красивой, а веснушки ничуть не
портили. Л вот глаза — глаза оказались не серыми, как я предполагал, а скорее карими...
Но мой пристальный взгляд явно смущал Катюшу, и поэтому я приступил к делу; включил магнитофон и попросил:
— Вы просто, Катюша, расскажите о себе, о своей жизни...
Но разговор наладился не сразу. Катя собиралась с мыслями, о чём-то вздыхала и вдруг совершенно неожиданно заговорила о том, что приехала она в Свердловск из Подмосковья, что была она дояркой и очень любила своих питомцев...
Всё это я знал, но, не перебивая, внимательно слушал Катюшу.
— А потом мне захотелось учиться, — как-то не очень уверенно произнесла девушка. Вот я и приехала сюда, в Свердловск.
И понял, что пора переходить в наступление и повести разговор начистоту, но начал издалека:
— А разве не было у вас возможности, не уходя из колхоза, продолжать учёбу?
— Можно было, конечно, — как-то нехотя ответила Катя, — но меня потянуло в большой город.
— А разве Москва город маленький? — улыбнулся я. — Ведь ваш колхоз всего в десяти километрах от Москвы!
Катя молчала. Видимо, ей было трудно лгать. Она нахмурилась, упрямая бороздка появилась между бровей.
Мой неловкий вопрос чуть не заставил замкнуться мою собеседницу, но, к счастью, я вовремя спохватился:
— Катюша, я вам открою мой секрет.
— Какой? — встрепенулась девушка.
— Я ведь вас очень хорошо знаю.
— Меня?!—удивилась Катя.
— Да-да, хотя мы с вами не были до сих пор знакомы, тем не менее, ваша судьба мне хорошо известна. Я и в Свердловск-то приехал только ради вас.
Катюша резко повернулась ко мне. Лицо её опять посветлело, исчезла упрямая мор-шинка, большие карие глаза смотрели на меня в упор озорно и лукаво.
— Нет, серьёзно, — продолжал я. — Не только вас знаю, но и подружек ваших близких, и с Найдой вашей знаком, а Кудряшка ваша просто меня лягнула — это она просила вам передать привет.
Катя фыркнула и закрыла лицо руками.
Появившийся было ледок окончательно растаял, и девушка, не обращая внимания на микрофон, заговорила так, как это было свойственно её чистой и открытой душе.
— Если вам сказать откровенно, — став серьёзной, тихо начала Катя, — то уехала я из колхоза из-за того, что полюбила там одного парня... — И, помолчав, грустно добавила: — Нестоящею...
Катюша рассказывала, а я слушал её, и так было досадно, что такое искреннее, хорошее сердце встретило недостойного человека и впервые открылось именно ему. Ведь Кате всего восемнадцать лет, а в эти годы сердце особенно ранимо.
Так вот что, оказывается, произошло... Она ошиблась в человеке и, не сумев справиться со своим чувством, нашла только один выход: всё бросить, бежать от «него» и от самой себя.
И вот настал момент задать" Катюше самый главный вопрос, который заставил меня сделать тысячи километров: а не жалеет ли она, что уехала из колхоза, не раскаивается ли теперь в своём поступке?
Взглянув исподлобья, Катя застенчиво улыбнулась.
— Тянет меня, ужасно тянет домой. Дута просит.
Девушка вздохнула и на глазах её показались слёзы.
Мне захотелось утешить её:
— А вы знаете, Катюша, я ведь приехал 1С нам не один. Вместе со мной здесь и ваши подружки, и самый близкий вам человек...
Катя слушала недоверчиво, но на последних словах встрепенулась:
— Правда? Кто же?
— Мама.
— Ой, мама... — Катя схватилась за сердце и стала оглядываться.
Я поспешил объяснить девушке, что выразился иносказательно, что, конечно, приехать они не могли, что я привёз ей только голоса близких людей.
— Вот они — здесь, в магнитофонном ящике, — сказал я улыбаясь и постучал по крышке аппарата.
Катя перевела дыхание, молча покачала головой, как бы укоряя меня за не очень ловкую шутку, и тут же, широко улыбнувшись, с интересом взглянула на ящик.
— Вот, слушайте, — сказал я и включил магнитофон.
Я даже не представлял себе, что это произведёт на девушку такое сильное впечатление. Услышав знакомые голоса, Катюша замерла, чуть приоткрыла рот и так побледнела, что её веснушки стали заметно ярче. Она вся превратилась в слух и только изредка шептала: «Ой, ой...»
Здесь, совсем рядом, раздавался голос и тёти Клавы — заведующей фермой, и близкой Катиной подружки. Они рассказывали о колхозных делах, о богатом трудодне, звали её: «Приезжай, Катюша, обратно, приезжай!»
Но когда послышался неторопливый, такой родной, как само недавнее детство, голос матери, Катя не выдержала, и по щекам её ручьями побежали слёзы. Она плакала беззвучно, боясь пропустить хоть одно слово.
«Катюша, родная! Приезжай домой. В колхозе хорошо у нас, а мне без тебя так трудно — стара стала. Дождусь ли тебя, доченька?..»
Не в силах сдержать себя, Катя вскочила, отбежала в угол, уткнулась в платок и громко зарыдала. Она рыдала, а я, не выключив микрофон, сказал ей:
— Плачьте, Катя... Это хорошие слёзы, вам станет легче.
И девушка вдруг успокоилась, я с удивлением увидел на её зарёванном лице светлую улыбку.
— Нет, нет, это я просто так, — скороговоркой произнесла девушка, старательно вытирая глаза.
И тут я почувствовал себя неловко: не был ли я жесток, доведя её до слёз?
— Вы уж извините меня, Катюша, я не хотел вас так расстроить, — теперь уже я оправдывался смущённо.
— Да нет, что вы!—услышал я весёлый Катин голос. — Вы меня не расстроили, а наоборот... Вы правильно сказали, это были хорошие слёзы. У меня как-то и в голове, и на сердце легче стало...
Катя вдруг решительно подошла к микрофону и сказала:
— Мама, подружки мои милые, я всей душой с вами. Я вернусь, обязательно вернусь, только дайте мне немножко подумать...
Я назвал свой очерк «Потерянное счастье». Но ведь потерянное можно найти?! И, прощаясь с Екатериной Евтеховой, я был почему-то уверен, что она сама допишет этот очерк своими делами, поступками, всей своей жизнью.
...Очерк, действительно, ещё не был дописан, а уже тысячи людей взволновались Катиной судьбой. В адрес радио шли письма и телеграммы. Вот выдержки из нескольких писем:
«Дорогая Катюша! — пишет ленинградка Люся Полякова. — Я не намного старше тебя— мне 22 года. Я уверена, что ты сама продолжишь этот взволновавший нас рассказ, и мы услышим его хороший конец. Ведь мы с тобой ещё так молоды и живём в такой чудесной стране, где все дороги для пас открыты».
В судьбе Кати приняли участие и люди, за спиной которых большая жизнь.
«Я давно прожила свою молодость, — читаем мы в письме шестидесятилетней Клавдии Петровны Шерстюк из Киева. — Я внимательно слушала о Кате, и мне невольно вспомнилось далёкое старое время и моя юность. Если бы ты знала, Катя, как узок был наш мирок, как убоги были интересы девушек и парней. Окончив три класса средней школы, я очень полюбила книги, — они открывала передо мной огромный мир. Но домашние зло издевались над моей «дурью». Да и не только домашние. Вспоминается мне такой случай. Взяла я с собой однажды на «посиделки» «Хижину дяди Тома». Мне так хотелось доставить моим подругам радость — почитать им вслух. И что же ты думаешь? Они смеялись, кричали: «Что мы, господа, что ли? Всё село нас засмеёт, если мы станем слушать тебя!» Это было всего 45 лет назад. А теперь, Катя, можно жить и работать в деревне и быть культурным, разносторонне развитым человеком. А можно и в большом городе жить узким мирком, жить скучно, неинтересно, не видя дальше своего носа. Теперь всё зависит от самого человека.
Перед тобой, Катюша, и перед твоими сверстниками целый мир!»
И вот ещё письмо:
«Прослушав по радио рассказ „Потерянное счастье", хочется сказать, прямо крикнуть: „Катя! Верни своё счастье!" Ведь этого хотят все, все.
Настолько душевный и откровенный разговор был у вас с корреспондентом, что, прямо, слушая его, мы все видели себя на твоём месте, -но, когда слушаешь со стороны, понимаешь, как надо поступить и как дальше жить.
Хотелось бы узнать твоё решение, а главное — твои мысли. До свидания, Катя, и обязательно поезжай домой», — писал машинист комбайна ПК-2М шахты № 20 треста «Щекинуголь» А. Г. Пыталев.
* * *
Недавно я получил приятное известив: Катя вернулась в колхоз.
Разумеется, скоро мы с ней опять встретимся.
==АНДРЮШИН РОЯЛЬ==
Среди других детей — в школе, на улице, во дворе, в кино-театре, на катке — его, пожалуй, сразу и не приметишь: он такой же, как все в девять лет. Бойкий, ну, может быть, чуть-чуть бойчее. У него так же озорно блестят глаза, может быть, чуть озорнее... Он такой же любознательный, как все, такой же непоседа, может быть, немножко больше... Он старается держать себя солидно в беседе со взрослыми, но это удаётся ему, может быть, немножко меньше, чем другим.
В общем — обыкновенный ребёнок. Но совсем недавно в его жизни произошло необыкновенное событие, о котором он, вероятно, никогда не забудет.
А случилось вот что...
Представьте себе заполненный любителями музыки строгий белоколонный зал Ленинградской филармонии. Только что закончился антракт, и в наступившей тишине как-то особенно отчётливо прозвучали по эстраде женские каблучки...
— Начинаем второе отделение концерта немецкого органиста Роберта Кеблера. Будут исполнены импровизации на заданную тому. Так как заявок поступило очень много, профессор выбрал только несколько. Одну из них он просил огласить.
Развернув записку, ведущая прочитала:
— «Уважаемый профессор Кеблер! Очень прошу, чтобы вы сымпровизировали на мои две песни „Ёлка" и „Месяц". Мне девять лет. Я очень люблю музыку и пытаюсь сам сочинять. Андрюша Горлов».
Нал оживился, все стали оглядываться — искать автора записки. Впрочем, его нетрудно было обнаружить среди взрослой публики.
Андрюша сидел сбоку во втором ряду, прижавшись к маме, очень смущённый столь неожиданным вниманием. А тут ещё кто-то захлопал в ладоши, его поддержали, и вот уже весь зал аплодирует не то маститому музыканту, уже подошедшему к органу, не то начинающему композитору, который от волнения нещадно теребит свой непокорный вихор...
Профессор поднялся на орган, и опять наступила полная тишина, в которой вдруг величаво, на густом органном звучании, возникла широкая русская мелодия...
За окном уже темно,
Солнце спит давным-давно.
Только месяцу не спится,
Видно, он упасть боится...
...Надо было видеть в этот момент горящие глаза, меняющееся каждую секунду выражение лица Андрея. Он то улыбался во весь рот, то становился серьёзным, а его маленькие, ещё ребячьи, пальцы нервно двигались на собственных коленях...
Это и были первые минуты нашего знакомства с ленинградским мальчиком Андрюшей Горловым.
Рассказывая об Андрюше, нельзя прежде всего не вспомнить о Лидии Фёдоровне Хомич, с которой тесно связана судьба мальчика. Эта ещё совсем молодая женщина, сама недавно кончившая консерваторию, встретилась с Андрюшей в школе, в обыкновенной школе, где она вела музыкальный кружок.
— Пришёл ко мне черноглазый семилетний мальчуган, — вспоминает Лидия Фёдоровна, — и решительным тоном, не допускающим возражений, заявил: «Я хочу учиться музыке».
И было в глазах мальчика что-то такое, что заставило молодого педагога встрепенуться, внимательней и дольше, чем обычно, поговорить с малышом, приглядеться к нему...
С тех пор каждый день, сделав уроки по арифметике, русскому языку, выучив басню, в общем, закончив свои школьные дела, Андрюша спешит домой к учительнице, чтобы сесть за рояль.
В открытую форточку вместе с весенним ветром врываются возбуждённые голоса ребят, гоняющих мяч, соблазнительно пробегает по комнате солнечный зайчик, а Андрюше надо играть гаммы:
«Фа — ми — ре — до...»
И так часами, неделями, месяцами...
Однажды в школе на переменке, читая «Пионерскую правду», Андрей заметил стихи:
Мы видим город Петроград в семнадцатом году. Бежит матрос, бежит солдат, стреляя на ходу. Так в Октябре упала власть буржуев и дворян, Так в Октябре мечта сбылась рабочих и крестьян.
Как это случилось, мальчуган и сам объяснить не мог, но эти слова вдруг для него зазвучали, обрели мелодию. Он еле досидел в этот день на последнем уроке — на арифметике (предмет, который он, кстати, очень любит), еле дождался минуты, когда смог повторить эту мелодию на рояле, повторять несколько раз, чтобы она запомнилась, не ушла...
Когда мы познакомились с Андреем, в собрание его сочинений входило уже девять различных песен, и он уже не только запоминал их, но вполне грамотно записывал па нотную бумагу, а одна из них, та самая — «Про Петроград» — уже была исполнена по радио детским хором.
— Как же ты сочиняешь музыку? — спросил я маленького композитора. — Как к тебе приходит вдохновение?
Андреи растерянно пожал плечами и по-ребячьи просто ответил:
— А ко мне никто не приходит, я сам сочиняю. Сажусь и сочиняю. Найду слова и думаю... И вдруг услышу мелодию, ну и записываю.
— Вот так, сразу?
— Нет, не сразу, — снисходительно улыбнулся Андрей. — Иногда напишешь — не понравится, приходится переделывать, 'потом ещё раз и ещё, пока хорошо не будет, пока песенка совсем понравится.
Интересуюсь, не пробовал ли маленький композитор сочинять другие произведения, кроме песен...
— Пытался, — неохотно ответил мальчик, — но ничего не получается. — Помолчал и добавил: —- Пока не получается...
По нашей просьбе Андрюша сел за рояль и, надо сказать, с исполнительским блеском сыграл... Что бы вы думали? «Экспромт» Шуберта.
Слушая произведение, требующее не только большой техники, но и тонкого понимания музыки, трудно было поверить, что всего только два года назад эти маленькие руки впервые встретились с инструментом.
Какими загадочными и непонятными тогда были для Андрея чёрные и белые клавиши! А нотные знаки — таинственные точки и палочки, причудливо разбросанные на пяти узких линейках, казались просто забавными воробышками, сидящими на телеграфных проводах.
Но это было два года назад. А теперь за роялем сидел музыкант, артист, — сосредоточенный, собранный, волевой. Звучали не просто выученные наизусть ноты. Андрюша играл вдохновенно.
Маленький пианист оторвал взгляд от клавиатуры, мечтательно закинул голову. Лицо его чуть побледнело, большие чёрные глаза сузились, губы сжались. Он весь в музыке, в этом огромном, заманчивом, раскрывающемся перед ним мире звуков.
Вот награда за долгие часы упорного труда.
Всё это происходило в одном из классов Ленинградской консерватории, и были мы не одни, а с известным пианистом Яковом Осиповичем Флиером.
Приехав всего на несколько дней в Ленинград для приёма экзаменов в консерватории, Яков Осипович с большим трудом по нашей просьбе выкроил время, чтобы познакомиться с нашим маленьким другом...
Известный музыкант поначалу ходил по классу, заложив руки за спину и дымил папироской. Но уже через несколько минут отложил папироску, сел в кресло и с явным вниманием стал слушать. И чем дальше, тем добрее становился его взгляд... А когда мальм и к кончил играть, Флиер подошёл к ному и сказал:
— Ну-ка, Андрей, дай мне сесть... Никогда в этом месте не бери педаль. И вообще у Баха с педалью нужно быть осторожным...
И под руками виртуоза только что, казалось бы, неплохо сыгранная Андреем фуга Баха зазвучала строго, величаво.
Андрюша слушал, затаив дыхание: вот что значит и талант и мастерство! Затем мальчик вышел из класса, а Яков Осипович Флиер улыбнулся и сказал:
— Ну, насчёт композитора говорить ещё рано. Пусть сочиняет, там видно будет. Но исполнительская жилка в нём безусловно есть. Я в этого мальчика верю...
***
Дальнейшая судьба Андрюши сложилась так, как и должна была сложиться судьба любого одарённого ребёнка в нашей стране. Андрюша учится теперь в музыкальной школе-десятилетке при Ленинградской консерватории, учится на круглые «отлично», к большой радости своих родителей. Кстати, мы ничего о них не сказали. У мальчика есть и мама — Вера Викторовна. К музыке она никакого отношения не имеет. Есть у Андрюши и папа — Фёдор Павлович Горлов — начальник цеха Ленинградской картонажной фабрики. Он имеет к музыке прямое отношение: любит её слушать. А что вы думаете, это ведь тоже надо уметь — слушать музыку.
И вот недавно в этой хорошей ленинградской семье произошло трогательное событие, которое, пожалуй, очень хорошо завершает наш очерк.
Дело было так. Вскоре после радиопередачи в редакцию позвонили по телефону, и какой-то незнакомый женский голос взволнованно сказал:
— Я только что слушала вашу передачу об одном ленинградском мальчике, о музыканте, об Андрюше Горлове. Вы не скажете, как мне его найти?
— Ляпом?
— Видите ли... — замялась женщина.— Как бы нам это сказать... Вы не знаете, у Андрюши есть собственный рояль?
Насколько я знал, у Андрюши дома инструмента не было. Так и ответил.
— Очень хорошо! — обрадовалась женщина.
И вот что она рассказала.
Известная ленинградская певица и профессор консерватории Зоя Лодий завещала спой любимый старинный рояль какому-нибудь музыкально одарённому ребёнку.
Женщина, которая позвонила, и должна была выполнить эту волю.
Услышав по радио рассказ об Андрюше Горлове, его игру, песни, им сочинённые, она решила, что Андрюша и есть тот самый мальчик, которому следует отдать рояль. И вот ужо инструмент большого музыканта запил своё новое место в скромной комнате маленького пианиста.
Сами понимаете, радости Андрюши Горлова не было границ. У него инструмент не папин, не мамин, а свой собственный... Старый рояль попал в хорошие, верные руки. Андрюша будет с ним дружить. Я в это верю...
==В СТРАНЕ ДРУЗЕЙ==
Признаться, не было у меня в последние годы мечты более заветной, чем совершить путешествие в Чехословакию.
И вот она сбылась — просто и неожиданно. Именно в этой стране состоялся международный радиоконкурс, на котором меня премировали. И премией оказалось приглашение к путешествию по Чехословакии.
Известно, что тысячи советских людей уже побывали в этой прекрасной стране и что написаны десятки искренних, увлекательных книг, очерков, газетных статей, опубликованы дневники и путевые заметки литераторов...
Могу ли я что-нибудь прибавить к тому хорошему, что многие увидели и уже рассказали?
Попытаюсь. И даже осмелюсь заявить, что я совершил некое «новое открытие» Чехословакии. Для себя, конечно. Хотя уверен, что это взволнует и моих читателей.
Опускаю подробности поездки по стране, описания удивительного дружелюбия и гостеприимства, которое наши друзья оказывают каждому советскому гражданину, и расскажу только о двух незабываемых встречах...
Как-то шёл я по Праге. И вдруг слышу знакомую речь. Невысокий подвижной брюнет, явно южанин, что-то быстро и не очень разборчиво говорит дюжему, широкоплечему человеку, а тот смотрит на него улыбаясь и отвечает тоже по-русски, с трудом, но очень старательно выговаривая слова... Прислушался и понял, что эта друзья, встретившиеся после долгой разлуки. И вот что я узнал.
Во время войны бакинец Али Алимарданов оказался в Одессе. Когда фашисты заняли город, Али ушёл в партизаны и вместе с другими товарищами скрывался в знаменитых одесских катакомбах.
Советские патриоты не давали оккупантам покоя ни днём, ни ночью, и гитлеровцы никак не могли с ними справиться. И вот в марте 1944 года они пригнали в Одессу для борьбы с партизанами чехословацкий полк.
Когда наши товарищи об этом узнали, то сразу же решили: с чехами можно договориться. А для переговоров командировали Али Алимарданова. Али чешского языка не знал, но очень быстро нашёл с ними общий язык... Он сказал чехам коротко и просто:
— Воевать надо не с нами, а с фашистами. Пошли.
И весь чехословацкий полк в полном составе, с вооружением и боеприпасами организованно перешёл на сторону одесских партизан и до конца славно сражался за наше общее дело.
Вот там-то, в одесских катакомбах, и подружились бакинец Али Алимарданов и чех Якуб Эммануил, стоящие сейчас рядом — подружились и вместе совершили немало подвигов.
В апреле 1944 года они подорвали склад боеприпасов в центре Одессы на Лагерной улице. Затем на центральном аэродроме подняли в воздух огромный бензосклад... Обо всём этом они рассказывали необыкновенно взволнованно. Али горячо говорил о том, что жители его родного Баку считают чехов своими лучшими друзьями... И тут я его перебил:
— Вот вы сказали, что бакинцы испытывают чувство большой любви и дружбы к чехословацкому народу...
— Да.
— Тут я с вами могу поспорить.
— Почему? — удивился южанин.
— Потому что мы, ленинградцы, в этом чувстве вам никак не уступим. Да и не только мы, ленинградцы, я бы сказал так: мы, советские люди...
— Я так и думал, — горячо подтвердил Али. — Мы — это весь Советский Союз. Мы любим народы всех демократических миролюбивых стран, которые вместе с нами кровь проливали... Товарищ Якуб Эммануил со мной вместе в диверсии участвовал, вместе с ним мы немецкий склад в районе Ближней мельницы подорвали, бензиновый склад на аэродроме подорвали. Товарищ Якуб получил ранение, ему нужно было срочно сделать переливание крови. Я отдал ему спою кровь.
— Это правда, — сердечно улыбаясь, произносит чешский друг.
И вот стоят рядом два человека, в чьих жилах течёт одна кровь, — бакинец Али Алимарданов и чех Якуб Эммануил, встретившиеся в Златой Праге через шестнадцать лет.
Ну как было не порадоваться вместе с ними, не пожать их мужественные руки и просто не расцеловать их, что я и сделал...
И ещё одна встреча...
Есть невдалеке от Праги небольшой городок — Раковник называется он. Там находится завод «Мопед-Стадион», изготовляющий мотопеды, которые, к слову сказать, пользуются в Чехословакии большой популярностью.
А на заводе этом в шлифовальном цехе трудится бригада молодых рабочих, руководимая Вацлавом Шварцем. Этому отличному коллективу недавно первому на заводе присвоено высокое звание бригады социалистического труда.
Естественно, мне было очень интересно поближе познакомиться с молодыми дружными ребятами, подробно расспросить, как они живут, трудятся...
Я отправился на этот завод. Но разговор наш неожиданно принял совсем другой оборот. От имени бригады Вацлав заявил мне, что у них самих есть очень важное дело к советскому журналисту.
Я показал на включённый микрофон:
— Пожалуйста, мы внимательно вас слушаем...
Вацлав говорил взволнованно, по-чешски, и не менее взволнованно переводил переводчик.
Вацлав рассказал о .том, что в их городе, на кладбище есть могила советского солдата Александра Васичкина и что двадцать девять членов бригады Вацлава уже многие месяцы ухаживают за этой могилой и часто собираются около неё в торжественном молчании...
Он рассказал и о том, что недавно Александр Васичкин стал им ещё ближе: они
зачислили советского солдата в члены своей бригады. Они за него работают, они за него выполняют норму, они за него получают 'зарплату...
И вы знаете, что они делают с ней? Я вслушивался в простые, необыкновенно трогательные слова и, даже не зная языка, понимал, что говорит этот чудесный парень...
Они делят зарплату Александра Васичкина на две равные части. Одну половину тратят на книги, экскурсии, на свои культурные нужды, а другую часть денег откладывают на сберегательную книжку, чтобы, собрав значительную сумму, начать розыски родственников Александра Васичкина, пригласить их к себе в гости, показать им город, за который сражался и погиб близкий им человек, и рассказать, как свято хранят они память о своём защитнике.
Л к советскому радиожурналисту они обратились с просьбой помочь им отыскать родственников Александра Васичкина...
Когда Вацлав кончил говорить, воцарилась долгая пауза. Я не сразу нашёл что сказать, а потом... Впрочем, вот что записано на плёнке:
— Это очень благородно и трогательно с вашей стороны. У меня нет слов... Это не может не тронуть, не взволновать тех, кому я буду об этом рассказывать. И много матерей, узнав об этом, скажут вам хорошее русское слово — спасибо...
— Не за что спасибо, — просто ответил Вацлав. — Это наш долг, и мы это делаем от всего сердца...
* * *
Сразу же по возвращении из поездки я рассказал по радио о судьбе русского солдата Александра Васичкина. Я не сомневался, что близкие Александра найдутся. И они нашлись. Не прошло и нескольких дней, как на радио пришли письма от людей, знавших семью героя. Нам сообщили адреса ныне здравствующих стариков Васичкиных — отца, матери и брата. А вскоре пришло письмо и от самих родителей Александра Васичкина.
Огромное стариковское спасибо велели они передать молодым чехословацким товарищам за сердечность и такую большую человеческую чуткость...
==С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ==
Как-то незадолго до встречи Нового года я побывал в Сибири, на Байкале, в тайге. Надо было в радиоочерке о людях, работающих в лесу, рассказать не бегло, не поверхностно, а всесторонне, так, чтобы и охват событий был широким, и звуковая палитра яркой и разнообразной.
Приехали мы в леспромхоз, помнится, рано утром на попутной машине. Мороз держал градусов под пятьдесят. Обжигал руки, ноем, а ветровое стекло полуторки сплошь разукрасил тропическими мохнатыми пальмами.
Шофёр — приземистый широколицый парень в дублёном полушубке — приглушил мотор, достал спрятанный за пазухой путевой лист, выскочил из кабины и зашагал в диспетчерскую.
А мы с товарищем стоим. Стоим и любуемся, как зачарованные.
Вокруг, насколько глаз видит, горы. Представьте себе — громадные, рассечённые каменистыми впадинами, одетые дремучим иссиня-чёрным лесом... В нескольких шагах от нас, в ложбине, живописно раскинулся посёлок леспромхоза: бревенчатые аккуратные домики и почти над каждой крышей дымок. Мы направились в центр посёлка. Прежде всего надо было повидаться с директором. Фамилию его мы знали: Клеменко Андрей Фёдорович.
Директор встретился нам по дороге. Его окружали люди, и он на ходу отдавал какие-то распоряжения. Он энергично жестикулировал, то и дело вытирая платком вспотевшее лицо, на котором особенно выделялись по-цыгански чёрные и очень живые чуть навыкате глаза. На нём были расстёгнутая меховая куртка, малахай с торчащими кверху ушами и валенки, как бы забрызганные опилками.
Клеменко поздоровался, критически оглядел нас сверху донизу и, видимо, решив, что мы в наших демисезонных пальто наверняка замёрзли, скомандовал по-украински:
— А ну, до конторы швидче, я тоже зараз.
И пошёл дальше.
Возле конторы мы познакомились с вернувшимся только что из лесу парторгом Ильёй Герасимовичем Прудниковым. Осведомившись, как мы доехали, он провёл нас в кабинет. Молча снял шинель, шапку, смахнул капельки воды с густых клочковатых бровей, которые придавали оттенок суровости его немного лукавым карим глазам и всему его открытому лицу с редкими, еле приметными рябинками.
Так же молча Прудников набил трубку, раскурил её и затем стал подробно расспрашивать о том, что привело нас в лес. Когда мы всё подробно ему доложили, он, несколько подумав, произнёс:
— Только, пожалуйста, не увлекайтесь экзотикой. А то я знаю, — вдруг громко рассмеялся Илья Герасимович, — как приедут журналисты, так и пошли писать: «Вёрст На тысячу тайга, горы, тучи да снега...» Да ВЫ не обижайтесь, — предупредил он. И уже серьёзно, постепенно увлекаясь, стал рассказывать нам о делах своего леспромхоза.
От берегов Ангары лес движется к низовьям Волги, на Украину, в далёкий Тахиа-Таш, туда, где зажигаются огни новых городов, шахт, заводов, гидроэлектростанции.
Парторг рассказывал о своей родной тайге с таким увлечением, с такой приподнятостью, которая всегда отличает человека неравнодушного, страстного.
Вот он уже не стоит на одном месте, а ходит по комнате с давно остывшей трубкой в руках. И трудно было удержаться от профессиональной привычки — не записать на плёнку его слова:
— Благодаря партии тайгу не узнать. У нас есть здесь, в лесу, такие люди, такие замечательные люди, — сказал он, как-то особенно выделяя эти слова, — каких, не обижайтесь, и в большом городе не встретишь. А механизмы, машины! Помните стихи: «В лесу раздавался топор дровосека»? Ну, конечно, в домашнем обиходе топоры ещё действуют, а на производстве — механизмы, машины. Теперь главная задача — всё это использовать.
Илья Герасимович смолк и почему-то упрямо пытался раскурить давно погасшую трубку...
Нам не терпелось как можно скорее попасть на участок, однако по совету Прудникова мы задержались в посёлке.
— Побродите, — сказал он. — Приглядитесь к жизни и быту лесорубов.
День уже был в разгаре, и во всём чувствовалось приближение Нового года. Посёлок принаряжался. Мы шли по широкой улице, и едва только включили звукозаписывающий аппарат, как сразу же характерные предпраздничные шумы, что называется, сами устремились на плёнку.
Гулко повизгивали рубанки, — это неподалёку в сосновой роще достраивали, торопясь к новогоднему новоселью, два жилых дома. Один из них уже весело поблёскивал остеклёнными окнами с резными наличниками, выкрашенными в голубой цвет.
Где-то рядом постукивали молотки, доносились реплики:
— Вниз! Ниже, правей чуточку!
Перед нами был цех, огромный, своеобразный цех.
И если бы какой-нибудь композитор, задумав написать нечто вроде лесной симфонии, попытался бы изучить фонограмму звучания этого цеха, то материал для прослушивания пришлось бы расположить примерно и такой последовательности.
Тикают часы. Они висят в конторе участка, разместившегося в товарном вагоне. Чаем показывают без пяти восемь. Но вот ровно в восемь зашумела передвижная электростанция, — это, так сказать, прелюдия. Л нот уже включена электропила. С головокружительной быстротой вращается пильная цепь вокруг звёздочки, брызжут опилки. Дне три минуты, а то и меньше, — и дерево, подталкиваемое шестом, валится, взметнув на дороге густое снежное облако. И не прост палится, а при этом поёт, издаёт такой очень своеобразный, скрипучий звук...
Затем звуковая гамма пополняется характерным шумом работы трелёвочного трактора. Вот он тронулся, и теперь ещё лязг гусениц обогащает наш необыкновенный оркестр.
То, что происходит дальше, не имеет определённого звучания, да и, пожалуй, лучше в этом месте прекратить запись на плёнку, потому что, накидывая металлический трос на вершину поваленного дерева и подтягивая его к машине на сорокаградусном морозе, старые, опытные лесовики иногда бросают такие реплики, которые могут покоробить слух... и не только музыкальный.
Но вот всё в порядке, и трактор тащит дерево к эстакаде. Опять можно включить магнитофон и услышать характерное повизгивание пилы. Это работают раскряжёвщики. Они разделывают древесину на сорта, определяя, какая часть дерева может стать палубой корабля, а какая, допустим, пойдёт на крепления в шахты или для шпал.
Потом в гамму звуков вплетается железное уханье грузоподъёмного крана. Стрела его подхватывает связку брёвен и плавно перегружает её на платформу.
Наконец, свист паровоза, — лесу открыта зелёная улица.
И снова тикают ходики. Уже девять. Миновал всего час.
Если план этого часа, предусмотренный по часовым графикам, выполнен — тайгу оглашает протяжный гудок и долго плывёт над деревьями, над дымом костров.
Во время обеденного перерыва рабочие, подкрепившись вкусным жирным борщом и горячими котлетами в передвижной столовой, отправились в вагон-клуб, прибывший сюда на передовой лесоучасток. Здесь, в клубе, срочно выпускались боевые листки, и агитаторы-комсомольцы, встав на лыжи, уходили с этими листками на самые далёкие лесосеки. Воспользовавшись свободной минутой, участники струнного кружка Повторяли песню, которую готовились исполнить на праздничном концерте. Впрочем; репетиция была прервана, потому что в этот момент в репродукторе что-то щёлкнуло и восторженный девичий голос объявил:
— Говорит центральная контора леспромхоза. У микрофона выступает парторг Илья Герасимович Прудников.
Все прислушались.
Сначала секретарь парткома говорил о встрече Нового года, о широком размахе социалистического соревнования. Илья Герасимович назвал передовые участки и затем сказал:
— Серьёзную тревогу вызывает отставание Зарасайского лесоучастка. До Нового года остались считанные дни, но зарасайцы иона ещё не выполнили своих обязательств.
Очевидно, на этом лесоучастке (кстати, на самом отдалённом в леспромхозе) положение было действительно угрожающее, потому что, когда мы через несколько часов зашли в контору, в кабинет директора, он стоял у стола в своей неизменно расстёгнутой меховой куртке, в малахае с торчащими кверху ушами, словно только что пришёл или собирался уходить, и гневно, сверкая чёрными глазами, возбуждённо кричал в телефон:
— Алло, Зарасай! Нагонишь? О щоб тебе голова с дыркой, — с ожесточением произнёс Андрей Фёдорович и, бросив трубку на рычаг, добавил: — Ой, погано, ой, сердце болыть.
Потом вдруг опустил уши малахая, застегнул куртку и, решительно обращаясь к нам, сказал:
— Пойдёмте. Побачим, яка образина у той бессовестной головы.
И вот мы едем на директорском «москвиче» смотреть, с позволения сказать, дырку, которую собирался проделывать в голове начальника Зарасайского лесоучастка Андрей Фёдорович. Едем по берегу, над уже замёрзшей рекой. Клубится пар, очертания гор сказочно прекрасны.
Но директор явно раздражён, ему не до красот природы.
И вдруг он принялся чуть слышно насвистывать...
Так под этот художественный свист нашего спутника мы прибыли на место.
Начальник участка, или, как его именовал Клеменко, «голова», был уже, видимо, предупреждён о нашем прибытии и вышел встречать директорскую машину.
Зарасайский начальник Савелий Карпович Удальцов был в синей бекеше, отороченной по бортам серым каракулем. Крупное, несколько удлинённое лицо с энергичными мужественными чертами, короткая, сильная, залубеневшая на ветру шея, спокойный холодноватый взгляд, серых глаз из-под тёмных густых ресниц — всё как бы говорило: вот он, весь я — Савелий Удальцов — со всеми своими муками и радостями, прямой, честный, открытый людям.
Шагал зарасайский начальник тоже крупно, уверенно, глубоко приминая снег валенками, и мы за ним едва поспевали.
По пути в контору все завернули на ближайшую лесосеку, почти примыкавшую к центральному посёлку. При этом Клеменко явно сознательно опережал Удальцова. Директор легко перепрыгивал через брёвна, бежал по ним, не успев отойти от одной лебёдки, вдруг возникал уже около другой.
Казалось, Андрей Фёдорович, задавшись целью увидеть всё собственными глазами, умудряется одновременно ходить и возле трактора, и рядом с электропильщиками, и на разделочной эстакаде.
Удальцов же, неторопливо и по-хозяйски оглядываясь, шествовал вслед за директором и, словно желая предупредить его появление на том или ином участке, покрикивал:
— Эй, там, на тракторе! Или:
— Эй, там, на лебёдке!
Признаться, эти окрики заставили нас насторожиться. Какое-то пока ещё неуловимое противоречие угадывалось в характере Удальцова, и мы даже настроили магнитофон, чтобы записать на плёнку и затем разобраться на досуге, почему такие странные интонации слышались в этом голосе, но Удальцов неожиданно смолк. Может быть, он угадал наши мысли. Да, вернее всего так, потому что, когда Савелий Карпович узнал о цели нашего приезда, он неодобрительно покачал головой и, почему-то тяжело вздохнув, сказал: «Костьми ляжем, а план дадим...»
...Три или четыре дня, оставшиеся до встречи Нового года, зарасайцы держали в напряжении весь леспромхоз. В приготовленной уже сводке о перевыполнении годового плана по участкам оставалась незаполненной всего лишь одна графа. Без неё леспромхоз не мог рапортовать в область, а область — в Москву. И только 31 декабря, когда над посёлком уже сгущались сумерки, в кабинете Клеменко раздался продолжи-
Тельный телефонный звонок. Клеменко почти сорвал трубку:
— Алло!
На другом конце провода послышался далёкий голос Удальцова: — С наступающим вас, Андрей Фёдорович!
— Якого биса! — закричал Клеменко.
А Удальцов, словно нарочно, продолжал изливаться.
— Несмотря на серьёзные трудности, — говорил он, покашливая и дуя в трубку, — мы всё-таки можем себя поздравить.
— Выполнили? — опять, не вытерпев, закричал директор.
— Да-да, конечно выполнили, разумеется, — отвечал Удальцов. — Сведения ужо отослали...
А черва двадцать минут в эфир летела экстренная радиограмма в областной центр. Мы решили запечатлеть и дробь телеграфного ключа, и звуки морзянки, в своём роде исторические для леспромхоза.
Только теперь, когда радиограмма была передана, Клеменко вспомнил о приближающемся празднике. Андрей Фёдорович поздравил нас с наступающим, озабоченно ощупал свой небритый подбородок, а Прудников пригласил нас к себе, на свою, как он называет, холостяцкую заимку, отведать настоящих сибирских пельменей, собственноручно им изготовленных.
Мы вышли на улицу. Вечер был снежный, тёплый. Во всех домах искрились на замороженных окнах приветливые новогодние огоньки.
Встречать Новый год мы намеревались вместе со всеми в клубе. Там готовился костюмированный карнавал. Перед балом хотелось немного отдохнуть, переодеться, и мы отправились в нашу комнату для приезжающих — в «заезжую», как здесь говорят.
Дом двухэтажный, крепко сколоченный, стоит несколько поодаль от посёлка на широком сибирском тракте, который ведёт прямо к Байкалу. Стоит один, обдуваемый со всех сторон ветрами. Леспромхоз уже давно перестал здесь быть монопольным хозяином заезжей.
Иногда, даже неведомо как, сюда зайдёт на огонёк охотник, возвращающийся с добычей, или геолог, догоняющий свою партию, а иногда наш брат, командировочный. Только и слышно: «Переночевать можно? Хозяйка, принимай гостей...»
В заезжей, когда мы туда вошли, было необычно шумно... Несколько молодых людей, видимо, только прибывших, не успев даже снять шубы и валенки, о чём-то жарко спорили, что-то, доказывали Илье Герасимовичу (и как только он успел сюда раньше нас!).
И по репликам, и по расстроенному виду собравшихся было ясно: разговор не очень праздничный и, прямо скажем, нерадостный... Через несколько минут это нам стал» совершенно ясно.
Прудников слушал, слушал встревоженных ребят, говоривших сразу скопом, а потом отрезал:
— Кончай базар! Докладывай по порядку ты, Виктор.
Смуглолицый, с чуть раскосыми глазами паренёк пододвинулся ближе к Илье Герасимовичу и, глядя ему в глаза, произнёс:
— До семнадцати часов мы подтянули, Илья Герасимович, на верхний склад все резервы. Постарались, конечно, и трактористы, и все. — Виктор указал на присутствующих. — А потом вдруг является мастер и сообщает: мы, дескать, «кое-чего» не догрузили... А Удальцов, оказывается, уже рапорт подал.
— Мы глядим: как же так? У вагонов древесина, на лесосеках хлысты, эстакада и та вся лесом завалена, — вмешалась одна из девушек.
— Да! — энергично повторил Виктор. — И эстакада, Илья Герасимович! А у нас ведь ещё лучше, чем у других, было.
Юноша замолчал, как бы собираясь с мыслями.
— Однако что ж вы решили предпринять? — нахмурившись, осведомился Прудников.
Виктор начинал заметно нервничать. Он хотел было встать, но Илья Герасимович положил ему руку на плечо:
— Сиди, сиди спокойно, рассказывай.
— Мы посоветовались, — горячо продолжал юноша, останавливая взгляд то' на Прудникове, то на своих товарищах, — и решили: в таких случаях надо проверять. Оставили только штаб — Тамара, я, Лёша и Костицын, а остальные — на лыжи и в лес. И вот обнаружили: на складе хлысты, на просеках хлысты. Не погружены, не вывезены.
— А это что у вас? — сердито спросил Прудников, заметив в руках Виктора какие-то бумажки.
— А это мы взяли от мастеров квитанционные справки, Илья Герасимович. — Виктор протянул документы Прудникову.
Тот приблизился к свету, чтобы получше рассмотреть бумажки.
— Стало быть, Удальцов обманул, — сурово произнёс Виктор, не дожидаясь мнения Прудникова.
Тамара презрительно фыркнула:
— Очки втёр!
Илья Герасимович аккуратно сложил и спрятал в бумажник справки, присел, закурил и, покручивая пальцем свои густые пучковатые брови, негромко вздохнув, ответил:
— Втёр.
Виктор сокрушённо воскликнул:
— Выходит, он не только нас обманул, он область обманул, Москву, даже Кремль!
Прудников промолчал. Он откинулся на спинку стула и, полузакрыв глаза, продолжал курить. В комнате установилась долгая напряжённая тишина. Мы тоже сидели в раздумье. Неожиданное сообщение молодых зарасайцев меняло и наши планы. Выходит, что торжество, новогодний рапорт лесозаготовителей, которым предполагалось завершить радиофильм, — отменяется. Что же делать? Как быть при такой ситуации и чем завершить наш радиорассказ о встрече Нового года? Именно в этот момент, словно подсказывая нам концовку, зазвучал в репродукторе приподнятый, торжественный голос диктора:
— «Внимание! Говорит радиоузел леспромхоза. Сегодня, 31 декабря, в клубе состоится большой костюмированный бал. Концерт самодеятельности, игры, танцы под духовой оркестр. Световые эффекты, конфетти, серпантин, буфет».
Световые эффекты, конфетти, серпантин...
Признаться, может быть, именно так и закончил бы радиожурналист свой рассказ, не окажись тогда рядом Ильи Григорьевича Прудникова.
Он неожиданно взял из моих рук микрофон и, пристально взглянув на Виктора Черемышева (теперь мы уже знали, что это — лучший электропильщик леспромхоза), сурово молвил:
— Давай!..
Виктор, видимо, всё понял. Он медленно подошёл ближе, откашлялся и начал прерывающимся от волнения голосом:
— Товарищи! В эту новогоднюю ночь я должен вас огорчить. Сводка о выполнении плана нашим леспромхозом, переданная по радио, неправильна. Это очковтирательство. Зарасайцы не выполнили своего обещания. И мы, комсомольцы, не можем покрывать обман государства. И вместе с тем я заявляю, что завтра утром в выходной все наши рабочие выйдут в лес и прорыв будет ликвидирован. И тогда мы передадим настоящую сводку...
И кончалась эта необычная речь словами, которых я никогда не забуду:
— Нам очень стыдно... Пусть простит нас страна за то, что случилось...
А потом подошёл Илья Григорьевич Прудников и сказал:
— Молодец! Хорошо! Надо всегда быть честным до конца... — И, помолчав, добавил: — С Новым годом, товарищи! С новым счастьем...
Прошло много лет.
Я вспоминаю эту историю и чувствую себя богаче от того, что в далёком сибирском леспромхозе встретил людей с таким большим и чистым сердцем...
=ЛЮДИ С КИРОВСКОГО=
Иван Давидович Леонов, фрезеровщик прославленного завода, не раз бывал в Москве. Он ездил делиться с друзьями опытом, узнавать новое для себя, учить и учиться. Поездка в Москву для него — дело привычное...
Но вот мне довелось видеть, как, собираясь в столицу, Иван Давыдович был в том состоянии приподнятости и волнения, которое проявляется у человека только в особые, редкие минуты жизни.
Этот скромный, не очень щедрый на слова человек сказал тогда у микрофона:
— Я уже немало на свете прожил. И не могу жаловаться, много было хорошего. Но вот эти дни у меня — самый большой праздник. Великую честь мне оказали коммунисты нашего завода: избрали делегатом двадцать второго съезда партии. И я, рабочий человек, вместе с другими посланцами народа буду утверждать новую Программу партии, программу нашей жизни. Я буду подымать свой мандат, зная: за мной весь наш Кировский завод, вся наша рабочая гвардия, все наши люди. А какие у нас люди!..
Люди с Кировского... Их тысячи. Это и пареньки, которые ещё ходят в учениках, и прославленные новаторы — герои наших дней, и потомственные уважаемые ветераны — путиловцы...
Много раз бывал я на Кировском заводе, и не случайно корреспондента манит сюда знакомая дорожка. Какая уж там дорожка! Да перекрести здесь сотни дорог, двинь сюда хоть сводный батальон писателей и журналистов — тесно никому не будет.
Итак, пройдём по заводу ещё раз.
Слившись с людским потоком, спешащим к началу смены, шагаю по центральной аллее. Доска почёта...
Но рядом-то со мной идёт не Карасёв, не Леонов или Жуковский — прославленные гвардейцы труда, известные не только у себя на заводе, а и всему городу. Рядом со мной вышагивает незнакомый большерукий, в замасленной спецовке человек с весёлыми, задиристыми глазами. Разговорились. Назвался охотно: Евгений Петрович Шварёв, бригадир. Шварёв! Так ведь я же его знаю! Встречаться, правда, не доводилось, но слышал: семьдесят очень важных рационализаторских предложений дала цеху за короткое время его бригада...
Ну, разумеется, тут же пытаюсь взять интервью. Шварёв разглядывает меня с припрятанной в глазах усмешкой: дескать, давайте! Спрашивайте. У каждого своя работа.
Но вдруг заговорил сам, словно испугавшись, что я могу не спросить о том, что важнее всего:
— Вы знаете, у нас вчера проходил день новатора, как раз в нашей бригаде. Это было в обеденный перерыв. Пришли фрезеровщики, технологи с других участков, много народа собралось. Ну вот, мы, значит, и показывали, что есть у нас нового. Приспособления... Потом новую отрезную фрезу... И ещё фрезу, которая по ГОСТу никак не подходит. Ну и что же! Дело же не в ГОСТе...
Евгений Петрович увлёкся и перешёл на терминологию, малодоступную неискушённому человеку. Но я его не прерывал, потому что говорил он о чём-то очень важном, говорил живо, страстно, словно продолжая вчерашний спор.
Но было ясно: новаторам удалось всё же убедить своих оппонентов в преимуществе предложенной ими фрезы...
— Да, — продолжал между тем Шварёв, — демонстрировали мы ещё на долбёжном станке обработку нажимных плит.
— Тоже новшество?
— А как же!
— Кто же это всё придумывает у вас? А? Кто у вас такой смекалистый, головастый?
Евгений Петрович широко повёл рукой, как бы показывая своих друзей.
— У нас все придумывают. Вот работает человек на станке — и возникла у него какая-нибудь идея, какая-нибудь мысль пришла. Это бывает часто... Каждый норовит свою работу сделать получше да побыстрей. Но одному разработать идею не всегда удаётся. Как говорится, ум хорошо, а два — лучше. Ну так вот — мы, значит, все и прикидываем, берём чертёж и начинаем судить да спорить. По технологии так, скажем, полагается, а мы по-другому решаем...
— А -технологи на вас за это не сердятся? — спрашиваю осторожно.
— А как же? Бывает! Только ведь дело-то общее. Соглашаются они с нашими поправками. Лучше бы, правда, прежде чем чертежи составлять, они бы советовались с рабочими. Большая польза была бы от этого.
Послушали бы, как он это говорил, с какой убеждённостью!
Если понаблюдать, как говорит любой человек, то непременно заметишь у каждого некий свой «голосовой почерк». Учитель, скажем, говорит размеренно, мягко, строевой офицер — чётко, с некоторой суровой сдержанностью. А какой «почерк» у Шварёва? Как бы это лучше сказать? Пожалуй, так: у рабочего Шварёва — взволнованный голос художника, рассказывающего о своей картине, в которую вложил всего себя.
В начале этого очерка я помянул писателей, которым нашлось бы на Кировском немало дел. Впрочем, домоседов из числа их можно успокоить: здесь, на заводе, есть свои литераторы. Вот двое. Оба молодые. Один—технолог, другой—конструктор. Я познакомился с ними в прошлом году, в кабинете истории завода. Они походили на двух изыскателей, поднимающих пласты архивных пород. Они (Станислав Костюченко и Юрий Фёдоров) показали пухлую рукопись, которая начиналась так: «Эта книжка не писалась за канцелярским столом. Она сама появилась на свет, появилась в один день, а если точнее — в один вечер. Нам не пришлось выдумывать героев и подбирать для них положительные и отрицательные черты, как это делают писатели, подолгу вынашивая образы в профессиональных портфелях. Мы сделали проще: мы позвонили героям по телефону и договорились с ними о встрече...»
Это было год назад. А сейчас, когда мы снова встретились со Станиславом Костюченко и Юрием Фёдоровым, они протянули мне книжку «Краснопутиловские зори». Первая книга молодых писателей, родившаяся здесь, на заводе. Значит, и путь в литературу может лежать через завод.
Но вот ещё одна встреча на Кировском. Анатолий Макаров не причастен к литературе как автор и пока ещё не выведен в ней как герой. Впрочем, последнее очень возможно... Об этом рабочем парне говорят: «Он трудится на сварке необыкновенно...»
Спешу с микрофоном в его цех. Долго наблюдаю под ослепительный фейерверк искр, как работают сварщики. Вижу: люди пристально вглядываются в металл сквозь щитки, зажатые в левой руке, в то время как правая ведёт сверкающий электрод... Разыскиваю Макарова, приглядываюсь к его приёмам... Л он совершает нечто необыкновенное.
Предохранительный щиток у сварщика закреплён на голове, на шлеме. И парень ведёт сварку не одной, а сразу двумя руками. Необыкновенно, но просто.
И сам Анатолий поясняет:
— Ничего тут сложного нет. Зато работаю в два раза быстрее.
И опять со мной говорил не просто технический исполнитель, а творец...
Таковы они — люди с прославленного Кировского.
=ДЕНЬ РАДИОЖУРНАЛИСТА=
Каждый день радиожурналиста наполнен событиями, впечатлениями, встречами, удачами или разочарованиями... И вот об одном таком обычном дне я и хочу рассказать. Делаю это не для того, чтобы раскрыть перед вами какие-то профессиональные «тайны», а для того, чтобы лишний раз вдуматься в явления, с которыми повседневно сталкиваешься в жизни.
День, о котором я хочу рассказать, конечно, имеет и месяц, и число, но не в этом дело.
Раскрываю свой рабочий блокнот. В нём — короткие записи:
«Встреча боевых друзей завтра, в 12 часов, на том же месте».
«Павел Соколов — завод «Электросила», 16 часов (не забыть про стихи)».
И ещё: «Родильный дом». Вместо часа стоял вопросительный знак.
С этого и начался мой рабочий день — с телефонного звонка в Снегирёвский родильный дом. Мне ответили коротко:
— Приезжайте.
Я вызвал машину, оператора звукозаписи, и мы помчались. Рождение нового человека... Это волнующее событие не раз служило темой для моих репортажей. Но в данном случае я спешил особенно. Ленинградка Антонина Николаевна Сидорова, может быть, именно в эти минуты дарила стране и мужу десятого гражданина. Отец, разумеется, был в приёмной.
— Ну как?
— Нет ещё, — ответил Иван Филиппович и тяжело вздохнул...
В такие минуты молчание всегда очень красноречиво. И мы молча ждали час, другой... Но меня-то ждали и другие дела... В общем, запись в родильном доме не состоялась. Бывает, ничего не поделаешь...
Что-то сбивчиво говорю Ивану Филипповичу и ретируюсь.
Спешу в редакцию, уже поглощённый предстоящей встречей боевых друзей. «Завтра, в 12, на том же месте...»
Завтра!.. Но ко всякой встрече надо готовиться заранее.
Мне было известно, что у Казанского собора, у памятника М. И. Кутузову, должны встретиться два боевых друга. На этом месте юношами они разошлись, пожав друг другу руки, в грозный июньский день 1941 года ровно в 12 часов. И теперь, в этот же час, они снова встретятся — уральский инженер и ленинградский врач, встретятся через двадцать лет... Конечно, я мог бы просто прийти, поставить микрофон и запечатлеть на плёнку радость этого свидания, возгласы друзей, крепкие поцелуи.
Да, конечно, можно было сделать так, и, к сожалению, мы часто так и делаем: придём, увидим, запишем... Но, честно говоря, следует поступать иначе. Радиожурналист не может быть просто свидетелем событий. Он всегда — непременный участник- происходящего.
Вот и в данном случае, готовясь к встрече двух старых друзей, я мысленно перенёсся в далёкие военные годы. На помощь мне пришёл старый военный блокнот. Перелистываю пожелтевшие от времени страницы, просматриваю записи давних лет. И, наконец, одна из них останавливает моё внимание:
«Сорок первый год. 25 июня. На Невском, на углу Садовой, расставались два мальчика в солдатской форме, два школьных товарища. Один — высокий, в очках, с растерянной улыбкой, в гимнастёрке явно не по росту, отчего руки его казались худыми и длинными. А другой — коренастый, с юношеским румянцем, ладный, подтянутый, словно бывалый воин. Они стояли посреди панели, с рюкзаками на спинах. Прохожие толкали их, но друзья, не обращая внимания, держали друг друга за руки и наперебой торопливо что-то говорили... До меня донеслись обрывки слов: «Ничего, Сашка, держись, это ненадолго. Скоро встретимся».— «Скоро ли?»—вздохнул высокий и, печально улыбнувшись, крепко обнял товарища. Потом отпрянул, встряхнул протянутую ему руку, неловко поправил очки, хотел что-то сказать ещё, но, вдруг резко повернувшись, ушёл. А приятель долго смотрел ему вслед, а потом тоже ушёл, но только в противоположном направлении... И мне подумалось: «Друзья пошли одной дорогой, к одной цели. Суждено ли им встретиться вновь?»
Теперь я уже знал, с чего начну завтра свой репортаж у памятника Кутузова...
Да, но это будет завтра, а сегодня у меня очень важная встреча на заводе «Электросила». Предстоит разговор с человеком, о котором я думаю уже много дней... Я готовлю очерк о Павле Николаевиче Соколове, рабочем-калильщике. Он ждёт меня на за~ воде ровно в 16 часов.
Что-то меня задержало, и я только-только поспел к концу смены. Павел Николаевич уже прибирал станок и, заметив меня, смутился и слегка покраснел. Уже раньше я обратил внимание, что этот крепкий, сильный мужчина был склонен заливаться румянцем, как красная девица.
— Видите ли, — медленно начал он, — я, кажется, вас подвёл. Совсем неожиданно в школе перенесли на сегодня занятия, и я никак не мог освободиться, а сообщить вам не успел. Правда, урок начнётся через час, но надо ещё успеть переодеться...
Я успокоил Павла Николаевича, сказав, что разговор можно перенести и в школу, и что это даже в некотором смысле лучше и интереснее.
Павел Николаевич замялся, покраснел ещё больше. Он явно не был в восторге от моего предложения, но, будучи человеком очень мягким и воспитанным, смущённо произнёс:
— Ну что ж, если вы хотите, пожалуйста. Я буду рад. Только... гм-м...
Сделав руками какие-то неопределённые жесты, он не закончил своей мысли и, слегка поклонившись, заспешил к выходу.
Когда мы пришли через час в школу, что напротив «Электросилы», коридоры её были заполнены молодёжью, хотя встречались люди и солидного возраста. Это были рабочие завода, ставшие к вечеру школьниками. Зазвенел звонок. Шум в коридоре усилился. Перебрасываясь шутками, ученики устремились в сноп классы. В одном из них, в десятом, уже стоял микрофон, и сюда вслед за своими товарищами по заводу вошёл неторопливой походкой Павел Николаевич Соколов.
При его появлении все встали.
В темно-синем костюме, безукоризненно причёсанный, с белоснежным воротничком и аккуратно повязанным галстуком в тон костюма, Павел Николаевич подошёл к учительскому столу и мягко сказал:
— Здравствуйте, товарищи. Садитесь, пожалуйста.
В десятом классе вечерней школы рабочей молодёжи начался урок истории. Медленно расхаживал учитель по классу и неторопливо, как-то очень бережно произнося каждое слово, излагал новую тему: о причинах трагедии в Порт-Артуре.
Учитель пол урок, ученики и микрофон чутко слушали, а я смотрел на него, ещё час, тому назад стоявшего у калильного станка, и думал...
Этот человек с высшим гуманитарным образованием, блестяще закончивший институт, вот уже на протяжении нескольких лет совмещает работу у станка с педагогической деятельностью... Он, конечно, и сам не подозревает, что несёт в себе зримые черты новых людей, о которых так мечтал Владимир Ильич Ленин и которые уже вырастают, поднимаются во весь рост в блестящих предначертаниях Коммунистической партии.
Мои мысли прервал диалог между учителем и учеником.
— Вы говорите правильно, но надо стараться точнее формулировать свои мысли,— заметил Павел Николаевич, выслушав ответ вихрастого юноши.
— Да, — опустив голову, пробормотал ученик. — Тут микрофон стоит, не сформулируешь...
— Но ведь микрофон-то стоит и передо мной, — улыбнулся Павел Николаевич. — Ничего не поделаешь...
По классу пробежал смешок, и урок продолжался. Я понял это как намёк, взял микрофон и удалился, чтобы но смущать больше ни учеников, ни учителя.
А уже после уроков, в опустевшем классе, перед тем же неизбежным микрофоном мы долго и по душам говорили с Павлом Николаевичем о жизни, о его судьбе, о работе, о поэзии. Да-да, о поэзии. Потому что учитель и калильщик Соколов оказался ещё и поэтом.
Надо сказать, что поначалу мне с ним было очень трудно беседовать. Как и всем скромным людям, Павлу Николаевичу казалось излишним говорить о себе, И только неожиданно пришедший мне в голову вопрос заставил его встрепенуться, оживиться и забыть о микрофоне:
— О-о, родители! Родители были у меня очень хорошие. Ну, конечно, больше всего я обязан своей матери. Она была простой труженицей, крестьянкой, очень любила свою семью, детой, старалась во что бы то ни стало дать нам всем образование. Отец мои крестьянин — был большой трудолюб. Вы знаете, ещё совсем маленького отец брал меня с собой в лес, заставлял работать топором, пилой. Ему, конечно, самому было куда легче отпилить дерево, чем со мной, но таким образом он приучал к работе, к природе, к труду. До сих пор эти впечатлении юности, связанные с лесом, с полем, для меня дороги...
И когда я иду по знакомым местам,
И' здесь, всё мне до боли родное.
Даже этим в пыли придорожным кустам
Поклониться готов годовою,—
неожиданно закончил он стихами. Я улыбнулся: Собственные?
Ну да, привычно покраснев, ответил мой собеседник и продолжал:
— Ну, а потом я стал учиться. И тут я должен сказать несколько слов о человеке, которому я тоже очень многим обязан. Это была учительница литературы Ольга Павловна Мишалина. Прекрасной души человек, и вместе с тем строгий и требовательный педагог. Вот она-то и пробудила во мне любовь к книгам, научила меня читать их и понимать. Она научила меня ценить дружбу и разбираться в людях.
Павел Николаевич потёр ладонью лоб, тяжело вздохнул и усмехнулся.
— Что, устали? — с тревогой спросил я.
— Да, день тяжеловатый выдался сегодня. У меня на заводе сменщик в отпуске, я один, да и урок был нелёгкий.— Он замялся.
— А тут ещё этот разговор... — посочувствовал я, правда, не очень искренне, так как мой журналистский эгоизм всё равно не мог бы выпустить «жертву».
— Ничего, ничего, — успокоил меня собеседник. И наша беседа продолжалась.
Юность Павла Соколова была такой же, как и у многих его сверстников. Все планы на жизнь поломала война. Как и для всех, тяжелы для него были фронтовые годы, но, как все, он их с честью одолел. Демобилизовавшись из армии, Соколов приехал в Ленинград. Не было ни специальности, ни образования... И вот он поступает в университет труда — грузчиком в порт. Сам он говорит об этом так:
— Ну что ж, работа в порту, конечно, тяжёлая, сугубо физическая. В норные месяцы было очень трудно с непривычки, но потом я втянулся, и когда, бывало, несколько времени не поработаешь, увидишь что-нибудь тяжёлое — захочется двинуть плечом, поднять: чувствовал налитые мускулы. Но, знаете, мне всё-таки хотелось приобрести хорошую специальность, и вот я поступил на завод «Электросила». Когда я пришёл впервые в цех, мне казалось, что сейчас эти огромные станки навалятся на меня и задавят. Я просто их боялся. И вот, помню, подошёл ко мне механик наш Иван Николаевич и говорит: «Сколько у тебя образования-то?» Я .говорю: «Да грамотный!» — «Так ты мне подойдёшь, — говорит, — у меня есть для тебя должность — во!»
Оказалось, это не работа, а писанина. Надо было заполнять важные требования на кожи, на мыло, на рукавицы, а потом ходить самому получать. И я бродил по отделам, где, знаете, девушки сидят, невесты, а я, такой здоровый мужик, за рукавицами хожу...
Павел Николаевич даже поморщился при этом воспоминании и добавил:
— Так было стыдно, и всё время хотелось такой работы, чтобы видеть свой труд, быть настоящим рабочим. И вот подвернулся этот случай. Я увидел, как работает товарищ на высокочастотной установке в термической мастерской. Ему как раз нужен был ученик. Я туда перешёл и быстро освоил специальность калильщика. И вот, когда я увидел, что работаю не хуже других и передо мной, что ни час, всё выше и выше вырастает груда готовых изделий, я поднял голову и начал по-настоящему жить... В это же время я и в институт поступил. Вы знаете, как это трудно было — работать и учиться...
— Простите, — удивился я, — а разве сейчас преподавать в школе и работать у станка вам нетрудно? Мой собеседник задумался.
— Нелегко, — усмехнулся он, — что и говорить. Меня иногда спрашивают, почему я не бросаю производства... Но, вы знаете, это, по-моему, просто немыслимо. Разве можно уйти из родного дома? А завод для меня именно родной дом, да ведь и школа, в которой я преподаю, тоже при заводе.
Мы ещё долго в этот вечер разговаривали. Потом Павел Николаевич читал свои стихи...
Уже за полночь, выйдя на Московский проспект, мы крепко пожали друг другу руки. Я проводил глазами фигуру удалявшегося человека — учителя, рабочего, поэта...
Как много есть людей, знакомство с которыми приносит большую радость! Я был уверен, что именно такого человека и нашёл для своей новой радиопередачи...
Ещё на лестнице, подходя к своей двери, я услышал, как у меня в комнате надрывается телефон.
— Поздравляю, три восемьсот! — взволнованно прокричал кто-то в трубку.
— Какие три восемьсот? С чем вы меня поздравляете? Вы, наверно, но туда попали, — раздражённо ответил я.
— Да вы послушайте: родилась наконец Машенька, родилась!
Вот теперь я сообразил, в чём дело, быстро подключил свою технику к телефонному аппарату и сердечно поздравил счастливого отца. А магнитофон записал ответ:
— Спасибо! Вы знаете, такая девка, говорят, вся в меня — красавица и три восемьсот весит, представляете себе?
Я не представлял, много это или мало — три восемьсот, но от души сказал папаше ещё несколько добрых слов и, уже повесив трубку, подумал: «Десятый ребёнок в семье простого человека — и такая радость! Как это хорошо!»
На этом рабочий день радиожурналиста всё-таки завершился. Я заглянул в записную книжку. Завтра предстояли новые дела, новые события, новые встречи...
=И ЕЩЁ ОДНА СТРАНИЧКА=
Беспокойная, но очень счастливая профессия радиожурналиста. Ведь именно благодаря ей на моём жизненном пути встретилось так много по-настоящему хороших людей, интересных судеб.
Вот о некоторых из них я и попытался рассказать в этой книге... Однако мой нетерпеливый редактор не раз уже напоминал, что пора, мол, и честь знать...
Ну что же, решил я, лучшего конца, чем появление на свет нового человека — не найти. И почти без сожаления поставил точку.
И вот тут-то случилось событие, которое заставило меня снопа взяться за перо. Произошла одна из самых ярких встреч, которая глубоко взволновала меня как человека.
Было это в замечательные дни работы XXII съезда пашой партии, утвердившего программу строительства коммунизма.
Стояла чудная пора, «очей очарованье». А надо вам напомнить, что в том году осень была действительно чарующая, небывалая, как будто природа разделяла нашу радость, наш праздник1, наше обновление...
Ранним утром к перрону Московского вокзала, словно в раздумье, подошёл поезд. Был тот час, когда нет обычной вокзальной суеты, вся жизнь ещё по-ночному несколько замедлена и звучит как-то приглушённо.
Пассажиры выходили не торопясь, сонно прищуриваясь, молчаливые...
И вот, как в раме, в дверях вагона появилась женщина, которую я встречал.
С первых минут знакомства, с первого рукопожатия мне показалось, будто я давно уже знаю этого человека, и мне с ним просто, уютно и всегда интересно.
Если коротко, то есть анкетно, рассказать о судьбе Елизаветы Яковлевны Драбкиной, то это будет выглядеть так.
Елизавета Яковлевна родилась в 1901 году в семы- профессиональных революционеров. Её отец, крупный партийный работник, был известен в большевистском подполье под именем Сергея Ивановича Гусева.
Мать Елизаветы Яковлевны — член партии большевиков с 1902 года (её подпольная кличка Наташа) — выполняла самые опасные партийные поручения.
Старый революционер Николай Евгеньевич Бурении так вспоминает о коммунисте Наташе:
«Среди работавших товарищей была одна молодая женщина — мать с трёхлетней девочкой. Настоящего имени её никто не знал.
У неё была кличка Наташа, а девочку звали Лизка.
Наташа была очень молода, очень хорошенькая и привлекала к себе общее внимание и расположение тем, что всегда была весёлой и приветливой. Была ли у неё своя квартира или комната — никто не знал, но все знали, что, если являлось какое-нибудь рискованное или серьёзное поручение, Наташа всегда готова была отправиться в путь. Замечательно было то, что она всегда и всюду появлялась со своей Лизкой...»
...А упомянутая Лизка уже в 1917 году, когда ей не было и 16 лет, сама стала членом Российской Коммунистической партии (большевиков). Узнав об этом, воспитанницы Ростовской гимназии, где училась Лиза, в порядке бойкота перестали ей подсказывать на экзаменах. Однако, благополучно закончив гимназию, Лиза в июне 1917 года отправилась в революционный Петроград, где её ждала мать...
Прошло почти полвека... Конечно, за это время Елизавета Яковлевна бывала не раз в Ленинграде, но в данном случае она приехала в наш город специально по моей просьбе.
Есть много мест в Ленинграде, связанных с историей революции, партии, с именем Ленина и его ближайшей соратницы Надежды Константиновны Крупской... Волею судьбы Елизавета Яковлевна оказалась свидетелем, а иногда и участником многих памятных событий. Сама она говорит об этом так: «Моя роль в этих событиях была очень небольшой. Но мне многое пришлось пережить, и многое мне запомнилось, многое я вижу так ясно, словно это было вчера».
И вот мы отправились с Елизаветой Яковлевной в здание бывшего кадетского корпуса, где в июне 1917 года проходил Первый Всероссийский съезд Советов и где Ленин произнёс известные всему миру слова о том, что в России есть такая партия, которая готова взять власть в свои руки.
Елизавета Яковлевна не была здесь с тех памятных дней. Глядя на её милое взволнованное лицо, на то, как, медленно обходя пустой зал, она пристально оглядывала его, было ясно, что и сейчас она отчётливо представляла себе картину того далёкого дня...
И Елизавета Яковлевна заговорила... Микрофон был уже включён, её слова фиксировала магнитная плёнка. Она говорила как бы сама с собой, но говорила для истории...
— Да, это было здесь, — звучал в этом зале голос старой большевички... Она вспоминала о событии, хорошо всем известном, но её волнение в мгновение передалось мне, и я очень живо представил себе, как это всё было, а о многом вообще услышал впервые. Скажем, о трогательной встрече девочки Лизы с Ильичом в Париже в 1911 году...
Она пришла к нему в гости, на улицу Мари-Роз, а Владимир Ильич, познакомившись с малышкой, спросил: «Что бы тебе больше всего хотелось иметь?»
Девочка, не раздумывая, ответила: «Шляпу с вишнями».
Ленин удивился: почему ей нужен не кулёк с вишнями, а шляпа? А когда Владимир Ильич понял, что пределом девчоночьих мечтаний была модная по тогдашним временам шляпа, украшенная вишнями, он долго смеялся так, как умел смеяться только Ленин.
И, наверное, тогда, в маленькой кухоньке на улице Мари-Роз родилось в детском сердце ещё неосознанное большое чувство к этому человеку с рыжеватой бородкой и с такими весёлыми, удивительно добрыми, насмешливыми глазами.
И тех пор Елизавета Яковлевна много раз видела Ленина, слышала его, говорила с ним. Работала она и под руководством Надежды Константиновны Крупской, часто бывала у них дома.
Общение с ними неизбежно рождало в хороших людях веру в человека и в его луч-шее будущее.
Эти высокие чувства пронесла через всю свою нелёгкую, суровую, полную испытаний жизнь Елизавета Яковлевна.
И вот по некоторым петербургским адресам этой жизни мы и совершили наше увлекательное путешествие...
Как-то бродили мы около Финляндского вокзала, в поисках места, где ещё до революции пятнадцатилетняя Лиза Драбкина вместе с Надеждой Константиновной Крупской организовала детскую площадку для ребят Выборгской стороны. Мы искали долго, проходили улицы, переулки, заглядывали во дворы...
Елизавета Яковлевна шла медленно, сосредоточенно, иногда протягивая вперёд руки, словно ощупывая то место, к которому мы приближались, и всё время отрицательно качала головой, как бы говоря: «Не то, не то...»
Память!.. Великий помощник человечества! Как много кануло бы в вечность, если бы не она...
И вдруг на одной из улиц — теперь она носит имя Комсомола — Елизавета Яковлевна пошла бодрей, щёки её покрылись лёгким румянцем, она завернула в подворотню и совсем уже уверенно и легко направилась в сторону дворового садика, где между кустов и цветов виднелся фонтан, вокруг которого играли ребятишки...
— Да, вот это именно здесь ц было. Конечно, город изменился, это не так легко узнать, но вот здесь, на этом самом месте был пустырь. Он был обнесён забором, поэтому мы и выбрали его для детской площадки...
Елизавета Яковлевна вспомнила много трогательных подробностей об этом первом большевистском детском садике, о детях с недетскими глазами... Они не видели ничего, кроме каменных дворовых колодцев. Трудно поверить, что многие из них никогда не видели цветов, а один малыш, Алёша Калёнов, даже думал, что цветы поют...
И тогда молодая девушка, мечтавшая о революции и баррикадах, сама не понимала, какой большой вклад в дело революции вносила она, согревая детишек теплом своего сердца.
Поднялись мы и на шестой этаж дома по 10-й Советской улице, в квартиру, где жила маленькая Лиза и где однажды в 1914 году, придя из гимназии, она узнала, что её мать арестована.
Елизавета Яковлевна вошла в комнату и очень удивилась:
— Какая маленькая комнатка! А в детстве она мне казалась большой...
Подойдя к окну, она посмотрела вниз и улыбнулась:
— Вот напротив всегда стояли шпики. <)и11 II не догадывались, что мы их хорошо знали, даже по именам. Помню одного — Таракана... Вы знаете, — Елизавета Яковлевна повернулась к теперешним жильцам квартиры, которые, обступив её, с интересом слушали: — Вы знаете, ведь в вашем доме жило много нелегальных большевиков, и в этой квартире часто бывал Яков Михайлович...
— Свердлов? — удивился кто-то.
— Да, Свердлов, — просто ответила Елизавета Яковлевна.
Ведь она была его личным секретарём, правда, несколько позже...
Были мы и на Сердобольской улице, куда Елизавета Яковлевна провожала Надежду Константиновну Крупскую. Здесь находи лось последнее подполье Ильича, и в памятную октябрьскую ночь Лепим ушёл отсюда в Смольный...
Мраморная лестница бывшего дворца Кшесинской привела нас в комнату с балконом, известную всему миру. Сюда Ильич вызвал Лизу для очень важного разговора...
Зашли мы, конечно, и в Летний сад. Ели завета Яковлевна не спеша ходила по ал леям, любовалась его осенним нарядом... , Много есть прекрасных садом, но наш Летний сад неповторим. Он весь пропитан лирикой Пушкина, музыкой Майкопского, какой-то особой памятной романтикой нашего города...
Мы зашли сюда просто посидеть, отдохнуть, а сад этот вызвал у Елизаветы Яковлевны новые воспоминания...
Только тогда он был зимним, кругом лежал снег, и ночное небо над ним было в звёздах.
Это был 1918 год. Немцы подходили к Петрограду... Перед отправкой на фронт несколько бойцов из отряда союза рабочей молодёжи пришли сюда, в этот сад. Впервые за много месяцев, полных политических бурь, ребята оказались в этой тишине, увидели деревья, увидели такое чистое, спокойное небо. Снег чуть искрился от пробивающегося сквозь деревья лунного света...
Ребята шли осторожно, боясь спугнуть тишину. Прекрасен был и сад, и его ажур-ил и решётка, и стройный силуэт Петропавловки на тёмном звёздном небе. Все молчали... Было как-то и сладко, и грустно от мысли, что, может быть, завтра их уже не будет, а красота эта останется...
А ведь этим мальчикам и девочкам было всего по 16, по 18 лет. Они рвались на фронт, охваченные желанием отдать жизнь да победу революции и, может быть, ценой своей гибели отстоять любимый Питер...
Елизавета Яковлевна долго сидела молча, молчал и я. А потом, глядя на резвившихся вокруг ребятишек, моя спутница сказала:
— Смотрю на этих малышей и думаю об их будущем... Вы знаете, я сейчас как-то особенно чувствую связь этих дней с моей молодостью, с первыми годами революции. Ведь паше сегодня как бы воскрешает прошлое, замечательное ленинское время, водь правда? — Елизавета Яковлевна своим чистым, ясным взглядом посмотрела мне прямо в глаза...
— Правда, — ответил я. — Мы все так чувствуем.
— Так хочется, — продолжала Елизавета Яковлевна, — чтобы ещё лучше, ещё глубже наша молодёжь поняла настоящее и увидела своё будущее. Потом мы с Елизаветой Яковлевной отправились ещё по одному адресу. Она никогда не бывала раньше на заводе «Электропульт». Но именно здесь произошла встреча старой большевички с молодыми рабочими, задушевный разговор, который начался так:
— Вы понимаете, когда доживёшь до моих лет, то и грустно и светло, как говорил Пушкин. Грустно, потому что знаешь, что и лет много, и людей, которых так любил, на свете уже не стало... И светло, когда смотришь, сколько из нашего труда, да и из нашей крови получилось хорошего, правда? — спросила она, с улыбкой оглядывая собравшихся.
В комнате было много народа, Елизавета Яковлевна говорила тихо, но каждое её слово западало в душу.
А рассказывала она о том, как в 1919 году молодые члены партии составляли памятки и нерушимые обещания коммунистов. Одно из таких обещаний, написанное карандашом на клочке бумажки, ей удалось разыскать.
И вот в зале звучат слова обещания, рождённого народом ещё в те далёкие дни:
«Сознательно, бескорыстно и без принуждения вступая в партию коммунистов, большевиков, даю слово:
Считать своей семьёй всех товарищей коммунистов и всех, разделяющих наше учение не только на словах, но и на деле.
Бороться за рабочую и крестьянскую бедноту до последнего вздоха, трудиться по мере своих сил и способностей на пользу пролетариата.
Защищать Советскую власть, её честь и достоинство делом и личным примером. Ставить партийную дисциплину выше личных убеждений и интересов и исполнять беспрекословно возложенные на меня партией обязанности.
Обязуюсь не щадить и не покрывать врагов трудового народа, хотя бы этими врагами оказались бывшие друзья.
Обещаю встретить смерть за освобождение трудящихся от ига насильников с достоинством и спокойствием. Не просить у врагов пощады ни в плену, ни в бою.
Отрекаюсь от накапливания личных богатств, денег и вещей. Считаю позором азартную игру и торговлю. Считаю постыдным суеверие, как пережиток тьмы и невежества.
Считаю недопустимым делить людей по религии, языку, национальности, зная, что в будущем все трудящиеся сольются в единую семью.
Если же я отступлю от своих обещаний сознательно, корысти и выгоды ради, то буду отверженным и презренным предателем. Это значит, что я лгал себе, лгал товарищам, лгал своей совести и недостоин звания человека...»
Елизавета Яковлевна читала, и в голосе её звучали совсем не свойственные ей торжественные ноты...
— Вот видите, друзья, — сказала она, переведя дыхание, — какая была мечта о светлом, чистом обществе, обществе, основанном на самых, высоких отношениях. И это ведь было не выдуманное общество, и отношения не выдуманные. Это были именно те отношения между людьми, то отношение к работе, народу, товарищам, которые были присущи Ленину и тем, кто был вместе с Лениным.
Кто-то из комсомольцев заметил:
— А ведь как эти заповеди перекликаются с моральным кодексом, о котором идёт речь в новой Программе Коммунистической партии!
— Вот в том-то и дело! — обрадовалась Елизавета Яковлевна.— Это именно так. Вот поэтому меня больше всего и взволновал этот раздел Программы, потому что вновь возрождается чудесное ленинское время.
...Откуда-то появились цветы. Елизавета Яковлевна даже растерялась. Смутился и паренёк, который передал ей букет, он только сумел сказать:
— Большое вам, сердечное спасибо за всё.
Елизавета Яковлевна не только старый революционер. Она была не только свидетелем и участником многих памятных событий, но сумела правдиво и с большой художественной силой рассказать об этом в книге, которая помогает человеку стать чище, благороднее, добрее, лучше.
Книга эта называется «Чёрные сухари».
Елизавета Яковлевна Драбкина выглядит очень молодо, и душа у неё молодая. Но годы немалые. Тем не менее она продолжает напряжённо трудиться. Она уже написала не одну книгу, пишет и теперь о старых бойцах революции... Вся её жизнь — это постоянная радостная работа...
Немного спустя после нашей встречи, в дни празднования 44-й годовщины Великого Октября я получил от Елизаветы Яковлевны письмо. Там есть такие строки:
«Мы с мужем несколько ночей напролёт всё говорим и говорим... Пожалуй, никогда ещё эту годовщину мы не встречали с таким роем чувств, волнения и полной «перевороченности» всего существа.
Вся жизнь нашего народа приобретает теперь новый смысл, новую глубину, новую силу»...
Так заканчивается письмо Елизаветы Яковлевны Драбкиной.
Этими же словами хочу закончить свою книгу и я.
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) — Кайдалов Анатолий.
|