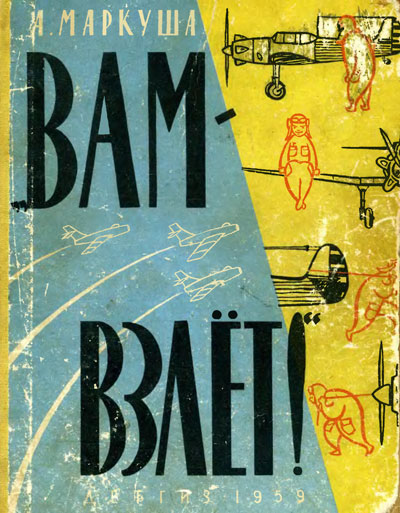|
Был у меня в жизни хороший друг — Алёшка Гуров.
Обыкновенный тринадцатилетний человек, мой сосед. Дружили мы с ним долго — больше года. А потом... А потом, как в песне:
Однажды их вызвал к себе командир,
Пой песню, пой...
На Запад поедет один из вас,
На Дальний Восток — другой...
Собственно, вызвали только одного из нас — меня. И очень скоро я улетел из приволжского городка, а Алёша остался.
Но что километры, даже тысячи километров для настоящей мужской дружбы! Мы помнили друг о друге, время от времени обменивались письмами. И, может быть, я никогда бы не взялся писать эту книгу, если б не Алёша Гуров, вернее — если бы не его письмо, разыскавшее меня на далёком восточном аэродроме.
Вот оно, это письмо:
Здравствуй дядя Толя!
У меня порядок. В школе тоже ничего дела. Есть две тройки, ноя я их исправлю скоро. Но пока хочу написать вам о другом. Я твёрдо решил, как вы, стать лётчиком-реактивщиком. Это моё точное решение. Хотя мама ругается и говрит нада сначала писать научиться без ошибок. Я прочитал уже книжку Кожедуба «Служу Родине» и ещё читаю про авиацию, а что ещё делать вовсе пока не знаю. Как вы улетели, с математикой у меня опять хуже стало. Учительница говорит, что я не тупой, а только рассеянный.
Дядя Толя, как вы поживаете? Напишите мне поскорей, что надо делать, чтобы быстрее стать реактивщиком.
Известный вам Алексей Гуров. Извините за грязь. Очень спешу. Есть дела.
Алёшино письмо и обрадовало и встревожило меня.
Обрадовало потому, что я понял — о хорошем деле мечтает мой друг. Трудно быть, как он выражается, «реактивщиком», но зато интересно и нужно. Это я знал наверняка.
Встревожило — потому что как-то легкомысленно писал человек. Чувствовалось, Алёша по-настоящему и не понимает, что такое «реактивщик». А чтобы принимать «точные решения», надо обязательно ясно видеть цели, которые ты себе намечаешь...
Мне очень хотелось помочь Алёше разобраться в сложностях, которые обязательно возникнут на его пути в небо.
Как это сделать лучше, я думал долго. Садился к столу, принимался отвечать на письмо, рвал исписанные листки, начинал снова, и ничего у меня не получалось.
В письме никак не удавалось рассказать даже о том, что, на мой взгляд, было самым важным, самым необходимым, самым главным.
Теперь я уже не помню, как мне пришло в голову: «Не один ведь Алёша у нас «реактивщик». Сколько таких мальчишек, которые, начитавшись интересных книг про лётчиков, насмотревшись увлекательных кинокартин об авиации, собираются в полёт и не знают, с чего начать?..» И тогда я решил написать эту книгу.
Так я отвечаю на письмо моего друга Алёши Гурова и, вместе с тем, обращаюсь ко всем Алёшам, Колям, Шурам, ко всем, у кого ещё не доросли ноги до самолётных педалей, кому не хватает пока лет, чтобы поступить в аэроклубы, но кто решил стать лётчиком реактивной авиации.
Я поделюсь с вами, дорогие друзья, знаниями и опытом, собранными во многих полётах, расскажу о машинах и людях, о трудном и радостном — словом, обо всём, что узнал на земле и в воздухе за годы своей лётной службы...
Вот и всё вступление, а теперь — к делу.
ЗНАКОМЬСЯ — САМОЛЁТ!
Вижу твою разочарованную физиономию, слышу твой срывающийся на петушиные нотки голос:
— Что же это за реактивный самолёт? У него на самом носу винт торчит — слепому видно! Какая это реактивная техника?!
На вопрос отвечу вопросом.
Неужели ты думаешь, что можно приступить, например, к изучению высшей математики, не освоив предварительно даже простых дробей?
Так ты не думаешь.
А как же ты собираешься сразу в «реактивщики»? Ничего не выйдет: хочешь не хочешь — начинать надо с простого. Впрочем, и это простое не так просто. Но это уж моя забота — объяснить всё так, чтобы ты смог побольше узнать о самолётах, технике пилотирования и других авиационных премудростях.
Наберись терпения и — в путь!
Сначала я расскажу тебе о самых главных свойствах самолёта, изображённого на рисунке в начале главы.
Имя машины «Яковлев-18», она построена конструкторским коллективом Александра Сергеевича Яковлева. Сокращённо самолёт называют «Як-18».
Самолёт двухместный, предназначается он для первоначального обучения. Скорость его по теперешним временам невелика. За час «Як-18» может пролететь двести пятьдесят семь километров. Поднимается он на четыре тысячи метров — это его «потолок». Если лететь всё время вперёд и вперёд, пока не израсходуется весь бензин в баках, то можно покрыть без посадки тысячу с лишним километров. Такое приблизительно расстояние отделяет Москву от Ростова-на-Дону.
«Як-18» умеет выполнять не только спокойные полёты по маршруту, он довольно легко справляется и со многими фигурами высшего пилотажа.
Сегодня «Як-18» стоит на самой первой ступеньке авиационной лестницы, ведущей к сказочным скоростям и заоблачным высям.
Во времена моего ученичества — двадцать с лишним лет назад — эту первую ступеньку занимал другой самолёт: прославленный ветеран нашего воздушного флота «По-2». Тот самый «По-2», что получил потом в военные годы столько разнообразных прозвищ — «кукурузник», «старшина», «огородник»... Но не в том суть, как называется первый в жизни лётчика самолёт. Важно не имя машины, а то, что она первая!
Самолёт, впервые поднимающий тебя в воздух, приносит самые незабываемые ощущения. На нём ты делаешь очень робкие и потому особенно памятные шаги над землёй; на всю жизнь запоминаешь ты свой первый самолёт, как запоминаешь первый школьный день, первую ёлку в Доме пионеров, первую любовь...
Моё знакомство с самым первым самолётом началось тягостно. Очень хорошо помню, как на меня навалились незнакомые слова. Они обрушивались лавиной: фюзеляж, центроплан, лонжерон, стрингер, нервюра, стабилизатор... Слова сыпались беспрерывно, я не успевал запомнить первого десятка, а уже накатывался новый. Казалось, не в авиацию привела меня беспокойная семнадцатилетняя судьба, а на курсы какого-то неизвестного иностранного языка.
Признаюсь, первое время было боязно — думал, не прорвусь сквозь этот частокол слов. Непонятные наименования самолётных частей путались в голове, я спотыкался чуть не на каждой второй строчке описания машины, беспомощно разводил руками около учебного самолёта. Он стоял в классе со снятой обшивкой, без крыльев и, казалось, дразнил меня колобашками и бобышками, расчалками и амортизаторами.
Лонжероны и нервюры преследовали меня по ночам... Но летать очень хотелось, и потом, стыдно было отставать от других. Я ненавидел эти заграничные слова, однако учил. И постепенно начала приходить ясность. Мне казалось, будто туман медленно рассеивается и из-за плотной его завесы начинают проглядывать разумные очертания доброго существа самолёта, а не какие-то бессмысленные стрингеры и нервюры...
Первым в числе непонятных слов я назвал фюзеляж.
Фюзеляж — это корпус, остов самолёта. И проще всего, объясняя тебе устройство машины, было бы начать с подробного рассказа о том, как строится фюзеляж «Як-18»: как свариваются продольные его трубы-лонжероны с поперечными рамами, как усиливается фюзеляжная коробка тонкими металлическими рейками — стрингерами, как обшивается она потом листами дюралюминия и особым авиационным полотном. Но я не хочу с первых же страниц заставлять тебя запоминать незнакомые технические термины, чужие и малопонятные слова, поэтому скажу коротко: когда ты станешь лётчиком, в фюзеляже будет расположен твой цех, твоё рабочее место, порой фюзеляж будет превращаться в твой родной дом.
Каждый хозяин знает, конечно, как устроено его жильё, и без чертежей разбирается во всех закоулках своей квартиры. Будешь лётчиком — познакомишься с фюзеляжем своего самолёта, как с пятью собственными пальцами.
Фюзеляж крепко связан с центропланом. Центроплан. Центральный план? А как он выглядит, этот самый план, и почему он центральный?
Очень скоро ты точно узнаешь, что центроплан — особая металлическая конструкция, соединяющая крылья с фюзеляжем. А сейчас, чтобы сделать малопонятное слово видимым, вспомни, как ты строил неуклюжий игрушечный самолёт из «конструктора». Длинные рейки прикручивал к прямоугольной дырчатой пластинке. Так получалось крыло. Потом оно ложилось на коробку фюзеляжа и скреплялось с ней угольниками. Плоская пластина — модель взрослого, самолётного центроплана. Конечно, и центроплан и настоящие крылья не только во много раз больше «конструкторных», но и во много раз сложнее. И собирают их не из простых пластин, а из сотен деталей с мудрёными названиями: продольные балки называются лонжеронами, поперечные пластины, придающие крылу форму и соединяющие между собой лонжероны,— нервюрами, а все вместе спрятанные под обшивкой детали составляют крыльевой набор.
Присмотрись к рисунку, постарайся запомнить названия и расположе-
ние частей самолёта.
А. Так выглядят внутренности самолёта, если заглянуть под капот.
Б. А этот кусочек самолётного скелета — основа всей конструкции.
Крыло — самая важная часть самолёта. Без фюзеляжей аэропланы существовали. Правда, это было давно — на заре авиации, когда самолёты называли «этажерками», когда летательные аппараты собирались из тоненьких жёрдочек и просвечивали в полёте, словно игрушечные, — но это было. А вот самолёта без крыльев не существовало никогда. Поэтому и говорят: авиация началась с крыла. Инженеры, между прочим, называют крыло несущей плоскостью — она, эта плоскость, основа всех основ.
Не стану перечислять всех частей самолёта — самые главные названы на рисунке на странице 11.
Фюзеляж, как ты видишь, завершается небольшой, но очень важной для самолёта надстройкой — хвостовым оперением. Хвостовое оперение состоит из киля, руля поворота, стабилизатора и руля высоты. Если б не эти рули, самолёт летал бы только в одном направлении, только по одной дороге, как самая простая схематическая модель с резиновым моторчиком. Под фюзеляжем заходящего на посадку самолёта ты, конечно, видел торчащие колёса. Это шасси — самолётные ноги. В отличие от всех прочих ног на свете, они больше всего нужны их хозяину — самолёту — не тогда, когда он передвигается, а когда отдыхает, стоит на земле. Конечно, шасси работают на взлёте и на посадке, но сколько времени тратит лётчик на то, чтобы разбежаться перед отрывом от земли, и на то, чтобы прокатиться по аэродрому после приземления, — какие-нибудь минуты! В полёте же от ног никако-го толку. Поэтому в воздухе шасси поджимаются к центроплану и прячутся в особые купола. Когда колёса входят в отведённое для них «помещение», крепкие замки надёжно пристёгивают их к телу машины. Теперь задержимся на ВМГ.
Конечно, тебе бы очень хотелось, чтобы ВМГ оказалось девизом, чем-нибудь вроде: «Воля — Мужество — Гордость». Но я должен тебя огорчить — ничего таинственного в этих буквах нет. ВМГ — всего только винтомоторная группа. Да, группа, и притом не очень большая: воздушный винт и мотор.
ВМГ правильно называют сердцем самолёта. Чтобы самолётные крылья могли поддерживать машину в полёте, нести её в воздухе, им необходимо сообщить скорость, заставить двигаться, рассекать воздух.
Ты видел, как начинают полёт большие птицы — орлы, дрофы, дикие гуси? Прежде чем оторваться от земли, они не только взмахивают крыльями, но ещё обязательно бегут по своей стартовой дорожке. Им тоже нужно набрать скорость для взлёта.
На самолёте скорость рождается мотором. Это он — главный труженик, это на его валу вращается тот самый винт, который с самого начала так не понравился тебе. Винт загребает воздух, тбрасывает его назад, создаёт тягу, перемещающую весь самолёт вперёд.
Воздушный винт напоминает обыкновенный вентилятор. Кстати, если вентилятор поставить не на массивную подставку, а на лёгкую тележку с колёсиками, он будет отлично кататься по полу...
Этим можно было бы пока ограничить рассказ о ВМГ. Но у самолётного винта есть одно особое свойство, о котором я должен предупредить тебя, Алёша.
Остерегайся вращающегося винта!
Начав вращаться, винт становится невидимым, и тогда он страшен. Стоит на минуту забыть о винте, приблизиться к сверкающему диску, и несчастья не избежать. Слепая сила — сокрушительная сила! Трудно даже подсчитать, сколько слетело голов под самолётными винтами, сколько переломано рук...
Запомни, Алёша, это первое серьёзное предупреждение на твоём пути в авиацию.
До сих пор, обходя со всех сторон фюзеляж, я ни слова не сказал о пилотской кабине.
В «Як-18» их две. Первая — для ученика, вторая — для инструктора. Кабина — рабочее место пилота, и здесь он обязан знать всё, до самой последней ручки, до самой маленькой лампочки.
В полёте у лётчика много работы и мало времени для размышлений. Когда ты оторвёшься от своего аэродрома, изучать кабину, искать нужный прибор, выключатель или рычаг — поздно. В воздухе надо управлять машиной, следить за окружающим пространством, решать штурманские задачи, иначе залетишь туда, куда тебе вовсе и не надо... Посмотри, сколько всякой всячины в кабине даже самого простого самолёта «Як-18», и ты не станешь сомневаться в том, что кабину надо знать на «отлично», иначе худо придётся в полёте.
Но лётчик обязан не просто знать кабину, он обязан ещё быстро привыкнуть к ней. А это совсем не так легко, как может показаться на первый взгляд.
Несколько лет назад в комнате, которую я помню чуть не с двух лет, где мне знаком каждый гвоздик в стене и каждый завиток на обоях, сделали капитальный ремонт. Монтёр, менявший электропроводку, решил, видно, сэкономить несколько метров шнура и переставил выключатель с левой стороны двери на правую. Ну что — пустяк? Не скажи. Та самая рука, которая двадцать лет безошибочно знала, где надо щёлкнуть, чтобы загорелся свет, начала меня подводить. Прошло уже порядочно времени, давно закончился ремонт, но каждый раз, возвращаясь домой, я шарю рукой на пустой стенке. Даже пятно на обоях появилось. Привычка!
Если лётчик летает на разных машинах, ему обязательно надо уметь быстро подавлять старые привычки и воспитывать в себе новые.
Наши друзья китайцы говорят:
По-моему, это мудрые слова.
И ещё об одном, очень важном, хотя и простом деле должен я рассказать — о том, как правильно сидеть в самолёте. Да, сидеть надо тоже умеючи. Вспомни свой самый первый день в школе. Вспомни, как учительница объясняла тебе, робкому первокласснику, куда класть локоть правой руки, как не
уставала она напоминать: «Алёша, не горбись, выпрями спину!» Было такое? Помнишь?
Вот и лётчик, усаживаясь в кабину самолёта, должен соблюдать по крайней мере три правила.
Первое. Обязательно отрегулировать высоту сиденья по своему росту.
Если сядешь низко, то придётся всю дорогу тянуть шею вверх — и через пятнадцать минут полёта пожалеешь, что стал лётчиком... Если сядешь высоко, то при первых же колебаниях машины в воздухе начнёшь стукаться головой о прозрачный потолок кабины (фонарь) и уже через три минуты после взлёта будешь думать только об одном — когда наконец посадка?
1. Сел низко — ничего не видно!
2. Сел высоко — не разогнуться...
3. И опять не так — педали далеко.
4. А на этот раз, кажется, ноги длинноваты стали...
Второе. Подогнать педали ножного управления по длине своих ног. Если ноги «коротки», самолёт может сыграть с тобой злую шутку — в нужный момент тебе просто «не хватит» рулей. Если же ноги «длинны», тоже плохо — очень скоро устанешь.
Третье. Всегда пристёгиваться к сиденью всеми привязными ремнями — поясным и двумя плечевыми.
В годы своей лётной юности я долгое время презирал это правило — пристёгивался кое-как, только поясным ремнём, а то и вовсе не пристёгивался. И вот что произошло однажды.
Перед началом очередного лётного дня командир эскадрильи, как обычно, выстроил нас на самолётной стоянке.
— Слушай приказ! — объявил командир и зачитал документ, содержание которого я запомнил на всю жизнь.
В Н-ском истребительном полку старший пилот сержант Пленкин перед вылетом на самолёте «И-16» не привязался ремнями. Выполняя по заданию фигуры высшего пилотажа, сержант Пленкин вывалился из самолёта. Старший пилот, очутившись в небе без самолёта, раскрыл парашют и благополучно приземлился. Машине, оставшейся без лётчика, пришлось хуже — не управляемая рукой человека, она перешла в глубокую спираль и, потеряв высоту, ударилась о землю в нескольких километрах от аэродрома. «Самолёт разбит, ремонту не подлежит,— гласил приказ. — На сержанта Пленкина за безответственное отношение к служебным обязанностям наложить взыскание...»
Приказ был строг, но справедлив. К тому же на армейскую строгость не жалуются. Да и как жаловаться, когда машина безвозвратно потеряна...
Выслушав приказ и посочувствовав пострадавшему парашютисту, мы разошлись по самолётам. А через несколько минут над аэродромом разорвалась зелёная ракета, возвещающая открытие полётов.
Закончив стрельбы по наземным целям, я набрал ровно две тысячи метров и приступил к фигурам высшего пилотажа. Всё шло хорошо, но вот, немножко не рассчитав скорость, я опрокинул свой самолёт на спину — и тут же почувствовал, как ноги соскочили с педалей, а ручка предательски вырвалась из ладони. Меня неумолимо потянуло из самолёта. Бывает же так: через каких-нибудь пять минут я уже забыл о приказе. Помню отчётливо, как испуганно сжалось сердце: «Пленкину дали взыскание, мне гауптвахтой не отделаться — трибунал!» Эта страшная мысль прибавила силы. Вцепившись левой рукой в борт кабины, я всё-таки не вывалился из самолёта, удержался. С трудом, но удержался.
С тех пор я никогда больше не забывал привязываться к сиденью как полагается — плотно, но не туго, чтобы не стеснять движений. И тебе, Алёша, советую — помни о ремнях, они никогда не бывают лишними!
Ты думаешь, на этом заканчивается рассказ о кабине? Нет. Осталось ещё немного. Ты должен обязательно узнать, как правильно держаться за ручку управления.
Ручка свяжет тебя с самолётом, и от того, как ты возьмёшься за неё, будет зависеть многое.
Если ты будешь, как говорят лётчики, «жать сок из ручки», никогда толком не почувствуешь машины.
Мне пришлось однажды обучать полётам здоровеннейшего парня — первоклассного штангиста. Три месяца я бился с ним и ничего не мог сделать. Он держал самолётную ручку, как гриф штанги. Тяжелоатлет очень старался, он всё отлично знал, но не мог выполнить даже самого простого упражнения. Вероятно, от авиации у этого человека на всю жизнь сохранилось единственное ощущение — самолётная ручка тверда как гранит...
Своим ученикам я всегда советовал держать локоть правой руки на колене или чуть прижимать его к туловищу. Зачем? Возьми-ка обыкновенный карандаш и попробуй написать своё имя, держа руку на весу, не касаясь ею стола. Попробуй, и ты сразу поймёшь, какое значение имеет упор для точного регулирования движений. К сожалению, своему курсантуштангисту я не сумел доказать даже такой простой истины.
Всё сразу рассказать невозможно. Закончим здесь первую главу. И будем считать, что знакомство с самолётом состоялось. Конечно, оно прошло бегло, но это не беда.
За последние пятьдесят лет люди успели не только построить множество самолётов, но и написать сотни разных учебников, пособий, инструкций. Передавать тебе содержание этих книг я вовсе не собираюсь. Смелее принимайся за дело сам и, если на твоём пути возникнут трудности, не отчаивайся и не отступай. Один опытный лётчик очень хорошо сказал в своё время:
Но ведь это только для новичка!
ПЕРЕД ПОЛЁТОМ...
Понимаю, как тебе хочется поскорее услышать об аэродро-ме, о полётах, но торопиться не советую.
Помнишь, Алёша, ты видел на моём столе тоненькие брошюрки в серовато-голубых обложках со строгим названием «Инструкция по эксплуатации и технике пилотирования». На двадцати — тридцати страничках такой книжечки изложено всё, что должен знать человек, собирающийся в полёт.
Когда впервые читаешь инструкцию, в голову вдруг приходит: «А что, если хорошенько выучить все параграфы, да и попробовать взлететь?» Заманчиво, тем более что в инструкции всё так точно объяснено:
«* 1. Перед взлётом проверить... (дальше перечислено решительно всё, что должно быть проверено).
* 2. Убедившись в нормальной работе мотора и отсутствии препятствий впереди самолёта, приступить к взлёту...
* 4. На разбеге направление выдерживать рулём направления.
* 5. Скорость отрыва — 95-100 километров в час...»
И так по пунктам расписан от начала до конца решительно весь полёт.
Ну что такого особенного — взлететь? Может быть, действительно каждый сможет?
К сожалению, Алёша, это заблуждение. Такая же ошибка, как и долгие годы распространявшийся слух, что лётчиками могут быть только особенные люди — необычайно сильные, не знающие даже намёка на страх.
Можно вызубрить назубок не то что инструкцию, а целых десять авиационных учебников, можно обладать при этом крепчайшими мускулами и не бояться ничего на свете и всё же разбить самолёт на земле, задолго до взлёта.
Почему?
Попробуем разобраться вместе.
Прежде я расскажу тебе о нескольких неприятных случаях, происшедших у меня на глазах.
Вот первый.
Ты видел, как шофёр заводит мотор ручкой. Другой раз взмокнет бедняга, а толку чуть — не запускается. Самолётный мотор ручкой не покрутишь — сил не хватит.
Многие авиационные двигатели запускают от баллона со сжатым воздухом. Врываясь в цилиндры, воздух прокручивает мотор, как самый сильный водитель. Сжатый воздух хранят в стальных баллонах, окрашенных в чёрный цвет (такие баллоны ты видел в киосках, торгующих газированной водой).
Лётчик спешил с вылетом, он покрикивал на моториста, подгонял механика, нервничал — времени до наступления, темноты оставалось совсем мало, и несколько минут задержки могли сорвать задание.
Машину готовили суматошно. В самый последний момент к борту подкатили баллон, быстренько заправили воздушную систему самолёта, и механик доложил, что всё в порядке — можно стартовать.
Пилот уселся в кабину, нажал на кнопку стартёра, и мотор... взорвался. Буйное рыжее пламя полыхнуло вдоль бортов машины. Лётчику удалось спастись, но объяснить, от чего стряслась беда, он никак не мог. А причина была самая простая. В спешке к самолёту подкатили не чёрный, а голубой баллон. Командир экипажа не обратил на это внимания и пытался запустить мотор не сжатым воздухом, а сжатым кислородом.
Бензин — не самая подходящая жидкость для тушения огня, а кислород — не тот газ, которым можно запускать моторы.
Соприкасаясь с маслом, кислород взрывается.
А вот другой случай.
Костя Черкасов считался в нашей учебной эскадрилье самым весёлым, самым находчивым и самым непоседливым курсантом. Даже в кабину самолёта он не забирался, как все люди, а влетал метеором; застегнуть шлем на земле Косте никогда не хватало времени. Так он и стартовал с развевающимися на ветру неуклюжими кожаными ушами. Всё, что он делал, непременно сопровождалось шумом, шутками и тысячей лишних движений.
Помню, как однажды Черкасов плюхнулся на сиденье, повернул один кран, переставил другой, потрогал третий, взялся за четвёртый и — трах! — убрал шасси на земле, уложил машину на живот.
Со всех сторон сбежался народ, все спрашивают:
— Что случилось? Что такое? В чём дело?
Отвечать Черкасову, понятно, нечего; стоит бледный, губы трясутся, и, как автомат, повторяет одно и то же:
— Виноват, товарищ инструктор. Виноват — перепутал... И ещё один случай.
Выруливал с самолётной стоянки на взлётную дорожку молодой лётчик и ни с того ни с сего зацепил крылом за огнетушитель, помял кромку.
— Ты что, не видел, куда рулил?
— Почему не видел? Всё видел, думал пройдёт... Чёрный цвет не похож на голубой — это ясно всякому. Нельзя себе представить, что лётчик не различил цвета. Он не видел ни голубого, ни чёрного — спешил, и на всё ему просто не хватило внимания.
Кран уборки шасси не имеет ничего общего с переключателем зажигания (есть такая ручка на самолёте, она стоит как раз рядом с краном шасси). Скорей всего, Черкасов, собираясь в полёт, думал не о полёте, а о вчерашнем футбольном матче. Не подготовил себя человек к ответственной работе.
И, уж конечно, молодой лётчик не хотел таранить огнетушитель — его подвёл глазомер...
Одно дело — знать что-то, и совсем другое дело — уметь.
И никакие книжки не могут превратить человека земли в человека воздуха. Пилот рождается в труде, преодолевая трудности, испытывая разочарования, исправляя ошибки. Наблюдательность, выдержку, глазомер, собранность никто не преподнесёт тебе в подарок. Эти необходимые лётчику качества берутся с боем, они отвоёвываются у рассеянности, вспыльчивости, лености. Они приходят к человеку в результате упорного усовершенствования собственного характера.
Почти каждый человек считает себя наблюдательным. Однако людям свойственно ошибаться, особенно в оценках тех или иных черт собственного характера. Поэтому советую каждому проверить свою наблюдательность. Кстати, это делается совсем просто. Если ты сумеешь не задумываясь правильно ответить хотя бы на половину вопросов — вот они, справа, — можешь считать, что первый экзамен лётчика тобой выдержан.
— Какой же это экзамен для лётчика, когда ни один вопрос не имеет отношения к авиации? — спросишь ты.
А вот какой. Прежде чем предложить эти вопросы тебе, я задал их семнадцати знакомым — людям самых различных возрастов, профессий, характеров. И только один из всех ответил без единой запинки — быстро, точно, правильно. Этот один — лётчик-испытатель первого класса, старый «воздушный волк». Когда же я ему рассказал, для кого приготовлены вопросы, он одобрительно улыбнулся и заметил:
— Правильно ты придумал, старик. Только приятелю твоему надо бы не десяток, а сотен пять таких вопросов задать — пусть каждый день тренируется. Подрастёт — спасибо скажет. У настоящего лётчика глаз должен быть что фотоаппарат: раз прицелился — всё зафиксировал, как заснял.
Последние слова старого лётчика напомнили мне об одной истории военного времени.
В суровую фронтовую зиму гвардейский бомбардировочный полк был отозван на далёкий тыловой аэродром. Здесь лётчикам предстояло получать новую материальную часть — скоростные пикирующие бомбардировщики. Декабрь в тот год не баловал лётной погодой — снегопады сменялись позёмкой, а когда прояснялось и голубое небо было готово к приёму самолётов, держала земля: аэродром оказывался засыпанным глубоким, цепким снегом — ни вырулить, ни взлететь. Лётчики нервничали, слонялись из угла в угол и в сердцах проклинали метеорологов, как будто они были виноваты в капризах зимы. У людей заметно портился характер; ссорились даже самые закадычные друзья.
И только один человек в полку сохранял полное спокойствие. Гвардии старший лейтенант Нико Ломия развлекался несколько необычным образом. Подолгу просиживал он на подоконнике, бросал перед собой из горсти спички, смотрел на них секунду-другую, сгребал в ладонь и снова повторял всё сначала.
— Что ты делаешь, Нико? — спрашивали лётчики Ломию.— Гадаешь, что ли?
Ломия отмахивался от товарищей и, ничего не объясняя, продолжал бросать спички.
— Рехнулся он, что ли? — недоумевали друзья, пробовали подтрунивать над ним, но Ломия, не обращая никакого внимания на обидные словечки, делал своё дело.
О странных выходках гвардии старшего лейтенанта узнал наконец сам командир полка. Он вызвал лётчика для объяснения, и тот сказал ему, что тренирует на спичках... зрительную память. Бросит наугад горстку и, не считая, старается одним взглядом определить, сколько спичек лежит на подоконнике.
— Ну и как, получается? — заинтересовался полковник.
— Немножко получается. Сначала только до семи выходило, потом до двенадцати дошёл, думаю, однако, все пятьдесят освоить...
Командир полка, отпуская Ломию, сказал на прощание:
— Ну-ну, раз веришь, что пригодится,— действуй...
Через полгода имя Нико Ломия гремело по всему северному фронту. Его по праву зачислили в лучшие разведчики воздушной армии.
Проносясь над военными объектами врага, Ломия никогда не ошибался в подсчётах. Уйдёт в далёкий тыл противника, бродит в чужом небе, высматривает, что где, и уж если радирует: «В квадрате 42-11 эшелон из двадцати шести крытых вагонов, четырёх платформ, двух цистерн», можно не сомневаться — данные точные...
Уметь всё видеть в воздухе, принимать правильные решения, находить выход в сложной обстановке трудно потому, что всё в полёте совершается быстро, во много раз быстрее, чем на земле...
Разговор о скорости полёта — серьёзный и очень важный разговор.
Девяносто километров в час — хорошая скорость для автомобиля. Но что всё-таки значат эти девяносто километров в час? Шофёр, ведущий машину на таком режиме, покрывает полтора километра в минуту. А лётчик? Даже на тренировочном самолёте он проскакивает за минуту два-три километра, а на реактивном истребителе — и все двадцать!
Что же получается: шофёр и лётчик люди одинаковые, но тому, кто управляет машиной в воздухе, приходится думать, принимать решения, действовать в десять — пятнадцать раз быстрее, чем тому, кто ведёт машину по земле. Так? Как же, за счёт чего один человек может быть в десять — пятнадцать раз расторопнее, находчивее, поворотливей другого? Думаю, что я не ошибусь, если скажу — прежде всего за счёт тренировки.
Наблюдательность, выдержка, глазомер вырабатываются не только в полётах, но и «про запас» — на земле.
Едет по улице машина, лётчик смотрит на неё не только как на препятствие, мешающее ему пересечь дорогу,— он непременно постарается заметить марку автомобиля, запомнить груз, который тот везёт, разглядеть номер...
Идёшь мимо дома — и невольно обращаешь внимание, сколько в нём этажей, какого фасона двери, какие занавески на окнах, сколько балконов на фасаде, что растёт в палисаднике...
Привычка всё разглядывать, всё запоминать — цепкая привычка. Её нелегко воспитать в себе, но уже совершенно невозможно, став раз в жизни внимательным, отучиться от этого. Да и к чему расставаться с хорошей привычкой? Ведь наблюдательному, остроглазому человеку, если он и не станет лётчиком, жить легче — и в мирное и в военное время, и на твёрдой земле, и в штормовом море.
Не жалей времени, потраченного на этот разговор; я уверен, что он тебе ещё пригодится!
А теперь нам пора на аэродром.
АЭРОДРОМ
Вероятно, на земле нет двух совершенно одинаковых аэродромов, так же как нет двух абсолютно похожих площадей или улиц.
Мне довелось перевидать немало лётных полей — приходилось садиться и в роскошных аэропортах с широкими бетонированными взлётно-посадочными полосами, и на лётных полях, перекрытых металлическими плитами, которые гремели под самолётом, как привязанное к телеге ведро, и на узких лентах-просеках, наскоро замощённых брёвнами, и просто на лугах, иногда размеченных белыми и красными флажками, а часто с одним только полотняным «Т» посередине.
Я расскажу о своём самом первом аэродроме. Может быть, именно потому, что это лётное поле было первым в моей жизни, я и теперь, спустя двадцать с лишним лет, вижу его во всех деталях.
Аэродром наш начинался на самой границе города.
Коротенькое ответвление шоссе упиралось в высокую дощатую арку. Над въездом висел вылинявший под дождями и солнцем лозунг:
Мы рождены,
Чтоб сказку сделать былью!
За дощатой аркой на опушке молодого смешанного лесочка стоял небольшой бревенчатый домик: штаб лётной части. В двух шагах от него расположился ангар. В этом высоком, просторном сооружении с полукруглой крышей ночевали наши «По-2». Ангар был большой, темноватый, гулкий. В него влезало машин пятьдесят. Чуть подальше белел палаточный городок, там жили инструкторы и мы, курсанты аэроклуба. За лесом были врыты в землю огромные бензоцистерны — склад горючесмазочных материалов, он охранялся днём и ночью. Но самое интересное лежало за хилым шлагбаумом, за надписью-окриком: «Стой!..»
За грозной надписью начиналось обыкновенное, довольно просторное поле, поросшее молодой, яркой травой; ровными рядами торчали на нём флажки — белые и красные. Они делили поле на три широкие полосы: взлётную, нейтральную и посадочную.
На левой границе посадочной полосы отчётливо белело сложенное из полотнищ знаменитое авиационное «Т».
«Т» — знак, разрешающий посадку. Сколько раз приходилось читать и слышать: «Он приземлил самолёт на три точки у самого «Т». «Сел впритирочку к «Т»...
Живое, туго натянутое, будто накрахмаленное «Т» светилось посреди зелёного лётного поля. И не сразу вспомнилось, что в особых случаях «Т» может менять очертания.
Если с земли надо передать лётчику особую команду или предупреждение, а радио не работает, берутся за посадочные полотнища.
Разорванное «Т» говорит пилоту: «У тебя неисправно шасси».
«Т», превратившееся в «Г», означает: «Не вышла левая нога шасси». А если полотнища показывают такой знак « «, это надо понимать так: не вышла правая нога.
Когда «Т» превращается в крест — посадка запрещена.
Крест выкладывают, если неисправна посадочная полоса, если аэродром занят и не может принять самолёт.
Если над поперечной перекладиной «Т» появляется ещё одно полотно, это означает: «Всем самолётам немедленная посадка».
Пустой аэродром не производит особенного впечатления. Другое дело, когда в первый раз попадаешь на стартовую площадку во время полётов. Сначала кажется, что самолёты валятся на тебя отовсюду. Чтобы быстрее избавиться от этого неприятного ощущения и вообще разобраться в том, что здесь происходит, лучше всего сесть на одну из лавочек в «квадрате», выбрать какой-нибудь самолёт на заправочной линии и последить за ним.
В «квадрате», защищённый четырьмя угловыми флагами, ты можешь сидеть спокойно — тут тебя никто не сшибёт, никто на тебя не приземлится. «Квадрат» — святое место: всё лётное поле — только для самолётов, но «квадрат» — исключительно для людей.
Ты выбрал самолёт с большой голубой цифрой «3» на борту. Очень хорошо, будем наблюдать за «тройкой». От неё только что отъехал бензозаправщик. Вот уселись в кабины лётчики, вот завертелся винт, вот «тройка» медленно поползла вперёд.
Обрати внимание, как дружно поворачивают голову оба лётчика — это они осматривают местность впереди самолёта, чтобы не наткнуться на какое-нибудь препятствие или, что ещё опасней, не зацепить какого-нибудь зеваку.
На несколько секунд «тройка» задержалась на линии предварительного старта: инструктор о чём-то напомнил ученику, и машина выкатилась на последнюю поперечную линию.
Разбег.
Взлёт.
Теперь не теряй «тройку» из виду и не спутай её с другой машиной.
Смотри, самолёт накренился влево и не спеша стал повора пятьдесят метров и выполняет первый разворот. Сейчас я не буду тебе рассказывать, что делается там, в машине,— подойдёт время, мы слетаем с тобой, тогда уж я всё и объясню и покажу. А пока заметь только, что следом за первым разворотом самолёт выполнил второй, третий и, наконец, четвёртый разворот.
После третьего разворота машина быстро приближается к посадочным знакам, метр за метром теряя набранную до этого высоту, и вот уже наша «тройка» катится по земле.
Такой полёт называется полётом по кругу. Не беда, что у этого «круга» четыре угла, название — дело условное (называют же шофёры автомобильный руль «баранкой», колесо — «скатом», рычажок, очищающий стекло от дождевых капель, — «дворником», и ничего — понятно).
Полёт по кругу — начало всех начал..
Как в первом классе обычной школы уроки русского языка начинаются с палочек и крючочков, так в авиации техника пилотирования не может быть освоена без полётов по кругу.
Без палочек и крючочков даже «А» никогда как следует не напишешь; без отработанных взлётов и посадок — никуда не улетишь.
Проследив за полётом самолёта по кругу, присмотревшись к аэродрому, ты уже без труда сумеешь, перевернув страницу, разобраться в схеме.
Голубые стрелочки показывают, где можно ходить по лётному полю, а чёрные — где нельзя. Почему нельзя, тебе, наверное, и самому ясно.
Нарушая строгие правила передвижения по лётному полю, ты, сам того не желая, превращаешься в ходячее препятствие и подвергаешь опасности свою жизнь. Аэродром — не столичная площадь, где на каждом перекрёстке — дежурный милиционер. За порядком на лётном поле должны следить всё.
Впрочем, если ты даже не нарушаешь правил — по сторонам посматривай. Ведь нарушителем может оказаться и тот, кто летает.
Закончив полёты, все машины возвращаются к ангару. Пойдём и мы туда. Здесь тоже есть на что посмотреть.
Машины, которые остаются ночевать под открытым небом, привязывают к ввёрнутым в землю штопорам — видишь на рисунке? Предосторожность не лишняя: поднимется ветер над аэродромом, прошумит гроза — с привязанными самолётами ничего не случится; а оставь их «пастись» на воле — может произойти большая беда: изломает машины.
Сколько раз мне приходилось бывать на самолётных стоянках, и никогда я не видел здесь беспорядка. Посмотришь на моторы — сверкают как новые; бросишь взгляд на огнетушители — стоят красные, как редиски, и под шнурок выровнялись; даже старые тряпки, которыми протирают машины после полётов, и те аккуратнейшим образом сложены в особых ящиках.
Грязный мотор — ненадёжный мотор. Действительно, если машина в пыли и жирных потёках, кто может поручиться, что на металлическом теле нет, например, опасных трещин? Как увидишь неисправность, если мотор закопчён по самые уши?.. А авиация не признаёт ни маленьких, ни больших неисправностей. Любая, даже самая пустяковая неполадка — опасность. Ведь самолёт не трактор, в борозде его не остановишь... Вот почему так пекутся о чистоте и порядке на всех самолётных стоянках мира.
В этом месте, так же как и в предыдущей главе, я бы мог предложить тебе десяток контрольных вопросов. Спросить чтонибудь такое: а как выглядит твоё рабочее место — твой стол? Всегда ли ты знаешь, где у тебя лежит карандаш? В порядке ли пуговицы на твоих брюках?.. Но я не буду продолжать, а то ты ещё решишь, что вся книга для того только и написана, чтобы донимать тебя нравоучениями.
Мы побывали на лётном поле, взглянули мельком на самолётную стоянку около ангара, но это далеко не всё, с чем нам предстоит познакомиться,— ведь в понятие «аэродром» входит не только земля, огороженная забором, аэродром простирается ещё далеко и высоко в небе.
На рисунке ты видишь знакомые очертания лётного поля. Правда, аэродром стал теперь меньше, как будто ты поднялся над землёй и смотришь на него сверху.
Поле оцепили аккуратные кружочки и многоугольники, обозначенные номерами. Попробуем разобраться в этой геометрии...
Кружки — пилотажные зоны. Между прочим, цифры намечены не только на схеме. На земле, в настоящих зонах их выкладывают белым кирпичом или рисуют известью — номер должен быть хорошо виден. Здесь, в пилотажных зонах, опрокидывая машины на спину, падая в крутом пикировании к земле, врезаясь в небо боевыми разворотами, шлифуют своё лётное мастерство пилоты, здесь добиваются они точности и чистоты в самых сложных манёврах. О пилотаже в своё время я расскажу подробнее, а пока познакомимся с другими зонами.
Такая схема зон висит на каждом аэродроме.
Взглянув на неё, лётчик сразу узнает, где ему
разрешено пилотировать, где можно летать вслепую...
Зона No 5 отведена для бреющих полётов. Здесь пилоты привыкают не бояться земли. Это не легко — проноситься на головокружительных авиационных скоростях в считанных метрах от поверхности нашей планеты. Бреющий полёт — важная часть лётного искусства. Если воздушная обстановка потребует снизиться к самой земле, если в интересах боя придётся штурмовать противника с самых малых высот — ты должен быть заранее готов к такой работе, не растеряться, не струсить перед землёй. Вот для чего в зоне No 5 учебные самолёты каждый день «бреют» землю. Те, кто живут в Красном и Борках, уже привыкли к ревущим над самыми крышами самолётам и не обращают на них никакого внимания. И мало кто думает о том, сколько настойчивости, терпения, выдержки надо иметь, чтобы научиться верить в свой глазомер и никогда не ошибаться.
Несколько лет назад мне повезло — я познакомился с одним из старейших наших лётчиков, полковником Андреем Максимовичем Колесовым, и записал с его слов немало любопытных историй. Вот одна из них.
Первый рассказ полковника Колесова
«По избитым войной дорогам к линии фронта спешили танки, подтягивалась артиллерия — шла подготовка к наступлению. Дело было под вечер. С фронтового аэродрома меня вызвали в штаб соединения. Явиться к начальству требовалось срочно. Лететь предстояло недалеко.
Механик быстро подготовил «По-2», и я стартовал. Справа от маршрута, холодно поблёскивая, чуть дымя вечерним туманом, петляла река. Привычно рассказывал свои вечные истории мотор. Линия фронта проходила совсем близко, километрах в десяти — двенадцати; помня об этом, я не поднимался выше ста метров.
Если можно спешить на машине, с трудом развивающей скорость сто тридцать километров в час,— я спешил.
Всё шло обычно, пока надо мной не промелькнула косая тёмная тень и где-то совсем близко не прошла красная пулемётная трасса.
Откуда появился этот шальной «Месс», как он сумел заметить мой пятнистый, словно плащ-палатка, «По-2»? Этого и по сей день не знаю. А тогда мне и вовсе не до размышлений было. Надо было уходить, изворачиваясь и ловча.
Уходить? Легко сказать — уходить. Когда скорость противника в шесть раз больше твоей, когда у него пулемёты и пушка на борту, а ты
весь в фанере и полотне,— это совсем не так просто. Но авиация не арифметика, и не всегда в бою шестьсот в шесть раз больше ста...
Маневрируя, я снижался к воде. Ниже, ниже, совсем низко. Повторяя все причудливые изгибы реки, вёл я свою машину, стараясь не выпускать из виду атаковавший «Месс». Ему никак не удавалось толком прицелиться, но он был настойчив, дьявол, и вовсе не собирался отставать. «Месс» сваливался на меня сверху раз за разом. Так не могло продолжаться долго. Ну, один промах, ну, два... пусть, наконец, десять... Но всё же я был на безоружной машине. Надо было что-то придумать, что-то изобрести, иначе... О том, что должно было произойти иначе, думать не хотелось.
Вдруг «Месс» отстал. Противник заложил надо мной вираж. Он явно дожидался чего-то. Ещё один поворот русла — и я всё понял. Впереди над рекой навис мост.
Лётчик рассчитал правильно: перед мостом «По-2» пойдёт на подъём, крутые берега не позволят мне маневрировать, и тогда, стоит «Мессу» свалиться в пикирование, — «По-2» капут.
Теперь и сто километров в час показались мне немалой скоростью — мост наступал катастрофически быстро. Через каждую секунду он делался на двадцать восемь метров ближе, а метров в запасе оставалось совсем немного. Освещённые низким солнцем, чётко вырисовывались кружевные контуры металлических конструкций, тяжёлые, почти чёрные быки поднимались из воды, как грозные рифы.
До моста было пятьдесят метров — две секунды полёта, когда «Месс» накренился и пошёл в атаку.
Я решил смотреть только влево, только на тёмный железобетонный устой среднего пролёта. «Ниже,— командую себе,— ещё ниже! Ещё, ещё чуть-чуть...»
С необычным басовитым грохотом проскочил мой «По-2» под мостом — эхо вторило мотору; казалось, рушатся сотни тонн железа, к чёрту летят перекрытия, рельсы, шпалы...
Противник поздно разгадал мой манёвр. Он отчаянно тянул на себя ручку, выводя истребитель из пикирования, но закон инерции оказался сильнее пилота — машина врезалась в воду.
Разглядывая радужные пятна бензина и масла на реке — всё, что осталось от «Месса»,— я невольно вспомнил: «Вода мягкая, пока об неё не ударишься». Эту цитату из «Занимательной физики» Перельмана много лет назад я протелеграфировал в Ленинград. Она была адресована одному из наших лучших истребителей. Помню, он ответил тогда:
«Правильно. Ударяться не надо. Чкалов»...
Почему я вспомнил об этой истории, случившейся с полковником Колесовым много лет назад? Да очень просто — умение летать бреющим, маневрировать у самой земли и Колесов и Чкалов тоже отрабатывали в пятой зоне.
В зонах не ради удовольствия тренируются — ради дела.
В зоне No 6 лётчики обучаются слепым полётам. К сожалению, не всегда небо бывает синим и пилоту очень часто приходится летать в облаках, не видя ни земли, ни солнца.
— Что ж тут такого хитрого, когда кабина полна всяких приборов?
Ты почти прав, Алёша! Когда умеешь пользоваться приборами, полёт в облаках — хитрость, действительно, не такая уж великая. А вот когда не умеешь — плохо.
Искусство слепого самолётовождения даётся человеку не сразу, и, чтобы у тебя не было в этом сомнения, проделай такой простой опыт. Завяжи глаза и попробуй пройти по ровной площадке шагов пятьдесят, стараясь выдержать прямое направление. Ручаюсь, что тебя уведёт в сторону. И дело не в том, что ты не умеешь ходить с завязанными глазами: просто человеческий вестибулярный аппарат — орган, позволяющий нам ориентироваться в пространстве,— при закрытых глазах работает с ошибками.
— Так что же, в шестой зоне летают с завязанными глазами? И на приборы не смотрят?
— Не надо спешить. Сейчас я всё расскажу.
Конечно, с повязкой на глазах не летают, но, перед тем как идти в эту зону, в кабине тренирующегося пилота устанавливают специальный полотняный колпак. Закрывшись им, лётчик видит только приборы. Ни за небом, ни за землёй следить он уже не может. Кабина инструктора остаётся открытой, чтобы он мог не только свободно контролировать действия ученика, но и просматривать всё окружающее самолёт пространство.
Оставшись один на один с приборами, тренирующийся лётчик вступает в жесточайшую борьбу; чувства подсказывают ему одно, а стрелки приборов совсем другое — иногда прямо противоположное. Случается так: чувствуешь, как всем весом ты давишь на правую половину того места, на котором сидишь, а указатель поворотов докладывает: «Самолёт накренился влево». Что тут делать, как быть?
Я рассказал здесь не о всех зонах, есть ещё зоны ожидания, воздушных стрельб, групповой слётанности, воздушных боёв, но с главными ты теперь знаком. Зоны разнесены не только в разные углы аэродрома, они ещё подняты на разные высоты — это для безопасности.
Расставаться с воспоминаниями о моём первом аэродроме очень не хочется — вот ещё один маленький эпизод.
Помню посиневший на востоке горизонт, туманную пелену над лесом, возвращающиеся в ангар самолёты. Медленно растекается тишина над лётным полем — трудовому дню конец. И вдруг басовитый, хриплый голос рвёт вечернюю тишину:
— Запомни и заруби на своём конопатом носу — нельзя терять скорость на разворотах. Полёт — это скорость! Понимаешь: скорость! Тебе, может быть, надоело жить, а у меня — дети. Ясно?
Если не запомнишь и не поймёшь, что такое полёт,— выгоню к чертям собачьим с аэродрома. Понял? Не буду учить, и никто мне не прикажет... Понял?
Тогда я не очень уловил смысл разгневанных слов усталого инструктора, обращённых к парнишке в новеньком, ни разу ещё не стиранном комбинезоне, но, что полёт — это скорость, запомнил.
Годы лётной службы помогли мне понять мудрость инструктора. Теперь узнай и ты, почему полёт — это скорость.
ПОЛЁТ — ЭТО СКОРОСТЬ!
Тебе случалось, конечно, запускать в небо воздушный змей. Ты чувствовал, как режет палец натянутая, словно струна,
нитка, когда змей забирает всё выше и выше?
Чувствовал?
Значит, ты уже знаком с главной аэродинамической величиной. За палец тебя дёргала подъёмная сила, та самая, что уводит нехитрую несущую плоскость — змей — прочь от земли, в голубые небесные дали.
Тот, кто ощущал однажды подъёмную силу, в какой-то степени уже авиатор...
Воздушный змей поднимает, правда, только самого себя да нитку, но существо дела от этого не меняется: змей в основе своей — летательный аппарат тяжелее воздуха, родня самолёту. И сходство это легко заметить.
Посмотри на самолётное крыло сбоку, в профиль. Видишь, оно напоминает очертания змея, только толще, и поверхность его не плоская, а кривая.
Что же происходит с крылом в полёте, почему оно держит машину в воздухе, не даёт ей упасть на землю?
Прежде чем ответить на этот вопрос, поставим сначала простой опыт. Возьми тетрадочный листок, разорви его вдоль на две половинки. Полоски чуть согни так, чтобы их можно было поставить ребром на столе. Расположи согнутые листки на расстоянии в два — два с половиной сантиметра один от другого, выпуклыми сторонами внутрь.
Готово?
Теперь дунь тихонько между листочками. Бумажки не разлетятся в разные стороны, а, напротив, сблизятся. Почему?
Всё дело в том, что над кривой поверхностью возникло разрежение воздуха. Оно и притянуло половинки тетрадочного листка друг к другу.
Простой этот опыт наглядно показывает, как действует на искривлённую поверхность разрежение воздуха.
Врезаясь в воздушную толщу, крыло расталкивает частицы воздуха, освобождая себе место в небе. При этом и над крылом и под крылом появляется точно такое же разрежение воздуха, как и между половинками тетрадочного листка. Но крыло имеет одну особенность — кривизна его поверхностей неодинакова: в верхней части она больше, в нижней — меньше. Поэтому и разрежение воздуха н а д крылом оказывается больше, чем под ним, и вся плоскость стремится вверх.
Чтобы ты, Алёша, мог более наглядно представить себе рождение подъёмной силы, на рисунках вместо работающих частичек воздуха изображены маленькие человечки — вверху их больше, они сильнее. Если собрать обе команды этих человечков, поставить друг против друга и заставить их тянуть канат, ясно, что верхняя команда победит.
На настоящем крыле никаких человечков, разумеется, нет, но силы разрежённого воздуха действуют очень похоже. Верхняя команда всегда побеждает — поэтому-то крыло всегда стремится вверх.
Но кто же «дует» на самолётные крылья?
Самолёт это делает сам. Потому он и называется самолётом — «сам летаю»! Для того и ставят на него мотор, чтобы придать машине силу, нужную для движения.
Летит самолёт, рассекает воздушную массу, и, пока у машины есть скорость, поток взбудораженных частичек воздуха всё время свистит вокруг неё. Чем больше скорость, тем сильнее этот поток.
Вот почему, ругая курсанта за ошибку, допущенную в полёте, лётчик-инструктор говорил ему: «Запомни, заруби себе на носу: полёт — это скорость!»
Потерять скорость в воздухе — это не просто опоздать в пункт назначения, к заранее рассчитанному времени; потерять скорость — значит остаться без подъёмной силы, которая держит машину в небе, а в конечном счёте это значит — упасть...
Чтобы понять, как летает самолёт, мало познакомиться с одной только подъёмной силой. Вместе с этой очень важной для полёта величиной на самолёт действуют ещё сила веса, сила тяги и сила лобового сопротивления. Ссорясь и постоянно соперничая в полёте, они никогда не покидают движущийся самолёт. Сила веса всегда тянет машину вниз, и если бы ей не противодействовала подъёмная сила, то самолёт упал бы на землю, как всякий предмет, лишённый поддержки.
Ну, а если на самолёт будут одновременно действовать две силы сразу (сила веса и подъёмная сила) и обе окажутся равными, тогда что же — самолёт сможет висеть в воздухе, как воздушный шар? Судя по схеме — сможет. Скажем, вверх самолёт тянет с силой три тысячи килограммов и вниз с такой же силой, с теми же тремя тысячами килограммов. Куда машине деваться? Висеть.
А теперь, Алёша, попробуй понять, где я напутал в последнем рассуждении и на чём сбиваю тебя с толку.
Заметил?
Правильно. Всё дело в том, что подъёмная сила крыльев рождается только в движении, когда у самолёта есть скорость. А для этого, говоря попросту, надо, чтобы его что-то тащило или толкало. Двигает машину вперёд мотор, он вращает воздушный винт, который и даёт самолёту третью силу — силу тяги.
Когда ты проводишь ладонью в воде, то, конечно, чувствуешь, как жидкость сопротивляется движению руки, как она старается притормозить, остановить твои пальцы. Точно так же и воздух сопротивляется движению самолёта. Так возникает четвёртая аэродинамическая сила--лобовое сопротивление. Чем больше скорость полёта, тем оно значительнее.
Командуя четырьмя постоянно действующими на самолёт силами, лётчик управляет машиной, заставляя её по своему желанию лететь прямо, не изменяя высоты и скорости, либо подниматься вверх, либо снижаться к земле...
Как же действует пилот, командующий аэродинамическими силами? Чем он вооружён? Какие секретные слова ему известны?
Сначала я расскажу о том, что делает лётчик.
Скажем, надо лететь прямо, не снижаясь и не набирая высоты. Тогда лётчик так распределяет подчинённые ему силы, чтобы ни одна не пересиливала другую: подъёмная сила точно соответствует силе веса, а сила тяги уравновешивает силу лобового сопротивления. Теперь самолёту ничто не мешает лететь так, как задумал хозяин,— прямо, не снижаясь и не набирая высоты, он и летит, выдерживая, как говорят в авиации, режим горизонтального полёта.
Хочет лётчик увеличить скорость полёта, разогнать свой самолёт, не теряя высоты, тогда он «даёт газ» (прибавляет питания мотору), и сила тяги, оказавшись на время больше силы лобового сопротивления, увлечёт машину вперёд, потащит самолёт быстрее, стремительней. Разгон самолёта не может продолжаться бесконечно — увеличится скорость, вырастет и сопротивление, в какой-то момент обе эти борющиеся силы, став больше, вновь сравняются, и тогда установится новый режим горизонтального полёта; только теперь машина будет лететь на повышенной скорости.
Чтобы заставить самолёт подниматься вверх, не теряя скорости, установившейся в горизонтальном полёте, лётчик снова должен увеличить силу тяги. Если б самолёт был живым существом, на подъёмах он испытывал бы те же ощущения, что и турист, поднимающийся в гору с тяжёлым рюкзаком. Пока дорога ровная, мешок давит на человека, прижимает его к земле, а на подъёме он ещё и назад своего хозяина тянет. Идти делается труднее, и нужно тратить дополнительные усилия, чтобы не потерять скорость движения.
На снижении лётчик уменьшает силу тяги, теперь вес самолёта работает как союзник человека. И если продолжать сравнения, то можно сказать, что в режиме снижения или, точнее, в режиме планирования самолёт напоминает санки, скатывающиеся с горы...
Чем же воздействует лётчик на аэродинамические силы в полёте, какими средствами? В распоряжении пилота — сектор газа, ручка управления (или штурвал на больших самолётах) и ножные педали.
Сектор газа пилот держит в левой руке.
Действует он им почти так же, как шофёр педалью газа: подвинет сектор вперёд, оттолкнёт от себя — мотор получит больше топлива и увеличит мощность; отодвинет назад, к себе — и мотор, переведённый на «голодный паёк», снижает мощность. Управляя сектором газа, лётчик управляет силой тяги.
Сильная рука у пилота; не уставая, она распоряжается величайшими мощностями: на учебном самолёте — это сто пятьдесят — сто шестьдесят лошадиных сил, а на реактивном тяжёлом корабле и все сто пятьдесят тысяч!
Сто пятьдесят тысяч лошадиных сил — огромная мощность. Художник хотел изобразить двигатель такой силы, а рядом с ним — столько нормальных автомобильных моторов, сколько нужно, чтобы развить такую же мощность. Но из этой затеи ничего не вышло. Один авиационный стопятидесятитысячный двигатель надо было уравновесить тремя тысячами «победовских» моторов — они не помещаются в книжке!..
Ручку управления лётчик держит в правой руке. С её помощью хозяин машины командует подъёмной силой, той самой силой, что несут на себе крылья.
Смотри, что происходит в полёте, когда лётчик отклоняет ручку управления, допустим, на себя. Руль высоты, следом за движением ручки управления, идёт вверх; при этом подъёмная сила хвостового оперения уменьшается, и весь самолёт реагирует на это действие лётчика почти так же, как весы, на одну из чашек которых прибавили груза. Действительно, раз подъёмная сила хвостового оперения уменьшилась, хвост делается как бы тяжелее, он перетягивает — нос самолёта поднимается, и вся машина переходит в набор высоты.
При спуске, на планировании лётчик отклоняет ручку от себя, руль высоты немедленно опустится, подъёмная сила хвостового оперения возрастёт, и самолёт, наклонившись вниз, помчится к земле, как санки с горы.
Но ручка управления связана не только с хвостовым оперением, она отклоняет ещё и маленькие подвижные плоскости на крыльях — элероны. Подвинет, например, лётчик ручку вправо — поднимется правый и опустится левый элерон. Самолёт выйдет из равновесия (на крыльях подъёмная сила стала неодинаковой) и наклонится вправо.
Мне осталось познакомить тебя с ножным управлением.
Самолётные педали отклоняются влево и вправо, при этом они увлекают за собой руль поворота, который действует на самолёте примерно так же, как на обыкновенной прогулочной лодке. Нажмёт лётчик на педаль — даст, скажем, левую ногу, и самолёт будет заворачивать влево.
Вот я и рассказал о том, как действует в воздухе лётчик — командир аэродинамических сил. Рассказал очень коротко, в нескольких строчках,— полный курс теории полёта занимает много толстых томов, и, чтобы в них разобраться, нужно сначала изучить математику, физику, теоретическую механику. В полном курсе несколько тысяч формул, и самая простая выглядит так:
Говорят: «Солидные теоретические знания для всякой специальности — то же, что прочный фундамент для дома». Ну что ж, фундамент не фундамент, а первый кирпич для него у тебя уже есть. Ты имеешь теперь представление об устройстве самолёта, кое-что узнал о профессиональных качествах, необходимых лётчику, побывал на аэродроме и чуть-чуть прикоснулся к теории авиации.
Для начала, пожалуй, достаточно.
Пора в полёт.
«РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЁТ?»
«Разрешите взлёт?» Это последние слова, с которыми лётчик обращается на командный пункт , перед тем как прибавить обороты мотору и устремиться вперёд, навстречу синему небу, рваным облакам или звёздным ночным далям.
«Разрешите взлёт» — хорошие слова, они звучат мужественно, они пахнут ветром больших скоростей, напоминают о дальних и трудных дорогах. Но, чтобы спокойно и уверенно передать их по радио с борта своей машины на командный пункт аэродрома, надо сначала закончить многие дела на земле. И, прежде всего,— тщательно осмотреть самолёт.
Сколько бы лет ни летал человек, как бы ни доверял он своему механику, как бы ни был уверен в машине, он не должен уходить в полёт до тех пор, пока лично не убедится в полной исправности самолёта. Здесь снова приходится вспомнить слова старого, немало повидавшего на своём веку инструктора: полёт — это скорость. Полёт не позволяет в случае какойнибудь непредвиденности свернуть, как на автомобиле, к обочине, задрать моторный капот и покопаться в зажигании, продуть фильтр или проверить уровень масла в баке...
Для того чтобы лётчик ничего не пропустил при осмотре самолёта, для того чтобы он был совершенно спокоен в воздухе, машину осматривают по специальным правилам и обязательно в определённом, никогда не изменяемом порядке.
Проверяя самолёт перед стартом, лётчик должен не только соблюдать определённый порядок, но и представлять себе, что происходит с неподвижными на земле деталями машины во время полёта. Для примера возьмём кок винта — металлический колпак, украшающий нос самолёта. Стоит заработать мотору — кок начинает вращаться, и если маленькая, безобидная с виду трещинка вряд ли повредит здоровью машины на земле, то в полёте, когда центробежные силы заставят металл напрячься, кто знает, не разлетится ли в куски чуть треснутый носовой обтекатель?
Убедившись в исправности кока и воздушного винта, внимательно проверь моторные капоты — хорошо ли они прилегают к фюзеляжу, на все ли замки заперты. И снова представляй себе машину в полёте, учитывай скорость. Откроется ненароком дверь в доме — беда невелика: подойдёшь и захлопнешь, а в воздухе это уже не так просто сделать.
Не буду рассказывать обо всех точках осмотра машины. В «Як-18» их ни мало ни много тридцать восемь, и я думаю, что нет никакой необходимости повторять тридцать восемь раз подряд, что перед полётом всё должно быть надёжно пригнано, безотказно отрегулировано, прочно закреплено. Это ты уже, вероятно, и сам понял. На минутку задержу тебя только около бензиновых баков, кабин и рулей управления.
Каждому понятно, что лететь можно только тогда, когда мотор вдоволь обеспечен «едой», когда топливные баки машины заправлены бензином. И, хотя это ясно всем, авиация знает, к сожалению, немало несчастий, происшедших из-за попыток взлетать с незаправленными баками.
Пусть механик сто раз доложит: «Заправка полная!», пусть он предъявит десять квитанций за принятое на самолёт горючее, не верь — взгляни в баки сам, убедись собственными глазами, что бензина достаточно. И не бойся обидеть этим механика. Умный механик отлично поймёт, что лететь-то тебе.
Обязательно придирчиво осматривай кабину. Будь всегда строгим и неуступчивым контролёром. Даже если в кабине всё в порядке, но на полу осталась пыль — не лети. Грязь в самолёте — далеко не пустяк! Представь себе на минуту такое положение: выполняя фигуры высшего пилотажа, ты опрокидываешь самолёт на спину (на какой-то момент при этом пол делается «потолком»), и в лицо тебе летят песок и мусор. По меньшей мере это противно. Ну, а если соринка попадёт в глаз — опасно: моргать в воздухе некогда, а глаза протирать нечем — руки заняты.
Прежде всего надо проверить, как поживает винт...
Внимательно осмотреть шасси и тормоза...
Убедиться в исправности обшивки на крыле...
Пощупать элерон...
Не пропустить обшивку фюзеляжа
Но пуще грязи лётчик должен бояться посторонних предметов в кабине.
Мне пришлось быть свидетелем такого трагического события: самолёт разбежался, плавно отделился от земли и на высоте десяти — пятнадцати метров пошёл на сближение с радиомачтами, торчавшими над землёй недалеко от границы лётного поля. Машина не набирала высоты, и всё случилось так отчаянно быстро, что никто не успел даже высказать никаких предположений о происходившем. А когда мы приехали к месту одной из самых нелепых катастроф, какую мне довелось видеть, расспрашивать было некого... Только обгоревший гаечный ключ помог раскрыть обстоятельства трагедии. Этот злосчастный, кем-то позабытый в кабине ключ сполз на взлёте к задней стенке и вошёл, будто клин, между тягой руля высоты и полом. Руль защемило, и, сколько ни старался лётчик начать набор высоты, ничего у него не выходило — ни переломить, ни согнуть стальной гаечный ключ он не мог. Управление отказало...
Хвостовое колесо — дутик тоже требует внимания...
А как отклоняется руль поворота?..
Как самочувствие руля высоты?..
Не повреждён ли киль?..
Надо внимательно проверить кабину...
Мне довелось видеть и другую картину. Не очень пристально осмотрев самолёт, с аэродрома поднялся лётчик Квашин. Его тяжёлый воздушный корабль легко оторвался от лётного поля, резво набрал положенные двести метров, но, когда Квашин попытался развернуться на заданный курс,— ничего не вышло. Самолёт упорно летел прямо и сворачивать никуда не хотел. Квашин бросил взгляд влево, перевёл его вправо — и всё понял: на элеронах болтались ярко-красные вымпелы: элероны, с помощью которых самолёту задаётся необходимый для разворота крен, были схвачены струбцинками. Такие крепкие зажимы всегда надевают на рули управления, когда самолёт стоит на земле. Это делается для того, чтобы ветер не раскачивал управление. Струбцинки красят в красный цвет, к ним привязывают яркие вымпелы. «Не забудь снять перед взлётом!» — сигнализируют окраска и флажки. Но всё же иногда и пожарный цвет бросается в глаза слишком поздно.
Квашину повезло дважды: во-первых, погода в этот день была тихая и машину почти не болтало, во-вторых, пролетев по прямой километров шестьдесят, он случайно «натолкнулся» на лётное поле соседней авиашколы.
Не меняя курса (рад бы, да не мог!), нарушая все правила и инструкции по эксплуатации аэродрома, лётчик с ходу при землился. Случайно всё обошлось без чрезвычайного происшествия.
Не для того, чтобы кого-нибудь напугать, рассказываю я эти истории. Нет!
Единственная моя цель — познакомить будущих «реактивщиков» с настоящим опытом жизни. Лётчик должен точно представлять себе, как достигается безопасность полёта, и не просто поверить мне на слово, а убедиться на примерах из практики, что:
В жизни известны десятки способов тушения огня. И, хотя лучше всего не допускать пожара, при необходимости надо всё же уметь управляться с огнетушителем. Это, как говорится, на худой конец. В авиации точно так же: безопасность достигается тщательной предварительной подготовкой к полёту. Точное соблюдение определённых правил в воздухе, спокойные действия в минуту опасности тоже помогают пилоту. И всё же на самый крайний случай лётчику даётся парашют.
Не буду кривить душой и уверять, что сам я когда-нибудь сильно увлекался парашютным спортом. Нет, меня не привлекали прыжки с самолёта, и я всегда относился к парашюту примерно так, как моряки относятся к спасательному кругу. Пусть мастера парашютного спорта не сочтут это откровение за обиду, но лётчику, отправляющемуся в тренировочный или боевой полёт, парашют выдаётся на крайний случай. Впрочем, может быть, именно это обстоятельство больше всего и заставляет лётчика относиться к парашюту с величайшим уважением.
Прежде чем стартовать, надо хотя бы очень коротко познакомиться с устройством парашюта. Главная его часть — матерчатый, обычно шёлковый купол. Он очень напоминает обыкновенный зонтик, только во много раз больше. К куполу крепятся стропы, соединённые с подвесной системой, которую лётчик надевает на себя. И купол и стропы укладываются в специальный ранец. В собранном виде парашют напоминает туго набитый брезентовый саквояж, наружу вылезают из него только белые плотные ленты подвесной системы, которую каждый лётчик подгоняет по своему росту и объёму так, чтобы она плотно охватывала тело. На левой лямке пришит маленький кармашек, из него торчит красное вытяжное кольцо.
Что произойдёт, если потянуть за него?
Тросик отопрёт замок, и ранец раскроется. Четыре его клапана силой натянутых резинок будут немедленно отброшены в стороны. Первым выскочит наружу маленький вытяжной парашют. Он потянет за собой аккуратно уложенный купол. За куполом поползут стропы. Если всё это произойдёт над землёй, в то время когда лётчик будет находиться в свободном падении, шёлковый купол, наполнившись воздухом, бережно понесёт человека к земле...
Так будет в воздухе. А если дёрнуть за вытяжное кольцо на земле? И в этом случае раскроется запорный замок парашюта и туго натянутые резинки раздёрнут клапаны ранца, и вытяжной парашютик вылетит, но дальше... дальше белый шёлк главного купола вывалится на землю бесформенной пенной грудой и, не подхваченный упругим потоком воздуха, так и останется лежать на траве. Заряд, как говорится, пролетит вхолостую, а парашютисту-укладчику будет работа — собирать и готовить шёлковый зонт сначала. Это я рассказал, чтобы ты был осторожен на земле и случайно не выдернул вытяжного кольца, когда будешь усаживаться в кабину.
Пользуясь тем, что речь зашла о парашюте, забегу несколько вперёд и расскажу о некоторых достижениях в этой области.
Пока люди не знали больших скоростей полёта, выбрасываться с парашютом из самолёта было просто. В нужный момент человек вываливался из кабины, и дальше всё происходило так, как я только что изложил. Но год от году скорости полёта возрастали и выбираться из кабины в полёте становилось не только трудно, но почти невозможно. Встречный поток воздуха норовил сломать высунувшегося из кабины лётчика. Что было делать?
Конструкторы изобрели тогда особое спасательное устройство — катапультное сиденье. Теперь со скоростного самолёта лётчик не выбрасывался, а выстреливался из кабины. Да, да, выстреливался. Роль орудия исполняла при этом особая труба, прилаженная к спинке пилотского кресла, а роль снаряда — сам пилот.
Практически катапультирование выглядит так: лётчик подбирает под себя ноги, нажимает на спусковую скобу; раздаётся взрыв, и человека мгновенно выносит из самолёта. Очутившись в воздухе, пилот либо сам освобождается от сиденья либо дожидается, когда это сделает за него автомат, а потом уже раскрывает парашют...
Нажим на спусковую скобу — и могучее спасательное
устройство выстреливает пилота в небо...
Автомат освободит его от кресла, раскроет парашют.
Шёлковый купол доставит человека на землю...
Вот и всё о постоянном спутнике пилота — парашюте.
А теперь пойдём к самолёту.
Надевай парашют, усаживайся в кабине, подгоняй по своему росту сиденье и педали, застёгивай привязные ремни.
Готов?
Очень хорошо. Запускаю мотор.
Видишь — дрогнули стрелочки моторных приборов, воздушный винт махнул своими лопастями и потерял очертания. Слышишь рокот: первый раз он кажется особенно сильным. Это забилось самолётное сердце, ожил мотор.
Представляю, как тебе не терпится оторваться от земли. Но придётся ещё чуточку потерпеть. Дай мне прогреть мотор.
Если у человека температура подскочит за 38 градусов — он не работник, его уложат в постель и пропишут разные лекарства. Не лучше чувствуешь себя, когда засунутый под мышку термометр показывает 35,1 градуса — одолевает слабость, мучает головокружение, при малейшем напряжении пробивает холодная, липкая испарина. Нормальная температура здорового человека — 36,6 градуса. Вот и мотор имеет свою нормальную температуру. Измеряют её, конечно, не под мышкой, а в масляной магистрали (масло постоянно циркулирует в моторе и нагревается вместе с ним). Перед взлётом масло, поступающее в мотор, должно быть нагрето до 40 градусов. Если мотор «холодный», он не даёт полной мощности, будет работать с перебоями, трястись, как в лихорадке, плеваться дымом. «Холодный» мотор всё равно что больной человек — не работник. Пусть винт покрутится на малых оборотах, пусть несколько минут погреются все моторные «косточки». А как только температура масла станет нормальной, мы опробуем мотор на полных оборотах, убедимся, что они действительно полные — тысяча девятьсот в минуту. Запомни, кстати, число оборотов мы проверим по специальному счётчику, который называется тахометром. Но всё это произойдёт чуточку позже. А пока прогревается мотор, я познакомлю тебя с тормозами. Они нам сейчас понадобятся.
Нажата тормозная гашетка на ручке
управления — сжатый воздух пошёл по
трубкам к колёсам и включил тормоза.
Самолёт останавливается.
Чтобы лётчику легче было маневрировать на земле, конструкторы сделали на самолётных колёсах тормоза. Действуют они не совсем так, как на автомобиле. Лётчик по своему желанию может затормаживать и сразу оба колеса и одно из двух. Если вперёд отклоняется левая педаль (дана левая нога) и нажат тормоз — останавливается левое колесо и самолёт разворачивается «за ногой» — влево; если же дана правая нога — картина обратная. Когда же педали стоят на одной прямой (нейтрально), а тормоз нажат, притормаживаются сразу оба колеса, и самолёт, никуда не разворачиваясь, замедляет движение, останавливается.
На этот раз лётчик ещё и отклонил педаль.
Теперь сжатый воздух пойдёт только к одному колесу,
и самолёт начнёт поворачиваться
Пока я всё это рассказывал, мотор прогрелся. Теперь пора стартовать. Пройдут секунды — и земля останется внизу...
На своём веку я выполнил много тысяч полётов, видел под крылом самолёта зелёное Подмосковье и угрюмую тайгу, защитного цвета монгольские степи и всю в голубых блюдечках озёр Карелию, видел ледяные просторы Заполярья и солнечные берега Чёрного моря, и всё же самого первого в жизни полёта я не забыл и сейчас. О чём думается за пять секунд до этого самого первого взлёта?
Могу сказать совершенно точно — в последний момент не вспоминаешь всей прожитой жизни, не прощаешься с милой сердцу землёй, не мечтаешь о славе... За пять секунд до воздушного крещения я больше всего беспокоился об одном: как бы не запутаться в приборах. Мне почему-то казалось, что в нужный момент я вдруг не найду указателя скорости.
И действительно, оторвавшись от земли, я не мог уже ничего найти в кабине. Всё моё внимание было поглощено окружающим. Земля стала вдруг удивительно чистой, куда-то далеко назад отступил горизонт, леса позеленели, будто набрались свежести, и река наполнилась голубым мягким светом. Я даже не сразу сообразил, что в воде отражается небо.
Всё это было удивительно, неожиданно, незабываемо...
За пять секунд до первого в жизни старта бесполезно давать какие-либо советы. Это я знаю точно, иначе я бы рекомендовал тебе:
Ещё раз внимательно осмотреть кабину и приборы.
Запомнить положение стрелок на бортовых часах.
Оценить силу ветра и заметить его направление.
Посмотреть, что делается над аэродромом, в воздухе.
Прислушаться, и повнимательней, к работе мотора.
Обязательно оглянуться назад.
(Если не на пятом, то на десятом полёте всё это ты будешь делать обязательно.)
А теперь: «Разрешите взлёт?»
И когда в наушниках шлемофона послышится наконец: «Вам — взлёт!», не торопись... Поспешность никогда ни в чём не приносит счастья.
Плавно уходит вперёд левая рука, перемещая сектор газа от себя до упора — в положение полных оборотов. Следом и правая рука ведёт вперёд, от себя, ручку управления. Самолёт разбегается по земле, и всё это время ноги должны быть начеку — задумает машина рыскнуть в сторону, отвернуться от прямой линии разбега, надо точным и быстрым отклонением руля поворотов парировать это стремление.
Нарастёт скорость, толчки сделаются реже, плавнее, и наконец наступит такой момент, когда подъёмная сила крыльев достигнет силы веса самолёта. Тогда машина оторвётся от земли. Если её не придержать немножко, не заставить увеличить скорость над взлётной полосой, можно незаметно и на крыло свалиться. Чтобы не случилось такой беды, надо заставить самолёт пролететь некоторое расстояние по прямой, как говорят лётчики,— выдержать машину. Для «Як-18» нормальная скорость, обеспечивающая безопасный переход в набор высоты, — сто тридцать — сто сорок километров в час...
Вот это и есть взлёт, обыкновенный, нормальный взлёт!
Одного, да к тому же ещё первого взлёта, конечно, мало, чтобы разобраться во всех тонкостях управления самолётом. Внимание в первом полёте поглощено прежде всего землёй. Сначала непривычно быстро мелькает трава под крылом, потом вдруг выясняется, что трава отодвинулась далеко вниз, а самый момент отрыва от земли ты прозевал — не огорчайся, в первый раз так бывает решительно со всеми. И не удивляйся, когда заметишь, что земля неожиданно начинает крениться куда-то в сторону. Нужно время, чтобы сообразить, что кренится вовсе не наша устойчивая старушка планета, а машина, на которой ты летишь.
За стремительным потоком новых, острых и, если говорить честно, не таких уж поначалу приятных ощущений, очень трудно разобраться в действиях инструктора-лётчика, управляющего самолётом. Постарайся запомнить одно: за весь полёт управление ни разу резко не дёрнулось, ни одно движение не было выполнено рывком, с маху. Рули отклонялись плавно, почти незаметно. Эта маленькая подробность в большом искусстве пилотажа имеет очень важное значение:
Обыкновенный взлёт не вызывает никакого восторга у новичка. Гораздо большее впечатление на человека, впервые отправляющегося в полёт, производит вид земли, лежащей внизу: привычные очертания знакомых с детства предметов неожиданно изменяются — всё теряет объёмность, становится плоским, «взрослые» здания превращаются вдруг в игрушечные домики, застывают в пространстве дымки... Хорошо, привольно, красиво! Любуйся и землёй, и синим, подёрнутым лёгкой, как кисея, дымкой горизонтом, и облаками, которые с этого дня стали к тебе ближе, но не забывай, что все эти ощущения ты получил благодаря обыкновенному, нормальному взлёту. И имей в виду, что в жизни лётчика случаются иногда взлёты необыкновенные...
Внизу лежала выжженная солнцем монгольская земля, сотни тысяч квадратных километров степи, клочковато-защитное, как шкура верблюда, пространство, где глоток воды ценится дороже золота и алмазов. В бою над этой степью был повреждён самолёт лётчика-истребителя Забалуева. Пилоту пришлось пойти на вынужденную посадку. Приземлился Забалуев благополучно, но, где свои, где чужие, не знал. И как выбраться из этого сжигаемого солнцем ада, тоже не мог придумать...
К счастью, своих Забалуеву искать не пришлось. Свои сами нашли его. Помощь пришла неожиданно и гораздо быстрее, чем мог мечтать лётчик. Герой Советского Союза Сергей Грицевец, заметив машину Забалуева в степи, приземлился с ней рядом. Сесть он сел, но как взлететь на одноместном истребителе вдвоём?
Это был необыкновенный, мастерский взлёт. Взлёт почти невероятный с точки зрения техники и вполне естественный с точки зрения солдатской дружбы.
Мне известны и другие не менее удивительные взлёты, когда, например, двухместный штурмовик вывозил из-под самого носа противника два экипажа с подбитых машин...
А сколько раз поднимали свои перегруженные машины с неровных ледяных площадок командиры полярных воздушных кораблей?
Если нет подходящих условий для посадки, можно сбросить груз с парашютом, парашютом может воспользоваться и экипаж, но, чтобы стартовать в сложных, порой самых невероятных условиях,— надо непременно уметь взлетать.
НЕМНОЖКО ПИЛОТАЖА
Самый первый полёт с инструктором называется ознакомительным. Он занимает обычно минут семь-восемь. За этот короткий срок самолёт успевает набрать над землёй четыреста метров, описать два широких круга над аэродромом, плавно снизиться — спланировать и аккуратно приземлиться на три точки у «Т».
Человек, только что получивший воздушное крещение, неловко выбирается из кабины. На лице, как правило, растерянная улыбка, глаза полны радостного удивления.
Мало кто в этот момент может рассказать что-нибудь связное, вразумительное о своём первом полёте, но одно слово повторяют решительно все:
— Здорово!
И всех беспокоит сомнение: «Неужели когда-нибудь я смогу летать сам — без инструктора?..»
Мелкий вираж
Мелкий вираж — не трудная, но очень важная фигура. Дело в том, что каждый разворот самолёта — часть виража, а полёта без разворотов вообще не бывает. Если ты хочешь наглядно представить себе эту фигуру, вырежь из бумаги силуэт самолёта, положи его на край суповой тарелки и заставь «пролететь» по всему кругу. Для «Як-18» скорость на мелком вираже должна быть сто шестьдесят километров в час, крен 30 градусов...
Сегодня нет ничего проще, чем выполнить мелкий вираж.
Потом у тебя будет ещё много полётов по кругу, постепенно инструктор станет всё меньше вмешиваться в твои действия в воздухе, всё реже покрикивать в переговорное устройство, связывающее кабины: «Крен! Крен! Скорость! Высота!» И наконец придёт радостное утро, когда тебе дадут разрешение на самостоятельный полёт по кругу. Всё это впереди, всё это обязательно случится.
А пока у нас есть время помечтать. Подумать о высшем пилотаже, испытать ни с чем не сравнимое, захватывающее чувство скорости.
Сначала я расскажу о простых фигурах.
Но было время, когда даже мысль о крене в полёте вызывала смущение у самых смелых пилотов. На заре авиаций люди летали «блинчиком»...
Авиаторы старой школы почитали чуть не за первое правило: «Бойся кренов — большинство катастроф связано с появлением кренов в полёте». Правда, пилотам был известен многовековой опыт птиц. Опыт этот возражал: «Все птицы разворачиваются в воздухе только с креном, больше того — многие пернатые отлично выполняют сложные манёвры в небе, и ничего — не падают...»
Но то птицы!
А как же опыт земли: разве не наклоняется всадник на повороте, разве не кладёт на бок велосипедист свою неустойчивую машину, когда ему приходится быстро изменять направление?
Но то земля! Твёрдая опора!
Великий русский учёный Н. Е. Жуковский был за крены в воздухе. И всё же его расчёты и опыт птиц требовали практической проверки в полётах.
Слово было за лётчиками. И лётчики сказали своё слово: на примитивных летательных аппаратах, часто рискуя жизнью, эти мужественные люди подтвердили справедливость расчётов Жуковского, правильность птичьей школы летания. Они доказали, что причины первых неудач таились не в кренах, а в конструктивных недостатках самих машин.
К рассказу о том, как было доказано, что в воздухе везде опора, я ещё вернусь, а сейчас закончим разговор о мелком вираже.
Во время, виража рули отклоняются совсем немного, не больше чем на четверть полного хода. Когда скорость и крен установятся, задержи ручку и педали в том положении, в котором их этот момент застанет. Мелкие отклонения самолёта исправляй мельчайшими и очень плавными движениями рулей. В авиации часто говорят: «Ты не давай ручку, ты только подумай дать — и будет в самый раз».
На мелком вираже не столько «дают» рули, сколько «думают давать», и тогда всё получается очень хорошо!
Пикирование
Для того чтобы быстро снизиться, потерять высоту, нужно уметь пикировать. Перед началом пикирования прежде всего уменьшают обороты мотора (сектор газа тянут на себя) и ручкой управления опускают нос самолёта к земле. При этом самолёт начинает быстро «катиться» вниз, как санки с очень крутой горы. Чтобы «гора» была ровной, без ухабов и кочек, или, если говорить более точным языком, чтобы сохранялся постоянный угол пикирования, лучше всего выбрать на земле какой-то хорошо заметный ориентир — отдельное дерево, пруд, изгиб дороги — и целиться в него всем самолётом. При этом будет быстро расти скорость и уменьшаться высота, и лётчик должен всегда помнить, что для самолёта «Як-18» максимально допустимая скорость двести восемьдесят пять километров в час. И ещё надо помнить: земля никому не прощает ошибок, поэтому всегда лучше начинать вывод из пикирования чуть раньше, чем чуть позже...
А выводить самолёт из пикирования совсем просто: ослабь нажим на ручку управления, и твой «Як» сам станет приподнимать нос, уменьшая угол снижения. Если он делает это вяло, помоги ему, потихонечку подбери ручку на себя.
Пикирование — ответственный манёвр. Эта фигура позволяет догнать противника в бою и уйти от него, если ты оказался в невыгодном положении; пикируя, атакуют наземные цели, пробивают облачность (разумеется, если облака начинаются достаточно высоко над землёй).
Пикируя до самой земли, обессмертил своё имя во время Великой Отечественной войны Герой Советского Союза Николай Францевич Гастелло: он врезался на горящей машине в скопление вражеских танков. Погиб, но не сдался капитан, смертью своей нанёс он урон врагу, и последняя в жизни лётчика фигура была пикированием...
Боевой разворот
Быстро набрать высоту, одновременно развернувшись на 180 градусов (летел на юг — возвращаюсь на север) — это и значит выполнить боевой разворот. Само название этой фигуры говорит о главном её назначении. Воздушный бой — прежде всего, маневрирование. Каждую секунду, да что секунду,— каждую долю секунды изменяется положение нападающих и обороняющихся самолётов. И совершенно невозможно заранее предположить, как сложится схватка. Бой в небе скоротечен, положения бойцов изменчивы. Только что противник был перед тобой и чуть выше, но вот он завалил свою машину в вираж, уходит, и, чтобы «достать» его, надо немедленно идти вверх и одновременно менять направление полёта.
«Як-18», конечно, не истребитель, и настоящего боевого разворота на нём не сделаешь. Но если ты разгонишь самолёт до максимальной скорости и, плавно вводя машину в вираж, будешь одновременно подтягивать ручку на себя (контроль за приборами такой же, как на вираже, только скорость постепенно уменьшается), то тебе удастся набрать сто двадцать — сто тридцать метров высоты, быстро изменить направление полёта на обратное и сохранить при этом скорость сто двадцать километров в час.
Прославленный военный лётчик, трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин часто повторял во время войны: «Хозяин высоты — хозяин боя».
Эти слова превратились в своего рода формулу истребительной авиации, в учебниках тактики их печатают жирным шрифтом, в конспектах заключают в рамочку.
Высоту в воздушной схватке истребитель чаще всего набирает боевым разворотом.
Сразу во всех фигурах пилотажа всё равно не разобраться. Поэтому оставим на время кабину нашего учебного самолёта. Впереди у тебя аэроклуб и лётная школа, и ты ещё успеешь познакомиться со всеми тонкостями фигурных полётов, постигнуть теорию.
А пока мне хочется поведать тебе любимую шутку старых инструкторов-лётчиков.
Однажды задумали на Н-ском аэродроме выучить летать храбрую обезьяну. Стали водить её на лётное поле. Люди летают — обезьяна смотрит. Потом подпустили обезьяну к машине и видят — хитрюга повторяет все действия лётчика перед взлётом: осматривает и трясёт винт, заглядывает в баки, надевает парашют... Словом, на то она и обезьяна, чтобы обезьянничать. И очень скоро полетела храбрая обезьяна. Хорошо полетела. Десять полётов сделала — всё в порядке, а на одиннадцатом разбилась. Почему? Вспомнила в воздухе, что не осмотрела перед полётом машину, и на высоте четырёхсот метров полезла из кабины на крыло потрясти винт...
Это, конечно, шутка, но есть в ней серьёзный смысл. Можно научиться ворочать рулями вправо-влево, можно запомнить, что делать на взлёте и на посадке, и даже довольно точно копировать все движения инструктора, который даст тебе первые «вывозные» полёты, но это ещё совсем не значит научиться летать. Секрет любого полёта — самого сложного и самого простого — в ясном, чётком, глубоко осмысленном понимании происходящих с машиной явлений. Это главное, а всё остальное второстепенное. И никакая даже виртуозная техника пилотирования не выручит человека в сложном положении, если он не может разумно оценить воздушную обстановку.
Каждый молодой лётчик до известной поры побаивается полёта. В этом нет ничего зазорного — это нормальный, что называется, законный страх перед неведомым. Побороть его можно двумя путями: пренебрежением опасностью или точными, надёжно выверенными знаниями. Последний путь вернее.
Будем считать, Алёша, что ты меня понял, и сделаем простой, но необходимый вывод на будущее: без математики, без физики, без серьёзных знаний лётчику не обойтись.
До сих пор я рассказывал тебе о простых фигурах пилотажа. Впереди предстоит знакомство с высшим пилотажем. Но тебе необходимо ещё узнать некоторые общие правила поведения лётчика в воздухе.
Люди, прожившие весь свой век на земле, часто говорят: «Эх, в воздухе хорошо — места много, не то что на улицах! Светофоров не нужно, лети куда хочешь, заворачивай как тебе нравится — не натолкнёшься ни на кого, никого не собьёшь». Говоря так, люди даже не подозревают, как они ошибаются.
Действительно, места в воздухе много. И самолётов даже над самым большим аэродромом меньше, чем автомобилей на улице Горького в Москве или на Невском в Ленинграде. Но разве безопасность движения зависит только от числа машин? Подумай, Алёша, что опаснее — сто автомобилей, движущихся не спеша по правилам, или один лихач, несущийся со скоростью сто километров в час наперекор всем регулировочным знакам?..
Нормальная скорость самолёта по крайней мере в пятьшесть раз больше, чем у автомобиля,— это первое. Все наземные машины движутся главным образом вперёд, иногда поворачивая влево или вправо, а самолёты ещё отклоняются вверх и вниз — это второе. На автобусе или «Победе» никакой шофёр с неисправными тормозами за ворота гаража не выедет, и нет ничего проще, чем остановить автомобиль среди дороги. Лётчик в полёте лишён и такой возможности, он не может «притормозить» и пропустить другого, скажем, зазевавшегося пилота — это третье. Вот и выходит, что не так уж «свободно» в воздухе, как это кажется с земли. И то, что в небе нет ни светофоров, ни дорожных знаков, ни разграничительных белых полос, скорее не облегчает, а усложняет работу пилотов. Поэтому и говорят на аэродромах: «У хорошего лётчика и затылок видит».
В любом полёте, и особенно в полёте аэродромном, очень важно всё видеть, всё вовремя замечать.
Ты уже знаешь, для чего вокруг аэродрома размечаются пилотажные зоны. И тебе нетрудно будет понять теперь, как важно, выполняя фигуру за фигурой, случайно не нарушить границу своей зоны. Встреча двух пилотирующих самолётов в «ничьём» воздухе вряд ли может предвещать что-нибудь хорошее.
«Читай землю,— говорил более двадцати лет назад мой первый инструктор,— внимательно читай!» Сначала я не понимал, как это можно читать землю — не книжка ведь. А потом научился. Крутишься в зоне и нет-нет взглянешь вниз: слева красная крыша будки обходчика, справа ажурная паутина железнодорожного моста, речка течёт наискось — с юго-востока на северо-запад — значит, всё в порядке: дома! Когда привыкнешь связывать наземные ориентиры друг с другом, схватывать, как говорят штурманы, всю систему ориентиров, а не отдельные разрозненные детали земного ландшафта, тогда уверенней и спокойней чувствуешь себя над землёй. В районе полёта может быть десять одинаковых отдельно стоящих деревьев и восемнадцать похожих будок обходчиков. Сам по себе мелкий ориентир — нем как рыба, он легко ускользает. А вот связанный со своими соседями, образуя какой-то единственный, неповторимый рисунок, он говорит. Говорит, «как книга».
Хотя современная авиация — прежде всего техника, в ней все же очень многое сродни спорту. Ты футболист, и тебе отлично известно захватывающе острое чувство атаки, скорости, нападения. Когда матч идёт напряжённо, когда у ворот сталкиваются противники и до гола остаётся чуть-чуть, человек бьёт по воротам, хотя его партнёр находится в положении вне игры вовсе не потому, что он ярый нарушитель правил. Он ничего не видит в этот момент, кроме чужих ворот и мяча у своей ноги. И даже пронзительный судейский свисток доходит до его сознания с опозданием, как сигнал, посланный издалека, чуть ли не с другой планеты.
Пилотаж тоже захватывает человека, особенно если фигуры получаются чёткими и чистыми, если вираж вяжется за виражом, если из пикирования бросаешь машину вверх боевым разворотом и видишь, что всё в порядке — зона под тобой, аэродром на месте, горизонт чист. Хочется ещё и ещё повторять фигуры, усложнять их рисунок, наращивать темп...
И всё же слишком увлекаться не следует. Конечно, легче дать добрый совет, чем его выполнить, но авиационный опыт учит: что бы ни делал лётчик в воздухе, как бы азартно ни «крутил» свою машину пилот, он обязан всегда помнить о моторе — прислушиваться к его работе, присматриваться к показаниям контрольных приборов, принюхиваться к воздуху в кабине... Да, принюхиваться тоже: иногда запах горелой резины может подсказать бывалому человеку в десять раз больше, чем пять толстых тетрадей с конспектами по теории двигателя...
И ещё одно последнее замечание из числа «общих». Прислушивайся не только к мотору, но и к самому себе. Даже тренированные лётчики не всегда одинаково чувствуют себя на пилотаже — бывает, и замутит, и вялость вдруг появится. Ничего в этом стыдного нет. Не надо без нужды перемогать себя. Если нет желания пилотировать, лучше уйди из зоны и спокойно приземлись. Никто не станет тебя ругать за это, никто не будет поддразнивать.
Лётчик обязан беречь не только материальную часть — самолёт, мотор, приборы,— но прежде всего самого себя, потому что нет на земле ничего более ценного, чем сам человек.
А теперь вернёмся на аэродром и продолжим знакомство с фигурами высшего пилотажа.
ПИЛОТАЖ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Глубокий вираж
Модель мелкого виража мы соорудили с помощью суповой тарелки и бумажного самолётика; чтобы «увидеть» глубокий вираж, тарелку придётся заменить обыкновенной миской. В ней крылья модели наклонятся больше — а этот больший крен как раз и составляет главное отличие глубокого виража от мелкого.
Лучшая скорость глубокого виража на самолёте «Як-18» сто семьдесят километров в час. Больший крен требует от лётчика большего внимания и очень точных, хорошо соразмеренных движений рулями. Думаю, что ни одному человеку на свете не удалось с первой попытки правильно выполнить глубокий вираж. Нужно много и настойчиво тренироваться, чтобы научиться сохранять высоту и скорость, строго соразмерять отклонение ручки управления и ножных педалей.
В школе, на уроке физики ты, вероятно, занимался таким опытом: в ведёрко наливал воду, привязывал к ручке верёвку и вращал всё это нехитрое сооружение. При этом вода из ведёрка не выливалась, как бы ты ни описывал круги — в вертикальной или горизонтальной плоскости. Воду прижимала к донышку ведра центробежная сила.
Когда самолёт описывает в воздухе глубокий вираж, роль ведра исполняет машина, роль верёвки — воздух, а роль воды — лётчик.
Сила, прижимающая при этом человека к сиденью, называется перегрузкой. Она наваливается на плечи, заставляет отвисать щёки, закрывает глаза. Перегрузка в полёте может в пять-шесть раз превосходить вес самого лётчика, то есть достигать пятисот с лишним килограммов. Мне случилось однажды видеть фильм, снятый в полёте. На экране я не узнал ни одного «актёра», хотя все герои этой научно-популярной кинокартины были лётчики нашего аэродрома: так изменялись их лица под воздействием перегрузок. И всё же даже самые большие перегрузки, особенно если они действуют кратковременно, свободно выдерживает почти всякий здоровый человек; а тот, кто постоянно занимается спортом, регулярно тренируется, переносит их ещё легче.
Глубокий вираж позволяет лётчику резко менять направление полёта, уходить из-под удара и настигать противника; глубокий вираж — боевая фигура истребителя, но этим не исчерпывается её назначение. Пожалуй, ни на какой другой фигуре так остро не оттачивается мастерство пилота, как на глубоком вираже.
Ни один пианист не выступает в концерте с гаммами, но для тренировки рук, для отработки техники гаммы очень нужны. Глубокий вираж в какой-то степени напоминает это музыкальное упражнение: на нём шлифуют «воздушный почерк».
Переворот
Что произойдёт с самолётом, если на скорости сто сорок километров в час энергично отклонить, скажем, в левую сторону ручку управления и ножную педаль?
Наш «Як» быстро перевернётся на спину. И, если в тот момент, когда машина очутится вверх ногами, мы возвратим рули в первоначальное положение, машина станет опускать нос и переходить в пикирование. Такой манёвр называется переворотом через крыло. Это как бы обратная боевому развороту фигура. Выполняя её, лётчик быстро меняет направление полёта на 180 градусов (летел на юг, возвращаюсь на север), одновременно он теряет высоту и увеличивает скорость. «Як-18» снижается за время переворота на сто пятьдесят — сто шестьдесят метров.
Когда лётчик, выучившись выполнять отдельные фигуры, приступает к освоению сложного пилотажа, когда он связывает одну фигуру с другой, получая чёткий ажурный рисунок в небе, переворот становится одним из главных воздушных манёвров.
Петля Нестерова
Рассказ об этой фигуре мне хочется начать с истории.
Пятьдесят лет назад военный лётчик штабскапитан Пётр Николаевич Нестеров писал: «Воздух есть среда вполне однородная во всех направлениях. Он будет удерживать в любом положении самолёт при правильном управлении им». В те далёкие годы, когда авиация делала ещё первые и очень робкие шаги, такое заявление молодого пилота было встречено сомнениями и насмешками. И никому не было дела до того, что Нестеров, прежде чем написать эти вещие слова, долго наблюдал птиц, вникал в теорию полёта.
В ту пору в цирковых представлениях демонстрировался такой аттракцион: на арене выставляли круг, напоминающий гигантский обруч, и смельчак-велосипедист проносился по внутренней стороне этого обруча, на мгновение оказываясь в положении вверх ногами. Аттракцион этот назывался «мёртвой петлёй». Нестеров был убеждён, что в воздухе не нужен обруч. Он доказывал, что можно, разогнав самолёт, заставить его описать замкнутый вертикальный круг над землёй без всякого риска для машины и человека. Выполнить петлю в воздухе стало заветной мечтой штабс-капитана.
Лётчику не верили, его считали фантазёром, над ним издевались. Появилась даже эпиграмма:
Ненавидящий банальность,
Полупризнанный герой,
Бьёт он на оригинальность
Своею мёртвою петлёй!
И, прежде чем ответить на эти строчки полётом, прежде чем прочертить в небе вертикальный замкнутый круг, Нестеров отвечает на рифмованное нападение так:
Коль написано: петля,
То, конечно, это я.
Но ручаюсь вам, друзья,
На петлю осмелюсь я.
Одного хочу лишь я,
Свою петлю осуществляя,--
Чтоб эта мёртвая петля
Была бы в воздухе живая.
Не мир хочу я удивить,
Не для забавы иль задора,
Я вас хочу лишь убедить,
Что в воздухе везде опора!
Что и говорить, лётчик Нестеров был неважным стихотворцем — приведённые строчки никак не назовёшь поэтическим достижением. И всё же они поражают — не литературным мастерством, конечно, а убеждённостью автора — петля осуществима!
Петля Нестерова долгие годы называлась мёртвой — это величайшая ошибка и величайшее недоразумение. К счастью, теперь эта ошибка исправляется: из всех официальных документов, учебников, инструкций вычеркнули слово «мёртвая» и рядом со словом петля поставили имя Нестерова. Это справедливо!
Когда же точно родилась петля Нестерова?
27 августа 1913 года в небе Киевского аэродрома на очень примитивном самолёте «Ньюпор» Пётр Николаевич Нестеров выполнил первую в истории авиации петлю, открыв эпоху фигурного летания — эпоху высшего пилотажа. По тем временам это был не только смелый, но и дерзкий полёт.
Живая нестеровская петля заставила умолкнуть сторонников и защитников осторожных «плоских» полётов, она неопровержимо доказала, что «в воздухе везде опора».
Сегодня выполнение петли Нестерова входит в программу первоначального лётного обучения. И, для того чтобы сделать её на «Як-18», не нужно обладать никакими особенными волевыми качествами. Просто, без всякого усилия, на скорости двести тридцать километров в час лётчик начинает выбирать ручку на себя, следя, чтобы педали стояли в нейтральном положении. «Як» поднимает нос и лезет вверх, в небо. Постепенно земля оказывается у лётчика над головой, а голубое воздушное пространство — под ногами. В это трудно поверить на слово, не испытав самому, но такое перемещение — земля на месте неба — не вызывает никаких неприятных ощущений; ни на секунду тебе не кажется, что вот сейчас ты начнёшь падать.
В тот момент, когда машина окончательно ляжет на спину, надо сбавить обороты мотора (сектор газа убрать на себя) и, чуточку подтянув к себе ручку управления, помочь «Яку» перевалиться через верхнюю точку петли. А дальше все делают так же, как на выводе из пикирования.
Теперь, Алёша, ты знаком со всеми главными фигурами пилотажа.
«А как же бочка? А иммельман? А двойная бочка?» — спросишь ты.
Правильно, все эти фигуры существуют, только они не самостоятельные, и подобно тому как слова складываются из слогов, так и фигуры эти составляются из тех, что уже описаны. Возьмём к примеру бочку — это же двойной переворот. Лётчик, опрокинув машину на спину, не даёт ей опускать нос и входить в пикирование, а, удерживая рули отклонёнными, заставляет свой «Як» вывернуться и вновь занять положение горизонтального полёта.
Иммельман тоже составлен из двух половинок других фигур — первая половина петли (от разгона до выхода самолёта на спину) плюс вторая половина бочки (поворот со спины в нормальное положение).
И всё же разговор о пилотаже нельзя считать законченным. Ведь ты ещё незнаком со штопором.
Маленьких детей пугали раньше бабой-ягой, а молодых лётчиков — штопором. И, хотя для опытного, грамотного лётчика штопор не страшнее, чем баба-яга для взрослого, разумного человека, разница между этими двумя «пугалами» есть, и существенная: бабы-яги никто никогда не видел, а со штопором знакомы все летающие люди.
Ты видишь все последовательные
положения машины на левом штопоре.
Вывод изображён в несколько «сокращённом» виде.
В воздухе пикирование занимает большее пространство...
Теория штопора разработана теперь детально. И каждый пилот знает, что происходит с самолётом, когда воздух перестаёт плавно обтекать несущие плоскости.
Подъёмная сила на обоих крыльях резко уменьшается. Но, так как уменьшение это на левом и на правом крыле происходит не одновременно, самолёт не просто проваливается, а начинает ещё вращаться. Это явление так и называют — самовращением крыла. В нём таится причина штопора.
Как же выглядит штопор?
Потеряв скорость, самолёт резко сваливается на крыло и несётся к земле по круто вытянутой вниз спирали, при этом он ещё вращается вокруг своей продольной оси. Штопор потому и называют штопором, что внешне фигура напоминает гигантский, чуть растянутый пробочник без шляпки.
Ты видел, как падают с клёнов, кружась, «носы». Это очень похоже на штопор.
К сожалению, на практике люди познакомились со штопором раньше, чем теория сумела объяснить его причины и предложить надёжные меры для сохранения безопасности. Вот почему на первых порах развития авиации штопор превратился в пугало. Но человек пытлив и упорен. Столкнувшись с какимлибо непонятным явлением, он не щадит ни сил, ни жизни, отыскивая ключи к его раскрытию.
Все, кто летает, и все, кто собирается летать, должны знать имя лётчика Константина Константиновича Арцеулова. В сентябре 1916 года он поднялся на высоту тысяча пятьсот метров, погасил скорость своей машины и преднамеренно свалил её в штопор.
Вращаясь, самолёт падал к земле. Виток, второй, третий...
Это было в 1916 году, в ту пору, когда самолёты больше всего походили на комнатные этажерки, когда парашют не состоял ещё на вооружении авиации...
Арцеулов вывел самолёт из штопора и, чтобы люди не подумали, что это удалось ему случайно, снова набрал высоту и штопорил снова...
Потребовались годы теоретических исследований, тысячи рискованных полётов, чтобы до конца раскрыть и осмыслить природу штопора. Благодаря трудам сотен последователей Арцеулова штопор стал «ручным». Сегодня это вполне доступная даже для молодого пилота фигура.
И всё же в штопор попадают по-разному. Можно преднамеренно вводить самолёт в штопор, а можно и нечаянно свалиться в него.
Как вводят самолёт в штопор
Сначала набирают побольше высоты, на «Як-18» — не меньше двух тысяч метров. Потом, сбавив обороты мотора до предела, уменьшают скорость полёта. Чтобы машина не опускала нос ниже горизонта, ручку управления всё время подбирают на себя. Когда указатель скорости покажет восемьдесят пять километров в час, ручку управления подтягивают ещё немного на себя и, чтобы быстрее нарушить равновесие, на половину хода отклоняют ножную педаль. Самолёт начинает штопорить.
Намеренно вводя самолёт в штопор, пилот всё время остаётся хозяином положения. Он совершенно точно знает, в какой момент опустится нос самолёта и в какую сторону будет вращаться машина.
Почему сваливаются в штопор
Но в практике случается, что лётчик вовсе не собирался штопорить, а в штопор всё же попал. В таких случаях говорят: «Он свалился в штопор...» Чаще всего сваливаются в штопор по ошибке, потому что не замечают потери скорости на пилотаже или слишком резко работают рулями управления.
Большинство современных самолётов предупреждает лётчика о приближении опасного режима полёта мелкой, но довольно ощутительной тряской. И, если в этот момент отдать ручку от себя, увеличить скорость,— угроза штопора немедленно минует.
Но так уж устроен, к сожалению, человек, что он иной раз ни красного света на светофоре не замечает, ни милицейского свистка не слышит. Его предупреждают, а он всё же шагает через улицу в самый неподходящий момент ив самом рискованном месте...
Вот и с лётчиком так случается — задрожит машина, предупреждает: «Осторожно!», а он словно не замечает ничего, тянет ручку управления дальше.
Конечно, лучше всего не совершать ошибок и не сваливаться в штопор нечаянно. Но, уж если такая беда стрясётся (а кто из нас не допускает в жизни ошибок?), надо уметь быстро, спокойно, без паники выводить самолёт из штопора.
Замечу кстати, что вывод из штопора производят всегда одинаково, вне зависимости от того, очутился ты в штопоре по доброй или по злой воле.
Как выводят самолёт из штопора
Чтобы прекратить вращение самолёта на левом штопоре, прежде всего отклоняют до конца педаль руля поворота вправо и сразу же «отдают» ручку управления от себя. Как только машина
перестаёт крутиться и начинает пикировать, педали ставят в нейтральное, среднее положение и ждут, пока самолёт наберёт безопасную для маневрирования скорость. Как выходить из пикирования, тебе уже известно.
Имей только в виду, что за два витка штопора «Як-18» теряет двести пятьдесят метров высоты. Это не мало!
Ты знаешь уже достаточно, чтобы понять такую авиационную премудрость: «Лишние десять километров скорости и триста метров высоты — никогда не помеха».
До сих пор я говорил главным образом о том, как управляют самолётом в разных положениях, что делают, чтобы завязать, например, петлю в небе или выполнить боевой разворот, и почти не касался другой стороны пилотажа: для чего нужно уметь кувыркаться в воздухе, и так ли это обязательно?
Да, это обязательно! Пилотаж — основа боевого мастерства, пилотаж помогает постигнуть все особенности самолёта, до глубины познать характер машины.
Каждому, конечно, ясно, что нет на свете двух человек с одинаковыми характерами, что нет двух совершенно схожих горных вершин; точно так же не существует двух самолётов, до конца повторяющих один другого. Общее представление о незнакомой машине можно получить, изучая её лётную характеристику (такой документ составляется на каждый самолёт). Но, так же как самое подробное описание горной вершины не может во всей полноте передать её истинного облика, невозможно точнейшими цифрами лётной характеристики воспроизвести душу самолёта. А она существует, эта душа, и не зря пилоты, отзываясь о машинах, на которых им приходится работать, говорят: «нервная машина», «утюг», «игрушка»...
Пусть второй рассказ полковника Андрея Максимовича Колесова подтвердит эту мысль — есть душа у машины.
Второй рассказ полковника Колосова
«Можно верить и можно не верить в любовь с первого взгляда, это кто как умеет чувствовать. Я лично верю.
Когда много лет назад я увидел эту упрямую, чудесного профиля машину, на душе сделалось сразу беспокойно и радостно. В машине не было ничего лишнего — ни единой стойки, ни единой расчалки, ни единого острого угла. Казалось, она сама рвётся в небо.
Машина легко виражила, прекрасно брала высоту, стремительно вертела восходящие бочки, устойчиво пикировала и показывала огромную предельную скорость.
Но — это было очень серьёзное «но»! — она была строга и беспощадна — ошибок в технике пилотирования не прощала.
Вокруг этой машины ходило тогда немало мрачных легенд.
Помню, как я впервые поднялся на ней высоко в ярко-синее небо, помню, как сказал себе: «Ну, начнём!» — и заложил первый крен...
Стоило мне только подумать о крене — и она, умница, сама опустила крыло. Ручку управления можно было держать двумя пальцами. Машина удивительно слушалась рулей. Но при первом же грубом движении педалей вздрогнула и штопорнула. Впрочем, вышла из штопора она без запоздания. Однако стоило чуть резче потянуть ручку на пикировании и перед глазами снова замелькал горизонт: это был новый штопор.
Рули на вывод — и плавно-плавно, уменьшая угол пикирования, подтягивал я нос самолёта к горизонту. На этот раз восстановить первоначальное положение машины удалось сразу. Тогда я вновь набрал высоту и снова сорвался в штопор — теперь уже преднамеренно: надо было прощупать диапазон безопасного отклонения рулей. Он был очень узок, этот диапазон. Очень...
Минут через десять пошёл на посадку. Чем ближе к аэродрому, тем напряжённее нервы — то, что прощалось на высоте, не могло безнаказанно сойти у земли.
Я шёл на посадку не обычным уверенным планирующим спуском, а тихонько подкрадывался к летнему полю.
Сел благополучно. Помню отчётливо — настроение было радостное, праздничное. И, хотя машина не открыла и десятой доли своих секретов, хотя она всё ещё оставалась для меня загадкой, я уже влюбился в неё.
Честное слово, чувство глубокой привязанности, настоящей нежности родилось и крепло во мне с каждым новым полётом! А полётов было немало.
Много дней подряд поднимался я в небо — раскрывал секрет за секретом, угадывал тайны любимой. Успехи сменялись разочарованием, разочарование снова успехами, и наконец пришла главная победа: я нашёл общий ритм пилотажа.
Это был вальс.
Он мог звучать стремительно и буйно, головокружительно быстро, но всегда непременно плавно, только плавно.
Мысль о вальсе пришла мне случайно, но с тех пор, когда в руки ко мне попадает самолёт новой конструкции, я всегда прежде всего ищу общий ритм пилотажа, и, мне кажется, найти его — самое главное.
После того как я нашёл этот вальс, испытания пошли быстрее, и скоро я уверенно и без всякого страха вертел свою красавицу над землёй, стрелял и дрался на ней, водил её в облаках и на больших высотах.
Шло время, и машина становилась всё понятнее, всё роднее и ближе.
Теперь, когда в историю нашей боевой авиации очень много страниц вписано именно этой машиной, получившей в конце концов общее при знание и любовь, я могу гордиться, что был одним из тех, кто полюбил её с первого взгляда, полюбил накрепко, больше всех других, испытанных, облётанных и проверенных...
Может быть, кому-нибудь история эта покажется несколько надуманной. Ну что ж — каждый чувствует по-своему! И это совсем неплохо. Надо только, чтобы тот, кто всерьёз решил стать лётчиком, хорошо понимал душу машины».
Ты, вероятно, уже убедился, что лётчик начинается с умения пилотировать, с умения мастерски владеть машиной, крепко любить своё дело. И всё же не удивляйся таким словам: так же, как тот, кто не умеет выполнять фигур высшего пилотажа, не может считаться лётчиком и человек, способный только фигурять в воздухе...
Странно?
А между тем это совершенно точно.
Ну что будет толку, если пилот поразит зрителей акробатическим пилотажем над своим лётным полем, а, случись ему
перелететь на соседний аэродром, заблудится в трёх соснах? Это не праздный, не надуманный вопрос. К сожалению, мне приходилось наблюдать лётчиков, которые не находили не то что соседний, а свой собственный аэродром. Я видел пилотов, которые, возвращаясь из пилотажной зоны, умудрялись искать своё лётное поле до тех пор, пока в баках хватало бензина. А потом? А потом всякое случалось — бывал и смех, бывали и слёзы.
Чтобы такой беды не случилось с тобой, чтобы ты всегда уверенно находил дорогу в небе, тебе придётся постигнуть большую науку — аэронавигацию, или штурманское дело.
Того, что я расскажу здесь об этом увлекательнейшем, на мой взгляд, предмете, конечно, мало, чтобы надёжно провести самолёт не только из Москвы на Курильские острова, но даже из Москвы в Пензу. И всё же кое-что новое ты узнаешь, и я надеюсь, что, узнав это «кое-что», захочешь изучить больше.
КАРТЫ, ПОЛЮСЫ, МЕРИДИАНЫ...
На столе передо мной лежит старая, немало повидавшая на своём веку полётная карта. Когда смотришь на неё бегло, не вдумываясь в значение тоненьких чёрных линий — меридианов, не обращая внимания на хитрое переплетение железнодорожных путей, не углубляясь в голубые завитушки рек и речушек, в неправильные очертания озёр, карта представляется чем-то вроде уменьшенного во много раз лоскутного одеяла. Но стоит прищуриться, чуть-чуть напрячь память, вспомнить сначала уроки географии в школе, потом курс военной топографии в лётном училище, и карта начинает говорить.
Прежде всего она сообщает, какой населённый пункт стоит на берегу реки, какой у железной дороги; какая деревня расположена севернее и какая южнее известного тебе города.
Лётчику тот же лист маршрутной карты расскажет гораздо больше.
Беря карту в руки, летающий человек прежде всего обратит внимание на масштаб. Лист, лежащий передо мной, называется миллионкой. Это значит, что местность, изображённая на карте, уменьшена против натуры в миллион раз. В один сантиметр карты «уложено» десять километров земли.
Масштаб позволяет лётчику точно ориентироваться в расстояниях. Приложи линейку одним концом к Вышнему Волочку, измерь расстояние до станции Едрово — получается тринадцать с половиной сантиметров; значит, на самом деле эти два населённых пункта лежат в ста тридцати пяти километрах друг от друга.
И, раз уж линейка наша наткнулась на Едрово, задержимся здесь чуть подольше, посмотрим, что ещё может рассказать полётная карта-миллионка.
Ведь пёстрая простыня карты только на первый взгляд кажется молчаливой. Просто её надо уметь понимать.
Едрово — небольшой населённый пункт, он расположен на 33°40' восточной долготы и 57°55' северной широты.
Через Едрово проходит железная дорога, соединяющая станцию Бологое со Старой Руссой. Здесь есть переезд с полосатым шлагбаумом, на нём подпрыгивают автомашины, держащие по шоссейной дороге путь из Москвы в Ленинград. Едрово лежит в лесах, вокруг много воды — речушки, мелкие озёра, болота. Здесь мало дорог, и в летние месяцы наверняка тьма комаров. Впрочем, о комарах карта точных сведений не даёт, и догадаться о присутствии этих вредных тварей помогают опыт и воображение.
О том же, что Едрово расположено на двести пять метров выше уровня моря, карта докладывает совершенно точно, и знать эту цифру лётчику нужно обязательно.
Для чего?
Представь, что мы летим в Едрово с берега Вышневолоцкого водохранилища. Оно на сто шестьдесят метров выше уровня моря. А это значит, что в тот момент, когда мы появимся над Едровом и наш высотомер будет показывать, например, пятьдесят метров, на самом деле до земли останется всего пять метров! К такой «ошибке» высотомера нельзя относиться без внимания — ведь даже средняя берёза выше шести метров. Вот почему напечатанные на карте цифры превышений местности над уровнем моря лётчики обводят чёрными жирными квадратиками и очень внимательно изучают их перед вылетом, особенно если небо не обещает быть слишком голубым или есть предположение, что полёт придётся выполнять на малых высотах.
Перед тем как улетать со своего аэродрома, очень важно хорошенько изучить район, по которому пройдёт твой маршрут. Что бы ни случилось в полёте — испортится ли погода, «прижмут» ли тебя облака к земле, сам ли ты допустишь ошибку и уклонишься в сторону от намеченного пути,— ты всегда должен представлять себе общие очертания района полёта. Совсем не страшно, если ты на пути из Едрова в Русские Новики «прозеваешь» деревню Небылицы, но очень неприятно, когда в маршрутном полёте тебя вдруг возьмёт сомнение, и железная дорога, идущая с запада на восток, покажется той, что тянется с севера на юг...
В воздушной навигации есть понятия — общая и детальная ориентировка.
Объяснить, что это такое, проще всего на примере. Скажем, тебе надо растолковать товарищу, как разыскать дом номер тридцать на Малой Бронной улице в Москве. Предполагается, что пункт «вылета» — площадь Маяковского. Ты говоришь приятелю:
— Иди по левой стороне Садовой улицы в направлении к площади Восстания; как увидишь булочную в угловом доме — сворачивай налево. Пройдёшь мимо парикмахерской, справа увидишь небольшой квадратный сквер (в середине его прудик), на углу сквера — будка телефона-автомата, напротив будки — нужный тебе дом...
До угла Садовой и Малой Бронной твой товарищ будет вести «общую ориентировку», а свернув за угол около булочной — перейдёт на «детальную».
Главное — не терять общей ориентировки. Если ты точно знаешь, что взял верное направление и не проскочил контрольного ориентира, мелкие подробности не так уж важны...
Чтобы спокойствие не покидало лётчика в воздухе, нельзя жалеть времени, потраченного на земле. Все летчики, молодые и старые, вникают в район полётов одинаково — рисуют его от руки, сначала заглядывая в карту, а потом без шпаргалки, на память...
Конечно, и при хорошо изученном районе полёта случаются иногда курьёзы, но это уже исключение, которое не только не опровергает, а скорее подтверждает правило. Об одном таком исключении я сейчас расскажу.
Память лётчика фотографична. Увиденное однажды она хранит долго и в нужный момент, словно карточку из альбома, вытаскивает полузабытое изображение местности, характерный ориентир, очертания реки. Вот почему, когда полковник назвал объектом тактической разведки «синих» Шильск, перед глазами капитана Косматых совершенно отчётливо встал растревоженный бомбовыми ударами, истерзанный танковыми приступами город.
В ту пору, когда передний край войны проходил через этот клочок русской земли, лётчик-истребитель Косматых не раз сопровождал к Шильску своих штурмовиков.
Случилось так, что именно Шильск занял в военной биографии Николая Косматых особое место — над этим городом он таранил «Юнкерса», здесь же в шестиминутном бою капитан сбил «Мессершмитта» и двух «Фокке-Вульфов».
Над Шильском он потерял своего лучшего и самого дорогого друга — Митю Петренко.
Здесь генерал с обожжённым лицом — известный всей стране лётчик-истребитель — вручил ему Золотую Звезду Героя. Всё это было давно. Но разве такое забудешь?
Перед началом лётно-тактических учений Косматых до мельчайших подробностей припомнил очертания города и окружающие его ориентиры.
С востока протекает река; по берегу, очень прямо, словно след кнутовища в пыли, тянется шоссе. Чуточку южнее поймы — из воды торчат быки разбитого моста и обрушенный переплёт ажурных конструкций; дальше — красная, со срезанным верхом водонапорная башня. Над центром города высоко в небо впивается одинокай, чудом уцелевшая колокольня.
И ещё помнил капитан характерный паук железнодорожных путей; туда, на эшелон с горючим, бросил свою пылающую машину Митя Петренко...
Накануне учений, вышагивая по миллионке циркулем, капитан вспоминал годы войны, и всё представлялось ему на потрёпанной карте таким знакомым, таким памятным, что и мерить, казалось, не нужно...
Ракета лопнула высоко над аэродромом; почти в тот же самый момент Косматых запустил мотор своего остроносого истребителя. Ещё минута — и капитан взлетел, убрал шасси, лёг на курс.
Низко бежали облака над землёй. Обгоняя их, летел на запад разведчик. Маскируясь, он прижимался к рваной кромке дымчатых грязных туч. Он шёл так, что кончики плоскостей его истребителя то и дело цеплялись за тёмную облачную вату.
Внизу стремительно разворачивалась лента маршрута, и, по мере того как бортовые часы отсчитывали время, Косматых всё больше и больше проникался ощущением боевого полёта. Он был даже удивлён и несколько озадачен, когда над «передним краем» его не встретили зенитки противника. Он не на шутку встревожился, заметив, что на ближних подступах к Шильску погода неожиданно резко улучшилась и облачность начала сперва светлеть, а потом и вовсе растворилась.
Изменилась обстановка, и лётчик изменил свой манёвр. Теперь, чтобы сохранить маскировку, Косматых перешёл на бреющий полёт. Казалось, его истребитель вылизывает землю. Пилотировать стало труднее, земля требовала постоянного к себе внимания, но другого выхода капитан не видел — «на войне, как на войне». Он отлично знал: лучшее оружие разведчика — внезапность и скорость.
Когда впереди блеснула наконец река, капитан энергичным боевым разворотом подхватил машину вверх, положил её почти на спину, чтобы быстрее и лучше разглядеть объект разведки...
И тут его ударило в пот: внизу лежал незнакомый город. Множество чистых белых домиков разбежалось по зелени, словно гуси по лугу рассыпались. На северной окраине в тусклой сиреневой дымке поднимались красноватые заводские корпуса. В просторных окнах дробились солнечные лучи. Окна подмигивали капитану множеством озорных зайчиков. Блестящую змейку реки тяжело перечёркивал двойной жирной линией многопролетный железнодорожный мост.
Невольно капитан потянулся к карте, к той самой пёстрой миллионке, о которой он за всё время полёта ни разу не вспомнил.
«Неужели заблудился?»
И сразу над ухом мелко-мелко забилась жилка, словно будильник затикал.
Прошла секунда-другая, прежде чем он узнал церковную колокольню, потом, присмотревшись, железнодорожный станционный паук и, наконец, весь выросший, похорошевший, возрождённый Шильск.
Рассказывая об этом полёте, капитан Косматых не переставал сокрушённо покачивать головой:
— Понимаешь, и район на пятёрку знаю, и налетал в нём дай бог каждому столько налетать, и вообще Шильск вроде «мой» город, а тут, стыдно сказать, как желторотый курсант, растерялся. Смотрю — и не могу понять, что за город... Понимаешь, какая история? Между прочим, карту с маршрутом на Шильск я спрятал,— смущённо улыбался в конце рассказа капитан,— есть не просит — пусть полежит для памяти. Не одобряешь?..
Маршрут, карта с маршрутом... Эти слова я произносил уже не раз. И за мной долг: я не рассказал ещё, как же прокладывается этот самый маршрут на карте, без которого за пределами аэродрома не выполняется ни один полёт.
Прежде всего затачивают несколько цветных карандашей — красный, синий, коричневый, чёрный. Карандаши должны быть не очень твёрдыми, но и не слишком мягкими. Твёрдый грифель режет карту, мягкий — пачкает. Кроме карандашей, нужны ещё масштабная линейка, транспортир, лист чистой бумаги.
А как насчёт резинки?
В строгих правилах штурманской науки нигде не написано, что пользоваться резинкой запрещено, но старый штурман подполковник Бондаренко, мой первый преподаватель навигации, беспощадно выбрасывал наши курсантские ластики за окно. При этом он приговаривал:
— Резина изобретена не для пачкунов, резины для покрышек не хватает, без-зоб-рразие...
В «жестокости» бывалого штурмана был хитрый расчёт — лишённые возможности стирать свои грехи, мы вынуждены были приучаться к аккуратности. Тем более, что двойки за небрежность он ставил запросто и, как нам тогда казалось, делал это с явным удовольствием.
Вооружившись необходимым инструментом, начнём работать на карте. Сначала обведём точку нашего вылета, поворотный и конечный пункты маршрута красными кружочками. Чтобы кружочки получились аккуратными и одинаковыми, лучше всего заранее заготовить дырки нужного размера. Да, да, дырки заготавливаются. Обычно их прокручивают в транспортире, благо он целлулоидный и легко поддаётся обработке... Когда кружки нарисованы, соединим их между собой прямыми линиями (цвет линии надо выбирать такой, чтобы он не терялся на Шлино до Русских Новиков восемьдесят восемь, от Русских Новиков до Едрово семьдесят километров и, наконец, от Едрово до Вышнего Волочка сто тридцать пять.
Рассчитаем теперь «график» нашего движения по маршруту. Полетим мы со скоростью сто пятьдесят километров в час. Это значит, что за одну минуту наш самолёт будет покрывать расстояние в два с половиной километра (150: 60 = 2,5).
Из Вышнего Волочка на станцию Шлино мы прибудем через 32 минуты.
Со станции Шлино на Русские Новики — через 34 минуты.
Из Русских Новиков в Едрово — ещё через 28 минут.
Из Едрова в Вышний Волочок — спустя 54 минуты.
Рассчитав время полёта по этапам, нам уже ничего не стоит определить общую продолжительность воздушного путешествия. Для этого надо только сложить четыре цифры (32 + 34 + + 28 + 54), и мы узнаем, что весь полёт будет продолжаться два часа двадцать восемь минут. Это важная цифра. Ориентируясь на неё, можно правильно решить, когда вылетать, чтобы в пути не застала темнота. Зная продолжительность предполагаемого полёта, нетрудно вычислить необходимый запас горючего, чтобы не оказаться где-нибудь в районе Хотилова с пустыми баками...
График прибытия в назначенные пункты полёта выписывается на карту. В стороне от линии пути чёрным карандашом наносят дробь, числитель которой обозначает расстояние от ближайшего пункта, а знаменатель — время полёта 80/32.
Определить расстояние и время полёта — это значит решить первую половину задачи. Ведь от Вышнего Волочка до станции Шлино стольфоне карты). Проложенная на бумаге прямая и будет той линией, той дорогой, над которой пройдёт наш воздушный путь.
Приглядимся к местности, которую он пересекает.
В начале полёта под нами раскинется водохранилище, значительную часть его занимает остров, низкий и заболоченный; потом путь наш пересечёт русло реки Лонницы, и почти сразу же за пересечением начнётся лесной массив. Некоторое время слева будет блестеть речка Крупица, потом она потеряется между деревьями, и как раз в этот момент впереди самолёта должна появиться петля просёлочной дороги, ведущей из посёлка Труд к станции Шлино. Это самое подходящее место для контроля пути. Обведём станцию Шлино таким же красным кружком, как Вышний Волочок.
В той же последовательности «пролетим» глазами по всему маршруту, запоминая очертания рек, расположение заметных деревень, изгибы железных дорог.
На карте каждая речка надписана, каждый посёлок поименован, но ведь это только на карте. А когда взлетишь и внизу потянутся настоящие зелёные леса и зарябят блестящие пятна озёр, на них, к сожалению, ничего не прочтёшь. И, чтобы не перепутать, скажем, речку Лонницу с её соседкой Крупицей, надо хорошо запомнить по карте характерные очертания и той и другой.
Маршрут можно считать изученным только тогда, когда, закрыв глаза, ты сможешь мысленно представить себе весь ожидающий тебя путь.
Определить расстояние между пунктами вылета, контрольными и поворотными ориентирами — дело не трудное. От Вышнего Волочка до станции Шлино восемьдесят километров, от ко же километров, сколько и до деревни Григино, и лететь в Григино те же тридцать две минуты. Но лежит оно совсем в другой стороне.
Чтобы точно выполнить задание на маршрутный полёт, лётчик должен знать не только длину предстоящего пути, но и его направление. Значит, вторая половина задачи состоит в том, чтобы определить, куда лететь. Направление на карте измеряется транспортиром, в градусах. Выдерживается же оно в полёте по компасу.
На полётной карте, так же как на любой географической, тоненькими чёрными линиями прочерчены истинные меридианы. Своими северными концами они смотрят в условную точку — на географический полюс земли. Штурманы отмечают его так — N ист., что означает Nord истинный — север. Однако если ты положишь компас на правильно сориентированную по странам света карту, живая магнитная стрелка никогда не укажет на географический северный полюс. Стрелку уводит в сторону. Земля своим магнитным полем оказывает на компасную стрелку неотвратимое влияние. Угол, на который стрелка компаса отклоняется от истинного меридиана, называют углом магнитного склонения. А точку, в которую она смотрит, магнитным полюсом,— Nord маг. В разных местностях земного шара магнитное склонение различно. Поэтому и поправка для определения места магнитного полюса неодинаковая. В районе Москвы компас обманывает нас на восемь, а где-нибудь под Курском, там, где действует сильная магнитная аномалия,— на все сорок — сорок пять, а то и больше градусов.
Определяя курс предстоящего полёта, необходимо вносить соответствующую поправку к направлению, измеренному на карте.
Истинный курс от Вышнего Волочка на станцию Шлино составляет 278 градусов, но, чтобы не улететь далеко вправо, нам придётся держать на компасе не истинный, а исправленный магнитный курс: 270 градусов (278 минус магнитное склонение 8 градусов).
Первый и старейший друг всех путешественников и мореходов — компас — давно уже занял почётное место в авиации, без него немыслимо в наше время представить себе даже самого короткого полёта. Насколько это важный прибор, ты можешь судить по такой подробности: на большинстве самолётов в пилотской кабине устанавливают два, три, а то и четыре компаса. Один контролируют по другому потому, что очень важно в полёте строго и точно выдерживать заданный курс. А что случается, когда компасу отказываются доверять, я сейчас тебе покажу.
Вот схема полёта, о котором пойдёт речь.
Младший лейтенант Калашников должен был перелететь из Сосновки в Жердево. Завзятому истребителю такой перелёт на учебном самолёте «По-2» представлялся пустяковой затеей. Он даже не стал прокладывать маршрут на карте.
«Ну что тут ещё чертить и высчитывать, топай вдоль берега Сосновки — через сорок минут речушка сама выведет к цели!» — подумал лётчик и спокойно стартовал.
Поначалу всё шло очень хорошо. Слева вилась, поблёскивая на солнце, путеводная река, под правым крылом проплыли два лесных островка, часы ритмично отсчитывали время, и Калашников не испытывал никакого беспокойства.
Компас погуливал между отметками 40 и 50 градусов, скорость держалась приблизительно постоянной, около ста километров в час, небо было синим-пресиним, и только на тридцать шестой или тридцать седьмой минуте полёта лётчик начал беспокойно поерзывать на сиденье. Озеро Каменецкое, которое должно было открыться впереди слева, в назначенное время не открылось. Горный отрог оказался почему-то справа. На населённый пункт и железную дорогу не было даже никакого намёка...
Мне тоже случалось терять ориентировку (правда, в других условиях и при других обстоятельствах), так что вообразить себе переживания Калашникова я могу без особого труда. Прежде всего у лётчика вспотели ладони, потом он с интересом и неприязненно поглядел на компас и, конечно, не поверил его показаниям. В это время он, вероятнее всего, подумал: «Что скажут там, на аэродроме?» — и, представив себе недовольное лицо командира и хмурые брови штурмана, нервничал ещё больше...
Пока эти мысли сменяли друг друга, машина Калашникова, конечно, не стояла на месте — нервно рыская на курсе, она продолжала лететь вперёд. Наконец прямо перед носом «По-2» выросла цепь гор, и тогда совсем растерявшийся истребитель повернул на север. Всё он знал — и что следует делать в случае потери ориентировки, и в какой последовательности обязан действовать лётчик, и как проще всего выйти в район собственного аэродрома. Но, вместо того чтобы восстанавливать потерянную ориентировку, он думал о том, как будет оправдываться на земле. Сочинить что-либо убедительное никак не удавалось...
Ещё через семь минут беспорядочного полёта Калашников увидел впереди себя железную дорогу и где-то в стороне от неё какое-то совершенно незнакомое озеро.
Неожиданно над заблудившимся «По-2» промелькнул истребитель. Заметив, что боевая машина летит с выпущенным шасси, лётчик несказанно обрадовался. Раз шасси выпущено, значит истребитель или только что взлетел, или заходит на посадку; значит — аэродром рядом. А это весьма устраивало заплутавшегося пилота.
Действительно, слева и чуть впереди открылось лётное поле. В центре его приветливо белели посадочные знаки.
Не долго думая, Калашников сел.
Вероятно, никто никогда не узнал бы о позоре самонадеянного младшего лейтенанта, если бы он не задал неосторожного вопроса подбежавшему к нему мотористу:
— Что за аэродром? Название?
— Жердево,— недоумевая, ответил моторист и через пять минут раззвонил на всю самолётную стоянку, что на «По-2» прилетел какой-то подозрительный тип, приземлился и спрашивает, где сел...
Заметим, что вся эта неприятная история произошла с младшим лейтенантом Калашниковым в совершенно ясную погоду, когда каждый характерный ориентир был виден за двадцать километров.
А если земля закрыта облаками или туманом? Если лётчик действительно не может сличать карту с местностью? Тогда пилоту нужны и большая выдержка, и внимание, но и в этих случаях основы ориентировки всегда остаются неизменными — верь приборам!
Штурманская наука покоится на трёх китах: на выдерживании заданного курса, сохранении расчётной скорости и строгом учёте времени полёта.
Давно уже минуло время, когда искусством слепого самолётовождения владели совсем немногие пилоты, когда звание мастера ночного пилотирования встречалось не чаще, чем звание Народного артиста Союза. Водить самолёты в облаках, в ночном небе, преодолевать снегопады и самые свирепые метели стало теперь обычной служебной обязанностью всех командиров воздушных кораблей.
Чем же отличается заоблачный, или слепой, маршрутный полёт от обычного «зрячего»?
Всё лётчик делает так же, как в обычном полёте, но контроль пути осуществляет не визуально: не глазами, а по приборам. По рассчитанным заранее штурманским данным подходит, например, самолёт к контрольному ориентиру; лётчик его, понятно, не видит, а проверить, как протекает маршрут, обязан. Чтобы узнать, точно ли он следует по линии пути или допустил уклонение, пилот включает радионавигационные и локаторные приборы. То, чего не видят глаза человека, «видят» приборные стрелки: они докладывают лётчику о том, где находится его машина по отношению к наземному ориентиру — правее, левее, ближе... По этим данным человек, если это нужно, вносит поправку в курс, уточняет скорость, и снова его задача делается обычной: держать курс, сохранять скорость, отсчитывать время...
И всегда, в любом маршрутном полёте, основа для успешного его завершения — хорошо подготовленная навигационная карта.
Если ты летишь на реактивном истребителе со скоростью 1200 километров в час, за одну минуту машина уносит тебя на двадцать километров вперёд. За минуту ты покрываешь два сантиметра карты-миллионки!
Представь, что, прокладывая маршрут, ты, не послушавшись моего доброго совета, начал чертить не карандашами, а чернилами и, зевнув, посадил на карте кляксу «среднего размера», всего в полтора сантиметра. Такой кляксы вполне достаточно для того, чтобы «утопить» целый город (и не маленький!), например Ржев. Теперь вообрази себе положение лётчика, выскочившего на поворотный пункт маршрута и не обнаружившего Ржева на маршрутной карте. Если при скорости полёта сто — сто двадцать километров в час младшему лейтенанту Калашникову пришлось туго, когда он всего немного хватил в сторону, то каково будет истребителю, для которого каждая потерянная на размышление минута равна целым двадцати километрам!
Большие скорости требуют от лётчика не только аккуратности в подготовке к полёту, сообразительности, но и некоторых особых, совсем не «авиационных» качеств. Например, лётчик должен хорошо считать в уме. Ведь не всегда приходится пилотировать самолёты на «круглых» скоростях — в сто двадцать, двести сорок, шестьсот, тысяча двести километров в час, когда скорость легко, без остатка, делится на число минут в часе. Бывает же, что летишь на скорости сто шестьдесят, или пятьсот восемьдесят, или тысяча километров в час, и надо быстро определить, когда ты появишься в пункте, отстоящем от места вылета на семьдесят пятом, сто пятнадцатом или триста восемьдесят восьмом километре. В штурманском снаряжении лётчика есть специальная навигационная линейка (разновидность обыкновенной логарифмической линейки, которой пользуются все техники и инженеры). На ней почти моментально решают многие задачи, связанные с самолётовождением. Но пользоваться линейкой хорошо на земле, когда у тебя руки свободные, или в полёте, когда рядом с тобой сидит второй пилот, готовый в любой момент принять управление машиной. На практике же считать приходится не только на земле и не только на многоместных самолётах, а очень часто расчёты бывают необходимы сию же минуту, как говорится, «вынь да положь»; вот почему лётчик обязан уметь считать в уме быстро и достаточно точно...
На протяжении всей книжки я только и делаю, что говорю: «Лётчик должен уметь, лётчик должен знать, лётчик обязан, лётчику нужно...» Но как не говорить об этом, если с лётчиков действительно много спрашивается?
За двадцать лет у меня скопилась целая груда старых полётных карт. Теперь они уже никому не нужны, но рука не поднимается ни выбросить, ни уничтожить их. Иногда я достаю эти старые карты, раскладываю их на столе и, всматриваясь в полузабытые маршруты, разглядывая названия фронтовых аэродромов, вспоминаю всякие любопытные истории, товарищей, самолёты, давно уже снятые с вооружения, и тогда мне приходит в голову такой вопрос: «А что же всё-таки самое трудное в нашей лётной профессии?»
О САМОМ ТРУДНОМ
Когда человек только-только вступает в авиационную жизнь, ему кажется невероятно сложным — я уже рассказывал об этом — запомнить кучу непонятных терминов, разобраться в устройстве самолёта и мотора. Постепенно ты перестаёшь путать лонжероны с нервюрами, запоминаешь названия всех режимов полёта, привыкаешь разбираться в схемах сил, действующих на планировании и в наборе высоты...
Но тогда приходят новые тревоги. Тебе кажется, что овладеть техникой выполнения глубоких виражей — совершенно непостижимая задача. У инструктора самолёт «пишет» эти самые виражи, а стоит взяться за управление тебе, как начинается: скорость самолёта гуляет, крен изменяется от 45 до 80 градусов, шарик указателя поворотов мечется... Но и эти трудности постепенно остаются позади — ты начинаешь пилотировать сначала сносно, а потом и вовсе уверенно...
Проходит ещё какое-то время, и ты, став уже не курсантом, а лётчиком, уходишь в дальние маршрутные полёты, спокойно стартуешь в самую отвратительную погоду, тебя не страшат ни штопор, ни возможные воздушные встречи с противником, ты даже не поражаешься, узнавая о героических полётах своих товарищей.
...В воздухе загорелся опытный образец нового самолёта. По всем инструкциям и наставлениям, это тот самый крайний случай, когда лётчик обязан думать не о машине, а о себе.
Но испытатель не выбрасывается из кабины с парашютом — он идёт к земле на горящей машине, глотая слёзы и дым, сажает пылающий самолёт, чтобы люди, работающие на аэродроме, могли найти допущенную ошибку, разобраться и устранить дефект. Испытатель рискует ради других. Серийные самолёты не должны подвергать строевых лётчиков неприятностям. Неприятности принимает на себя испытатель...
...Где-то на далёкой зимовке стряслась беда — заболел полярник. Ближайший врач — за тысячу километров. Над Арктикой четвёртые сутки свирепствует слепой циклон. Снегопад, ветер — неизвестно, где кончается земля, где начинается небо. Погода нелётная даже для мух. Ни один дежурный метеоролог на свете не даст «добро» на вылет. И всё же полярный лётчик пробивается сквозь пургу и снежную стену, чтобы спасти человека, которого он не видел никогда прежде и скорее всего увидит один раз в жизни...
...Раненный в бою истребитель возвращается на свой аэродром. Неловко ковыляя, машина снижается к посадочной полосе; вот она коснулась травы, вот пробежала положенные ей несколько сотен метров и остановилась.
К истребителю спешат люди, и всех беспокоит одно: почему он не заруливает на стоянку?
На краю аэродрома люди снимают пилотки, стягивают просолившиеся в полётах шлемофоны: лётчик в кабине мёртв.
Человека хватило на то, чтобы найти свой аэродром после боя, снизиться, рассчитать на посадку, приземлить машину, сохранить свою последнюю прямую на пробеге...
Он сделал всё, что обязан сделать пилот, окончивший бой, и только после этого позволил себе умереть.
Став лётчиком, ты не будешь удивляться поступку испытателя; узнав о нём, скорей всего спросишь: «А на какой скорости планировал лётчик, скользил или нет?» — и, получив необходимые сведения, завяжешь узелок в памяти.
Лётчик полярной авиации тоже не покажется тебе героем. Полярники — они ведь все мастера. Им на полюсах садиться — и то не в диковинку.
А выслушав историю об истребителе, скончавшемся на посадке, я знаю, ты непременно спросишь фамилию пилота. И помолчишь из уважения к памяти незнакомого тебе гвардии лейтенанта.
Ты не будешь восхищаться другими совсем не потому, что авиация сделает тебя сухим и чёрствым. Нет! Просто, став лётчиком, ты научишься понимать истинную цену человеческому мужеству, ты узнаешь, что никакие слова не могут быть выше настоящих подвигов...
И в каждом героическом полёте ты обязательно будешь искать крупицы профессионального опыта.
Отдавая дань высоким человеческим качествам героев, ты будешь непременно запоминать, как они действовали, каким образом маневрировали, на сколько отклонялись от принятых норм полёта.
Что и говорить, умирать одинаково трудно — и на земле и в воздухе. Чтобы пойти на сознательное самопожертвование — закрыть телом вражью амбразуру или врезаться в скопление
танков противника на горящем штурмовике,— нужно одинаково любить народ, за счастье которого воюешь, одинаково верить в дело, которому служишь. Но, чтобы до конца бороться за жизнь в полёте, чтобы выходить победителем даже при самых тяжёлых обстоятельствах в воздухе, нужно владеть ещё кое-какими особыми лётными качествами.
Если ты заблудился в лесу, закружился в ельнике до того, что даже приблизительно не представляешь, куда тебе идти дальше, ты можешь выбрать подходящий пенёк, сесть на него, успокоиться, поразмыслить. И, наверняка, ты припомнишь тогда, что срез на пеньке на худой конец вполне заменит человеку компас, что одиноко стоящее дерево тоже не плохой помощник путешествующего, что даже сырой обомшелый камень подсказывает, где север...
У лётчика в похожих обстоятельствах тоже найдутся полезные приметы, которые помогут ему определить страны света, силу ветра, состояние земного покрова.
Тому, кто летает, известно, конечно, что церковные алтари — полукруглые пристройки — смотрят всегда на восток, что лодка на якоре обращена носом к ветру, что очень зелёный луг чаще всего оказывается болотом, что дым — лучший флюгер...
Одной только возможности лишён лётчик — не может он остановиться в полёте, присесть на край облачка, закурить и не спеша подумать.
Решения в воздухе надо принимать мгновенно, потому что, как ты уже знаешь, полёт — это скорость!..
Если ты не решил запутанной задачи по алгебре, не справился с трубами, неизвестно зачем одновременно вливающими воду в бассейн и выливающими её оттуда, а время двенадцать, и глаза — как песком засыпаны, то не всё ещё потеряно. Ты можешь до начала уроков в школе забежать к товарищу, спросить у него совета. И даже, если ты опоздаешь к своему приятелю-отличнику и не застанешь его уже дома,— это тоже не конец. За пять минут до звонка, возвещающего начало занятий, можно успеть «сдуть» самую длинную задачу...
Лётчику труднее. Во-первых, очень часто у него нет необходимого запаса времени. Во-вторых, посоветоваться в полёте человеку сплошь да рядом бывает просто не с кем. А про то, чтобы «сдуть», и говорить нечего.
Кстати, вообще о возможности «сдуть» я думаю так: и в школе невелик прок от такой работы (сколько ни «сдувай», умнее не станешь), а про полёт и вовсе толковать нечего — в воздухе всегда все задачи решаются только для себя и никогда — для учителя.
Если ты струсил и не остановил хулигана, бьющего стекла в соседнем доме или обижающего первоклассника, то, как ни противно самому себе признаваться в трусости, для утешения есть всё же хоть и узенькая, но лазейка: «Завтра мне попадётся другой хулиган, и уж ему-то я обязательно покажу, где раки зимуют!»
В полёте такое «утешение» исключено.
Первыми погибают в воздушном бою трусы и ротозеи. Если ты не собьёшь врага с первой атаки до того, как он обнаружит твой самолёт, то ещё неизвестно, чем окончится поединок...
В воздухе побеждает только тот, кто даже в самых тяжёлых условиях не теряет власти над собой, не позволяет себе распускаться. С этим трудным умением не родятся, оно приобретается так же, как умение выполнять глубокие виражи.
Я расскажу тебе об Артёме Молчанове, и ты увидишь, что это так.
Случилось это уже давно, больше двадцати пяти лет назад. Был такой лётчик тогда, Артём Молчанов; увидел он, как пилотировал Чкалов. Увидел — «заболел», получил, можно сказать, ранение в самое сердце. Поразило его не вообще мастерство великого лётчика — Молчанов и сам был отличным пилотом,— потрясла его ничтожная высота, на которой Чкалов свободно и красиво управлял машиной.
Выходя из пикирования, Чкалов пригибал траву воздушной струёй; в считанных метрах над стартовой дорожкой он пролетал вверх колёсами, переворачивался, брал высоту и снова шёл навстречу земному шару.
Молчанов лишился покоя. Он был слишком опытен, чтобы пытаться повторить чкаловский рисунок, и слишком молод, чтобы не мечтать о нём.
Нет на свете лётчика, который бы не боялся земли. Земля не прощает ошибок пилоту, она одинаково строга и к младшим лейтенантам и к генералам.
На высоте триста — четыреста метров Артём пилотировал уверенно и красиво, спуститься ниже ему не позволял трезвый расчёт. Нужна была тренировка. Но каким образом убедиться в точности своей работы, как проконтролировать каждое своё движение, чтобы не допустить ошибки даже на метр? Этого он не знал.
Летал Молчанов много, по-истребительски энергично и дерзко. В каждом полёте искал он ответа, искал, но не находил.
Иногда ему хотелось ринуться вниз, к земле, испытать своё счастье над лётным полем, рискнуть, чёрт возьми,— может же Чкалов! Но Артём умел держать себя в руках, и до безрассудства дело не доходило.
А ответ лежал где-то рядом, Артём это чувствовал. Протяни руку, бери...
Однажды, разогнав машину над аэродромом, Молчанов крутой горкой полез вверх, на мгновение пропал горизонт, машину окутало мутно-белое месиво облаков, но это случилось только на одно мгновение: истребитель, продолжая набирать высоту, легко вырвался в заоблачную высь, навстречу сверкающему солнцу.
Артём оглянулся по сторонам и ахнул. Ровное поле пушистых облаков раскинулось под ним. Оно поражало чистотой и бескрайностью, не было у него ни начала, ни конца. Хотелось потрогать рукой живую, клубящуюся пену. Вот она, «условная земля»!
Пропадающее с высотой ощущение скорости полёта снова с особенной силой захватило Молчанова. Косая тёмная тень его истребителя стремительно перемещалась по облачной равнине.
«Вперёд! Вперёд!» — ревел двигатель. Опережая машину, уносились вдаль мысли.
Не раздумывая, начал Молчанов пилотаж и сразу же убедился, что правильно сделал, начав его именно здесь, над облачным мягким полем, а не над жёсткой нашей планетой: на первой же фигуре машина зарылась в облака.
Снова и снова пытался Молчанов повторить чкаловский пилотаж. Но напрасно — то, что легко удавалось Чкалову, для Артёма каждый раз заканчивалось «катастрофой». Высоты не хватало — машина окуналась в облака. Не выходила ни одна фигура.
Молчанов — истребитель. На земле это спокойный, пожалуй даже флегматичный человек с некрасивым усталым лицом. В воздухе — «зверь», лётчик злой, несгибаемый.
На аэродром он вернулся расстроенный, сказал друзьям:
— Сегодня я шесть раз был покойником. Условно, правда, но всё равно обидно. Главное, не могу понять, в чём дело, где собака зарыта...
В ответ на такое неожиданное сообщение товарищи не преминули окрестить Артёма «условным покойником». Иное прозвище, как репей, пристанет — не скоро отлепишь. С того дня на аэродроме начали даже забывать настоящую фамилию Артёма: «условный покойник» — и всё тут...
А время уходило.
Прошёл июль, на исходе был уже август. При каждой возможности «условный покойник» летал за облака. Тренировался Молчанов упрямо и настойчиво. Не сразу над облаками начинал он теперь пилотаж. Молчанов брал заведомо увеличенное превышение, потом постепенно сокращал его, контролировал каждое движение, придирался к себе так, как никогда не придирается ни один даже самый строгий инспектор. Артём сбрасывал высоту метр за метром — приучал себя к близости «условной земли».
Труднее всего было выдержать осторожную последовательность действий, не дать волю чувствам, не ринуться раньше времени вниз — «на ура».
Молчанов умел отдавать себе приказы и до конца не отступать от принятых решений.
Друзья не забывали его первой неудачи, они с сомнением относились к заоблачным экскурсиям лётчика и при случае непременно посмеивались:
— Жив ещё, Артём?
— Ну, как облака, циркач? Работают за сетку?
— Смотри, «условный», не переплюнь Чкалова — обидится.
Молчанов отшучивался, иногда огрызался и продолжал летать. Чем дольше он тренировался, тем меньше слышалось вокруг насмешек. Никто ещё не знал, чему научился Артём за облаками, но упорство всегда покоряет сильных людей.
В дни, когда небо было особенно ясным, когда в мире отсутствовала «условная земля», Артём заметно нервничал: обидно было терять время зря.
Наконец пришёл его день.
Машина стремительно врывается на лётное поле. Высота — метр. Уверенно начинает лётчик свой пилотаж.
— Не угодил бы нынче наш «условный» в безусловные покойнички! — балагурил Саша Чумак, друг Артёма, но никто не рассмеялся, никто не поддержал Чумака: разговаривать было некогда — все следили за молчановским истребителем.
Пилотаж его был безупречно чёток и чист. Фигуры он начинал от самой земли — трава ложилась за крылом машины. И выводил из пикирования так низко, что даже у видавших виды аэродромных людей и то дух захватывало. Казалось, лётчик дразнил землю: «Врёшь, не возьмёшь!»
В этом полёте пространства на ошибку просто не оставалось. Впрочем, теперь оно и ни к чему стало Артёму: ошибка исключалась, за облаками был выверен каждый метр...
Артём Молчанов был, конечно, способным, но всё же самым обыкновенным лётчиком, и если ему удалось достичь в пилотаже большего, чем другим, то потому только, что он по-настоящему знал и любил своё трудное дело; потому, что он не мог не изобретать, не искать нового; потому, что он приучил себя сохранять самообладание даже в очень трудных, необычных условиях полёта.
И вот это самое неумение жить спокойно, летать «тихо» представляется мне самым главным в нашем авиационном деле.
Однажды, когда я рассказывал историю Артёма Молчанова в одной невоздушной компании, помню, меня спросили:
— Ну, самообладание, и беспокойный характер, и изобретательность — всё это расчудесно и, наверное, даже очень правильно. Только вы нам другое скажите: а что, страшно вашему Артёму совсем не было?
— Наверняка даже страшно было, особенно сначала,— не задумываясь ответил я.
И тогда все почему-то засмеялись. А кто-то бросил реплику:
— Герой, по-моему, тот, кто лишён не только боязни, но даже подобия, намёка, тени страха...
Вспыхнул не новый уже спор. И, как обычно, когда в «авиационном разговоре» принимают участие не сведущие в лётных делах люди, на поверхность шумной беседы вынырнул всегда раздражающий меня вопрос: «А страшно ли вообще летать?»
Почему-то я никогда не слышал, чтобы подобный вопрос задавали гонщику-мотоциклисту, работающему на треке, или штукатуру, орудующему без парашюта на высоте одиннадцатого этажа, или мастеру спорта, совершающему фигурные прыжки в воду... А вот предлагать этот вопрос лётчикам стало традицией, неписаным законом. По-моему, это глупая традиция, но раз уж разговор о страхе возник, я не стану от него уклоняться.
ПОГОВОРИМ О СТРАХЕ
Обыкновенно ничего на свете не боятся только хвастуны или очень глупые люди. Хвастуны не знают страха по самой простой причине: они привыкли сочинять самые невероятные небылицы, и им ничего не стоит произвести себя в герои, а глупые храбры в любых обстоятельствах потому, что они не могут оценить истинной величины опасности и, как говорится, «прут на рожон», меньше всего задумываясь над тем, что из этого потом получится...
Помню, как во время войны лётчик-истребитель, сбивший двадцать семь самолётов противника, говорил молодым, только что пришедшим в полк пилотам:
— Я много летаю. Сбил порядочно, об этом вы, наверное, уже слышали. И всегда меня возмущает, когда в газетах пишут что-нибудь в таком роде: «Этот не знающий страха ас вышел в лобовую атаку...» Ну, и так далее, в таком духе. Читаю и думаю — пригласить бы того писаку заглянуть в дырки чужих пушек. А потом пусть расскажет про лобовую атаку и объяснит, страшно это или не страшно. Что значит не знать страха? Если бы мне до вылета известно было, как обстановка сложится, чем бой закончится, тогда, конечно, можно б, пожалуй, и не бояться... Для чего я вам, молодым лётчикам, говорю об этом? А вот для чего: я хочу, чтобы в первом своём боевом полёте, столкнувшись нос в нос со страхом, вы не испугались — это, ребята, самое важное! Я хочу, чтобы, почувствовав мурашки на спине, колючую сухость в глотке, вы знали, что это нормально, что так у всех бывает. И тогда задача сразу станет проще — не раздумывай, хуже ты или не хуже других, плюй страху в морду, не давай ему наваливаться и делай своё дело — то самое дело, ради которого служишь. Вот такая у меня точка зрения. Между прочим, я и на теоретической конференции по воздушному бою так выступать собираюсь. Со мной не все согласны. Знаю. Но тут уж я лично ничего изменить не могу. Вот для начала и весь разговор, братцы.
Он поднялся, большой, сильный, прославленный на весь Северный фронт истребитель, хорошо, ободряюще улыбнулся и зашагал к своему искусно замаскированному самолёту.
Этот откровенный разговор запомнился мне надолго. Постоянно встречаясь со многими лётчиками — молодыми и старыми, зелёными новичками и опытными мастерами, я не раз убеждался, что на такую прямоту и откровенность способен далеко не всякий человек.
В любых ошибках признаваться всегда трудно, но нет, наверное, большего наказания мужчине, чем сказать о самом себе: «я струсил» или «мне было страшно».
Помню историю, которая случилась с одним из моих курсантов. Настоящую его фамилию мне называть не хочется. Почему? Это ты поймёшь чуть позже. Назову курсанта — Кузин.
Так вот, был в моей группе курсант Кузин. Первую половину программы освоил он, как говорят, без сучка и задоринки. Научился уверенно взлетать, приземляться у самого «Т» и почти всегда на три точки... Словом, всё шло как нельзя лучше, но тут мы приступили к полётам в зону, и я сразу понял, что радоваться ещё рано.
После пилотажа Кузин смотрел хмуро, старался не попадаться мне на глаза и вообще грустил. Несколько раз пытался я вызвать его на откровенный разговор, старался выяснить, что гнетёт парня, но ничего не получалось — Кузин либо отмалчивался, либо отшучивался.
В молодости я с увлечением читал книжку французских лётчиков Монвиля и Коста «Искусство пилотажа». Из этой полезной не только для всякого инструктора, но и для любого лётчика книги я выписал тогда, а потом на всю жизнь запомнил такие слова:
«Хороший инструктор — редкая птица: он должен обладать взглядом орла, от которого ничего не скроется, кротостью белого голубя, мудростью совы и неутомимым красноречием попугая, который изо дня в день повторяет хорошие советы».
Всегда я мечтал хоть чуточку походить на такого инструктора. А в ту пору, когда мне пришлось обучать Кузина, быть кротким и мудрым (особенно мудрым), не могу даже тебе передать, как хотелось — ведь это было в первый год моей инструкторской работы, и лет инструктору было тогда почти столько же, сколько его курсантам...
Однако, как я ни старался быть прозорливым, разгадать причины плохого настроения курсанта мне никак не удавалось.
Но вот однажды на высоте полторы тысячи метров перед вводом самолёта в штопор, заглянув в зеркальце, укреплённое над головой инструктора, я увидел лицо Кузина. Казалось, курсант окаменел — глаза стали совершенно круглыми и какими-то незрячими, на лбу выступили мелкие бусинки пота, углы рта старчески опустились. И тогда я понял — Кузин боится штопора.
Это открытие не очень меня удивило. О штопоре так долго рассказывали всякие вздорные истории, накручивали вокруг этой фигуры немыслимые ужасы, передавая из уст в уста подробности истинных и вымышленных катастроф, что, поверив во все россказни, не мудрено было и испугаться.
После этого полёта я спросил Кузина, чего именно он боится на штопоре. Курсант ответил мне довольно резко (резче, чем полагается отвечать инструктору): «Вы же — пророк, насквозь видите, знаете, о чем я в полёте думаю, и что боюсь, знаете, к чему же вопросы — вам и так должно быть всё ясно...»
Тогда, забыв, что инструктор обязан быть не только мудрым, как сова, но ещё и кротким, как белый голубь, я не удержался и как мальчишка мальчишку обругал Кузина.
— Дурак ты,— сказал я ему в сердцах,— как же я выучу тебя летать, если не узнаю, чего именно ты боишься на штопоре? От какой болезни тебя лечить?
Против ожидания, Кузин не вспылил, не обиделся и не пошёл жаловаться на меня командиру звена. Он сразу же, и притом довольно спокойно, ответил по существу:
— Товарищ инструктор, я не всего штопора опасаюсь, а только... не знаю даже, как бы это вам лучше объяснить... одно меня беспокоит, понимаете: сумею ли я отличить правый штопор от левого, если сорвусь нечаянно?..
Услышав такое признание, я чуть было не расхохотался — как это можно не различить правой руки от левой,— но вовремя сдержал себя. Во-первых, человек сказал мне правду, и за это я уже не имел права смеяться над ним; во-вторых, вспомнил, как в первых самостоятельных полётах по кругу я сам всё время боялся спутать указатель скорости с высотомером. Теперь мне, инструктору, казалось, что это было ужасно глупо, но это ж было...
Вскоре мы снова полетели в пилотажную зону. В этом полёте — я решил твёрдо — Кузин должен победить страх. Должен! Или я не инструктор, чёрт возьми!
К полёту я готовился сверхтщательно, разработал специальный план действий, полный, на мой взгляд, мудрости, кротости и изобретательности. Последнее обстоятельство особенно наполняло меня гордостью. В душе я чувствовал себя новатором!
В зоне я срывал самолёт в штопор из самых немыслимых положений. В этом был свой расчёт — курсант должен на практике убедиться: если лётчик действует правильно, машина всегда выходит из штопора, откуда б она в него не свалилась.
Все выводы из штопора Кузин выполнял сам, я только подбадривал его.
Сначала мы крутили по одному витку, потом по два, по три.
Мы штопорили то вправо, то влево, неожиданно я перебрасывал самолёт из одного штопора в другой. Кузин добросовестно выводил.
Наконец, я сорвал машину в штопор, приказав курсанту считать витки вслух, до тех пор, пока я не скомандую: «Выводи!»
Мы окрутили пять полных витков,— Кузин волновался и успел насчитать за это время десять витков, но я не стал разубеждать человека — пусть верит, что ему и десять витков нипочём. Кузин отлично выполнил вывод после «десятого» витка, в тот самый момент, когда я, в какой уж раз в этот день, скомандовал: «Выводи!»
Теперь, пока мы снижались на посадку, в инструкторском зеркале то появлялась, то исчезала его очень довольная улыбающаяся физиономия. Кузин победил страх.
Но на этом история не кончается.
Лет через десять случай свёл меня с подполковником Кузиным. На радостях мы, как полагается, обнялись, расцеловались и начали вспоминать друзей-товарищей, училище. Неосторожно я упомянул о нашем полёте в зону, о смешной истории со штопором. Звякнув медалями, подполковник вдруг поднялся, расправил плечи и очень официально сказал:
— Простите, товарищ инструктор, не припоминаю. Щадя моё самолюбие, Кузин не обращался ко мне по званию. За десять лет службы в строевых частях он сильно опередил меня и в чине и в должности...
Эту историю я рассказал не в осуждение моего бывшего ученика, очень хорошего лётчика подполковника Кузина. Никому не приятно признаваться в своих слабостях и ошибках, и я думаю, что не так уж это и нужно объявлять, например, о своём малодушии всему человечеству. Гораздо важнее не обманывать самого себя. И если случится поскользнуться, не надо проявление обыкновенной трусости выдавать за благоразумное выжидание...
Каждый человек боится по-своему, и я не берусь составлять «энциклопедию» страхов. Мне хочется только вспомнить об одном своём очень страшном полёте и попробовать теперь, через много лет, посмотреть на всё происходившее тогда как бы чужими глазами, со стороны.
Механик доложил, что машина к полёту готова. Он подробно перечислил всё, что сделано за истёкшие сутки. Механик был у меня замечательный, ни разу не подводил, и я не стал проверять его работу. В положенное время запустил мотор, раза два качнул туда-сюда сектором газа, сделав вид, что опробовал двигатель, и вырулил на старт.
— Разрешите взлёт? — запросил я командный пункт.
— Давай,— сказал командир полка вместо официального — «Вам — взлёт!»
И я начал разбег. Машина вела себя как-то странно: мотор ревел, самолёт подпрыгивал, но от земли не отрывался — всё это я сообразил не сразу. В ту пору я не умел ещё взлетая видеть одновременно и капот, и линию горизонта, и приборную доску в кабине... Я мучительно соображал, что же происходит, и, когда наконец понял — мотор не даёт полной мощности,— отказываться от полёта было уже поздно. Взлётная полоса кончалась. Впереди отчётливо виднелись столбы телеграфно-телефонной линии, торчавшие над обочиной дороги. Прекратить разбег теперь значило влететь если не в телеграфный столб, то в придорожный кювет обязательно.
За дорогой и телеграфно-телефонной линией тянулось довольно большое поле — это я знал точно. На схеме аэродрома, висевшей в штабе, оно было помечено, как запасная площадка. На неё полагалось приземляться в случае вынужденных обстоятельств. Я принял решение: разогнать самолёт как можно сильнее, перепрыгнуть через провода телеграфно-телефонной линии и сесть на запасной площадке.
Помню отчётливо, как запершило у меня в горле, как противно задрожали колени. Я приподнял хвост машины ещё немного (так быстрее набирается скорость) и влип в столбы взглядом. Чтобы не промазать с прыжком, надо было очень точно рассчитать момент, когда дёргать ручку управления на себя. Рано дёрнешь — не хватит скорости, свалишься на крыло; поздно дёрнешь — зацепишься колёсами за провода и тоже упадёшь, скорее всего перевернувшись при этом вверх колёсами.
Провода надвигались катастрофически быстро, помню — в какой-то момент я отчётливо увидел белые фарфоровые изоляторы. На каждом столбе их было пять, три с одной стороны, два с другой. Мне показалось, что я уже опоздал с прыжком, и мне стало ещё страшнее, но я всё-таки дёрнул ручку управления на себя — всё равно больше уже делать было нечего...
Машина резко перепрыгнула и через провода и через просёлочную дорогу. Но то, что я увидел в следующий момент, было так страшно, что я почувствовал совершенно отчётливо, как волосы, став вдруг твёрдыми, словно иголки, упёрлись в шёлковую подкладку шлемофона. Запасная площадка была изрыта окопами полного профиля, утыкана противотанковыми ежами, рассечена проволочными заграждениями. (Позже я узнал, что ночью соседняя пехотная часть провела в наших аэродромных владениях внезапные тактические учения.)
Окопы, противотанковые заграждения, колючую проволоку — всё это я заметил в тот момент, когда мой самолёт в резком прыжке взвился над дорогой. В голову ударила одна холодная, расслабляющая волю мысль: «Всё. Отлетался...»
Что-то автоматически сами по себе делали руки, сознание как будто выключилось, и до меня даже не сразу дошёл изменившийся звук мотора. Мотор взревел вдруг, будто в нём прорвалась какая-то тугая перепонка, и рванул на полную мощь. У меня не было времени ни думать, ни пытаться понять, что же произошло. Всем телом, кончиками пальцев и корнями волос я почувствовал: скорость нарастает! Скорость! Она прибывала по каплям. И, хотя внизу грозно покачивались рыжие земляные валы и свежие окопные брустверы, и неотёсанные, покрытые корой колья, я знал — теперь всё зависит только от меня, только от моих рук. Если мне удастся не спугнуть неловким движением скорость — тогда жизнь! Я тянул свой самолёт вверх осторожно, затаив дыхание, весь сжавшись в комок...
В конце концов я ушёл от земли. Набрал безопасную высоту, набрал нормальную скорость и благополучно приземлился.
В этом полёте я хлебнул страха полной мерой,— до конца жизни не забыть. Только теперь, спустя много лет, я могу спокойно, как говорится, по косточкам, разбирать и оценивать свои поступки в тот памятный день.
Почему мне было так страшно тогда?
Потому, что я, поверив своему по-настоящему хорошему механику, не проконтролировал его работу (кстати, вся ошибка человека была только в том, что он не с той стороны, с которой положено, вставил болт регулятора постоянного давления).
Потому, что я не стал как следует проверять мотор на земле и, болтая сектором газа туда-сюда, пускал пыль в глаза не своему командиру, а самому себе...
Потому, что я не умел тогда определять работу мотора на слух и обнаружил неблагополучие только в тот момент, когда для прекращения разбега мне не хватало уже взлётной полосы...
Потому, что я долго думал (пять секунд в таком положении — большой срок!), какое принять решение, и, вместо того чтобы заблаговременно прекратить разбег, сам себя заставил вытворять головоломные трюки...
Потому, что...
Нет, вероятно, я не смогу всё-таки составить исчерпывающий список всех грехов, совершённых мной в тот день. Грехов было слишком много. И, что всего обидней, во всех неприятностях некого было винить, кроме самого себя...
Теперь мне легко быть откровенным. Рассказываю всё как было, ничего не тая, и не краснею, а что я тогда, после этого полёта, пережил, об этом лучше не спрашивай. О страхе можно говорить бесконечно и так же бесконечно можно припоминать все новые и новые примеры высокого мужества и необыкновенного геройства. Но смелее от этого не станешь.
А как же всё-таки бороться со страхом? Как если не сразу стать героем, то хотя бы немножко, посмелеть?
Не думай, приятель, что здесь я шепну тебе по секрету какое-то волшебное словцо, которое раз навсегда сделает тебя смелым. К сожалению, такого слова я просто не знаю. Да и ты уже не в том возрасте, когда верят сказкам. Поговорим повзрослому.
По-моему, самый сильный противник страха — точные знания. Когда человеку всё ясно и понятно в машине, тогда он смотрит вперёд веселее, уверенней и спокойней.
И ещё: чтобы побеждать страх, чтобы в ответственный момент оказываться сильнее его, надо крепко владеть своими чувствами. А чувства, что ж,— они тоже поддаются тренировке! Для этого не нужны, кстати, ни сложные аппараты, ни особые приспособления, ни посторонняя помощь. Хочется тебе накричать на человека, до того хочется, что кончик языка чешется, а ты не позволяй себе, держись, говори нарочно тихо, медленно, с выражением; или хочется тебе утречком поваляться лишних десять минут в постели, а ты не давай себе такого разрешения, приказывай: «Встать!» — и тут же исполняй; лень тебе физзарядку делать, а ты делай... И не морщи нос: «Подумаешь, какие новости!» Нет в этих советах ничего особенного, как вообще нет ничего особенного в авиации. И вся задача только в том, чтобы, раз взявшись за дело, не отступать, не делать себе скидок.
Сразу, конечно, всё не получится, но, если ты сумеешь перебороть себя раз, пересилить два, заставить три,— дальше пойдёт легче!
И не успокаивайся на этом, придумывай себе новые испытания: мойся холодной водой, укрывайся одеялом только до пояса, не кутайся. Да мало ли можно отдать себе «приказов», которые до смерти не хочется выполнять, хотя прекрасно известно: ни от одного из них вреда не будет.
Тренируйся, и постепенно у тебя обязательно выработается твёрдый характер, надёжно закалится воля. А тогда что тебе страх? Тогда тебе страх всё равно что здоровому человеку насморк — пощекочет раз-другой в носу, но с ног не свалит...
Тому, кто кидается в полёт очертя голову, всегда страшно, тому же, кто трезво рассчитывает свои силы, по-настоящему изучает дело, бояться нечего. И, даже если на первых порах тебе не очень понравится лётная жизнь, не спеши разочаровываться. Вспомни мудрую монгольскую поговорку: «Чтобы научиться плавать, надо лезть в воду». И переведи её на авиационный лад:
Работа лётчика сталкивает человека с множеством разнообразнейших ощущении — от самых будничных до самых острых. Передать всю сложность переживаний пилота очень трудно почти невозможно. Но есть одно главное, непременное:
о чём бы ты ни думал перед полётом, в тот момент, когда твоя машина входит в серую лохматую массу низких дождевых облаков и ты остаёшься один на один с приборами, которым на время принадлежит твоя жизнь, всё твоё будущее, ты знаешь — наверху солнце. Когда ты ползёшь сквозь эту сырую массу без пола и потолка, без стен и окон, ты помнишь: как ни трудно — впереди солнце. И, когда ты, наконец, вырываешься из мрачных сырых объятий и видишь над собой такое синее небо, какого не бывает даже в Африке, когда облака, как по мановению волшебника оказавшись внизу, превращаются из серо-лиловых в сахарно-белые и перед тобой открываются такие далёкие сверкающие горизонты, которых не знает ни один океан на земном шаре, на душе делается так хорошо, так празднично, что ради этого стоит побороться со страхом, если он неожиданно пойдёт на тебя в атаку, стоит пережить трудные часы воздушной болтанки и простить крутой нрав инструктору и то, что он иной раз не очень считается с «тонкостями» твоей избалованной на земле натуры...
Тот, кто не видал облаков под ногами, тот, кто не купался в их вершинной сверкающей пене, тот, кто не гонялся на многокилометровой высоте за собственной тенью, летящей по голубоватой бескрайней равнине, тот просто не знает, что такое настоящее счастье.
ЧЕЛОВЕК И МАШИНА
«Что такое счастье?», «Как я понимаю счастье?» — это вечные темы школьных сочинений. А сколько проводят диспутов, бесед, лекций о счастье, сколько стихов пишут! Не пересчитать. И ничего удивительного в этом нет — ведь стандартного, единого для всех счастья не бывает, каждому — своё.
Только что я рассказывал о счастье заоблачного полёта — это был разговор о моём счастье, я лично вот так понимаю, так чувствую. Конечно, это совсем не значит, что все остальные должны точно так же относиться к полётам. Но, когда я думаю о тебе, Алёшка, о твоих письмах, я верю, что очень скоро и ты, узнав счастье полёта, поймёшь меня.
В этой книжке я передаю тебе всё, что накопил за много лет лётной жизни. Думаю, что это правильно: с друзьями делятся всем — это закон солдатской дружбы. Нерушимый закон.
О счастливых авиаторах я мог бы тебе рассказывать очень долго, но, если бы ты спросил меня, кто из моих товарищей всё-таки самый счастливый, я бы не задумываясь назвал авиационного механика Петра Петровича Коршунова.
По совести говоря, сержанта Коршунова, служившего в моём подчинении, я любил, уважал и вместе с тем побаивался.
Это может показаться странным: лётчик, командир звена, и вдруг побаивается своего механика. А почему?..
Стоило мне выбраться из кабины, расстегнуть парашютные лямки, скинуть с головы промокший на лбу шлемофон, как я встречал нацеленный в меня вопрошающий взгляд.
Он никогда не спрашивал о машине вслух. Вопрос жил в его взгляде, и достаточно мне было сказать: «Порядок, Петя!» — как лицо Коршунова моментально принимало новое выражение. Иногда оно делалось ласковым и восторженным. — Ну, командир, в строю прошёл, как по ниточке: интервальчик, дистанция — всё точненько. Парад, честное слово, парад!
В другой раз глаза его поблёскивали насмешливо:
— Что ж это, командир, у нас на пилотаже получается? Что ни петля — крен! Может, регулировочку элеронам сделаем?
Оправдываться или придумывать какие-нибудь «объективные» причины нечего было и думать. Он великолепно видел каждый мой промах, каждую даже самую пустяковую ошибку. Сохранить в его пристальных глазах авторитет лётчика-истребителя возможно было только одним-единственным нелёгким путём — летать без огрехов...
Как Коршунов, сам никогда не летавший, превзошёл все тонкости нашего дела, как научился он подмечать с земли малейшие ошибки в пилотаже, объяснить этого я не сумею. Знаю только, что к его мнению о лётном мастерстве того или иного пилота прислушивались не только приятели-механики, но и решительно все лётчики нашего аэродрома. А молодые — так те Коршунова буквально с открытым ртом слушали. За глаза они его почему-то Тёркиным называли.
Весёлый, общительный, не по-уставному бойкий, Коршунов службу знал и со своими оценками обычно не выскакивал, ждал, когда спросят. Держался он, как и полагается сержанту, отличнику боевой и политической подготовки, с достоинством. Но всё это до случая.
Стоило лётчику перегреть, например, тормоза на рулении или совершить грубую посадку, как Коршунов немедленно забывал о строгих правилах воинского почитания. Он умел говорить ужасно обидные слова, сохраняя при этом полную видимость уставного обращения.
— Вам бы не летать, извиняюсь за выражение, товарищ гвардии старший лейтенант,— на тракторе ездить! У трактора, разрешите доложить, колёса железные — запас прочности для таких посадок вполне подходящий. За что же вы, товарищ гвардии старший лейтенант, разрешите узнать, уронили самолёт с третьего этажа? Страдает машина, понимать бы надо...
Унять Коршунова не представлялось возможным. Он защищал свой самолёт, свою машину, за неё он готов был снести любой выговор, любое наказание, что угодно.
Однажды старшина эскадрильи пришёл ко мне с жалобой на Коршунова.
— Что прикажете, товарищ командир, с вашим механиком делать? Третий раз к отбою опаздывает. И разъяснял и наказывал — всё равно опаздывает. Моей власти не хватает, товарищ командир.
— А почему опаздывает? — спросил я.
— Говорит, работа держит. А я так, товарищ командир, полагаю: работа работой, а службу надо исполнять точно...
Вызываю Коршунова:
— На отбой опаздывали?
— Так точно, опаздывал.
— Почему?
— Работа держит.
— А как же служба? Распорядок дня, например?
— Виноват, служба страдает. Это точно — учту, товарищ командир! Разрешите вопрос? — Да. — Разрешите сегодня ещё раз опоздать? Троса планирую заменить. Троса, конечно, ещё хорошие, но на складе мало осталось, боюсь, разберут. Чтобы потом заминки не вышло, лучше бы сейчас... Разрешите опоздать?..
Однажды молодой лётчик поломал на посадке самолёт. Лётчик был совершенно ошеломлён случившимся, нервно курил папиросу за папиросой, без конца расстёгивал и застёгивал воротник гимнастёрки и всё порывался объяснить, как с ним стряслась такая беда.
А Петя Коршунов, такой жизнерадостный, неугомонный боевой сержант, застыл у пострадавшей машины. Он долго сидел один, обняв погнутый винт.
Никто не лез к нему со словами утешения. Солдатская жалость скупа и молчалива...
Недавно на большом испытательном аэродроме я встретил инженер-майора Петра Петровича Коршунова. Нельзя было не заметить — поредели волосы, виски подморозило. Но глаза у майора были прежние — сержантские глаза, и смеялись они по-прежнему весело.
— Ты посмотри, посмотри только на эту машину, командир! Да ты не просто смотри на неё, ты вглядывайся, внимательно вглядывайся. Это ж мечта! Сам бы полетел! Не умею, жалко...
Смотрел я на седеющего инженера и думал: «Нет, не случайно помог мне в своё время Пётр Петрович Коршунов понять очень важную авиационную истину — лётное счастье начинает
ся с любви к машине».
Любовь эта не может быть преподана, как некая обязательная дисциплина в лётной школе, с этой любовью надо либо родиться, либо самому вырастить и развить её в себе.
Любовь к машине — тонкое чувство. Если ты видишь, например, велосипедиста, у которого на машине и спереди и сзади по здоровенному фонарю, а на руле рядом со звонком приспособлены ещё зеркало и автомобильный сигнал, велосипедиста, у которого при езде мелькают разноцветные электролампочки на спицах, то ещё не известно, кого больше любит хозяин велосипеда — машину или свою собственную персону. Очень часто парадный вид наводится только для того, чтобы пустить пыль в глаза, порисоваться, «удивить мир»...
Любовь к машине, на мой взгляд, начинается с желания изучить её до самого последнего болтика, до самой маленькой гаечки (и не потому, что впереди предстоят зачёты у строгого экзаменатора, а потому, что это очень интересно).
И ещё.
Любовь к машине выражается не внешними украшениями, не яркой краской на её боках, а постоянной душевной заботой человека о шестерёнках и сальниках, о прокладках и шплинтах, о чистоте и герметичности соединений.
Если ты можешь смотреть на ржавый толкатель в моторе, не испытывая при этом чувства, напоминающего зубную боль, не прикидывайся настоящим авиатором — ты не любишь свой самолёт.
Если ты, пробуя мотор, можешь спокойно слушать стреляющий выхлоп, если он, этот выхлоп, не отдаётся острым толчком в твоём сердце, молчи о своей любви к технике вообще и к авиации в частности. Что бы ты ни говорил, какие бы красивые слова ни бросал, всё равно тебе никто не поверит. И правильно сделают. Любить машину — значит прикипеть к ней душой.
Ты наверняка слышал, как, рассуждая о тех или иных машинах, деловые, серьёзные люди вдруг говорят:
— Мотор тупой, как пробка, оборотов не принимает... Или:
— «Козёл» на профилактику поставили, а на этой «антилопе» далеко ехать страшно...
Или:
— Станок только что из ремонта, а уже разговаривает. Работать противно...
Люди толкуют о машинах, моторах, станках, как о живых, думающих существах. Не могу поручиться, что каждый из этих людей непременно безукоризненный во всём человек, но в одном можно не сомневаться — если он не мастер своего дела, то наверняка кандидат в мастера...
Для того чтобы стать лётчиком реактивной авиации — ты же об этом мечтаешь,— надо начинать с простого «Як-18». И не только потому, что летать на нём легче, чем на любом другом самолёте. Узнать учебно-тренировочную машину до самой сокровенной её глубины во много раз проще, чем разобраться, например, в устройстве такого воздушного корабля, как «Ту-104».
Хорошо освоенный «Як-18» откроет тебе прямую дорогу в большое, высокое, «скоростное» небо.
Мне довелось обучить довольно много лётчиков полётам на реактивных машинах, и я не помню случая, чтобы кто-нибудь из моих учеников, надёжно овладевших учебным «Яком», затруднялся пилотировать реактивную машину. Конечно, это при обязательном условии: «лётчик-реактивщик» должен быть достаточно образован и правильно воспитан. Словом, приступать к полётам на реактивном самолёте должен человек-птица, а не желторотый птенец.
Не будет ничего удивительного, если ты спросишь меня после этих слов, а когда же, на каком полёте птенец превращается в птицу?
Что это случается не в день первого самостоятельного полёта, ты, Алёша, вероятно, уже и сам понял. Так когда же?
Сто аэродромных полётов — не мало, но всё же это не больше, чем предисловие к приключенческому роману; не больше, чем увертюра к опере... И двадцать маршрутных полётов, хотя и продвигают человека далеко вперёд на пути завоевания воздушных просторов, всё же не дают ему права (разумеется, если человек не хвастун!) называть себя бывалым авиатором.
Только опыт, только преодоление разнообразных, неожиданных сложностей превращают курсанта в настоящего лётчика.
Первый признак того, что ты становишься именно таким лётчиком, приходит не вдруг, и ты его не сразу даже заметишь. Но в тот день, когда ты в полёте перестанешь думать о том, что у тебя есть руки и ноги, когда ты перестанешь диктовать себе: «Левый разворот — даю ручку влево, отклоняю левую педаль, смотрю на прибор скорости...» — знай: ты перестал быть учеником.
Мне посчастливилось встречаться с многими настоящими лётчиками и на земле и в воздухе. К сожалению, в этой книге я не смогу, Алёша, познакомить тебя со всеми отличными пилотами, с которыми меня сводила жизнь (для этого нужно написать отдельную толстую книжку!), но о нескольких настоящих лётчиках я расскажу.
ЧКАЛОВ ЖИВ
Идёт усиленная подготовка к очередному авиационному празднику. Праздник обещает быть большим, разнообразным и интересным. На подмосковных аэродромах тренируется множество экипажей. В небе стало тесно. С первого числа введено даже специальное расписание пользования пилотажными зонами. Пять минут отводят отдельному экипажу, десять — тренирующейся группе...
К бетонированной дорожке подруливает дымчато-серый остроносый «Як-3». Старт просит Иван Юркевич.
Короткий разбег — машина в воздухе.
Набирая высоту, лётчик выходит на центр аэродрома. На светло-голубом небе чётко нарисован тёмный крестик — самолёт. Вот он замедляет полёт, кажется, Юркевич примеривается, выжидает мгновение, другое. И вдруг пилот делает первый росчерк: опрокидывает машину на спину, отвесно валится к земле. Выравнивается самолёт очень низко, над самой стартовой дорожкой и тут же снова идёт вверх. Вот машина оборачивается в восходящей бочке, вот замыкает петлю. Наращивая темп, лётчик выполняет фигуру за фигурой. Двойной иммельман, переворот, серия восходящих бочек, и снова вниз — к земле.
Земля близко, ошибка в полсекунды — всё...
Но фигуры делаются всё сложнее, темп пилотажа всё выше. Белые струи, спутницы огромных перегрузок, срываются с кончиков крыльев. Перегрузка вдавливает лётчика в сиденье, наваливается на плечи, слепит, мешает дышать, но фигурный каскад не убывает, напротив, он растёт и ширится...
Наконец дымчато-серый «Як», исчерпав свои пять минут, приземляется и заруливает на стоянку. Юркевич вылезает из кабины измученный, красный, счастливый. И сразу же начинается тот обыкновенный разговор после полёта, в котором язык и руки, изображающие маневрирующий самолёт, пользуются совершенно равными правами...
Чуть в стороне стоит седой авиатехник. В полку он славится золотыми руками и злым, острым как бритва языком. Вряд ли кто-нибудь из лётчиков может похвастаться признанием старика. Его любимая присказка звучит приблизительно так: «Кто лётчик? Ты лётчик? Чкалов — лётчик. А ты...»
Неожиданно старик решительным шагом направляется к Юркевичу. Подходит и говорит: «До сих пор думал: один на свете пилотажник. Теперь вижу: двое есть — Чкалов и ты».
Так и сказал «есть», как будто мы не собирались в тот год отметить десятую годовщину со дня гибели Валерия Павловича...
ЦЕНА СЕКУНДЫ
Аэродром замер в ожидании. Акимов и Волков расходились для лобовой атаки.
Чтобы понять и по достоинству оценить происшедшее минутой позже, надобно знать, что старший лейтенант Акимов давно служил в полку, успел повоевать ещё в 1939 году, славился огромной физической силой, наблюдательностью и крепкой истребительской хваткой.
Лейтенанта Волкова совсем недавно перестали числить в новичках. Этот молодой лётчик был упрям и своей неистощимой изобретательностью в полётах успел завоевать всеобщее признание. Кроме того, все знали, что Волков и Акимов недолюбливали друг друга. Словом, учебно-показательный воздушный «бой» обещал быть напряжённым и острым.
Каждый из «противников» имел своих болельщиков. Трудно даже сказать, у кого их было больше...
Машины сближались с сумасшедшей скоростью.
Неожиданно Волков накренил свой самолёт влево. И сразу же закричали болельщики Акимова:
— Сворачивает! Не выдержал! Теперь крышка!
Акимов немедленно начал правый боевой разворот. Это был испытанный приём при уклонении противника от лобовой атаки, уже не раз проверенный Акимовым. Ему, как правило, удавалось вытягивать свою машину выше противника: он легко переносил перегрузки и превосходно умел взять от самолёта всё, и даже чуточку больше, чем всё. Выиграв высоту, Акимов уже без труда «садился» на хвост противнику, после чего деваться тому бывало решительно некуда.
Так случалось много раз, но в «бою» с Волковым всё вышло иначе.
Накренив машину, Волков резко метнулся ввысь, но он не стал завершать боевой разворот, как было принято, а неожиданно опрокинулся вверх колёсами и так, в перевёрнутом положении, атаковал Акимова. Он произвёл только одну атаку и сразу резким пикированием вышел из «боя».
На земле между болельщиками разгорелся отчаянный спор.
— Это просто трюк,— говорили одни.
— Отличный манёвр,— возражали другие.
— А что за смысл в такой акробатике? — упорствовали первые.— Много ли со спины настреляешь?
— Это уж, извините, от тренировки, только от тренировки зависит, и ничего тут невозможного нет, а почему бы и не стрелять со спины?
В учебном бою «противники» стреляют друг в друга, разумеется, не из настоящих пушек, а из фотокинопулеметов.
Плёнка схватывает положение атакованного самолёта и момент открытия «огня». Учитывается каждая секунда.
У фотокинопулемета не бывает любимчиков — он совершенно беспристрастен и идеально точен.
Конец спору положил фототехник: он принёс срочно проявленные плёнки обоих «противников». Акимов был «убит» на три секунды раньше, чем Волков. Фотокадры не оставляли в этом никакого сомнения...
ЗА ЖИЗНЬ МАШИНЫ
Самолёт снижался к земле с одной выпущенной ногой шасси. Другая даже не показалась из своего купола. Самолёт был большой, и лётчик не мог, набрав высоту, хорошенько тряхнуть машину на пилотаже, чтобы заставить невышедшую ногу пробкой вылететь из купола...
Самолёт шёл к земле. Руководитель полётов на аэродроме связался с командиром корабля по радио.
— У вас не выпущена правая нога шасси,— сказал руководитель полётов с земли.
— Знаю,— ответил командир корабля с воздуха.
— Аварийную систему выпуска использовали? — спросил руководитель.
— Использовал. Система не срабатывает, — ответил лётчик.
Земля была совсем близко. Вот уже одиноко торчавшее колесо коснулось бетонированной полосы. Но лётчик не дал самолёту покатиться по аэродрому. Он осторожно поддёрнул свой корабль вверх и снова пристукнул здоровой ногой о землю. И так раз, и два, и десять раз — пока хватало посадочной полосы. Потом он прибавил обороты моторам, набрал высоту и повторил заход на посадку. Он стучал многотонной машиной о землю расчётливо и очень осторожно. Он стучал до тех пор, пока застрявшая нога шасси не выскочила из купола и не встала на положенное ей место.
Потом он сделал ещё один заход над аэродромом и сел так, как садился не одну тысячу раз до этого.
«Задание выполнено. Всё в порядке»,— записал лётчик в полётном листе. Указания механику относительно проверки шасси он дал устно.
Мне доводилось видеть стрелков-виртуозов — снайперов, которые умеют вбивать в центр чёрного яблочка мишени всю обойму. У командира корабля было что-то общее с этими мастерами.
Выдержка? Глазомер? Уверенность?
Скорее всего и то, и другое, и третье...
«ПРИЧАЛ ВИДНО»
Над Архангельском висел туман, плотный, серый и скользкий. На ближайшие двенадцать часов синоптики не обещали просветления. Толкаться на аэродроме дольше не имело никакого смысла. В те пятиминутные разрывы облаков, которые всё же появлялись раз в час-полтора, рассчитывать на вылет не приходилось. Никакой дежурный аэропорта не разрешит стартовать в такую погоду. Мы с командиром эскадрильи собрались уже уходить из диспетчерской, когда динамик, тоненько свистнув, заговорил вдруг совсем по-домашнему, без позывных, без всяких официальностей.
— Привет, Гоша, как у тебя видимость?.. Что обстановка неважная — это я знаю. Ты мне конкретно скажи — причал из окна виден или не виден? Только не ври.
Вздрогнув от неожиданности, диспетчер отвечал своему воздушному корреспонденту:
— Причал чуточку виден, но, пожалуйста, не вздумайте садиться. Я за вашу посадку отвечать не буду. Разрешения не даю. Имейте в виду, ничего не видно. Понимаете — туман!..
— А ты, Гоша, не волнуйся, не порть нервы. Включи лучше приводную. Отвечать за посадку буду я, понимаешь, я. Так и запиши в радиожурнал — ответственность за посадку командир корабля принимает на себя...
Через десять минут в диспетчерской появился коренастый, седой, очень загорелый человек. Вошёл — и сразу в диспетчерской стало тесно.
— Ну вот, Гоша, ничего не случилось. А ты говоришь — ответственности не принимаю! Не такой уж злой туман, бывает хуже.
— Илья Павлович, так вы же учитывайте — есть инструкция. Не я её выдумал, не я её утвердил, а выполнять — мне полагается,— защищался диспетчер.— И вообще всем командирам кораблей я диспетчер подходящий, только вас почему-то не устраиваю. Ну, скажите, разве я неправильный диспетчер?
Илья Павлович чуть заметно улыбнулся:
— Ну-ну, правильный диспетчер, не лезь только в пузырь. Ты службу знаешь не то что на пять с плюсом — на все восемь!
Командир корабля был известный полярный исследователь, неутомимый арктический пилот, частый гость полюса, Герой Советского Союза Илья Павлович Мазурук.
ВЗЛЁТ С ПЯТАЧКА
Площадка очень мала, а взлететь нужно обязательно. Лётчик в десятый раз вышагивал вдоль полянки, что-то прикидывая и соображая. Следом за командиром неотступно, как тень, ходил бортмеханик с хмурым сосредоточенным лицом.
Ничего хорошего от предстоящего взлёта механик не ожидал. Болотистый грунт, густая цепкая трава, мелкие кочки не радовали. В довершение всех бед на границе вынужденного аэродрома поднимался плотной стеной лес.
— Значит, так,— сказал наконец лётчик.— Здесь я начинаю поднимать хвост. Коля, забей-ка контрольную вешку. Здесь я отрываю машину. Ставь ещё вешку, Коля. Здесь высота у нас должна быть метра четыре. Подлесок не выше. Стало быть — взлетим! Так я говорю, Николай? Правильно?
— Говоришь ты всегда правильно — очень даже складно говоришь, а вот, как взлетать будешь, это мне пока не известно. Не площадка — пятачок, да ещё в стакане...
Лётчик посмотрел на бортмеханика, вздохнул, смешно почмокал губами, но ничего не ответил.
Ещё раз прошёл из конца в конец своего неожиданного «аэродрома», потрогал забитые Колей вешки и сказал:
— Давай в кабину! Привязывайся лучше! И смотри за знаками. Потом скажешь, правильно ли я рассчитал. Понял?
— Чего ж тут не понять? Только аварийной комиссии наплевать — пяти метров или пятидесяти сантиметров тебе не хватит. У них одна мерка — точная: не можешь — не взлетай.
Лётчик снова ничего не ответил. Молча взобрался в кабину. Застегнул привязные ремни, запустил мотор и пошёл на взлёт.
Хвост самолёта он начал поднимать на метр раньше, чем поравнялся с первой вешкой, оторвал машину на три метра за вторым знаком; над подлеском прошёл на высоте от пятнадцати сантиметров до полуметра. Данные эти должны быть точными — их определил бортмеханик. На взлёте у него никакой работы не было — только смотри!
Прежде Николай всегда подтрунивал над лётчиками, старался, где только мог, подпустить шпильку, разыграть, высмеять пилота. Почему? Мне кажется — он завидовал нам. Но после этого памятного взлёта с лесного пятачка всё изменилось: теперь он не устаёт прославлять своего командира во всех аэропортах страны. При этом Коля всегда подчёркивает:
— И теория и техника пилотирования у него — будьте уверены. Полное соответствие! Что голова, что руки!
ОБ ОШИБКАХ И О ЦЕНЕ ОШИБОК...
Могу себе представить, о чём ты подумал, дочитав предыдущую главу: «Что ж, все эти хорошие, настоящие лётчики так никогда и не ошибаются?»
Нет, конечно, каждый из них ошибается, как всякий живой человек. Весь вопрос только в том, что они и ошибаться «умеют». Да — ошибаться надо тоже уметь...
Говорят: «Не ошибается только тот, кто ничего не делает». А ещё говорят: «Минёр ошибается только один раз в жизни». Обе поговорки широко распространены, и каждую можно подтвердить множеством самых убедительных, самых разнообразных примеров. И всё же обе эти поговорки нуждаются, на мой взгляд, в очень серьёзных поправках.
Тот, кто ничего не делает, всё же ошибается. Он совершает одну большую, постоянную и страшную ошибку — он живёт впустую, без пользы для себя и во вред людям.
Минёр, рискующий собой во имя спасения десятков, сотен, а может быть, и тысяч жизней, должен быть, конечно, большим мастером. Чтобы разряжать вражьи мины, начинённые не только смертью, но очень часто хитрейшими техническими секретами, надо в совершенстве владеть своим делом. И всё же даже самый искусный минёр допускает ошибки. Правда, предел отклонения от единственно верного решения у него самый незначительный. Минёр может ошибаться совсем на «чутьчуть», но всё же это ничтожное, малюсенькое «чуть-чуть» существует.
Быть лётчиком — совсем не просто, но это вовсе не означает, что летать могут только такие люди, которые никогда не допускают ошибок. Очень часто ошибки в нашем деле бывают так же опасны, как и в минерском, иногда диапазон их несколько расширяется, но никогда не бывает такого положения, чтобы уж совсем нельзя было отклониться от одного единственно возможного решения задачи. В практике так не случается.
К сожалению, память моя хранит немало печальных историй — воздух суровая стихия. И чем больше припоминаю я теперь трагических случаев, тем отчётливей представляется мне общая причина многих аварий и чрезвычайных происшествий. Чаще всего не сами ошибки убивали хороших, опытных пилотов, губила их переоценка собственных сил.
О воздушной аварийности давно уже говорят, как о явлении тяжком и почти неизбежном: «Воздух всё-таки не твёрдая земля».
Давно ли ещё, продавая билет на самолёт, кассирши тщательно записывали имя, отчество, фамилию пассажира, его год рождения, адрес и прочие анкетные данные.
Вряд ли от такого внимания к его биографии у человека, собирающегося в путешествие по воздушному океану, поднималось настроение. Конечно, сами того не желая, авиационные кассирши помогали распространяться злым слухам. Но ведь на земле есть не только кассирши, есть ещё и статистики. Они подсчитали, что аварийность в авиации ниже, чем на железных дорогах и автомагистралях.
Мне бы хотелось дополнить эти выводы несколькими наблюдениями.
Чаще всего не машина ставит человека в безвыходное положение, а сам он обрекает себя на неприятности.
Например, делает лётчик разворот на малой скорости, знает, что смотреть тут надо в оба, ошибёшься — штопорнешь, и всетаки кажется ему, что можно ещё чуть-чуть потянуть на себя ручку, и тянет, и штопорит.
Хорошо, если высота большая, а если дело происходит над самой землёй, тогда — плохо...
Знает командир корабля арифметику, что там говорить, на пять с плюсом знает, а при подсчёте остатка горючего поспешил, семь на восемь неправильно помножил, глядишь и получилась вынужденная посадка — до аэродрома не дотянул, плюхнулся где-нибудь с пустыми баками.
Или другой пример. Усаживается лётчик в кабину истребителя. Он сам себе и командир корабля, и штурман, и радист. Знает, конечно, что без полётной карты лететь нельзя, берёт с собой карту. Только не в планшет её укладывает, а засовывает в голенище сапога (был такой фронтовой шик, старые лётчики помнят). Кажется, какое это может иметь отношение к безопасности полёта, главное-то в порядке: карта есть, что ещё нужно? А на деле получается неприятная история. В воздухе начинает лётчик вытаскивать карту из сапога, случайно роняет её на пол, а дальше все, как в сказке — близок локоть, да не укусишь: нужна карта, а не достать — руки-то заняты.
И начинают тогда срываться со своих мест знакомые ориентиры. Следом за ориентирами и страны света поворачиваются — смещаются меридианы, запад вдруг уходит на юг, и в конце концов оказывается человек вместо Подольска где-нибудь в районе Могилёва; хорошо, если по пути аэродром подвернётся...
Сами по себе ошибки не так уж страшны — почти каждую можно исправить, пока не переступишь известной границы. Самое трудное — уметь точно определять эту границу, постоянно помнить о её существовании и не впадать в панику, когда приближается опасность. В лётной работе успех решается прежде всего опытом и умением держать себя в руках.
Что бы ни случилось в воздухе, пока ты знаешь, как тебе действовать,— ты хозяин положения, ты диктуешь свою волю машине, и бояться нечего. Но стоит растеряться — и тогда жди неприятностей. Плоды растерянности всегда горьки.
Самолёт планировал с большой высоты. Лётчик установил самые малые обороты мотора и спокойно поглядывал на землю. Аэродром приближался. Всё правильно сделал человек, одно только забыл — вдалеке от земли за бортом машины всегда мороз: и зимой и летом. Мотор остывал. Лётчику надо бы прогреть его, а он всё планировал и планировал. И, когда пришло время переходить в горизонтальный полёт, мотор подвёл человека — недовольно фыркнул и заглох. Ошибка была совершена, и теперь надо было за неё рассчитываться. Но тут пилот растерялся. Вместо того, чтобы спокойно оценить обстановку и сделать всё, что полагается в случае остановки мотора в воздухе, он принял суматошное решение — иду на вынужденную.
Не думая больше об аэродроме, не взглянув на приборы, хозяин машины развернулся к первому же светившему в стороне лужку. Зелёная площадка казалась с высоты ровной и достаточно большой. Он спешил к этой спасительной площадке до тех пор, пока не обнаружил на ней подозрительных голубоватых блёсток. «Болото!» — понял человек и тут же изменил решение. Левее виднелась полоска пахоты: «Сяду там»... А высота тем временем уменьшалась, самолётный винт беспомощно торчал в воздухе, и пилот не думал о ветре. А ветер нёс его машину, и пилот проскочил пахоту. Для нового разворота не осталось уже высоты. И встреча с землёй произошла в самом неподходящем месте — в бывшем песчаном карьере...
Лётчик выбрался из-под обломков машины, стряхнул пыль с колен и увидел — в каких-нибудь шестистах метрах от места аварии развевался аэродромный указатель ветра, полосатый «колдун». Не разведи человек паники, спокойно сидел бы он на своём аэродроме. А вот не сумел — растерялся.
Конечно, всех положений, которые могут возникнуть в воздухе, предусмотреть невозможно, так же, как нельзя заранее предвидеть всех ходов в несыгранной шахматной партии, но тем не менее изучать ошибки товарищей — полезно. Чужие ошибки, если к ним относиться внимательно, вдумчиво, могут уберечь от многих серьёзных неприятностей, они могут многому научить...
Только одного не должен делать начинающий лётчик — слушать советы другого, не оперившегося ещё любителя авиации. Даже два неопытных новичка не стоят одного бывалого лётчика.
Лучше всего советуйся с инструктором, Алёша, и не надувайся индюком, когда тебе будет казаться, что инструктор придирается к тебе — Алексею Гурову. Если инструктор ругает тебя за такие ошибки, которые он прощает твоему товарищу Саше, скорей всего это значит, что из Алексея Гурова инструктор надеется сделать более заметного лётчика, чем из его приятеля.
Да, не ко всем лётчикам предъявляются одинаковые требования! И ничего удивительного в этом нет — летать можно поразному.
Ну, скажем, ты связной лётчик. Летаешь на легкомоторном самолёте, летаешь не высоко и не низко, не далеко и не близко. Если при этом ты умеешь выдерживать скорость с точностью до пяти километров в час, можешь спать спокойно — ты знаешь свою службу.
Другое дело, если ты лётчик-испытатель. Облётывая опытные самолёты, изучая тончайшие особенности новых машин, ты обязан пилотировать так, чтобы стрелки всех приборов накрепко «прилипали» к заданным делениям циферблатов. Если ты, лётчик-испытатель, ошибёшься в скорости всего на пять километров в час, это чрезвычайное происшествие! Ведь результатами твоих полётов выверяется труд целого коллектива конструкторов! А для тех, кто создаёт новые машины, пять километров в час — большая и серьёзная величина...
Кстати, раз уж речь зашла о лётчиках разной квалификации, я расскажу здесь об одном случайно подслушанном разговоре.
Трое мальчишек, стоя около нашего гарнизонного Дома офицеров, спорили о том, какой лётчик лучше. Один доказывал, что первый человек в небе — истребитель. Другой не соглашался:
— Ну, что твой истребитель, только взлетит — и посадка. Горючка вся... И что ему делать, когда самолёты противника не летают? Ну? Истребитель твой — мура, бомбардировщик — другое дело...
— А по-моему,— вмешался в разговор третий,— и истребители и бомбардировщики ваши слабы против полярного лётчика. Тот и ночью и в пургу летает, и без аэродромов садится, и даже на самом полюсе, пожалуйста! Вообще, все военные против полярников слабы.
Последние слова заставили и «истребителя» и «бомбардировщика» немедленно позабыть о внутренних разногласиях в Военно-Воздушных Силах, объединиться и ринуться в совместную атаку:
— Ты что сказал?..
— Да за такие слова...
Вероятно, «полярнику» пришлось бы туго. Но я вмешался, и не дал разгореться «воздушному» бою на земле.
«Представителям» трёх родов авиации был предложен такой общий вопрос: «Какой музыкант лучше — скрипач или пианист?»
Последовали следующие ответы:
— Скрипач, конечно! — Это сказал «истребитель».
— Мура ваша музыка,— презрительно усмехнулся «бомбардировщик».
— Который лучше играет, — осторожно сказал «полярник»,— тот и лучше.
Нечаянно этим правильным заявлением он опроверг самого себя. Чем отличаются лётчики разных родов авиации от музыкантов разных специальностей? Да ничем!
Тот лётчик лучше, который совершает меньше ошибок и быстрее их исправляет.
— Ну, так что ж,— спросишь ты,— в конце-то концов — можно лётчику делать ошибки или нельзя? А то все разговоры вокруг да около, а прямого ответа пока не слышно!
И всё же одним словом — категорическим «да» или решительным «нет» — я не отвечу.
Лучше всего никогда не болеть. Но это мало кому удаётся. Большинство людей всё же нет-нет, да прихварывает. Поэтому, стараясь не бюллетенить, надо всё же уметь определять болезнь, чтобы быстро лечить её нужным лекарством, чтобы не глотать при гриппе касторку, а при воспалении лёгких — хинин.
Ошибки, как болезни...
Когда ты знаешь, отчего твой самолёт кренит вправо, когда ты видишь, как вдруг открывается лючок в полёте, или даже вспоминаешь, оторвавшись от земли, что с элерона не снята струбцинка,— всё это, конечно, неприятно и, может быть, даже опасно, но не так уж страшно, не страшнее ангины, флюса, наконец, приступа аппендицита — всё это излечимо. Хуже, если, не замечая, что высоты у тебя осталось мало, ты загоняешь машину в штопор. От такой болезни никакие снадобья не помогут...
Так же, как не существует лекарства, вылечивающего от всех болезней сразу, не существует и средства, предостерегающего от всех возможных ошибок. Но, чтобы совершать меньше ошибок, чтобы быстрее с ними справляться, кое-что порекомендовать можно.
Несколько лет назад заслуженный лётчик республики, Герой Советского Союза Михаил Михайлович Громов читал для лётчиков специальный курс психологии.
Мне отчётливо запомнились многие яркие примеры, которые он приводил в своих лекциях.
Вот один из них.
Однажды к Михаилу Михайловичу пришёл юноша. Он горячо просил помочь ему устроиться в лётную школу. Молодому человеку отказали в приёме потому, что ему не хватало нескольких месяцев до установленного приёмного возраста.
Михаил Михайлович, сам начавший летать очень рано, не мог не понять чувств своего посетителя. Лётчик довольно долго и доброжелательно беседовал с молодым человеком. Наконец, пообещав содействие, он предложил ему записать адрес учреждения, куда юноше предстояло обратиться на другой день. Будущий лётчик горячо поблагодарил хозяина дома и принялся поспешно шарить в карманах. Замусоленный огрызок карандаша был с трудом найден, не сразу обнаружился и блокнот. Наконец юноша торопливо нацарапал продиктованный Громовым адрес. Лётчик посмотрел на блокнотный листок и сказал своему посетителю:
— Боюсь, молодой человек, что адрес этот вам не пригодится. Если вы не знаете, что у вас в каком кармане лежит, если вы пишете семь, как четыре, вряд ли из вас получится лётчик. В полёте подобная небрежность не проходит столь безболезненно, как на земле...
Читая курс психологии молодым лётчикам, Михаил Михайлович Громов рекомендовал начинать работу над воспитанием своего характера с тренировки точности и пунктуальности.
«Не приходите ни без пяти шесть, ни в пять минут седьмого, если свидание назначено на шесть часов».
«Добейтесь такого порядка в своих личных вещах, в своём костюме, чтобы вы никогда ничего не искали, и только после этого начинайте более сложную тренировку».
«Не позволяйте себе ни при каких обстоятельствах суетиться, каждое движение лётчика должно быть рассчитано, точно выверено».
«Меньше записывайте, больше запоминайте».
«Постоянно ищите, как сделать ту или иную работу быстрее, проще, с меньшим числом движений».
Всё это говорил Михаил Михайлович Громов, а я, конспектируя его лекции, думал: «Вряд ли кто-либо другой, даже очень знаменитый лётчик, имеет большее право, чем Михаил Михайлович, говорить об организованности лётного труда. Громов всю жизнь очень тщательно, придирчиво относился к полётам. И это не только личное качество знаменитого лётчика, на этой основе выросла целая школа точного, до последнего сантиметра выверенного, сухого, мужественного мастерства».
Алёшка, милый мой друг, я уже много, очень много рассказал тебе всякой всячины. Наверное, не всё было одинаково интересным, может быть, кое-что ты читал, как говорится, с пятого на десятое, но иначе я не мог ответить на твой вопрос, как быстрее стать «реактивщиком». Мысль цеплялась за какойто один важный факт, одно воспоминание, а оно тянуло за собой другое, третье... Случай порой растягивался в целую главку, и, как ни старался я быстрее подвести тебя к реактивному самолёту, короче не получилось. Не вышло. Но теперь уже всё — мы дошли до главного.
Только, прежде чем начинать разговор о самолётах, обгоняющих скорость звука в полёте, я хочу ещё раз напомнить тебе: без простых дробей не осилить логарифмы, без «Як-18» не полететь ни на «МиГ», ни на «Ту».
САМОЛЁТ БЕЗ ВИНТА
Начать эту главу мне долго не удавалось — пробовал и так и этак — ничего не выходило. То мне казалось, что я уклоняюсь в сторону от главного, то появлялось опасение, что всё написанное — зелёная тоска. Словом, когда я пошёл за советом к своему старому другу, начала не было и, как говорится, не предвиделось. Мой друг, тот самый умудрённый жизнью лётчик, что в своё время отвечал на «контрольные вопросы» одной из предшествовавших глав, выслушал меня, не перебивая, и, к великому моему удивлению, нашёл задачу не такой, как мне казалось, трудной.
— А что ты себе ломаешь голову, с чего начинать? Подумаешь, какая хитрость — начало! С конца начинай. Ясно?
Я признался, что мне пока ничего не ясно.
— Тогда слушай. Расскажи своему Алёшке и его друзьям, как ты на «Ту-104» летал. Как ты считаешь, интересно это ему будет или не интересно? Вот то-то и оно, что интересно! Сначала про машину расскажи, а потом уж, как говорится, увязывай практику с теорией...
У этого предложения было много весомых «за» и только одно «против». Но это единственное «против» перетягивало все многочисленные «за». Дело в том, что на «Ту-104» я не летал. Обидно, конечно, но не пришлось.
Что ж было делать?
Подумав немного, я всё же решил, что совет моего друга слишком хорош, чтобы им не воспользоваться. И тогда, бросив на день все московские дела, я собрался лететь пассажиром на рейсовом «Ту-104».
Куда? Это не имело ни малейшего значения. Мне просто надо было лететь куда-нибудь «туда» и потом «обратно».
Свободные билеты были на Тбилиси, я и взял до Тбилиси.
На аэродром я приехал часа за три до вылета — не терпелось поскорее встретиться с самолётом, о котором в ту пору говорил весь свет. Я увидел и узнал его издалека, как только распахнулись двери аэровокзала, ведущие на лётное поле. «Ту-104» возвышался над всеми машинами, занимавшими просторную бетонированную площадку. Он казался единственным взрослым среди толпы малышей...
Мне очень хотелось поскорее подойти к самолёту, поскорее взобраться внутрь, как следует разглядеть машину вблизи, но, как всегда на аэродромах, решётчатая калитка была украшена строгим объявлением: «На лётное поле посторонним вход воспрещён».
«Но какой же я всё-таки посторонний? Всю жизнь пролетать и принимать на свой счёт подобные объявления? Нет, так не пойдёт...»
Разыскав инженера отряда, я предъявил ему просроченное пилотское свидетельство и твоё письмо, Алёша.
Я сказал:
— Мне очень важно хорошо познакомиться с машиной. Вы понимаете меня, товарищ инженер?
Не знаю, что подействовало больше — свидетельство или письмо, важно, что меня не только допустили к самолёту задолго до общей посадки, но ещё подробнейшим образом всё объяснили и рассказали...
При первом взгляде на «Ту-104» самое большое впечатление произвела на меня приставленная к машине лестница. Сколько раз мне приходилось забираться в пассажирские самолёты по лёгким стремянкам, или, ухватясь руками за дверной косяк, задирать повыше ногу и шагать прямо в кабину, а тут... Тут около самолёта возвышалось двухэтажное массивное сооружение с широкими витыми перилами, оно как-то сразу заставляло почувствовать грандиозные масштабы машины.
Про «Ту-104» можно было бы смело сказать, что он велик, как дом, и начать всякие цифровые сравнения, но на аэродроме я об этом не подумал — великолепные формы машины, её пропорциональный, вытянутый гигантским веретеном фюзеляж, скошенные далеко назад и чуть приспущенные к земле кончики крыльев никак не хотели связываться с привычными представлениями о доме. Всё в машине наводило на мысль о полёте, о стремительном преодолении пространства...
Я долго со всех сторон обхаживал самолёт. В корневой части крыльев, у самого фюзеляжа машины были установлены два могучих реактивных двигателя. Вместо привычных винтов впереди капотов зияли открытые тоннели, через них к двигателям поступает воздух. Тоннели были велики, в них мог бы вполне забраться человек.
За час работы сквозь воздушные тоннели прокачивается миллион кубических метров воздуха. Представь себе куб, каждая сторона которого равняется двадцатипятиэтажному дому,— вот столько воздуха пролетает за час сквозь двигатели.
Если бы конструкторы самолёта захотели заменить реактивные двигатели обычными поршневыми моторами, им пришлось бы разместить на самолёте не меньше тридцати авиамоторов.
По приблизительным подсчётам, такое «машинное отделение» весило бы тонн сорок! Даже если бы всем моторам удалось найти место на самолёте, машина в лучшем случае смогла бы поднять только самое себя...
Я долго не мог отойти от обтекаемых гондол, в которых были упрятаны двигатели. Невольно на память пришёл мой первый в жизни боевой самолёт — истребитель «И-5», вместе с мотором, с фюзеляжем и всем своим содержимым он был значительно меньше одного двигателя «Ту-104»!
Наглядевшись на двигатели, я перешёл к знакомству с шасси.
Ног у самолёта три: две главные под крыльями (в полёте они убираются в специальные обтекатели на плоскостях) и третья в носу (она прячется в фюзеляж).
Шасси самолёта не простые. Каждая основная нога «обута» в четыре колеса. Эти четырёхколёсные тележки улучшают проходимость машины на неровном грунте, для них нужны покрышки меньшего диаметра. Но у тележки есть и недостатки — не так-то просто оказалось спрятать её в крыло во время полёта. Дело в том, что длина тележки больше, чем толщина крыла. И если просто поворачивать всю ногу назад, то тележка «проткнёт» плоскость насквозь. Конструкторам пришлось предварительно сложить тележку шасси, как перочинный ножик, и только после этого втягивать её в крыло...
Под полом пассажирской кабины — просторные грузовые люки, я мог их хорошо рассмотреть с земли, потому что створки, закрывающие люки в полёте, были широко распахнуты.
Долго ходил я вокруг машины. Обо многом успел подумать. Светлые и радостные это были мысли.
На моей памяти в авиацию приходило много новых машин. Помню я и курносый истребитель «Ишак» — «И-16», и грациозную «Чайку», и дальний бомбардировщик «ДБ-3», и ильюшинские штурмовики — грозные «Илы», и разные заграничные самолёты: «Харрикейны», «Кобры», «Бостоны», «Боинги», но такой машины, как «Ту-104», у нас ещё никогда не было.
Сколько людей трудилось, чтобы создать этот самолёт: инженеры-самолётостроители, специалисты по двигателям, радисты и химики, металлурги и электрики, художники и пищевики... Свыше тысячи предприятий принимало участие в постройке «Ту-104».
Чтобы ты мог, хотя бы приблизительно, себе представить, сколько великолепного, вдохновенного труда вобрал в себя один самолёт «Ту-104», я приведу несколько цифр: двадцать тысяч чертежей были изготовлены до постройки опытного образца самолёта; пятьсот радиоламп идут на одну машину, тридцать тысяч метров разнообразных проводов и великое множество других материалов. В самолёте вместе со стандартными дюралевыми листами толщиной в восемь миллиметров и тонкой, как бумага, фольгой используются особые плёнки толщиной всего... в три молекулы. Плёнки эти закладываются между двойными стёклами кабины, по ним пропускается электрический ток, и остекление не замерзает даже при самом свирепом морозе...
«Ту-104» берёт семьдесят — сто пассажиров на борт, развивает скорость свыше восьмисот километров в час, пролетает без посадки три тысячи пятьсот километров; десять тысяч метров — рабочий потолок самолёта.
Вероятно, я записал бы ещё не мало данных о машине, если бы тут не случилось то, что всегда происходит со мной на аэродромах. Стоит приехать на лётное поле, и почти всегда встречается знакомый, если не бывший однополчанин, то земляк по воздушной армии, или выпускник одного со мной училища, или, в крайнем случае, ученик какого-нибудь из моих учеников.
Только я взялся за поручень двухэтажного трапа, собираясь подняться в кабину, как меня окликнули. Оказалось — старый приятель, бывший бортмеханик, а теперь авиационный инженер Иван Васильевич Зотов.
О чём могут говорить два неравнодушных к авиации человека, когда они стоят у борта нового самолёта? Конечно, о полётах, о новых временах, пришедших в авиацию, о скоростях и потолке...
— Помнишь, как мы летали с тобой на «ТБ-3» в Монголию? — обменявшись приветствием, спросил меня Зотов и улыбнулся своей широченной золотозубой улыбкой.— Скорость сто девяносто пять, во все дырки фюзеляжа дует, холодище до костей продирает. А нам казалось тогда, что мы летим на сверхкрепости и что наш лётчик, я даже имя и фамилию его запомнил — Владимир Громов, необыкновенной силы пилот. Помнишь?
Конечно, я всё это помнил. Но мне не понравилось, в каком тоне заговорил Зотов о «ТБ-3», старом, заслуженном (давно уже, понятно, сошедшем с вооружения) корабле. Я не постеснялся сказать ему об этом:
— Не понимаю, над чем ты иронизируешь? В своё время «ТБ-3» был великолепным боевым самолётом. Но главное теперь даже не в этом — без «ТБ-3» не было бы «Ту-104». Это же одна школа, Зотов, это же одна семья — «АНТ»!..
Зотов нисколько не обиделся на меня, напротив, он стал с таким жаром доказывать, как последовательны, как логичны переходы конструкторского бюро Андрея Николаевича Туполева от одной замечательной машины к другой — ещё лучшей, что я подумал: послушать со стороны, можно решить, что не он, а я недостаточно почтительно отозвался о предшественнике «Ту-104»...
Незаметно разговор перешёл на испытания машины.
Признаюсь, к лётчикам-испытателям я всегда был и до конца своей жизни останусь неравнодушным. Нет труда выше, героичнее и тоньше, чем труд испытателя. Человек, которому доверяют поднимать в первый полёт опытную машину, должен не только в совершенстве владеть техникой пилотирования, он обязан быть знающим, собранным, волевым лётчиком — человеком с сердцем орла и душой инженера!
Новая машина требует другой раз самых неожиданных самостоятельных решений, и командир корабля обязан их принимать мгновенно. Лётчику-испытателю доверяют труд тысяч людей, сотен коллективов, он отвечает за благополучный исход самого сложного полёта, и больше того — он первый судья машины.
Улыбнётся, вернувшись из первого полёта, испытатель, скажет: «Хорошо», и улыбка его отразится тысячью улыбок. Нахмурится, скажет: «Плохо», и огромной армии инженеров, рабочих, всех «наземников» — дополнительная работа: надо, как говорят на аэродромах, доводить, дорабатывать машину.
Слово испытателя --дорогое, ответственное слово...
Об одном из испытательных полётов «Ту-104» рассказал мне при встрече на Внуковском аэродроме Иван Васильевич Зотов. Вот что я записал тогда:
Рассказ инженера Зотова
Утром «Ту-104» стартовал в свой самый дальний рейс. Самолёт держал курс на юг. Внизу лежала пустынная грязно-бурая степь. Земля была далека, и расстояние стирало подробности рельефа. Да их и было не
много. В этом полёте путь воздушного корабля проходил над унылыми, почти не заселёнными местами. Штурману Парису Николаевичу Рудневу приходилось быть особенно внимательным — заметных ориентиров явно не хватало. В этом полёте испытывалось навигационное оборудование, самолёт шёл на полную дальность, отклоняться от рассчитанной на земле линии пути было рискованно — сбейся экипаж с курса, уйди в сторону, на восстановление ориентировки могло не хватить горючего.
Но ничего неприятного по вине экипажа не произошло — штурман вывел машину точно к цели. Радист Владимир Петрович Евграфов не потерял связи с землёй, и всё оборудование работало безотказно. Случилось другое...
Над аэродромом посадки бесновалась песчаная буря.
Командир корабля Юрий Тимофеевич Алашеев запросил командный пункт места посадки о наземной обстановке. Ответ не порадовал. «Включили огни подхода, но я их не вижу»,— передал с аэродрома руководитель полётов. От командного пункта до этих самых огней подхода было не больше ста метров...
При создавшемся положении возможны были два решения.
Первое — уходить в сторону от аэродрома за пределы пыльной бури и садиться в степи, не выпуская шасси, на фюзеляж. Такая посадка не угрожала экипажу, но не могла, конечно, пройти бесследно для самолёта. Корабль на некоторое время обязательно вышел бы из строя...
Второе — использовать превосходное радиооборудование самолёта, мобилизовать весь запас мужества и умения экипажа и рискнуть сесть на аэродроме, пробившись сквозь бурю.
Командир корабля сказал: «Будем садиться на аэродроме». С командиром не спорят, его слово в полёте — закон.
Машина пошла на снижение.
Чтобы работал приёмник, должен прежде всего действовать передатчик — иначе радисту нечего будет принимать. Перед приземлением выяснилось — радиооборудование аэродрома вышло из строя. И все великолепные самолётные приборы, предназначенные для слепой посадки, оказались теперь ни к чему. Им нечего было слушать, не на что было «смотреть». Обстановка резко усложнилась. Лётчики могли рассчитывать лишь на собственное умение и выдержку.
Осторожно и уверенно действуя рулями, Алашеев продолжал снижение — земля была рядом и ошибиться лётчик не имел права: он отвечал за сохранность машины, за жизнь людей...
С первого захода экипажу не удалось попасть на «бетонку». Сильный боковой ветер, попросту говоря, сдул машину в сторону от посадочной полосы. Пришлось уходить на второй круг и, осторожно маневрируя в песчаной мути, повторить заход.
Высоты оставалось всего метров десять, когда штурман Руднев крикнул:
— Полоса — слева!
На этот раз Алашеев сумел развернуть самолёт над самой землёй и сесть. Бортинженер Иван Данилович Иванов, тот самый старый Иванов, что готовил к перелёту через полюс ещё самолёт Чкалова, выключил двигатели.
С минуту в кабине было тихо, потом заговорили все разом.
Этот очень трудный полёт экипаж запомнил надолго.
С тех пор прошло совсем немного времени и «Ту-104» вышел на международные трассы, в короткий срок его увидели Лондон и Прага, Будапешт и Пекин, Варшава и Рангун...
МОСКВА-ТБИЛИСИ
Дежурный по аэропорту объявил посадку на самолёт «Ту-104», отлетающий из Москвы в Тбилиси. Надо было спешить. Я поднялся по трапу — вот наконец двери. До кабины остался один шаг...
Впрочем, если быть очень точным, за дверью ещё не совсем кабина--сначала входишь в вестибюль с гардеробами. Отсюда две двери ведут в туалетные комнаты, и одна, та, что слева,— в двадцативосьмиместную пассажирскую кабину, уставленную удобными креслами, отделанную какой-то особенной обшивкой мягкого сероватого цвета. На переборке, отделяющей кабину от салона, приветливо поблёскивают маленькие никелированные крючочки — на них подвешиваются... четыре люльки, это на тот случай, если в «Ту-104» появятся законные безбилетные пассажиры!
В салоне, расположенном за общей кабиной, размещены четыре двухместных дивана, между диванами — столики, над столиками — большие электрические плафоны.
Салон показался мне похожим и на купе мягкого вагона, и на каюту теплохода сразу. Он вызывал воспоминания о земле и о море, но никак не хотел вязаться с твёрдо сложившимися представлениями о воздушных удобствах. Для неба салон был слишком шикарный...
Сразу за салоном расположилось маленькое кафе и рядом с ним кухня. В кухне, кроме электроплитки и духового шкафа, были ещё мойка для посуды с горячей и холодной водой, отделение для хранения продуктов и холодильник. За помещениями «пищеблока» оказались ещё два салона: один на восемь мест, другой на шесть.
Чтобы попасть в кабину лётчиков, оставалось пройти через передний вестибюль и распахнуть герметически закрывающуюся дверь. На земле я не успел этого сделать. Время пролетело незаметно — началась общая посадка, и мне пришлось вместе со всеми пассажирами занять своё место «согласно купленному билету». Я уселся справа у окна-иллюминатора, расположенного недалеко от гондолы двигателя.
Рассматривая своих попутчиков, шумно занимавших места и не устававших удивляться размерам и убранству самолёта, я и не заметил, как экипаж запустил двигатели. Я даже не сразу сообразил, что двигатели работают — кабина была настолько звуконепроницаемой, что в самолёте можно было попрежнему разговаривать, не повышая голоса. Когда, однако, самолёт стронулся с места и, плавно покачиваясь, порулил к взлётной полосе, сомнения исчезли — двигатели действительно работали.
На разбеге я смотрел в окно и отчётливо видел, как первыми начали «взлетать» крылья, кончики их заметно прогнулись вверх ещё до того, как весь самолёт набрал нужную скорость, чуточку позже фюзеляж «выжался» на напружиненных плоскостях.
Это было красиво и удивительно.
В своё время я сдавал экзамен по конструкции самолётов, знал, конечно, какие требования предъявляются к самолётным крыльям — они обязательно должны быть достаточно прочными и в то же время упругими... Но одно дело формулы, чертежи, расчёты — словом, теория; и совсем другое — когда ты видишь, как машина буквально взмахивает огромными плоскостями...
Пружинящие эластичные крылья — огромный успех конструкторов. Не так-то это просто — свести воедино прочность, и эластичность...
Давно уже научился я определять момент отрыва самолёта от аэродрома за секунду до того, как это должно произойти. И всё же «Ту-104» перешёл из состояния «земля» в состояние «полёт» на секунду раньше, чем я успел сообразить — «летим». И сразу же машина устремилась в высоту, её решительно тянуло вверх, как иголку к магниту.
Обычно на высоте четыре тысячи метров лётчики надевают кислородные маски. На этом рубеже начинается кислородное голодание, и, если не посасывать кислород из баллона, очень
скоро почувствуешь себя неважно — сначала тяжелеет голова, закладывает уши, потом начнёт клонить ко сну, и весь ты делаешься каким-то ватным...
На «Ту-104» кислородных масок не было, мы летели на десяти тысячах метров и никаких неприятностей не испытывали.
Дело в том, что высота увеличивалась только за окном, так сказать, на улице, а в кабине она поднялась до двух тысяч четырёхсот метров и на том замерла. Мощные компрессоры добавляли недостающее давление, специальные установки очищали и подогревали воздух. Мы летели, окружённые искусственным климатом — приятным и лёгким! Это замечательная вещь — герметическая кабина с искусственным климатом. Летишь на высоте десять тысяч метров, самолёт окружён стратосферным морозом — минус 55 градусов, а в кабине тепло, плюс 20 градусов, и решительно никаких неприятных ощущений...
Набирая высоту, мы несколько раз пронизываем облака. Они лежат гигантским слоёным пирогом — с высоты шестьсот метров до шести тысяч. «Ту-104» протыкает облачность как шило вату без всякого труда — напрямую.
Наверху нас встречает весёлое лучистое солнце. Оно здесь всегда, и даже не верится, что мы уже забрались на высоты, не доступные ни облакам, ни плохой погоде. Ведь с момента взлёта прошло совсем мало времени, какие-то минуты, а мы уже в стратосфере. Летим со скоростью восемьсот сорок километров в час.
Не успеваешь ещё привыкнуть ко всем этим новым и таким неожиданным ощущениям, как в кабине появляется девушка в крахмальном фартуке. Она приносит завтрак. Есть совсем не хочется — не до еды! Но завтрак входит в общую программу реактивного полёта, и отказаться неудобно...
Обычно чувства лётчика выверены, как приборы. Даже если у тебя закрыты глаза, ты не упустишь начала снижения — в этот миг тело делается как бы легче, моторы меняют тон; ты не прозеваешь и разворота — прижимает к сиденью...
Но в спокойном плавном полёте на «Ту» возникает такое впечатление, будто чувства соскочили со своих осей. По крайней мере, мне всё время хочется спросить:
— Скажите, девушка, мы летим или не летим?..
И до сознания не сразу даже доходит, что в обыденности всего происходящего как раз и кроются самые удивительные свойства нашей машины.
Конечно, мы летим.
Наш «Ту» с лёгкостью глотает расстояние. Каждые семь минут сотня километров остаётся позади. Земли не видно, строгие и холодные, тянутся далеко внизу бело-голубые ровные облака...
Хочется попасть в пилотскую кабину. Прошу пустить меня на минутку и застреваю у лётчиков почти до конца полёта.
В кабине светло и как-то непривычно просторно. Свет льётся через переднее и боковое остекление, с пилотского сиденья видно далеко вперёд и в стороны.
Справа от входа — место бортрадиста. Аппаратура его занимает целый «буфет»; слева помещается бортинженер. Два удобных кресла в середине кабины принадлежат лётчикам. Левое — командиру корабля, правое — второму пилоту. В самом носу машины — штурманский отсек. Там не только сиденье, но и специальный столик для работы с полётными картами.
В пилотской кабине множество приборов, выключателей, разнообразных сигнальных устройств, лампочек, рукояток — всего несколько сотен требующих внимания предметов. Приборы расположились впереди лётчиков — на приборных досках, они по бокам — захватили всё свободное пространство на бортах, забрались даже на потолок кабины.
Не скрою, такое нашествие «помощников» меня даже смущает. Как тут управиться со всеми, когда их все сразу увидеть и то невозможно.
Бортинженер показывает щиток на потолке. В нём гнездятся зелёные и синие лампочки. Это щиток автомата, следящего за расходом топлива в полёте. Разноцветные лампочки докладывают лётчикам, когда автомат переключает топливные баки. Автомат этот подсчитывает расход горючего и всё время строго следит за остатком топлива. Экипаж полностью освобождён от этой хлопотливой и ответственной работы.
У щитка автоматического пожарника красные глаза-лампочки. Если в полёте возникнет огонь, автомат немедленно доложит экипажу о месте пожара и самостоятельно ликвидирует пламя...
За всё время, пока мы беседовали с командиром воздушного корабля, второй пилот не прикоснулся к штурвалу. Он сидел, отвалясь к спинке кресла, и просматривал какой-то справочник в зелёном переплёте. Машиной управлял автоматавтопилот. Лётчики задали ему курс, приказали держать определённую высоту полёта, и прибор точно исполнял команду, бдительно следя за каждым, даже самым пустяковым отклонением машины...
Мы летели на юг. Где-то далеко внизу под нами уже лежали горы.
Кавказ — величественные снеговые вершины, орлы, парящие в поднебесье, тёмные ущелья; заглянешь — в тревоге сжимается сердце... Таким запоминается Кавказ туристу-пешеходу, человеку, шагающему по земле.
Мне случалось бывать в горах, и всегда вершины действовали на душу угнетающе, всегда думалось о ничтожестве человека, затерянного среди каменного величия скал...
Когда летишь над Кавказом на «Ту-104», чувства и мысли возникают совершенно противоположные.
Что там горные вершины и ледовые шапки — они же все плоские, чёрт возьми, когда смотришь на них с борта машины! Где там ниточка Военно-Грузинской дороги, её и не видно вовсе!.. «Да есть ли вообще на свете сила, способная противостоять силе создателя реактивных крыльев?..» — вот о чём думается над Кавказом.
Два часа прошли незаметно, до посадки оставалось совсем уже мало времени, каких-нибудь минут тридцать.
— Сейчас Тбилиси,— сказал бортинженер, давая мне понять, что пора покинуть пилотскую кабину,— считайте, что мы подарили вам два с половиной дня жизни! Чаще летайте на «Ту-104», и вы проживёте сто лет лишних!
Я даже не сразу понял неожиданную шутку инженера. Но он был совершенно прав, этот весёлый реактивщик. Поезд из Москвы до Тбилиси идёт пятьдесят девять часов, «Ту-104» летит два с половиной — экономия времени пятьдесят шесть часов тридцать минут, как раз двое с половиной суток.
Кстати, замечу попутно, что линия Москва — Тбилиси — одна из самых коротких внутренних линий «Ту-104». На трассе Москва — Хабаровск воздушный путешественник экономит около восьми суток, больше недели жизни!..
Снижение прошло почти так же незаметно, как и набор высоты, самолёт немножко поболтало, но это на самых последних минутах, когда мы приближались уже к земле (лети мы на трёх-четырёх тысячах метров, нам бы всю дорогу качаться вверх и вниз). Плавно, совсем неслышно чиркнули шасси по бетону, и всё — Тбилиси.
В моём распоряжении времени было в обрез, его едва хватило на то, чтобы съездить в город, купить грузинских конфет, пачку «Беломора» с маркой Тбилисской фабрики и десяток открыток с видами горы Давида, проспекта Шота Руставели и фуникулёра... Мне нужны были вещественные доказательства: я был уверен, что даже среди почитателей авиации найдутся люди, которые смогут в этот день вечером заподозрить меня, мягко выражаясь, в уклонении от истины. Вот для них-то я и купил грузинские сувениры...
Всё это происходило задолго до трансатлантического прыжка «Ту-104» из Москвы в Нью-Йорк, до нескольких его блистательных полётов на побитие мировых рекордов грузоподъёмности. Вероятно, теперь я мог бы обойтись и без вещественных доказательств — все уже привыкли к реактивным скоростям передвижения.
НОВОЕ СЕРДЦЕ
Стоит мне закрыть глаза и настроиться на лирическую волну воспоминаний, как перед мысленным взором одна за другой проносятся машины последнего двадцатипятилетия.
Совершенно отчётливо рисуется в памяти кабина истребителя «И-5», и кажется, будто это только вчера было,— руки чувствуют холодок пулемётных ручек на «И-15»... Очертания самолёта «Р-5» спорят по чёткости с контурами «УТ-1»...
И всё же перед тем, как начать эту главу, я внимательнейшим образом просмотрел пачку альбомов с изображениями самолётов, построенных за последние пятьдесят лет. Я проверял себя. И вот что бросалось в глаза. Все старые самолёты — самых первых лет постройки — резко отличались друг от друга: одни были многокрылыми, другие однокрылыми, на некоторых мотор устанавливался впереди лётчика, на иных — сзади, многие совершенно отчётливо вели свою родословную от коробчатого воздушного змея, а какието были сродни птицам. Но постепенно, по мере того как авиация становилась взрослее, самолёты, созданные различными конструкторами в разных странах, делались всё более и более похожими друг на друга.
Стоит взглянуть на машины военного времени, как сразу же замечаешь: «Мессершмитт109» очень походит на истребитель «Яковлев», «ФоккеВульф» — на «Лавочкина».
Почему?
Да очень просто. Разными путями конструкторы шли к одной цели — лучшая форма фюзеляжа напоминает ткацкое веретено. Заострённое, обтекаемое, это тело даёт самое маленькое воздушное сопротивление. Десятилетия инженеры искали эту форму, а когда в предвоенные годы наконец нашли, сразу же уцепились за неё. Улучшать веретено было просто некуда...
Борясь с вредным сопротивлением машин в полёте, все конструкторы стараются крылья делать покороче и потоньше. Постепенно все одномоторные самолёты, если смотреть на них снизу, становятся похожими на знак «плюс»...
Много общего можно обнаружить и в размещении и в устройстве моторов. Но не будем задерживаться на отдельных подробностях, хочу, чтоб был понятен общий смысл: к концу войны всем авиационным конструкторам было совершенно ясно — старые самолётные схемы дожили свой век. Улучшать их больше невозможно, так же как невозможно увеличивать мощность поршневых моторов. Моторы и так разрослись непомерно, они уже «съедали» самолёты.
Но жизнь никогда не останавливается; некуда улучшать аэродинамические формы самолётов, нет средств для увеличения мощности поршневых моторов — значит, надо находить новые, совершенно оригинальные типы самолётов, дать машинам новые, во много раз более мощные сердца!..
И, как бы подтверждая этот вывод, в последние дни войны в дымном обречённом небе Берлина мигнул и исчез первый боевой реактивный самолёт — это был истребитель «Мессершмитт-262».
Очертаниями «Мессершмитт-262» — небольшая, лишённая привычного винта машина — напоминал окурок толстой сигары; его толкали вперёд вылетавшие из реактивных двигателей горячие газы; в воздухе за ним оставался чёрный дымный след...
Чтобы понять принцип устройства реактивного самолёта, придётся вспомнить такой школьный опыт. На лёгкой тележке устанавливают пробирку. Под ней зажигают спиртовку. Вода в пробирке закипает, и пар с силой вырывается наружу. Пар летит в одну сторону, а тележка откатывается в другую. Это и есть самый простой реактивный двигатель!
В основе своей «Мессерщмитт-262» ничем не отличается от такой реактивной тележки. Конечно, двигатели его были устроены гораздо сложнее, и вылетал из них не пар, а горячий газ, и мощностью они обладали во много-много раз большей, чем пробирка, но всё это технические подробности.
Теперь, когда время рассекретило многие военные тайны, я могу смело сказать, что немцы были не самыми хитрыми и не самыми первыми реактивщиками на земле.
Предвидя неизбежность крушения старой авиации, проделавшей огромный путь развития, успешно работали над улучшением своих первых реактивных двигателей «Нин» и «Дервент» англичане, в глубокой тайне трудились американцы, основательно отставшие в ту пору от своих европейских коллег. И у нас, тогда об этом знали немногие, ещё 15 мая 1942 года лётчик-испытатель капитан Григорий Бахчиванджи поднял в весеннее небо реактивный самолёт конструкции профессора В. Ф. Болоховитинова.
Но разве реактивное движение такая уж новость, разве люди открыли его только во время войны?
Конечно нет. Ещё шесть тысяч лет назад китайцы запускали в небо праздничные и боевые ракеты. Реактивные корабли проектировал гениальный К. Э. Циолковский, давно предсказавшии, что за эрой аэропланов винтовых придёт эра аэропланов реактивных. Почти сто лет назад составил чертежи реактивного двигателя народоволец Н. И. Кибальчич. Наконец; наши знаменитые фронтовые «Катюши» были основаны на принципе использования реактивных сил.
Так почему же реактивный двигатель на самолёте появился так поздно?
«Всякому овощу своё время» — говорит народная мудрость. Чтобы реактивные двигатели заняли главенствующее место в авиации, надо было, во-первых, до конца пройти хорошо разведанный старый путь — путь поршневых моторов, и, во-вторых, основательно подготовиться к новой дороге.
Реактивным двигателям нужны были самые жаростойкие сплавы — нормальная температура в этих машинах приближается к 1200 градусам (обычная сталь начинает плавиться при такой жаре).
Реактивным двигателям нужны были самые прочные материалы: двигатели эти дают двенадцать — четырнадцать тысяч оборотов в минуту (мотор автомобиля «Москвич» не развивает больше трёх с половиной тысяч оборотов в минуту).
Реактивные двигатели можно было создавать только на современных заводах из самых совершенных материалов, с помощью самого нового оборудования.
Вот почему между желанием и возможностью построить реактивный самолёт пролегла такая большая дистанция.
Удивляться здесь, впрочем, не приходится. Ты читал роман Жюля Верна «Робур Завоеватель»? Помнишь, как знаменитый фантаст во всех подробностях описал в нём устройство вертолёта и как он пророчески мудро предсказал победу авиации над воздухоплаванием?
Человеческая мечта всегда обгоняет время.
Нужны были долгие годы и усилия тысяч учёных, инженеров, рабочих, чтобы первый реактивный двигатель победно загудел над аэродромом.
Когда речь заходит о рождении воздушной техники, я всегда вспоминаю 3 августа 1947 года.
В этот день на ярко украшенном Тушинском аэродроме в Москве состоялось очередное празднование Дня авиации. В небе, как обычно, пилотировали спортивные машины, кружились планёры, пролетали соединения истребителей и бомбардировщиков. Но вот на какое-то время аэродром притих, будто замер, и вдруг над стартовой дорожкой пронеслась стремительная, как снаряд, машина. Над центром лётного поля самолёт энергичным броском вонзился в небо. Люди не сразу поняли, что произошло. Но в тот самый момент, когда реактивный истребитель опрокинулся на спину и все поняли — лётчик начал выполнять фигуры высшего пилотажа,— над аэродромом прошелестело могучее, ни с чем не сравнимое «Ах!»
Аплодисментов не было слышно — они потонули в басовитом гуле реактивного двигателя.
Лётчик пилотировал с дерзкой уверенностью, его машина вычерчивала фигуру за фигурой, он работал энергично, броско, на совершенно немыслимых скоростях. Казалось, небо в этот день стало выше — так велик был размах качавшегося над землёй самолёта. Истребитель исчез так же неожиданно, как и появился.
Но следом за первым самолётом на Тушино врывается группа машин. Храня лучшие традиции воздушных парадов, звено летит в тесном строю, чуть не вплотную сомкнув крыло с крылом. И уже не одиночка-истребитель, а тройка повторяет стремительный фигурный каскад.
Когда лётчик с земли наблюдает за пилотажем и видит, как резко снижается на фигурах самолёт, он всегда нервничает. Тут уж ничего с собой не поделаешь. Помню отчётливо, как у меня холодели пальцы на руках, когда звено реактивных истребителей отвесно, со свистом пикировало на центр аэродрома. Всё время мне хотелось крикнуть: «Хватит! Ребята, хватит!»
Тогда я ещё не летал на реактивном самолёте и, как многие неискушённые люди, был искренне убеждён, что новая техника недоступна обыкновенным лётчикам. Казалось, на этих машинах могут пилотировать только о собенные люди.
Однако прошло очень немного времени, и мне самому пришлось принять реактивное крещение. Вот как это произошло.
На границе лётного поля меня ждал дымчато-серый реактивный истребитель «Як-17». Компактная машина уверенно опиралась на широко расставленные трёхколёсные шасси. Машина уже на земле занимала положение горизонтального полёта. Из-за этого, когда лётчик садился в кабину, возникало довольно странное ощущение — вместо привычного более или менее длинного самолётного носа сквозь лобовое стекло был виден противоположный конец аэродрома — казалось, уже летишь.
Накануне этого памятного дня я сдал теоретические зачёты и получил от нашего командира отряда лётчика-испытателя Леонида Ивановича Тарощина официальное разрешение на вылет. Теперь мне оставалось только надеть парашют, запустить двигатель и взлететь. Но ноги почему-то не очень спешили подниматься в кабину, и я всё время повторял про себя порядок действий на взлёте...
Впрочем, через пять минут выяснилось, что повторение было совершенно излишним — мой «Як» взлетел раньше, чем я вспомнил, что надо делать после того, как самолёт трогается с места. Придя на этом основании к выводу, что взлёт не сложен, я убрал шасси, осмотрелся по сторонам и, бросив взгляд на приборы, убедился, что высота у меня не четыреста, а восемьсот метров.
С избытком высоты я справился сравнительно быстро. Труднее было отделаться от лишней скорости. Всю жизнь я привык сначала слышать, а потом, став инструктором, повторять: «Не
теряй скорость! Потерял пять километров... Скорость мала!» А тут скорость была велика, и я никак не мог сбросить сто пятьдесят километров в час. Они были лишними, эти полтораста километров!
На пилотаже самолёт мне понравился — он был очень чуток к рулям и с лёгкостью выполнял сложные фигуры, которые на поршневом истребителе требовали большого внимания и высокой точности движений.
Мощь реактивного двигателя особенно отчётливо ощущалась во время выполнения фигур высшего пилотажа. В зоне машина великолепно брала высоту и долго не теряла скорости на вертикальной горке...
Позже мне приходилось летать на многих других, значительно более совершенных реактивных самолётах, с лучшими лётными показателями, с более мощными двигателями, но такого навязчивого избытка скорости, как на «Як-17», я уже никогда не испытывал — вероятно, привык.
Реактивные самолёты более поздних конструкций оставили далеко позади «Як-17», резко изменился и облик новых самолётов — фюзеляжи их стали длиннее и тоньше, кончики крыльев оттянулись назад, как перья на стрелах. Во много раз возросла мощь двигателей, хотя сами они стали меньше и запрятались глубоко в фюзеляжи.
В воздухе новые машины — сама скорость, свистящая, стонущая, опережающая звук...
«Скорость!.. Это мечта каждого лётчика»,— писал когдато Чкалов. Тысяча километров в час было его заветной мечтой.
Каждый раз, когда мне на память приходят эти вдохновенные чкаловские слова, я вспоминаю об одной из своих встреч с известным нашим авиаконструктором дважды Героем Социалистического Труда Семёном Алексеевичем Лавочкиным.
...За окном лил дождь, лил упорно, несколько часов подряд, казалось, что в небе скоро не останется воздуха — всё было забито тучами и звонкими полосами дождя. В такую погоду плохо летать и хорошо беседовать.
— Авиация сегодняшнего дня — это прежде всего автоматика,— говорил Семён Алексеевич.— Там, где речь идёт о больших скоростях, нельзя оставлять лётчика один на один с машиной. Дело в том, что на больших скоростях даже самый сильный лётчик, попросту говоря, не сумеет свернуть с места даже самый маленький руль. Нагрузки на оперение с ростом скорости увеличиваются прогрессивно...
В этот день Семён Алексеевич рассказывал много интересного, нового, но внимание моё не отрывалось от неоднократно повторённых слов: «Большие скорости».
Я попросил конструктора точнее определить, как он
подразделяет современные скорости полёта, какие именно относит к категории малых и какие к категории больших скоростей.
Собеседник на минуту задумался, потом сказал:
— Прежде всего надо выяснить, с каких позиций мы будем оценивать скорость. Если с точки зрения техники — это одно дело, если с точки зрения человеческих ощущений — совсем другое. Вы понимаете, о чём я говорю? Летательный снаряд без пилота имеет одни возможности — это голая техника, а скоростной самолёт — другие. Тут главное человек, его ощущения в полёте. Скорости в пилотной и беспилотной авиации несоизмеримы.
Я сказал Семёну Алексеевичу, что меня интересуют прежде всего те скорости, что испытывает человек.
— Ну что ж, очень хорошо. Можете записать так: «Малые скорости — это что-нибудь около тысячи километров в час, средние --тысяча пятьсот, большие — две тысячи и очень большие порядка трёх тысяч километров в час».
Записывая эти цифры, я невольно подумал: в какое удивительное время мы живём! Лётчики давно уже считают реактивную авиацию обыкновенной, хотя ей всего-то от роду немногим больше десяти лет, конструкторы с тысячекилометровой скоростью обращаются почти фамильярно — это этап пройденный...
И, может быть, именно потому, что развитие авиации идёт так стремительно, мы очень часто просто не успеваем отдать должное тем, кто покоряет эти удивительные скорости, тем, кто кропотливым ежедневным трудом завоёвывает новые сотни километров скорости, новые тысячи километров дальности, новые десятки тонн полётного веса.
Когда ты каждый день делаешь своё дело, Алёша, ты невольно разучиваешься удивляться.
Наверное, те люди, что ночи напролёт сидели над проектами искусственного спутника Земли, те, что сделали десятки открытий и миллионы расчётов, прежде чем взошла в небе Московская Луна, не очень удивились её старту — это была их работа. Вот почему я думаю, что иногда бывает полезно приостановиться на своём пути, сделать маленькую паузу, постоять, подумать, оглядеться вокруг, и тогда, оценив окружающее, легче бывает продолжать подъём...
Семён Алексеевич Лавочкин помог мне как-то по-новому оценить скорости наших полётов, по-новому подумать о них. Чтобы всё было ясно, надо назвать время нашей встречи — это было осенью 1954 года.
Сегодня тысяча километров в час и подавно малая скорость.
А всё началось с нового сердца машины — с реактивного двигателя. Реактивные двигатели внесли в авиацию совершенно новые, неслыханные прежде режимы полёта. И очень многим кажется, что условия труда лётчиков стали невероятно трудными. Но это далеко не так, и вот почему: многое в технике пилотирования реактивных самолётов облегчилось — например, проще стал взлёт.
На «трехколеске» не надо в начале разбега отдавать от себя ручку управления — зачем поднимать хвост самолёта, когда он уже заранее поднят? Дал газ — жди: нарастёт скорость до нормальной, машина сама оторвётся от земли, ей надо только чуточку помочь — слегка подобрать на себя ручку...
И фигуры высшего пилотажа на реактивном самолёте выполнять тоже проще.
Начать с того, что на самолёте без винта и правые и левые фигуры получаются совершенно одинаково — это большое облегчение лётчику: ведь на старых машинах всегда приходилось брать поправку на влияние винта. Чтобы понять, что такое влияние винта, раскрути велосипедное колесо и попробуй накренить его. Ты почувствуешь, как колесо с силой вырывается из рук.
Самолётный винт, когда машина меняет направление полёта, действует примерно так же...
Настроение и самочувствие во время полёта на реактивном самолёте лучше, чем на поршневой машине.
В герметической кабине — тишина (звукоизоляция действует исключительно надёжно), и с реактивным двигателем гораздо меньше работы, и на приборы можно реже заглядывать: если что-нибудь не так, автоматические сигнализаторы сами дадут знать.
Так что ж это получается: на реактивном самолёте, выходит, летать легче, проще и к тому же приятнее?
Именно так!
Единственное осложнение, которое возникает на больших скоростях,— думать в таком полёте надо быстрее, решения принимать мгновенно и всё время помнить о бегущей стрелке секундомера.
В новом темпе живёт лётчик реактивной авиации, и это действительно сложно.
Ты, конечно, понимаешь, что теперь и «Ту-104» не самое последнее слово техники, есть самолёты, летающие и быстрее, и дальше, и выше. Каждый день приносит новые достижения. И какую бы цифру максимальной скорости полёта я здесь ни назвал — и две и три тысячи километров в час,— я рискую ошибиться.
Пока эта книжка будет обсуждаться в издательстве, редактироваться, печататься и путешествовать к тебе, нет сомнения, что самая новая машина и самый последний рекорд скорости успеют устареть.
Однажды так уже случилось. В 1957 году мы с летчикомиспытателем Героем Советского Союза полковником Дмитрием Васильевичем Зюзиным написали маленькую книжечку о самолёте «Ту-104». Пока рукопись превратилась в первый типографский оттиск, конструкторское бюро дважды Героя Социалистического Труда академика Андрея Николаевича Туполева успело построить и «Ту-104А», и «Ту-110», и гигантский транспортный корабль «Ту-114»...
Наученный этим «горьким» опытом, я не буду называть ни самой последней машины, ни самой большой опубликованной в печати скорости и следующую главу отведу не самой большой, а одной постоянной, но особенной скорости — скорости распространения звука.
ТРИСТА СОРОК МЕТРОВ В СЕКУНДУ
Вряд ли мне надо объяснять тебе, Алёша, что такое звук. Когда ты отстукиваешь палкой по перекладинам соседского забора, или, заложив пальцы в рот, свистишь на всю улицу лихим Соловьём-разбойником, или просто мяукаешь котом — всё это по-житейски, без привлечения дополнительных научных данных и называется звуком (разумеется, более или менее приятным).
Но, если мы заглянем с тобой в учебник физики, то окажется, что к звуковым явлениям относятся не только такие, которые обязательно воспринимаются человеческим ухом. Например, зажатая одним концом в тисках металлическая пластинка, колеблясь, распространяет во все стороны звуковые волны. Слышим мы при этом что-нибудь или ничего не слышим — всё равно волны от пластинки отлетают. Как же так — звук, и вдруг мы его не слышим? Дело в том, что человеческое ухо устроено, как радиоприёмник, оно принимает звуки только в определённом диапазоне. Если тебя интересуют точные цифры, я охотно приведу их здесь: человек слышит от двадцати до двадцати тысяч колебаний в секунду.
Но оттого, что мы с тобой не можем воспринимать другие частоты колебаний (не дано нам природой), эти другие звуки, более высокие и более низкие, не перестают существовать на свете. Как ни странно на первый взгляд, но в мире гораздо больше неслышимых, чем слышимых звуков...
Чтобы тебе легче было представить, как распространяется звуковая волна, сделай такой несложный опыт: привяжи к вбитому в стенку гвоздю или к дверной ручке один конец верёвки, а другой — возьми в руку и равномерно качни его вверх и вниз. По верёвке побежит проворная гривка. Это и есть модель волны. Она очень похожа на звуковую: возмущение в ней передаётся всё дальше и дальше от источника колебания (от твоей руки), но сама верёвка из руки не вырывается.
Со звуковыми волнами получается примерно так же: воздушные возмущения передаются от источника звука во все стороны, а сам воздух остаётся неподвижным.
Сколько ни звони в звонок, ветер от этого не поднимается. Вероятно, всё, что я тебе только что рассказал, более или менее понятно. Но вот вопрос: какое отношение могут иметь звук, волны, колебания к нашему авиационному делу?
Что от летающих самолётов шума много, так это и без объяснений каждому известно!
Чуточку терпения.
Звуковые волны, отлетающие от школьного звонка, имеют вполне определённую, давно и точно измеренную скорость; она равна трёмстам сорока метрам в секунду. И что ты ни делай со звонком, усиливай или ослабляй ток, регулируй как угодно зазор прерывателя, всё равно, пока звонок звонит, скорость эта не изменится.
Теперь призови себе в помощники воображение и представь на минуту, что обыкновенный школьный звонок приобрёл вдруг способность летать так же свободно, как самолёт. Что произойдёт со звонком в воздухе на разных скоростях полёта?
Пока звонок летит медленно, не быстрее трёхсот сорока метров в секунду, от него будут убегать во все стороны предупредительные звуковые сигналы, причём впереди звонка они будут несколько сгущаться, очень незначительно уплотняя воздух.
(Когда звонок никуда не летал, а спокойно вызванивал свои трели на школьной стене, волны от него распространялись во все стороны одинаково.)
Чем быстрее полетит наш необыкновенный звонок, тем сильнее будет уплотняться впереди него воздух и тем ближе будет подступать звонок к возмущённой зоне; и в тот момент, когда скорость полёта сравняется со скоростью распространения звука, звонок догонит «стенку» уплотнённого воздуха.
Сравнительно недавно эту «стенку» считали непреодолимым барьером, тем самым «звуковым барьером», о существований которого ты, наверное, уже слышал.
А теперь — забудем о звонке.
Ведь летящий самолёт — сам по себе источник звуковых колебаний. И тут уж не надо призывать на помощь фантазию, чтобы представить себе крылатую машину, летящую со скоростью 340 метров в секунду, это всего 1240 километров в час.
Самолёты, первыми догнавшие в полёте скорость звука, столкнулись со многими неожиданностями. Поначалу неожиданности эти были неприятными, часто трагическими. Вот почему за короткий срок, за каких-нибудь полтора — два года, «звуковой барьер» приобрёл широкую и мрачную известность.
Сначала было так.
Лётчик-испытатель разгонял самолёт. Тоненькая стрелочка указателя скорости отходила всё дальше и дальше вправо. Двигатель ревел на самых больших оборотах. Наконец стрелочка замедляла своё движение, она уже больше не скользила по шкале, а еле-еле ползла — вот-вот остановится, и тогда машина достигнет своего предела, выйдет на максимальную скорость полёта.
Но, если не хватает мощности двигателя, в распоряжении лётчика остаётся ещё одно средство для разгона самолёта — можно использовать снижение машины.
Санки разгоняются на спуске с горы, самолёт — в пикировании.
Лётчик осторожно отклонял ручку управления от себя. И стрелочка указателя скорости делала ещё один маленький шажок вперёд, а потом происходило нечто непонятное, страшное. Машина вдруг выходила из повиновения пилота, она начинала самопроизвольно увеличивать угол снижения, рули управления каменели...
С земли видели, как самолёт неожиданно резко валился вниз, как ещё в воздухе он рассыпался на составные части. Потом чаще всего бывал взрыв.
И всё...
Строили новый самолёт, делали его прочнее погибшего и снова испытывали на скорости, близкой к скорости распространения звука. Новую машину постигала столь же трагическая участь, что и предыдущую...
Так было во многих странах, много раз.
Но лётчики-испытатели, невзирая на неудачи, упорно штурмовали «звуковой барьер», они были настоящими героями, отлично понимая, с каким «огнём» играют, не отказывались от опытов, сознательно рисковали жизнью, чтобы пробить людям дорогу в зазвуковые области полёта.
Всё происходившее поначалу на скоростях полёта, близких к скорости распространения звука, было загадкой. Каждое сведение о том, как отклоняются рули, как ведёт себя машина на этом рубеже, малейший намёк на тряску — представляли собой ценнейший материал для учёных. Этот материал добывали испытатели.
Труд этих мужественных людей не пропал даром. Даже неудачные экспериментальные полёты, после которых иной раз оставались только обломки самопишущих приборов, помогали разгадать тайну «звукового барьера».
Крупицы бесценного, собранного в первых полётах опыта изучались с величайшим вниманием.
Все аэродинамические лаборатории на свете, все авиационные научно-исследовательские институты Земли бились над разгадкой тайны «звукового барьера».
Люди срочно построили специальные аэродинамические трубы, модели скоростных машин подвергались в них воздействию сумасшедших скоростей воздушного потока. Модели эти не летали— напротив, на них налетал утроенной силы ураган, рождённый сверхмощными вентиляторами. Но от этого ничего не изменялось — самолёт и воздух вступали во взаимодействие так же, как в самом настоящем полёте. Учёные получали возможность измерять аэродинамические силы, исследовать характер обтекания модели воздушным вихрем.
Постепенно картина начала проясняться, и наука смогла дать лётчикам первые рекомендации, чего им следует опасаться в полётах, каких положений машины избегать. С этого дня число удачных полётов резко возросло. И, наконец, пришло время, когда учёные смогли не только сказать, как остерегаться коварства «звукового барьера», но и как преодолеть его.
На этом этапе развития авиации родилась новая наука — аэродинамика больших скоростей. Удивительные вещи открыла она: на определённых скоростях полёта резко изменяются свойства несущих плоскостей самолётов, выходят из строя обычные рули, нарушаются все старые представления об устойчивости и управляемости самолёта...
Постепенно учёные разгадали все тайны скоростных полётов, и тогда «барьер» сдался. На воздушных праздниках лётчики стали салютовать не артиллерийскими залпами, а аэродинамическими «взрывами», сопутствующими преодолению скорости звука...
Врачи обычно говорят, что не так уж трудно вылечить человека — труднее безошибочно распознать его болезнь, вовремя поставить правильный диагноз.
В тот день, когда науке удалось понять причины гибели первых реактивных самолётов, приблизившихся к скорости распространения звука, — половина дела была сделана.
Я уже говорил, что новые сверхскоростные самолёты получили новые очертания фюзеляжей и тонкие, далеко назад скошенные крылья. Это и был ответ науки на попытку «звукового барьера» остановить человека!
К тому времени, когда я получил твоё первое письмо, Алёша, пилотирование на больших скоростях оказалось уже достаточно исследованным и подробно освещённым во множестве новых учебников и инструкций.
Это очень облегчило мою работу — писать книжку помогал мне коллективный опыт скоростной реактивной авиации. Этот опыт даёт мне право уверенно сказать:
— В хорошее время задумал ты начинать путь лётчика»реактивщика»! Далёкие дали ждут тебя, дорогой! Очень далёкие — ведь сегодня тысяча километров в час уже не считается большой скоростью. И то, что для нас совсем недавно казалось рекордным достижением, будет, вероятно, скоростью твоей учебной машины.
Признаться откровенно — завидую я тебе. И чем больше думаю о твоём будущем, тем чаще пытаюсь ответить на вопрос: что же изменилось в нашей лётной профессии за самые последние «реактивные» годы?
Самолёты наших дней стали прежде всего значительно «образованней». Нынешний реактивный тяжёлый корабль в сравнении с дальним бомбардировщиком военного времени выглядит словно профессор рядом с молодым лаборантом...
Посмотри на изображение этой пилотской кабины (кстати, она принадлежит самолёту не самой последней марки) и подумай, какими же качествами должен обладать человек, собирающийся в «реактивщики»?..
Мы уже беседовали с тобой о лётчиках и шофёрах и решили, что лётчик отличается от водителя автомашины прежде всего более острой реакцией. Лётчик точнее реагирует на изменения окружающей обстановки, быстрее принимает необходимые решения.
Все эти качества достигаются у пилота за счёт большой тренировки, за счёт постоянного воспитания характера, ежедневной закалки воли.
И всё же на одной только тренировке нельзя ехать бесконечно.
Современные скорости полёта столь велики, что «приборы», от рождения данные человеку природой,— его глаза, его нервная система — просто не успевают срабатывать.
Представь себе: два реактивных истребителя летят на встречных курсах. У одного скорость тысяча двести километров в час и у другого такая же. Это значит, что машины сближаются в каждую минуту на сорок километров!
Самая большая дистанция в воздухе, на которой лётчик может невооружённым глазом заметить истребитель противника, ненамного превышает два километра.
Выходит, что с того момента, как пилот обнаружит врага, и до того момента, как самолёты, летящие навстречу друг другу, разминутся, пройдёт в лучшем случае три секунды! Что говорить — невелик срок!
Трудно лётчику за это время принять соответствующее обстановке решение, подготовиться к его выполнению и не потерять из виду противника... Так трудно, что почти невозможно.
Сверхзвуковые скорости полёта заставили конструкторов создать много новых приборов, сигнальных устройств, вспомогательного оборудования. Без надёжных помощников-автоматов лётчики просто не смогли бы дальше справляться со своими обязанностями.
Чтобы жить в дружбе со всеми электрическими «советчиками», «радиоинформаторами», механическими «заместителями» и электронными «помощниками», даже опытному лётчику, даже старому воздушному волку не мешает почаще заглядывать в науку...
ПОМОЩНИКИ ЗА РАБОТОЙ
На протяжении всей многовековой истории человек постоянно, упорно, настойчиво ищет пути для облегчения своего труда. И не так это просто сказать, чему больше радовались люди — первой водяной мельнице или первому атомному реактору... Совершенствуя и безостановочно создавая новую технику, люди всё меньше и меньше удивляются творению собственных рук. Мы привыкаем к улучшениям, мы воспринимаем их как должное, мы настолько освоились, например, с тесным окружением огромной, прямо-таки неисчислимой армии самых разнообразных приборов, что перестаём порой даже замечать, как много значат для нас неодушевлённые осведомители, регистраторы — словом, помощники...
Представь себе на минутку такую невероятную картину: в двенадцать ноль-ноль некоторого числа некоторого месяца текущего года одновременно на всей земле останавливаются все приборы.
Что произойдёт тогда? Об этом даже страшно подумать...
Остановись приборы, и немедленно начнут сходить с рельсов поезда — выйдет из строя автоблокировка, замрут автоматические стрелки. В недоумении будут разводить руками сбитые с толку врачи — попробуй поставить диагноз, когда даже температура больного не известна. Не смогут закончиться футбольные встречи — когда подавать свисток на перерыв, ведь секундомеры тоже перестанут тикать. Начнут загораться обмотки электромоторов, а тоненькие стрелочки отказавших вольтметров даже не колыхнутся...
Остановись в наши дни приборы на земле, и вся жизнь пойдёт кувырком! Изобретённые пытливым умом человека, построенные его сообразительными руками, эти тонкие и точные устройства забрали очень большую власть под свои чувствительные стрелки.
В этой книге ты уже видел изображение самолётных кабин и имеешь некоторое представление о числе приборов-помощников, сопровождающих лётчика в полёте. Велико это число и расти продолжает беспрерывно.
Двадцать с лишним лет назад с приборной доски учебного самолёта подмигивали мне девять циферблатов. (Тогда, к слову сказать, мне казалось, что приборов много, и я всё время беспокоился — как бы не спутать стрелки.)
На современном тяжёлом транспортном самолёте приборы считают уже не десятками, а сотнями! Так что нечего и пытаться рассказать здесь обо в с е х помощниках командира воздушного корабля. На первый взгляд кажется, что проще всего отобрать наиболее ответственные приборы, так сказать приборы-генералы, и рассказать о них.
Но это решение не самое лучшее, и вот почему — каждое устройство, допущенное на самолёт, для чего-то нужно, и кто возьмёт на себя смелость утверждать, что компас, указывающий лётчику курс, «главнее» высотомера или что радиостанция, с помощью которой экипаж поддерживает связь с другими летящими самолётами и с землёй, «важнее» бензочасов, учитывающих расход топлива в полёте?..
Нет, я лично не берусь присваивать самолётным приборам никаких «званий», пусть все они числятся рядовыми великой армии точной механики. А мы с тобой пойдём, пожалуй, по другому пути — не от приборов к полёту, а от полёта к приборам. Я расскажу тебе о трудных полётах и о той помощи, которую в них оказывают приборы лётчикам.
Ночь. Проливной дождь ожесточённо сечёт небо. Чернота такая сильнющая, что кажется, мир кончается в пяти сантиметрах за прозрачным фонарём кабины. Даже собственные навигационные огни, сияющие красным и зелёным огоньками на кончиках крыльев, представляются светящими чуть ли не из другой звёздной системы.
Как в такой кромешной темноте лётчику найти дорогу домой, как быстрее и надёжнее пробиться к родному аэродрому?
Щёлкает переключатель радиокомпаса, и через минуту-другую приводная радиостанция мелодично выпевает условный сигнал на заданной волне.
«Ти-та, ти-та-ти-ти; ти-та, ти-та-ти-ти» — без устали повторяет, на пример, морзянка. Это значит: «АЛ», «АЛ». И превращаются такие обыкновенные буквы звукового алфавита в самую прекрасную музыку на свете. «АЛ» — голос дома. «АЛ» — призыв своей приводной станции. Слышишь его и понимаешь, что за твоим полётом следят друзья, что тебя ждут на аэродроме, что никто не уйдёт с лётного поля, какой бы дождь ни заливал землю, пока ты не приземлишься на своей посадочной полосе и не доложишь командиру: «Посадку произвёл. Всё в порядке»...
Ещё раз щёлкает переключатель, теперь позывные исчезают, но зато на циферблате радиокомпаса приходит в движение стрелочка. Для неё приводная станция всё равно, что северный полюс для магнитной стрелки: куда ни повернёшь самолёт, стрелочка радиокомпаса покажет на работающий радиопривод.
Оживает стрелочка радиокомпаса, и кажется, будто вокруг светлеет. Дом впереди — стрелочка выведет из любой черноты, из любого дождища. На неё, маленькую, можно смело надеяться, она безотказная, она умница...
Но выйти в расположение своего аэродрома в такую погоду это ещё не всё — надо пробиться к земле, вниз. Ведь обыкновенному высотомеру можно доверять только с оглядкой: он отмеряет высоту полёта не над той местностью, где ты пролетаешь в данный момент, а над тем аэродромом, с которого ты стартовал. А если внизу гора?
Но и на этот случай у пилота есть надёжный помощник. И снова спасение в радиоприборе.
Радиовысотомер по твоей команде отправит вниз луч, который, отразившись от поверхности земли, возвратится на самолёт. За время «падения» и обратного «прыжка» луча пройдёт ничтожно малое время, и всё же прибор сумеет замерить его с величайшей точностью и, помножив на скорость распространения радиоволны, на триста тысяч километров в секунду, выдать на циферблате «готовое» точное расстояние до земли в метрах. Это высота без обмана — чистая высота!
Сегодня, когда радио заняло на самолёте такое прочное и, я бы сказал, такое почётное место, мне невольно вспоминается одна занятная история.
В наш истребительный полк прислали несколько комплектов первых радиотелефонных станций. Аппаратуру привёз инженер. Высокий, очень худой человек, он мог часами рассказывать о великом будущем радио.
Инженер монтировал рации на самолётах и проводил с нами теоретические занятия. Сначала нам, естественно, предстояло овладеть радиотехникой на земле. Но вся беда заключалась в том, что учебной станции в полку не было и постигать всю премудрость нового дела нам приходилось, как говорится, на пальцах. Прикасаться к рациям, предназначавшимся для боевых машин, инженер не давал.
— Это для полёта,— сухо говорил он, когда кто-нибудь всё же пытался покрутить ручку настройки.
Наконец наступил день первого радиофицированного полёта. На высоте тысяча метров я включил приёмник и твёрдыми замёрзшими пальцами осторожно взялся за ручку настройки. Сначала в наушниках что-то жалостно пискнуло, потом вдалеке защёлкал соловей. Казалось, что соловей летит ко мне — щёлканье приближалось, становилось всё громче. Очень скоро я уже забыл о нежной птичке — в наушники рвался грохот, равный по меньшей мере грохоту танковой атаки... Потом вдруг на секунду наступила совершеннейшая тишина в эфире, и я отчётливо услышал голос своего командира эскадрильи: «Марс-65, если слышишь, покачай». Не веря собственному счастью, я качнул самолёт с крыла на крыло. Мне повезло — упражнение на установление связи с землёй считалось с этой секунды выполненным. Я ведь принял приказ земли!..
Теперь даже трудно поверить, что так могло быть какихнибудь два с половиной десятка лет назад, но так было, и я ничего не выдумал в этом эпизоде, решительно ничего.
Сегодня вспоминаю и улыбаюсь. Смешно! Конечно, смешно, когда в наши дни невозможно себе представить ни одного даже самого простого полёта без радиосвязи. А тогда не до смеху было, ведь случалось и такое от разгневанного командира эскадрильи услышать: «Если не перестанешь безобразничать на посадках, заставлю летать с радиоприёмником! Будешь тогда знать!..»
Радио, прижившись в авиации, не только до невероятия обострило слух лётчика, не только сделало его глазастым, как сова в ночи,— радио намного повысило безопасность полёта, превратило нелётную погоду в лётную.
Особенно большую роль в этом деле сыграл радиолокатор. Сначала это был наземный прибор. В войну он использовался для обнаружения самолётов противника. В основе своей радиолокатор, или радар — так называли его раньше, близок радиовысотомеру. Волна, излучаемая передатчиком локатора, ищет в небе противника, находит, «отталкивается» от него и, возвращаясь домой — в приёмник, докладывает оператору, где находится самолёт-цель, какой на него курс и сколько километров отделяют врага от станции.
Локаторы, включённые в систему противовоздушной обороны, очень помогали во время войны истребителям.
И только одна причина не давала поставить этот умный и очень важный для пилота прибор на борт самолёта — чтобы разместить электро— и радиооборудование передвижного локаторного пункта, требовалось самое малое — две автомашины.
Теперь это уже почти историческое прошлое. Бортовой локатор давно стал надёжным помощником командира корабля. И не думай, что бортовой локатор нужен лишь в военное время. Ведь этот прибор умеет не только заблаговременно обнаруживать появление противника, он предупреждает о приближении к грозовому фронту, прекрасно предохраняет самолёты от столкновений в облаках, в дожде, в ночи. Словом, помогает во всех случаях, когда плохо или совсем ничего не видно вокруг. Локатор позволяет приземляться в самую отвратительную погоду. С ним ты можешь не видеть мокрой полосы посадочного бетона до тех пор, пока колёса твоего самолёта не коснутся земли, и даже на такой трудной посадке не случится ничего неприятного.
Локатор сделал лётчиков сверхзрячими.
Но не только радио и локация отвоёвывают себе всё новые и новые места в самолётных кабинах. По лёгким лесенкам — трапам — в штурманские рубки поднимаются уже счетнорешающие автоматы.
Один из самых интересных приборов этой группы — автомат-путепрокладчик. В течение всего полёта, видна или не видна земля — неважно, он следит за местностью, над которой совершается полёт, и наносит на карту линию фактического пути своего самолёта.
С таким помощником захочешь — не заблудишься!
И всё же, как ни хороши, как ни совершенны приборы, о которых я только что рассказал, но и они уже не последнее слово техники. У самых новых приборов появилась весьма приметная черта характера, они стремятся не только измерять те или иные величины, не только предупреждать лётчика о приближении
опасности, но и активно вмешиваться в действия человека. Приборы становятся всё самостоятельнее, всё взрослее.
Несколько лет назад мне довелось полетать с новым тогда прибором, предупреждавшим лётчика о приближении опасных режимов.
Сначала я разгонял самолёт до значительной скорости и переводил машину в крутую горку, при этом старался «забыть» о скорости. Машина довольно быстро замедляла движение, но, как только дальнейшая потеря скорости становилась опасной и начинала грозить потерей управляемости, в наушниках шлемофона раздавался предупредительный гудок. «Осторожно! — извещал он.— Дальше упадёшь!»...
Так же чётко действовал прибор на пикировании. Только теперь сигнал включался в тот момент, когда скорость самолёта приближалась к максимальной.
Особенно же хорошо работал прибор на виражах. С ним ты мог смело увеличивать крен и вращение машины, нисколько не опасаясь перестараться и свалиться в штопор. Пока гудки были прерывистыми (как в телефоне, когда нужный номер занят), самолёт оставался устойчивым и послушным рулям. Прибор помогал держаться на самом пределе, на гребне безопасности. И весь фокус пилотирования заключался в том, чтобы, увеличивая вращение машины, не дать слиться двум коротким предупредительным сигналам в один длинный. Для этого не надо было даже мельком заглядывать на приборную доску — самолёт отлично 'пилотировался на слух.
Прибор подвергся в своё время интересным испытаниям. На лётное поле выводили два совершенно одинаковых самолёта, на одну из машин устанавливали прибор, предупреждавший о приближении опасных режимов полёта, на другую — не устанавливали. Лётчиков выбирали одинаково, сильных — мастеров воздушного боя. Задание им давалось простое: свободный воздушный бой на средней высоте. Выполнялось несколько полётов, причём после каждой схватки пилоты менялись машинами.
Побеждал всегда тот лётчик, который летал на машине с прибором. Иначе не случилось ни разу. К тому же победы на самолёте с прибором давались сравнительно легко, хотя в обычных условиях «противники» были вполне достойны друг друга. Собственно говоря, бои начисто выигрывал прибор, ведь это он позволял своему пилоту держаться на самых предельных режимах, работать на таком «чуть-чуть», какого «противник», лишённый умного помощника, уже не чувствовал, хотя и был знаменитейшим асом.
В ту пору, когда проводились эти испытания, прибор казался очень хорошим, но теперь он уже устарел. Однако идея конструкции не погибла. На её основе можно построить ещё более образованного помощника пилота. Молодой «наследник» не станет поднимать шум даже из-за грубой ошибки лётчика, он не будет подавать ни длинных, ни коротких предупредительных сигналов, а просто в тот момент, когда режим полёта приблизится к опасному и будет грозить пилоту неприятностями, отдаст специальной рулевой машинке команду, и машинка эта очень деликатно и в то же время очень решительно исправит неверные действия человека.
Когда-то штурманы дальней авиации производили все воздушные расчёты на бумажке с участием одного-единственного помощника — карандаша; потом на помощь им пришли нехитрые ветрочёты, позволившие быстрее складывать скорости ветра с самолётными скоростями, определять снос машины ветром и уточнять курс; позже появились специальные навигационные линейки, освободившие лётчиков не только от умножения, деления и извлечения корней, но и от многих вспомогательных действий с таблицами и диаграммами. Уточнять высоту, скорость полёта, готовить данные для бомбометания и воздушной стрельбы стало ещё проще...
Было время, когда лётчик не мог ни на минуту оторвать рук от штурвала или ручки управления, когда самая пустяковая неточность в движении рулями грозила серьёзными осложнениями. Потом появились на рулях управления маленькие подвижные придатки — триммера. С их помощью пилот получал возможность уменьшать нагрузку на рули управления. Отклоняя нужный триммер, он добивался такого режима полёта, когда машину никуда не кренило, не заворачивало. Больше того, лётчик мог теперь так «настраивать» рули, что самолёт сам стремился набирать высоту или, наоборот, снижаться. Пилотировать на машинах с триммерами стало сразу гораздо легче. А когда удалось создать автопилоты — первые рулевые машины, по-настоящему развязавшие руки лётчикам,— летать стало ещё проще. Автопилоты могли долго и точно сохранять нужный режим полёта, вести самолёт по курсу, разворачивать его на необходимое число градусов, снижать машину с заданной скоростью, в заданном направлении.
Казалось, о чём ещё мечтать? Люди научились летать лучше птиц. Условия погоды, невозможные для таких отличных летунов, как голуби или стрижи, стали обыденными для молодых лётчиков.
Достигнут предел?
Совершено уже всё, о чём веками мечтали самые смелые, самые дерзновенные представители человечества?
Но мечтам нет предела. И в тот день, когда ты перестанешь удивляться чему-то новому, хорошему — будь то коньки-»бегаши» или локационный автоматический прицел,— ты начнёшь думать и мечтать о лучшем. На то ты и Человек — хозяин земли и неба!
Эти мудрые слова народной поговорки применимы к любой области жизни, но в авиации, мне кажется, им легче, чем где-либо, найти подтверждение.
Дописав эту строчку, я остановился, чтобы перечитать законченную страницу. И в этот самый момент радио передало самое удивительное из всех, когда-либо слышанных сообщений: «Сегодня, 4 октября, в Советском Союзе запущен искусственный спутник Земли»...
Можно ли более убедительно подтвердить только что высказанную мысль? Робкие шаги первых летающих реактивных машин, совсем недавно казавшихся нам пределом человеческих возможностей, и долгожданный бросок в мировое пространство!
Спутник Земли — Московская Луна — развивает скорость двадцать восемь тысяч километров в час. До девятисот километров поднялся потолок летательного аппарата.
— Что это: чудо? Сказка? Фантазия?
Нет, конечно, и теперь это всем ясно — за первым прорывом в космос последовал, как известно, второй и третий, и, наконец, по дороге, проторённой автоматическими конструкциями, ушёл с Земли космонавт номер 1, а следом и космонавт номер 2...
Но спутники и космические ракеты — это уже не авиация, а космонавтика, и я не берусь вторгаться в чужую для меня область. Замечу только, что и Юрий Алексеевич Гагарин и Герман Степанович Титов начинали свою жизнь в небе — лётчиками. Их первыми машинами были «Як-18».
ВСЕ КНИГИ КОНЧАЮТСЯ
Каждая книжка должна иметь конец. Письма — другое дело: их можно писать всю жизнь. А раз книжка — значит, соблюдай порядок. Приходит и мой срок заканчивать наш откровенный разговор о высоких и трудных воздушных путях, о взлётах обычных и необыкновенных, о геройстве и малодушии, о машинах и приборах, о делах праздничных и событиях печальных — словом, наш длинный разговор о большом, беспокойном, рабочем небе...
Всё ли я рассказал? Конечно, нет. И совсем не потому, что считал: Алёшке подрасти ещё надо.
Когда я решил написать эту книжку, сел сочинять план — так меня давно в лётной школе приучили: без плана ни шагу. Сочинял я свой план довольно долго, и, когда закончил работу, казалось, что ничего не забыто, всё предусмотрено.
Начал писать. Сперва труд мой подвигался в строгом соответствии с планом, все пункты находили своё место — один за другим, и у меня было такое ощущение, что безоблачная погода продержится до самой посадки, то есть до самой последней точки.
Но вот на столе зазвонил телефон, и я услышал в трубке далёкий голос моего школьного товарища, известного летчикаиспытателя Юрия Тимофеевича Алашеева:
— Хорошие новости, старина! Надо бы встретиться.
В город Алашеев приехал прямо с аэродрома, весёлый, растрёпанный.
— Поздравь. Подняли нынче новую машину. Как дальше полёты пойдут, загадывать рано, но начало получается правильное. Это такая машина — мировое событие! Улавливаешь?
Речь шла о транспортном реактивном корабле «Ту-104».
И в план ворвалась первая поправка.
Да, Алёша, рассказ об этой замечательной машине сначала не был запланирован. И, конечно же, не потому, что я хотел скрыть существование такого удивительного воздушного корабля. Просто, когда составлялся план, «Ту-104» ещё не существовало.
Через несколько дней я встретился с другим авиационником. И что же? Новая встреча — новая поправка к плану.
— Если ты собираешься сэкономить место за счёт рассказа о приборах, то это будет с твоей стороны величайшей глупостью! Имей в виду, что будущее — за управляемыми ракетами. А что такое межконтинентальная баллистическая ракета? Большой двигатель, маленькая начинка и очень точные приборы. Поверь мне — будущее принадлежит приборам! Я ж всетаки доктор технических наук. И вообще, заворачивай-ка лучше своего Алёшу на инженерный факультет. Вот что я советую...
Доктор наук внёс сомнение в мою душу. В его словах многое было преувеличено (он увлекающийся человек!), но что верно, то верно: приборы в авиации делаются всё более и более значительной силой. Дней пять я колебался — так не хотелось ломать план, но нельзя же держаться за букву, как слепой за стену,— и я ещё раз поправил свои предварительные намётки.
А время шло, и о моей работе над книжкой узнали другие друзья-авиаторы. Каждый хотел помочь добрым советом.
И так как друзья мои очень разные люди, то за короткий срок выяснилось, что мне необходимо в первую очередь познакомить моего приятеля Алёшу и его товарищей, берущих курс в «реактивщики», со следующими наиважнейшими вещами:
с основами метеорологии и правилами чтения синоптических карт;
с устройством катапультного сиденья;
с конструкцией авиационных скафандров, поднимающих «потолок» лётчиков;
со схемой интереснейших летательных машин — конвертопланов;
с таблицей мировых рекордов, зарегистрированных в ФАИ;
с правилами приёма в авиационные училища и программой вступительных испытаний;
с главными рекомендациями авиационной медицины, бдительно охраняющей здоровье лётного состава;
с проектом новой формы одежды в Военно-Воздушных Силах;
с биографиями лучших лётчиков;
с перечнем авиационной литературы, вышедшей за последний год;
с адресом Московского Дома авиации, где наглядно показана вся история наших крыльев...
Время идёт, и список поправок и дополнений к плану продолжает увеличиваться.
Вносит коррективы и сама жизнь. За время работы над книгой в авиации неоднократно меняются различные рекордные достижения; пресса сообщает о полёте туполевской машины в Америку; Аэрофлот ставит на пассажирские линии первые вертолёты; сдаются в эксплуатацию новые воздушные корабли «Ан-10», «Ил-18», «Ту-114», а несколько позже в небо выходят «Ан-24» и «Ту-124»...
Сначала всё это очень тревожит и обескураживает меня.
Но в какой-то день я решаю, что обо всех сложностях я честно расскажу тебе в последней главе, и на душе делается сразу спокойнее.
Ты же разумный человек и, конечно, понимаешь и видишь, как быстро течёт, да какое там течёт — несётся наше время. Никаких сверхзвуковых скоростей не хватит, чтобы обогнать его, никаких рук не придумать, чтобы объять всё!..
О многом рассказал я тебе, Алёша, рассказал без прикрас, как самому хорошему другу, как своему сменщику, и, если б не один случайный разговор, свидетелем которого мне пришлось быть, тут бы я, наверное, и кончил книжку, от всего сердца пожелав тебе долгих, высоких, дальних и безаварийных полётов.
Шли вчера по московской улице Горького двое: совсем ещё юный лётчик (шинель только что от портного, пуговицы новенькие — горят, складки на брюках — не дай бог зацепиться: порежешься) и девушка, тоже совсем молоденькая, курносенькая, по всем признакам — задира; шли дружно, в ногу, плечом к плечу. И разговор между ними был примерно такой:
— Невезучий ты, Миша, прямо жуть. Учился, учился, а теперь получается зря — без вашего брата скоро запросто обходиться будут?
— Не говорила бы лучше, чего не понимаешь. Лётчик, милая моя, такая профессия, такая, понимаешь, квалификация, такое дело...
-...что ракеты великолепно без вас обходятся. Слушай, Мишенька, а, если авиацию твою совсем закроют, ты шофёром сможешь?
— Ну, вот что: разыгрывать меня нечего. Самолёты пока ещё не отменены. Ясно?
— Но ракета всё-таки лучше, правда, Миша?..
Они свернули в переулок, преследовать их было неудобно, и чем закончился этот серьёзный разговор — не знаю.
Однако и услышанного было достаточно, чтобы задуматься.
Задиристые замечания славной с вида девчушки и солидные ответы её спутника, молодого пилота, не скрывали нешуточной тревоги.
А не приходит ли на самом деле конец авиации? Может быть, самолёты уже отработали своё? Не пора ли им уступить небо автоматически управляемым ракетам? Кому будет принадлежать завтрашний день — только ли космонавтам?..
Самолёт не уничтожил в своё время автомобиля, хотя и заставил его значительно «подтянуться» — увеличить скорость, повысить экономичность, стать общедоступным. Думаю, что и воздушные дороги ещё на долгое время останутся за самолётами (так же как шоссе остались за автомобилями). Что же касается межпланетных трасс — там, действительно, самолётам делать нечего, туда им дорога закрыта. Это область ракет.
О разговоре на улице Горького я для того рассказал напоследок, чтобы предостеречь тебя, Алёша, от ошибки. Пусть даже тень сомнения не омрачит твоего правильного, твёрдого и, на мой взгляд, самого лучшего решения — идти в «реактивщики».
Желаю тебе успехов, Алёша!
Будь стойким, и тогда ты очень скоро услышишь в наушниках своего шлемофона: «Вам — взлёт, Гуров!»
Крепко жму руку, дорогой. Жду от тебя новых писем.
Я буду очень рад, если к Алёшиным письмам прибавятся весточки других «реактивщиков» — моих незнакомых пока, но очень желанных друзей. Я непременно отвечу вам и постараюсь это сделать быстро, подробно и обязательно откровенно.
Твой
P.S. — ПОСТСКРИПТУМ
Постскриптум значит: приписка после письма. Обычно этот коротенький значок «P. S.» появляется ниже подписи автора, когда человек вдруг вспоминает, что он забыл известить своего корреспондента о чём-то важном. Но в данном случае знак «P. S.» появился не столько по моей рассеянности, сколько благодаря любознательности читателей.
За три года, что прошли со времени выхода в свет первого издания книги, я получил много писем.
Мои новые знакомые и друзья задают самые разнообразные вопросы, требуют разъяснений и дополнений. Должен признаться, что ребята обнаружили в книге и некоторые погрешности.
Ошибки, подмеченные зоркими глазами друзей-»реактивщиков», в новом издании исправлены.
В этой главе-приписке я отвечу на три главных, чаще всего встречающихся в письмах вопроса:
1. Кого принимают в аэроклубы?
2. Чем отличаются друг от друга ЖРД, ПВРД, ТРД, ТВД и ТВРД?
3. Что читать будущим лётчикам?
И ещё мне хочется воспользоваться случаем и коротко поделиться с ребятами мыслями, возникшими при знакомстве с читательскими письмами.
КОГО ПРИНИМАЮТ В АЭРОКЛУБ?
В аэроклуб принимают юношей 17--18 лет. Кандидат в лётчики должен иметь или заканчивать среднее образование. Многие ребята спрашивают: а обязательны ли одиннадцатилетка или техникум? Нельзя ли обойтись классами семью-восемью? Нельзя. Новая авиационная техника вобрала в себя самые выдающиеся достижения многих наук: механики, радиоэлектроники, физики, химии... И чтобы стать настоящим лётчиком, предварительное среднее образование — необходимый минимум.
Тому, кто собирается стать пилотом, надо быть обязательно здоровым, хорошо физически развитым человеком. Представление о физической подготовке лётчика у ребят очень разное. Одни думают, что в авиацию берут только выдающихся здоровяков, этаких кандидатов в мировые рекордсмены по гиревому спорту; другие считают, что недостаточная острота зрения, или некоторое ослабление слуха — чепуха и лётной работе не помешают. И те и другие ошибаются. Обучают полётам только с ов е р ш е н н о здоровых, обычных, я бы сказал, нормальных людей.
Кстати, из писем ребят выяснилось, что не все корреспонденты ясно себе представляют, кого готовят в аэроклубах. Парашютисты, планеристы, пилоты, познакомившиеся с небом в аэроклубе,— это ещё не п р о ф е с с и о н а л ы. Аэроклубы приобщают своих питомцев к воздушному спорту, профессиональных же авиаторов обучают в специальных училищах Гражданского Воздушного Флота и Военно-Воздушных Сил.
Почему же все лётчики начинают свой путь в аэроклубах?
Потому, что аэроклуб помогает человеку выявить свои лётные способности или убедиться в том, что их нет, и тогда отказаться от мысли стать авиатором.
Потому, что аэроклуб даёт человеку возможность узнать, что такое небо на практике, а не по книгам и увлекательным кинофильмам.
Потому, наконец, что аэроклуб с достаточной точностью определяет: нужен ли авиации, принесёт ли родному небу настоящую пользу тот или иной молодой человек, претендующий на высокое звание наследника Чкалова...
Будущему авиатору не миновать дверей аэроклуба, да и нет смысла пытаться их миновать.
Маленький практический совет: аэроклубы подчинены Добровольному Обществу Содействия Авиации, Армии, Флоту. Все уточнения условий приёма, справки о начале занятий и иные подробности можно получить в комитетах ДОСААФ. Комитеты эти непременно существуют в каждом городе, районе, области.
ЖРД, ПВРД, ТРД, ТВД и ТВРД
Чтобы разобраться в родственных связях, подчинении и зависимости пёстрого семейства реактивных двигателей, начнём со школьной доски.
Нарисуем вот такую фигуру. Это схематическое изображение камеры сгорания.
Если в эту камеру подать горючее и окислитель (известно, что без кислорода никакое топливо гореть не может) и создать условия, при которых воздушная смесь воспламенится, в камере начнёт резко повышаться температура и давление. Из сопла станут вырываться струи горячего газа, и в камере, точнее в двигателе, возникнет реактивная тяга. (Вспомни рисунок на стр. 184). Такая конструкция реактивного двигателя получила название ЖРД — жидкостный реактивный двигатель.
Этот двигатель имеет много замечательных свойств: занимает мало места, может развивать огромную тягу, одинаково хорошо работает на любой высоте, но вместе с тем у ЖРД есть и существеннейший недостаток. Для него нужно возить с собой окислитель! Это сложно и даже обидно: для чего возить кислород с собой, когда в воздухе его и так полно.
Известно, чтобы сжечь один килограмм топлива, надо ввести в него пятнадцать килограммов воздуха. Много? Много. А нельзя ли извлечь кислород из окружающей двигатель среды?
Задавшись такой целью, конструкторы заключили камеры сгорания в трубу. В обыкновенную, открытую с двух концов трубу. Идея была такова: при движении машины воздух будет засасываться с переднего конца. И в камере сгорания образуется горючая смесь (при условии, что воздуха будет поступать достаточно). Стоит теперь воспламенить эту смесь, и горячие струи газа, вырываясь через заднее сопло, образуют реактивную тягу. Как говорится, что и требовалось доказать!
Всем хороша схема ПВРД — прямоточного воздушно-реактивного двигателя — и вес невелик, и конструктивно ПВРД прост, и много других плюсов, одна беда: для того чтобы двигатель заработал, ему надо придать значительную начальную скорость. Для чего? Иначе в камеры сгорания воздух не поступит, или его поступит слишком мало. А если не хватит воздуха — горения не будет.
Придать двигателю значительную начальную скорость сложно. И тогда возникла новая мысль: а не попробовать ли разогнать воздух? Да-да, разогнать воздух и подать его в камеру сгорания принудительно. Мысль показалась заманчивой. Чем только разогнать воздух? Проще всего компрессором. Нарисуем схему. Всё ясно? Компрессор, вращаясь на больших оборотах, подаёт к камерам сгорания столько воздуха, сколько необходимо для надёжного устойчивого горения топлива, а дальше всё происходит так, как в ЖРД или ПВРД. Но тут возникает новый вопрос: а чем вращать компрессор? Думали, ломали голову, решили: для этого можно занять часть будущей реактивной тяги, которая возникает в струе газов, выходящих из двигателя. Поставили в газовый поток турбину, связали её осью с компрессором. Так родилась схема ТРД — турбореактивного двигателя. Эта схема нашла самое широкое применение во всех родах авиации, в разных странах, на всех континентах.
В наши дни около трёх четвертей всех авиационных двигателей в мире — турбореактивные.
И всё-таки эта надёжная, прочно прижившаяся в авиации схема не единственная.
Так, на транспортных самолётах широко применяются турбовинтовые двигатели — ТВД. В сокращённом названии двигателя вместо «Р» появилось «В», но вот что кроется за этой «маленькой» заменой.
ТВД конструктивно очень похож на ТРД, однако значительная часть мощности турбины расходуется на вращение не только компрессора, но и воздушного винта.
Да! Снова винт. Чего же достигли конструкторы, возвратив самолёту старый, видавший виды воздушный винт? Во-первых, увеличили тягу на малых скоростях полёта. А это сразу же улучшило взлётные качества машины. Во-вторых, снизили расход горючего. В-третьих, дали в руки лётчика мощнейшее средство для торможения — управляемые винты. (Важное подспорье при посадке на малых аэродромах!) У ТВД есть и другие плюсы.
А недостатки? Недостатки тоже есть.
ТВД выгодно использовать на скоростях полёта, не превышающих 800 километров в час. (Вот почему «ТУ-104» держит на маршруте скорость 900--1000 километров в час, а «ИЛ-18» — 600--650).
«Что же это такое? — возмутится неискушённый человек.— Сплошные преимущества и сплошные недостатки? С одной стороны — хорошо, а с другой — плохо...» Да, именно так — в авиации, как и во всей жизни, хорошее и плохое всегда соседствуют, борются, соперничают друг с другом. И умение выбрать лучшее решение для определённых, конкретных условий (будь то машина или целое производство) — сложнейшая задача.
Позднее в авиации появилась ещё одна схема реактивного двигателя. ТВРД — турбовентиляторный реактивный двигатель. Иначе эту машину называют двухконтурным ТРД. Этот двигатель представляет собой комбинацию ТВД и ТРД.
Как ты, вероятно, уже догадался, возвращение винта в авиацию, хотя оно и было обдуманным, не радовало конструкторов. И тогда они постарались заменить винт вентилятором. Ясно, что размеры у вентилятора меньше и сопротивление не такое, как у винта.
Не очень уменьшая преимущества ТВД, ТВРД заметно скрадывает недостатки своего предшественника.
Надеюсь, что теперь, разобравшись в схемах реактивных двигателей, ты не скажешь: «Все машины хороши, выбирай на вкус!»
В большой технике, в серьёзном деле, где конструктору приходится без конца мирить сотни «за» и сотни «против», это так просто не делается. О вкусе приходится забыть. Забыть начисто.
Надо строго учитывать условия, в которых будет работать самолёт, тщательно обдумывать самые маленькие, самые ничтожные мелочи. И только после этого решать, какому двигателю отдавать предпочтение.
Вероятно, ты и сам уже понял, что на самолёт-истребитель — машину стремительную, высотную — никто ТВД ставить не станет. Не будут вооружать ЖРД и пассажирский корабль (каждому ясно, что транспортный самолёт должен возить людей, а не воздух)...
ЧТО ЧИТАТЬ?
Предупреждаю сразу: рассказать даже о тысячной доле вышедших в свет авиационных книг не могу. Литературы, посвящённой устройству самолётов и моторов, рассказывающей о жизни и боевых делах наших лётчиков, достижениях штурманского искусства, высотной подготовке и многих других интересных делах, столько, что даже простое перечисление названий заняло бы больше места, чем ушло на всю книгу.
Те несколько произведений, которые будут здесь рекомендованы, наиболее доступны для начинающих авиаторов, некоторые из них — мои любимые книги. Да, выбраны книги пристрастно, и этого я не собираюсь скрывать.
Обязательно прочти «Крылья Родины» Льва Ивановича Гумилевского. Эта книга введёт тебя в историю авиации. Ты узнаешь и поймёшь, как родившаяся в глубине веков мечта о полёте обрела плоть. Как первые схемы летательных аппаратов переводились с бумаги в дерево и полотно, а позже — в сталь и дюралюминий. Как набирали высоту и скорость полёта люди, ещё совсем недавно, каких-нибудь семьдесят лет назад, яростно завидовавшие птицам...
«Крылья Родины» — стремительная книга. Перевернув 380 её страниц, ты проживёшь десять жизней! Ты повстречаешься с множеством замечательных людей — нашими предшественниками и нашими современниками, с учёными, конструкторами, лётчиками.
Советую познакомиться и с «Рассказами авиаконструктора» Александра Сергеевича Яковлева. Эта книга о жизни человека, начавшего свою авиационную деятельность в школьном кружке. Модель, планёр, спортивный самолёт, грозные боевые машины — вот путь, который прошёл автор книги, бывший московский пионер, ныне Генеральный конструктор, дважды Герой Социалистического Труда.
Непременно найди книгу Антуана де Сент-Экзюпери «Земля людей». Экзюпери был лётчиком, писателем, замечательным человеком. Он погиб в боевом полёте во время второй мировой войны. Поверь мне: я прочёл много книг, посвящённых авиации, и могу смело сказать — пока ещё ни один автор не сумел рассказать о чувствах человека в полёте так, как это сделал Экзюпери. Прочти эту повесть, и пусть ты не всё в ней поймёшь — это совсем не детская книга,— не беда. Главное, ты почувствуешь и узнаешь, как должен любить настоящий лётчик наше большое и порой очень суровое небо.
Экзюпери поможет тебе узнать, о чём думает пилот в трудный час рискованного полёта.
Не так давно вышли отдельным изданием напечатанные до этого в журнале «Новый мир» записки Заслуженного летчикаиспытателя СССР Марка Лазаревича Галлая «Через невидимые барьеры».
Мне трудно писать об этой книге: всё время хочется говорить об авторе — замечательном Лётчике и Человеке (с большой буквы и Лётчик и Человек); хочется хвалиться личным, долголетним с ним знакомством, старой нержавеющей дружбой...
Уже на третьей странице эта книга введёт тебя в совершенно особый мир. В этом особом мире люди каждый день в течение всей своей жизни сдают экзамены. Тут нет преувеличения: каждый испытательный полёт — труднейший экзамен знаниям, мужеству, сообразительности, упорству, профессиональному мастерству пилота, носящего звание лётчик-испытатель.
Эта книга особенно хороша тем, что написана человеком, с блеском владеющим самолётной ручкой. Каждая мысль автора-лётчика проверена полётом, каждый факт взят из настоящей жизни, каждый совет подсказан личным опытом. Прочтёшь «Через невидимые барьеры» — поумнеешь.
О боевых делах наших лётчиков написано особенно много. Мне лично нравится простая, ясная, специально для ребят изданная книга трижды Героя Советского Союза Ивана Ники-
товича Кожедуба «Служу Родине». Из неё ты узнаешь, как может подняться обыкновенный паренёк до высот невероятного боевого мастерства.
Во время Великой Отечественной войны Кожедуб уничтожил 63 фашистских самолёта! Шестьдесят три — это ни мало ни много д в а боевых п о л к а! Познакомиться с таким человеком, заглянуть в его жизнь, прислушаться к его мыслям и советам — большое счастье. Конечно, эта книга не может полностью заменить личного знакомства, но она очень многое позволяет узнать и почувствовать.
Не знаю, удастся ли тебе найти в библиотеке книгу Николая Николаевича Боброва — «Чкалов». К сожалению, она давно не переиздавалась. Если найдёшь, прочти непременно.
В нашей авиации Валерию Павловичу Чкалову принадлежит особое место. Не думай, что Чкалов был «сверхлетчиком»; таких вообще не бывает. Среди близких товарищей Валерия Павловича можно найти мастеров, не уступавших, но даже превосходивших его профессиональным умением. Но трудно назвать пилота, который бы стоял вровень с Валерием Павловичем по своим человеческим качествам.
Самый знаменитый из советских лётчиков, Чкалов был самым скромным человеком. Чкалов, как никто, любил товарищей. Прямолинейный и часто даже грубоватый в обычной жизни, Чкалов был деликатным и нежным с другом, попавшим в беду...
Очень хорошо рассказал о Чкалове Николай Николаевич Бобров. По-моему, лучше всех, а пробовали это сделать многие.
Больше я ничего не стану говорить о книгах. Знаю — сказал мало, поэтому советую: научись пользоваться библиотечным каталогом и библиографическими справочниками. Они помогут тебе находить нужные книги — и не только по авиации — лучше, чем десять самых доброжелательных советчиков.
ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ
Теперь о письмах, приходящих от ребят. Пишут главным образом будущие «реактивщики», а в последний год к «реактивщикам» прибавились ещё и «космонавты».
Прежде всего: большое спасибо всем, всем, всем корреспондентам. Письмо — всегда радость. Но особенно я благодарен читателям за те письма, в которых было указано на недостатки моей работы. Эти откровенные весточки помогли мне в те дни, когда «Вам — взлёт!» готовился к переизданию.
Во многих письмах ребята задают вопросы, с книгой прямо не связанные, но сами по себе волнующие.
Коля С. из Костромы спрашивает: «Я очень рассеянный, как быть? Посоветуйте, дядя Толя, что мне с собой делать, а то же меня не возьмут в лётчики».
Виктор Ф. из уральского села пишет: «У меня один глаз видит совсем хорошо, а другой немного хуже, какие вы можете дать рекомендации?..»
Лёня С. с Крайнего Севера просит: «Срочно сообщите, что можно ли влюбиться в шестом классе или нельзя?»...
Эти письма мне тоже очень дороги — они живое свидетельство доверия, и отвечать на них я стараюсь как можно полней и обстоятельней, хотя порой это бывает очень трудно.
Действительно, как ответить человеку, страдающему дефектом зрения? Хочется ему помочь, но я же не врач. Приходится звонить друзьям-медикам по телефону, а пока рекомендовать не читать лёжа, следить за правильным освещением стола, есть сырую морковку.
Как бороться с рассеянностью? На этот вопрос мне ответить проще. Опираясь на опыт лётчика-инструктора, советую ребятам придумывать себе «контрольные вопросы» и отвечать на них, не прибегая к шпаргалке. Скажем так: пройди по главной улице города или посёлка, в котором ты живёшь, внимательно присматриваясь к домам, а потом попробуй начертить схему своего маршрута. Укажи, в каких зданиях расположены магазины, какие на них вывески, что в витринах и т. д. Или: погляди
на репродукцию картины, скажем, одну минуту, переверни открытку лицом вниз и выпиши на листке бумаги все предметы, которые ты запомнил. Список сравни с изображением...
Тем, у кого рассеянность проявляется больше всего при письме, кто вместо «порядок» пишет «прядок», вместо «лесная дорога» «левая драга», я рекомендую ежедневно (как физзарядку) переписывать из книги страничку-другую, тщательно проверяя себя по печатному тексту. Как сообщают ребята из разных концов страны, такая тренировка зря не пропадает. Примерно через месяц-полтора рассеянность начинает отступать, а через два-три месяца сдаётся на милость победителя. И тогда ошибки исчезают.
Но не все письма радуют.
Вася Т. из Винницы просит: «Напишите мне биографии лучших лётчиков СССР и историю развития авиации». А Вася Л. из Могилёва требует, чтобы я сообщил ему ни мало ни много — «основные сведения из метеорологии, главные вопросы штурманской подготовки, а также перечислил все рекорды, зарегистрированные в ФАИ»...
Вот тут уж приходится разводить руками!
Человек прожил на свете двенадцать, а то и все четырнадцать лет и хочет, чтобы ему рассказали в письме «всего лишь» историю авиации, или изложили содержание целой науки, или переписали толстую книгу официальных рекордов... И невольно хочется спросить у такого корреспондента: «Дорогой друг, а ты подумал, прежде чем задавать свои вопросы?»
Скажу откровенно: такие письма не только огорчают, но порой просто-таки возмущают. Почему? Ну, несерьёзность — пусть, куда ни шло, но ведь за несерьёзностью прячется пушистая, мурлыкающая, махровая лень. Всем известно, что за последние пятьдесят лет создана целая авиационная литература, регулярно издаются специальные журналы, газеты. Так, прежде чем садиться за письмо, пойди в библиотеку, поройся в книгах, подумай... А то один молодой человек умудрился написать следующее: «Сообщите мне, в какое учреждение обратиться, чтобы мне ответили на вопросы, заданные в конце вашей книги «Вам — взлёт!» Ну, как вам это нравится — человек хочет, чтобы за него думало учреждение?!.
На это письмо я не стал отвечать. И полагаю, что друзьячитатели не осудят меня.
Трудно бывает отвечать и на такие письма, когда в обратном адресе значится: «Узбекская ССР, ул. Карла Маркса, 4, Виктору...», а дальше следует такая закорючка, что разобрать её не удаётся даже при помощи лупы.
Или, как ответить на письмо, если на месте адреса отправителя написано: «Жду ответа, как соловей лета!!!»
Увы, подобные случаи не редкость.
Однажды я получил очень толковое, очень интересное письмо от паренька из Сибири. Адрес свой он не забыл указать, а вот имя и фамилию не написал ни в самом письме, ни на конверте.
Я всё же решил ответить. Правда, на конверте пришлось обозначить: «Самому рассеянному человеку вашего дома, интересующемуся авиацией...» Письмо дошло, об этом я узнал из Володиного ответа. Кстати, ответ был очень сердитый. Володя на меня обиделся. За что же? Во-первых, за то, что я долго не отвечал (шесть дней прошло), во-вторых, за то, что я написал ему мало (а чего было писать много, когда я совсем не был уверен, что «самый рассеянный человек» будет разыскан почтой?), в-третьих, за то, что мой ответ был напечатан на пишущей машинке (Володя посчитал это за проявление... бюрократизма!)... Потом мы, правда, «помирились» и вот уже два года обмениваемся дружескими письмами.
Обиделся на меня и другой читатель — Роман Л. из Киева. Он прислал мне письмо длиной в 34 строчки. При этом он умудрился сделать грубых орфографических ошибок — 19, мелких ошибок — 27, посадил на одном тетрадном листке 4 кляксы и оставил 6 отпечатков жирных пальцев.
Это письмо я отправил Роману обратно, подчеркнув все огрехи. Написал прямо, что стыдно ученику 8 (!) класса посылать такие письма, что лётчик из него никогда не выйдет, так как неряха, несобранный человек, а проще сказать разгильдяй
не сможет управиться со сложной авиационной техникой. К тому же мне пришлось сказать Роману, что он ещё и хвастун. Почему? Потому что, помимо всего прочего, он сообщил: «Учусь я по всем АснАвным прИдметам на хАрАшо и отлично...»
Роман мне не ответил. И, если говорить по совести, я не очень жалею об этом.
Вообще ребячьи письма заставляют иногда задуматься над смыслом всякой переписки.
Сначала приведу один пример.
Получаю открытку — незнакомая девушка просит сообщить ей адрес какого-нибудь лётчика — желает с ним переписываться. И ещё она хочет «обязательно получить фотографию известного писателя или киноартиста с автографом». На открытку я ответил, попросил объяснить, для чего ей нужен какой-нибудь авиатор, о чем она думает с ним переписываться, что собирается делать с фотографией знаменитого писателя или киноактёра.
Свою просьбу девушка объяснила так: «Письма и фотографию буду показывать всем подругам — пусть лопнут от зависти!»
Может быть, с моей стороны это было не очень хорошо, не знаю, но в ответ на такое «признание» я отправил корреспондентке фотографию Льва Николаевича Толстого, написав на обороте: «Самый знаменитый писатель земли русской, великий учитель умной жизни». Показывает ли девица эту открытку своим подругам, мне неизвестно, но хочу надеяться, что такой подарок заставил её хоть чуточку призадуматься над смыслом переписки...
О пользе переписки я думаю так: обмен письмами только тогда имеет смысл и только тогда приносит пользу, когда корреспонденты обогащают друг друга наблюдениями, мыслями, впечатлениями, а всякая иная почта — пустая трата времени.
Большинство писем, которые приходят от ребят, потому и приносят огромную радость, что с их помощью я узнаю много интересного, проникаю в мир чувств читателей, возвращаюсь в ребячий коллектив, из которого я, к сожалению, выбыл вот уже добрых двадцать пять лет назад...
Действительно, из маленького городка Бор мальчишка пишет мне о своей великой, самой большой в жизни радости. Что же случилось? Серёжка Ляпин — будущий «реактивщик», прокатился на самолёте — «АН-2»! Ещё бы, это радость, да какая! Человек попал на седьмое небо. Вы думаете, он купил билет и полетел пассажиром? Ничего подобного! Серёжа целый месяц помогал бортмеханику на полевой площадке сельскохозяйственной авиации и полётом был премирован!
Получишь такое письмо и радуешься целую неделю. Ну, как не радоваться за хорошего человека!
Или другой случай.
Украинские ребята сами построили планёр. Не модель, а настоящий учебный планёр. Присылают письмо, просят помочь им достать инструкцию по технике пилотирования. Для этих ребят не жалко бросить все дела, пробегать с утра до вечера по городу в поисках нужной книжки...
Понимаю, что этой главой я снова не ответил на все письма читателей. Но что ж делать: море невозможно вычерпать! Будем дружить, будем переписываться и впредь, и, если хоть кому-то хоть сколько-нибудь помогут мои письма, большей радости мне и не надо. А пока остаётся повторить: будьте стойкими, друзья, не отступайте. Придёт день, и вы обязательно услышите в наушниках своих шлемофонов: «Вам — взлёт!»
Желаю вам далёких, высоких, трудных и радостных дорог.
|