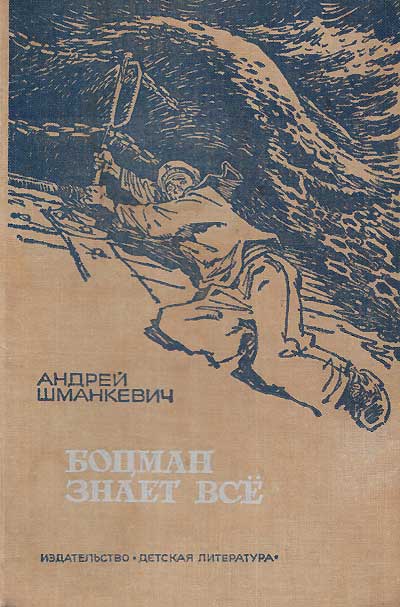О ПИСАТЕЛЕ АНДРЕЕ ШМАНКЕВИЧЕ
В давние-давние довоенные времена, когда я сам был мальчишкой, среди других книг попалась мне и такая: Андрей Шманкевич, «Кош на перевале». Рассказ. Книга мне понравилась, и я почему-то очень жалел, что ничего не знаю об этом писателе. А книжка запомнилась на всю жизнь, и даже обложка её, скромная, зеленоватая, и то, что она была издана в серии «Книга за книгой».
Так состоялось моё первое, заочное знакомство с писателем Андреем Павловичем Шманкевичем, и, конечно, тогда я не мог думать о том, что когда-то, вот сейчас, буду писать о нём. Тогда я не знал многого и, может быть, самого главного — что вскоре начнутся трудные годы войны с фашистами. И мог ли я предполагать, что после войны буду работать в редакции журнала «Затейник», где именно писатель Шманкевич Андрей Павлович будет заместителем главного редактора.
Кстати, может быть, нынешнему читателю этой книги будет любопытно узнать, что тогда работники детского журнала ходили в весьма необычной одежде: на Андрее Павловиче был морской китель, в котором он вернулся с войны, на мне — старые солдатские гимнастёрка и галифе, и даже наш главный редактор Василий Георгиевич Компанией носил офицерскую форму со следами снятых погон...
В те годы я и узнал автора знакомой мне довоенной книжки «Кош на перевале» Андрея Шманкевича, узнал его и как писателя и как человека очень трудной и интересной судьбы.
Как-то я попросил Андрея Павловича рассказать о себе.
— Родился я на Кубани, в станице Владимирской. Слышал? Детство было голодное, но интересное. С восьми лет работал, жил на самостоятельных хлебах. Матери не было, а отец воевал — сначала в первой мировой против немцев, потом на гражданской за Советскую власть. Я жил по чужим людям. Был и просто беспризорником.
В комсомол вступил с первых дней организации комсомола на Кубани, но по молодости лет потом был переведён в пионеры и уже из пионеров опять в комсомол. Такие были годы...
Вдвоём с приятелем-однопартником перешёл через Кавказские хребты на берега Чёрного моря. С тех пор и стал моря-
ком. Попробовал всё: посудник, матрос, кочегар, котельщик, слесарь, монтёр, качальщик на водолазном баркасе.
В двадцать восьмом году добровольцем ушёл на флот, в школу водолазов. Работал на Чёрном, Балтийском, Баренцевом, Белом морях. Поднимал ледокол «Садко». После несчастного случая под водой, поломавшего сердце, демобилизовался, но водолазом ещё работал на рыбных промыслах Каспия около Баку.
Довелось и в пограничных войсках поработать. Когда срок службы кончился, приехал в Москву учиться на артиста.
До самой войны работал в театре, сначала в Центральном детском, потом в Московском театре сатиры. На фронте был строевым командиром — командиром взвода. Обороняли Москву и гнали немцев от столицы. Наша бригада морской пехоты стала гвардейской. Однако немцы не дали повоевать — пробили голову.
После госпиталя меня направили на Амур в газету «Краснознамённый амурси,». Воевал и с японцами. Брал Харбин...
Писал для радио — две повести: «Партизанские подмастерья» и «Подарок Тома Сойера». Очень жалею, что они не были напочатаны и пропали. Много написал фронтовых рассказов для журнала «Красноармеец»...
В эту книжку, которая называется «Боцман знает всё», вошли лучшие рассказы писателя. И когда я прочитал эту книжку, то подумал, что не только «боцман знает всё», — писатель, который написал её, тоже знает много, потому что всё, о чём он пишет, он пережил и прошёл сам. Я завидую такому писателю.
Узнав о том, что Андрею Павловичу Шманкевичу исполняется шестьдесят лет, я не поверил этому.
Ну, а если это и так, то пусть писатель будет всегда молод, как сейчас, потому что мы, его читатели, ждём от него ещё немало новых книг — весёлых и грустных, умных и добрых, в общем, таких, какие нам очень нужны.
С. Баруздин
ГОРЬКИЕ КОНФЕТЫ
ы сидели с Борисом Белобрысом под плетнём и с наслаждением грызли морковку. Теперь я уже и не помню: была ли это фамилия — Белобрыс или Бориса так дразнили, потому что он был на самом деле белобрысым. Свидетели нашего пиршества — подсолнухи, кукуруза и широколистые лопухи — стояли молча вокруг и закрывали нас от посторонних взоров. Это было необходимо, так как морковку мы добыли не совсем честным путём. Борисова мать заставила его прополоть бурьян между грядок, но ничего не говорила о прореживании моркови. Это мы с ним сделали по собственному разумению.
— Когда ей просторно, она крупнее растёт, — уверял меня Борис. — Только ты матери не говори... Она страсть как не любит, когда мы самовольничаем на огороде. Вас, говорит, шестеро, и если каждый будет своевольничать, так осенью и собирать нечего будет... Ну да ничего, мы ведь только по маленькому пучочку...
Морковка была ещё мелкая и безвкусная, но я сказал:
— Как мёд...
— Ещё слащс... — не согласился Борис.
— Слаще мёду ничего на свете не бывает! — возразил я.
— Нет, бывает...
— Сахар?
Нет... Не сахар и не леденцы... — ответил Борис и загадочно усмехнулся.
Я начал называть подряд все известные мне в то время сладости.
— Арбуз? Дыня? Груши? Печёная тыква? Нет? Тогда ты просто всё выдумываешь... Нету ничего на сиете слаще мёду, — сказал я решительно.
Борис засмеялся и вдруг огорошил меня:
— А щиколад?
Тут мне пришлось пойти на попятную, и я сказал:
— Так ведь я про то говорю, что мы пробовали сами, а щиколад твой не знаем, как он и пахнет.
— А я знаю, как он пахнет и какой он, — неожиданно объявил мой приятель. — Знаешь, какой он, щи-колад-то? Чёрный и немножко красный. Вот такой! — -Борис схватил и сунул мне черепок от разбитого горшка. — А пахнет он так, что голова кругом идёт. С непривычки ежели...
Я не знал — верить мне или не верить. Сам я ещё ни разу шоколада не видал и представлял его не чёрным, а совсем наоборот, прозрачным, как льдинка, какой-то невероятной сладости, неведомого вкуса...
— Где ты его видел? — недоверчиво протянул я.
— У сладкой барыни, вот где... Ходили мы к ней весной с мамкой. Две десятины-то наши она купила, вот и ходили к ной просить, чтобы хоть исполу нам отдала нашу землю.
Как это — исполу?
— Пополам, значит... Мы будем пахать, сеять, убирать, а ей половину урожая...
— Так зачем же вы продавали? — возмутился я.
— Смотрите на него... Он не знает, зачем люди последний лохмот продают! Сколько нас? Семеро? Семеро... Есть нам что-нибудь надо было зимой? Папаня-то мой пошёл на войну с германцем да и... Вот потому и продали... А барыня не зевает, хапает.
Пришли мы к ней, — продолжал Борис, — сидим н ждём на порожках, когда сама выйдет. Сижу я и не понимаю — пахнет с её двора чем-то таким, что я не успеваю слюни глотать. Посмотрел в ш,ёлочку и вижу — стол огромный стоит под тутовником, а рядом печка. На печке тазище вот такой, как жар горит... За столом ребята сидят, чисто все одетые, по-празднич-ному... А сама барыня берёт что-то ложечкой из сундучков разных, из мешочков, на весах вешает на маленьких и всё в таз сыплет. И ещё пальцем по книжке водит... Я шепчу: «Маманя, колдует барыня...» А она: «Не колдует, а щиколады варит». — «Зачем?» — «Такая, говорит, у неё забава на старости сыскалась. Варит да на ребятах пробует... Может, почудней какой сварить хочет...»
— Ну и что? — поторапливаю я Бориса.
— Потом сняла она таз с печки, остывать поставила. Про нас и не думает... А как остыло — вывалила всё варево на стол и давай месить да раскатывать, вроде как на вареники... Ребят тоже заставила катать... Потом ножом порезала на кусочки и опять остывать поставила. А как остыли... — Борис даже глаза зажмурил, — как остыли, она и говорит ребятам-то: «Ешьте». А сама только махонький кусочек себе в рот положила, жуёт и голову то на один бок наклонит, то на другой...
— Ну, а ребята? Ребята что? — перебиваю я.
— А дурни какие-то попались... Съели по одной и сидят, вроде уже наелись... Мне бы довелось, так я... Но зато, когда барыня к нам подошла, началась потеха! Как набросились они на те щиколады в драку — кто больше в карманы напихает...
— Вот бы нам к сладкой барыне сходить! — сказал я мечтательно.
Борис захохотал и чуть, в крапиву не свалился.
— Да ты на себя сначала посмотри! — хохотал он. — Гость какой выискался! Штаны у него плисовые, пояс с золотым набором...
Остальную одежду Борис описывать не стал по той причине, что на мне, кроме холщовых домотканых штанов, подпоясанных обрывком верёвки, больше ничего не было.
— А руки, ноги-то! Одни цыпки... Отруби да собакам брось, есть не станут! А он туда же, к барыне в гости, щиколады есть...
— Сам же говоришь, что у неё ребята были...
— О! Ребята! Такие, как мы, что ли? Попов Лёшка, дьяконов Сашка, Колька да Серёжка лавочни-ковы и ещё аптекаря сын... Вот какие ребята к ней ходят. А ты носом не вышел! — крикнул Борис, дёрнул меня за нос и перемахнул через плетень.
— Всё равно пойду к ней! — крикнул я ему вслед.
На другой день я утащил свою единственную ситцевую рубашку и отправился в верхнюю часть станицы, за речку. Там жили все наши станичные богатеи. По дороге я часа полтора мыл на речке руки и ноги, даже песком их тёр, но отмыть цыпки было невозможно. Так ноги и остались в цыпках и мелких трещинках, забитых грязью. Ещё шагов за сто от барыниного
дома нос мой учуял такие необыкновенные запахи, что в животе появились колики. Я припустил бегом и припал к первой Же щёлке в заборе.
Борис не наврал. Всё было так, как он вчера описывал. И стол под тутовником, и печка с тазом, и ребята за столом, а барыня...
— Ты чей? — раздалось вдруг у меня над ухом.
В нашей станице, если тебе задавали такой вопрос
на чужом краю, означало только одно — быть тебе битому. Но тогда я не обратил никакого внимания на это и, не оборачиваясь, ответил:
— Ничейкин, вот чей!..
И тут же за это поплатился: чьи-то сильные руки схватили мою голову и так притиснули меня носом к забору,что я свету не взвидел.
— - Пусти! — заорал я.
Но тут случилось совсем страшное: гнилая доска лопнула, обломилась, и я полетел в пролом, прямо под ноги барыне. Барыня закричала дурным голосом, из-под стола на меня бросилось рыжее чудовище с оскаленной пастью. Затрещала моя рубаха...
Барыня отогнала собаку и начала расспрашивать, чей я, зачем попал на этот край. Я честно во всём сознался. Тогда она зацепила меня своим костлявым пальцем за подбородок, долго рассматривала моё лицо и сказала:
— Мужик, а похож на моего Александра... Теперь-то сын уже офицер... Садись!
Так я очутился за волшеб-ньщ столом, рядом с чистенькими ребятами. Впрочем, они сразу от меня отодвинулись, за исключением Лёньки, сына аптекаря. Тот даже подмигнул мне: не теряйся, дескать.
Потом на столе появился противень с конфетами, и барыня сказала мне: «Ешь». И я ел... Первый раз в жизни ел шоколадные конфеты, ел полным ртом, как печёную тыкву, как галушки, как простую картошку. Сначала рот мне обжигала сладость, потом вкус притупился, но я всё ел...
— Легче ты... Плохо будет... — шепнул мне Лёнька.
Когда барыня пошла зачем-то в дом, ребята бросились рассовывать конфеты по карманам. Лёнька крикнул мне: «Не зевай!» Но пока я понял, что надо делать, на противне осталось только две колбаски. Я засунул их в карман.
Барыня вернулась и протянула мне детскую матроску и новые шерстяные штанишки.
— Можешь приходить, — сказала она, выпроваживая нас за калитку.
Бориса я встретил в начале нашего переулка и молча сунул ему под нос конфету. У него глаза стали круглыми, как пятаки.
— Откуси, — сказал я великодушно. — Только из моих рук...
Борис откусил и зажмурился от удовольствия.
— Ладно... Бери всю. Я вон как налопался...
Но Борис не стал есть конфету: он решил поделить её на всех Белобрысов. Ножом он аккуратно разрезал её на семь кусочков, раздал братишкам и сестрёнкам, взял себе один, а последний протянул матери. Но она не взяла.
— Нет, сынок... Не буду я пробовать, — сказала она. — Горькие они, эти конфеты...
— Что ты, маманя! Сладкие-пресладкие, — начали уверять ребята.
— Нет. Горькие они... На слезах наших вдовьих они замешаны, потом нашим пропитаны... Кормильцы наши кровушку свою пролили, а она с вдов их да сирот последнюю рубашку снимает. Землицу, кормилицу, под себя загребает, по миру пускает с сумой...
Борисова мать говорила всё громче и громче, стиснув худые кулаки. Я смотрел на её чёрные губы, на впалые щёки, и мне становилось нестерпимо страшно...
— ...Сынок её Алексашка понаграбил денег в Питере около дворца царёва, а она на те деньги народ в гроб загоняет да щиколады себе варит. Будь она проклята! Чтоб ей слезами нашими захлебнуться!.. Отольются ей наши слёзы... Отольются!
Я выскочил из хаты и бросился бежать. Остановился я только у перелаза через наш плетень. В голове у меня стучало, точно в кузне, к горлу подкатывалась тошнота. В руке я зажимал конфету. От её запаха мне стало совсем плохо.
— Горькие они! Горькие! — закричал я, как Борисова мать, закрыл глаза и швырнул конфету так, чтобы уже не найти. Следом за ней швырнул и свёрток с матроской и штанами.
Наутро я метался в горячке — барское угош,ение не прошло даром. Говорили, что в бреду я кричал:
— Врёшь! Врёшь, старая ведьма! Не похож я на твоего Алексашку-кровопийцу...
САШКИНА ЗЕМЛЯ
ятый день ходили люди толпой за председателем ревкома и землемером по станичным полям. Свершалось революционное дело: земля, которой испокон веков на Кубани владели только казаки, теперь делилась на всех поровну — по количеству едоков.
Ходил в толпе и Сашка, сын почтового конюха. Он то и дело перевязывал узлы на верёвках, которыми были привязаны к ногам отцовские башмаки: размокший от дождей чернозём норовил сорвать их.
— Дождались светлого праздничка, смилостивился господь бог над нами... — истово крестясь, восторженно шептал дед Сивоусенко, Сашкин сосед.
— Держи, дед, карман шире, — подтрунивал над ним кузнец Симанюк. — Смилостивился бы он, кабы мы его вместе с царём да буржуями за бороду не схватили... А молитве я тебя новой научу. Слушай:
Весь мир насилья мы разрушим До основанья, а затем Мы наш, мы новый мир построим: Кто был ничем, тот станет всем!
Сашка перестал возиться с верёвками и подхватил припев.
— А, чтоб тебя! — отмахнулся дед. — И он уже по-новому поёт... Пу и времена!..
Ворчал дед Сивоусенко, но по глазам его Сашка видел, что по сердцу старику новые времена.
Техника раздела земли была несложная. Кто-нибудь запускал руку в мешок, вытаскивал скатанный в трубочку жребий и выкликал;
— Иваненко!
Председатель ревкома смотрел в список и объявлял:
— У Иваненко Макара Петровича четыре едока...
И вот Иваненко брался за конец стальной рулетки
и шёл за землемером по своей земле, отмерять надел, И сердце от волнения колотилось у Иваненко так, что стальная лента вздрагивала.
За пять дней исходил Сашка не один десяток вёрст. Разделили Макруху и Дальние Грушки, нарезали земли на низах, а Сашкин жребий всё не попадался.
— Не было? — спрашивал вечерами отец.
— Не было... — отвечал Сашка и вздыхал. — Да чего ты, папаня, боишься? Если наш жребий останется в мешке даже до самого последнего отмера, всё равно будет... Это тебе не старый режим!
— Так ведь где достанется-то? — волновался отец. — А ежели на Гнилом куту, на солончаке? Что там расти-то станет?
— О, сказал!.. Да тот кут и делить-то не будут, — сердился Сашка. — Председатель говорил...
Председатель об этом ничего не говорил, но Сашка так понимал: не может Советская власть делить Гнилой кут.
Так и было. Не делили Гнилой кут. Прошли его. И вот тут-то и выкликнул дед Сивоусенко Сашкину фамилию. Сашка слышал, а ответить «тут я» не смог: онемел вдруг. Язык прилип к нёбу, горло перехватило, как от простуды.
— Тут он, тут! — пробасил за него Симанюк. — Вот он, меньшой Шестак!
Непослушными руками схватил Сашка конец ленты и пошёл по своей земле.
А когда все ушли дальше, осмотрелся Сашка, сел на меже и заплакал.
— Чего ревёшь? — сердито спросил его невесть откуда взявшийся Симанюк.
— Боюсь... Потерять землю боюсь, — всхлипывал Сашка.
— Вот дуралей! Да как это можно при Советской власти-то землю потерять? Сам не знаешь, что болтаешь.
Солдатской маленькой лопаткой выкопал Симанюк на Сашкином наделе здоровенную букву «Ш», а рядом — ямку.
— Точка, сынок.. Пускай кто попробует отнять эту землю! — Кузнец поднял лопату и потряс ею в воздухе: — Навеки наша — и точка!
Сашка посмотрел на лопату, на крепкую, жилистую руку кузнеца и совсем уже весело крикнул:
— Навеки наша — и точка!
СПАСИБО, ТОВАРИЩ ПЕТЬКА...
ода в горной речке Лабе прозрачна и холодна по утрам. Течёт Лаба с горных вершин Кавказа. Зарождается она малым ручейком, что вытекает из-под ледника, принимает по дороге ещё тысячи своих братьев и сестёр, течёт бурно, пенится на камнях перекатных и даже на равнине не может успокоиться, так светлым потоком и вливается в Кубань — тоже реку горную, быструю, но уже не со светлой водой, а глинисто-мутной.
За что-то обиделась Лаба на станицу Владимирскую, раскинувшуюся садами и хатами по склону бугра, обошла её стороной, на пять вёрст обежала и спряталась в лесу и в кустарниках. В самой станице течёт по оврагам захудалая речка Кукса, да и то не течёт, а больше в запрудах отстаивается. Вот и приходится станичным ребятам, чтобы настоящую речку увидеть, настоящую рыбу поймать, ходить за пять вёрст, на Лабу.
Только Петька Демидов, которому от роду двенадцати ещё нет, но он считает, что ему уже больше, не по своей воле каждый божий день на ту Лабу отправляется: пасёт Петька коней станичного атамана Новака. Батрачит.
Пригонит Петька табун, стреножит или попутает коней, пустит их на лесную поляну у какой-то протоки, достанет из кустов припрятанную удочку и начнёт ловить, укрывшись за кустами. Вода в протоках такая прозрачная, что показываться нельзя: сразу все голавли и плотва разбегутся. Усачей на перекатах легче лиить, особенно сразу же после дождя, но Петьке нравятся проточные плёсы — смотришь через листву орешника и видишь каждый камешек на дне,
каждую травинку, каждую, даже самую малую, рыбёшку. И думается в тишине лучше, не шумит вода и не разгоняет мысли. Правда, мысли у Петьки были такими, что лучию бы сидеть с ними на самом шумном перекате: невесело жилось Петьке, невесёлые и мысли приходили в голову...
Считай, что остался он круглым сиротой. Матери оп не помнил вовсе, родила она его и умерла тут же, а отец только прошлой весной погиб: на пасеке его бандиты за колоду пчёл убили. Только не все в станице верили, что из-за пчёл. Казнили его бандиты-беляки за Василия, за старшего сына, большевика.
Где он теперь, сам Василий? Вскоре после того, как братья похоронили отца, переменилась в станице власть, белые казаки подняли восстание, и красным пришлось с боями уходить куда-то на восход. Остался Петька один в своей хате. Да ведь хату-то с угла есть не начнёшь, вот и угодил в пастухи к Новаку, станичному атаману...
Настя ещё у него осталась, тайная невеста брата — тайная потому, что была она дочкой атамана. Любила она Василия Демидова, а как примирить жениха с отцом, не знала. Один белый, другой красный, отец — казак потомственный, жених — потомственный мужик, а на Кубани считалось позором для девки-казачки выйти замуж за «нагороднего», за мужика. Только разве за богатого...
Прибегала Настя тайком в Петькину хату не столько Петьку пожалеть, сколько выплакаться около него, «сиротинушки», да мужиков поругать: от них водь, по её словам, всё пошло — они пришлые на Кубани, захотели с казаками сравняться, половину земли отнять, поделить казачью землю поровну...
«Дак чего же ты до братки чепляешься, — сердился Петька, — раз он мужик? Он же, по-твоему, ни косить, ни пахать, ни на лошади скакать!»
От этого Настя принималась в голос голосить, знала, что Василь её и косить, и пахать, и на лошади ска-
кать может не хуже, а лучше многих казаков... Где он теперь горе мыкает? Да не сложил ли где свою буйну головушку под казацкой шашкой?
«Не родился ещё тот казак, чтобы нашего Василя мог срубать. Не откована та шашка...» — шипел Петька и кусал губы, чтобы волчонком не завыть.
Вот с такими мыслями и садился Петька с удочкой на берегу лесной протоки. И в этот день он как будто с голавлём разговаривал, а на самом деле говорил, чтобы только к своим мыслям не прислушиваться:
— Ну что ты скажешь! Ходит вокруг да около, а брать не берёт... И что ему надо?
Только хотел было Петька сменить червячка на крючке, как послышался шум за кустами, и на поляну вышли двое — гимназист Колька Чубариков и кадет Сёмка Чеботарёв. Знал Петька и того и другого: из Екатеринодара их принесло, когда в станице белые верх взяли. Сейчас они вроде искали кого-то, всё по сторонам поглядывали с опаской. Гимназист первым заметил Петьку.
— Ты чего тут делаешь? — подошёл он к Петьке.
Петька обернулся:
— Дрова рубаю, сено жую... Тебе дать пожевать?
— Ну, ты! Не очень-то задавайся, а то... — вскипятился гимназист.
Петька посмотрел на него, не поднимаясь с места:
— А то — что?
Кадет вёл себя посолиднее. Вероятно, он считал себя за старшего.
— Отставить! — приказал он, не повышая особенно голоса. — Твои кони?
— Мои.
— Так... — протянул важно кадет. — А тут никто не проходил?
С утра сидел здесь Петька, никого не видел, но ему захотелось узнать, кого эти молодые беляки ищут, и он сказал:
— проходил давеча...
— Матрос? — торопливо спросил гимназист.
— Отставить! — уже резче приказал кадет.
— А откуда я знаю, как его кличут! — пожал плечами Петька. — Может быть, и Матросом...
— Ты дурака не валяй! Что же ты, матроса от другого не отличишь? — подступил к нему кадет.
— Да как же его отличишь? По хвосту или по рогам? Прошёл давеча бычок рябой. Должно, думаю, от стада отбился. Вы его шукаете?
Петька говорил это так деловито, будто и на самом деле видал рябого бычка, однако гимназист почуял в его голосе насмешку.
— Это он на смех нас поднимает... Я вот сейчас покажу ему смешочки!
Гимназист сорвал с себя ремень с литой бляхой и медленно двинулся на Петьку. Петька поднялся ему навстречу, в руках у него была уздечка с коваными удилами. Гимназист сразу остановился, словно на забор наткнулся. У кадета сначала на лице появилось любопытство, но, видя, что его подчинённый непременно будет бит, он опять напустил на себя начальническую важность и лениво приказал:
— Сколько раз мне говорить? Отставить! Я про постороннего говорю. Посторонний тут не проходил?
— Никого я здесь, кроме телка, не видел: ни своего, ни стороннего, — проворчал Петька.
Гимназисту никак не хотелось быть только подчинённым. Он тут же забыл команду кадета и начал сам командовать:
— Так мы его не догоним... Надо реквизировать у этого типа лошадей, вот что я предлагаю!
— Отставить! — крикнул по привычке кадет, но тут же добавил солидно: — Хотя в этом я вижу здравый смысл... А ну-ка, зануздай нам коней! Слышишь?
У Петьки в глазах сверкнули озорные искорки, и он со всей серьёзностью спросил:
— А может, и подседлать прикажете?
— Если есть сёдла... — протянул было кадет.
Но опять встрял гимназист:
— Не видишь, он насмехается над нами! Я сам зануздаю.
Он неожиданно выхватил у Петьки из рук уздечки и побежал на поляну к лошадям. Кадет сдвинул брови, подошёл к Петьке вплотную, скривил губы и, постукивая хворостиной по брючине точно так, как это делают офицеры, процедил:
— Так, змеёныш... Смеяться вздумал! А плетю-ганов ты не хочешь отведать?
, — Я-то не очень хочу, а вот ты, ваше благородие, наверно, выпросишь и для себя и для гимназистика! — усмехнулся Петька и повернулся к кадету спиной. — Бери коней, нуздай, а потом с тобой сам Новак в правлении поговорит. Он вам покажет реквизицию!
Кадета точно подменили. Он отступил от Петьки и спросил:
— А это что, атаманские кони?
— Стрижен по-казачьему, а в конях ничего не понимаешь! У кого же в станице могут быть такие кони? Эх ты, ваше благородие! — закончил Петька, взял удочку, сел на берег и забросил её, делая вид, что больше его ни кони, ни реквизиторы не интересуют.
Но сидеть ему пришлось недолго: за кустами раздался такой отчаянный крик гимназиста, что Петька невольно вскочил и бросился посмотреть, в чём дело. За ним припустился и кадет. На поляне они увидали такое, от чего можно было и со страху и со смеху умереть: лучший скакун, красавец по всем статьям, дончак Васька гонялся по поляне за гимназистом, ощерив зубы, как взбесившийся кобель. Спасало гимназиста пока только то, что дончак был спутан. Гимназист орал й так метался из стороны в сторону, что за ним трудно было уследить. Но было ясно, что силёнок на такую прыть у него осталось немного, и дело могло кончиться очень плохо.
— Ты что же стоишь? — крикнул Петьке кадет. — Останови скакуна!
— Попробуй останови его! Он когда взбесится, так ПС охолонет, пока насмерть не загрызёт. К нему сам атаман п такое время подходить боится! — крикнул в ответ Петька, но всё же бросился спасать не-задачлипого реквизитора. — Стой! Васька, стой! Тпррру... Тпрууу... А ты в воду сигай, в протоку!..
Петька не остановился до тех пор, пока гимназист со нсого маха не брякнулся, прорвавшись через орешник, н протоку.
— А ты чего же не предупредил, что он бешеный?
— Проваливайте-ка вы лучше отсюдова, господа 1км1рошеные! — закричал на кадета Петька, подбирая растерянные гимназистом уздечки. — Форма ему ваша не нравится! Непривычен он к такой форме. Сам атаман боится к нему подходить, когда в форму одет. Понятно? Его у большевиков отбили. Это Василя Демидова конь... Слыхал про такого?
— Что? Форма не нравится? В большевики записался? Ну подожди, вот мы сейчас вернёмся, мы тебе 1К)кажем форму!..
Кадет и гимназист грозились, а Петька смотрел па них, сжимая в кулаке повода уздечек с тяжёлыми удилами. Ему так хотелось пустить их в ход!
— Давайте, давайте, ворочайтесь поскорее! Мне тоже не терпится рассказать атаману, как вы тут над копями мордовали. Небось хотели за Лабу увести? К черкссам? Они хороших коней любят... И матроса какого-то приплели. Не на дурачка напали. Так вот всё атаману и расскажу.
— Ты чего буровишь? — закричал кадет, но в голосе у него было больше страха, чем угрозы. — Про каких это ты азиатов тут сочинять надумал?
— Да про тех самых, что сегодня за Лабой на конях гарцевали да всё на нашу сторону поглядывали. Вот про каких... А раньше их что-то не видать было.
Потом Петька аж ногами дрыгал от смеха, лёжа на траве и вспоминая лица кадетика и гимназиста после истории с лошадьми.
«На рысях подрапали в станицу... Небось на каждый куст с опаской посматривали, везде им азиаты чудились...» — смеялся он.
Но, постепенно успокаиваясь, стал подумывать о том, что, пожалуй, лишку перехватил. Но ему так хотелось припугнуть кадетиков, хоть немного отвести душу! Больше всего Петька ругал себя за то, что упомянул про форму: не любят беляки, когда о форме так говорят. А кадетики ещё и приврут с три короба.
«Побоятся атаману ябедничать, — успокаивал сам себя Петька. — С конями у них промашка получилась... И что за матрос такой, которого они шукают? Откуда взялся? Может, и вправду гуторили по станице, что в воскресенье разъезды наскочили на каких-то вооружённых, пробиравшихся с горных лесов в степи? Бандитами их называли и гуторили, что они бомбами отбились, а потом ушли за Лабу... Может, и в самом деле была такая встреча у беляков, да только не с бандитами?»
Петька долго лежал, ничего не видя, запустшз пятерню в растрёпанные белёсые космы на макушке. Он не обратил внимания на сороку, сорвавшуюся с тревожным стрекотом с сушины на том берегу протоки, не придал значения и тому, что Васька фыркал по-особому насторожённо, — просто подумал, что конь никак не может простить себе, что не сташ,ил с реквизитора его гимназический мундирчик.
Поднявшись, Петька подобрал удочку и пошёл подманывать того самого голавля, что с утра не давал его рыбацкому самолюбию покоя. Голавль взял с первого же заброса. Петька подсек, поташ,ил, но рыбина, чуть только он поднял её над водой, сорвалась.
— Ну что ты будешь делать! Опять сорвалась... Только вроде это не тот был голавль, пощуплее. Тот — что твой генерал!.. А, вон ты где, под лопушком
затаился! Может, от гимназиста спрятался, как тот в воду сиганул? Сейчас я тебе кузнечика поймаю, нацеплю на крючок...
Петька положил удилище, пополз на четвереньках по траве, охотясь за крупным кузнечиком, и чуть было не ткнулся головой в пару порыжевших сапог. Вскакивая, он ещё успел заметить, что головки сапог были перевиты обрывками верёвок и проволоки.
— Ух, лешак, напугал!.. — вырвалось у Петьки.
Перед ним стоял заросший рыжей щетиной человек в фуражке без козырька, в чёрной тужурке с медными пуговицами. Грудь у него была перекрещена пулемётными лентами. На широком чёрном ремне, по обе стороны от бляхи с якорем, висели четыре бутылочные гранаты. Рваные чёрные штаны были заправлены в голенища. Человек опирался на ствол кавалерийского карабина.
— Неужели я такой страшный? — усмехнулся пришелец.
— А то нет! Как бирюк лесной... Чего ты на людей тишком кидаешься?
— Смотри-ка... Я на него кидался! Да это ты на меня кинулся... на четвереньках. Думал, укусишь...
В глазах матроса — Петька, конечно, сразу понял, кто перед ним, — мелькнула такая лукавая искорка, что Петька невольно ответил еле заметной улыбкой.
— Если бы не тишком подошёл, разве бы я испугался? Я бы и настоящего бирюка шуганул от себя!
— Верю. Тем более, что медведей в ваших лесах не водится. Коней пасёшь? Хозяйских? Батрачишь?..
— А исть-то надо! Вот в работники и пошёл. Не идти же по миру куски собирать...
Петька забыл, что обещал голавлю кузнечика, и принялся надевать на крючок нового червя. Червяк извивался, и матрос посоветовал его слегка прихлопнуть.
— Это я и без твоего батьки знаю... Только когда он живой — лучше: он в воде извивается, и рыба думает, что он просто так, без крючка, вот и хватает, — ответил Петька, наживил, забросил и добавил: — Это надо знать, кого прихлопывать и когда прихлопывать!
Матрос опустился рядом с ним, посмотрел на него, прищурившись, и усмехнулся:
— А ты, видать, настоящий рыбачок, парень. Всё знаешь. Только рыбы твоей я что-то не вижу.
— Откуда же ей быть, когда вы тут один за одним мешать приходите, крик поднимаете да ещё вон в воду сигаете! — ответил Петька и, в свою очередь, покосился на матроса, проверяя, как он воспримет его намёк.
Однако ничего на его лице он прочесть не смог — матрос в это время весь подался вперёд, насторожился, точно заметил что-то необыкновенное в глубине протоки. Петька сам глянул туда же и схватил удилище: поплавка на воде не было, леска натянулась и вздрагивала.
— Подсекай! — прошептал матрос.
Петька подсек, но было уже поздно: голавль накололся и выплюнул наживку.
— Эх ты, рыбачок! — в сердцах сказал матрос. — Такую рыбину упустил!
— Так с тобой же заговорился, вот и прозевал! — огрызнулся Петька. — Шляетесь тут...
— Постой, постой... Про кого это ты? Кто шляется? — насторожился матрос. — Вроде я тут один.
— Сейчас один, а давеча ещё гимназист с кадетом приходили. Охотились на кого-то. А ты тоже охотой балуешься?
Лицо матроса как-то посерело, и он с опаской посмотрел по сторонам:
— Да, тоже... охочусь...
— С бомбами?
— С бомбами. По дичи и заряд нужен...
В это время за кустами послышался треск, и матрос вскочил на ноги, вскочил и чуть не повалился снова от какой-то боли.
— Кто это там? — хрипло прошептал он.
— Да это Васька. Не бойся...
— Он что, с тобой рыбачит?
— Тю!.. Конь Васька. Чего ты скривился так? Болит где?
Матрос только молча кивнул головой, посерел ещё больше и, скрипнув зубами, присел и повалился на бок. Петька принялся тормошить его:
— Дядя! Дяденька! Да ты что? Что ты молчишь? Тебе плохо?
Матрос точно уснул, но Петька понимал, что это совсем не сон, ему казалось, что, если он не растор-
мошит матроса немедленно, — тот умрёт. Петька метнулся к кустам, сорвал лопух, свернул из него что-то вроде кулька, зачерпнул воды и, не раздумывая, плеснул в лицо матросу. Тот как будто и не почувствовал ничего, но всё же Петька заметил, как у него дрогнули брови и начала проходить бледность. Заметил он и другое: левая штанина была разорвана, сквозь прореху видна была повязка на ноге повыше колена. Повязка была сделана из полосатой матросской рубахи. Вся она заскорузла от крови.
— Раненый," — прошептал Петька.
— Пить, — еле слышно прошептал матрос и провёл непослушным языком по губам.
Петька снова метнулся к воде с лопухом и направил струйку воды матросу на губы. Тот жадно стал ловить струйку ртом, а когда она кончилась, открыл глаза и попросил ещё.
— А есть ты не хочешь? — спросил Петька.
— Не помню, когда ел последний раз, — попытался улыбнуться матрос, крутнул головой и,; преодолевая боль, сел.
— Ты лежи, лежи... — попытался остановить его Петька.
— Нельзя лежать, мне идти надо... Понимаешь, надо...
Петька схватил торбу, достал из неё хлеб, сало, лук и чеснок, пару яичек и узелок с сушёными грушами: это Настя каждый раз совала ему в торбу еды побольше да повкусней.
— Ешь, всё ешь! Мне ничего не оставляй, у меня вон с утра живот как барабан... Ты мне вот что скажи... не знаю, как тебя кличут, кто ты такой? Что матрос — вижу. Да только и матросы разные бывают, но больше они у красных...
— Николаем меня зовут. А тебя?
— Петром... Ты товариш,?
— Это смотря кому. Тебе вот, Петро, видать, товарищ,, а другому кому — непримиримый враг,
— Да ты не крути, дядя Микола. Ты мне прямо скажи: ты за кого — за царя чи за Ленина? — настаивал Петька, подкладывая матросу еду.
Тот перестал есть, посмотрел на Петьку с улыбкой:
— А чего ты в этом понимаешь, салажонок?
Петька обиделся:
— Не понимаю?! Да я, может быть, больше твоего понимаю! Ты вот скажи мне: за кого Ленин стоит? Ну? За нас стоит, за мужиков и за бедных казаков. Чтобы у нас у всех земля была, надел на каждую душу. Её сколько, земли-то, кругом лежит? Ты только поднимись на гору, на нашу Макруху, да посмотри — что твоё море кругом лежит. А у всех есть надел? Нет... А какая между нами и казаками разница? Никакой... Ленин говорит — все, кто землю пашет, одинаковы. А Ленин и есть самый главный большевик...
Матрос совсем перестал есть, смотрел на Петьку, на то, как он жестикулировал, как собирались морщинки на его лбу, на выгоревшие до белизны брови, сведённые у переносицы, и ему всё сильнее хотелось обнять этого станичного паренька.
— Силён в политике! Кто же это тебе сказал, что я товарищ, и ты так со мной разоткровенничался? — спросил он Петьку и обнял за плечи.
— Кабы ты не товарищ, так не сидел бы здесь с раненой ногой под кустами... Жрал бы теперь в станице вареники так, что на бороде сметана с коровьим маслом мешалась... Мне братка Всё про Ленина высказал. Он тоже большевик. Да и народ так про Ленина гуторит. Не беляки, а народ станичный. Но-вак наш тоже про это знает, знает, чего Ленин хочет, да только без драки он свои сто десятин не отдаст... Он норовит сейчас под шумок ещё себе прирезать клин-другой. Ни коня, ни бычка не пропустит, заберёт вроде реквизиции, а поставит на свой баз... Вон Васька пасётся. Думаешь, он всегда под Новаком ходил? Это братнин конь...
— А брат погиб?
Петька отрицательно покачал головой:
— Руки у них коротки! В Армавире он теперь, наверно, у самого Ленина... Знаешь, как его по станице беляки ловили? Он при отходе отряда из Владимирской ранен был, не смог уйти. Тогда мы его с Настей — это Новакова дочка, только она за браткой сильно убивается — взяли да и спрятали прямо на базу у Новака! Кто его там будет искать?.. Прожил братка там в сараюшке за соломой до самой осени, выходили мы его с Настей, поправился уже, а тут его и заметил сам Новак! Как бросился атаман на улицу, как заорал на всю станицу: «Я товарища поймал! Я Ваську Демидова изловил!..» Только пока он народ свой скликал, братка не стал дожидаться, подался через огороды на ливады, через речку да в кукурузу, а там рукой подать до лесу, который до самой Лабин-ской тянется. И поминай как звали! Не помогли ни эстафеты, ни разъезды... Говорю тебе, в Армавире он теперь, у Ленина...
— Нет, Петро, немного ты ошибаешься. Всё про Ленина правильно говоришь, только не в Армавире он, а в Москве, — начал объяснять матрос.
Но Петька и слушать не хотел:
— Ну да, рассказывай! Бывает он и в Москве, а зараз в Армавире. Люди так говорят... Знаешь, он какой? Подводят ему коня самых лучших кровей, ещё лучше нашего Васьки, он в стремя ногу не ставит. Нет. Прямо с земли как прыгнет — и в седле! Как вылетит он поперёд своего войска да как крикнет — сколько ни есть тысяч в его войске, все услышат: «За мной, товарищи! Долой кадетов и беляков! бея власть Советам! Ура-а-а-а!..» Тебе, дядя Микола, тоже надо до него в Армавир подаваться.
— О том и думаю. Да вот как? — сказал матрос и показал на раненую ногу. — На Армавир мы и пробивались... Остальные, может, и пробились, а меня вот задело... Чтобы другим не пропасть со мной, я и уполз от них. Неделю вот отлёживаюсь по кустам.
— Слыхал я про вашу сражению. Хвалились беляки, бандитами вас обзывали... Надо тебе тикать, сразу тикать. Заметили тебя. Гимназист и кадет в станицу подались за подмогой.
Петька говорил горячо, ухватив матроса за рукав бушлата. По его лицу матрос видел, как он напряжённо ищет выход. А Петька и в самом деле мысленно просматривал весь лес, все дороги, по которым можно было бы направить матроса, и в то же время он ни на минуту не забывал, что матрос с больной ногой далеко не уйдёт от погони — беляки станичные знали и лес и все дороги не хуже самого Петьки. Если матросу не удастся немедленно и быстро перебраться хотя бы в Лабинский лес, что подходит к самой станице Лабинской, то враги его не выпустят отсюда. «А что, если, — подумал Петька, — не в Лабинскую ему сейчас податься?»
— Знаю, Петро, что тикать надо... Покажи дорогу, да только такую... — попросил матрос.
— Не учи, — перебил Петька. Знаю, какую тебе дорогу нужно показать... Ты брод через протоку приметил вон на том конце поляны? Хорошо. За протокой — дубки. Аккурат за ними тропка, по ней и надо пробираться. Она тебя к Бобрышеву хутору выведет. Ты слушай, они тебя к Лабинской кинутся шукать, а я тебя в другую сторону направляю. К горам, откуда вы пробирались... Постой, не перебивай... Обмануть надо беляков. Хутора там нет, сожгли его. Осталась одна сараюшка с сеном... В ней ты, дядя Микола, и будешь меня ждать два или три дня.
— Ведь они могут во все стороны послать людей, Петро. Сараюшку обязательно обыщут... — возразил матрос.
Но Петька снова нетерпеливо его перебил:
— Про ту сараюшку мало кто знает, да и не будут они тебя там искать. На Лабинскую кинутся, уж я так сделаю, что они все дороги на Армавир сторожить поскачут, будь уверен... Ты верхи ездить можешь?
— Приходилось... — ответил матрос, ещё не понимая, к чему клонит пастушонок.
— Тогда бери путо и вяжи мне руки назад.
— Это зачем же?
— Вот не понимает! Вяжи руки, сидай на Ваську и поняй на хутор...
Заметив удивление и растерянность на лице матроса, Петька, довольный, улыбнулся.
— Да ты что, Петро? С тебя твой Новак семь шкур сдерёт за коня! — решительно сказал матрос, с трудом поднимаясь на ноги. — Не могу я так...
— А по-другому нельзя. Если они тебя поймают, так немедля изрубйт на куски... Я-то знаю своих беляков!.. Вяжи! Конь-то не Новака, браткин конь. И я тебе его не насовсем отдаю, братке передашь в Армавире.
— Но что ты им скажешь?
Петька опять хитровато улыбнулся — у него уже созрел, как ему казалось, самый верный план.
— Скажу правду: «Напал на меня матрос, скрутил руки, вскочил на коня, и поминай как звали...» — «А куда он поскакал?» — заорут беляки, а может, и сам станичный атаман. «На Лабинск... Вот по этой дороге поскакал. Он на меня как бирюк налетел, кости чуть не переломал... Я ему говорил, что это не мои лошади, что мне отвечать за них придётся, а он и слушать не захотел...» Новак крикнет: «Вперёд, ребята! Лови матроса! А с этим щенком я дома поговорю!..» И поскачут пустой след распутывать...
Как ни весело описывал Петька всё, что произойдёт, когда обнаружится бегство матроса на атаманском коне, самому матросу смеяться не хотелось.
— Ох, Петро, не к добру ты смеёшься! Боюсь я за тебя. Я же в том сараюшке с ума сойду, если ты не явишься ко времени. Что я буду думать?
— А ты не бойся... Ежели плетью и огреет разок, так от этого не помирают. Да и не станет атаман при людях мальца забижать — постыдится... А дома и
подавно не тронет. Там же Настя, а она за меня что квочка за и,Ы11./10ка сгонт. Дома он только грозится. Настя-то скаженная девка, что хочешь выкинуть может. Л тм думаешь, Новак не знает, что она по братке моему сохнет.-* 1иц,ё как знает... Давай вяжи!
Пеп.ка Просился на поляну, легонько свистнул, и Koiii. гак же тихо заржал ему в ответ. Петька зануздал копя и распутал. Этим путом матрос и скрутил 11еп.ке руки.
— Не больно?
— Вяжи... Тоже мне бандит! Крутит руки, а сам спрашивает, не больно ли! Ты по-настоящему дело делай, чтобы придиру не было. Я ещё мордой об грязь потрусь... Рубаху вот тут, у ворота, располосуй хорошенько. Ну, сильнее... Зашьёт Настя. А теперь садись...
Матрос взял повод, и Васька запрядал ушами, затанцевал на месте.
— Стоять! — окрикнул его Петька. — Не бойся, Васька, дядя Микола на тебе до братки поедет... Ну, кому сказал — стоять!
Но конь храпел, косил глаза.
Матросу удалось сесть только тогда, когда Петька взял повод в зубы и потёрся своей щекой о скулу Васьки.
— Ну, не мешкай, дядя Микола! В случае не приду, сам пробивайся... Пробивайся вот по этой дороге, по которой я беляков направлю. Жди меня на хуторе ровно три дня... Ваську заведи в сараюшку, разнуздай, дай сена... Да только буду я к сроку, обязательно буду!.. А братку встретишь Василя Демидова, коня передашь и поклон от меня и Насти...
Матрос наклонился, поцеловал Петьку в лоб.
— Спасибо тебе, товарищ Петька, — сказал он и тряхнул головой, как будто хотел хоть на минуту отогнать тяжёлые мысли. А потом, натягивая поводья, лся ещё раз и спросил: — А если я самого а Ленина увижу, что ему передать?
— Ленину? — Петька подался вперёд. — Ленину? Одно передай: ждём его. Ой как ждём!.. И поклон ему передай, до сырой земли поклон... А теперь поняй. Время...
Матрос тронул Ваську, и конь с места взял в карьер.
— Ух ты! — невольно вырвалось у Петьки. — Вот поскакал, вот взял с места... Чисто казак! Прощай, дядя Микола, прощай, матрос! Я буду на хуторе к сроку...
МИТЬКА УХОДИТ с ОТРЯДОМ
Головки подсолнухов повернулись вслед за солнцем на запад. Казалось, что, заходя, солнце отразилось тысячами солнц на склоне Макрухи, высокого холма за станицей. Всё застыло, прощаясь с дневным светом. Даже коршун, летящий над делянкой проса в поисках перепелов, почти не машет крыльями. Долетев до края делянки, он парит над подсолнечным полем, но вдруг испуганно взмывает вверх и шарахается в сторону.
Тихо и в станице. Не крикнет петух, не замычат коровы, возвращаясь из стада домой: их сегодня да и вчера никто не выгонял в стадо.
За станицей тишину рвёт выстрел. Трёхдюймовый снаряд, вырвавшись из орудийного жерла, с воем проносится над соломенными крышами хат, садами и огородами и, долетев до станичной площади, со страшным грохотом взрывается у церковной ограды.
Вместе с первым выстрелом оЖили кукуруза и подсолнухи, зашелестели листья, закивали головки, и вот сотни бойцов в линялых гимнастёрках без погон, с винтовками наперевес с громовым «ура» бросились в станицу.
Второй снаряд разорвался у телешовских ворот, обитых листами железа. Он пробил в воротах одну большую дыру и шесть маленьких. Осколком снесло голову уже оперившемуся цыплёнку. Закудахтала квочка, собирая остальных цыплят, а старая Телешиха выскочила из дому и заголосила над убитым цыплёнком, как над родным чадом.
— Маманя! Чи вы с ума сошли? Бегите скорее в хату! Застрелють же вас! — кричала ей рябая дочка, чуть приоткрыв дверь.
Снаряды рвались всё чаще, а Телешиха голосила всё громче. С перепугу ревела старая. Знала: как займут станицу красные и да как начнут станичники сводить счёты с телешовским двором... Большой накопился счёт у станичной бедноты к Телешовым.
Белогвардейцы были застигнуты врасплох. Сухопарый сотник носился по площади на гнедом жеребце с шашкой наголо, но его никто уже не слушал. На бешеном галопе влетали белоказаки на площадь и, не задерживаясь, устремлялись в единственную улицу, по которой можно было спуститься в нижнюю часть станицы.
Около правления стоял старенький автомобиль. В нём сидел бледный полковник, с ужасом смотревший то на косогор за станицей, откуда наступали бойцы-красноармейцы, то на удирающих своих конников, то на рыжебородого казака-шофёра, неистово вертевшего заводную ручку автомобиля. Мотор фыркал, чи-хлл, но не заводился.
Вдруг па косогор вылетели две пулемётные тачан-
ки, развернулись и стали поливать площадь свинцовым дождём.
Та... та... та... — и правленческая вывеска оказалась перечёркнутой.
— Коня! — завопил полковник визгливым голосом, выскочил из машины, вырвал у ординарца плеть и несколько раз хлестнул ею по спине шофёра. — В трибунал его, каналью! — взвизгнул он и стал карабкаться на подведённого скакуна, от страха не попадая носком сапога в стремя.
Ординарец плечом подтолкнул его под толстый зад, и наконец полковник очутился в седле. Не мешкая, он помчался догонять своё «храброе воинство».
— Ату его! Улю-лю! — заорал шофёр, выхватил из-под сиденья винтовку и разрядил всю обойму вслед полковнику и его свите.
Полковник ускакал невредимым, зато жеребец под сотником вдруг сделал скачок в сторону и рухнул. Сотник, перелетев через голову лошади, растянулся на земле и застыл без движения.
Батарейцы белоказаков открыли ответный огонь слишком поздно. Они успели сделать только два выстрела и, бросив пушки, ускакали, чтобы не попасть в плен.
Всё же один из их снарядов разорвался на косогоре. Осколками исковеркало ш,иток пулемёта, убило лошадь и тяжело ранило мальчика-красноармейца.
Бой был скоротечным. Ещё засветло санитары начали уносить на носилках раненых и убитых. На двор к старой Матрёне Кузнецовой въехала тачанка, запряжённая одной лошадью. Молодой конопатый пулемётчик соскочил с неё и помог другому, бритому, в казачьей черкеске, осторожно снять с тачанки раненого мальчика.
Матрёна весь бой просидела на печке, крестясь и охая при каждом разрыве, намертво вцепившись высохшими пальцами в Митькину рубаху, чтобы он не вздумал выскочить из хаты. Как только в дверь постучали, Митька кубарем скатился с печки и распахнул дверь.
— Здравствуйте! — поздоровался конопатый боец. — Раненый у нас. Дозвольте, пока придут санитары, в хату его занести...
— Несите! Ох, боже ж мой, несите... — запричитала Матрёна и стала торопливо разбирать постель, взбивать тощую подушку.
Когда пулемётчики внесли раненого, бабка Матрёна всплеснула руками, да и Митька глазам своим не иоверил.
— Батюшки светы! Да сколько же ему годков будет? — прошептала Матрёна.
Говорит, что четырнадцать, — также шёпотом отпгти,;! пулемётчик в черкеске. — Нас вот не тронуло...
Раненый был без сознания. Он был худ, мал ростом, бледен. Митька подумал: «Нет ему четырнадцати... Нет. А он уже воевать пошёл...»
Конопатый боец привёл доктора.
— Осколок надо вынимать на месте, — решил доктор. — Мамаша, поставь-ка побыстрее самовар. А вы, товарищ Петрухин, бегите за сестрой. И свету, как можно больше свету!
Митька бросился к соседям собирать лампы, хотя у него не было никакой надежды на успех: лампы-то были, но не было керосина. Почти во всех хатах жгли каганцы — черепок или блюдце с маслом и тряпочкой вместо фитиля. Много ли свету от такого светильника?
И вдруг Митька увидел автомобиль, окружённый бойцами и станичниками. Придерживая стекло лампы рукой, он бросился к автомобилю.
— Дядя! Дяденька! — закричал он, стараясь перекрыть шум толпы. — Налейте за ради бога гасу в лампу... Хоть трошки, хоть вот столечко!
Митьку сразу же подняли на, смех.
— Что, насиделся в темноте?
— А може, тебе и весь атанабиль отдать, паря?
— Да не мне это! Не мне! — отчаянно кричал Митька. — Раненого до нас в хату положили. Парубка из пулемётчиков... Доктор будет зараз осколки из него вынать. А не видно при каганце...
Все притихли. Притих и рыжебородый казак-шо-фёр. Он подошёл к Митьке, положил руку ему на голову и сказал:
— Нет, понимаешь, у меня керосину... На бензине штука бегает... Да и того нет. На спирту мы ездили, на перваче-самогоне. Только и этого нет, господа кадеты выхлестали... Но свет будет! Садись в машину, показывай дорогу...
Казак распахнул дверцу, втолкнул Митьку, вскочил сам и крикнул:
Гас — керосин. ,
— Братцы! Пихай машину сзади!
Больше просить не пришлось: десятки ладоней упёрлись в кузов автомобиля, и он покатился прямо к хате бабки Матрёны. В последний момент шофёр включил мотор, и он с ходу завёлся. Два ярких луча от фар упёрлись в маленькие оконца Матрёниной хаты.
— На полчаса хватит, не больше, — сказал шофёр доктору.
— Да, но свет в потолок бьёт, а мне нужно его направить на раненого.
Шофёр только руками развёл: дескать, больше ничего сделать не могу. Тут на выручку пришёл Пет-рухин:
— Зеркало! Есть у вас зеркало?
— У нас нету... — ответил Митька. — У Булавино-вых есть... Большущее...
— Веди! — скомандовал Петрухин.
Операция длилась почти час, и всё это время мотор автомобиля, точно зная, что сейчас всё зависит от пего, работал на полную мощность и зачихал только тогда, когда доктор снял с лица повязку.
У Митьки дрожали руки от напряжения, кружилась голова, и немного подташнивало — он попеременно с Петрухиным держал тяжёлое зеркало, направляя «зайчик» туда, куда приказывал доктор.
Операция прошла удачно, но мальчик потерял столько крови, что доктор прямо сказал:
— Не жилец он на этом свете. Тут и богатырь бы сдал, а он совсем ребёнок...
Петрухин, Митька и Матрёна дежурили у больного по очереди. Только на вторые сутки, когда дежурил Митька, раненый открыл глаза. Он провёл языком по губам, и Митька понял, что он хочет пить, но доктор строго-настрого приказал не давать больному воды. Можно было только смочить губы.
— Нельзя тебе пить. Доктор не велел. Только вот так можно...
Намочив кончик полотенца, Митька приложил его к губам мальчика. Тот жадно облизал губы и снова впал в забытьё. Но скоро он открыл глаза, и Митька опять смочил ему губы.
— Станицу взяли? — еле слышно спросил мальчик.
— Взяли, взяли. Ещё позавчера. Гуторят, что и из Мостовой их вышибли, и с Переправной. Гонят их по Лабе и Лабенку в горы. Они всё побросали и тикают... Тебе больно?
— В груди больно... Печёт... А кто ты?
— Митька я. Матрёнин приёмух. Только она меня Васей кличет... У неё сын был Вася... А тебя как кличут?
— Николаем... А Петрухин? — Мальчик тревожно посмотрел на Митьку. — Петрухин жив?
— Живой! Он тебя до нас и привёз. Убило только лошадь, да пулемёт малость задело. Петрухин чинит его... Зараз придёт.
— А какую убило? Буланую или вороную?
— Вороную. Тебя на буланой привезли... Ты, Коля, помолчи. Доктор не велел тебе много гуторить.
— Третью пристяжную ещё раньше убило... Где теперь таких коней сыщешь? — тихо сказал Коля и закрыл глаза.
Отряду дали передышку, и бойцов расквартировали по станице. За окнами Кузнечихиной хаты и днём и ночью слышался конский топот, разноголосый гомон, стук колёс. От походных кухонь тянуло запахом приварка, почти из всех дворов пахло свежим хлебом: хозяйки пекли для бойцов хлеб, сушили сухари.
Митька почти не отходил от своего нового друга и даже спал тут же, на земляном полу, подостлав охапку соломы. Спал всего по нескольку часов, крепко, но
так чутко, что стоило раненому вздохнуть потяжелее, как он вскакивал и подбегал к кровати.
— Что тебе? Надо чего чи так, приснилось что? — спрашивал он.
И хотя во время перевязок Коля очень страдал, а после них почти всегда терял сознание, Митьке казалось, что он крепнет, поправляется. А когда сознание возвращалось, Коля даже улыбался, виновато глядя на доктора. Тот не выдерживал, срывал с носа очки и торопливо выходил из хаты. Выбегал и Петрухии, тихонько выходила бабка Матрёна, и только Митька оставался у постели, улыбаясь в ответ своему другу. Да, улыбаясь... А вот если бы он выбежал вслед за Петрухиным, то, наверно, завопил бы на всю станицу.
Были они погодки, и судьба у них была как с одной колодки. В штурме последнего эшелона, где-то под Харьковом, мать втиснула своего первенца Кольку через окно в вагон, передала ему грудную сестрёнку Алёнку, а сама попасть в вагон не успела — громыхнул у самого эшелона снаряд, рванулся со станции эшелон... Потом сестрёнку забрала одна молодуха, поделив материнское молоко между ею и собственным сыном, а Кольке, как расписку в приёме, сунула треугольничек красноармейского письма — письма от мужа.
То ей от мужа письмо... — говорил Коля. — Я его
на память, как песню, знаю... Тильки гарна людына може такого лыста до своей дружины написать. Треба думать, шо и дружина теж гарна жинка... — вдруг перешёл на украинский язык Коля. — Вот покончим с беляками, первым долгом явлюсь я до Марфы Степановны по этому адресу и поклонюсь ей в ножки за Алёнку-сестрёнку, а потом уж с Алёнкой подамся в родные края шукать матку с батькой.
А Митьку подобрала бабка Матрёна у пожарного сарая, в который свозили станичники всех беженцев, больных сыпным тифом. Подобрала, принесла на руках в свою хату, может быть самую неказистую во
всей станице, стоявшую на самом пустом дворе, выходила и нарекла Васей. Нарекла в память сыночка Васи, которого так избил сосед Телешов держаком от вил за то, что тот выгнал телешовскую свинью со своего огорода, что, прохворав полгода, мальчик умер...
Где теперь мать с братишками, Митьке было неведомо. Помнил он только, что уже в тифозном бреду отстал от обоза беженцев и пошёл по станице просить Христа ради кусок хлеба...
— А почему же ты, Коль, сразу не поехал сестрёнку шукать? — спросил как-то Митька.
— Так они же под беляками тогда были... Вот потому и воевать пошёл... А ещё песню я услышал...
— Какую песню?
— «Интернационал» называется. Слыхал?
Митька пожал плечами:
— Может, и слыхал, да тиф память отшиб...
— Есть в той песне хорошие слова.
И Коля слабым голосом запел:
Вставай, проклятьем заклеймённый, Весь мир голодных н рабов! Кипит наш разум возмущённый И в смертный бой вести готов.
Он умолк, а потом сказал:
— Я бы всё тебе пропел, да силов сейчас нет... Потом обязательно спою... Когда поют «Интернационал» или играют, так командиры честь отдают, а красноармейцы стоят смирно... Кто не военный, тот шапку снимает, потому что это гимн... Я так думаю, что это сам Ленин его для народа придумал... Я его и играть умею... На сопелке... Вот достань-ка мне её из сундучка...
Митька открыл Колин сундучок и достал завёрнутую в полотенце самодельную дудку-сопелку. Деревянную, некрашеную, с дырочками-ладами. Коля взял инструмент, и в глазах у него блеснул задорный огонёк.
— Петрухин очень любит, когда я играю... — сказал он как по секрету. — Всё жалостное просит... А заиграю жалостное, он щёку подопрёт и... плачет. Смешно. Такой пулемётчик — и плачет. — Но вдруг, посерьёзнев, добавил: — Да оно ведь воевать — не на пру.тике скакать... Сколько уж он на своей тачанке по фронтам мотается... Я У него за второго номера второй по счёту, а ездовой уже четвёртый. Только наша Красная Армия потому и сила, что один... выбудет, а на его место зараз же другой становится... Добровольно становится, а белякам где такого народу взять? Нет, скоро им крышка...
Коля долго лежал неподвижно и молча, с открытыми глазами, потом, вспомнив, что обещал сыграть на сопелке, встрепенулся, приложил пальцы к ладам и взял пищик в гуёы. Только звук получился хриплый и слабый, а пальцы не захотели бегать по ладам. Это так поразило Колю, что он даже посмотрел на сопелку, точно проверяя: да она ли это? Не подменили ли?
— Да не надо, Коль, зараз... Потом сыграешь... Вот Петрухин приварок принесёт, поешь... — стал успокаивать его Митька и осекся: впервые увидел слёзы друга. Они пробились из-под ресниц и потекли по худым щекам...
На третий день была перевязка, и по тому, как вдруг доктор сел на лавку у стены, как упали его большие красные руки на колени и опустились плечи, Митька понял всё. Впервые он выбежал раньше всех из хаты, упал на завалинку и не закричал, не заплакал, а застонал...
Похоронили молодого пулемётчика рядом с Васей на том месте, которое бабка Матрёна для себя берегла.
— Ничего, ничего... — шептала Матрёна. — Мы с Васенькой потеснимся.
Она не удивилась, когда Митька появился на пороге хаты в гимнастёрке. Она без слёз перекрестила его. Видно, все слёзы, отпущенные человеку на его жизнь, у неё иссякли.
Петрухин освободил Колин сундучок и передал Митьке. Вещей в сундучке было немного. То, Гто могло пригодиться Митьке, он положил обратно, а всё остальное отдал Матрёне на хранение. Пулемётчик долго смотрел на треугольничек письма с адресом и на дудку-сопелку, не зная, что с ними делать.
— Петрухин, — сказал Митька, — сопелку ты мне отдай. Попробую, может, и у меня что получится... А письмо положим в сундучок — кто останется, тот и разыщет Алёнку-сестрёнку. Пусть расскажет ей про брата...
Труба заиграла сбор, и Митька занял своё место на тачанке рядом с Петрухиным. Но прежде чем отряд покинул станицу, на площади был митинг. Когда комиссар отряда открыл его, оркестр заиграл «Интернационал». Впервые в своей жизни стоял Митька по стойке «смирно» и вместе со всеми пел:
Никто не даст нам избавленья — Ни бог, ни царь и не герой. Добьёмся мы освобожденья Своею собственной рукой...
ВРЕМЕННЫЙ БИЛЕТ
рудно устанавливалась у нас на Кубани Советская власть. Сколько раз взрослые загоняли нас, мальчишек, в подвалы и погреба, когда по станице начинали бить из пушек и пулемётов.
В казачьих краях по-иному люди жили, чем в других местах. У казака надел земельный был немалый, и податей он не платил таких, какие платил обыкновенный крестьянин. Но всё равно и среди казаков были богатые и бедные,
А «мужикам», или, как называли их на Кубани, «иногородним», земли не полагалось, а подати вносить всё равно надо было.
Землю они покупали, если было на что, или пахали, сеяли и жали на землях богатых казаков исполу: собрал урожай — половину отдай хозяину.
Школы тоже были «казачьи» и «мужичьи».
Многие из нас даже в «мужичью» школу не могли попасть — мест не хватало. И пришлось учиться нам у кладбищенского сторожа, спившегося псаломщика, в кладбищенской сторожке.
Классной доски в сторожке не было, и учитель наш прямо на побелённой стене писал углем алфавит, по три-четыре буквы в день.
— Это первая буква, — пояснил он. — Зовётся она «А»... В букваре она вот такая, а писать её надо вот так... А ещё каждая буковка бывает маленькая и большая. Запомнили? А теперь повторяйте за мной хором, как эта буква прозывается...
Он взмахивал руками, как церковный дирижёр — регент, и мы в семнадцать голосов начинали жалобно тянуть это самое «А», точно голосили по всем покойникам, похороненным за стенами нашей «школы». А жалобно голосили потому, что псаломщик обещал каждого, кто не запомнит букву с первого раза, запирать на всю ночь в кладбищенскую часовню. При такой угрозе каждый заголосит...
Бумаги купить было не на что, и скоро все стены в хате у бабки Ковалихи, приютившей меня как сироту, я исписал буквами и цифрами. Бабка не ругала меня. Она даже помогала мне запомнить азбуку. И делала это так старательно, что к первой весне моей учёбы знала не меньше меня, хотя до этого была совсем неграмотная.
Сначала мы думали, что гражданская война — это война между мужиками и казаками за землю. Но скоро и мы, ребята, стали понимать, что это шла война за новую жизнь, ещё не виданную на земле, в ко-
торой все люди будут равны друг перед другом. Узнали мы, кто такие большевики и меньшевики, красные и белые. Красные вместе с Лениным боролись за Советскую власть, за равенство, беляки отстаивали старое — царя и богатеев. Красных называли товарищами. Первое, что они сделали для детей голытьбы, — это перевели нас из сторожки в настояш,ую школу, бывшую «казачью».
Сколько раз наша станица переходила из рук в руки!..
Но вот пришёл день, когда у нас в станице навсегда установилась Советская власть. И слова «товарищи», «большевики» стали для нас привычными. А вот слово «комсомол» пришло к нам позже, чем в большие города.
— Что такое комсомол? — спрашивал я у ребят.
Но они не знали. И только Шурка Румянцев уже
знал, что такое комсомол.
— Коммунистический союз молодёжи — вот что такое комсомол! Это кто из ребят товарищ, кто за Ленина. Вступать нам надо!
И мы после уроков пошли «вступать» в комсомол, потому что давно уже были все «товарищи», «за Ленина», «против царя и всех буржуев», за то, чтобы земля принадлежала крестьянам, фабрики — рабочим. Один только Васька Лунь не знал, идти ему или не идти.
— Не примут меня. Ведь я казак!.. — говорил он, а сам с надеждой смотрел нам в глаза.
Всё разрешил тот же Шурка.
— А ты что, буржуй? Твой папаня разве беляк, а не красный партизан-кочубеевец? Может, ты за царя, а не за Ленина?
— За Ленина, — прошептал Васька.
— Тогда казачество твоё ни при чём! Казаки тоже разные бывают. Кочубей тоже вон казак, только он красный казак! Ясно?.. И ты, выходит, красный. Вон Ванька Головик — мужик, а мы его на порог комсо-
мольский не пустим, потому что он богач. И отец у него богач, и все у них контрики и буржуи. Одних молотилок двенадцать штук, а курей да свиней и не сосчитать. А сами они работают хоть трошки? Батраки за них добро наживают.
Мы смотрели на Шурку как на взрослого — он всё знал. И мы пошли за ним гуськом по тропочке через площадь, прямо к дому, где на двери жирным плотничьим карандашом было написано: «Станичная ячейка комсомола».
— Ждите меня тут! — сказал Шурка.
Мы долго топтались перед этой дверью, пока наконец не вышел Шурка. По лицу его было видно, что дела наши плохи.
— С четырнадцати принимают... — сказал он коротко. — Меня, может, и примут. Я рослый...
Мы молча начали меряться с ним ростом. Выходило, что нам до комсомола не хватало кому три вершка, кому пять. А Лёшику не хватало все десять.
— А если сказать, что нам уже по четырнадцать? — спросил он у Шурки.
— У них за главного Колька Рыбалка... — ответил Шурка.
Вопросов больше не было: Колька знал нас всех. Наши биографии он мог написать и без нашего участия.
Но всё же мы решились. Тихонько открыли дверь и вытерли босые ноги о тряпку. Прошли гуськом в залу и остановились у стола, покрытого куском кумача.
Окончательно оробели мы, когда увидели, что рядом с Колькой сидит незнакомый нам парень, не нашенский, не станичник. На нём была линялая гимнастёрка, такие же шаровары, обмотки и тяжёлые английские ботинки — «танки». На левом боку у него висела казачья сабля, на правом — маузер в деревянной кобуре. А поверх всего этого на правое плечо была наброшена кавказская бурка.
— в комсомол пришли записываться! — догадался Колька.
Он не стал затруднять себя вопросами по нашим биографиям. Задавал только один вопрос, и то с усмешкой:
— Сколько лет?
Мы все отвечали, что нам уже «стукнуло» четырнадцать. Колька усмехался и говорил парню в бурке:
— Смотри, Всеволод! Оказывается, мы годки: одного года рождения, а я и не знал... Бывает же!..
Потом он старательно записывал наши имена и фамилии на листе синей обёрточной бумаги. Парень в бурке смеялся всё громче и громче, особенно когда к столу подошёл Лёшик Середа. Лёшик поступил в школу на год раньше срока. У него от рождения была очень разумная голова на плечах, но плечи его и на вершок не поднимались над столом, за которым сидели Колька и парень в бурке.
И кто бы мог подумать, что он, наш Лёшик, скажет такое, что потом решит нашу судьбу! На тот же самый вопрос: «Сколько тебе лет?» — он твёрдо ответил!
— Одиннадцать, двенадцатый...
Мы все так и замерли, уставившись на него.
— Одиннадцать, двенадцатый, — упрямо повторил Лёшик. — Но я всё равно за Ленина! И папаня мой был за Ленина, и братка старшйй, и дядя Василий!.. И я навсегда за Ленина, за красных. Вот и всё!
Мы хорошо знали, почему Лёшик сказал о родных «были»... Их расстреляли белые...
Парень в бурке перестал смеяться, решительно стукнул шашкой об пол и сказал:
— Записывай! Ведь они же вырастут. Обязательно вырастут! А надо, чтобы они выросли большевиками.
И мы вышли из дома уже с комсомольскими билетами. Правда, это были временные билеты, даже без печати, только со штампом, всё на той же синей бумаге, но на них значилось, что мы приняты в ряды Коммунистического союза молодёжи.
Увы, билеты действительно оказались «временными». Не прошло и несколько месяцев, как всех нас, кроме Шурки, без особых обсуждений на общем собрании комсомольской станичной ячейки перевели в пионеры. Сначала мы было обиделись, но когда узнали, что вожаком у нас будет Всеволод, смирились.
На первом же сборе пионерского отряда в школе Всеволод взял левой рукой кусок мела и написал на доске:
«К борьбе за рабочее дело будь готов!»
Мы хором ответили: «Всегда готов!» — и подняли правую руку в пионерском салюте, как научил нас Шурка.
Всеволод ответил нам тоже салютом, но только поднял он не правую, а левую руку. И тут мы заметили, что под буркой у него вместо правой руки болтается пустой рукав. Позже мы узнали, что руку он потерял на фронте. Но всё равно, даже однорукий, он, наш вожак, всегда был готов к борьбе за рабочее дело.
ПОРТРЕТ
нашего Бориса оказалась художественная жилка. Учитель рисования на первом же уроке сказал, посмотрев на рисунок Бориса:
— Да... Кажется, у этого белоголового что-то есть... Определённо есть художественная жилка...
И мы сразу в это поверили. Поверили, потому что не раз замечали, что видел Борис больше нашего и лучше.
Иногда притихнет он, уставится на какой-нибудь сучок в доске, а потом как расхохочется:
— Смотрите, ребята, какая смешная рожица из доски выглядывает!..
Смотрим мы на тот сучок и ничего, кроме этого самого сучка, не видим. Тогда Борис хватает простую соломинку и начинает нам показывать:
— Да вот же, смотрите! Вот у рожицы нос крючком, вот уши торчком, борода помелом и глаза рачьи...
Ну что ты будешь делать! И впрямь не сучок перед нами, а рожица смешная!
Рисовал наш Борис чем попало и на чём попало. Не было у него ни бумаги для рисования, ни красок, и негде было тогда, в первые годы революции, всё это достать.
Учитель рисования пробыл в нашей станице всего месяц или полтора, пока не освободили его родной город от беляков. Прощаясь, он подарил Борису цветные карандаши и картонную папку со шнурками. В папке Борис стал хранить все свои рисунки. Называлась она у нас «музеем».
В «музее» хранились и наши портреты, выстраданные не только художником, но и натурщиками: наш Борис не признавал никаких перерывов в работе, рисовал за один присест,
Счастлив был всякий, у кого в лице было что-нибудь приметное: нос горбатый или уши торчали, как лопухи. Мне досталось больше всех. Мало того, что у меня на лице, как говорил Борис, «не за что было ухватиться», на него нашёл стих рисовать меня в вечерний час на берегу нашей Куксы, речонки ничем другим, кроме комаров, не прославившейся. Мне тогда показалось, что местные комары не только сами слетелись попировать, но и созвали уйму гостей. Хотелось от зуда по-волчьи взвыть, но я терпел.
Портреты у Бориса получались, как говорили мы, «точь-копия». У Шурки Румянцева, самого старшего из нас, была фотокарточка, а в Борисовом «музее» был его нарисованный портрет. И все мы в один голос заявили, что на портрете Шурка «точь-копия», а на фотографии совсем не то. Шурка — да не Шурка. Парнишка какой-то, похожий на Шурку, надутый, с выпученными глазами...
В «музее» хранились не только наши портреты, но и портреты учителей и всех домашних Бориса, всех его соседей. И вдруг в папке стали появляться портреты совсем незнакомых людей. Правда, у всех у них были усы и бороды, но в то же время это были разные люди.
— Кто такие? — стали мы спрашивать Бориса.
— Потом узнаете, — отвечал он с улыбкой, а на следующий день в «музее» появлялся новый портрет человека с бородкой и усами.
Стали мы замечать, что наш Борис ходит со своей папкой в край станицы, куда ходить в одиночку нашему брату небезопасно: с «низовцами» мы уже давно находились вроде как в состоянии войны.
— Ты бы меня брал с собой, Борис, — сказал я ему. — Всё же не один, в случае чего...
— Ну что же, если тебе охота, пойдём завтра, — согласился он.
Я ожидал увидеть человека с бородой и усами, а встретил нас начисто бритый, худощавый казак в ста-
ром бешмете, в сатиновых шароварах, заправленных в шерстяные носки.
Борис сразу же достал из папки новый рисунок и протянул его казаку. Я заметил, что рука у Бориса при этом дрожала, а на щеках выступил румянец.
Казак долго смотрел на рисунок, потом положил его на стол и сказал, как будто прося прощения:
— Нет, Бориска, и этот не похож...
— Совсем-совсем? — упавшим голосом спросил Борис.
— Совсем, — виновато ответил казак. — Наверно, это невозможно — нарисовать портрет такого человека с чужих слов. Вот если бы ты его хоть один раз увидал, как я, ты бы запомнил его обличье навсегда! Каждую морщинку на лице у него запомнил... У глаз весёлые такие морщинки...
— Вы же ничего мне про морщинки не говорили! — выкрикнул Борис. — Вы же говорили, что взгляд у него суровый, так и пронизывает!
Казак подумал немного, усмехнулся:
— Правильно я говорил! Строгий у него взгляд. Только это тогда, когда он про контру говорит, когда призывает громить беляков, буржуев. А ежели перед ним трудовой человек и он ему про Советскую власть говорит или ваш брат перед ним, ребятёнки, тогда взгляд у него меняется. Глаза становятся добрейшими, сразу морщинки от глаз побегут во все стороны, что твои лучики от солнца...
— Попробую с морщинками... Может, всё же получится, — сказал Борис.
— А кто он такой, кого ты нарисовать хочешь? — спросил я, как только мы вышли на улицу. — Видать, не из наших станичников.
— Портрет Ленина я хочу нарисовать... Владимира Ильича Ленина.
— Что ты, Борис! Как же это ты решился? Не ви дав его ни разу даже на фотокарточке?..
Борис спрятал рисунок и сказал:
— Да понимаю... Не маленький!.. Только очень мне самому хотелось поскорее eixi увидеть!.. Ладно, ты никому пока не говори ничего...
На другой день мы всей ватагой ворвались в Борисову хату: я не сдержал слова и рассказал ребятам о его затее.
— Что же ты, Борис Белобрыс, один за такое дело взялся? — набросился на него
Шурка. — Нам, думаешь, не хочется поскорее увидеть Ильича? Собирайся! В Лабинскую пойдём...
— Зачем? — удивился Борис.
— А затем... Не может быть, чтобы в Лабинской не было портрета Ленина!
И мы пошли за двенадцать вёрст в Лабинскую.
Как всегда, Шурка оказался прав. В Лабинской нам сказали, что над столом председателя ревкома висит портрет Владимира Ильича Ленина. Всех нас в ревком не пустили. В кабинет прошли только Шурка и Борис, да и то лишь после того, как Шурка прорвался к председателю и всё ему объяснил. Мы остались дежурить под окнами и прождали своего художника до самого вечера. Председатель сначала не поверил в способности Бориса. Зато когда Борис закончил работу, председатель пообещал, что, как только управятся с разрухой, он пошлёт Бориса учиться на художника в Екатеринодар, а то и в Питер или Москву...
Было уже темно, когда Борис вышел из ревкома. Однако нетерпение наше было таково, что как только мы вышли за станицу, так по сигналу Шурки броси-
лись стаскивать в кучу сухой бурьян, будылки подсолнуха и всё другое, что могло гореть. Когда наш костёр запылал на всю степь, Борис открыл папку...
Вот он какой, Ленин!
Кажется, больше всего нас поразило то, что Ильич смотрел не куда-то вдаль, поверх наших голов, а прямо на нас. Ну, точно он, увидав нас в степи, подсел к нашему костру и стал всех рассматривать, прежде чем сказать нам что-то необыкновенное, хорошее.
Я, не отрываясь, смотрел в глаза Ильичу, и мне казалось, что в них отражалось пламя костра, а может быть, это в них светилась его доброта, его любовь к людям?
— Борис! — сказал я тихо. — С морщинками!..
— Да... Это потому, что он на нас смотрит... — так же тихо ответил мне Борис.
МЫ СТОЯЛИ ПЕРЕД МАВЗОЛЕЕМ ИЛЬИЧА
Сбылась наша мечта — и не сбылась...
Мы наконец попали в Москву. Но нигде — ни на улице, ни на Красной площади, ни даже в самом Кремле — мы уже не могли встретить Ленина.
— И почему нас не повезли в прошлом году? — сто раз спрашивал меня Борис Белобрыс. — Может быть, и довелось бы увидеть...
Говорят, он тогда уже болел, — отвечал я. — Но может, и довелось бы...
От Армавира до Ростова-на-Дону мы ехали в «телячьих» вагонах. Только те счастливчики, которые сидели у дверей, могли видеть всё, что проплывало мимо нашего «товарника». Мы с Борисом просчитались при посадке: я первым вскочил в вагон и занял два
«спальных» места на нарах, в самом углу вагона. А потом до самого Ростова мы уже не могли подняться со своих мест — так было тесно. Зато от Ростова до Москвы мы не отходили от окон нашего настоящего пассажирского вагона.
В Москву мы ехали на экскурсию. Нас собрали чуть ли не со всей Кубани по одному, по два человека от школы. «Туристов» набралось столько, что, когда мы заявились «стройными рядами с мешками за плечами», как пелось в нашей самодельной песне, на турбазу в Спасо-Песковском переулке на Арбате, на нас замахали руками: база не могла принять и половины наших ребят.
— А нам и не надо койки на каждого... — уговаривали мы руководителей турбазы. — Мы можем поселиться по двое на койку!
В конце концов такое предложение было принято, но и после этого человек пятнадцать остались без места.
— Может, у кого-нибудь есть в Москве знакомые или родичи? — спросили у нас.
Ни родичей, ни знакомых мы с Борисом в Москве не имели, но у меня было письмо от наших соседей к их родичам. На конверте значилось, что они проживают на Второй Брестской улице, неподалёку от Тишинского рынка.
Встретил нас шустрый паренёк наших лет. Он был в синих трусах и в белой рубашке. На ногах у него были коричневые чулки в резинку до колен и новые тупоносые ботинки. На шее пионерский галстук. Встретил он нас так, будто давно ожидал нашего приезда.
— Ни отца, ни мамки дома нет. На работе. А я сейчас бегу в клуб на сбор отряда... Сегодня мы идём на Красную площадь. Потому что сегодня... Хотя чего ради я буду вам всё рассказывать? Снимайте ваши мешки, кладите вот здесь и айда со мной! Там всё увидите. Зовут меня Гришуком. А вас как?
Минут через двадцать мы уже поднимались на второй этаж заводского клуба. То и дело нас обгоняли или бежали навстречу ребята в красных галстуках, одетые вроде нашего Гришука. Правда, не у всех были чулки в резинку и хорошие ботинки. Многие были в тапочках на босу ногу. Девчонки встречались редко, и все они были в синих юбках и белых кофточках.
Только я и Борис отличались от всех. Оба мы были в косоворотках, в чёрных штанах, заправленных на кубанский манер в тёплые носки, и в чувяках. Поэтому все смотрели на нас с любопытством.
Встречные ребята как-то особенно подчёркнуто поднимали руки, отдавая салют. Сначала им отвечал один Гришук, а мы смуш;ённо кивали головами. Но потом Борис тоже неуверенно поднял руку, а за ним и я.
— Так вы что, тоже пионеры? — спросил Гришук.
— Спрашиваешь... — ответил Борис.
— Где же тогда ваши галстуки? — строго спросил наш провожатый.
— Галстуки у нас есть, только они остались в мешках.
— Да разве же можно в такой день без галстуков? Ведь мы на парад идём, на Красную площадь! Нам сегодня звание юных ленинцев будут присваивать... Видели, где я спрятал ключ от квартиры? Бегом домой и обратно!
Это было приказом, и мы со всех ног бросились выполнять его.
Когда, еле переводя дыхание, мы вернулись в галстуках, у заводских ворот пионеры уже строились в колонну. Впереди отряда стоял высокий, ещё белее Белобрыса, паренёк с красным пионерским знаменем, а по бокам, охраняя знамя, пионер и пионерка. Перед знаменем, впереди всей колонны, застыл барабанщик. Меня, как магнитом, потянуло к нему.
— Пристраивайтесь! — услышали мы голос Гришука.
...грянул барабан, и мы пошли. Вначале я хотел было шепнуть Гришуку, что, если барабанщик устанет, я смогу его подменить, но с первых же шагов понял — не мне с ним тягаться.
— Вот это да! — шепнул я Борису.
— Москва... — ответил Борис и добавил: — Композитор!..
Мы проходили мимо Гришуковой школы, в которой учились почти все ребята из отряда. На тротуаре перед школой стояла толпа: мальчишки и девчонки разных возрастов, по-разному смотревшие на нас. У одних в глазах светилась радость, они даже в ладоши хлопали, другие смотрели на нас с завистью.
— Пристраивайтесь! — вдруг крикнул вожатый отряда на всю улицу, и в одном этом слове услышали все — и мы в строю, и те, у школы, — горячий призыв: «Становитесь в наши ряды все, кому дорого дело Ленина! Становитесь, кто хочет строить новый мир, кто хочет счастья людям!»
И отряд наш сразу удвоился, а когда показались стены Кремля, нас было уже втрое, а то и вчетверо больше. По дороге не только вожатый — все мы в такт барабану выкрикивали, как только видели ребят:
— При-стра-и-вай-тесь!
Гремел барабан. Горело под майским солнцем наше пионерское знамя. Мы шагали, не сбиваясь с ноги, и во всю силу своих лёгких оповещали всех, кто смотрел на нас с тротуаров, из окон домов и трамваев, что синие ночи взвились пионерскими кострами, что картошка, испечённая в золе этих костров, «объеденье» и «пионеров идеал». Мы шагали, как шагали красные бойцы в песне «Смело, товарищи, в ногу», чтобы духом окрепнуть в борьбе. Мы обещали «свергнуть могучей рукою гнёт роковой навсегда»...
Пропуская нас, останавливались трамваи и редкие автомобили, извозчики прижимали свои пролётки к тротуарам. В домах распахивались окна, люди выходили на балконы, военные брали под козырёк...
Наконец вот она — Красная площадь и Мавзолей у Кремлёвской стены. На нём строгими буквами написано: «ЛЕНИН».
Вместе с нами на площадь вошли другие отряды. Мимо красного здания Исторического музея проходили краснопресненцы, от причудливого Храма Василия Блаженного шли замосквореченцы... Площадь расцветала знамёнами и галстуками, как весеннее поле маками.
Мы впервые на этой площади, где каждый торец мостовой, каждый кирпич в стенах и башнях — сама история. Сколько мы об этом слышали и читали! Нам хотелось увидеть всё сразу, но мы не могли оторвать глаз от Мавзолея. Как сквозь дремоту, я слышал голос нашего Гришука:
— Это Крупская... Жена Ленина... А это наш всероссийский староста Михаил Иванович Калинин... Да не тот, что стоит посредине, а рядом. Что посредине, тоже с бородой, это Феликс Кон. Он самый старый коммунист...
Мы проникались всё большим уважением к Гри-шуку — ведь он всё знал. Борис, нарушая строй, стал к нему поближе. Я тоже сделал шаг. И тут запели фанфары военного оркестра.
— Сигнал «слушайте все!», — пояснил Гришук. — Сейчас будет говорить секретарь ЦК комсомола...
Сначала говорил секретарь, он был самым молодым на трибуне Мавзолея, потом говорил Михаил Иванович Калинин, его сменила Надежда Константиновна Крупская, говорили и другие руководители партии и правительства. Говорили о том, что с этого исторического дня мы становимся не просто пионерами, а пионерами — юными ленинцами.
— Сегодня у могилы дорогого нам Ильича вы, первые ставшие в ряды пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, дадите торжественную клятву высоко нести почётное звание юного ленинца. Как эстафету передадите вы это звание тем, кто потом
станет вам на смену... Привести вас к торжественной клятве поручается старейшему члену Коммунистической партии товарищу Феликсу Кону.
Мы стояли довольно далеко от Мавзолея, у памятника Минину и Пожарскому, и первых слов Феликса Кона не расслышали. И не мы одни — по ряду прошёл шумок. Тогда Феликс Кон нагнулся, поднял рупор из белой жести и поднёс его ко рту.
— Повторяйте за мной слова торжественного обещания! — сказал ок. — «Я, юный пионер Советского Союза...»
Будто волна морского прибоя прокатилась по площади, когда мы повторили первые слова торжественного обещания. С каждым новым словом шум прибоя нарастал. И у каждого из нас нарастало такое чувство, которому, наверно, ещё и названия не придумано. У нас слилось воедино чувство беспредельной радости и гордости, чувство силы и окрылённости, чув-
ство решимости ни на шаг не отступать в дальнейшей жизни от того, в чём клялись мы перед могилой Ильича...
Я на секунду перевёл взгляд на Бориса, и мне показалось, что рядом со мной стоит кто-то другой — и ростом повыше, и в плечах пошире. А глаза его светились таким ясным светом, точно он и на самом деле смотрел в бесконечные дали моря.
— Завтра мы опять придём сюда, — сказал он. — Я нарисую Мавзолей, а дома достану хорошей фанеры, выпилю из неё все части Мавзолея и сделаю модель. Она будет стоять в нашей школе, у стены. На стене я нарисую Кремль...
Я не успел ему ответить: послышалась команда, и колонны пришли в движение. Всю площадь заполнили звуки военного оркестра. Начался парад пионеров-ленинцев. Мы прошли торжественным маршем мимо Мавзолея, всматриваясь в лица тех, кто стоял на его
трибунах, кто приветствовал нас пионерским салютом.
И снова песня подхватила нас на свои волшебные крылья и понесла над площадью, над Кремлём, над Москвой!
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры, дети рабочих...
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ КРУЖКА
один день жизнь моя резко изменилась. Ещё накануне я сидел с ребятами в хате бабки Ковалихи и при каганце читал им «Робинзона Крузо», а назавтра вечером я уже был городским жителем и до ломоты в глазах смотрел на электрическую лампочку, стараясь понять, как в неё поступает керосин.
Оставшись в квартире один, я решил это выяснить при помощи сапожного ножа отца. Меня спасло только то, что сапожные ножи имеют ручку из нескольких слоёв кожи. Кончик лезвия ножа обуглился, лампочка разбилась вдребезги, пробки перегорели. Вызванный монтёр не приходил целую неделю, но, я думаю, мы не страдали от темноты: всю неделю мои уши горели яркими факелами...
От такого вступления в городскую жизнь я затосковал, воспоминания о вольной жизни в станице не покидали меня ни на минуту, нестерпимо хотелось вернуться к друзьям, к Шурке, Борису Белобрысу, к Шмыгалке... Однако тосковал я недолго: ведь я же был не просто сам по себе, я же был пионером. И я пошёл по городу искать своих единомышленников и скоро нашёл их на главной улице Армавира, на Почтовой.
На Почтовой, в доме, которого сейчас, после Отечественной войны, уже не существует, над кинотеатром «Люкс» был первый клуб пионеров. У меня не было никаких документов, но у меня был уже порядком выцветший красный галстук, и этого документа было вполне достаточно...
— У нас сейчас развернулась борьба с беспризорностью... Мы собираем средства на эту борьбу. Вот тебе пара, вот вам кружка и флажки, идите собирать... — деловито, не тратя лишних слов, сказал вожатый, человек уже в летах, сунув мне жестяную кружку с дырой в крышке. Крышка примыкалась к кружке петлёй, на которой висел кусочек картона с сургучной печатью. Товарищу вожатый сунул свёрток с красными флажками из бумаги, наколотыми на булавки.
Моего соседа по строю звали Петькой. Он уже собирал пожертвования и на беспризорников, и на голодающих, поэтому он отобрал у меня кружку и повесил себе на шею, а мне передал свёрток с флажками.
— Ты не жди, пока они нашарят в кармане гривенник... — наставлял меня Петька. — Ты сразу прикалывай флажок. Отколоть ему будет неудобно, а не отколоть — значит, гони монету!
Оказалось, что на борьбу с беспризорностью ополчились не только мы с Петькой: по городу с кружками ходили чуть ли не все школьники и комсомольцы. Мы почти не встречали прохожих, не украшенных красными бумажными флажками.
— По вагонам бы в поезде пройтись, — сказал Петька. — Ты не сдрейфишь до Туапсе проехать?
— А раньше я дрейфил? сказал я, хотя дрейфил отчаянно да и на поезде ещё ни разу в жизни не ездил.
К моему удивлению, нас беспрепятственно впустили в поезд. Кондуктор даже подсадил Петьку с его кружкой, а у меня взял флажок и приколол себе бесплатно на грудь.
Не успели мы сесть, как поезд дёрнулся и мы по-
ехали. Для меня всё это было так ново, так неожидан но, что Петька еле оторвал меня от окна.
— Идём собирать... Что ты, улиц не видал?
Успех сбора превзошёл все наши надежды: к вечеру кружку так набили серебром, что Петька то и дело поправлял на шее лямку.
В Туапсе мы приехали уже за полночь. Нам обоим нестерпимо хотелось спать, но на вокзале нельзя было отыскать ни одного местечка на полу, не то что на скамье. Всюду вповалку лежали люди.
— Обоим спать нельзя, по очереди будем... — сказал Петька, когда мы наконец приткнулись у стены, рядом с выходом в город. — Сначала посплю часок я, потом ты...
Он тут же уснул сидя, крепко обняв кружку, а я... проснулся от его криков и его тумаков.
— Проснись! Да проснись же! — орал он мне в ухо. — Где кружка? Нету! Украли!..
Проснулся народ, все загалдели, засуетились, бросились проверять свои веш,и и карманы, прибежал милиционер и повёл нас в дежурку.
— Вороны! Вот вороны-то!.. — недовольно ворчал он по дороге.
— Это он проворонил! Я на него понадеялся!.. — кричал на меня Петька.
Дежурный милиционер составил протокол и выдал нам справку о том, что у нас действительно была по-хиш,ена по нашей вине благотворительная кружка. Затем нам было предложено в срочном порядке вернуться в Армавир, куда уже была дана депеша. Но так как поезд отходил вечером, то у нас впереди был целый голодный день.
— Пойдём на море смотреть, — предложил Петька. — Надо, чтобы всё время интересно было, тогда не так есть охота...
Он оказался прав: как увидал я море, так про всё на свете забыл и про голод тоже. А как только мы, поснимав с себя всё, залезли в воду, тут уж и про бла-
готворительную кружку забыли, и про беспризорников. Вспомнили о них только тогда, когда увидали этих самых беспризорных ребят. Они, невесть откуда взявшись, уселись рядом с нашими штанами и рубашками, шлерами на деревянной подошве и галстуками. У самого старшего из них висела на шее наша кружка... Похоже было, что они решили перед нами разыграть какой-то весёлый спектакль.
— Буйла, а Буйла! Прочитай нам, что на жестянке написано, а то мы неграмотные... — начал канючить один из них.
— Прочитай, Буйла! — тянули все остальные.
— Про борьбу тут прописано... — хрипло ответил старший, изо всех сил стараясь быть серьёзным. — Они бороться с нами приехали аж из Армавира. Видите, какие они здоровые? Любого вызывают... Что нам, пацаны, делать? Пропадать нам теперь?
— А может, они сжалются?.. — захныкали все.
— Нет! И не ждите... Готовьтесь к смерти! Я буду пропадать первым...
Старший вскочил, швырнул на песок кружку, сбросил с себя невероятно рваную одёжину и остался в одних штанах, перепоясанных верёвкой так туго, что грязный живот вздулся над опояской пузырём.
— Как будем бороться? — деловито спросил он. — По одному будете на меня нападать или оба разом? На кулачках или по-хрянцузски?
Видать, для устрашения он ещё больше раздул живот. Мне сделалось тоскливо, и я стал осматриваться по сторонам: нельзя ли крикнуть кого на подмогу? А Петька повёл себя совсем иначе: он вышел из воды навстречу Буйле, легонько ткнул кулаком его в живот и спросил:
— А по-цыгански можешь?
— Могу! — не задумываясь, ответил Буйла, хотя тут же спросил: — А как это — по-цыгански?
— Очень просто. Кто кого швырнёт через себя, тот и победитель... Согласен? — сказал Петька.
— Хо... — усмехнулся сначала тихо Буйла, потом добавил громче: — Хо-хо, — а потом уж принялся безудержно хохотать вместе с остальными членами своей шайки. Хохоча, он осматривал Петьку со всех сторон, даже в макушку заглядывал, сделать ему это было не трудно: он на полторы головы был выше Петьки.
Когда осмотр был окончен, Петька выставил условие:
— Бороться будем честно. Ты поборешь — забираешь всё наше барахло, кроме галстуков и трусов, я поборю — ты возвращаешь кружку. Идёт?
Такое требование совсем озадачило Буйлу. Он перестал смеяться, задумался, вероятно прикидывая, нет ли здесь какого подвоха; затем решительно тряхнул головой, пятясь задом, начертил пяткой на песке круг и поставил в его центре кружку.
— За кружкой в круг сможет войти только тот, кто по-твоему, ну, по-цыгански, что ли, швырнёт другого через себя. И бороться будем по-честному, так я
сказал...
Буйла запустил пальцы в свои грязные волосы и ловко закрутил спереди две пряди. Над его головой точно выросли два рога, и я сразу понял, почему ему дали такую кличку: он действительно стал похож на буйволёнка. Затем, широко расставив руки, как расставляют их цирковые борцы перед схваткой, Буйла, заревев диким голосом, двинулся на Петьку. Я был уверен, что мой дружок через минуту, через секунду пушинкой взовьётся в подне-
бесье и свалится оттуда прямо на страшные рога Буйлы...
А случилось совсем другое, даже непонятное поначалу. Как только Буйла схватил Петьку за руки, поднапёр на него, Петька податливо стал отступать от него под ликующий рёв беспризорников. Но вот Петька приостановился, как будто решив наконец оказать противнику сопротивление, а когда Буйла, вложив все свои силы, напёр на него, Петька вдруг упал на спину, — падая, он подставил под вздутый живот Буйлы согнутую ногу и тут же распрямил её изо всех сил, и Буйла перелетел через Петьку, перевернувшись в воздухе через голову, шлёпнулся спиной в воду, окатив всех солёными брызгами...
На черноморском берегу воцарилась тишина. Поверженный Буйла медленно поднялся и непонимаюш,е уставился на Петьку. Не было у Буйлы его устраша-юш,его вида, раскисшие его рога упали грязными пря-
дями ему на уши, мокрые штаны облипли на тоненьких ножках.
Мы с Петькой молча оделись, неторопливо повязали галстуки. Одевшись, Петька вошёл в круг, поднял кружку, осмотрел печать и повесил кружку на шею...
— Пошли! — сказал он мне, подошёл к Буйле и протянул ему руку.
Буйла потряс Петькину руку обеими руками.
— До свидания... Если хочешь увидеть, приезжай в Армавир. Улица Почтовая, клуб пионеров над кинематографом «Люкс».
МАНДАТ ЧЕСТНОСТИ
опали мы с Борисом Белобрысом в этот земной рай среди жаркого лета, попали случайно, на казённый счёт.
Пришла в нашу станичную комсомольскую ячейку развёрстка, по которой нам предоставлялось право послать двух парней учиться на красных командиров-кавалеристов в Симферопольское училиш,е. Вышло так, что поехать от нашей ячейки могли только мы с Борисом. Правда, для этого пришлось нас срочно принимать в комсомол, из которого нас, в свою очередь, года полтора назад перевели в пионеры по молодости лет. Оба мы были ребята крупные: Борис высокий, я широкий, так что секретарь наш не очень страдал душевно, когда подписывал мандат, в котором говорилось, что нам скоро будет по семнадцать...
А в Симферополе выяснилось, что наши старания напрасны: кавшкола была расформирована за два года до нашего приезда. Если учесть, что в училище мы ехали по требованию райвоенкомата, а потом от Симферополя до Севастополя железнодорожными «зай-
цами», а из Севастополя пытались проехать до Туапсе морскими безбилетниками, но были «списаны» в Ялте с парохода, то прибыли мы в «жемчужину Крыма» целиком на казённый счёт, не потратив своих денег ни копейки. А как нам хотелось иметь эти самые копейки и безудержно тратить их!
— Хлеба бы фунта три или четыре! — мечтал Борис.
— И селёдки... Или этой, как её, хамсы... — добавлял я.
Белобрыс славился у нас как художник. И он не забыл об этом и здесь.
— Ты показывай мне всё, что красивое увидишь! — требовал он. — А ещё купили бы мы бумаги и цветных карандашей...
— Конечно! Чёрт с ней, с селёдкой, одного хлеба поели бы...- — немедленно согласился я с ним.
Бродя по городу, мы наткнулись на местного художника. Примостившись на парапете набережной, он рисовал на плоских камушках, отшлифованных волнами, морские «видики». Художник орудовал кисточками с непостижимой быстротой, точно рисовал не масляными красками, а расплавленным стеклом, опасаясь, что стекло затвердеет прежде, чем он успеет сделать мазок. У него не было палитры — на парапете стояло несколько блюдечек с красками. Для каждой краски была своя кисточка.
Худущий, дочерна загорелый малый в тюбетейке и деревянных сандалиях-шлерах хватал левой рукой первый попавшийся камушек из базарной кошёлки, точь-в-точь такой, какая была у меня, из куги, стоявшей у его ног, и начинал выкрашивать в голубой цвет верхнюю треть камушка — рисовал небо. Среднюю треть он покрывал синим цветом — творил море. На нижней трети художник одним махом кисточки со светло-зелёной красочкой раскидывал прибрежный лужок, а тёмно-зелёной краской насаждал на лужке кустики, стройные кипарисы или пальмы. Бот и весь
3 Боцман знает всё g5
«видик». Правда, при широком формате камня художник ставил белой красочкой или канцелярскую птичку, что должно было изображать чайку над волнами, или чёрной краской ставил у горизонта точку и развивал её в кудри дыма, стелющиеся над морским простором.
— И почём же? — небрежно спросил художника солидный, весь в белом, с двумя девицами под мышками, курортник.
— По рублю... — так же небрежно ответил художник, не отрываясь от творчества.
— Не дорого ли? — усмехнулся курортник.
— А это вам не корова, а художественный привет из Крыма! — ответил маэстро, даже не удостоив покупателя взглядом.
Мы думали, что после такого грубого ответа ку-
рортник и разговаривать не станет с художником, но тот достал трёшку и подал её маэстро.
— На всё! — сказал он и получил три камня. Один понёс сам, положив на ладонь, чтобы не испачкаться, двумя другими произведениями завладели повизгивающие девицы.
— Три рубля! — прошептал Борис. — Ну и край! Тут запросто можно содрать с человека... Мы с тобой за полтинник в день ходим полоть кукурузу и подсолнухи, а тут... Да я бы за эту трёшку не три, а тридцать камней разрисовал бы, да ещё и не так.
У маэстро был острый слух. Он бросил работу и подошёл к нам.
— А тебе что, денег этого нэпмана жалко? Их в Чёрном море топить надо, а он им жалость оказывает! — набросился художник на Белобрыса. — А насчёт видиков на камушках — предупреждаю каждого: плохую он будет иметь жизнь в этом курортном городке, если вздумает устраивать нам конкуренцию! Мы артелью работаем, артелью и бить будем... Ясно?
— Не пугай! Видали мы таких!.. — ответили мы, как и полагается отвечать в таких случаях, но постарались больше не обострять отношений с представителем ялтинской художественной корпорации.
Да и не могли мы быть серьёзными конкурентами такой мощной организации по той простой причине, что мы не имели никаких орудий производства. Злые и голодные, побрели мы в порт. Я ещё при высадке с парохода заметил там кучу прессованного сена. В нём можно было превосходно провести ночь. Мы честно рассказали сторожу о нашем намерении, и он пропустил нас, предварительно похлопав по нашим карманам — нет ли с нами спичек или кресала.
Вытащив по тюку сена, мы удобно устроились каждый в своей берлоге. Разговаривать на голодный желудок было как-то даже тяжело, и мы постарались поскорее уснуть. Засыпая, я из предосторожности снял с ног домодельные башмаки с ушками и положил их
в корзину под голову. Проснулся я среди ночи от того, что кто-то схватил меня за пятку. Я мигом вылетел из своей берлоги.
— Ой! Тут кто-то есть! — взвизгнула женщина, как будто это не она, а я схватил её за ногу. — Коля!. Посвети!
Коля посветил, и я- тут же предстал перед четырьмя ночными гостями. В компании было два подвыпивших моряка в капитанской форме, один постарше, которого звали Колей, и один помоложе. И женщин было две, и тоже одна постарше, та, что вытащила меня из логова, а другая — худенькая, молодая. Старшая была полная блондинка, больше я ничего не разглядел. На всякий случай я решил вести себя тише воды, ниже травы, чтобы капитаны не потурили нас с пристани.
— Да он казачонок! — засмеялась полная, стащила с моей головы кубанку с красным верхом и водрузила её себе на причёску. — Коля! Посвети — личит мне?
— Нюра! Нюра! Оставь её... Бог знает, что в его шапчонке может водиться... — стал упрашивать расходившуюся женщину старший из моряков.
Я почему-то решил, что он капитан стоявшего у причала грузового парохода.
— Товарищ капитан! Вы не довезёте нас до Туапсе? Только у нас нет денег... — спросил я жалостливым голосом и уже хотел было рассказать историю поступления в кавучилище, которую я уже успел выучить наизусть, как молитву. Но напрасно я старался: они все были подвыпивши, всё их веселило.
— А что, Николай Николаевич! Повезём их в Туапсе без денег? А? Сколько вас? — спросил молодой.
— Только двое...
— Двоих только? Обязательно подвезём... Я пошёл запрягать!..
Он засмеялся и, покачиваясь, пошёл к воротам. За ним пошли все, сразу перестав мною интересоваться.
Меня это страшно обидело. Я пролежал после их ухода целый час, не в силах уснуть. Я лежал и сочинял речь, полную сарказма и горечи, которую я произнёс бы перед ними, если бы они ещё не ушли.
«А известно ли вам, граждане, что у вас не души? Что у вас на сердце лишаи растут? Вы же вели себя тут, как те нэпманы, которых надо в Чёрном море топить...»
Я так расстроился, что сел и стукнул кулаком по тюку сена, как стучат ораторы по столу. Однако удар мой пришёлся по чему-то холодному и скользкому. Это «что-то» прыгнуло из-под моего кулака мне в лицо, и я заорал диким голосом:
— Борис!..
Белобрыс вылетел из своей берлоги и уставился на меня, ничего не понимая.
— Ты чего? Ты чего? — спрашивал он спросонья.
— Напало на меня что-то... Холодное!.. — пролепетал я, и Борис попятился от моего места.
— Змеюка?
— Не знаю... Комок какой-то... Как сиганёт!..
— Может, лягуха?
На всякий случай мы отошли подальше от сена, однако долго ничего не могли придумать. Потом Борис предложил пошарить в моём логове палкой и раздобыл где-то кусок проволоки. Он сунул проволоку в сено, но оттуда ничего не выползало и не подавало голоса. Тогда Борис расхрабрился окончательно и полез в берлогу сам. Через мгновение он предстал передо мной с каким-то чёрным предметом в руках.
— Что это? — спросил я шёпотом.
— Ридикюль... — так же шёпотом ответил Борис.
Я достал свою базарную корзинку, надел башмаки, сунул в корзинку ридикюль, и мы направились к воротам в порт, чтобы там получше разглядеть свою находку.
Да, это была действительно дамская сумочка, сделанная на манер кисета из мягкой чёрной кожи. Бо-
рис растянул этот кисет, и мы заглянули внутрь. Мы ожидали увидеть в сумочке деньги, надеялись, что увидим, но не в таком количестве. Пачка денег, свёрнутых рулоном, была такой толстой, что я не мог охватить её пальцами...
Мы лишились дара речи, мы перестали дышать, нас обоих стало колотить в ознобе. Сначала мы уставились друг на друга, потом стали озираться... Я опять сунул ридикюль в кошёлку и на цыпочках побежал в тень от каких-то грузов. Борис последовал за мной и прижался ко мне, как маленький. Разговаривать мы всё ещё не могли, да, пожалуй, и думать. Вместо мыслей у меня в голове стоял звон.
Но всё же какие-то мысли были. Борис вымолвил наконец, еле ворочая языком:
— Кабы они были буржуями какими... Нэпманами... А ты же говоришь, что они капитаны...
— Да, я говорю — капитаны, я говорю... — ответил я не совсем связно.
— Значит, надо выходить на свет и ждать их... — со вздохом заявил Борис.
— А если не придут? — спросил я с надеждой.
— Бежит вон... — ещё глубже вздохнул Белобрыс.
От ворот летела та, старшая, что надевала мою шапку. Только теперь она уже не повизгивала от смеха, а то и дело промокала платочком глаза.
— Мадамочка! — решительно остановил её Борис. — Куда вы бежите? Вы чего-то потеряли?
— Ридикюль!.. Сумочку украли! Деньги!.. — закричала она, сразу остановившись, точно на стену наткнулась. И тут же, увидав.меня, подскочила, сорвала с головы кубанку и спрятала её за спину. — Он! Он! На помощь! Держите вора!.. — заорала она на весь порт.
Я потянулся было за своей кубанкой, но капитан-ша заорала ещё сильнее:
— Нет, не уйдёшь! На помощь!
— Да что вы, мадамочка? Сказились, что ли? Чего вы орёте? Вот ваш паршивый ридикюль!.. Никто вас не обкрадывал! Нашли мы его на сене, где вы его, пьяная в доску, потеряли... А теперь нас ворами обзывать вздумали? Да?
Капитанша схватила сумочку и тут же спрятала, как и кубанку, за спину. Глаза у неё были вытаращены, подбородок дрожал.
— Какие мы воры, раз мы вас сами остановили? — принялся кричать и я противным «девчоноч-ным» голосом и шарить по карманам. Смешно теперь, но тогда я хотел показать ей в той обстановке направление в кавучилище.
Вместо удостоверения я вытащил из кармана свой старенький пионерский галстук. Увидав его, я испустил победный клич и предъявил капитанше галстук, как всё перекрывающий мандат.
— Вот! Смотрите, кто мы! — выкрикнул я и тут же, чтобы капитанша окончательно поняла, с кем имеет дело, с привычной быстротой повязал галстук на шею.
И капитанша точно очнулась. Она даже головой помотала.
— Ой, боже мой! Что же это я?.. — пробормотала она и пошла к воротам, всё быстрее и быстрее.
— Кубанку-то хоть отдайте! — крикнул Борис, догоняя её.
Она сказала «простите», отдала шапку и бегом кинулась за ворота мимо выскочившего из будки сторожа.
— Вот что деньги с людями делают! — сказал окончательно успокоившийся Белобрыс. — Даже спасибо не сказала!..
— А вы можете с ей потребовать! — сказал с возмущением сторож, когда узнал, что произошло. — Ишь какого переполоху наделала! По всем законам полагается при таких случаях третья часть. Надо было с находкой в милицию,"там бы денежки переслюнили, и пожалуйте вам третью часть...
— Да ну её к богу в рай! — перебил сторожа Борис. — Кабы она нэпманка была, буржуйка...
— Тогда бы другое дело! — добавил я. — Тех надо в Чёрном море топить...
НОТЫ НА ПЕСКЕ
Лучший клёв бывает на заре, и поэтому я каждое утро просыпался с первыми петухами. Поёживаясь от холода, я шёл на Пьяну всегда одним и тем ле путём — через колхозный огород. На огороде колхозницы пололи мокрые от росы делянки огурцов и капусты. Сразу за деревней начинался заливной луг. Он тянулся до самой реки. Конные косилки плавали по лугу, как колёсные пароходы. Меж кустов траву выкашивали вручную загорелые парни, старательно обкашивая каждый кустик.
На другой стороне реки, на высоком берегу, мельница-ветрянка махала своими огромными ручиш,ами, как будто хотела разогнать поскорее утренний туман.
Ловить я начинал от холодного источника и к обеду приходил на перекат, где отдыхало стадо. После полуденной жары, когда отдохнувших коров угоняли в луга, на перекате особенно хорошо брала крупная краснопёрка,горбатые окуни.
На перекате я ловил взаброд. Но прежде чем войти в реку, я искал глазами у самой воды то, что меня давно уже интересовало. ещё в первый день приезда на Пьяну я увидел на песке аккуратно нарисованные нотные линейки с нотными значками и скрипичным ключом. Во всю строчку была написана гамма. А рядом, ближе к воде, кто-то решал примеры по арифметике. По корявым цифрам можно было понять, что решавший не очень грамотен и не очень силён в счёте. Пять, умноженное на пять, равнялось у него двадцати.
Учитель, вероятно, был строгий. Он зачеркнул «двадцать» косым крестом и поставил отметку «плскож. Этой же рукой было выведено «двадцать пять», з иод нотной линейкой — «хор.».
Каждый раз я находил на песке ноты и примеры. Они становились всё сложнее. У музыканта за скрипичным ключом появились мелодии знакомых песен.
У математика дела шли хуже, на «плохо». И только в редкие дни ему удавалось решить на «уд.». А когда появились в примерах скобки, появилась и новая отметка — «очень плохо».
«А ведь учитель не совсем справедливьп1», — решил я. Часто ученик-музыкант перевирал мелодии, но всегда получал отметку не ниже «хорошо». Я ещё заметил, что врал он только в песнях из кинофильмов. Народные песни и марши всегда записывались правильно. А марши все были старинные, военные. Впрочем, не всегда можно было прочесть ноты и цифры. Бывало, по песку проходили коровы и подставляли столько нулей к цифрам своими копытами, что эти числа не прочёл бы и астроном.
Я догадывался, что ученики — дед-пастух и его внук, подпасок. Хотелось только узнать, кто из них музыкант и кто математик. Меня наконец так одолело любопытство, что я пришёл на перекат раньше полудня, когда стадо ещё отдыхало у реки. Одни коровы лежали на берегу, другие в воде, на отмели, а некоторые забрели почти на середину реки и там стояли, вытянув над водой морды с чёрными и розовыми ноздрями. Они стояли неподвижно и мычали от удовольствия.
Чтобы не тревожить коров, я обошёл стадо поодаль. Ни дед, ни подпасок меня не заметили. Пастух сидел у самой воды. Заскорузлые пятки вылезали из башмаков, отполированных до блеска травой. Кнутовищем арапника он старательно рисовал на песке цифры. Значит, математикой занимался он. Видно, нелегко давалась деду наука счёта. Он часто подни-
мал голову и смотрел на речку, на зелёную стену камыша. Смотрел, внимательно прищурившись, как художник, определяюш,ий глубину теней и яркость тона. Губы у него шевелились, как будто он хотел пересчитать все камышины на том берегу. Потом опускал голову и писал. Раскрывал и закрывал скобки, множил, вычитал. Помогали ему считать и узловатые пальцы на левой руке. Они то сгибались, то разгибались по одному, по два или все сразу.
А рядом внук проворно ползал на коленках перед нотной линейкой и торопливо, тоже кнутовиш,ем, писал ноты. При этом он ел кусок хлеба с салом. Ел ловко, одной рукой. Сало держал большим и указательным пальцами, а хлеб прижимал к ладони мизинцем. За ним, как дрессированная змея, ползал чёрный кнут в руку толш,иной.
— Санька, проверяй, — сказал наконец дед.
— Сейчас, — глухо ответил Санька.
Дописав последние ноты, Санька подошёл к деду, на ходу вытирая руки о штаны. Он бегло просмотрел каракули, решая пример в уме, добрался до результата и покосился на деда.
— А кто за тебя будет вторую скобку раскрывать? — спросил он сердито.
Дед засуетился:
— Какую скобку? Да ведь все же я растворил, все до единой.
— Все? А это что? Эту растворял?
— Да неужто нет? А и верно... Да как же это я? Вот напасть, прости господи! Проглядел, стало быть.
— Решишь сначала, — сурово сказал Санька.
— А может, завтра дорешаю? — спросил дед.
— Успеешь и нонче.
— Строгий ты стал.
— Так и надо. Вот когда я это проходил, знаешь, какой у нас был учитель...
И чтобы дед не спорил больше, Санька затёр ногой всю его работу.
— Решай сначала, только сперва проверь ноты.
Пастух поднялся и, расстроенный неудачей, пошёл
за внуком.
— Ну, пой, — попросил Санька.
Дед глотнул воздуху и высоким голосом начал петь, называя каждую ноту. Я узнал песенку из кинофильма, который только вчера демонстрировался в колхозном клубе. На середину строчки деду не хватило воздуха, и он глотнул ещё.
— Ну как? — спросил внук.
— Хорошо. Зря как хорошо! Пиши отметину.
— Какую ж поставишь?
— Пиши пятёрку, — сказал дед торжественно.
Тут вмешался я:
— Пятёрки многовато.
Оба они от неожиданности вздрогнули и уставились на меня-
— Многовато пятёрки. Тут вот нужно не половину ноты, а целую, — сказал я и концом удилища указал на ошибку.
— Разве? — недоверчиво протянул дед и, опустившись на колени, стал проверять.
Он пел про себя, дирижируя пальцем. Казалось, что он считал ноты, как коров в стаде. Внук выжидательно косился на деда, на ноты и на меня.
— Кажись, верно. Подлиннее тянуть надо, — -согласился наконец дед.
— А вы, товарищ рыболов, музыкант? — спросил меня Санька.
— Нет, не музыкант. А вот вы, дедушка, откуда ноты зн-аете?
— Я-то? Я давно уж знаю. В армии я был в музыкантах. Был полковым трубачом и в музыкантской команде был. Тоже на трубе играл...
— Он ещё и на гармошке играет, — добавил внук.
Я положил свой спиннинг на траву и сел. Они тоже сели.
— А вы щук зря как помногу ловите. Я вчера видал, как вы несли. Большущие!
— Да. Вчера мне повезло. Взял три щурёнка. А ты тоже играешь на каком-нибудь инструменте? — спросил я Саньку.
— Играет. На гармонике играет, на дудке. А вот ждём из города баян. Поехал председатель колхоза и взял деньги. Не нонче, так завтра вернётся, — ответил за внука дед.
А Санька добавил:
— Я уже пробовал на баяне. Хорошая гармонь. А вы из Москвы приехали?
— Из Москвы.
— А разве там негде ловить? Там же Москва-река.
Я усмехнулся:
— В Москве больше рыбаков, чем рыбы. А я люблю один побродить. Ты сыграй-ка на своей дудке.
Санька не стал отнекиваться. Он вытащил из сумки дудку и заиграл. Сразу зашевелились коровы, оттопыривая волосатые уши. Они ловили знакомые звуки. У самого Саньки были тоже оттопыренные уши, облупившиеся от солнечных ожогов. Облупился и нос. Играл Санька хорошо. Длинные пальцы бегали по ладам, и дудка пела по-птичьему. Санька был на редкость щупленький и маленький. Он и сам похож был на какую-то птичку и ни минуты не сидел спокойно. Голову поворачивал из стороны в сторону не плавно, а рывками, как синица. И смотрел не прямо, а как-то боком, одним глазом. Неспокойные руки жили самостоятельной жизнью, и Саньке приходилось всё время их сдерживать. Он всегда их засовывал то под мышки, то под коленки. И у внука и у деда были удивительно красивые чёрные глаза. Чёрные до синевы. Глаза так молодили пастуха, будто у него не настоящие седые волосы и борода, а парик.
— Хороший должен из него музыкант выйти, — сказал дед, когда Санька кончил играть.
— Только надо учиться, — подтвердил я.
— А вот осенью повезу его в Москву.
Я достал папиросу и предложил пастуху.
— Спасибо. Только не балуюсь я лёгким. Я самосаду заверну. Это вот такому как раз будет.
— А он что, курит?
— Да нет. Я вот в его годы, помню, курил. Сане уже четырнадцатый пошёл с весны.
— Четырнадцатый? — удивился я.
— Четырнадцатый, — подтвердил Санька. — Не расту я. Вырос до этих пор и перестал. Вот дедка всё пристаёт: «Хворь в тебе какая-то, Санька». А я ничего не чувствую. Вот нигде не болит, а не расту. Ребята
«чирком» дразнят. Знаете чирка? Это такая утка ди кая. Она до старости утёнок.
Говорил это Санька спокойно, зажав под мышками ладони и следя, как дым от моей папиросы улетает к воде.
— Ив кого я такой вышел, не знаю. Дедка вон какой здоровый, мамка и папка тоже.
— А может, ещё вырастешь? — сказал я.
— А может... — неуверенно ответил Санька.
К нам подошёл рыжий бычок и потянулся к сумке,
— О! Сумочник явился. Он у нас спец по сумкам лазить. Чуть не доглядишь — и останешься без харчей. Всё поест — даже чеснок... Ге! Иди отсюда! — Санька отогнал бычка арапником. — А нашего быка вы видали?
— Нет. А что?
— У!.. Зря какой злой. Вот смотрите, мы ему на лоб железный лист повесили. Теперь он только под ноги себе да вбок может смотреть.
— Сразу спокойный стал. Это Санька придумал ему такое украшение.
— Товарищ рыболов, а как вы думаете, призовут меня в армию? — спросил вдруг Санька.
Я растерялся от такого неожиданного вопроса. А Санька смотрел на меня умоляющим взглядом. Как будто теперь всё зависело от меня: как я скажу, так и будет.
— А что ж. Вполне могут призвать. Это необязательно, чтоб косая сажень. Главное, чтоб здоровье хорошее.
— Хорошее! Честное слово, хорошее! Ничего у меня не болит. Просто так, не расту, да и всё, — начал торопливо уверять меня Санька.
— Ну, тогда примут.
— Вот Костю Савина приняли. Он в артиллерии служит.
— А он тоже... маленького роста? — спросил я.
— Костя? Нет. Он во какой здоровый! Меня, ко-
нечио, в артиллерию не примут. И во флот не примут. Да и в пехоту, пожалуй, не гожусь. Мне вот Костя письмо прислал. Там у них есть музыкантская команда, и — вот, почитайте — в этой команде много ребят играет. Совсем маленьких.
Санька достал из сумки замусоленное письмо. Видео, читалось оно не раз и не два. Многое уже и прочесть было нельзя. Я только понял из этого письма, что Саньке при его способностях прямая дорога в музыкантскую команду.
— Костя пишет ещё, что в этой команде у одного паренька есть медаль «За боевые заслуги»! — с восхищением сказал Санька.
— А что ж, очень просто. Может, он в каком бою не сробел, был при командире и вовремя подавал всякие сигналы. Бывали и у нас такие герои, — рассудил дед.
— Если не примут по призыву, буду проситься в музыканты, — сказал Санька.
Дед посмотрел на солнце и поднялся:
— Ну, пора, Сань. Прощайте, товарищ! Ещё долго у нас пробудете?
— Долго, дедушка. До самых заморозков.
— О! Может, вместе в Москву поедем... Ну, Сань, играй подъём.
Санька достал дудку и заиграл сигнал. Коровы сразу ожили, начали вставать и без понуканья пошля на луг.
— Приходите к нам завтра, товарищ рыболов. Мол<ет быть, председатель баян привезёт, — сказал мне на прощание Санька.
Мне не пришлось пробыть до заморозков. Вечером я получил телеграмму. Меня вызывали в Москву. Уезжал я рано, как раз когда выгоняли стадо.
— А говорили, что до осени будете, — сказал, подходя, Санька.
— Не вышло, Саня. Вызывают. Вот, почитай. — Я протянул ему телеграмму.
— Жалко. А мы вот баян получили. Ещё вчера. — Санька показал на футляр, который нёс дед. Видно, самому Саньке нести его было не под силу.
— Вчера обновляли. Способный будет музыкант. Сразу заиграл, и как!.. Слушаешь — и сердце растёт, — похвалил дед.
— Пришлите мне нот побольше, — попросил Санька.
— Непременно пришлю,- — сказал я и, перегнувшись с телеги, пожал Саньке руку.
ЧЁРТ
едный чайник с квасом был раза в два тяжелее корзинки с обедом. У каждого третьего телеграфного столба Митька останавливался и брал чайник в другую руку. На толстом и горячем слое дорожной пыли оставались чёткие следы босых Мить-киных ног и отпечатки: круглый и гладкий — от дна чайника и узорчатый, в ёлочку, — от корзины.
— Да не наливай ты полный чайник! Не донесёшь ведь, — говорила мать.
— Донесу! — отвечал Митька.
Он знал, что нести будет тяжело. Да уж больно дед Макар любил квас. А Митька любил смотреть, как он его пьёт.
Всякий раз Макар, дожидаясь внука с обедом, сидел в тени кустов на круче у речки. Полусонные коровы стояли в воде и только изредка помахивали хвостами, отгоняя оводов.
Первым делом дед осторожно ставил чайник в
ледяную воду родничка, а затем принимался за обед. После еды начиналось самое интересное.
— А ну, веди его сюда! — командовал Макар страшным голосом.
Митька выхватывал чайник из родничка и подавал деду.
— Ну-ка, квасок, прочисть деду голосок! — говорил Макар нарочито хриплым голосом и поднимал чайник высоко над запрокинутой головой.
Из носка вырывалась блестящая коричневая струя, перекрученная, как пастуший кнут. Дед ловил её широко раскрытым ртом. Он умел глотать, не смыкая губ, что у внука, сколько он ни старался, не получалось.
— Как будто в кадушку наливает! — восхищался Митька.
За первый приём дед выпил половину чайника. Захлопнув рот, он с минуту сидел не дыша, потом смачно крякнул:
— Ай да квас у нас!.. А ну, ещё раз!
После второго приёма квасу оставалось на донышке.
— Каков квасище, таков должен быть и голосище... Спробовать, что ли? — спрашивал Макар.
— Спробуй, дедка, спробуй! — просил Митька.
Макар поднимался во весь свой огромный рост и
расправлял плечи. У Митьки замирало сердце, и несмотря на жару, тело покрывалось пупырышками. Дед долго и шумно набирал в себя воздух. Под холщовой рубахой горой поднималась грудь и сразу вырастал живот. Потом дед опускал голову, как будто закрывал выход воздуху, густо краснел и вдруг оглушительно, раскатисто и бесконечно долго тянул:
— Во-о-н-н-м-ме-ом-м-м-м-м!
И это «вонмем» плыло от деда во все стороны, как круги на воде от брошенного камня. Плыло над горячей степью, над сизыми зарослями тёрна, над спокойной водой. Дедова борода дрожала каждым своим во-
лоском, дрожала дедова рубаха, и даже чайник в руке Митьки дрожал мелкой, звенящей дрожью.
Особенно долго тянул Макар последнее «м». Оно, как живое, билось у него во рту, стараясь разлепить плотно сжатые губы и вырваться наружу.
Просыпались коровы и, испуганно подняв уши, смотрели на своего пастуха, готовые броситься наутёк. А молодой бык выскакивал на берег и ревел деду в ответ. Он, наверно, думал, что в стадо пришёл соперник и вызывает его на бой. Но больше всех пугалась Жучка. Поджав свой облепленный репьями хвост, она с визгом уносилась в кусты, будто на неё плеснули кипятком. Потом она не появлялась у стада до самого вечера.
— Ну как? — спрашивал Макар, когда замирало последнее эхо у речного обрыва.
— Дюже сильно! — шептал Митька.
— Это что! Это остатки... Вот раньше у меня был голос! Беда какой сильный! Сам от него глох. Меня все станицы вокруг знали. Чуть где что — за мной присылают. Зараз изгоню...
— Чего, дедушка, изгонишь?
— А всякую нечисть, чертовщину разную.
— А как же ты её изгонял?
— Пройду на баз, стану посерёд да как рявкну: «Изыди, анафема!» Ну, и все черти — с база! Вот как наша Жучка.
— Ой, дедушка, дуришь ты! Чертей на свете вовсе нет...
— Ишь ты какой!.. Отчего ж ты меня раньше не упредил?
И не мог понять Митька, шутит дед или говорит правду.
И «вонмем» и «изыди, анафема» — для Митьки слова были непонятные и даже страшные. Он не знал, что по-славянски «вонмем» значило «внимаем», «слушаем», а «изыди, анафема» — просто «уйди, чёрт»...
«Монсет, раньше и были черти, разная нечисть, — думал Митька, шагая по пыли. — Были же какие-то помещики, буржуи...»
Сзади послышался топот. Митька оглянулся. От станицы ехал верховой. Поравнявшись с Митькой, верховой соскочил с лошади, сошёл с дороги и, растянувшись на животе, прижался к земле ухом.
«Чего это он? Ровно как в сказке. Слушает, нет ли погони...»
Митька посмотрел на дорогу, но никакой погони там не было. Тогда он поставил чайник и корзину и подбежал к странному дяденьке:
— Что это вы, дяденька, прислушиваетесь?
— Да вот слушаю, как чёрт проходит...
— Гм!.. Смеётесь, дяденька... Чертей не бывает.
— Да неужели? Ну, ложись и слушай, — сказал
дяденька, улыбаясь.
Митька лёг рядом и прижался ухом к колючей земле. Но под землёй всё было тихо.
«Обманул... Просто насмехается!» — подумал Митька и сердито посмотрел на дяденьку.
— Лежи, лежи... Вот, слышишь?
Митька перестал дышать и вдруг услышал неясный шум. Он всё нарастал.
— Идёт, чертяка! — прошептал дядька.
У Митьки ощетинились волосы на макушке и широко открылся рот, но крикнуть он не мог...
А в земле творилось что-то страшное. Чёрт клацал зубами, стонал и рычал.
— Прошёл! — крикнул дядька и, вскочив на коня, поскакал вперёд, окутанный облаком пыли.
— Дяденька! — крикнул Митька и, схватив корзину и чайник, побежал следом, расплёскивая квас.
Он боялся остаться один. Ведь этот дяденька, наверно, нарочно ездит по степи и сторожит, чтобы не вышел из земли тот самый... Он уже опять припал к земле и слушает. А чёрт, может, повернул обратно... да на него, на Митьку...
Тут Митька вспомнил про деда: «Вот бы дедушку покликать! Он бы его как погнал...»
Вдруг дяденька стал карабкаться на телеграфный столб.
«Пропал я! — решил Митька. — Вырвался, наверно, он из земли! До дядьки-то не достанет, а меня обязательно искусает всего...»
Митька представил себе чёрта вроде Жучки, но только ещё с рожками.
Но сколько ни шарил Митька глазами по бурьяну и дороге, чёрта нигде не было. А дяденька слез со столба, достал из притороченного к седлу ящичка телефонную трубку и стал кричать в неё:
— База! База! Насосная! Ага, насосная? Высылайте бригаду на одиннадцатый участок. Чёрт остановился! Ну, живей! — Дяденька положил трубку и, увидев Митьку, сказал: — Застрял-таки, понимаешь? Вот будь ты неладен! Теперь возни с ним... до вечера.
— Дяденька... я сейчас дедушку покличу... Он его зараз выгонит, — предложил Митька и, не дожидаясь согласия дяденьки, кинулся к речке, где его уже давно поджидал Макар.
— Дедушка, дедушка, идём скорее на дорогу... Там в земле чёрт застрял, а дяденька его никак не прогонит!
— Чего ты буровишь? Какой чёрт? — пробурчал Макар.
Митька, глотая слова, рассказал деду про чёрта. Дед торопливо похлебал борща, выпил остатки квасу без «вонмем» и зашагал за внуком на дорогу. Там уже стоял грузовик с крытым кузовом. Людей не было видно. Только из ямы около грузовика вылетали комья земли.
— Видал, дедушка? Это они его выкапывают! А ну, попробуй.
— Что — попробуй?
— Ну это... «вонмем» или «изыди, анафема»... Дед взъерошил Митькины волосы на затылке и,
засмеявшись, сказал:
— Дурашка ты, Митька, дурашка! То время давно кончилось, когда дед твой дурака валял.
Макар подошёл к яме и заглянул в неё:
— Здорово, станишники! Чего роете?
— Здорово, дед!.. Да вот чёрт у нас застрял. Митька, ухватившись за дедову рубаху, тоже заглянул в яму. На дне увидал толстую железную трубу.
«Да ведь это же нефтепровод!» — догадался вдруг
Митька. Он помнил, как его прокладывали года три назад.
— Дяденька, а как же он туда попал, чёрт-то? — спросил Митька.
— Как попал? Сами его засадили.
— Зачем?
— Ишь любопытный какой! По этой трубе течёт нефть, а из нефти на стенках трубы оседает парафин, ну вроде воска. Стало быть, его нужно очистить. Вот и посылаем чёрта. Он стальной, вроде снаряда, а по бокам у него проволочные щётки. Нефть чёрта по трубе гонит, щётки вертятся и очищают парафин. Понял?
-- Понял... — протянул разочарованно Митька.
Рабочие подложили под трубу толстое бревно и пытались её раскачать, чтобы чёрт двинулся дальше. Но труба не шевелилась, и чёрт не двигался.
— Разом надо! Говорю, зараз всем надо! — советовал Макар.
Он подошёл к краю ямы и, ухватившись за бревно, сказал:
— А ну, послушай мою команду!.. — И, набрав воздуху, рявкнул: — Раз... два... Взяли!
То ли труба пошевелилась, то ли насосная увеличила напор нефти или, может, задрожала труба от дедова голоса, как дрожал чайник у Митьки в руках, только вдруг заскрипело, зашипело, заклаца-ло — и чёрт пошёл дальше.
— Видал, Митька? Стало быть, голос ещё действует, — сказал гордо Макар и, выставив вперёд бороду, зашагал к стаду.
ВОДОЛАЗ ПЕТРОВ.
личник, широкоплечий старик в брезентовом костюме, в морской фуражке со сломанным посередине козырьком, лёгкими ударами весело гнал ялик через бухту.
Жёлтыми полосками тянулись к ялику отражения береговых огней.
— Ты водолаз? — спросил меня яличник.
— Да... эпроновец.
— Я сразу узнал. У тебя шлем вышит, а я, когда служил, носил штурвал на рукаве. Был рулевым на «Трёх святителях». Слыхал? Прежде тоже геройские водолазы были, от помню один случай. Было это еш.ё в гражданскую. С утра заварилась кутерьма. За городом бухали батареи. Красные части подступали к Севастополю. А что в бухте творилось — и не рассказать!
Бросились белогвардейцы да буржуи на иностранные пароходы. Буржуев-то много, а пароходов мало, ну и дрались они за каждую ступеньку на трапе, за каждое свободное место на палубе. Я тогда ялик имел, самый красивый и самый быстроходный. Поработали мы в тот день. Не успевали перевозить на пристань беглецов. Тащили они с собой сундуки, узлы, чемоданы, даже самовары. А потом всё это добро на пристанях бросали, лишь бы самим на пароход попасть да удрать от красных за границу.
Села напоследок в мой ялик барыня. Худая да высоченная. На голове у ней шляпа преогромная. Сидит она на банке, как обломок мачты, кругом вещами обложилась, в руках собачонку держит: таких штук пять можно в шапку положить — махонькая. В руках, значит, собачка и ещё жёлтый чемодан, тоже небольшой.
Подогнал я ялик к пристани, вещи выгрузил. Конечно, все её вещички так там и остались. Хорошо
ещё, заметил один генерал эту барыню и на французский пароход переправил. Как это там у них вышло, я не видал, только слышу — орёт моя барыня. Сама она, как весло, худая, а заорала басом, как ревун на маяке. Капитана французского за рукав уцепила, в воду показывает и прямо в ухо ему кричит:
«Вот здесь... здесь... я уронила в воду мой чемодан. Верните мне чемодан! Там все мои ценности. Всё моё состояние... Достаньте мне чемодан!..»
Капитан слушает, от крика морщится да плечами пожимает. Наверно, по-русски ни бум-бум не понимает.
«Говорите по-французски!» — кричит ей генерал.
Но дама так расстроилась — не то что по-французски, а и по-русски только одно твердит:
«Мой чемодан! Верните...»
Тут генерал, как тюк ваты, скатился по трапу на катер и крикнул мне:
«Эй ты, яличник! Подгребай к катеру!»
Взял мой ялик на буксир, а меня к штурвалу толкнул:
«Правь на водолазную базу!»
И катер понёсся. Я держу штурвал, а сам думаю: «Какой дурак будет сидеть в такое время на базе? Почти все водолазы ушли из Севастополя в Новороссийск вместе с флотом. А те, что остались, на базу не заглядывают».
Подвёл я катер к базе. Выскочил генерал и прямо в водолазный сарай побежал. Смотрю — тащит из сарая Петровича.
Петрович когда-то был известным водолазом. Первым на всё Чёрное море. Даже за границей работал. А состарившись, жил на базе за сторожа. Чинил водолазам рубашки да галоши. Ну, по хозяйству, одним словом. Под воду давно уже не ходил.
Петрович от генерала отбивается: «Я, кричит, не могу! Старый!» А генерал тащит Петровича да ругается. Насильно усадил старика на катер. Петрович
на меня косо смотрит и молчит. (Мы с ним друзья были.) Молчит, а как будто спрашивает: «За сколько продался?»
Привёл я катер обратно к пароходу. Увидела нас барыня.
«Эта дама уронила в воду чемодан. Достань его, да поживей!» — приказывает генерал.
Петрович стал, кряхтя, одеваться. Раньше был он огромного роста, с широченными плечами, да от старости высох совсем. Я помог ему одеться, подвязал галоши со свинцовыми подошвами, привинтил шлем и подвесил грузы.
Петрович махнул рукой матросам и буркнул:
«Качай!»
Мне ни слова. Вроде не знает.
«Чего ты дуешься? — спрашиваю. — Я-то тут при чём?»
Молчит, не отвечает.
Завернул я иллюминатор, взял в руку сигнальную верёвку, и водолаз ушёл под воду.
Потом мне Петрович рассказывал. Спустился он под воду. Подождал, пока осела муть, и осмотрелся. Слева маячили тёмные сваи пристани. Вдруг видит у одной сваи что-то жёлтое. Подошёл, а это и есть чемодан. Любопытство взяло старика. Почему это о нём так барыня убивается? Зацепил Петрович замком за скобку и дёрнул что было силы. Так замочек на скобе и остался.
Приподнял Петрович крышку, и показалось ему, что чемодан наполнен доверху живыми светлячками. Искрятся они, поблёскивают разноцветными огоньками в зеленоватой воде. Взял старик осторожно пальцами одного светлячка, а за ним потянулась целая нитка. Целое ожерелье из жемчуга! А дальше кольца, браслеты, камни драгоценные. Стоит Петрович, к свае прислонился и богатство руками перебирает. Раньше не доводилось такие деликатные вещи в руках держать. А мы наверху ждём. Дама волнуется, опять
свою сирену заводит. Генерал к нам на катер спу стился и в воду смотрит, как будто сам вот-вот нырнёт.
Много времени прошло, а водолаза всё нет. Ну, не выдержал генерал, кричит мне:
«Тащи водолаза!»
Я дёрнул три раза за сигнал «Выходи наверх».
Петрович вышел на трап:
«Нэма там ныякого чемойдана! Нэма! Усэ дно обшарив. Ракушка та ил. Ил та бурьян морской. А чемойдана нэма... Як в воду канув!»
Рассердился генерал:
«Врёшь! Хочешь достать, когда мы уйдём? Не выйдет. Вот тебе, старый, условие: достанешь чемодан — получишь сто рублей золотом. Не достанешь — пулю в лоб. Понял?»
«Понял, ваше высокоблагородие», — буркнул Петрович и опять ушёл под воду.
Сколько времени прошло, не знаю. Все иностранные пароходы из бухты ушли, один только французский остался. Вдруг как рявкнет снаряд около парохода. Воду так столбом и подняло. Заметались люди на палубе, заголосили. А снаряды один за другим рвутся. Шварк!.. Ах!.. Шварк!.. Ах!..
Подлетает к генералу капитан — дескать, больше ждать нельзя.
«Таш,и его, подлеца, наверх!» — шипит мне генерал, а сам из кобуры револьвер достаёт.
Что делать? Думаю, угробит он старика, а не послушай — тебя пристрелит. Потянул я легонько за верёвку, а она не поддаётся, я ещё — не поддаётся. Ухватился сам генерал. Тянет. От натуги да злости, как кирпич, покраснел, а сигнал — ни с места.
«Должно, говорю, меж свай запутался он, ваше благородие. Не вытащить!»
Ткнул меня генерал кулаком в ухо, а сам с матросами на пароход кинулся. Подбежал я к помпе, начал воздух качать. Увидел это генерал и давай
в меня палить. Я за помпу спрятался и лежу. Лежу и думаю: «Пропал Петрович! Задохнулся без воздуха...»
Как назло, с якорем на пароходе не ладилось — никак не оторвутся от грунта. И такое пошло!.. Снаряды бухают, капитан ругается, генерал стреляет, а дама до того сильно орёт, что на пристани собачата, которых за границу не взяли, вой подняли как скаженные. Бросили французы якорь с доброй половиной якорной цепи — и тикать. Только пароход отошёл, вскочил и я, начал вертеть колёса помпы. Тут ещё грузчики на помощь подоспели. Вдруг слышим из-под пристани голос Петровича:
«Не бузуйте задаром! Не утруждайтесь!»
Я — на ялик да под пристань. Смотрю, старик сидит на перекладине меж свай, в воде только ноги, иллюминатор отвинчен, и наружу торчат усы да красная бульба носа. Сидит посмеивается, чемодан рукой поглаживает.
Яличник затабанил правым веслом, круто развернул ялик и прижал кормой к пристани. Я расплатился и выскочил на пристань:
— Ну, а как же ценности?
— Чемоданчик? А как красные Севастополь заняли, Петрович подошёл к главному да прямо ему на стол и высыпал все драгоценности из чемодана.
Табанить — грести в обратную сторону, тормозить вёслами.
«Нате, — сказал он, — вид мэнэ и усих водолазов нашей Червоной Армии на подмогу...»
Да ты его самого расспроси. Он ведь и сейчас там, на базе... Не работает, а так, навещает. Ну, до свиданья... На Северную никто не желает? — крикнул он громко, хотя на пристани, кроме меня, никого не было.
КОСТЯ с ШЕСТОЙ БАСТИОННОЙ
Костя с Шестой Бастионной!
Что сталось с тобой? Почему пропало у людей былое уважение к тебе? Разве не тебе, Костя, освобождали место рядом с собой большие и маленькие, как только ты появлялся с удочками на камнях у «Трёх святителей», на пристанях Корабельной или Северной стороны, на набережной у «Орла», на бетоне Артиллерийской бухты, у равелина? А разве не считали себя отмеченными судьбой те ребята, которых ты брал на свой ялик-плоскодонку, под названием «Аннушка»?
Куда же всё это девалось? Неужели с приходом фашистов тебя подменили? Или ты продался немцам за те галеты-сигареты, которые ты выклянчиваешь у них или вымениваешь на копчёную рыбу? Ты смело разговариваешь с ними, смотришь им в глаза, смеёшься. Как ты бойко научился говорить по-ихнему! В школе ты как будто и не любил немецкого, а тут прямо-таки переводчиком стал у немцев. Они только через тебя и разговаривают с рыбаками, когда посылают их ловить в море селёдку, ставриду, скумбрию на самодуры или сыпать снасти на камбалу и красную рыбу. Ты и здесь не упускаешь своего интереса — все видят: не успеют рыбаки вернуться с моря, как ты тащишь домой тяжёлую корзину с рыбкой.
Рыбаки не добровольно выходят в море, не своей волей пошли в немецкую бригаду — их вызвали по повесткам. Уже не ты ли те повестки составлял?
И вот ходишь ты теперь, Костя с Шестой Бастионной, по улицам, опустив голову, отворачиваясь от людей. Напрасно стараешься — люди сами от тебя давно отвернулись. Теперь они не вспоминают даже того, что в начале оккупации столкнул тебя фашист с пристани и чуть не застрелил в воде за то, что ты не дал ему рыбы...
Только тётка Марфа от тебя не отвернулась, пригрела, приголубила, жить к себе в подвал под развалкой позвала. А почему? Да, видать, одного поля вы ягодки. До немцев и она была уважаемой женщиной на Шестой Бастионной. Жена боцмана с эсминца... Он не то жив, не то нет, не то за землю родную воюет, не то в земле родной лежит, а его жена и днюет и ночует на базаре, жареной-пареной рыбой спекулирует, а то и копчёной скумбрией и кефалью. Сама на пару с Костей коптилку у себя на развалке построила, на груде камней, что остались от прежнего дома после немецкой бомбёжки. Костик даже ялика своего не пожалел, пустил на топливо в той коптилке. А кто же не знал, что ялик тот «Аннушкой» назван был им самим в память погибшей матери? До войны ещё было — ялик море выбросило у Херсонесского маяка, а саму Аннушку, рыбачку, так люди и не нашли...
Верно, тогда ещё пригрела тётка Марфа сироту, обмывала и обстирывала его, хозяйство вести помогала. Только тогда Костя вроде как тяготился такой опекой, хотелось ему жить вольной жизнью, как живут чайки в порту — куда понесут крылья, туда и летят. А теперь ни свет ни заря берёт Костя вёдра — два на коромысло, одно в руку — и идёт за пять вёрст по воду к колодцу. Полдня в очереди там простоит, чтобы набрать полусолёной воды; несёт домой осторожно, чтобы и капли не пролить. Зачем им столько воды на двоих? Разве что после солёной-копчёной
рыбки жажда одолевает и никак солёной водой её не заглушишь?.. Что же делать — хорошую воду привозили только для оккупантов.
И что особенно удивляло людей — при таких харчах, какие таскала тётка Марфа с базара, выменивая всё, что ни попало за бешеные деньги, каждый раз ссылаясь на то, что ей сиротку кормить надо. Костя не только не поправлялся, а с каждым днём всё становился худее, всё чернее. Нос у него заострился, глаза, чёрные как уголь, запали и блестели, как при лихорадке. И раньше его за цыганчонка принимали, а теперь только цыганчонком и звали. Может, поэтому Марфа и завела поросёнка, чтобы свежим сальцем поддержать здоровье своего приёмыша. А сам Костя за хорошую корзинку копчёной кефали добился разрешения у коменданта немецкого госпиталя брать с госпитальной кухни по ведру помоев в день. Когда он проносил помои по улице, у всех встречных в животах колики начинались — уж больно пахло от тех помоев настоящей человеческой едой. Видно, Клава-судомойка из немецкого госпиталя тоже любила копчёную рыбку...
Что, Костя с Шестой Бастионной, тяжело тебе стало жить на белом свете? Даже странно, что ты, Костя, не можешь сдержать улыбку, когда кто-ни-будь из встретившихся старых знакомых пройдёт мимо тебя, как будто не замечая, но за спиной твоей нарочно громко плюнет. Что поделаешь, Костя-цы-ганчонок, терпи, если стал на такую дорогу вместе с тёткой Марфой и судомойкой Клавой. Зажми сердце в кулак и терпи...
Знали люди только те твои дела, что делал ты у Rcex на глазах. Что сказали бы они, если бы знали о твоих ночных похождениях. Ведь люди думали, что после сытного ужина залезаете вы с Марфой на высо-чонные нары, пристроенные иод самым потолком в
вашем подвале, и спите как мёртвые после трудов «праведных», не боясь, что вас загрызут ночью голодные крысы — не достать им вас. Не вы одни спасались так от крыс в ту пору. Но ошибались люди. Часто постели ваши оставались не смятыми...
Среди ночи вылезал Костя, крадучись, из своей берлоги, залегал в условленном месте среди камней и часами лежал не шевелясь, а порой и не дыша, прислушиваясь ко всем ночным шорохам, лежал, пока рядом не появлялась человеческая тень. Ему она была хорошо знакома. Да если бы кто из жителей-соседей увидал эту тень среди ночи, то без труда признал бы в ней Клаву-судомойку из немецкого госпиталя. Бывало, что приходила она не одна, приводила какого-нибудь ночного гостя. Клаву Костя не брал под
руку и не говорил ей: «Осторожнее — здесь камень... Потерпите немного... Левее — тут воронка...» А гостей ночных он любезно провожал под ручку до самых дверей подвала, передавал с рук на руки тётке Марфе, а сам уходил гулять по ночному городу, хотя отлично знал, что за такие прогулки немцы сажали всех без разбора за колючую проволоку, ежели не приканчивали на месте.
Чаще всего отправлялся Костя на прогулку к берегу у «Трёх святителей», прямо под ноги к немецким часовым — часовые прохаживались по круче у берега, а Костя «гулял» под кручей, у самой воды. Гулял, как ящерицы всю жизнь гуляют: ползал на брюхе меж камней так же проворно и так же бесшумно. При любой погоде, даже осенью, когда и днём-то никто тебя в воду не загонит. Костя раздевался под скалой, полз на брюхе к воде, вползал в неё и отплывал от берега метров на сто — полтораста, да так тихо, что дремавшие меж водорослей зеленухи не шарахались от него в стороны.
Даже осенью купался Костя подолгу, иной раз целый час в ледяной воде просидит, а выползет на берег — не одевается сразу, начинает что-то тяжёлое на верёвке со дна морского вытаскивать, стараясь при этом как можно тише клацать от холода зубами. Если груз застревал на дне между камнями, Костя снова вползал в воду, освобождал груз и опять тащил на берег...
Грузом каждый раз оказывался латаный и перелатаный мешок. Костя развязывал его, запускал в середину руку, вытаскивал несколько увесистых камней, осторожно клал их на берегу, потом одевался, взваливал мешок на плечи и отправлялся домой. Следом за ним тучей неслись очумевшие от голода крысы — они чуяли запах свежей рыбы...
Рыба? Откуда она бралась? Может быть, у Кости стояли в бухте верши? Может быть, он её руками сонную ловил? А может быть, это рыбаки по дороге
с моря выбрасывали за борт мешок с рыбой, а на поверхности оставляли чурку-поплавок?..
Ещё раз удивил Костя людей, когда среди белого дня остановился он на улице, прислушался к далёкой-далёкой канонаде и радостно улыбнулся. Кто видел это, подумал про себя: «Ишь ты, цыганчонок, улыбаться вздумал!.. Ведь это наши, наши идут к Севастополю! На что же ты, цыганчонок, надеешься?..»
Весь этот день пробыл Костя в приподнятом настроении. Он не опускал больше голову, не отворачивался при встрече со знакомыми, но в полночь он снова перестал улыбаться, а к утру осунулся ещё больше: почти до рассвета пролежал он среди камней развалки, поджидая Клаву-судомойку, но тень её так и не появилась. А на следующую ночь вырыл Костя среди развалок неглубокую яму — вырыть глубокую яму у него не хватило сил, потом они вынесли с Марфой из своей норы длинный и тяжёлый свёрток, укутанный солдатским одеялом, и зарыли его. Сверху засыпали камнями. Утром на куче тех камней увидали люди маленький крестик из тонких жёрдочек и прочитали на нём: «Здесь погребён отважный моряк-партизан Николай Степанович Скиба, умерший от тяжёлого ранения».
Крестик люди увидали, обнажили головы, вытерли слёзы. Но никто из них не видал больше с того дня ни самого Кости, ни тётки Марфы. Пропали. Сбежали куда-то. Приходили немцы, всё в землянке перевернули и, ругаясь, ушли.
«Что случилось? — подумали одни. — Напроказил цыганчонок? Может, стащил у них что-нибудь?..» А другие подумали иначе: «Нет! Тут что-то не так... Что-то за этим кроется. Почему появился крест на развалке? Кто мог похоронить погибшего матроса-партизана?..»
А гром орудий становился всё слышнее и слышнее. Он мешался с весенним громом. Вот уже грохочет за Мекензиевыми горами, за Инкерманскими ка-
4 Боцман знает всё 97
меноломнями, на Северной стороне... Бегут, мечутся фашисты и все их прихвостни. Да только бежать им некуда: бьют их на суше советские солдаты и матросы, в море топят немецкие транспорты наши боевые корабли и самолёты. Мечутся фашисты из конца и конец, как те очумелые крысы...
Настал долгожданный день, когда утихли и пушки и автоматы, но не утихло радостное «ура». Оно перекатывалось в тот майский день, как весенний гром из одного квартала города в другой, с одной улицы на другую, от площади к площади. Вот тогда и услышали люди, как закричал один богатырь-матрос на весь Приморский бульвар, да так, что бронзовый орёл чуть не взмыл с перепугу в небо со своей гранитной колонны:
— Товарищ Костя! Жив? Ура Косте с Шестой Бастионной!..
— Какой он вам товарищ... — проворчал старый каменщик Лукьяныч. — Он с немчурой якшался, со спекулянткой Марфой... А вы его за товарища признаёте...
На это засмеялся матрос, обнял за плечи Костю и вот что сказал в ответ старику:
— Нет, папаша, ошибаетесь вы... Не только товарищем его величать будем, но и награду ему у начальства выхлопочем. Ему орден, тётке Марфе и нашей подпольной докторше Клавдии Петровне. Мы им жизнями обязаны. Я обязан, вот он, и он, и он, и ещё многие. Они, своей жизни не жалея, от себя кусок отрывая, кормили нас и поили, укрывали в своём подвале от фашистского глаза, от ран лечили, ставили на ноги и помогали уйти в горы к партизанам. Имеете вы теперь, папаша, представление, какой перед вами человек стоит?
Матрос ещё крепче прижал к себе Костю с Шестой Бастионной,заглянул в глаза и спросил:
— А почему ты. Костя, один нас встречаешь? Где тётя Марфа, где Клавдия Петровна?
— Тётя Марфа сидит на развалке своей хаты и ждёт мужа, боится с ним разминуться... А наша Клавдия Петровна...
Больше Костя ничего не смог выговорить, уткнулся лицом в матросский бушлат, и только плечи у него задёргались. И все матросы, не стыдясь, заплакали вместе с ним.
— Вот оно, выходит, дело как было... — сказал старый каменщик и тоже стащил с головы кепку. — Прости, внучек. Плохое о тебе люди думали. Слава богу, что ошиблись...
Подумал немного старик, распрямился и добавил:
— Было, конечно, что в иных людях усомнились мы, но во весь наш народ никогда веры не теряли! Знали, что не век супостатам по нашей святой земле ходить... А город наш геройский мы заново возродим. ещё краше он будет. И тебе, геройский Костя, дом поставим на старом месте, на Шестой Бастионной. Я своими руками карниз на нём вырежу из белого инкерманского камня. А погибшим героям мы навечно памятники воздвигнем.
КОНСЕРВЫ
о тылам немцев пробирался отряд моряков. Сначала в нём было одиннадцать человек, но моряки не раз принимали неравный бой с врагом, и вот их осталось только четверо: раненный в руку командир, старшина 2-й статьи Пономаренко и краснофлотцы Тиунов, Морозов и Алексеев.
Через каждые три-четыре километра командир доставал из кармана компас и определял курс.
— Вот там норд! Так и держать будем. Одним румбом правее, одним левее — не важно. На норде везде наши, — говорил он.
и моряки снова шли курсом на норд, поочерёдно неся пулемёт, поочерёдно шагая передовыми.
Однажды им повезло.
В самой чаще леса они наткнулись на покинутую лесную сторожку. Вероятно, немцы сюда не заглядывали. Здесь всё было цело: и стёкла в окнах, и лампа, полная керосина, и ситцевый полог у кровати.
— У нас в тайге в таких домиках охотники оставляют спички, табак, еду. На случай, кто заблудится, — сказал Морозов, осматривая все закоулки.
— Если бы хозяин точно знал, что ты придёшь сюда раньше немцев, то он наверное оставил бы тебе угощение, а так, не знаючи, рисковать не хотел, — заметил Алексеев.
— Да, лучше не рисковать. Ну, а как у нас там дела, товарищ баталёр? — Командир кивнул головою на мешок Алексеева.
— Вот, товарищ командир. Больше ни крошки... — Алексеев протянул Пономаренко чёрный заскорузлый сухарь.
Зсе отлично знали, что неприкосновенный запас скоро кончится, но всем хотелось верить в чудесную сказку, всякий раз рассказываемую весёлым баталёром, когда наступало время еды.
— А ну, — говорил он, — подать сюда жареного поросёнка для нашего командира! Только он любит с корочкой, румяного, с петрушкой в зубах! Есть поросёнок, товарищ командир! Получайте с пылу, с жару... — Алексеев выхватывал из мешка сухарь, перебрасывал его на ладонях и подавал Пономаренко. — Вам, товарищ Тиунов, что прикажете? Опять гуся? И опять с картошкой? Вы бы с яблоками отведали, чудесное кушанье... Вот попробуйте!
— Давай, только мучаешь своими баснями! — бурчал сердито Тиунов.
— Слышали? Товарищ Тиунов опять недоволен
нашей работой. Пережарили. Засушили. Вон какой хруст идёт по лесу! Ещё, глядишь, немцы услышат. Ну, а вам, товарищ сибиряк, пельменей, конечно, желательно. Что ж, всякому своё. Прошу вас... А себе я сухарик возьму... Люблю, знаете ли, деликатесы разные...
И вот сказка кончилась. На ладони баталёра лежал один-единственный сухарь, и его нужно было разделить на четверых...
— Пока надо растопить печь, — сказал командир, — отдохнём немного — и дальше.
— Есть растопить печь!
— Назначаю боевое охранение. Первым вахту стоит Тиунов, вторым Морозов. Стоять по два часа. Тиунов, идите на пост. Скрытно наблюдать за дорогой от села.
— Есть! — ответил Тиунов и нехотя вышел из избы.
— Поделите сухарь.
— Может быть, отдать его Тиунову? — спросил Алексеев.
— Тиунов не слабее нас, у него, может, выдержки поменьше, но за это поощрений не предусмотрено. Разделить всем поровну, — строго сказал командир.
...После отдыха Пономаренко снова достал компас, положил курс на норд и повёл свой отряд прямо по снежной целине, через лес.
Шоссе преградило им путь; его решили перейти ночью. Отыскали заброшенный дзот и укрылись в нём. Через амбразуры хорошо видна была дорога в обе стороны.
Вот к фронту пролетел мотоциклист, поднимая снежную пыль. С фронта прошла колонна санитарных машин. Они шарахнулись в стороны, когда над шоссе появилась пятёрка «МИГов». Но санитарные машины не цель для наших соколов. Они пролетели дальше, и моряки проводили их тёплым взглядом и ласковым словом.
Истребители скоро отыскали цель. За лесом взревели моторы. Целая свора «мессершмиттов» пронеслась, удирая от смертоносного потока трассирующих пуль.
— Наших пять, а их целая стая... И всё-таки удирают. Особенно недолюбливаю я этих летунов, — сказал Алексеев. — Немца-стрелка я могу мёртвым сделать штыком, пулей или прикладом. Танк могу бутылочкой или гранатой угостить. А этой поганой птице что я могу сделать?
— Почему? Не было разве случая, чтоб из винтовки самолёт сбивали? Сколько хочешь... — возразил Морозов.
Спор их заглушил грохот танков. По шоссе, лязгая гусеницами и чадя дымом, двигалась танковая колонна. За каждым работающим танком тянулись на тросах по два танка с выключенными моторами.
— Постойте-ка, товарищи. Это чего же они здоровые танки в тыл тянут? — воскликнул Пономарей ко.
— На заправку, может быть?
— Для того существуют автоцистерны. Здесь другое... Не тикают ли они, часом?
Пономаренко вопросительно посмотрел на краснофлотцев.
— Всё может быть, товарищ командир...
И от мысли, что долгожданное наступление началось, всем стало теплее, и в то же время обидно было, что наступление началось без них.
За танками прошли тягачи с тяжёлыми орудиями, обоз с боеприпасами, несколько грузовиков с поклажей. Напротив дзота, где сидели моряки, у одной машины лопнул баллон, и она остановилась. Ругаясь, подбежал офицер, ткнул носком сапога в спущенный баллон и, продолжая ругаться, побежал на своё место в кабину головной машины. Колонна ушла, оставив аварийный грузовик под охраной двух солдат.
— Помочь бы надо, товарищ командир. Без дела ведь сидим, — предложил, улыбаясь, Алексеев.
— Может быть, и поможем...
— У них автоматы, — сказал как бы про себя Тиунов.
— У них автоматы, а у нас гранаты и товарищ Дегтярёв. Мы их видим, они нас нет, — в тон ему ответил Алексеев.
— Гранаты и Дегтяря в ход пускать нельзя... Штыками брать будем. Сдаётся мне, что в мащине продовольствие...
— Верно, товарищ командир, смотрите. — Морозов показал на дорогу.
Один из солдат, приподняв брезент, доставал что-то из машины и, воровато озираясь, совал себе в карманы.
— Консервы, честное слово, консервы, — прошептал Тиунов.
Поодиночке они выскользнули из дзота и кустарником стали пробираться к шоссе. Пробирались осторожно, стараясь не задевать веток. Впрочем, солдаты увлеклись офицерскими консервами, а водитель был занят прилаживанием баллона, и морякам удалось подойти к ним вплотную. Пономаренко первый выскочил на дорогу со штыком наперевес... Так и не пришлось солдатам отведать офицерских консервов.
Быстро набили краснофлотцы банками свои опустевшие мешки и побежали по шоссе в сторону фронта.
— Хорошее дело штык, — басил Алексеев. — До-ведись руками им шею сворачивать, так вшей бы набрался небось...
— Надо бы машину подпалить...
— Ничего, она и сама загорится.
— Как — сама, товарищ командир?
— Да так, товарищ Морозов. У меня оставалось запального шнура метра три. Один конец в бак с бензином, и порядок...
— Здорово! А я думал, что вы закуривали, думал, у немцев папироску стрельнули...
Все засмеялись, и даже чересчур громко. У каждого перед боем натянулись нервы. Теперь они успокаивались. Всё обошлось благополучно. И немцев побили, и трофеи забрали: два автомата, пистолет, гранаты, да ещё консервы в мешках аппетитно побрякивали. Может быть, рыбные, а может быть, и мясные. Поэтому-то и идти стало легче.
С шоссе свернули на просёлочную дорогу, с дороги — на тропинку в лес.
— Теперь бы ту избушку отыскать... — вслух мечтал Морозов.
— Не найдём — в шалаше костёр разложим. Только нужно подальше отойти, — сказал Понома-ренко.
Прошли километров пять и в балке из веток и плащ-палаток соорудили шалаш. Развели в нём небольшой костёр, вскрыли тесаком шесть банок и поставили на огонь.
— Рыбные... Из немецкого леща, — заявил Алексеев, приготавливая вместо вилок щепочки.
— Это, наверно, эстонские консервы. Своих в Германии не богато... Только что-то пахнут они неважно. — Пономаренко взял одну банку и поднёс к носу. — Товарищи, тухлятина!
— А ну, эта... — Морозов понюхал вторую и выбросил её из шалаша.
— И эти обе вонючие, — заявил Алексеев.
Моряки переглянулись.
— Давайте откроем другие, — неуверенно предложил Тиунов.
Они открыли все принесённые банки, и все они издавали зловоние. Тиунов швырнул последнюю банку в угол, лёг на снег лицом вниз.
— Я больше никуда не пойду, — сказал он глухо.
Медленно догорал костёр. Ядовито поблёскивали
разбросанные банки. Своими рваными пастями они как будто беззвучно хохотали, издеваясь над голодными людьми. С ненавистью смотрели на них моряки.
Вдруг Пономаренко схватил одну банку, поднял её вверх и засмеялся. Краснофлотцы с недоумением взглянули на своего командира,
— Товарищи! Мы же ничего не поняли!. Товарищи! Да ведь это же... это же нам руку жмут, понимаете? Рабочие те, которые консервы делали. Разве они их для нас делали? Для немцев ведь! Для врагов своих, понимаете?
— Понимаем, товарищ командир. — Алексеев схватил вторую банку — она сразу заблестела как-то
тепло и дружественно. — Тут нужна только маленькая дырочка, совсем маленькая, и банка вышла из строя, можно за борт... Молодцы эстонцы! Ой какие молодцы!..
— А ну, тихо! — сказал вдруг Морозов.
Все насторожённо прислушались и ясно услышали разрывы. Словно сотни орудий дали залп, и теперь снаряды рвались громовыми раскатами. Кто был на фронте, тот слышал этот гром, слышал и многозначительно переглядывался с соседом.
— «Выходила на берег Катюша!..» — запел Алексеев.
— «Выходила, песню заводила...» — подхватил Морозов.
— Теперь мы и без консервов дойдём, — сказал, поднимаясь, Пономаренко. — Затушить костёр. За мной.
СЛУЧАЙ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
Верно, что человек не сорока — перо в перо не уродится. Бывают люди с добрым сердцем, а встречаются и такие, что мимо чужого горя спокойно пройдут. К счастью, таких людей меньше на белом свете. Многие говорят, что люди за войну стали чёрствыми. Неправда это. Можно сказать, что они стали раздражительнее, но не черствее.
Это присказка к рассказу. А вот и сам рассказ.
Война с Японией закончилась полной нашей победой. Ушёл я в последний рейс в Маньчжурию. Приказано было принять на десантную баржу одно артиллерийское подразделение для отправки на родину.
Баржа наша не самоходная. Прибуксировал нас тральщик и поставил к берегу, у небольшой китайской деревушки повыше Фугдина. С мостика открывался замечательный вид на Сунгари.
Там всё было как на старинной китайской ширме. По самому горизонту тянулись бледно-синие сопки, еле заметные на полинялом небе. Над поймой реки, над протоками, озёрами, болотами, над зарослями поседевшей осенней травы плавала сизая дымка. Картину довершали две серые цапли на песчаной косе и старая джонка с жёлтым парусом из бамбука.
Природа не поскупилась на краски, расписывая эту ширму, — видно, хотела закрыть ею всю неприглядность нищенской жизни китайцев. Они и раньше небогато жили, а японские оккупанты последнее забрали. За ветхой глинобитной стеной лепились друг к другу десятка два глиняных фанз с гнилыми гаоляновыми крышами. По узким улочкам бродили чёрные длинноногие свиньи, тощие, как борзые собаки. Вместе с ними «паслись» полуголые ребятишки. Взрослые и подростки толпились сегодня на берегу, у баржи. Они провожали нас с красными бумажными флажками, и всё предлагали свои услуги.
Но артиллеристам их помощь была не нужна. Они играючи закатили по трапам свои пушки вручную, а потом стали заводить лошадей.
Лошади все были подобраны в масть, гнедые, хотя п самой различной породы — от немецких и японских верзил до низеньких мохнатых монгольских лошадёнок.
Погрузка шла полным ходом, когда вдруг с привязи сорвался один конь, галопом подлетел к трапу и, столкнув в воду двух немецких здоровенных коней, ворвался на палубу.
Артиллеристы весело засмеялись, столпились вокруг коня. Засмеялись и матросы:
— Что это у вас за конь такой суматошный, норовит погрузиться без очереди?
Но тут один ефрейтор, уже немолодой человек, с перевязанной рукой, сказал:
— Напрасно смеётесь над конём. Он чует, бедняга, что до него очередь не дойдёт,
и так он это сказал, точно у него горло перехватило. А конёк, как услышал его голос, так сразу по палубе топ-топ к нему, уткнул морду под мышку и стал.
Смутились мы.
— Что за причина? — спрашиваем. — Почему очередь не дойдёт?
— Причина? Свечников всему причина. Видите, до какого он, разгильдяй, состояния лошадь довёл за те пять дней, что я в лазарете пробыл! Все плечи стёр... А теперь есть приказ: всех коней с потёртостями, больных и раненых оставить и заменить трофейными, японскими. Кабы не дисциплина, показал бы я ему, как за таким конём нужно ухаживать!
— А он что, — спрашиваем, — особых кровей, племенной?
— Нет. Обыкновенный, наш, расейский... Но я его ни на какого японского не променяю! До войны на нём землю в колхозе пахали. Я с ним с первых дней войны... Вместе отступали, вместе до Берлина дошли... Он слово моё понимает, собачкой за мной ходит. Служил Орлик верой и правдой, а теперь награда ему вышла за это: сами на родину укатили, а его на чужой стороне покинули. За то лишь, что по нашему недогляду плечи ему хомутом натёрло...
— Так поговорите со своим старшиной. Он погрузкой ведает.
Ефрейтор только безнадёжно махнул рукой:
— Сухарь это, а не человек! Для него конь что свой, что чужой — в одной цене! Лишь бы поздоров-ше был...
Старшина заметил непорядок и направился к ефрейтору.
— Соколов, что вы тут нюни распустили? Постыдились бы хоть моряков!
— А нас ему стыдиться нечего, товарищ гвардии старшина, — говорю я. — Мы товарища вполне понимаем и сочувствуем его горю. Да и конёк, по нашему
понятию, того не заслуживает, чтобы его на чужбине бросать.
— А приказы, по вашему понятию, выполнять нужно? — вскипел старшина.
— Приказ, — говорю, — дело святое. Но и в самом точном приказе такого случая не предусмотришь.
— Я солдат и привык все приказы выполнять от буквы до буквы. Советую и вам это делать... Соколов, уведите коня.
Тяжело вздохнул артиллерист, опустил голову и повёл Орлика на берег. Не на поводу повёл, а так просто. Сам пошёл, и конь за ним как привязанный.
И сразу погрузка разладилась. Упало у людей настроение, приумолкли все: ни улыбки, ни шутки.
Ефрейтор привязал коня, погладил его больной рукой по шее и, не оглядываясь, поплёлся на баржу.
А Орлик так и рванулся за ним, затанцевал на привязи, голос подаёт. Непонятно ему, видать, было, почему всех лошадей грузят, а его в стороне держат. Но, как только завели на палубу последнюю пару и приготовились поднять трап, он рванулся изо всех сил, и не успели мы глазом моргнуть — Орлик снова был на барже. Как это на всех подействовало! Люди точно ожили, обступили коня со всех сторон, кто гладит, кто сахар на ладони подаёт, и все посматривают на старшину. Показалось мне, что и старшина не так уж сурово смотрит на виновника суматохи, что в его суровых глазах под нависшими бровями промелькнула тёплая искра...
Подошёл я к нему и спросил:
— Так, может, оставим коня? Больно охота ему на родную землицу переправиться.
Сначала он как будто даже не понял, о чём я говорю, а потом буркнул:
— Я не привык отменять приказания начальства... Уведите.
Солдаты замялись. Никому не хотелось уводить Орлика на берег. Пришлось старшине назвать не-
скольких солдат по фамилии. Но и после этого увести коня оказалось не так просто. Он стоял точно пришитый к палубе. У него под кожей напряглись все мускулы, и из ран на плечах начала сочиться кровь. Пришлось вызвать Соколова. Он пришёл, еле владея собой, на скулах желваки бегают. Но крепко знает солдат дисциплину. Ещё раз свёл своего друга на берег.
— Убрать помост! — крикнул старшина. — Ефрейтор, на баржу!
Остался Орлик один на берегу, начал метаться: то к корме подбежит, то к носу, смотрит на нас и так ржёт, точно просит не бросать его, взять домой, на родину. Китайцы на него поглядывают, удивлённо головами качают. А нам всем не только коню было стыдно в глаза смотреть — мы друг от друга отворачивались. У всех было такое чувство, точно мы совершили что-то очень нехорошее.
— Ну, что же мы стоим, мичман? Давайте отваливать! — крикнул мне старшина и ушёл в каюту.
я просемафорил на тральщик. Там выбрали якорь и подошли к нам.
Китайцы замахали нам флажками, помогли убрать концы, и баржа медленно отвалила от берега.
Люди на берегу окружили Орлика, стали его ловить. Для них лишняя лошадь была такой ценностью, что и сказать трудно. Но Орлик не дался. Он взвился на дыбы, прорвал кольцо и понёсся за нами по берегу.
Ниже деревни река делала крутой поворот, и фарватер подходил к самому обрыву. Когда мы поравнялись с мысом, Орлик догнал нас. Не отыскав удобного спуска, он бросился в воду с двухметрового обрыва и поплыл к барже.
Однако прыгнул он слишком поздно. Мы уже прошли мыс, и Орлик, проплыв за нами довольно долго, повернул к берегу.
На мостик поднялся старшина. Мне было неприятно его видеть, и я сказал:
— Посторонним здесь находиться воспрещается.
Он ничего не возразил, молча посмотрел на Орлика и спустился на палубу.
— Моя покойная бабка говорила, что у некоторых людей на сердце лишаи растут, — сказал я громко, чтобы он слышал.
Орлик догнал нас на следующем повороте, километрах в десяти от деревни. Он прискакал даже раньше нас и теперь стоял на мысу и поджидал баржу. Больше я не мог вытерпеть, взял флажки и просемафорил на тральщик: «Прошу разрешения принять лошадь. Могу принять на ходу».
На тральщике как будто ждали запроса — немедленно дали «добро» и сбавили ход. Мне не пришлось объяснять матросам, что нужно делать. Я стал к штурвалу и повёл баржу у самого берега. Матросы спустили танковый трап так, что он почти лёг на воду. Боялся я только одного — за мысом сразу начиналась песчаная коса: замешкайся Орлик хоть на минуту, мы должны были бы отказаться от погрузки или сесть на мель. Ещё боялись мы, что Орлик бросится в воду раньше времени, тогда течение отнесло бы его далеко в сторону, а за косой начинался широкий разлив Сунгари с заболоченными берегами. Вряд ли удалось бы Орлику спастись...
Баржа шла прямо на мыс. Расстояние быстро сокращалось.
Конь застыл на мысу, как высеченный из камня. Каждый мускул его был напряжён. Мокрая шерсть блестела на солнце, бока высоко поднимались, на плечах белели хлопья пены, голова была вскинута, уши насторожены. Он был очень красив в этот момент.
«Потерпи, потерпи, дорогой!» — мысленно повторял я, а кто-то рядом сказал это вслух. Я на секунду, обернулся и увидел... старшину. Он стоял, ухватившись за леера, весь подавшись вперёд. От волнения у него выступили капельки пота на лбу.
— Не волнуйся, старшина. Это умная коняга, смекалистая. Заберём! — сказал я миролюбиво.
Наступил решительный момент. Баржа была у самого берега. Тяжёлый танковый трап почти касался глинистого обрыва. Конь стоял не двигаясь, как заворожённый.
— Прыгай, да прыгай же! — молит старшина.
Но конь стоял.
Трап медленно проплывал у самых его ног. Ещё секунда — и мне пришлось рвануть колесо штурвала. Нос баржи медленно повалил на середину реки.
— Всё пропало! Остался... Соколов! — отчаянно крикнул старшина.
Ефрейтор только этого и ждал.
— Орлик! Ко мне! — крикнул он.
Орлик точно очнулся, сделал по берегу несколько скачков и взвился в воздух...
— Ура-а-а... а-а-а! — прокатилось по палубе.
Я ещё круче положил руль право на борт, и мы только слегка задели кормой за песок косы.
Орлик подошёл к ефрейтору и устало положил голову ему на плечо.
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ
Вахтенный собирал нас по всем кубрикам.
— Отделение мичмана Блинова, на бак! — выкрикивал он и для официальности свистел в дудку. Неофициально он добавлял: — Живее, живее, топорики!.. До праздничка флотского остались считанные дни, может быть, и из вас кто отличится в заплыве...
Отделение наше было составлено по приказанию командира корабля временно, в штатном расписании оно не значилось. Мы назывались отделением мичмана Блинова, а среди личного состава в шутку именовались попросту «топорами». Все девять человек. Этим словом определялось наше умение держаться
на поверхности воды без помощи спасательных кругов, пробковых матрацев, поясов и прочих поддерживающих средств.
Можете мне верить, что на бак мы не бежали, как по тревоге. Мы шли не торопясь, по одному, шли так, как шёл бы всякий не умеющий плавать, зная, что сейчас его заставят лезть в воду на довольно глубоком месте.
Особого стыда перед тем фактом, что мы не умели плавать, никто из нас не испытывал. У каждого была к тому причина. Многие из нас родились в таких местах, где о большой воде знают только понаслышке. Иванов, например, до призыва болел малярией. Максимов прибыл с далёкого Севера, где особенно не расплаваешься. У меня лично была особая причина побаиваться воды, если её было больше, чем в корыте.
Я не очень-то люблю вспоминать об этом, и сами сейчас поймёте почему. Дело в том, что я уже один раз плавал и даже нырял, причём не в реке, не в озере, не в пруду, а в обыкновенной бочке, что стояла на углу нашего дома под водосточной трубой. Мать собирала дождевую воду для стирки. Вот я и умудрился свалиться в это домашнее водохранилище. Мать меня по двору ищет, а я пузыри пускаю. Хорошо ещё, что соседская девчонка крикнула матери, что я в бочку спрятался. Хорошенькое дело: спрятался!..
После этого случая я на нашу Кубань смотреть без содрогания не мог, не то что там переплывать её вместе с ребятами. Правда, они меня охотно брали с собой, чтобы было кому бельё сторожить... Но я немного отвлёкся.
— Рассаживайтесь... Подождём остальных... — говорил мичман.
Мы садились и ждали. Ждали и рассматривали забортную гладь. Я в жизни своей не видал более неприветливой водной поверхности. Она казалась мне такой маслянисто-плотной, что, окунувшись в неё, ни
один человек, даже наш мичман, уже не смог бы вынырнуть.
А мичман следил за нами внимательно и посмеивался в усы. Усы у него были как у запорожца, и поэтому никак не верилось, что он способен выучить нас держаться на воде, хотя сам — один из чемпионов Черноморского флота.
Наконец все «топоры» собрались. Мы сидели, молча курили и ждали команды построиться. Но мичман расхаживал по палубе и, казалось, совсем не обращал на нас внимания. Вдруг он остановился и спросил:
— Ну, орлы, о чём задумались?
О чём мы задумались? Я уже сказал, о чём мы думали. Мичман посмотрел на нас и рассмеялся:
— Знаю я, товарищи, все ваши думки... Так вот, бросьте вы смотреть на воду, словно лишние в доме котята... Прежде чем опустить вас за борт, я научу вас плавать на палубе...
— Как это — на палубе? — пропели мы девяти-голосым хором.
— Очень просто... Будете ложиться животами вот на эти банки, — мичман ткнул носком ботинка в ножку скамьи, — и делать вид, что плаваете по океану... Но этим мы займёмся со второго урока, а сегодня я думаю прочесть вам вступительную лекцию...
Начал мичман с признания, что сам в своё время был «топором», и не простым, а с железной ручкой, как он выразился.
Когда призывнику Блинову сказали в военкомате, что он по всем статьям годен во флот, он вышел пошатываясь, сел в сквере на скамейку и просидел дотемна. Перед его взором вставало море, только не гладь морская, не ширь, а глубины зеленовато-сумеречные, непроглядные. А когда вспомнил он, что в океане есть места глубже шести километров, то ему и совсем стало плохо...
Тут же вспомнился ему и тот ливень, и та водо-
сточная канава в родном городе, в которую он был сдут порывом ветра. Как видите, у нас с мичманом есть общее: у него — канава, у меня — бочка. И дальше мы приблизительно одинаково начинали, и он был в «топорной» команде, да только не пришлось ему долго «плавать», лёжа животом на банке. Этому помешала первая бомбёжка Севастополя...
Мичман считал, что рассказывать нам обо всех военных дорогах, которые он прошёл, проплыл и проехал, не стоит. Он рассказал нам только об одном случае.
После третьего или четвёртого госпиталя попал старшина второй статьи Блинов в обыкновенный пехотный полк, сформированный заново, ни в каких операциях, связанных с форсированием водных преград, ещё не участвовавший. Надо сказать, что судьба хранила старшину: за всю войну ему ни разу не приходилось попадать непосредственно в воду. Всегда подвёртывались какие-либо плавучие средства. Зато воевать в сухопутных условиях он научился отлично и даже прослыл как большой специалист по добыванию «языков».
Пока полк шёл с боями по степям и лесам, всё было хорошо. Но вот фронт придвинулся к довольно солидному рубежу, к реке шириной метров в сто, если не в полтораста, и тут пришлось подзадержаться. Такую преграду с ходу не возьмёшь, тем более противник солидно укрепил свой берег.
Я, товарищи, войны не застал. Даже тревоги, кроме учебной, ни одной не пережил. Об огне, кинжальном там, фланкирующем, трёхслойном и всяком другом, понятие имею только учебно-теоретическое, поэтому рассказывать вам с художественными подробностями, как гитлеровцы встречали попытки полка форсировать реку, не стану. Да и мичман об этом мало говорил. Рассказал он нам вот про что.
На третий день прибыл в штаб полка генерал, командир дивизии. Солдаты сразу насторожились: ге-
нералы зря не приезжают, тут жди приказа о решительных действиях. Насторожился и старшина, и не напрасно насторожился. Приходит командир взвода, лейтенант, и зовёт его к самому генералу. Разведчики переглянулись — это что-нибудь да значило...
Генерал, как только увидел старшину, приказал:
— А ну, расстегните-ка ворот!
Старшина удивился такому приказу, однако, хоть не совсем охотно, выполнил: не очень ему хотелось показывать командиру дивизии то, что осталось от матросской тельняшки. А осталось всего ничего, кусок рукава, который он пришивал на груди к обыкновенной армейской бязевой сорочке. Увидел генерал этакое и сразу подобрел.
— Теперь, — говорит, — верю, что у вас настоящий моряк имеется...
Это он майору сказал, командиру полка, а старшине сказал другое, от чего старшина сразу про морские глубины вспомнил. Предлагал генерал старшине Блинову, не больше не меньше как в одиночку, форсировать водный рубеж, без всяких плавсредств, заметьте, и привести «языка».
Не решился старшина сказать генералу, что он «топор с железной ручкой». Он так понимал, что здесь была задета общематросская честь. Потом он пожалел об этом, да было уже поздно. Сказал он: «Есть!», щёлкнул каблуками и вышел из штабного блиндажа. Хотел было тут же повиниться перед лейтенантом, да тот опередил его.
— Мне скажите спасибо, — говорит. — Это я вас рекомендовал генералу...
— Спасибо, — ответил старшина вежливо, а у самого на душе разные нехорошие слова.
Поиск был назначен на два часа ночи. Тут учитывался и заход луны, и притупление бдительности противника, ослабление огня и прочие тактические соображения. В распоряжении старшины было около шести часов, и он принял смелое решение — ликвиди-
ровать за это время свою плавнеграмотность. Тут, конечно, было уже не до стиля, брасса там или кроля, — научиться бы только на воде держаться!..
Среди лесочка, в километре от передовой, старшина приметил что-то вроде озерца или пруда. Вот он и направился, не мешкая, туда. Пришёл, разделся и, не зная броду, бухнул в воду... И сразу же зарылся в ил, как карась. Потом он всё озерко исходил и больше, чем по колено, глубины не нашёл. Конечно, на такой глубине не утонешь, будешь «плавать»... Еле смыл старшина грязь с тела и бросил эту затею. В душе он совсем загрустил, но виду не показал.
Наступил срок, и он с двумя солдатами-провожатыми отправился к реке. Дело осложнялось тем, что плыть-то надо было в гимнастёрке и в брюках — голого человека в темноте за версту видно... Одним словом, на берегу пустынных волн стоял он, дум тоскливых полн, и на воду смотрел.
Но, сколько ни смотри, выполнять задание надо. Выбрал старшина минуточку, когда гитлеровцы не пускали осветительных ракет, и тихонько спустился к реке с крутого берега. Тут уже не раздумывая скользнул в воду. Хотя глубина была в реке и не океанская, старшине показалось, что на дно он опускался очень долго... Оставаться на такой глубине больше секунды ему не хотелось, и он, оттолкнувшись от грунта ногами, работая кое-как руками, выплыл у самого берега. Его немного отнесло по течению. Тут под руку ему попались плети корней, свисавших до самой воды. Он ухватился за эти гибкие корни так крепко, что уж никакая сила, казалось, не способна была оторвать от них. Но вдруг он услышал почти над головой шёпот одного из сопровождавших его солдат:
— Вот это да!.. Нырнул — и пропал... Что значит матрос!..
— А что же ты хотел? — прошептал второй.
Для него это, как для рыбы, родная стихия. Он те-
перь вынырнет где-нибудь на середине, схватит воздуху и опять под воду... Попробуй заметь такого... Командование знало, кому это дело поручить!
От таких слов старшину в жар бросило. Выходило, что он совершает преступление, обманывает и командование и солдат-однополчан. Нашлись бы ведь в полку и не матросы — хорошие пловцы.
«Хоть пешком по дну, а иди, старшина... — сказал он себе и добавил: — Нет такой реки, на которой матрос не найдёт чего-нибудь плавучего...»
Старшина разжал пальцы и выпустил корень.
Только на этот раз он не пошёл сразу на дно, удержался на воде две-три минуты. За это время течение отнесло его на десяток метров вниз. И вот в тот самый момент, когда положительная плавучесть угрожала перейти в отрицательную, что-то легонько стукнуло старшину по затылку. Он быстро обернулся и чуть не вскрикнул от радости: судьба послала ему отличное сосновое бревно.
Заполучив такое подручное средство, старшина сразу пришёл в норму. Он оттолкнул бревно от берега, уцепился за него левой рукой, а правой стал загребать в сторону противника. И, странное дело, плыл он, почти не опираясь на бревно. А когда гитлеровцы пускали ракеты, спокойно нырял или, пряча голову за бревно, высматривал, где ему лучше высадиться.
Гитлеровцы заметили бревно и на всякий случай дали по нему несколько очередей, но старшина остался цел и невредим.
Мичман не рассказывал нам, как ему удалось «уговорить» вражеского наблюдателя отправиться вместе с ним на нашу сторону. Кажется, самым убедительным доводом послужил вид старшины, кусок тельняшки у ворота и добротный матросский нож.
Гитлеровец «согласился» тихо, по-пластунски доползти со старшиной до берега, но когда разведчик предложил ему лечь в воду и плыть, он замычал и
категорически замотал головой: не умею, дескать, плавать. На это старшина ему ответил: — Я и сам не чемпион ещё...
Тот ничего не понял, и тогда старшина по-немецки сказал ему приблизительно следующее:
— Очень сожалею, герр, но тогда мне придётся пригласить кого-нибудь другого...
Фашист всё хорошо понял. Так хорошо, что немедленно начал стаскивать свои сапоги с подковами. Пока старшина искал бревно, он уже сам полез в воду. И знай фашист, что старшина действительно ещё не чемпион по плаванию, он мог бы от него уйти. Но он и не подозревал этого, стоял и, дрожа всем телом, ждал «руссиш матрозен».
Бревна на месте не оказалось. Наверно, его отнесло течением. Другого выхода у старшины не было, и он принял отчаянное решение — плыть без подручных средств рядом с пленным.
А чтобы «язык» не утонул, старшина связал его сапоги за ушки и опрокинул их в воду так, что получилось два поплавка. Он предложил гитлеровцу воспользоваться этим плавучим средством, но тот отказался: он отлично держался на воде. А старшина, под благовидным предлогом не выпустить «языка», ухватился за него одной рукой да так и плыл до самого берега.
Когда их обоих вытащили на берег, старшина приказал солдатам вести «языка» прямо к генералу, а сам углубился в лес... Не мог же человек идти к генералу, если в желудке у него было не меньше ведра воды, когда его мутило при каждом движении.
Вот, товарищи, какую историю рассказал нам мичман во вступительной лекции. Только вы не думайте, что мы сразу же после неё перестали быть «топорами» и попрыгали за борт. Это пришло потом, месяца через два.
БОЦМАН ЗНАЕТ ВСЁ
Боцман оказался совсем не таким, каким думал его увидеть молодой матрос Василь Петренко. Он не курил трубки (и вообще не курил), не носил усов и бороды, не распекал своих подчинённых зычным или хриплым голосом и не отличался могучим телосложением. Китель на нём сидел франтовато, подворотничок сверкал белизной, пуговицы отливали золотом.
Василю показалось с первого взгляда, что боц-
ман — человек несолидный, что он не столько исполняет должность боцмана, сколько играет эту роль.
Боцман быстро перезнакомил молодёжь со всеми «стариками», а вечером устроил что-то вроде пионерского костра, на котором молодые, незаметно для себя, поведали свои несложные биографии. Сам боцман, как бы к слову, рассказал им о корабельных традициях и порядках.
На другой день боцман определил Василя к месту: он отдал его под начало старшего матроса Була-винова, человека спокойного, рассудительного, цепкого до всякого дела. Им обоим была поручена покраска корпуса ниже якорного клюза.
— Учитесь, товарищ матрос. В хозяйстве такое ремесло всегда пригодится, — сказал боцман. — Бу-лавинов у нас отличный маляр, перенимайте опыт.
— Есть перенимать опыт! — отчеканил Василь.
Но Булавинов не сразу допустил Василя к настоящей работе. Сначала Василю пришлось только размешивать краску да передвигать самого Булавинова на беседке. Это немного обидело молодого матроса, но он и виду не показал. Ему хотелось разузнать у Булавинова про боцмана, и он сказал:
— Интересный у нас боцман...
— Чем это интересный? — как-то насторожился Булавинов.
— Лёгкий он какой-то... — неопределённо ответил Василь.
— Да? Лёгкий, говорите? — переспросил Булавинов и помолчал, видимо подбирая слова. Потом добавил: — Имейте в виду, такого боцмана, как наш, на всём флоте нет. Он всё знает. Понятно я говорю?
Старший матрос сказал это таким тоном, точно Василь обидел его самого.
— Да ничего особенного я и не сказал, — начал оправдываться Василь. — Показался он мне таким с первого взгляда.
— А вы по внешности не судите о человеке.
Булавинов спустился на беседку и стал закрашивать шаровой краской бурые пятна под якорным клюзом. По мере надобности Василь приподнимал беседку или передвигал её с одного места на другое.
«Ишь ты, — думал он, — как они тут за боцмана горой стоят. «Лучшего на флоте нет»! Перехватили, наверное, через край... Есть ведь и такие, которые всю жизнь на море. Опыта у них побольше будет. А пример с него берут. Ну, поживём — увидим!»
Просто удивительно, почему Василю, степному пареньку, жившему у такой малой речушки, на которой никакой лодке не развернуться, полюбилось море. На призывной комиссии он решительно заявил, что хочет пойти на флот, и его просьбу удовлетворили. Теперь Василь ставил перед собой одну цель: стать в своё время боцманом, а там видно будет...
«Учиться никогда не поздно, — рассудил он мудро. — Раз надо начинать с того, чтобы краску размешивать, значит, размешивай хорошо...»
Через неделю Василь так «оморячился», что уже не путал названий частей корабля, знал назубок все расписания боевых тревог и своё место по любой из них. Делал всё так старательно, что боцман в присутствии других матросов похвалил его. Для полной удовлетворённости не хватало Василю только одного — морского простора. Дни и ночи стоял корабль среди бухты на якоре, и всё «плавание» только в том и заключалось, что корабль разворачивало ветром с одного направления на другое.
— В море бы скорей, — сказал он как-то Булави-нову. — А то как на берегу... Меня хотели на батарею послать, так я и руками и ногами отбивался. Отбился, а всё равно вроде телка на верёвочке...
— Да, непорядок. Надо будет командиру сказать, — усмехнулся Булавинов.
— Ну вот, опять смеётесь. Вроде я не понимаю, что это делается тогда, когда приказ будет. Я про то говорю, что моря по-настоящему ещё не видел.
— Посмотрите ещё! — успокоил Булавинов. — Я сам море люблю.
— А боцман про поход ничего не говорил? — хитровато спросил Василь. — Он же всё знает.
— Говорил. Говорил, что поход будет своевременно или чуть попозже. Но вы не бойтесь, про вас не забудут.
Когда пришла пора выполнить приказ: «Все наверх! По местам стоять! С якоря сниматься!» — Ва-силя как ветром сдуло с койки. Он сразу же стал торопливо одеваться. Но, как назло, руки не попадали в рукава, ноги — в штанины. Впопыхах он обул ботинки без носков, а носки зачем-то сунул в карман.
Боцман уже был на своём месте и с обычной улыбкой посмотрел на Василя, когда тот принялся разматывать шланг: на обязанности Василя лежало обмывать цепь во время подъёма якоря.
— Хорошо действуете, товарищ матрос, — похвалил боцман, но тут же, не меняя тона, добавил: — А если бы ещё носки были у вас на положенном месте, а не в кармане, то всё было бы отлично.
Василь почувствовал, что покраснел. Добро, что было ещё темно, а то Булавинов непременно бы сказал: «Подходи прикуривай...» — и показал бы на Василёвы уши.
«Откуда он про носки дознался?» — недоумевал Василь, но, когда украдкой провёл рукой по карману, сразу всё понял: носки предательски выбились наружу. Торопливо засунул он их поглубже, но боцмана это не устроило, и он приказал Василю тут же, при всех, переобуться.
Брашпиль выбирал цепь медленно, звено за звеном; цепь грохотала о железный настил палубы и казалась Василю бесконечно длинной. Он стоял у самого клюза и хлестал по появлявшимся кольцам цепи тугой струёй воды из брезентового шланга.
С моря тянуло солёным ветром. Василя всё время обдавало брызгами, и роба на нём промокла. Ему
стало холодно. Боцман словно почувствовал, как дрожат у Василя плечи. Он подошёл к нему и тихо сказал:
— Спокойно!
От одного этого слова, сказанного просто, у Василя сразу унялась дрожь, и он стал замечать, что происходит кругом. А кругом все были на своих местах, все занимались своим делом, и никакой суеты. Корабль медленно продвигался вперёд, _подтягивае-мый якорной цепью. Стучал натужно брашпиль. Доносились команды. Наконец якорь показался над водой. Корабль вздрогнул и уже своим ходом двинулся вперёд занимать место в строю. Один за другим корабли вышли в море.
Со всех сторон бухту окружали огни, и Василь стал беспокоиться, что командир корабля не найдёт в такой обстановке выхода из бухты. Но корабль шёл, не сбавляя хода, уверенно стал на своё место в строю и ещё прибавил ходу.
Василь успокоился, посмотрел на других матросов, расставил ноги пошире и стал ждать моря. Наконец-то сбудется давняя мечта!
Море встретило молодого моряка штормовой волной. В первую минуту Василь ничего не понял. Случилось что-то совсем непонятное: казалось, кто-то огромный навалился ручищами ему на плечи и начал вдавливать в палубу, а в следующее мгновение палуба стала вдруг уходить из-под ног. Затем снова в ногах свинцовая тяжесть, и опять провалилась палуба.
И в этот момент вспомнился Василю, вспомнился ярко, с подробностями, один день из детских лет. В сарае к балке подвешены качели: он стоит на одном конце доски, друг его Петька — на другом. Петька всё приседает и приседает, раскачивая доску. Василю не страшно, но он почему-то начинает кричать. С ним творится что-то неладное, ему становится плохо, стучит в голове, тошнит. Он кричит, но Петька только озорно смеётся и раскачивает доску ещё сильнее. Василь взлетает под самую стреху. Потом Василь очутился на земле — то ли он свалился с доски, то ли Петька понял наконец, что с другом беда. Василю было так плохо, что он ничего не соображал. Запомнился только сердитый голос Петькиной матери: «Ты что, дурень, делаешь? Не видишь, что его укачало?»
«Неужели и теперь?.. — с тоской подумал Василь. — Тогда всё пропало...»
Волна за волной обрушивались на корабль. Острый форштевень рассекал валы, и по бортам взлетали вспененные султаны, точно перед кораблём беспрерывно рвались глубинные бомбы. Он то взлетал на волне, то проваливался куда-то вниз.
С каждым ударом волны Василь всё больше убеждался, что его жизненные планы рушатся, что моряка из него не выйдет. В голове с каждой минутой прибавлялось свинца, в ногах появилась противная дрожь. До него, как будто из-за стены, донёсся голос боцмана:
— Матрос Петренко! Уберите шланг на место.
Василю показалось, что боцман приказал ему сделать что-то совершенно немыслимое, невыполнимое. Можно ли убирать какой-то шланг, когда кажется, что оторви руку от скобы, за которую держишься, и сразу же очутишься за бортом в этом пенистом водовороте. А боцман продолжал, будто всё было нормально:
— Переберите его, чтобы вылилась вода, скатайте и закрепите в гнездо.
Потом, вспомнив, наверное, что корабль качает, он сказал вроде по секрету:
— Ставьте пошире ноги... Так будет удобнее.
Василь был совершенно уверен, что работу эту
можно проделывать, только ползая на четвереньках или лёжа на животе. Однако опозориться перед боцманом не хотел. Улучив момент, он двинулся к шлангу, двинулся так, как будто получил задание не брезентовый безобидный шланг водворить на место, а по крайней мере укротить гремучую змею.
Только одно и радовало его, что было ещё темновато и можно надеяться на то, что боцман ничего не заметит.
Василь провозился со шлангом долго, но его никто не торопил. Пока убирал, рассвело. Корабли шли кильватерным строем, держась друг от друга, несмотря на волну, строго на заданном расстоянии. Справа по борту бесновалось море, слева волны штурмовали скалистые обрывы берега.
— Балаклава на траверзе, — сказал Василю Бу-лавинов, вытянув руку в сторону полуразрушенных башен на вершине скалы. — Историческая крепость! А дальше там — мыс Феолент. Про «спящую красавицу» слышали? Вон она, глядите!
Василь посмотрел, и ему захотелось сказать Бу-лавинову, что он с большим бы удовольствием смотрел сейчас с этих самых исторических башен на корабль, прыгавший в открытом море по волнйм, чем смотреть с корабля на земную твердь.
«и как это мы не замечаем на земле, что она не качается под ногами?.. — думал Василь, — Пожалуй, надо было мне в береговую оборону проситься...»
Он всё же старался меньше попадать на глаза боцману и Булавинову, чтобы они не заметили его состояния. Очень хотелось пойти куда-нибудь в укромный уголок и лечь. Но уйти было нельзя, и он стоял на своём месте, придерживая рукой бескозырку, чтобы её не сорвало ветром.
— Вы ленточки завяжите под подбородком, — посоветовал Булавинов. — Они когда-то специально для этого и придуманы были.
Василь ленточки завязал, но легче ему от этого не стало, а боцман, как показалось Василю, стал особенно к нему приглядываться.
«Сейчас скажет, наверно, что вид у меня не моряцкий...» — подумал Василь. Но боцман, как будто ничего не заметив, приказал идти в шкиперскую и разделать там бухту троса.
Боцманское хозяйство на корабле — большое хозяйство. Всегда для матросов дело найдётся. Но почему понадобилось боцману посылать молодых в такую погоду в трюм? Разве нельзя будет размотать бухту троса на стоянке? Разве обязательно сейчас делать огоны и маркировать концы?
Булавинов точно подслушал мысли Василя и сказал:
— Такая наша жизнь матросская. Шторм не шторм, а матрос должен быть всегда своим делом занят. Тем и сильны мы. А ну, ставьте бухту на-попа! Раз... два... Взяли!..
Работа немного отвлекала Василя, и он порой переставал чувствовать качку, но в то же время, как ему казалось, стал он каким-то туповатым: не мог с первого раза уяснить, что говорил и показывал ему старший матрос.
«Заметит, что укачался, и боцману доложит», — досадовал он.
Наступило время обеда, и они поднялись на палубу. На ветерке Василь почувствовал себя совсем было хорошо, но есть ему, говоря честно, не очень хотелось. И не будь он бачковым, ни за что не пошёл бы па камбуз. От одного запаха жирных матросских 1цей у него снова появилось желание, как острят старые моряки, «уйти пешком па берег».
Шторм и не думал утихать. С прежней силой дул с моря ветер и гнал на корабль волну за волной, обдавая палубу ливнем холодных солёных брызг. А корабли шли всё тем же курсом, в таком же идеальном строю, как и при выходе из бухты.
Расставляя ноги пошире, Василь спустился в кубрик со своим бачком. Там уже был подвешен стол, и матросы ждали его. Правда, за столом было не густо, пе у всех сегодня был хороший аппетит.
— Напрасно отказываетесь от еды, — поучал молодых Булавинов. — На сытый желудок качка легче переносится.
При шторме и обед — нелёгкое дело. И щи по мискам разлить нелегко, и ложку поднести ко рту трудно. Всё же Василь решил не отставать от Булавино-ва, чтобы тот ни о чём не догадался. Проглотил Василь две-три ложки и окончательно решил подавать рапорт о переводе в береговую оборону.
От гуляша с гречневой кашей его спасла боевая тревога. Он первым вылетел из кубрика и помчался на своё место. По расписанию при объявлении воздушной тревоги ему полагалось быть вторым номером у пулемёта. Хотя и не было никакого настоящего «противника», хотя корабли и не открывали настоящего огня, Василь, видя, как ловко и чётко выполняли матросы свои обязанности, забыл обо всём и отдался боевому напряжению. Он даже на замечание боцмана весело ответил:
— Есть в следующий раз не забывать каску!
До вечера ещё несколько раз объявляли тревогу. На кораблях отбивали «минные атаки», «тушили по-
г Боцман знает всё J 29
жары», «заделывали пробоины». Тревоги продолжались и ночью. Утром, когда Василь выбежал на палубу, он увидел совсем другое море. Корабли ещё покачивались на волнах мёртвой зыби, но это было уже детской забавой. Морской простор теперь лежал по левому борту, а по правому белел небольшой курортный городок, врезанный в зелёную оправу лесистых гор.
— Красиво? — спросил Булавинов.
— Да... Красота. Отроду такого не видал, — ответил Василь и удивился, что Булавинов рассмеялся.
— А я вчера показывал его, да только вам было не до курортов. Ничего, бывает.
«Значит, он всё видел? И не сказал... А боцман? — пронеслось в голове Василя. — А может быть, это со всеми бывает? Может, и не стоит подавать рапорт. Проверить ещё надо, моя это стихия или не моя...»
Подошёл боцман и снова, как показалось Васи-лю, посмотрел на него слишком пристально. Василь смущённо улыбнулся, а боцман, улыбнувшись в ответ, задал ему совершенно неожиданный вопрос:
— Ну, как с рапортом? Будете подавать?
— Какой рапорт, товарищ боцман? — оторопел Василь, хотя уже понял, о чём шла речь.
— О переводе в береговую оборону или на базу.
Василь вспомнил наставления Булавинова, что
боцману лучше сразу говорить правду, засмеялся и ответил:
— Так то ж я вчера собирался, товарищ боцман... А сегодня решил воздержаться. Сегодня вон как хорошо кругом.
— Правильно решили, — сказал боцман и положил руку на плечо Василя. — Я смотрел вчера за вами. Худо вам было, но держались вы стойко. Думаю, что моряк из вас получится неплохой. И ещё совет: не оставайтесь в штормовую непогоду без дела. В работе скорее привыкаешь к болтанке. Это я по собст-вошому опыту знаю...
САМОЕ ГЛАВНОЕ
ело у Васи было несложное — ему надо было, стоя на носу лод-кн-гольдячки, перебирать руками проволоку и гнать лодчонку вдоль перемёта. Остальное Костик делал сам: снимал рыбу, наживлял крючки и командовал:
— Полный вперёд!.. Средний!.. Шары до места!..
Что такое «полный вперёд» или «средний», Васе
было понятно, и он добросовестно выполнял эти команды, но что значило «шары до места», он не знал, решил почему-то, что это значит «самый полный вперёд», и рванул лодку.
За это он немедленно получил от Костика строгий выговор:
— Так, морячок! Можешь считать, что в нашей лодке одним сазаном меньше. Что ты рвёшь вперёд, когда ясно было сказано «шары до места»! Это же самый малый ход.
— А почему бы так и не сказать — «самый малый»? Так, однако, и проще и понятней, — пробовал возразить и оправдаться Вася.
— «Так, однако, проще»! — передразнил Костик. — По-твоему, чтобы отдать якорь, капитан должен вызвать на мостик боцмана и так ему сказать: «Дорогой товарищ боцман! Очень прошу вас: отдайте, пожалуйста, стопор и дайте якорю возможность опуститься на дно». Да пока он так объяснял бы, судно или на берег выскочило, или причал бы разнесло в щепки. Нет, брат! На судне все команды точные и короткие. И, кто не знает их, тот не моряк!
— Ясно, — ответил Вася, хотя ничего ясного для него в морском деле ещё не было.
Вернее, ясно было только одно: что придётся выбросить из головы мечту о морской службе. Должно
быть, надо возвращаться в свой родной посёлок, в котором о море знают только по книгам, рассказам да песням.
Перемёт был метров на триста длиной, поводков с крючками на нём было не меньше двухсот, так что, пока Вася гонял лодку вперёд и назад, на ладонях у него вздулись водянки. Он сказал, что второй раз проверять перемёт не поедет.
— Да ты ещё и неженка, оказывается! — фыркнул Костик. — Только за один рейс водянки нажил! А на корабле, брат, целый день приходится канаты таскать.
— Привыкну, — сказал Вася, дуя на руки.
На это Костик ничего не сказал, а только с сомнением пожал плечами.
Они вытащили лодку носом на берег и растянулись на горячем песке.
— Ладно! — примирительно сказал Костик. — В следующий рейс я сам погоню лодку, а ты будешь снимать и наживлять. Сумеешь?
— Попробую, — сказал Вася.
Солнце уже перевалило за Амур, но до заамур-ской сопки, куда оно садилось в эти июльские дни, катиться ему было ещё далеко. Вася подпёр щёки кулаками и стал смотреть на реку. До сих пор он считал свою родную речку Берёзовку настоящей рекой, но теперь ему было ясно, что по сравнению с Амуром-батюшкой она просто-напросто маленький ручеёк. На воду было больно смотреть: она блестела под солнцем так ярко, точно текла в Амуре не вода, а расплавленное серебро. За Амуром тянулись до самого горизонта заливные луга, сплошь изрезанные протоками и озёрцами. Они тоже блестели под солнцем, как серебряные кружева. И только на самом горизонте, чуть заметные на фоне блёклого неба, виднелись белёсые сопки. Где-то за этими сопками был Васин посёлок, откуда он приехал несколько дней назад по вызову Костика.
Познакомились ребята давно, ещё во время войны. И отец Костика и Васин отец были военными моряками, вместе ушли с Амура на Западный фронт и оба не вернулись домой. С тех пор семьи ещё больше сблизились. Костик каждое лето приезжал гостить в посёлок к Васе. Там и зародилась у них мечта поступить во флот. И вот Костик прислал письмо. В нём он уверял Васю, что на все корабли Амурской флотилии будут принимать юнгов. Вася собрался, получил материнское благословение и прикатил в Хабаровск.
Друзья все дни проводили на берегу. Но причиной тому была не рыбная ловля и не купание — они ждали прихода кораблей Амурской флотилии. Корабли уже несколько суток были в походе, где-то в верховьях Амура.
И вот теперь чем внимательнее присматривался Вася к своему другу, тем больше сомнений закрадывалось в его душу. Оказалось, что Костик знает решительно всё, что касается морской службы, а он, Вася, ничего этого не знал. В любом разговоре Костик употреблял столько морских слов, что порой Вася просто его не понимал. «И на корабле я буду дурак дураком, — думал Вася. — Заставят меня делать одно, а я другое буду делать... Нет, не тягаться мне с Костиком! Никуда меня не примут».
И, когда Вася уже решил было сказать Костику, что, пожалуй, не станет проситься в юнги, Костик вскочил и закричал:
— Полундра! Все наверх! Играть захождение!
— Ты чего? — удивился Вася.
— Корабли идут, вот чего! Смотри!
Вася тоже вскочил и посмотрел вверх по реке. На далёком плёсе, почти у самого горизонта, он увидел несколько точек — вернее, целую цепочку точек.
— Идут кильватерным строем, — пояснил Костик. — Один вслед другому... Сматывай удочки! Полный вперёд, на базу...
Пока они снимали крючки с перемёта, корабли полным ходом прошли мимо их лодки. У Васи сердце чуть не остановилось: он первый раз в жизни видел боевые корабли. Впереди шло несколько больших, тяжёлых кораблей с массивными орудийными башнями на палубе, за ними шли корабли поменьше, с носами острыми, как ножи, со стремительными, обтекаемыми обводами.
— Впереди мониторы, за ними канлодки, — объяснял Костик. — Это они ещё не полным ходом идут. Когда полным — как птицы летят!
На переднем мониторе подняли целую гирлянду разноцветных флагов. Через минуту флагами разукрасились все остальные корабли.
— Праздник какой, что ли? — спросил Вася.
— Не праздник, а сигнализация. С флагмана командир даёт приказание сигналами, а на всех кораблях их повторяют. Ну, поднимают такие же флаги. «Поняли» — значит.
Корабли подняли такие волны, что лодка ребят чуть-чуть не перевернулась. Костик не обратил на это никакого внимания, а Вася с опаской покосился на воду: вдобавок ко всему плавал он довольно плохо.
Идти до базы флотилии было не близко. Но Ко-
стик решил, что тратить деньги на автобус — непозволительная pOCKOUJb.
— Дойдём своим ходом, — заявил он. — А по дороге я ещё тебя подучу, как надо с командирами разговаривать.
Учение было нелёгким.
— Вот я командир корабля... у меня на погоне два чёрных просвета и две звёздочки, а на рукаве четыре средних нашивки. Как ты ко мне обратишься? — задавал Костик задачу и становился в соответствующую позу.
Вася старательно вышагивал по асфальту, останавливался за три шага перед «командиром», щёлкал каблуками и подносил руку к голове.
— Товарищ капитан... разрешите обратиться? — выкрикивал он натужным голосом.
— Отставить! — повелительно командовал Костик.
— Почему?
— Потому, что кончается на «у». «Капитан»! А ранги? Проглотил?
у Васи першило в горле, точно он и на самом деле проглотил капитанские ранги. Он напрягал память, силясь вспомнить, чему соответствуют два чёрных просвета, две звёздочки и четыре средние нашивки на рукавах.
— Второго ранга, — не вспоминает, а скорее догадывается Вася, ориентируясь на две звёздочки.
— Дошло наконец! — снисходительно усмехнулся Костик. — Подойди снова, но теперь уже у меня три звёздочки и одна широкая на рукаве.
На этот раз Вася обращается к «командиру» увереннее:
— Товарищ капитан третьего ранга...
— Что? — перебивает строгий учитель. — Что ты мелешь? Какого третьего ранга, когда у меня на рукаве широкая?
— А звёздочек-то три?
— Вот поэтому и первого, что три звёздочки! У третьего ранга только одна звёздочка и три средние на рукаве... Вот горе-моряк!
Вася сопел и ворчал себе под нос:
— Зачем это нужно, чтобы всё наоборот! Куда, однако, проще было бы: одна звёздочка — первого ранга, две — второго, три — третьего...
Дорога до базы длинная, а званий на флоте так много, начиная с рядового матроса и кончая адмиралом флота, что к концу пути у Васи всё перепуталось в голове и встретившегося им мичмана он принял за адмирала первого ранга. Костик чуть не упал от смеха.
— Ой, не могу!.. «Адмирал первого ранга»!.. Да такого звания на всех флотах не сыщешь! — кричал он. — Разве вот тебе первому его присвоят...
У проходной будки в порт Вася набрался храбрости и сказал:
— Не пойду, однако... Я там со стыда сгорю.
— Как это — не пойдёшь? — оторопел Костик. — Это, знаешь ли, не по-товарищески. Говорили, гово-
рили, а потом задний ход? Ладно, идём. Я сам буду говорить за обоих.
Старик вахтёр в полинялом морском кителе и в валенках потребовал у ребят «форменный» пропуск на территорию порта. И, как ни просили его ребята, как ни доказывали, что им необходимо пройти на стенку, дело кончилось тем, что старик поставил их по стойке «смирно», скомандовал «кругом» и «шагом марш».
— Вот и поступили, — сказал Вася и облегчённо вздохнул: всё уже было позади.
— Ох и слабовольный же ты человек! — разозлился Костик. — Неужели ты думаешь, что пропуск нам не дадут, раз мы по такому важному делу?
Попасть в порт им действительно удалось — через дыру в заборе. У стенки стояло несколько кораблей, ошвартованных кормой. Остальные разместились в разных местах затона. Ребята долго ходили, всё не решаясь попытать счастья. Наконец Костик остановил свой выбор на одном из мониторов и подошёл к вахтенному у трапа.
— Товариш, старший матрос, можно нам с командиром поговорить? — вежливо попросил он.
— Думаю, что можно... Но только бесполезно, ребятки, — ответил матрос, улыбаясь. — У нас уже есть юнги. Полный штат. Ясно?
— Ясно, — протянул Костик и поташ;ил Васю к другому монитору.
Но и на втором, и на третьем, и на четвёртом кораблях они получили один и тот же ответ — там уже были юнги. От этого даже Костик начал терять твёрдость духа.
— Опоздали мы, кажется... — сказал он мрачно.
Они уселись на бухту троса и пригорюнились.
И устали они, и есть хотелось, и начинало смеркаться...
— Домой бы, однако, пора... — робко сказал Вася.
Но Костик даже не услышал его слов. К стенке
шёл высокий, худощавый моряк в парадной форме, в белых перчатках. Последние лучи солнца играли на позолоте его кортика. Костик впился в него глазами.
Офицер обратил внимание на ребят и остановился против них.
Костик моментально вскочил и вытянул руки по швам. Вскочил и Вася.
— Так... — сказал наконец офицер протяжно. — Нашего полку прибыло. Ну что ж, пойдёмте потолкуем.
Всё случилось так быстро и так неожиданно, что ребята долго не могли оторвать подошвы от настила. Потом они пришли немного в себя и бросились за офицером по сходням на корабль.
Вахтенный скомандовал «смирно», и все на палубе замерли. Офицер отдал честь флагу.
Палуба на мониторе была покатой и, как показалось Васе, очень скользкой. Он невольно ухватился за руку Костика. Но тот вырвал руку и так строго посмотрел на Васю, что тот поёжился.
— Чего ты? Я просто хотел спросить, какого он ранга, — шепнул Вася в оправдание.
— Первого... Командир бригады... — одними губами ответил Костик.
Командир бригады приказал дежурному командиру накормить «товарищей».
— А потом я с ними побеседую.
Офицер передал приказание коку.
Кок посмотрел на ребят и сказал:
— Есть накормить «товарищей»!
Ребят накормили таким борщом и такими котлетами с компотом, что Вася готов был поклясться, что не ел в ЖИ31Ш ничего вкуснее. Костик смотрел на него торжествующе, точно это он был здесь хозяином и угощал Васю.
— Можешь попросить добавки, если не наелся, — шепнул он.
Но кок без их просьбы поставил перед ними по второй чашке компота.
— Витамины для молодых людей — самая полезная пища, — сказал он, поднял палец и подмигнул «молодым людям».
После ужина дежурный офицер проводил ребят к командиру бригады. Капитан первого ранга уже успел переодеться в повседневную форму и теперь выглядел как-то проще и добрее. Больше всего удивило Васю то, что он, не спрашивая их, зачем они пришли на корабль, разговаривал с ними так, точно они ему уже всё подробно рассказали. А начал он так:
— Садитесь, и начнём с биографий...
Биографии у ребят были короткие и немудрёные,
как школьные линейки. Родились, подросли, пошли учиться...
— Значит, отцы ваши были моряками и вы желаете на флот?
— Только на флот, — уточнил Костик.
— А мамы ваши как на это смотрят?
Вася набрался смелости и опередил Костика:
— Хорошо смотрят... Правильно... Они знают, что мы к вам пошли... Моя мама будет очень рада, если я поступлю в матросы... — Для большей убедительности он ещё добавил: — И дедушка, мамин папа, тоже у нас был моряком. Только он не военным был моряком, а простым.
— Значит, потомственные моряки? — усмехнулся комбриг. — Хорошо. Стало быть, дома знают, что вы здесь?
— Знают. Честное пионерское, знают! — поспешил заверить Вася.
— А вы пионеры?
— Так точно, товарищ капитан первого ранга! — выпалил Костик.
— Не вижу. Галстуки где ваши?
Вася растерянно посмотрел на Костика: это он
сказал ему, что юнгам галстуки носить не положено, потому что они носят форму.
Комбриг точно прочёл его мысли:
— Пока БЫ не надели форму, галстуки снимать я не рекомендовал бы...
Вася тут же достал из кармана галстук и ловко повязал его. У Костика галстука не было.
— Ну вот... — сказал комбриг. — А документы у вас с собой?
— Нет... А какие документы, товарищ капитан первого ранга? — деловито осведомился Костик.
— Заявление от родителей и школьные табеля.
— Мы не знали... Мы бы обязательно принесли... Мы завтра же... — начал было Вася, но тут же замолчал, вспомнив, что ему, чтобы принести заявление и табель, надо было съездить в посёлок.
— Ладно. Время терпит, — сказал капитан. — Мы вот что сделаем: садитесь-ка вы к столу; вот вам бумага и ручки, пишите на одном листе биографию, на другом — заявление... А я пока займусь своим делом.
Как ни коротки были биографии, писали их ребята целый час. Правда, Вася написал быстрее, но он стал терпеливо ждать, когда напишет и Костик. А тот сопел, пыхтел, грыз ручку и перечёркивал слова и буквы.
Потом капитан первого ранга сел к столу и принялся проверять работы ребят. Когда он, проверяя Васину биографию, поставил в двух местах запятые, Вася вдруг понял, что комбриг просто-напросто устраивал им экзамен. Понял это и Костик, понял и помрачнел: он знал, что двумя запятыми ему не отделаться. Так оно и вышло.
— Слабовато... Весьма слабовато, — сказал комбриг. — Я бы сказал — на двойку работа. А как у тебя с арифметикой? Или с цифрами ты тоже не в ладах?
Костик ничего не ответил, только покраснел, как сигнальный флажок.
Капитан долго расхаживал по каюте, заложив
руки за спину и опустив подбородок на грудь. Ребята молча следили за ним, ожидая решения своей судьбы. Неожиданно комбриг остановился, посмотрел на Васю и спросил:
— В Нахимовское училище ты поступить хочешь?
Васе хотелось крикнуть «хочу», но горло так перехватило, что он еле смог выговорить:
— Очень хочу, товарищ капитан...
— Тогда запиши вот здесь свой адрес и жди от меня вызова... А тебя, Костик, — извини, я человек прямой и строгих правил, — я пока не могу рекомендовать в училище.
Костик качнулся и скомкал на груди рубашонку. Он хотел что-то сказать и не мог.
Комбриг смотрел на Костика ласково и сочувственно:
— Я всё знаю, всё... Знаю, что ты любишь флот, и верю, что будешь моряком. Знаю, что ты готовил себя к морской службе. Ты уже и сейчас не спутаешь бак с ютом, камбуз — с ходовым мостиком. Но ты допустил одну очень крупную ошибку... Морскому делу мы тебя сами научили бы, а вот научить тебя грамоте, настоящей грамоте, мы не можем. Это надо усвоить в школе... Что такое наш корабль? Это большой и сложный завод. У нас на каждом шагу химия, физика, математика. И если ты действительно по-настоящему любишь флот, то поймёшь меня правильно. Даю тебе год отсрочки. Займись самым главным. Помни: лучшей рекомендацией будет твой табель... А сейчас, ребятки, я распоряжусь отправить вас в город на катере. — Капитан нажал кнопку звонка. — Вот видишь, и здесь у нас техника, — сказал он, улыбаясь, и взъерошил Костику волосы.
В каюту вошёл дежурный офицер.
— Отправьте ребят на моём катере в город, — приказал комбриг.
Когда дежурный офицер пришёл доложить, что приказание выполнено, комбриг спросил его:
— А что, этот беленький не плакал?
— Было, товарищ капитан первого ранга...
— Хорошие ребята! Тёмненький по дружбе плакал. Обидно ему за дружка. Ну ничего. Я в них обоих верю. Они на правильном курсе, как сказал бы тот беленький... А меня они расстроили — вспомнил я двадцать третий год...
Офицер вопросительно посмотрел на комбрига.
— В двадцать третьем году я тоже так вот пришёл на стенку к борту линкора... Это было в Кронштадте...
ЧП НА КОРАБЛЕ
это утро настроение у Андрейки было очень скверное. При таком настроении человеку просто необходимо с кем-нибудь поговорить, услышать слово сочувствия. Но все на корабле точно сговорились не обращать на юнгу внимания. Правда, на корабле заканчивали ремонт, и все были по горло заняты, но Андрей-ка понимал: дело было не в этом...
Всё же юнга не терял надежды найти собеседника. Обойдя все жилые кубрики и никого не встретив, он направился в кормовой тамбур, в гости к боцманской команде. Матросы плели маты и кранцы, делали швабры. За работой они о чём-то разговаривали, но, увидев Андрейку, умолкли. Юнга сделал вид, что оказался здесь случайно, и поторопился пройти в машинный отсек. У мотористов его всегда принимали очеггь радушно.
Но сегодня и мотористы были сдержанны. Они заканчивали ремонт дизелей. Андрейка спросил таким тоном, будто ничего не случилось:
Маты — верёвочные коврики. Кранцы — особые подушки, опускающиеся с борта при стоянке у пристаней, чтобы не повредить обшивку корабля.
— Товарищ мичман, значит, скоро опробуем дизеля?
— Значит, скоро... — сухо ответил Савушкин и даже не взглянул на юнгу.
Делать было нечего. Постоял, помялся Андрейка у дизелей, но в разговор пускаться не решился. Боялся, что скажут: «Не мешай. Занимайся и ты своим делом — учи уроки, а то опять...»
Андрейка пошёл к комендорам.
Артиллеристы чистили орудие. Увидев среди них старшину Орешкина, Андрейка остановился. Он не хотел попадаться ему на глаза. Но старшина что-то рассказывал матросам, и юнге захотелось послушать. Ведь рассказывать Орешкин был мастер.
Думая, что его никто не видит, Андрейка тихонько подошёл поближе и притаился за башней.
— ...Плывём мы, значит, по океану. По Северному, заметьте, — подмигивая комендорам, рассказывал Орешкин. — День плывём, два плывём, неделю... И ещё нам неделю плыть, а земли не видать. Так и по всем картам значится: нет у вас на пути ни островка, ни материка. И вдруг вахтенный сигнальщик кричит: «Земля!» Смотрим: верно, земля. Подходим, видим: тигры по джунглям рыщут, обезьяны с попугаями из-за кокосовых орехов дерутся, и всё это зверьё от холода ёжится. Что такое? «Да ведь это, товарищи, Мадагаскар...» Что, думаем, за история приключилась с географией? Как этот сугубо южный остров попал в Северный океан? Тут прибыли на корабль местные жители и жалуются нашему командиру: так, мол, и так, произошло всё это по распоряжению одного юного географа, молодого моряка Сажина, юнги с вашего корабля. Ему не понравилось, как нанесены острова и материки на немой карте, и он решил расположить их по-своему...
У Андрейки даже уши покраснели. А старшина продолжал:
— Не понимаю, чего вы, комендоры, смеётесь?
Смешного тут нет ничего. Человек серьёзную работу проводит, новую географию сочиняет... открытия делает...
— А награда ему за это ещё не вышла? — спросил кто-то из артиллеристов.
— Ну, а как же? Конечно, вышла. Ему такую выразительную фигурку в табеле нарисовали...
Описание «фигурки» Андрейка слушать не стал. Он пулей вылетел на палубу. Хватит с него!
Первым поднял его на смех баталёр Ершов. Выдавая юнге подбитые ботинки, он при всех сказал:
— Два ботинка — необходимая двойка; две перчатки в зимних условиях — тоже хорошая двойка, нужная, а вот двойка в табеле — сомневаюсь. Без неё, я так полагаю, всегда прожить можно...
«Вот привязались все! Подумаешь, происшествие какое, — злился Андрейка. — Одна двойка за весь год, и все накинулись. Вот подам рапорт, чтобы перевели на другой корабль... Сами потом жалеть будут. И что я сделал этому Орешкину? Почему он меня так не любит?»
На палубе Андрейку обдуло ветерком. Успокоившись, он решил подняться наверх, посмотреть, что делается в затоне.
Солнышко припекло так, что доски на крыше тамбура дымились и ветерок разносил по кораблю лесные запахи.
По всему затону стояли корабли, вмёрзшие в лёд. Одни — ближе к берегу, у причалов, другие — на самой середине. К каждому кораблю по серому снегу тянулась чёрная дорога, а рядом с дорожками сверкали на солнце большущие лужи. Теперь только по дорожкам и можно было ходить.
Зимой корабли и на корабли-то не похожи. Стоят по всему затону бараки, наспех сколоченные из не-оструганных досок, и только по мачтам можно опре-
Тамбур — здесь: временная постройка, предохраняющая от дождя и ветра во время ремонта корабля.
делить, что прикрыты этими бараками военные корабли. Когда стихает ветерок, над кораблями-бараками лёгкими струйками поднимается пар и дрожит в воздухе.
Из рубки на мостик вышел командир отделения сигнальщиков старшина Курочкии с красными сигнальными флажками. Андрейка считал старшину лучшим своим другом и самым добрым человеком на корабле. Не было такого случая, чтобы старшина, возвращаясь с берега, не принёс юнге какого-нибудь гостинца. Он был Андрейкиным начальником, учил его морскому делу. И хотя вчерашняя двойка доставила больше всего неприятностей именно Курочкину, юнга смело направился к нему.
Старшина, прищурясь, посмотрел на небо.
— Эх, небушко-то какое! Красота! — сказал он. — Весна!
На душе у Андрейки посветлело. Раз старшина разговаривает о весне, значит, не сердится.
— Посмотри, что воробьи вытворяют! Небось тоже свои планы на лето строят... А семафоры какие с кораблей передают! Ты только почитай!
«Прошу прислать олифы и белил», — передавали с одного корабля. На другом беспокоились, почему вовремя не доставили на корабль якорную цепь. С третьего запрашивали прогноз погоды. Андрейка и Курочкин читали семафорь!, и они больше, чем все остальные, говорили им о весне, о скорых походах.
— Сейчас и мы напишем. Первыми заканчиваем ремонт, первыми просим снять тамбуры! Надоели эти бараки за зиму! — сказал старшина.
— Вот это здорово! Вот это я понимаю! — обрадовался Андрейка и умоляюще посмотрел на Курочки-на. — Товарищ старшина, разрешите мне передать семафор?
— Добро, — согласился старшина.
Андрей схватил флажки, мигом поднялся на самое высокое место на корабле — на сигнальный мо-
стик — и начал вызывать флагманский корабль. Курочкин смотрел на него снизу и улыбался.
— Отвечает флагман! — крикнул Анд-рейка.
— Пиши, — ска-
зал старшина и продиктовал: — «Ремонт заканчиваем. Прошу разрешения снять тамбур. Капитан третьего ранга Молодцов».
Андрейка передавал быстро, отчётливо вычерчивая в воздухе каждую букву, как учил его Курочкин. Передачу, как положено, закончил словами: «Семафор передал юнга Сажин». Смотав флажки, Андрейка спустился с мостика, вскинул руку к бескозырке и доложил:
— Товарищ старшина первой статьи, семафор передан!
Но старшина уже не улыбался. Он хотел что-то сказать Андрейке, но, заметив вызов с флагманского корабля, взял у юнги флажки и стал принимать передачу. Андрейка стоял рядом и тоже читал:
— «Командиру корабля, — передавали с флагмана. — Тамбуры снять разрешаю. Выношу благодарность всему личному составу за хорошую работу. Юнге Сажину делаю замечание за допущенные ошибки в передаче семафора. Комбриг».
Это был позор на всю бригаду, на всю флотилию.
Пока старшина записывал принятый семафор в
журнал, Андрейка готов был провалиться сквозь палубу.
— На пять слов две ошибки, — сказал наконец старшина. — Вместо «ремонт» передал «римонт». А «третьего ранга» передал без мягкого знака. Придётся мне дать согласие на твой перевод к Орешкину. Он давно уже просит, чтобы тебя перевели в его отделение. Видно, прав он, что я не воспитываю тебя, а только балую. — И совсем уже другим тоном старшина добавил: — Эх, Андрейка, Андрейка! Ну что тебе мешает учиться как следует? От всех работ зимой ты освобождён. Каждый на корабле мог бы тебе помочь по любому вопросу сколько угодно... Все условия для учёбы у тебя есть. А ты... Был у меня сегодня неприятный разговор с командиром из-за твоей двойки по географии, но, кажется, придётся мне ещё и за твою грамотность краснеть перед ним.
Андрейке вдруг стало сразу холодно, он съёжился и опустил голову. А после обеда юнгу вызвали к командиру корабля.
Командир встретил Андрейку в тамбуре. Он был в шинели и фуражке. В руках капитан третьего ранга держал зелёненькую книжку — Андрейкин табель.
— Берите учебники, пойдёмте со мной!
Когда командир и юнга сошли с корабля, один из комендоров сказал:
— Чудно как-то... Командира корабля из-за юнги вызывают в школу...
— Ничего чудного здесь нет, — сказал Ореш-кин. — Назвали сыном корабля, значит, и заботиться должны, как о сыне. А это не только конфетки да билеты в кино. Вы вот десятилетку окончили, взяли бы, как старший брат, и помогли бы юнге поточнее определить координаты Мадагаскара...
Командир был высокого роста и ходил размашистым шагом. Андрейке не первый раз приходилось идти с ним по улице, и раньше такие прогулки доставляли ему большое удовольствие. Матросы и стар-
шины приветствовали их первыми и проходили мимо подтянутым шагом. А если Андрейка замечал впереди ребят, то старался идти с капитаном совсем рядом и не семенить ногами, а шагать солидно, широко. Сегодня Андрейка шёл, опустив голову, не глядя по сторонам, стараясь только не отставать от командира.
Молча прошли они всю территорию порта и поднялись к парку. Вдруг командир остановился. Андрейка поднял голову и вытянулся, приложив руку к бескозырке. Перед ним стоял капитан первого ранга — начальник политотдела. Он не раз бывал на ко-раблпе и знал Андрейку.
— Здравствуй, здравствуй, юнга! Ну как успехи? — пробасил он.
— Похвалиться нечем, товарищ, капитан первого ранга, — ответил за Андрейку командир. — Вот иду в школу. Прислали вызов родителям.
— Да ну? Что же ты там натворил? — спросил начальник политотдела у юнги. — Подрался или расколотил стекло?
— Нет, товарищ капитан первого ранга, честное слово, не дрался! — с жаром ответил Андрейка и подумал, что, может быть, начальник политотдела, узнав про двойку, не так уж рассердится.
— Так за что же командира вызывают?
— А вот посмотрите, — сказал командир, протянув табель.
Начальник политотдела взял табель Андрейки, посмотрел отметки по всем четвертям, потом начал сравнивать первую четверть со второй, вторую — с третьей. А юнга не сводил с него глаз, стараясь угадать, что он скажет. Лицо начальника становилось всё серьёзнее.
Наконец он закрыл табель и приказал Андрейке:
— Иди вперёд и подожди командира на углу.
Поговорив с начальником политотдела, командир
догнал Андрейку. До самой школы он не произнёс ни слова и только у дверей сказал:
— Ну что, юнга? Небось думаешь — вот прицепились с двойкой! А знаешь, как начальник политотдела на это смотрит? Как на ЧП. Твоя двойка — чрезвычайное происшествие на нашем корабле. Так и запомни... Ну, пойдём, будем ещё ответ перед учителями держать.
Ребята в коридоре сразу притихли, как только увидели офицера. В школу пришёл капитан третьего ранга, а это бывало не каждый день. Наверно, никто и не подумал, что капитан пришёл из-за Андрейки. Когда у дверей учительской капитан сказал: «Подожди меня здесь», и Андрейка, козырнув, ответил: «Есть подождать здесь!» — ребята посмотрели на юнгу с завистью и восхищением.
— Зачем это он пришёл? — спросил староста Андрейкиного класса.
— Из-за двойки по географии, — ответил Андрейка. — Понятно? Ну, получил я двойку, вот и вызвали командира.
— Ух ты! И пошёл?
— Пошёл. Я сам думал, что пойдёт старшина Ку-рочкин, а он, видишь, взял да и сам пришёл.
— Вот он теперь покажет тебе, как двойки приносить! — совсем не зло, а как будто даже с завистью сказал староста.
— Да уж будь уверен — фитиль обеспечен.
— Какой фитиль?
— Не понимаешь? Ну, нагоняй, значит... Это раньше на флоте, если кто провинится, так его заставляли дежурить у фитиля на баке. От этого фитиля все прикуривали.
— А мы думали, что у тебя табель никто не просматривает, — сознался староста.
— Ну да! Это у тебя отметки посмотрят папа с мамой, и всё. А у меня не только командиру отделения, а и по всем БЧ — ну, боевым частям, значит, — сразу становится известно, что я получил. А подписывает табель сам капитан третьего ранга. За каждую..
тройку как поставит по стойке «смирно» и давай, и давай отчитывать! А двойка — ЧП на корабле. Понятно? Чрезвычайное происшествие... И вот я тебе как старосте говорю! — вдруг торжественно и горячо заговорил Андрейка. — Если я ещё получу двойку...
Андрей не договорил. Открылась дверь учительской, и показался командир корабля. За ним шёл классный руководитель Павел Максимович.
— До свиданья, Павел Максимович, — прощался командир, — благодарю вас за сообщение. Думаю, что больше не придётся вам вызывать родителей.
— А вы и без вызова приходите. Хорошо бы вам поговорить с ребятами. Ведь половина из них — будущие моряки, потомственные, — говорил Павел Максимович.
— Постараюсь. Надо будет выкроить время. До свиданья!
Капитан третьего ранга приложил руку к фуражке и поискал глазами Андрейку. Вероятно, он хотел ему что-то сказать, но тут оглушительно зазвенел звонок.
— Хорошо, дома поговорим, — сказал командир и поправил у Андрейки воротник точно так, как это делают родители.
— А теперь слышишь колокол громкого боя? Что это значит по боевому расписанию?
— По боевому расписанию надо бежать на свой боевой пост, товарищ капитан третьего ранга! — повеселев, ответил юнга.
— Правильно. Ну, значит, марш за парту!
...На корабле после ужина Андрейку снова вызвали к командиру.
— Так вот, Андрей, — заговорил капитан. — Выяснил я сегодня, что ты человек не без способностей. Мог бы учиться много лучше. Выяснилась и причина, почему ты захромал. Одолела тебя лень-матушка. И мы тебя не подтянули вовремя. Мне хочется услышать, что ты сам обо всём этом думаешь?
Андрейка вскочил со стула:
— Товарищ капитан третьего ранга, даю честное слово — не будет больше двоек!
— А троек?
— И троек не будет, — ответил Андрейка, хотя уже и не с таким жаром.
— Интересно, как ты думаешь этого добиться?
— Я но ночам буду заниматься!
— Ах, по ночам! Зубрилкой, значит, решил сделаться. Нет, это не метод. Понимать нужно, а не зазубривать. Понимать! А для этого надо любить учиться. Мы все хотим, чтобы ты был образованным, знаю-Ш,им человеком, Андрей. Вот почему нас так встревожила твоя двойка. Ты пришёл к нам на корабль почему? Разве только потому, что ты сирота? Нет. Твой отец был моряком, амурцем. И ты заявил, что хочешь стать моряком, занять место отца. Так вот запомни: в советском флоте, в Советской Армии не может быть офицера-недоучки. Невозможное это дело! Да тебя и не примут в военно-морское училище, если окончишь школу с плохими отметками. И ещё тебе, Андрей, скажу: всех нас, всю нашу корабельную семью, очень огорчила эта двойка. И если ты нас любишь по-настоящему, ты этот случай запомни. — Капитан помолчал немного, а потом добавил: — До экзаменов остались считанные дни, тут действительно надо поработать. Но только насчёт ночей и думать забудь. Привыкай делать всё в положенное время. Я договорился с командиром полуэкипажа, и с завтрашнего дня...
— Вы... вы спишете меня на берег? — прошептал Андрейка, и у него дрогнули губы. — Насовсем?
Капитан пожал плечами.
— Всё целиком будет зависеть от тебя. А теперь, юнга, пойдите к старшине и скажите, чтобы на вас заготовили аттестат. Идите.
У старшины Курочкина Андрейка не выдержал и заплакал.
— Чего ты плачешь? — говорил старшина. — Правильно командир решил. Скоро вон лёд так сдаст, что на корабль будет не пройти. А пропускать уроки в последней четверти невозможно. Да, я слышал, не одного тебя списывают. Начальник политотдела приказал собрать всех юнгов вместе, создать условия.
— Я не хочу совсем уходить с корабля!
— А кто тебе сказал, что совсем? Перейди с хорошими отметками в седьмой — всё будет в порядке.
Провожать Андрейку пошёл тот самый комендор, который удивлялся, что командира корабля вызывают в школу из-за юнги.
— Только давай идти рядом, — попросил Андрей-ка, — а то матросы ещё подумают, что ты меня на гауптвахту ведёшь.
Комендор рассмеялся.
— Между прочим, — сказал он, — я, не хвалясь, хорошо знаю географию. Если хочешь, буду приходить в свободное время и помогать.
— Ну да, так тебя и отпустил Орешкин! — усомнился Аидрейка.
Но уже на другой день в кубрик, в который по приказу начальника политотдела поместили на время экзаменов юнгов со всех кораблей, явился комендор-географ и с ним молодой сигнальщик из пополнения.
— Вот рекомендую — знаток русского языка. Старшина Курочкин считает, что вам не повредят несколько дополнительных уроков по основному предмету! — торжественно произнёс комендор. — Только не думай, Андрейка, что мы за тебя будем уроки делать: мы больше проверять будем, ну и объяснять, если что не поймёшь.
Чем ярче светило солнце, чем сильнее зеленели луга за Амуром, тем больше волновался Андрейка. Приближались экзамены. Но Андрейка не экзаменов боялсд. Он мог теперь на любой немой карте отыскать всё, что пожелает. И по другим предметам всё было повторено. Боялся Андрейка другого, да и не он
один, а все юнги: Амур уже вскрылся и корабли в любой день, в любую минуту могли сняться и уйти в поход. А когда наступит этот день, не знали даже командиры кораблей, знал только адмирал. Все юнги хотели одного: чтобы их корабли ушли в поход не раньше последнего экзамена.
Наконец экзамены начались. Наступил и последний день.
На экзамене по географии Андрейку вызвали первым.
Андрейка встал, подошёл к столу и, не выбирая, взял билет. Он был спокоен и уверен в себе. Перед тем как прочесть билет, он взглянул в окно, на затон, как бы приглашая всех моряков полюбоваться на него в эту минуту. И его точно током ударило: корабли один за другим выходили из затона в Амур.
— Ну, какой у тебя вопрос? — весело спросила учительница географии Мария Тимофеевна.
Но Андрейка не слышал её. Он бросился к окну.
— Сажин! Что за выходки? — удивился Павел Максимович.
— Павел Максимович, корабли уходят... Мне нужно... Понимаете, нужно на корабль. Я потом сдам... Я всё знаю...
В голосе Андрейки было столько отчаяния, что все — и учителя и ученики — повернулись к окнам. Корабли уже вышли в Амур, на большой рейд, и шли один за другим кильватерным строем.
— Павел Максимович, разрешите! — просил Андрейка.
Павел Максимович, казалось, сам был удивлён, что корабли уходят. Но он приказал всем ребятам сесть по местам, а Андрейке сказал:
— Во-первых, Сажин, у тебя нет приказания явиться на корабль. Потом, корабли уже ушли, и пешком ты их не догонишь... Так что самбе благоразумное — это продолжать занятия. Что у тебя за вопрос?
с трудом отвёл Андрейка глаза от окна и п@-смотрел на свой билет. Там значилось: «Мадагаскар. Климат, флора и фауна». Он сразу вспомнил: «...Плывём мы, значит, по океану. По Северному, заметьте...»
Воображение Андрейки перенесло его на корабль. Он увидел смеющихся комендоров, старшину Ореш-кина...
Как ни старался он думать о климате Мадагаскара, ничего не получалось. «Теперь уже всё равно! Корабли ушли!»
Юнга долго молчал, пока Павел Максимович не сказал ему:
— Иди, Сажин, на место и подумай над ответом.
Опустив голову, Андрейка поплёлся к своей парте.
«Всё будет зависеть от тебя», — вдруг пронеслось
у него в голове, и он вспомнил командира. «Провалился. Не видать мне теперь корабля!» — подумал Андрейка. Он приподнялся, чтобы ещё раз взглянуть в окно, далеко ли ушли корабли. И тут у него даже в ушах зазвенело от радости.
По другой стороне улицы по деревянному тротуару, попыхивая трубкой и поглядывая на окна школы, ходил старшина Орешкин. «Меня ждёт, волнуется, — подумал юнга. — Не могли корабли уйти! Орешкин здесь не мог остаться, если бы корабли ушли в поход! Значит... значит, просто они вышли в рейд».
Второй ученик обдумывал вопрос и ещё не отвечал. Андрейка вскочил и поднял руку:
— Мария Тимофеевна! Я всё вспомнил... Разрешите ответить?
— Ну вот, давно бы так! — засмеялся Павел Максимович. — Иди к карте...
Последний экзамен окончился. Уходя из класса, Павел Максимович сказал Андрейке:
— Сажин, зайди в учительскую.
У Андрейки ёкнуло сердечко: не будет ли нагоняя за поведение?
в учительской сам директор школы торжественно поздравил юнгу с переходом в седьмой класс и вручил табель.
— А почему сегодня табель? — удивился Андрей-ка. — Всем сегодня выдадите?
— Нет, только юнгам. Вы люди военные. Как в песне поётся: «Нынче здесь, завтра там...» Передай привет товарищу Молодцову.
Старшина Орешкин всё ещё стоял на тротуаре. Андрей подошёл к окну, и Орешкин увидел его. Старшина торопливо сунул трубку в карман и что-то крикнул. Но Андрейка не расслышал и помотал головой. Тогда Орешкин растопырил пятерню и потряс ею в воздухе. Андрейка вспомнил про Мадагаскар и экзамен, вспомнил, как Орешкин всегда подшучивал над ним, и... отрицательно помотал головой. Тогда старшина, всё ещё улыбаясь, показал четыре пальца. Андрейка в ответ поднял два.
Орешкин махнул рукой, чтобы Андрейка вышел к нему. Тот пустился со всех ног, но, выходя из дверей, постарался сделать виноватое лицо.
— Командиру не терпелось порадоваться твоим успехам, — сказал Орешкин, — и он дал команду сразу же после экзаменов доставить тебя на корабль. Воображаю, какое у него будет выражение лица, когда он увидит твой табель!
На этот раз Орешкин не выдержал своего язвительного тона. Он вдруг перестал улыбаться и заговорил очень огорчённо:
— Послушай, Андрей, как тебе не стыдно? Ну с какими глазами ты явишься на корабль? Что ты скажешь? Ведь тебя там ждут все! Понимаешь, ждут, волнуются. Кок для тебя пирожков напёк, форму тебе новую сшили... Ребята уверяли, что ты всё знаешь, что ты выдержишь... Я вот нарочно торчал здесь, как причальная тумба, чтобы ты не волновался, не думал, что корабли совсем уходят... Э, да что с тобой, с деревянным, говорить! Пошли на катер!
— А вещи?
— На корабле уже вещи. Табель у тебя? Сам отдашь его командиру. У меня на это дело руки не поднимутся.
Больше Андрейка не мог выдержать. Он весело рассмеялся, подскочил и повис на шее у Орешкина:
— Нет, нет, неправда! Наврал я...
Он вытащил из кармана бушлата завёрнутую в целлофан зелёненькую книжечку и протянул её старшине. Орешкин, ещё ничего не понимая, открыл табель, посмотрел последнюю страничку, а потом, не говоря ни слова, дал Андрейке подзатыльник. Юнга звонко рассмеялся. По всем предметам у него в табеле были только одни пятёрки.
ВПЕРЁД, КАПИТАН!
Утром дедушка разбудил Федю:
— Вставай, внучек. Смотри, какую тебе мать посылку из Москвы прислала.
Федина мама училась в Москве на учительницу; теперь она кончила институт и ехала работать в Хабаровск.
Дедушка открыл посылку, и сердечко у Феди запрыгало в груди, как белка по веткам. Чего только не было в той посылке! Сверху лежали букварь и задачник. Задачник был без картинок, зато в букваре их было по нескольку штук на каждой страничке.
— Вот это книжка, я понимаю! — кричал Федя.
— А это тоже неплохая, — сказал дедушка про
задачник. — В ней, брат, сказано, что если к двум прибавить два, будет четыре, а пятью пять будет двадцать пять.
— А тетрадей-то сколько! — удивлялась бабушка. — Их, поди, тебе и не исписать все.
— Однако, испишу, бабушка. Вот увидишь, все до одной испишу, — заверял Федя.
Под тетрадями лежала целая пачка гранёных карандашей, пять ручек разных цветов, коробка перьев, две чернильницы-непроливашки: одна стеклянная, другая белая фарфоровая, коробка цветных карандашей, палитра с красками, кисточками, резинки, пенал, большой альбом для рисования.
— Дедушка, смотри, часы мама прислала! — прошептал Федя.
— Это не часы... Это компас. По нему части света узнают, с ним не заблудишься. Вот этот белый конец стрелки всегда на север показывает, чёрный смотрит на юг, справа будет восток, слева — запад. Понятно?
— Понятно, дедушка.
Все вещи в посылке так замечательно пахли, что у Феди даже голова кружилась.
— Дедушка, бабушка, вы только понюхайте, понюхайте!.. — просил он.
Дедушка с бабушкой понюхали всего по одному разу, зато Вестовой нюхал богатства без конца, чихал от удовольствия и подметал хвостом пол.
Феде хотелось немедленно начать учиться, но только до отъезда в Хабаровск оставалось ещё целых три дня. Это казалось ему вечностью. А вот бабушка да и дедушка просто не знали, как они успеют за такой короткий срок собрать внука в дорогу.
— Макар, а Макар, — вздыхала бабушка, — а, поди, свининки-то мы маловато положили. Да и колбаски бы кружочка два надо прибавить. Он ведь любит её, колбаску-то...
— Да больше в ящик не лезет, — возражал дедушка.
— Новый, однако, сколотить можно. Велик ли труд!
— Труд невелик, а времени мало. Я хотел ему ещё одни унты стачать.
У Феди уже было три пары новых меховых сапо-жек, но против четвёртой бабушка не возражала. Ей и самой казалось, что тех десяти пар шерстяных носков, что она связала внуку, будет мало и что надо срочно связать одиннадцатую пару.
Оказалось, что и у Феди не так уж много времени осталось до отъезда. Почти весь второй день ушёл на укладку ранца. Ранец сшил ему дедушка из шкуры дикой козы, шерстью наверх. В нём было три отделения: одно — для книг и тетрадей, второе — для карандашей, а третье — для завтрака. Носить ранец полагалось за плечами, на мягких и широких ремнях. Ремни можно было подтягивать и опускать.
— В таком ранце только пятёрки носить, — сказала бабушка.
На третий день Федя взял компас, свистнул Вестового, и они по узенькой тропке начали подниматься на Лысую сопку. Это была самая высокая сопка у заимки: до вершины она была покрыта непролазным лесом, на самой вершине не росло даже травы. Она была каменная.
Федя уже бывал на Лысой сопке с дедушкой, а сегодня он поднимался один. Но он не боялся заблудиться. Ведь у него был компас. Он всё время смотрел на стрелку, стрелка дрожала, но упрямо показывала вперёд, как раз туда, куда вела тропинка.
Вестового компас не интересовал. Он без конца бросался в стороны от тропинки и лаял: сначала на белок и маленького полосатого бурундука, а потом с визгом понёсся догонять метнувшуюся в сторону дикую козу.
— Хоть ты и хорошая собака. Вестовой, а глупая. Разве можно догнать козу? Она, как молния... — сказал ему Федя уже на вершине.
Сверху вся дедушкина заимка казалась совсем крошечной: дом, сарай, амбарчик были маленькими, точно игрушечными, а конуры Вестового совсем не было видно. Зато Амур сверху казался ещё шире. Он как будто разрезал землю пополам. По обоим его берегам толпились молчаливые сопки; они выглядывали друг из-за друга, точно им всем хотелось по-
смотреть на Амур. Ближние сопки были зелёные, а дальние — синие. И сколько ни смотрел Федя, ничего, кроме сопок, не было видно, как будто на всём свете не существовало, кроме дедушкиной заимки, ни одного домика. Только сопки, тайга, небо над головой и широкий Амур.
А ведь где-то внизу по реке был Хабаровск, большой город с каменными домами, вверху был Благовещенск, а на западе, за горами и долами, — Москва...
На третий день дедушка сколотил новый рундук. В него уложили все одиннадцать пар носков, четыре пары унтов, меховую шубку-малицу и все остальные Федины пожитки. Потом все вещи снова перекладывались, и дедушка строгал доски ещё для одного ящика. В него нужно было уложить то, что не поместилось в первый ящик и рундук.
— Можно подумать, что мы его не в город отправляем, а на необитаемый остров, — ворчал дедушка, но ворчал тихо, чтобы бабушка не услышала.
И вот наступил день отъезда. В обед к заимке должен был прибыть пароход. Федя вдруг почувствовал, что ему не так-то легко расстаться не только с дедушкой и бабушкой, но и с Вестовым, с козами и курами, с поросятами: жалко было расставаться даже со своими грядками на бабушкином огороде, хотя они были уже пустыми. Федя загрустил.
Он, как только проснулся, побежал на берег встречать дедушку. Дедушка каждое утро плавал на голь-дячке проверять свой участок реки, смотрел, в порядке ли вешки и бакены, не повреждены ли береговые знаки.
Поджидая дедушку, Федя пускал по воде плоские камни — пёк блины. Блинов получалось много, а удовольствия Федя не испытывал. Кажется, он с радостью остался бы на заимке, если бы дедушка сказал: «Не уезжай от нас, внучек». Но дедушка сказал совсем другое:
— Ты что загрустил, Фёдор? Жалко с нами,
стариками, расставаться? Надо, внучек, надо ехать. У нас в стране всем до единого полагается на восьмом году идти в школу. Сядем-ка поговорим, Фёдор.
Они уселись на берегу — большой, широкоплечий моряк с золотой бородой до пояса и маленький Федя. Но чем-то они были похожи друг на друга. Видно, дедушка много хотел сказать внучку, наставить его в жизни, внушить ему, как важно учиться, но ему трудно было подобрать такие слова, чтобы Федя его хорошо понял.
— Вот посмотри, внучек, на Амур-батюшку. Широк он?
— Широк, дедушка.
— Просторен?
— Просторен.
— Тут он течёт спокойно, а там вон, однако, воду рябит...
— А там коса... Ты что, забыл, дедушка?
— Пошто забыл? Не забыл. Сам ту косу вешками обставил, чтобы капитаны не сажали свои пароходы на мель... Я это к тому говорю, что в нашем Советском государстве у каждого сызмальства вот такая широкая и просторная дорога, как наш Амур-ба-тюшка. Если, однако, сразу взять и пустить тебя одного по такой дороге, так ты, поди, никуда не придёшь. Заблудишься...
— А про компас ты забыл, дедушка?
Дедушка только усмехнулся.
— Можно и с компасом заблудиться, если вот этот нактоуз не работает. — Дедушка постучал пальцем по Фединому лбу. — Если поплывёшь ты с пустой головой на своей лодке, так она на мель сядет или за корягу зацепится, а то и кверху дном перевернётся. Стало быть, сначала нужно тебя научить, как той лодкой править.
Федя слушал дедушку не шевелясь. Хоть и говорил дедушка как будто совсем про другое, он понимал, что надо ехать учиться, что без этого нельзя.
— Будешь, Фёдор, хорошо учиться, большой корабль тебе доверят, плохо — такого доверия тебе не окажут, а коли совсем худо, так и лодка тебе достанется дырявая... А плохо учиться тебе никак нельзя: для тебя все дороги открыты, мы на твоём пути все мели вешками обставили, коряги динамитом взорвали... Значит, иди смело в жизнь, не трусь, не робей.
Дедушка подхватил Федю на руки и высоко поднял вверх.
— Вперёд, капитан! Не век тебе у деда на заимке сидеть. Пришла пора ехать молодцу со двора. Попутного ветра, капитан!
После обеда за верхней скалой протяжно загудел пароход. Федя, дедушка, бабушка заторопились на берег. Все вещи уже были погружены на голь-дячку.
— Все не поместимся, — сказал дедушка, — ты, мать, прощайся здесь.
Бабушка обняла Федю вместе с его ранцем да так и застыла.
Из-за скалы показался пароход. Федя боялся, что пароход пройдёт мимо, а бабушка всё продолжала его обнимать.
Но пароход не прошёл. Кто-то на его мостике замахал красными флажками, и дедушка прочитал вслух:
— «Пристану к берегу».
Он снял свою фуражку, снял с Феди его кепку и помахал в ответ. Пароход развернулся и подошёл прямо к тому месту, где все они стояли. Дедушка поймал верёвку и накинул петлю на столб, врытый на берегу. С носа парохода подали сходни. На палубу высыпали пассажиры: они с любопытством смотрели на берег. Капитан поздоровался и крикнул Феде:
— Ну, давай на палубу!
В это время из каюты выбежал один очень высокий пассажир.
— Это что? Что за остановка? Почему без расписания? — начал он спрашивать у всех.
— Пассажира берём, студента, — ответил капитан.
— Студента? Очень интересно. Где он? Какого института?
Дедушка помог Феде подняться до половины сходней, а там его подхватили матросы, и он очутился на палубе. Первым к нему подбежал суетливый пассажир. Он осмотрел Федю со всех сторон, потрогал ранец, протянул руку и сказал улыбаясь:
— Петров, геолог. Очень рад познакомиться. Как тебя зовут?
Федя сразу оробел, но все кругом приветливо улыбались, тогда и он протянул геологу руку и твёрдо сказал:
— Фёдор Сергеевич Овчинников.
Пароход протяжно загудел, весь берег качнулся, и дедушка, бабушка, вся заимка поплыли в сторону от Феди. Федя бросился к борту и чуть не упал. Его подхватил на руки геолог.
— Держись, студент! В жизни бывает много встреч и разлук. Ещё свидишься с дедушкой и бабушкой.
Разворачиваясь, пароход всё дальше и дальше уходил от берега. Пассажиры обступили геолога и Федю; они махали руками дедушке и бабушке, как старым знакомым. Дедушка махал в ответ фуражкой, бабушка — платком, и даже Вестовой бегал по берегу и, тявкая, махал Феде своим пушистым хвостом.
Федя вытащил из кармана платок, развернул его и держал в вытянутой руке до тех пор, пока заимка не скрылась за скалой. Тогда Федя насухо вытер платком глаза и весело всем улыбнулся.
А впереди, сверкая под лучами солнца, между дремучих таёжных сопок, чуть тронутых осенним багрянцем, катил свои могучие воды широкий и просторный Амур-батюшка.
Отсюда начиналась великая советская земля.
БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА
Осенью появился в посёлке Лиманном никому не знакомый человек. Вещей у него было немного — чемодан да заплечный мешок. Зато удочек он привёз целый пучок в матерчатом чехле, а в кожаном — двуствольное ружьё... А ещё он привёз такую хорошую улыбку, что к нему сразу потянулись и большие и маленькие...
— Откуда вы узнали про наш посёлок? — спрашивали его. — Кто посоветовал вам сюда приехать?
— Никто... Сам вас разыскал, — сказал весёлый человек. Посмотрел на небо и добавил: — Пролетал я вон за той тучкой и увидал сверху ваш посёлок.
— Так вы, дяденька, лётчик! — догадались ребята.
— Точно. Лётчик... Увидал я ваши места и подумал: тут непременно и рыбы много в море и в лимане,
и дичь по камышам водится. Хорошо бы здесь отпуск провести. Не ошибся я?
— Правильно сделали, что приехали. Хорошо отдохнёте, — заверили посельчане лётчика. — Устраивайтесь как дома...
Дружбу с лётчиком большие и малые поделили между собой так: на охоту он со взрослыми будет ходить, на рыбалку — с ребятами. Оказался Николай Сергеевич не только весёлым, но и щедрым человеком.
Нужно тебе крючков?.. Бери, пожалуйста... Лески у тебя нет?.. Вот тебе леска, как струна крепкая... Нет поплавка?.. Выбирай любой, по вкусу.
Кто отродясь рыбной ловлей не увлекался, и те удочками обзавелись. С самим Николаем Сергеевичем полно ребят на байде выезжало в лиман или пролив, которым лиман с морем соединяется, а за ними ещё две-три лодки идут. Только рыбы из таких походов привозили ребята немного. Какая уж там рыба, если Николай Сергеевич поведёт рассказ о гом, как на Северном полюсе экспедиции высаживались! А если начнёт вспоминать о боевых вылетах своих друзей — лётчиков? Да тут хоть красная рыба на крючки цепляйся, хоть шемая с рыбцом клюй, никто и не пошевелится, чтобы подсечку сделать...
Особенно к лётчику привязались шестеро ребят-погодков из четвёртого класса. Они и до Николая Сергеевича вместе держались, вместе и теперь ходили за ним по пятам. Попробуй кто оторвать их от него!..
Возьмётся Николай Сергеевич за сачок, чтобы наловить рачков-креветок на наживку, а ребята тут как тут:
— Дядя Коля, уже! И рачки наловлены, и черви накопаны, якоря на месте, вода из лодки вычерпана... Едемте поскорее!..
Пробовали и другие ребята и рачков ловить и чер-
Б а й д а — местное название большой рыбачьей лодки.
вей копать, да только рачки у них почему-то ловились мелкие, неприметные; черви копались худые, вялые. Спорь сколько хочешь, что это совсем не так, — разве их, шестерых, переспоришь?
Услыхал лётчик такой спор и рассмеялся.
— Вы, — говорит, — мне моё собственное детство напомнили. Только в нашей компании было на одного больше — семеро нас было. А верховодил у нас Аркадий... Выдумщик был! Один раз вечером говорит нам: «Деточки, посчитайте, сколько звёзд горит в созвездии Большой Медведицы». Насчитали мы семь звёзд. «Интересное совпадение, — говорит Аркадий. — Звёздочек семь, и нас семеро. Звёздочки всегда вместе, и нас водичкой не разольёшь... А созвездие это в народе ещё Большим Ковшом называется. И знаете, что в том ковше? Брага дружбы!.. Давайте мы эти звёздочки поделим меж собой!» Всем нам очень понравилась выдумка Аркадия. Я был самым маленьким во всей компании, и мне досталась самая последняя звезда в хвосте Медведицы.
— И вы всё время вместе были? — допытывался Костик Вечнов, которого ребята вроде как за старшего у себя считали.
— Нет. После школы разъехались мы в разные стороны. Но друг о друге помнили. До самой войны переписывалась наша Большая Медведица. Надо было — приходили друг другу на выручку. А теперь вот, после войны, я и не знаю, остался ли кто из нашего созвездия, кроме меня...
— И Аркадий ваш погиб?
— Не знаю, ребятки, не знаю... — ответил Николай Сергеевич, задумался и вдруг сказал: — Что мне надумалось, ребята. Принимаю вас в Медведицу!
Просто непонятно, как ребята не задохнулись от нетерпения в этот день, дожидаясь вечера. Какая кому достанется звезда?
— Чур, мне первому! — крикнул Алёшка Чи-биков,
— Почему это? — окрысились на него ребята. — Или ты лучше всех?
— Не спорьте... Разделим по алфавиту, — сказал лётчик.
По алфавиту досталась Алёшке предпоследняя звезда. Он надулся. Тогда Костик предложил ему:
— Давай меняться. У меня первая...
— А почему ты хочешь меняться? — подозрительно посмотрел на него Алёшка.
— Какое тебе дело? Хочу и меняюсь! Ну?
— Ладно. Только менки-не-разменки!
— Менки-не-разменки, — согласился Костик. — А менялся потому, что теперь я буду рядом с Николаем Сергеевичем. Понял?
Алёшка опять было надулся, но быстро отошёл: всё-таки первая звезда важнее. Без этой звезды трудно отыскать самую главную звезду на небе — Полярную, вокруг которой все остальные звёзды вращаются. А найти её не так уж трудно. Надо через две первые звезды Медведицы провести вверх воображаемую линию. Первая яркая звезда чуть правее этой линии и будет Полярная звезда.
— Ну, друзья, — сказал Николай Сергеевич, — дело вроде бы и шуточное, но в нём и серьёзного много, если по-настоящему о дружбе подумать... Кстати, что планирует Медведица завтра делать?
— У меня есть план на сегодня! — крикнул Алёшка. — Я бегал на пристань смотреть, что старики из лимана привезли. Знаете, сколько они тарани сегодня взяли? Центнеров десять! И какая тарань! Лапти!.. Сейчас луна как арбуз. Светло. Едемте на ночь в лиман...
При луне Николаю Сергеевичу ловить ещё не приходилось, и он согласился.
— Только, боюсь, как бы погода не испортилась, — сказал он. — Плечо у меня побаливает...
Был прилив. Морское течение легко несло байду в лиман. Николай Сергеевич сидел на кормовом вес-
ле, ребята — на распашных. Но они не столько гребли, сколько на свои звёзды поглядывали. Проехали камыши, проехали островок Бабинник.
— Здесь старики брали рыбу, — сказал Алёшка. — Отдавайте якоря! Сегодня будем с рыбкой...
— Уже считаешь? — набросился на него Никит-ка, страсть не любивший, когда считали улов, да ещё и не пойманный: плохая примета.
И действительно, Алёшка как будто накликал неудачу: просидели ребята час и второй без единой поклёвки. И Николай Сергеевич сидел сегодня ка-кой-то притихший, насторожённый.
— Вы рассказали бы нам что-нибудь... — попросили ребята.
— Да что рассказывать... Кажется, я всё уже вам пересказал... А думаю я сейчас вот о чём: не смотать ли нам удочки и не убраться ли восвояси?
— Почему? — удивился даже Костик.
— Да объяснить это трудно... Погода мне не нравится. У меня собственный барометр — пуля в плече. Ноет... Да и клёва нет.
— Сейчас взойдёт луна, и вот увидите, какой начнётся клёв! — заверил Алёшка. — Закидывать не поспеешь...
Взошла луна. Она действительно была круглая и красная, как разрезанный арбуз. При её свете скоро начали меркнуть звёзды. Даже Большая Медведица теперь еле угадывалась на северном небосклоне. А следом за луной поднялась на небо чёрная туча, похожая на дракона. Дракон раскрыл пасть и проглотил луну.
— Сматывайте удочки! — вдруг строго приказал Николай Сергеевич.
— Зачем, Николай Сергеевич? У меня клюнуло... честное слово, клюнуло! — крикнул Алёшка. — Даже поймалось что-то большое...
Он стал торопливо вытаскивать закидушку. На одном из крючков действительно билась крупная тарань.
— Сматывать удочки! — ещё строже приказал лётчик.
Ребята нехотя стали выбирать свои закидушки. И, как назло, почти у всех попалось по крупной тарани, а у Алёшки, который успел закинуть ещё раз, поймалось сразу две.
— Что ж мы, тучки какой-то испугались? — ворчал он.
— Отставить разговоры! Выбирайте якоря... Разбирайте вёсла...
Тяжёлая байда медленно двинулась против течения к посёлку, мерцавшему огнями на противоположной стороне лимана. Николай Сергеевич молча сидел
на корме. Если бы было немного посветлей, то ребята заметили бы, как по его лицу порой пробегали болезненные судороги: пуля в плече всё сильнее давала о себе знать.
Даже самый сильный ветер начинается с лёгкого ветерка. Первого порыва ветра ребята и не заметили, второй заставил их поёжиться и запахнуть тужурки, а когда налетел третий порыв, лодка остановилась, точно упёрлась носом в ил или песок. У Алёшки ветром сорвало кепку и швырнуло за борт.
— Ловите! Ловите! — завопил Алёшка. — В ней крючки и запасная леска...
Он сам перевалился через борт и стал шарить в темноте руками. Лодка накренилась, сразу поднявшиеся волны стали перехлёстывать через борт.
— Сидеть смирно! — крикнул Николай Сергеевич. — Костик, переходи на корму, я сам сяду на вёсла. Держи прямо на огонёк в посёлке.
— Прямо нельзя — на меляк выедем, — сказал Костик.
— Не рассуждать! — рявкнул и на него лётчик и так заработал тяжёлыми дубовыми вёслами, что затрещали уключины.
Лодка медленно, очень медленно двинулась к посёлку против ветра и течения.
Хлынул дождь. Хлёсткий, ливневый, холодный.
— Ложись на дно лодки! — прокричал лётчик, сорвал с себя плащ и набросил его на притихшую кучу ребят. — Держите, чтобы ветром не сорвало...
В посёлке потух последний огонёк.
Утром Николай Сергеевич не смог слезть с печки, куда его уложила хозяйка, тётка Марфа. Не помогли ни чай с коньяком, ни растирание одеколоном, ни тулуп с валенками.
— Воспаление лёгких, — сказала молодая фельдшерица Клава. — В больницу надо...
Тётка Марфа перекрестилась, дядька Трофим
сердито сплюнул: дожди размыли дорогу, на море свирепствовал шторм, рыбацкий посёлок на несколько дней был отрезан от района,
— Только на быках или на лошадях... — сказал дядька Трофим.
— Нет, нельзя. Шестьдесят километров он не выдержит, — ответила Клава. — Давайте в город радиограмму, а я буду делать пока всё, что смогу.
Скоро её вызвали в радиорубку рыбцеха. С ней говорил врач-полковник. Он расспросил о состоянии больного, дал указания, что делать, а в заключение сказал:
— Держитесь. Я вылетаю к вам.
Ребят к больному не пустили, а дядька Трофим даже накричал на них:
— Всё из-за вас, сорванцы! Вы, как те судаки, лежали на дне байды, а он таскал вас по лиману до света. Залез в ледяную воду и тащил байду через ме-ляки...
Ребята не оправдывались, но и со двора не уходили. Только было их во дворе всего пять человек, а шестой в это время бродил за посёлком по мокрому леску. Море шумело, плевалось солёной пеной, швыряло ему под ноги клочья почерневшей морской травы...
Когда Клаве удалось немного сбить температуру, Николай Сергеевич пришёл в себя.
— А где же Большая Медведица? — спросил он громким, срывающимся голосом.
— Бог с тобой, Сергеевич... Какая ведмедица? У нас и волчишки паршивого здесь не встретишь. Видится тебе это с жару, — начала успокаивать его хозяйка.
Даже сильный жар не сжёг весёлой улыбки у этого человека. Он показал глазами на окно:
— А под окном кто стоит?
— Да ребята там, ребята... Я их сейчас вот пугну рогачом, чтоб тебе не мерещилось невесть что!
— Гнать не надо. Сюда зовите. Всех, всю Медведицу, — попросил больной.
Тётке Марфе не пришлось звать ребят. Разве могли они, следившие через окно за каждым вздохом лётчика, пропустить тот жест, каким он позвал их к себе!
— А вы говорите, что у вас медведиц не водится, — шутил Николай Сергеевич. — Вот она...
Но тут же взгляд лётчика беспокойно забегал по лицам ребят. Он даже приподнял голову.
— Не все? — удивился он.
— Прогнали мы Алёшку, — чужим голосом сказал Костик, — Из-за него всё вышло... Хапуга он! Лески аж две у вас хапнул...
— И крючков нахапал. Вся подкладка в кепке была ими утыкана, — добавил Никита. — На рыбу жадный. Поймает судачонка в палец — ни за что не выпустит! Не нужен нам такой...
— Не нужен? Так... Он вам не нужен... А вы ему? Ну, как думаете, вы ему нужны? — спросил Николай Сергеевич, закрыл глаза и отвернулся к стене.
Хозяйка замахала на ребят полотенцем, точно хотела их, как мух, выгнать за порог.
— Надо разыскать Алёшку, — сказал Костик. — Дома, наверно.
Алёшкина мать сказала, что сына нет уже с самого утра.
Обошли ребята весь посёлок, лазили через дыру в заборе на причал рыбцеха, думали — может быть, он там бычков ловит. Не нашли. Наконец кто-то сказал, что Алёшка вроде как за посёлок подался. Там его и увидели ребята на берегу моря. Сидит на мокром песке, голову ниже колен опустил.
— Видали? — сказал Никита. — Его Николай Сергеевич спрашивает, а он по бережку разгуливает!
— Ври! — не поверил Алёшка.
— Спрашивал, — подтвердил Костик. — Только имей в виду: мы тебя теперь воспитывать будем.
Алёшка вскочил и побежал следом за ребятами. На бегу он крикнул:
— Ребята, а вы знаете, что Николай Сергеевич настоящий герой?
— Ещё бы не герой! Пропали бы мы без него.
— Да я не про то. Китель его на стене видел, звёздочка золотая на кителе...
Ребята остановились. Тут уж Алёшка не мог соврать. Вот это человек — Николай Сергеевич! Чуть ли не месяц прожил в посёлке и ни разу кителя с Золотой Звездой не надел!
— Эх! — вырвалось у Костика. — Дать бы тебе по шее...
— А тебе? А всем нам? — вступился кто-то за Алёшку.
Ребята только было собрались снова бежать в посёлок, как над головами их раздался необычный шум мотора. Огромная красная стрекоза медленно опускалась с неба на краю посёлка.
— Вертолёт! За ним прилетели! Надо показать хату! — крикнул Костик.
Первым из вертолёта вышел высокий полковник с чемоданом в руке. Под шинелью у него ребята заметили белый халат. За полковником вышли два лётчика. Они вынесли носилки и резьновые подушки.
— Мы покажем дорогу, — еле выговорил запыхавшийся Алёшка.
Ребята и не пытались войти в хату. Они уселись стайкой на камышовых снопах во дворе и нахохлились, как воробьи в непогоду. Сидели, молчали и не спускали глаз с окон, вздрагивали при каждом лязге щеколды. К вечеру на снопах уже не осталось ни одного местечка, и все, кто приходил потом, устраивались кто где мог.
Из хаты выбежала Клава. Все подались к ней с немым вопросом. Она только покрутила головой и бросила на бегу:
— Нельзя сейчас везти... Нетранспортабельный...
Слово это показалось таким страшным, что ребята ещё теснее прижались друг к другу.
Зажглась первая звезда, вторая... десятая... загорелось созвездие Большой Медведицы и указало путь к Полярной звезде. К полуночи большинство ребят разошлись, но шестеро остались на снопах. Дважды выходил из хаты полковник в белом халате. Он молча шагал по двору, никого не замечая, курил одну папиросу за другой. Один раз он остановился и долго смотрел на небо. Ребята могли побожиться, что смотрел он на Большую Медведицу.
А ковш Медведицы всё кренился и кренился, последняя его звезда, звезда Николая Сергеевича, всё ниже и ниже опускалась к земле, и от этого у ребят всё сильнее шемило сердца.
С рассветом снова на снопах было полно ребят. Они пришли уже с портфелями, чтобы прямо отсюда идти в школу. И вот по каким-то еле уловимым признакам — по блеску в глазах Клавы-фельдшерицы, по походке полковника, даже по тому, как потянулся один из лётчиков с вертолёта, хрустнув суставами, — ребята поняли, что другу стало легче.
А когда поднялось солнце, Николая Сергеевича, укутанного одеялами, вынесли на носилках из хаты. Как изменился он за этот день! Но и теперь он оставался весёлым человеком. И запавшие глаза его лучились, и на осунувшемся лице играла улыбка.
— Аркадий, подожди минутку, — попросил он. — Видишь их? Это новая Большая Медведица...
— Да? Очень интересно, — пробасил полковник. — Только почему их не семь, а семьдесят семь?
— Ничего, — улыбнулся лётчик. — Это только в небесных созвездиях старые звёзды не гаснут, новые не загораются. А наши созвездия дружбы пусть растут и светят ярче небесных... Пусть!
ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ
Наконец-то! Вот она, долгожданная чёрная, с узкими белыми кантами, с блестящим козырьком морская фуражка-капитан-ка! У Саньки даже дыхание перехватило, когда мастер каким-то особым приёмом надел новенькую, с иголочки, морскую фуражку ему на голову.
— Как сшито? — спросил мастер, любуясь своей работой.
— Отлично сшито, — похвалил отец. — Боюсь только, что через неделю вы её не узнаете...
Санька растерялся. Его новенькая морская фуражка станет через неделю неузнаваемой? Да отец просто не знает, что такое морская фуражка! Ведь это...
— Папа, что ты говоришь! Да она у меня сто лет будет как новенькая. Да я её знаешь как буду беречь!..
— Что-то не верится, — усмехнулся отец. — Почему же ты кепку не берёг?
— Папа, да ведь то кепка! Простая кепка. А это морская фуражка. А морская фуражка — символ...
— Символ? — спросил отец, переглядываясь с мастером. — А символ чего?
Санька растерялся:
— Как — чего? Ну, просто символ, вот и всё!..
— Нет, не всё. Слыхал ты, брат, звон, да не знаешь, где он.
— Все ребята говорят, что морская фуражка — символ. Вон Костик Чулындин хвастает: «Глядите, какая у меня символическая фуражечка!» А моя бу-дег ещё символичней...
Он сдвинул фуражку чуть-чуть на правый бок и взглянул в зеркало. Фуражка сидела лихо. Жаль только, что чуба у Саньки не было.
— Болтаешь, а сам не знаешь, что болтаешь! —
сказал отец. — Морская форма — символ чести, доблести, мужества и преданности родине. Понял?
— Понял, — сказал Санька.
Но отец усомнился в том, что его слова дошли до сознания сына.
И правда, Санька хоть и слышал, что сказал отец, но в смысле его слов не разобрался. Ему хотелось поскорее попасть в школу, чтобы похвастаться перед ребятами своей обновкой.
В школу он пришёл раньше всех. Ребята первой смены только что выходили из классов. Чтобы все видели его обновку, Санька стал у самой калитки, стараясь всем своим видом показать полное безразличие, потому что хвалиться обновками у евпаторийских ребят было не принято. Но по глазам проходивших ребят он видел, что его фуражка производила на всех большое впечатление.
Санька решил не заходить в класс, пока не придёт Костик. А тот, как нарочно, всё не шёл и появился перед калиткой, когда уже прозвенел звонок. Фуражка на нём была та же, старая, но над козырьком красовалась эмблема — золотой якорь, окружённый золотым кантиком.
Санька оторопел.
— Где это ты якорь достал? — спросил он.
— Один знакомый моряк подарил, — равнодушно ответил Костик.
Конечно, он заметил новую фуражку Саньки, но даже и виду не подал. Лишь между прочим спросил:
— Купили?
— Нет. На заказ делали! — с достоинством ответил Санька.
— Ничего фуражка, форменная.
Больше они на эту тему не разговаривали.
Золотой якорь так и стоял у Саньки перед глазами. Было ясно одно: без такого же якоря его фуражка не могла идти ни в какое сравнение с Костиковой. Санька сидел на уроке так необычно тихо, что учительница даже спросила, не болен ли он. Санька ответил, что здоров, и постарался быть внимательным, слушать объяснения Марии Михайловны, но никак не мог забыть золотой якорь.
«Может быть, можно купить, — думал Санька, — или самому сделать?.. Да нет! Самодельный не считается. Ну где же достать?»
И вдруг Санька вспомнил дядю Яшу, папиного знакомого. У него на фуражке, когда он был ещё моряком, Санька видел точно такой же якорь. Сейчас дядя Яша работал завхозом в санатории, ходил в обыкновенном костюме и даже шляпу носил.
— Кузьмин! Санька, тебя вызывают, — услышал он шёпот ребят.
— Что с тобой, Кузьмин? — сказала Мария Михайловна. — Почему ты сегодня такой невнимательный?
— у меня, у меня... голова болит... — выпалил вдруг Санька и густо покраснел, потому что голова у него не болела.
Учительница подошла к нему и приложила ко лбу ладонь:
— Температуры как будто нет, но вид твой мне не нравится. Иди-ка домой и скажи маме, чтобы она вызвала врача.
Санька не ожидал, что дело примет такой оборот. Он замялся и хотел было уже сказать, что голова у него болит совсем немножко, но Мария Михайловна сказала строго:
— Собирайся побыстрее. Не задерживай нас.
Сложив книжки, Санька вышел из класса. Ребята
сочувственно посмотрели ему вслед. За дверью класса Санька остановился. Он стоял, долго прислушиваясь к голосу учительницы, и думал: зачем же он соврал Марии Михайловне? Потом медленно побрёл в раздевалку.
— Это что ж, тебя из класса выгнали? — спросила техничка тётя Шура.
— Голова у меня болит...
— И то я смотрю, красный ты. Ну, ступай домой, полежи. Мокрое полотенце приложи к голове, — сказала тётя Шура, надевая ему на голову фуражку. — А фуражка-то у тебя шикарная! Видать, новую купили?
— На заказ шили, — пояснил Санька, но уже без особой гордости.
На вешалке, на самом крайнем колышке, висела фуражка Костика. Над её облупившимся козырьком поблёскивал золотой якорь.
Домой Санька не пошёл. За калиткой он повернул налево, к морю. Оно было рядом. День выдался солнечный и безветренный. По морю катились ленивые волны мёртвой зыби — отголосок прошедшего где-то далеко шторма. Волны набегали на песок, шуршали ракушками, шевелили чёрные космы водорослей
и, оставив на песке белое кружево пены, откатывались назад. Пена таяла с еле слышным писком.
На рейде стояли большие пароходы и много рыбацких судёнышек.
Санька побродил по песку, собрал целую пригоршню ракушек, полюбовался ими и выбросил в море. Ракушки, виляя из стороны в сторону, медленно опустились на дно. Далеко за пассаяирским причалом на пляже копошились еле видные фигурки людей.
«У тринадцатого санатория что-то строят», — подумал Санька.
Дядя Яша, папин знакомый моряк, работал как раз в тринадцатом санатории.
«А что, если сходить и попросить якорь у пего?» — подумал Санька, швырнул ещё горсть ракушек и пошёл в сторону санатория. Сначала он пошёл медленно, а потом всё быстрее, быстрее...
Зимой можно свободно пройти по берегу до любого места. Надо только знать все дыры в заборах н загородках. Санька знал их наперечёт и поэтому быстро дошёл до тринадцатого санатория. Оказалось, что дядю Яшу и разыскивать не нужно было — он вместе с рабочим убирал под навес деревянные топчаны и плетёные кабинки.
— Здравствуйте, дядя Яша! — поздоровался Санька.
— Здравствуйте, — ответил дядя Яша и внимательно осмотрел Саньку с головы до ног, видимо не узнавая его.
— Я Санька. Не узнаёте, дядя Яша?
— Что-то не припомню...
— Ну вы же папин знакомый. Мы живём у кино...
— У кино? Постой, постой! Да ты не Степана Ивановича сынок?
— Узнали теперь? — обрадовался Санька.
— Узнал. Сразу бы так и говорил. А ты как сюда попал?
— Як вам, дядя Яша, — замялся Санька, — по одному важному делу...
Дядя Яша забеспокоился:
— По важному делу? Что-нибудь дома случилось? Говори.
Он взял Саньку за руку и повёл к маленькому домику в саду.
— Ну, выкладывай, что у вас там стряслось, — потребовал он, как только они вошли в дом.
— У нас ничего не случилось, дядя Яша. Это я сам пришёл, от себя.
— От себя? По личному, стало быть, вопросу?
— Ага, — сказал Санька, краснея.
Дядя Яша повеселел:
— Давай говори! Или тебе надо с глазу на глаз? Хорошо, поговорим без свидетелей... Клава, закрой, пожалуйста, на минуточку дверь.
Тётя Клава посмотрела на Саньку, улыбнулась и вышла из комнаты. Санька почувствовал себя вдруг так неловко, ему так захотелось убежать отсюда, что он даже шагнул к двери. Дядя Яша понял это по-своему:
— Говори, говори, там никого нет. Что у тебя за тайны?
Отступать было поздно, и Санька, собравшись с духом,спросил:
— У вас есть якорь?
— Какой якорь? — удивился дядя Яша.
— Золотой... который на морских фуражках носят, с канатиком, — прошептал Санька.
Дядя Яша принялся так громко смеяться, что тётя Клава вбежала в комнату.
— Нет, ты только послушай... послушай, зачем он пришёл! Ему надо якорь!.. Золотой якорь! Эх ты, моряк!..
Завхоз смеялся до слёз, хлопал Саньку по плечу.
Повеселел и Санька:
— У Костика есть якорь, ему один его знакомый
моряк подарил, а у меня просто фуражка. А без якоря разве она настоящая, разве символическая?
— Не символическая, говоришь? А ты знаешь, что это значит?
Санька вспомнил слова отца и выпалил единым духом:
— Морская форма есть символ чести, доблести, мужества и преданности родине!
— Молодец! — похвалил дядя Яша. — Молодец! Только надо иметь в виду форму советского моряка. Обязательно советского. Есть на свете и такие моряки, которые хоть и носят морскую форму, но про честь, доблесть и мужество и понятия не имеют. А ты, значит, хочешь носить настоящую морскую фуражку, быть честным, мужественным, доблестным и преданным родине? Похвально. Другому бы не дал, а тебе дам.
Дядя Яша снял со шкафа большой чемодан в брезентовом чехле и раскрыл его. В чемодане лежала бережно свёрнутая морская форма: чёрные брюки, синий китель с погонами главного старшины, полосатая тельняшка. Сверху лежала фуражка с белыми кантами и эмблемой — вышитый золотой канителью якорь, окружённый золотым канатиком. Над эмблемой была прикреплена маленькая красная звёздочка.
— Звёздочку ты носить не имеешь права. Ты не военный, — сказал дядя Яша, снимая эмблему. — Ну, давай твою фуражку. Ишь ты какая, с иголочки!
— На заказ шили, — похвастался Санька.
Моряк взял иглу с ниткой и сам ловко прикрепил
эмблему к Санькиной фуражке. Потом встал, скомандовал Саньке и тёте Клаве: «Смирно!» — н надел фуражку Саньке на голову.
— Теперь ты вроде как моряк. Только, чур, уговор будет между нами. Я с этим якорем чуть ли не полсвета обошёл по воде и по суше. И ни разу мне никто не мог сказать, что я недостойно носил форму советского моряка. Значит, и тебе следует помнить
всегда, что это символ чести. Значит, не ври ни при каких обстоятельствах, дорожи своим честным словом; будь доблестным — для тебя это значит пятёрки по всем предметам; будь мужественным — не останавливайся перед трудностями, не позволяй себе забывать про уроки, готовься стать настоящим моряком.
Санька слушал и всё ниже опускал голову.
— Да ты его совсем смутил, — сказала тётя Клава. — Смотри, как он, бедненький, покраснел.
— А что ему краснеть? Он должен по-моряцки ответить: «Есть, товарищ гвардии главный старшина!» Повтори.
— Есть, товарищ гвардии главный старшина! — прошептал Санька каким-то чужим голосом. — Можно идти?
— Иди. Передай привет папе и маме. Скажи, что зайду на днях.
Санька выбрался на берег и, не оглядываясь, пошёл к городу. Погода изменилась. С моря дул ветер. Уже гуляли по морю до самого горизонта стада белых барашков. Из-за далёкого мыса поднималась чёрно-синяя туча. Чайки носились над самыми гребешками волн.
Напротив порта Санька остановился и долго смотрел, как ветер полощет флаги на мачтах кораблей.
От борта одного военного корабля отвалила шлюпка и пошла к берегу. Вёсла взлетали над водой, как крылья большой чайки. У берега старшина, сидевший на корме у флага, скомандовал: «Шабаш!» — и матросы перестали грести. Шлюпка легко подошла к берегу и врезалась носом в песок. На корме поднялся офицер, и старшина подал команду: «Смирно!» Офицер, приложив руку к козырьку, сошёл на берег.
Заметив Саньку, старшина приветливо улыбнулся:
— Ну, как дела, морячок?
— Ничего, — ответил Санька и тоже улыбнулся.
— А почему ты здесь с книжками гуляешь? Сачкуешь, наверно?
Санька знал, что у моряков слово «сачкуешь» обозначает прогул, увиливание от работы. Он сразу перестал улыбаться.
— Голова у меня болит. Меня отпустили...
— На бюллетене, значит. А ты попей морской водички, очень помогает от головы, — посоветовал старшина и лукаво подмигнул матросам.
Шлюпка ушла на корабль, и Санька снова остался один на берегу.
Он долго смотрел вслед шлюпке, потом сел на песок, снял фуражку, отпорол эмблему, бережно спрятал в нагрудный карманчик и, поднявшись, решительно зашагал к школе.
КОШ НА ПЕРЕВАЛЕ
I
Неспокойно спал Арсо. Он то тихо взвизгивал, то дёргал сильными Л П косматыми лапами. Может быть, ему грезилось, что он гонится за волчицей, уносящей телёнка. А может быть, по приказанию Валеко или старого Котия он мчался наперерез стаду, чтобы завернуть его к кошу.
С тех пор как появился этот короткорогий бык с мышиной шерстью, в стаде не стало порядка.
Не первое лето Арсо живёт с чабанами на перевале. Не один телёнок вырос у него на глазах в сытую корову или сильного быка. Но таких быков, как Сатурн, Арсо ещё не встречал. За целый день не было ни минуты покоя. Нужно было всё время следить, чтобы этот короткорогий дьявол не увёл всё стадо к границе леса, в заповедник. С его появлением стадо как взбесилось.
Коровы больше не слушали ни окриков чабанов, ни собачьего лая. Они ходили теперь только за Сатурном.
В стаде были быки и старше и опытнее Сатурна, но теперь они бродили поодаль, стараясь не показываться на глаза новому вожаку. Приходилось считаться и с огромной силой Сатурна, и с его весом.
Сатурн весил больше тонны. Пойди попробуй сбить с ног такую тушу! Прежний вожак. Шайтан, попробовал отстоять своё положение в стаде, да еле жив остался.
В полночь Арсо проснулся, вскочил на ноги и прислушался. В загоне шумно вздыхали коровы. Арсо потянулся и, зевнув, побежал в свой обычный ночной обход.
Луна светила с южной стороны перевала. Ледник на вершине переливался синеватыми бликами, как огромный бесшумный водопад. От высоких пиков на альпийские луга падали густые тени. Казалось, что от каждой вершины начиналась бездонная пропасть. Близкие звёзды светили гораздо ярче, чем там, внизу, на берегу моря.
Арсо задирает голову вверх и смотрит на пересекающую всё небо звёздную тропу — Млечный Путь. Тропа эта берёт начало где-то там, откуда старый чабан Котия привёл Сатурна и этих неженок-коров.
Над самым кошем тропа пересекает горный хребет и уходит туда, где кончается земля и начинается бескрайная солёная вода.
Арсо долго смотрит на сверкающий ледник, на звёзды, на полную луну. До чего хорошо ночью в горах, на перевале! Прямо выть хочется...
Арсо ещё выше задирает голову, смотрит на Млечный Путь, и вот в горле уже начинает зарождаться звук... Но Арсо вовремя спохватывается: не пристало старому чабанскому псу выть, как голодному волку.
Арсо сердито фыркает и бежит вдоль загона. Не-
ожиданно почти из-под носа с громким треском вылетает горный фазан. Арсо вздрагивает.
Фазан круто поднимается вверх, на мгновение останавливается и, треща крыльями, улетает в сторону. Арсо провожает его глазами, пока он не теряется в полумраке.
Было время, когда Арсо гонялся за фазанами. Котия первый раз привёл его на кош. Спугнув фазана, Арсо следил, где он сядет, и со всех ног бежал к фазану. Птица снова взлетала, снова садилась, и опять он бежал к ней. Котия тогда смеялся.
— Эй, ты! — кричал он незадачливому охотнику. — Эта дичь не по твоим зубам. Вот подожди, придёт день, и ты узнаешь, зачем у тебя такие крепкие ноги и хорошие клыки!
И в конце того же лета под этими клыками затрещали шейные позвонки матёрой кубанской волчицы.
— Настоящий потомственный волкодав! Котия не ошибся ни в твоём отце, ни в твоей матери, Арсо, — сказал тогда Котия.
С тех пор они всегда были вместе.
Арсо осмотрелся кругом и быстро побежал к кошу.
Кош стоял рядом с загоном для скота. Это круглая, плетённая из хвороста постройка, крытая папоротником. Стены коша обмазаны глиной и коровьим помётом. Когда помёт высыхает, его снимают и вместе с дровами кладут в костёр. Это — -главное топливо. За дровами далеко ходить: от границы леса до коша почти три километра крутого подъёма.
Арсо просунул голову в дверцу, завешенную куском старой бурки... В коше было темно: костёр давно погас. Сегодня никто не подбрасывал в него ни дров, ни помёта.
Старый Котия болен. Он ворочается на своей войлочной подстилке и тяжело дышит. Старик разговаривает сам с собой:
— Одна бурка на троих! Разве можно чабану без
бурки жить? Нельзя. Котия это знает. А вот завхоз Керим не знает. Керим думает — Котия на курорт едет. Плохой завхоз. Молодой ещё. Есть бурка у чабана — чабан везде дома. Когда у чабана бурка, он не боится ни дождя, ни холода. Нет бурки — чабан от дождя на кош бежит, стадо бросает. Котия стадо не бросал. Теперь Котия не чабан. Теперь Котия — как накалённый камень. Можно Котии на грудь поставить котелок с мамалыгой — будет кипеть. Горячая грудь у Котии, как голова Валеко. Тоже молодой ещё, глупый. Котия заболел — Валеко побежал ругать завхоза. Теперь они там будут прыгать друг перед другом, как два телёнка, у которых вместо рогов ещё только шишки на лбу...
Старый чабан негромко засмеялся, представив себе, как Валеко прямо с дороги ворвётся в дом к Кериму и как они будут ругаться.
— Арсо! — тихо позвал больной.
Арсо проскользнул в кош, обошёл Вано, который спал, завернувшись в единственную бурку, и ткнулся своим влажным носом в руку чабана.
— Арсо, мы с тобой старые чабаны, мы знаем, что чабану нужно... Ты сегодня смотри за стадом... Вано — какой он чабан, он ещё даже не комсомолец! Видишь, как спит? И костёр погас. Но будить его не надо. У него много будет сегодня работы. Ему под буркой тепло. Мне костёр не нужен. Я сам костёр... Ну иди, Арсо. Не проспи зорю...
Арсо вышел из коша. Было по-прежнему тихо. Только стало заметно прохладнее, да луна светила особенно ярко. Значит, скоро утро. Арсо покружился на месте и лёг.
Спал Арсо недолго. Когда над восточным отрогом Аишхи начали гаснуть звёзды, а небо позеленело, как луг, Арсо вскочил на ноги и, просунув голову в кош, громко залаял.
Вано поднялся не сразу. Он долго ворочался, как будто никак не мог выбраться из широкой бурки.
— Вставай, Вано! — сказал хрипло Котия. — Пора... Ты сегодня один чабан. Пора доить коров. Вставай, Вано!
Вано наконец выбрался из бурки и вскочил на ноги. Холодный воздух сразу пробрался под рубашку, и тело Вано покрылось мелкими пупырышками, как у ош,ипанного фазана.
Он поскорее принялся разжигать костёр. На стенах заплясали тени.
— Котия, почему ты не разбудил меня? Тебе, вероятно, было холодно, — говорил мальчик, подвешивая над огнём котелок с водой.
— Вано, Котия ещё не умер. Если бы ему было холодно, он разжёг бы костёр. Подай-ка мне траву.
Вано достал из-под крыши пучок высушенной травы и подал старику.
Котия выбрал из пучка несколько стеблей, размял их руками и бросил в кружку. Вано залил траву водой и поставил на огонь.
— Иди доить коров. Иди, иди, Вано... Я сам приготовлю себе лекарство.
Мальчик взял большое белое ведро, верёвку, но, перед тем как уйти, подошёл к Котии и положил свою руку на лоб старику. Он был горячий.
— Ничего, Котия, завтра вернётся Валеко и привезёт доктора. Доктор даст тебе порошки, — сказал Вано.
— Пусть лучше завхоз пришлёт бурки для чабанов. А Валеко твой чудак... Пока он приведёт доктора, Котия будет здоров. Разве он не понимает, что ты один не управишься со стадом?
Вано не стал возражать больному и вышел из коша.
Солнца ещё не было видно, но его лучи уже освещали острые пики хребта. Пятна снежников и ледник окоасились в нежно-розовый тон. Снежники были похожи на драгоценные камни, вделанные в тёмный гранит скал.
Внизу, в глубоких ущельях, ещё лежала ночь. Там клубился сине-чёрный туман, и ущелья казались бездонными реками. Дальше, на севере, эти реки сливались в бескрайнее море, и, как розовые острова, торчали из этого моря освещённые пики гор.
Вано знал, что это в ущельях спали облака. Кое-где они уже просыпались, расправляли свои влажные крылья и поднимались в холодное утреннее небо.
В загоне, отдельно от остальных коров, лежали дойные. В небольшом закутке нетерпеливо мычали три телёнка, ожидая, когда их выпустят к матерям.
Сегодня Вано впервые самостоятельно доил коров. И вообще он сегодня единственный чабан на всё стадо. Отставив ведро в сторону, Вано выпустил первого телёнка.
Бычок подбежал к матери и, поймав влажными губами вымя, стал жадно сосать, причмокивая и толкая корову в бок своим ещё безрогим лбом. Корова повернулаголову и старалась в короткие минуты близости обласкать своего детёныша. Шершавым языком она прилизывала шерсть на его сытой спинке. На шерсти оставались полукруглые завитушки.
Но вот Вано решает, что время свидания кончилось. Набросив на шею телёнка верёвку, он пальцами разжимает ему рот и отрывает от соска. Бычок упирается, но Вано втаскивает его в закуток и приоткрывает дверцу.
Белые нити молока со звонким урчанием падают в доёнку. Чем больше молока, тем глуше становится урчание.
Арсо сидит рядом. Он смотрит на Вано, как смотрел на него учитель во время весенних испытаний.
— Что ты мне поставишь, Арсо: пятёрку или двойку? — спрашивает Вано, выдоив третью корову.
Арсо подходит и с видом знатока заглядывает в ведро.
— Ну? — спрашивает Вано и протягивает собаке руку.
Арсо нехотя подаёт свою тяжёлую лапу, а сам смотрит куда-то в сторону. Он как бы говорит этим:
«Ну что ж, для первого раза сойдёт. Но если ты II вечером надоишь от трёх коров только ведро молока, да ещё и не полное, то прямо скажу: чабан из тебя, как из меня охотник на фазанов».
— Знаю, знаю! Вы с Котией старые чабаны, и угодить вам трудно! — говорит Вано и, забрав ведро с молоком, идёт к кошу.
Вода в котелке уже вскипела. Вано достал из мешка кукурузной муки и всыпал в котелок.
Котия уже выпил своё лекарство и теперь лежал с закрытыми глазами. Казалось, что на лице у него не было 1ш одного кусочка мяса: только череп, обтянутый сухой коричневой кожей, такой, какой обтягивают бубен. Острый подбородок зарос щетиной. Боль-шой орлиный нос, закопчённые усы и длинные, нависшие на глаза брови. В колхозе говорили, что ему уже около ста лет.
Вано поправил сползшее валяное одеяло и снова приложил руку ко лбу Котин. Вано показалось, что лоб теперь не так жжёт ладонь.
Мамалыга сварилась. Вано выложил её на деревянный поднос и, нарезав от круга тонкие ломтики сыра, положил их в мамалыгу.
— Котия, — сказал он тихо, — поешь!
Котия привстал на своей лежанке.
— Хорошенько смотри, Вано, за Сатурном. Прозеваешь — он уведёт стадо в заповедник. А в стаде, ты знаешь, стельные коровы. Особенно Зорька. Она сегодня может принести телёнка. Если коровы уйдут в ущелье, телята могут пропасть. Ты сам стань от леса. А здесь Арсо справится...
— Хорошо, Котия, я стану от леса. Кушай мамалыгу. Я схожу в лес и принесу дров для костра. Нужно варить сыр.
— Захвати. Только немного. Большую вязанку тебе ке донести. Бурку возьми,
— Бурку не возьму. Погода хорошая, а бурка тяжёлая, — возразил Вано.
— В горах погода меняется несколько раз в день. Тебе пора это знать. Чабан без бурки — это лиса без хвоста, бык без рогов.
— Хорошо, я возьму бурку, только ты не ругайся, Котия.
Арсо уже давно съел свой завтрак и ждал Вано. Они направились вместе к загону и выпустили коров.
Сатурн шёл впереди стада.
Бык то и дело останавливался, смотрел на косматые облака, поднимающиеся из уш;елья, и мычал. Он вырос на равнине и никак не мог привыкнуть к горам.
Вано, перебросив бурку через плечо, шёл за стадом.
«Значит, Котия мне не доверяет», — думал Вано.
Он был обижен. Уже второе лето жил он на перевале вместе с Котией и Валеко. Сам Котия уговаривал мать Вано отпустить сына на кош.
«Твой сын хочет быть доктором, который лечит коров и быков. Это хорошо, — говорил Котия матери, — это очень хорошо. Колхозу нужен такой доктор. Но сначала пусть Вано станет хорошим чабаном. Тогда он и доктором будет хорошим!»
И Котия многому учил Вано. Учил его, как доить коров, как отыскивать хорошие пастбища, учил варить сыр и мамалыгу — чабанскую еду. Вано знал, как нужно заложить соль для скота, чтобы не болели коровы цингой. Вано уже считал себя настоящим чабаном, и вдруг Котия говорит: «Ты не справишься...» А зачем он зимой говорил на собрании колхоза, чтобы его, Вано, премировали?
Вано спустился на небольшую скалистую площадку, разостлал бурку и лёг. Стадо паслось выше его.
— Арсо, иди сюда! — крикнул он собаке.
Ему было скучно и не хотелось оставаться одно-
му. Все книги были давно прочитаны, иные по два раза. Если Валеко не забудет, то принесёт новые. Он написал учительнице записку, чтобы она сама выбрала для него что-нибудь поинтересней.
— Арсо, иди ко мне! — крикнул он ещё раз.
Собака не шла.
Арсо только взглянул на Вано и снова отвернулся к стаду.
— Не хочешь? Ты тоже не доверяешь мне, как и Котия? Арсо, не доверяешь?
Арсо снова бросил на Вано короткий взгляд и отвернулся.
— Ну хорошо! Подождите... Я вам ещё покажу, какой Вано чабан! Жалею, что мало тебя за хвост дёргал, когда ты был маленьким.
Арсо не стал дальше слушать. Он отряхнул намокшую от утренней росы шерсть, так что вокруг него засверкала радуга, и, не оглядываясь, побежал заворачивать рыжую корову. Она отбилась от стада и шла обратно к кошу. Там мычал её телёнок.
Вано остался один.
Скучно одному. Вот когда рядом Котия, день проходит незаметно. Котия знает тысячу сказок. Про каждую гору он знает что-нибудь интересное. Вон на той красной скале, что стоит отдельно от других, посреди луга, на самом перевале, когда-то, по рассказу Котии, жила красавица черкешенка. Её похитили горные орлы из родного аула и принесли на эту скалу. Орлы приносили ей на обед горных куропаток и в клювах воды из ручья...
Многие юноши приезжали на быстрых конях, чтобы снять красавицу со скалы. Они храбро карабкались по уступам, и, когда уже почти достигали вершины, на них набрасывались орлы и сталкивали на острые камни. Кровью этих храбрецов выкрашена скала. Ни дожди не могут смыть эту кровь, ни ветер сдуть, ни солнце высушить, потому что это кровь смелых людей.
Вано знал, что это сказка. Но его тянуло на вершину.
При Котии, а особенно при Валеко он не хотел лезть. Валеко обязательно станет смеяться. Он обязательно скажет: «Смотри, Котия! Не перевелись ещё храбрые люди в горах. Вон Вано карабкается на скалу. Он хочет там достать себе достойную храбреца красавицу».
Валеко никогда не упустит случая посмеяться или поругаться. Такой у него характер.
«Может, попробовать сейчас? Ни Котии, ни Валеко...»
Вано посмотрел на стадо. Коровы рассыпались по наклонному лугу около седловины перевала. Даже Сатурн мирно щипал траву.
Арсо, завернув рыжую корову, теперь улёгся на большую глыбу гранита и наблюдает за стадом.
Вано сел на бурку, перемотал намокшие от росы портянки и затянул потуже верёвки постолов. Солнце уже поднялось над горами и начинало припекать. Вано сбросил бешмет и сбежал вниз.
Вано — настоящий горец. Черноглазый, чернобровый, тонконосый. У него сильные ноги, цепкие руки, гибкая талия. И с приметинкой. Котия говорит, что его корова в детстве лизнула в лоб. Так и остались волосы над лбом полукруглым завитком кверху. Их не причешешь.
Вано перебрался через ручей и пошёл по лугу, к Красной скале.
Он шёл по траве и цветам. Вот и ромашки. Таких крупных Вано не видел даже в парке на берегу моря. Каждая ромашка величиной с его ладонь. Такие же крупные васильки, колокольчики; даже фиалки здесь больше обычных почти в три раза.
На склонах цвели заросли рододендрона — ползучего кустарника с крупными листьями, как у фикуса.
Вано всегда казалось, что эти листья не настоя-
Постолы — обувь из сыромятной кожи.
щие, что их сделали из бумаги, пропитали воском и выкрасили зелёной краской. От крупных бледно-розовых цветов рододендрона шёл одуряющий горький запах. Чабаны эти цветы не нюхают — от них болит голова.
Больше всех цветов Вано любил альпийские лилии. Они росли у ручья. Нежно-кремовые лепестки цветка как будто были сделаны из тончайшего стекла и расписаны изнутри, от пестика, бархатной краской тёмно-коричневого цвета.
Вано нарвал букет лилий и стал подниматься к скале. Если бы Валеко увидел его сейчас, он обязательно сказал бы: «Смотри, Котия, храбрый Вано не с пустыми руками идёт к своей красавице!»
«Ну и что ж? Я оставлю свой букет на скале. Он яркий, и его хорошо будет видно с коша. Я покажу его Валеко — пусть он вытаращит глаза».
Почти до половины скалы Вано взобрался легко. От ветров, мороза и солнечного зноя гранит потрескался, как высохшая глина.
Букет Вано прикрепил к поясу и, цепляясь обеими руками за выступы и пучки жёсткой травы, карабкался всё выше и выше. Потом Вано нашёл широкую трещину. Она шла почти до самого верха. Упираясь в одну степку трещины ногами, а в другую руками и спиной, мальчик медленно лез вверх. Так поднимаются альпинисты. Вано видел это на снимке в журнале.
«Вот бы, — думал Вано, — сейчас меня сфотографировать, а потом напечатать на обложке журнала с надписью: «Храбрый чабан Вано лезет по трещине на вершину самой высокой горы».
До верха было ещё далеко, а Вано сильно устал. Громко стучало сердце, и дрожали колени. От пота намокли даже ресницы. Вано немного отдохнул и полез дальше. Трещина пошла наклонно, и подниматься стало легче. Мальчик добрался до удобного высту-
па и по выступу дополз до края верхней площадки. Последнее усилие — и Вано на верху скалы. Здесь дул порывистый ветер.
Вано сел меж двух камней, как в кресло, и подставил горячее лицо ветру.
Раньше Вано не думал, что скала такая высокая; это потому, что рядом были вершины хребта. Теперь Вано показалось, что он поднялся выше всех гор. Он видел и южные и северные склоны хребта. На юге Вано видел знакомые очертания красавицы Аибги с её ледниками. Рядом с ней возвышалась Агепста, а ещё дальше, левее Аибги, многоголовая Арабика. Вано казалось, что он даже море видит между гор.
Внизу, в глубоком ущелье, застряла серая туча. Она была огромная и никак не могла подняться. Вано даже показалось, что он слышит, как туча вздыхает не то от натуги, не то от обиды, что не может подняться. А может, это просто ветер шумит...
У подножия скалы, как пёстрый ковёр, раскинулся луг. Отсюда кош кажется забытой на лугу папахой. Вон на камне маленькое пятнышко. Это Арсо. Через весь луг, от самого ледника, сверкающей лентой тянется ручей. За ручьём по лугу медленно движутся серые, белые, жёлтые и чёрные комочки. Это стадо.
Вано поднял большой камень и бросил его вниз. Камень летел долго и, упав на покатый луг, понёсся к ручью, подпрыгивая, как бегущий заяц.
Вано хотелось, чтобы его кто-нибудь увидел здесь, на скале. Хотя бы Арсо.
— Ого-го-го! — закричал он. — Арсо-о-о! Арсо-о-о! Смотри, Арсо! Я добрался до вершины! Тебе сюда ни за что не подняться!.. Я оставлю здесь свой букет и буду смеяться над вами! Ого-го-го!
Ветер вырывал у Вано изо рта слова и нёс их к вершинам. Арсо их не слышал.
Туча в ущелье от злости почернела и тяжело стонала.
Если бы Вано было не двенадцать лет, а столько, сколько Котии, Вано поспешил бы вниз, услышав эти стоны. Но Вано тучи не боялся. Она застряла в уш,елье, вот и злится... Ну и пускай злится! А он, Вано, сумел подняться на скалу, куда не могли подняться даже самые храбрые юноши из сказки Котии.
Но туча поднялась...
Словно разъярённый бык, отыскивающий врага для смертельного боя, с глухим стоном туча полезла по склонам вверх. Невидимый чабан ударил по спине быка огненным бичом — бык взревел. До Вано долетел всё нарастающий рёв и наконец трескучий громовой разряд.
Уцепившись руками за камни, Вано смотрел на тучу.
Она, вырвавшись из тесноты ущелья, неслась к седловине перевала, заполняя собой все ложбины и овраги. Казалось, туча сметала всё, что было у неё на пути. Ледники, камни, скалы — всё исчезло, подмятое ею, раздавленное...
Вылетев на перевал, туча через седловину ринулась вниз, на стадо. Вано вытянул вперёд руку, как будто хотел ладонью упереться в тучу и задержать её. Он знал, что сейчас произойдёт.
Ах, если бы Вано мог сейчас спрыгнуть со скалы туда, на луг. Он бы стал на пути стада и кричал бы до хрипоты, чтобы стадо услышало его голос, голос чабана, чтобы стадо сбежалось к нему. Когда коровы боятся чего-нибудь и бросаются в панике бежать, чабану нужно подать голос.
Животные знают силу чабана и придут к нему, под его защиту.
Сатурн промчался сквозь всё стадо. Стадо вывернулось, как выворачивается мешок, и помчалось за своим вожаком вниз, к лесу.
Вано видел, как Арсо кинулся наперерез стаду.
— Арсо! Арсо! Миленький! Останови, останови! — закричал Вано.
Ветер рвал слова на части. Он сорвал с головы мальчика папаху, и она, как подбитая орлица, полетела вниз.
Арсо пронёсся перед самым носом Сатурна, но остановить стадо не смог. Он едва успел отскочить в сторону, чтобы не быть раздавленным ревущей скотиной.
Туча неслась за стадом, как несметная стая осатанелых волков.
Вано больше не мог бороться с ветром. Он упал на живот за выступом скалы и уцепился руками за её острые края. Ему хотелось врасти в гранит, чтобы не сдуло ветром и не унесло вслед за папахой в эту страшную, клокочущую бездну.
Внизу уже ничего не было видно. Ни луга, ни коша, ни стада. Вано казалось, что он плавает на огромном каменном пароходе по бушующему морю.
Вдруг ветер неожиданно стих. Туча стала светлеть. Открылся перевал. Через седловину, как от-
ставшие от стада коровы, торопливо бежали небольшие клочья тумана. Засверкал ручей, запестрел луг. Туча уже летела над ущельем Лабенка. Но стада, сколько Вано ни искал его глазами, на лугу не было.
* * *
Вано нашёл с другой стороны скалы удобный спуск. Но спускаться оказалось гораздо труднее, чем подниматься.
Вано расцарапал себе щёку об острый камень и сильно ушиб колено.
«Что теперь делать? — думал он. — Куда бежать? К Котии или догонять стадо? Нет. Сначала нужно всё рассказать Котии. Он знает, что нужно делать», — решил мальчик и побежал по мокрой траве к кошу.
Котия сидел у порога с закрытыми глазами. Вано показалось, что он уже не дышит.
— Котия! — крикнул мальчик испуганно.
— Не кричи, Вано, — тихо сказал старик, не открывая глаз. — Знаю. Ты не мог удержать стадо. Ты ещё мал...
— Котия! Я виноват, я знаю, что я глупый. Котия, что надо делать?
Котия сидел молча, не открывая глаз.
— Я побегу за стадом!
Веки старого чабана дрогнули. Он поднял руку и тихо сказал:
— Помоги мне встать, Вано.
Вано обхватил старика правой рукой за пояс и помог ему встать.
— Смотри хорошенько, Вано. Стадо ушло туда, в заповедник. Сатурн поведёт его вниз по Лабенку. Он знает эту тропу. Если будешь бежать за стадом следом, то увидишь только хвосты. А нужно догнать рога... Есть короткая тропа, по хребту Безымянной. Дорога трудная, но у тебя сильные ноги и голова не кружится. Ты хорошо лазаешь по скалам. Я видел тебя на вершине Красной скалы...
Вано отвёл глаза в сторону от глаз Котии и увидел Арсо. Он сидел, тяжело дыша, свесив узкий красный язык.
— Я глуп, Котия. Это моя вина.
— У меня старые глаза, плохо видят. Мне показалось, что ветер сдул тебя со скалы...
— Это ветер сорвал у меня с головы папаху.
— Папаху! А я думал, тебя, — сказал старик непривычным для Вано грустным голосом. — Возьми мою папаху, Вано, и иди. Стадо нужно вернуть. В стаде много стельных коров, пропадут телята. Телята дорогие, они родятся здесь, в горах. Это будут телята новой породы. Они не будут бежать в долины, как их глупые матери. Ты видишь эту вершину?
— Вижу, Котия!
— За этой вершиной спустишься вниз, в ущелье Безымянной речки. Она впадает в Лабенок. Там есть тропа. Это очень трудный путь. Иди... За меня не беспокойся, мне лучше.
Вано всё же помог Котии лечь на постель, подвинул ближе к нему дрова, мамалыгу и ведро с молоком. Потом бросил в сумку кусок сыра, несколько сухарей и вышел из коша.
— Арсо! Идём, Арсо, догонять стадо!,
Собака встала и вошла в кош.
— Иди, Арсо, иди, — сказал Котия, погладив сухой рукой косматую спину волкодава.
Арсо вышел из коша и подошёл к ожидавшему мальчику.
— Мы скоро вернёмся, Котия! — крикнул Вано и пошёл в сторону вершины, указанной чабаном.
II
Летом дни большие.
Когда Вано и Арсо дошли по хребту до вершины, солнце стояло у них над головой.
Вано старался идти ровным шагом, не торопясь. Так учил его Котия.
«Если хочешь в горах пройти много, не надо бежать. Иди ровно — не скоро устанешь. У русских есть хорошая пословица: «Тише едешь, дальше будешь». И на гору и под гору ходи ровно», — говорил старик не раз.
Вано решил не спускаться сразу в ущелье, а идти сколько можно по хребту, вдоль Безымянной. Арсо нашёл еле заметную звериную тропу. Она шла по самой вершине хребта. Справа — крутой безлесный спуск к Безымянной, слева — несколько балок, поросших рододендронами, за балками — новый хребет. Он тянулся вдоль Лабенка. Где-то за этим хребтом Сатурн вёл своё стадо. Второй хребет шёл почти под прямым углом к хребту Безымянной. Теперь Вано ясно видел, что указанный Котией путь намного короче.
Спустились к границе леса.
Сначала стали попадаться отдельные пихты, огромные, толстостволые, разлапистые. Они стояли по одной, по две среди луга, как полководцы.
За ними, чуть ниже, начинался вековой пихтовый лес. Деревья росли густо. Их кроны слились в одну, закрывая небо. Между стволами вся земля была усыпана гниющей хвоей.
От её острого запаха кружилась голова. Здесь не росло ничего, даже трава.
«Пихта — кош охотника, — говорил Котия. — Пусть дождь льёт с неба потоками — ты иди под пихту. Пихта не пустит к тебе дождя. Можешь ей доверять...»
Всё глубже становилось ущелье. Безымянная шумела где-то далеко внизу, когда Вано решил начать спуск. Лесистые крутые склоны кое-где уже обрывались к воде отвесными скалами. Вано крикнул собаку и махнул рукой вниз.
Здесь, вероятно, тоже была гроза. Там, где деревья росли реже, земля раскисла, постолы скользили, как лыжи по снегу.
Вано сползал на ногах от дерева к дереву. Шум
речки становился всё громче. Бежавший впереди Ар-со отыскал тропу. Вано спустился к нему, и, немного отдохнув, они двинулись вниз по тропе.
— Молодец ты, Арсо! Не то что я, дурак... Вот если не верну стада, утоплюсь в речке. Как я покажусь на коше?
Арсо бежал впереди, мало слушая, что говорил Вано.
— Не веришь, что утоплюсь? Нет, утоплюсь. Или нет, я лучше уйду на Кубань. Сяду там на поезд и уеду далеко-далеко.
Вано тяжело вздохнул. Ему вовсе не хотелось ни топиться, ни уезжать далеко-далеко.
— Ой, Арсо! Неужели мы не успеем? Я не хочу топиться и уезжать, Арсо! Слышишь? Я хочу вернуть стадо.
Арсо молча бежал впереди, лишь на секунду поворачивая голову, когда Вано произносил его имя.
Тропа то спускалась к самой речке и шла берегом, то снова поднималась вверх там, где берег подходил к воде скалистым обрывом.
После ливня Безымянная ревела и металась в каменных берегах. Жёлтая вода неслась сплошными водопадами, словно сбегала с перевала по бесконечной лестнице. Ущелье становилось всё глубже.
В Безымянную впадали бесчисленные ручьи. Иногда они срывались прямо с отвесных скал широкими струями. Там, где каскады падали в речку, туманом стояли брызги и рёв был такой, как будто ревели сразу сотни быков.
Вода тащила целые деревья, вырванные с корнем. На глубоких местах они плыли, слегка покачиваясь, как зелёные острова. На мелких местах деревья цеплялись корнями за каменистое дно. Тогда дерево вдруг вставало посреди реки во весь свой рост, а потом с грохотом рушилось снова в водоворот.
Неожиданно Арсо стал лаять. Вано видел, что он лает. Услышать было невозможно.
— Ну, что ты нашёл? — спросил мальчик, подбегая.
Но Арсо не нашёл, а потерял. Потерял тропу. Она подходила к реке и исчезала под водой. Наверное, в этом месте тропа проходила под скалой. Вздувшаяся река залила её. В этом месте Безымянная текла в узком ущелье с отвесными скалами с обеих сторон. Вскарабкаться наверх и обойти скалы было невозможно.
«Неужели придётся возвратиться и искать обход? Тогда не успеть, ни за что не успеть!» — подумал Вано.
Арсо вопросительно смотрел на мальчика. Он ждал решения. На бешеную реку даже смотреть было страшно. И всё-таки Вано решил не возвращаться. Он поднял длинную палку и подошёл к тому месту, где тропа скрывалась под водой.
Прижимаясь как можно ближе к скале и всё время ощупывая палкой дно, Вано медленно шёл вперёд, огибая выступ скалы. За ним шла собака. Было неглубоко: чуть выше колена. Правда, для Арсо это было уже не мелко. Он почти плыл, еле касаясь лапами дна. Высоко задрав лохматую морду, он испуганными глазами косился на ревущую речку.
Труднее всего было на повороте. Течение здесь было сильное и вода доходила Вано до пояса. Опасаясь, чтобы вода не унесла Арсо, Вано хотел ухватить его за косматый загривок, но не успел. Подхваченный потоком воды, Арсо вдруг проплыл мимо Вано. Отчаянным усилием собака развернулась против течения и попыталась плыть к Вано, но течение утащило её за скалу.
— Арсо! Арсо! — закричал Вано и, забыв про опасность, кинулся бегом за собакой.
Течение подхватило его, ноги потеряли дно, и мальчик, окунувшись с головой, поплыл.
Отчаянно дрыгая руками и ногами, Вано быстро вынырнул. Сразу за поворотом был маленький за-
ливчик. Вода там не текла, а ходила широкими кругами с хлопьями грязной пены на поверхности. Течение несло мальчика мимо заливчика. Напрягая все силы, Вано старался вырваться из струи на тихую воду.
Вдруг среди хлопьев пены он увидел морду Арсо. Собака плыла к нему.
— Назад! Назад, Арсо! — крикнул Вано.
Но собака была уже рядом. Она пыталась ухватить Вано зубами за одежду.
Вано сам ухватился рукой за длинную шерсть, рывком подтянулся и выплыл из стремительного потока на тихую воду. Ноги достали дно.
— К берегу, Арсо, к берегу!
Выбравшись на берег, Вано повалился меж камней и долго лежал неподвижно. У него дрожало всё тело. Это было не от усталости, а от пережитого страха.
Арсо толкнул мальчика лапой и отрывисто пролаял. Мальчик поднялся на руках и сел. Он обнял собаку и прижался щекой к её мокрой голове.
— Ничего, ничего, Арсо! Перебрались... Сейчас... сейчас пойдём...
Вано с трудом поднялся и пошёл.
Постепенно ущелье стало расширяться.
— Мы скоро дойдём, Арсо. Я думаю, что мы прошли уже километров двадцать. Дойти бы засветло до Лабенка! Скоро солнце сядет.
Там, где тропа была пошире, собака и мальчик шли рядом. Арсо слушал Вано внимательно и в знак одобрения помахивал своим коротким лохматым хвостом.
Вдруг Вано схватил его за спину и остановил.
— Смотри, Арсо! Вон на скале... — зашептал Вано собаке в ухо.
Впереди из лесного массива к реке выходила ска-
л а с высокой естественной башней на конце. Башня была ярко освещена лучами заходящего солнца. На самом высоком месте, на большом камне, как на постаменте, стоял тур. На фоне светлого неба хорошо были видны его могучие толстые рога, откинутые на спину. Красивую голову, широкую грудь и короткие сильные ноги покрывала жёлтая, немного седоватая шерсть.
Тур стоял неподвижно, как будто был высечен из песчаника скалы.
Тур был не один: на площадке паслось целое стадо. Это был вожак. Самка с турятами выщипывала жёсткую траву из расселин скалы. Двое молодых козлов стукались рогами, ничуть не беспокоясь, что от одного неверного шага они оба могли свалиться в пропасть.
Туры не видели ни Вано, ни Арсо, пока они были в тени гигантского белоствольного бука. Но как только они вышли на освещённое место, вожак сразу их заметил, вскинул голову и предупредительно кашлянул, хрипло, как Котия. Сразу козлы прекратили драку, а самки и турята приготовились к бегству. Вожак кашлянул ещё раз, и всё стадо бросилось по узкому перешейку в лес. Последним, сделав огромный прыжок с камня, на котором он стоял, убежал глава стада.
— Видал, Арсо? Это тебе не коровы. Если ты увидишь волка или человека, убившего тура в заповеднике, можешь смело перегрызть ему горло. Котия говорит, что здесь, в заповеднике, были ещё лучшие звери... Зубры! Это быки вроде нашего Сатурна... Ну, идём, должно быть, уже немного осталось.
Вано не ошибся. Сразу за Туровой башней — так Вано назвал скалу, где видел туров, — Безымянная делала крутой поворот к северу и через километр впадала в Лабенок.
Оба ущелья сливались в одно. Прямо от реки склоны ущелья скалистыми террасами, поросшими
сосновым лесом, уходили на сотни метров вверх. Внизу лес был смешанный: пихта, ель, сосна и бук с гладкой белой корой. Иногда попадались дубы. Они росли на голых камнях, запустив длинные корни в трещины. На дне ущелья уже темнело, а вершины скал ещё были освещены косыми лучами невидимого солнца. Красные стволы сосен горели, как свечи.
Почти у самого слияния рек Вано увидел сделанный из стволов деревьев грубый мост через Безымянную. Значит, там проходила старая скотопрогонная тропа, по которой Сатурн вёл стадо.
— Бежим, Арсо! — крикнул Вано и сам бросился к мосту.
Бежать было трудно: мокрая одежда прилипала к телу и мешала двигаться.
Ущелье Безымянной при впадении расширялось. Там была небольшая поляна, заросшая лопухом-борщевиком. Лопухи росли так густо, что Вано сразу запутался и упал. Тропа исчезла. Он вскочил на ноги и, помогая себе руками, полез через заросли.
Быстро идти было невозможно: местами лопухи были такие высокие, что Вано скрывался в зарослях с головой. Огромные листья, чуть не по два метра в диаметре, росли на стеблях в руку толщиной. Вано пригибал стебли ногами. Ломаясь, они хлопали, как холостые выстрелы из берданки, брызгая из надломов прозрачным соком.
До самой темноты пробивались Вано и Арсо к мосту. Наконец лопухи кончились. Вано выбежал на тропу и, опустившись на колени, стал внимательно рассматривать землю.
— Они ещё не проходили! Видишь, нет следов. Мы пришли раньше их!
Арсо знал это лучше самого Вано. Ему не нужно было рассматривать тропу, отыскивая следы: он просто не слышал здесь запаха коров и их вожака.
На быстро потемневшем небе зажглись яркие звёзды. С перевала по ущелью потянуло свежим ве-
терком. Пока пробирались через лопухи, Вано было жарко; теперь он стал поёживаться от холода. Сбросив мешок, мальчик снял с себя всю одежду и выжал её.
У Вано не было спичек, чтобы развести огонь и немного высушить одежду. Пришлось снова надеть мокрую. Сухари в мешке раскисли. Вано выбрал несколько кусочков, а всё остальное выложил на лист лопуха и отдал собаке. Вано показалось, что он никогда не ел таких вкусных вещей, как сыр с мокрыми сухарями.
— Вернёмся на кош, целый котелок мамалыги съедим, а теперь идём, Арсо! Идём им навстречу. Вот Сатурн взбесится, когда увидит, что мы его обошли! Идём. Скоро луна выйдет из-за гор, будет светло.
Ночью идти по горной тропе трудно. Вано то и дело спотыкался о камни и корни деревьев. После отдыха ноги стали непослушными.
Было очень холодно.
«Хорошо бы сейчас завернуться в бурку и лежать у костра! Котия верно говорит: когда у чабана на плечах бурка, он всюду дома», — думал Вано.
— Тебе хорошо, Арсо, у тебя бурка всегда с собой. Вон какая шерсть!
От холода у Вано так стучали зубы, что слова он выговаривал не целиком, а по кусочкам. Но он старался больше говорить. Очень страшно ночью идти по узкой горной тропе. Оступишься — и полетишь вниз, в Лабенок. А до него, может, метров сто лететь. Пока долетишь — умрёшь.
Вано смотрел на Арсо, бежавшего впереди: Арсо поднимался — и Вано заносил ноги повыше. Арсо поворачивал, обходя камни, — и Вано следовал за ним.
Вдруг Арсо резко остановился и глухо зарычал. У Вано сразу будто ёж пробежал по спине. А вдруг медведь или волки? Но тут Вано услышал протяжный далёкий рёв. Это ревел Сатурн, Вано мог отличить его рёв среди тысячи других.
Арсо, повернув голову к Вано и нетерпеливо помахивая кончиком хвоста, ждал приказаний.
— Идут! — прошептал мальчик. У него сразу пропала дрожь.
Он махнул рукой, и Арсо побежал вперёд. Вано едва поспевал за ним:
— Тише, Арсо, тише!
Рёв приближался. Ревел Сатурн, а за ним всё стадо.
Большая луна вышла из-за лесистой горы, осветила тропу и всё ущ,елье. Вано пошёл быстрее.
Справа, прямо от тропы, начинался крутой подъём, слева — обрыв к реке. Снизу к тропе тянулись своими острыми верхушками гигантские ели.
Перекрывая шум Лабенка, ревел Сатурн. Вано приготовился к встрече. Он подобрал толстый еловый сук и, выбрав поудобнее место, остановился посредине тропы, в тени деревьев. Арсо стал рядом.
И вот из-за поворота вышел Сатурн. Он шёл, низко опустив голову. За ним гуськом шли коровы. Они толкали друг друга, высоко задирая головы, и протяжно мычали. Неожиданно Сатурн остановился. Он тупо посмотрел вокруг и, подняв морду, заревел во всю силу своих лёгких.
Коровы замычали ещё громче. В их мычании Вано расслышал нотки страха и усталости. Сатурн снова опустил голову и двинулся вперёд.
Когда вожак подошёл к Вано шагов на пятьдесят, мальчик и собака вышли на освещённую тропу. Вано громко крикнул своё обычное, чабанское:
— Эх-хо!..
Сатурн остановился. Подняв морду, он удивлённо смотрел на мальчика и собаку, стоящих на пути.
— Эх-хо, Сатурн! Ты большой трус. Ты, такой сильный, победивший всех наших быков, испугался грозы! Ты первый бросился бежать и увёл всё стадо в эти трущобы. Ты трус! Эх-хо! Поворачивай обратно!
Бык слушал мальчика, всё ниже опуская свою широколобую, тупорогую голову. Он начал хлестать себя по бокам хвостом с кисточкой на конце. Вожак готовился к бою. Он хотел пробиться вперёд. Он знал: горы кончатся и он выведет своё стадо в родные степи. Там нет ни крутых склонов, ни опасных обрывов. Там его родной хлев. Пусть там не такая сочная трава, как на перевале, не такая чистая вода, как в ручье, — на всё это он не променяет родные просторы степей...
А эти, мальчишка и собака, стали на его пути! Сатурн не потерпит преград. Он знает свою силу: ни один бык не смел стать у него на дороге!
У Сатурна на губах выступила пена. Он застонал и, тяжело переступая, двинулся на чабана. Вано знал, что быка нельзя задержать, стоя на месте. Мальчик поднял палку.
— Эх-хо! — крикнул Вано и, вертя перед собой палку, пошёл навстречу Сатурну. — Гони, Арсо! — крикнул он собаке.
Арсо в несколько прыжков очутился у морды быка и принялся, подпрыгивая, бешено лаять. Но Сатурн не остановился. Он шёл с опущенной к земле мордой, выставив вперёд свои короткие, но страшные рога.
Вдруг Вано сообразил, что ему не следует задерживать стадо в этом месте. Это просто было ни к чему: всё равно повернуть стадо здесь, на узкой тропе, он не сможет. Нужно вывести его на более широкое место.
— Назад, Арсо! Назад!
Но Арсо уже не слышал приказа. Он ненавидел Сатурна, и только долгая выучка чабанской собаки не позволяла ему сейчас вцепиться быку в шею и сомкнуть свои страшные челюсти на жирном загривке. Сомкнуть так, как смыкал он их на шее волчицы, мстя за зарезанного ею телёнка.
— Назад, Арсо! Назад! — кричал Вано, шаг за шагом отступая по тропе назад.
Арсо не унимался.
Сатурн ярился всё больше. Все мускулы его огромного тела напряглись и требовали боя. Он стонал. С тех пор как был убит последний зубр, горы не слышали такого стона. Он стонал и хрипел, как будто захлёбывался собственной яростью.
Вано чувствовал, что ещё минута — и бык ринется вперёд. Он сметёт их с дороги, швырнёт в пропасть. Он и сам мог свалиться. Нужно было заставить Арсо уступить. И Вано нашёлся. Он набрал полную грудь воздуха и крикнул:
— Арсо! Волки!
Арсо услышал.
Он бросил быка и подскочил к Вано. На него страшно было смотреть: глаза горели зелёным огнём, уши прижались к затылку; верхняя губа приподнялась и открыла страшные клыки. Глухо рыча, волкодав оглядывался по сторонам, отыскивая врага.
— За мной! — крикнул Вано и побежал по тропе назад к мосту.
* * *
Арсо быстро обнаружил обман.
Немного успокоившись и понюхав воздух, он понял, что волков и близко нет. Он перестал рычать и посмотрел на Вано.
— Так надо, Арсо! Бежим к мосту.
Арсо ничего не понимал. Почему Вано обманул его? Почему он отступает перед быком? Почему он позволяет стаду уходить от коша? Что сказал бы Ко-тия? Может быть, мальчишка испугался? Тогда он, Арсо, должен остановить стадо. Остановить, хотя бы ему пришлось вцепиться в горло этому тупому зверю.
Приняв решение, Арсо остановился и повернулся в сторону стада, готовый снова броситься на Сатурна.
— Не сметь, Арсо! Назад! — закричал Вано. Он постарался вложить в окрик всю строгость, которую позволяли его двенадцать лет.
приученный годами, пёс не посмел ослушаться. Он побежал следом за мальчиком, поминутно оглядываясь назад.
Вот поляна и мост.
Отдышавшись, Вано бросил мешок и стал таскать на мост плавник. Он сваливал в кучу небольшие брёвна, коряги, валежник.
— Это называется баррикада, Арсо! Понял? Сатурн не проведёт дальше стада, и мы погоним его обратно.
Куча быстро росла. За плавником не нужно было бегать: река нанесла его целые горы у самого мосТа.
Перед основной баррикадой мальчик набросал ещё плавника, чтобы бык, если вздумает ткнуть рогами, обрушился сначала на первую кучу.
Стада всё не было.
«Не свалился ли Сатурн в пропасть?» — подумал Вано.
Он не знал, что бык, не видя противника, остановился и стал ждать. Сатурну казалось, что противник не отказался от борьбы, а готовит какую-то хитрость.
Вано бросил на свою баррикаду ещё несколько сучьев и сам взобрался наверх вместе с собакой. Снова стало холодно. Было уже за полночь. Ветер стал ещё злее. Наверно, скоро уже рассвет. Опять вспомнил Вано про бурку, оставленную на пастбище.
— Ты на меня не сердись, Арсо. Мы дождёмся стада здесь и погоним его обратно.
Мальчик прижал к себе собаку, и ему сразу стало теплее. Арсо не отодвигался, но на Вано смотрел неласково.
— Дуешься? Ну прости, пожалуйста! Я знаю, что тебя нельзя волновать таким
словом, как «волк». Но что я мог поделать? Хочешь, я тебе сказку расскажу?
Вано стал рассказывать про больших орлов, которые приносили из-за моря золотых баранов.
Наверное, Вано немного заснул.
Когда он открыл глаза, начинался рассвет. От реки поднимался сизый туман.
Арсо тихо рычал. Подняв глаза, Вано увидел Сатурна. Бык спускался по тропе на поляну. За ним шли коровы.
— Идут, Арсо! Идут! Эх-хо! Короткорогий! Поворачивай обратно! Дальше дороги нет!
Сатурн, не останавливаясь, шёл к мосту. У первой баррикады он остановился и стал внимательно рассматривать странное сооружение. Потом зло посмотрел на строителей, как бы говоря: «Перехитрили! Я знал, что на открытый бой вы не пойдёте. Пороху у вас не хватит биться со мной! Ну ладно. Посмотрим, как вы повернёте стадо и меня обратно!»
Бык пошёл вдоль Безымянной, отыскивая место для переправы. Безымянная за ночь немного спала. Вода очистилась. Но перейти речку вброд было невозможно. Даже спуститься к воде нельзя: везде были крутые обрывы.
Вано соскочил с баррикады.
— Арсо! Гони коров! Гони! — крикнул он и, схва-,тив палку, сам побежал к коровам.
Обычно послушные, коровы ни за что не хотели покинуть своего вожака.
— Эх-хо! Эх-хо! — кричал Вано. — Пошли! Гони, Арсо! Гони их!
Но и Арсо не мог ничего сделать. Он лаял до хрипоты, прыгая перед мордами упрямых животных. Коровы ни за что не хотели повернуть обратно на тропу. Они носились вскачь по зарослям лопухов. Мальчик и собака выбились из сил, но ни одной коровы им не удалось загнать на тропу. Только чёрный бык Тайфун, бывший раньше вожаком стада, охотно повернул обратно к перевалу. Но за ним не последовала ни одна корова.
Вано понял: пока он не загонит Сатурна, стадо не пойдёт.
Сатурн снова подошёл к баррикаде и неистово заревел.
Вано бросил палку и осторожно подошёл к быку:
— Ну, не надо злиться, Сатурн. Успокойся и будь умником. Давай мириться, давай! — говорил он и осторожно гладил быка ладошкой по широкой спине.
Сатурн был озадачен такой переменой в обраш.е-нии. Не ожидая подвоха, он повернул к Вано голову и потянулся к нему, как будто хотел лизнуть мальчика. Этого Вано и ждал. Как клещ вцепился он большим и указательным пальцами в перепонку между ноздрями быка и что было силы сжал пальцы. Этому приёму обучил его Котия.
Сатурн поздно понял свою ошибку. Он тоже хорошо знал, что это за приём. У него ещё не заросла дыра в переносице, в которую раньше, до перевала, было продето металлическое кольцо.
— Стой! Теперь ты пойдёшь за мной, упрямая скотина! — закричал Вано торжествующе.
Он просунул указательный палец в дыру от кольца, и теперь Сатурн не мог даже головой мотнуть. Страшная боль обжигала нос и всю морду при малейшей попытке вырваться.
Вано подобрал свой мешок и повёл сразу присмиревшего быка в сторону перевала.
— Арсо! Он согласен вернуться! Гони коров!
Стадо двинулось вслед за пленным вожаком.
III
Взошло яркое летнее солнце. Оно разогнало холодный утренний туман. Запели птицы. Они пели и над головой Вано, и внизу, в ущелье. Высоко в небе чёрной точкой парил орёл — он отыскивал себе завтрак.
Уже почти сутки Вано был в погоне. Короткий сон на баррикаде не разогнал усталости. Хотелось есть. Но в душе Вано пели птицы. Он бодро шагал, ведя за собой покорного Сатурна. Вано сломал небольшой прутик с гладкой корой и продел его в отверстие в переносице быка. Теперь бык шёл как на поводу.
Да Сатурн и не сопротивлялся больше. Он признал себя побеждённым на этот раз. Заставить его забыть родные степи они не смогут — ни этот перехитривший его мальчишка, ни пёс, ни даже тот крючконосый чабан, пригнавший его на ненавистный кош. Он ещё уведёт своё стадо в степь. Не сейчас, так в другой раз.
Тропа круто пошла вниз, к небольшомуручью, впадавшему в Лабенок. За ручьём была поляна, заросшая лопухами, как на Безымянной. Только моста не было: ручей перешли вброд.
Вдруг из-за зарослей лопухов донеслось жалобное мычание коровы. Вано остановил быка.
«Почему корова отстала от стада?» — подумал Вано и громко крикнул:
— Эх-хо!
Из зарослей вышла жёлтая корова, из тех, что привели вместе с Сатурном.
— Зорька! Зорька! — крикнул Вано.
Так звали корову. Вдруг Вано вспомнил, что
Зорька была стельная. Сейчас она стояла перед мальчиком с отвислым, впалым животом и налитым выменем.
«Отелилась, — подумал Вано. — Но где же телёнок? Неужели пропал?»
Вано выдернул хворостинку из носа быка и побежал в заросли, откуда вышла корова.
Посредине поляны лопухи были примяты широким полукругом, а в самой середине, поджав под себя слабые ножки, лежал телёнок. Он глядел круглыми испуганными глазами на Вано, на мать и на весь мир. Он впервые видел солнце, зелень, голубое небо. В первый раз видел человека.
Телёнок родился ночью. Мать своим шершавым языком расчесала ему шерсть на боках, спинке, мордочке и ножках. Впервые он насосался тёплого материнского молока. Жить было хорошо!
Когда Вано подошёл к нему, он попытался встать, неумело двигая ножками с мягкими копытцами. Встать не удалось, и он позвал мать: «Му-у-у!..»
— Ай, какой голосистый! Не бойся Вано, он тебя не обидит...
Как подобает чабану, Вано осмотрел телёнка очень внимательно и остался доволен. Это был бычок мышиного цвета, с белым пятном на широком лбу.
— О! Да ты как две капли воды похож на Сатурна! Сразу видна порода! Только, пожалуйста, не будь таким упрямым, как твой отец. Вот обрадуется Ко-тия! Он тебя ждал, очень ждал...
Это была правда.
Котия не пропускал ни одного собрания колхоза, чтобы не поставить вопрос о племенном скотоводстве. Ему возражали. Говорили, что племенные коровы не будут жить на перевале: будут болеть и погибнут. Но Котия не отступал:
«Не погибнут, и телята их будут жить. Быка нам нужно племенного, и наши коровы станут приносить хороших телят».
и Котия своего добился.
Вот он, первый, долгожданный...
Вано вспомнил, в каком состоянии он оставил Ко-тию. Ведь прошло больше суток. Может быть, Котин совсем плохо? Валеко ещё не мог вернуться, он придёт только вечером.
Телёнок уже привык к Вано. Он поймал своими нежными губами палец мальчика и стал, причмокивая, сосать. Вано погладил телёнка по мягкой шерсти.
— Телята голодные — ревут, наверно. И Котии нечем их накормить. А может быть, Котии лучше, он покормит их молоком? Осталось целое ведро от утреннего удоя. Только бы ему лучше было, — думал Вано вслух.
Прибежал Арсо.
Увидев телёнка, он осмотрел его, обнюхал и, вероятно, остался доволен, так как даже лизнул его несколько раз.
— Надо торопиться. Нас ждёт Котия. Идём, Зорька. Я понесу твоего сына. Мы назовём его Первенец!
Вано ловко подхватил телёнка, положил себе на плечи и зашагал вверх по тропе. Всё стадо было уже впереди. Громким лаем Арсо подгонял отстающих коров.
Отощавшая Зорька плелась следом за чабаном, тревожно поглядывая на сына.
Только к полудню добрался Вано до границы леса. Дальше, петляя по тропе, нужно было почти три километра пройти крутым подъёмом.
Арсо угнал стадо далеко вперёд. Стадо было уже у коша, которого Вано ещё не видел.
Мальчик опустил телёнка на траву и сам растянулся рядом. Он тяжело дышал. Всё-таки телёнок был тяжёлый, и Вано устал. Хотелось есть. Телёнок сделал попытку встать, и на этот раз ему удалось подняться на слабые ножки.
Широко расставив свои ходульки, телёнок потянулся к матери и начал жадно сосать. У мальчика заныло в пустом желудке. Он подполз к Зорьке с другой стороны, надоил в согнутую ладонь молока и выпил. Потом надоил ещё... Молоко освежило.
Шатаясь, Вано встал на ноги, оторвал Первенца от соска и, подняв с трудом к себе на плечи, пошёл вверх по тропе.
Солнце стояло над головой. Было очень жарко. Давно уже высохшая одежда снова намокла от пота. Вано вспомнил, как ночью он стучал зубами от холода. Ему захотелось хоть на минуту окунуться в холодный ночной воздух. Усталые ноги одеревенели и двигались, как у заводной игрушки.
«Хорошо, что со мной нет бурки... Было бы ещё жарче и ещё тяжелее».
Потом даже думать стало тяжело. Мальчик шёл, как во сне, когда хочешь идти быстро, а ноги делаются тяжёлыми-тяжёлыми.
Веки тоже отяжелели, и их трудно было держать открытыми.
Вано не видел, что ему навстречу спешил человек.
Вано показалось, что его плечи вдруг отделились от туловища и улетают вверх. Да и сам он стал лёгким-лёгким, как перо фазана. Подуй сейчас ветерок — и он полетит...
— Устал, Вано? — спросил знакомый хриплый голос.
Вано с трудом приподнял веки. Но глаза всё равно ничего не видели. Вано напрягся и заставил глаза смотреть. Он увидел телёнка.
«Это телёнок разговаривает, — подумал Вано. — Как смешно!»
— Вано! — сказал опять телёнок человеческим голосом.
Вано постарался открыть глаза шире, чтобы видеть, как это телёнок мог разговаривать. И вдруг увидал худое лицо с сизой щетиной на подбородке, за-
копчённые усы и тонкий крючковатый нос. Вано улыбнулся:
— Котия! Смотри, Котия, он похож на Сатурна. Мы назовём его Перве...
Ноги отказались поддерживать тело. Вано опустился сначала на колени, потом медленно повалился на бок, на мягкую подстилку из ромашек. Зорька подошла к нему и, шумно обнюхав, стала прилизывать намокшие от пота волосы.
Котия смеялся:
— Спи, Вано! Спи, чабан! Теперь ты настоящий чабан. Сейчас Котия понесёт тебя на кош. Ночь принесла Котии здоровье и силу. Ему уже не нужен доктор. Спи, мальчик, крепко: Арсо стережёт стадо. Как важно он растянулся на чабанской бурке! Он понимает, старый пёс, что значит бурка. А завхоз не понимает, молод он... — Котия посмотрел на Вано. — Нет, не молод, он просто чудак... Спи, Вано! Спи, чабан!
ТРЕТИЙ ПОДАРОК
Пират оглох потому, что нырял в воду за камнями. А раньше это была очень хорошая белая с чёрными пятнами охотничья собака.
Погубили её ребята. Они швыряли камни у мельничной плотины и кричали:
— Пират! Возьми!
Пират бросался в воду, нырял — и вот оглох. Оглох он, правда, не совсем. Если он стоял близко от вас, то всё слышал, а чуть отбежит — слышит только свист. Таким мне его и подарил мельник дядя Костя.
Это был второй подарок в тот день. Мне исполнилось четырнадцать лет, и утром отец подарил мне настоящее охотничье ружьё. Конечно, я не утерпел и немедленно побежал на мельницу показать подарок
дяде Косте. Он считался лучшим охотником, и я очень гордился, что он водит со мной знакомство.
— Занятно, — сказал дядя Костя, осматривая подарок. — У меня первое ружьё появилось, когда я уже из солдатчины воротился. Давно это было, ещё при царе Горохе... Ну, теперь берегись, гуси-лебеди, ближе чем на пять шагов к нам не подлетай!
— На пять... — обиделся я. — А помните, я из вашего ружья чирка подбил? Что же, там пять шагов было?
— Да то ж само ружьё убило.
— «Само»!.. А целился-то я!
— Ну не серчай, не серчай! — засмеялся дядя Костя. — Я пошутил. Ты у нас стрелок первый на всю округу!.. Постой, а как же ты будешь охотиться без собаки? Охотник без собаки — всё равно что мельница без воды.
— А я буду Пирата брать. Вы разрешите?
Дядя Костя как будто даже обрадовался:
— Правильно! Забирай собаку, забирай. Это будет тебе подарок от меня. Забирай, пока ребята его совсем не испортили. Ну, по рукам?
Дядя Костя положил на свою широченную ладонь полу пиджака, а я хлопнул по ней так, что полетела мучная пыль.
Пират, как только увидел меня с ружьём, обрадовался, запрыгал и охотно пошёл за мной на рыбный промысел, где мы жили. Мы вышли с ним на берег моря и пошли у самой воды. Дул северо-восточный ветер, который на этом побережье Каспия называется моряной. Моряна дула уже несколько дней и пригнала к нашему берегу целые поля астраханского льда.
Для Пирата лёд был диковинкой, ему никогда не приходилось видеть такие большие глыбы. Он забегал в воду и нюхал лёд, потом подбегал ко мне, отряхивался и смотрел на меня так, как будто спрашивал: «Что это такое?»
Папа уже не раз видел Пирата и поздравил меня с хорошим подарком. Мама дала старый половичок, и я устроил собаке постель в сенях.
Пират помахал хвостом и немедленно улёгся на подстилку. Скоро он так ознакомился со всей нашей квартирой, что сам научился открывать дверь.
Вечером я получил третий подарок — от Пирата.
Мы уже легли спать и потушили лампу. Вдруг дверь распахнулась, и в комнату вбежал Пират. Он направился прямо к моей постели и положил на одеяло что-то тяжёлое, живое.
— Папа, папа! — закричал я. — Скорее зажги свет. Он что-то принёс! Живое!
Пока папа искал спички, я лежал и боялся пошевельнуться. Это что-то живое ворочалось и не то шипело, не то кашляло.
Наконец папа зажёг спичку и подошёл к моей кровати. На одеяле лежал маленький чёрный зверёк.
— Павел, что это? — испуганно прошептала мама.
— Тюлень. Честное слово, тюлень!
— Откуда он взялся, папа?
— Надо полагать, с моря... Ну да, смотрите — Пират мокрый. Ясно, тюлень приплыл на льдине.
Мама зажгла лампу, и мы стали рассматривать зверька. Его мягкая бархатная шёрстка лоснилась, точно была смазана салом; маленькие совершенно круглые и такие же чёрные, как и шерсть, глазки смотрели на нас с ужасом, хотя сам тюленёнок изо всех сил старался быть пострашнее. Он приподнимался на ластах, водил головой, шевелил усиками и на всех нас фыркал. Две крошечные ноздри то и дело закрывались тонкими перепонками, и тюленёнок тыкался носом в одеяло. Наверно, он принимал его за поверхность воды и всё старался нырнуть.
Больше всех удивлён был сам Пират. Он даже отряхнуться позабыл — вода стекала с его шерсти прямо на пол. Такого зверя ему ещё не то что ловить — ни разу в жизни видеть не приходилось. И, наверно, он силился понять, что это такое: дичь это или нет?
Долго мы не спали в эту ночь. Малютка — так мама прозвала тюленёнка — скоро успокоился и перестал фыркать. Мы гладили его, словно котёнка, а мама даже прослезилась. Ей было жалко и маму-тюлениху и тюленёнка-сироту. Ей казалось, что тюленёнок умирает с голоду и что ему немедленно нужно дать молока с хлебом.
— Мать, ты бы ещё квашеной капусты ему предложила или ветчины с горчицей. Рыбой они питаются, рыбой, мать! — сказал папа.
Но мама с ним не согласилась:
— Это взрослые питаются рыбой, а маленькие — молоком. Тюлень — животное млекопитающее.
Мама налила в блюдце молока, но Малютка не стал есть. У мамы нашлась и свежая рыба, но и рыбу тюленёнок не брал.
Папа оделся и принёс два ведра морской воды. Мы вылили её в корыто и пустили туда тюленёнка. Малютка сразу повеселел и принялся плавать, проворно перебирая ластами и тычась носом в края корыта.
Но, как только мы пустили тюленёнка в воду. Пират начал волноваться. Он залаял и прыгнул в корыто «спасать» тюленёнка. Еле мы его оттащили.
я хотел отвести его в сени, на его подстилку, но он снова ворвался в комнату.
— Ладно, оставь его здесь. Иначе он нам спать не даст, — сказал папа.
Пират улёгся рядом с корытом, положил голову на лапы, и так лежал, не спуская глаз с Малютки, готовый немедленно броситься ему на помощь. А когда наш кот захотел тоже познакомиться с тюленёнком. Пират так на него рявкнул, что бедный Васька мигом взлетел на шкаф и больше оттуда не слезал.
Утром мы нашли Малютку за печкой. Он лежал на моей рубашке, вылизанный досуха и немного посеревший.
Два дня прожил у нас тюленёнок, и всё это время Пират вёл себя так, что и папа не мог объяснить его поведение.
Пёс ни на минуту не отходил от корыта и всё пытался вытащить тюленёнка из воды. Когда мама давала ему кусок хлеба, он осторожно брал его в рот и затем бросал в корыто. По утрам мы всегда находили тюленёнка на подстилке Пирата, а кота нашего он совсем выжил из дому.
Малютка ничего не ел, даже мелкую живую рыбу. Я наловил её целое ведро в ручье. Мы стали бояться, что он подохнет.
— Знаешь, Виктор, придётся нам выпустить Малютку в море. Так он долго не проживёт, — решил папа.
Хотя мне и не хотелось расставаться с тюленёнком, но пришлось согласиться. Мы привязали Пирата в комнате и понесли Малютку на берег. Пират начал скулить и рваться с привязи.
Папа в высоких сапогах — бахилах — забрёл в воду и поймал небольшую льдину — их ещё много плавало у нашего берега. Мы положили на неё Малютку, рядом набросали мелкой рыбы и оттолкнули льдину от берега. Ветерок подхватил её и погнал в открытое море.
Мы стояли втроём на мокром песке и провожали Малютку в далёкое плавание. Льдина становилась всё меньше и меньше. Тюленёнок приподнялся на ласты и водил головой, осматривая беспредельную даль серого Каспия. Он, наверно, искал свою маму-тюлениху.
И вдруг мне показалось, что рядом со льдиной зачернела голова взрослого тюленя. Может быть, мне это только показалось, потому что я очень хотел, чтобы тюлениха-мама нашла своего детёныша, а может быть, и на самом деле она его ждала все эти дни.
Когда льдина уплыла так далеко, что Малютки на ней почти уже не было видно, на берег прибежал Пират с обрывком верёвки на шее. Он сразу увидел льдину и тюленёнка на ней, и, не поймай его вовремя папа за верёвку, он бросился бы вплавь догонять своего друга.
Весь день потом Пират скулил и бегал по берегу. Заметив в воде что-то чёрное, Пират бросился в воду. Но это оказалось просто куском обгоревшего бревна.
— Сходи ты с ним на болото. Может, забудется, — посоветовала мама.
Я побежал в комнату, схватил ружьё и крикнул Пирату:
— За мной. Пират!
Но Пират за мной не пошёл. Он посмотрел на меня с какой-то большой грустью, потом посмотрел на море, шумно вздохнул и, повернувшись, побежал в сторону мельницы, низко опустив голову, мотая своими мягкими ушами. Он ни разу не обернулся.
Я не стал его звать.
Наверно, Пират подумал, что мы утопили его друга.
КОЛЬКА-ТЕОРЕТИК
Мы застряли на своём катере с подвесным мотором на лимане. Если бы не шкипер-механик Середа, мы ещё и заблудились бы в непролазных камышовых джунглях. Но мы не заблудились. Середа отлично знал лиманы и уверенно вёл катерок по самой короткой дороге, иногда направляя нос катера, как нам казалось, прямо в стену камышовых зарослей. И в стене неизменно оказывался узкий проход, такой маленький, что нам приходилось глушить мотор и проталкивать наше судёнышко шестами, а иногда и на руках перетаскивать в следующий лиман.
По расчётам Середы, часа в три пополудни мы должны были войти в ерик, по которому в лиман поступает пресная вода. Но, будучи отличным шкипером. Середа был плохим механиком. Он только накануне постиг заводку и остановку мотора, ну и, разумеется, способ управления катером при помощи мотора. Мы тоже понимали в подвесных моторах не больше его, даже меньше: мы не могли ни останавливать, ни заводить его. Мы — это я и студент-практикант рыбхоза ихтиолог Валентин — составляли команду катера и по совместительству были его пассажирами. Колька, сынишка Середы, был никто. В его обязанности входило всего-навсего глазеть по сторонам, не соваться куда не просят, не давать советов по ремонту подвесных лодочных моторов и управлению катером, не вываливаться за борт.
Мотор остановился на самой середине Золотого лимана, остановился не сразу, а солидно чихнув несколько раз, точно подхватив скоротечный насморк. И, сколько потом ни чертыхался Середа, мотор не издал ни звука. Из почти живого существа, так деловито рокотавшего над лиманными просторами, он сразу превратился в немой металлический труп.
Колька подал первый совет:
— Подача засорилась... Жиклёр надо продуть.
Мы с Валентином посмотрели на Середу, как бы
спрашивая его мнения насчёт жиклёра. Шкипер, в свою очередь, покосился на сына.
— Чего мелешь?.. Жиклёр... Нахватался всяких названий! — проворчал он. — А ты знаешь, где он, тот жиклёр, помеш.ается?
— Ну не знаю... Так что? А продувать надо, когда мотор начинает барахлить. Это точно. Кабы ты не отгонял меня от мотора, так мы не торчали бы здесь.
— «Кабы... кабы»! — передразнил шкипер сынишку. — Кабы не отгонял, так ты бы из одного мотора сделал два да ещё паровую мельницу в придачу...
Нам стало ясно, что у отца с сыном спор этот давнишний и, кажется, безнадёжный. Однако что-то надо было делать, и мы принялись всей командой искать в моторе злополучный жиклёр. Из мужского самолюбия мы не произносили даже слово «жиклёр», делали вид, что иш,ем просто причину остановки мотора, но на самом деле все мы старались найти именно жиклёр. Середа искал, не переставая ворчать на сына:
— Механик нашёлся! Читать-писать как следует не научился, а туда же — «жиклёр»! Таблицу умножения никак не может запомнить, а «жиклёр», «подача», «карбюратор» так и сыплются у него с языка! Целыми днями у мастерских вертится. Хорошо, что там начальство строгое и на порог ихнего брата не пускает, а то полмастерских растащили бы.
В ответ Колька лишь усмехался да пожимал плечами, как человек, сознающий своё превосходство и не желающий спорить. Валентин сделал очень дельное предложение: отвинчивать и откручивать всё, что можно отвинтить и открутить.
— А потом что? — спросил Середа.
— Снова всё прикрутим и привинтим. А каждое отверстие будем тщательно продувать. Если этот са-
мый жиклёр продувают, следовательно, это должно быть отверстие...
— Ясно, отверстие, — вставил Колька. — Дырка.
Теперь мы знаем, что такое жиклёр и почему его
надо продувать, а тогда...
«Дырок» в моторе оказалось великое множество. Отвинтишь болт — дырка, отвернёшь шуруп — снова отверстие. И каждое отверстие мы старательно продували, иногда сгибаясь в четыре погибели, чтобы дотянуться до него губами. После каждого такого продувания Колька обязательно делал вывод:
— Какой же это жиклёр? Жиклёр совсем не такой бывает...
Под конец он вспомнил, что жиклёр обязательно должен быть при карбюраторе. После этого нам оставалось найти карбюратор — и мы были бы спасены...
И, представьте, мы его нашли. Нашли путём сложных логических умозаключений. Нашли и отделили от костяка мотора, отделили и разобрали на все составные части, продули все отверстия, собрали и привинтили на старое место. Мотор не завёлся.
— И не заведётся! — уверенно сказал Колька. — Кабы все винтики в него завинтили, тогда, может, и завёлся бы...
Мы все застыли, предчувствуя недоброе.
— Почему ты решил, что мы не все завинтили? — робко спросил Валентин.
— Потому, что один в воду упал, — спокойно пояснил Колька.
— Когда упал? — спросили мы хором.
— Да когда я в нём дырочку продувал. Он маленький был. Выскочил у меня из губов — ив воду.
Первым из нас обрёл дар речи Валентин.
— Не из «губов», а из «губ» надо говорить, — сказал он и принялся стаскивать с себя одежду: кому же, как не ихтиологу, надо было отправляться в подводное царство на поиски винтика с дырочкой.
Сначала Валентин плавал у самого дна, как че-
ловек-амфибия, стараясь не замутить воды. Оказывается, он умел не закрывать в воде глаза, отчего Колька пришёл в восторг. Но такие поиски не привели к желаемым результатам, как ни просматривал Валентин все подводные окрестности вокруг лодки. Тогда он потребовал ведро, стал наполнять его илом и подавать нам. А мы промывали ил. Промывали так старательно, как не промывают, вероятно, породу золотоискатели. Колька охотно подавал советы:
— Ты совсем не там ищешь. Вот здесь надо искать...
Валентин принимался наполнять ведро на новом месте, но после двух-трёх десятк~Ьв вёдер Колька показывал на другое место, и всё приходилось начинать сначала. И каждый раз Середа-старший обещал младшему «оборвать уши за проказы». Колька относился к этому спокойно, отлично зная, что никакая опасность его оттопыренным ушам не грозит.
— Механизатор! — продолжал распекать старший. — Все вы такие! Семён твой тоже хорош! «Не волнуйтесь, товарищ Середа, всё будет в порядке!.. Я так отрегулировал мотор, что его малый ребёнок заведёт...» Вот и послушался я, нацепил эту бандуру на корму, как себе на шею!
К тому времени, когда, по расчётам шкипера, мы должны были уже войти в ерик, в нашем ведре что-то легонько звякнуло. Это что-то и было тем самым жиклёром, который, по мнению Середы-младшего, следовало продувать при каждой остановке мотора.
Но вскоре выяснилось, что продувать надо не только жиклёры, но и свечи. Мы водворили жиклёр на положенное место, но мотор не заводился, как и без жиклёра. Тут вот Колька и сказал, что надо «продуть свечу», а ещё лучше «прожечь» её и «проверить искру на массу»... К счастью, механик Семён успел вчера показать нашему шкиперу, где помещается свеча и как её «продувать». Надо было просто вывин-тить свечу и провернуть мотор без неё несколько раз,
Что касается проверки искры на массу, тут без Колькиного руководства не обошлось.
— Надо прислонить свечу к мотору и дёрнуть заводилку, — сказал он авторитетно.
Мы так и сделали. Валентин приложил свечу к мотору, а я дёрнул что было силы заводилку. Валентин так после этого подскочил, точно я не за рукоятку заводилки дёрнул, а его самого за волосы.
— Что, током ударило? — радостно спросил Колька. — Раз ударило, то с искрой всё в порядке. Зажигание работает.
Итак, всё работало. Зажигание работало. Подача горючего работала. Не работал только мотор. Что нам было делать? Не развинчивать же его заново! Решено было использовать последнее в нашем положении средство: продвигаться на вёслах...
До самой темноты гребли мы, толкались шестами и дружно били себя ладонями по шее и щекам, отбиваясь от комаров: с темнотой они насели на нас силами нескольких дивизий, если не армий. Этим воспользовался Колька. Он добрался наконец до мотора. А тот как будто только этого и ждал. Мы даже перепугались все, когда он зарокотал в тишине сумерек. Я бросился на корму и крикнул Кольке:
— Это ты его завёл?
— Он сам завёлся, — испуганно крикнул в ответ Колька. — Я только немножко покрутил вот эту штучку и дёрнул заводилку!
Теперь, когда у меня есть собственный подвесной мотор и я знаю его до последнего винтика, мне смешно вспоминать о всех наших злоключениях на лимане. Знаете, из-за какой чепухи не заводился мотор? Из-за того, что от тряски завинтился воздушный вентилёк на бачке с горючим! Стоило Кольке дотронуться до него, открыть доступ воздуха в бачок, и пожалуйста — мотор завёлся с пол-оборота...
Что мне хочется сказать в конце этого рассказа? А вот что:
«Товарищ Середа! Товарищи строгие начальники! Не гоните вы Кольку и его друзей от моторов, от ворот мастерских! Чем скорее в наш век техники придёт Колька от теории к практике, тем будет лучше».
ДЖЕК — ПОТРОШИТЕЛЬ ЗМЕЙ
казалось, что до головного шлю-за от того места, где пристал наш катер после путешествия по лиманам, надо было ещё идти километров пять. А ночь была до того тёмная, что мы, разговаривая, не видели друг друга, хотя стояли рядом. Но идти было надо: не дожидаться же утра под открытым небом в каких-то пяти километрах от цели!
— Идите, не спускаясь, по дамбе и непременно упрётесь в шлюз, — сказали нам.
И мы пошли.
Нас было двое. Со мной путешествовал студент-нхтиолог, проходивший практику на лиманах Ахтар-ского рыбхоза. Звали его Валентином.
— Ты, Валентин, иди вперёд, а я, по-стариковски, за тобой, — сказал я.
— Боюсь, что ничего не выйдет, — засмеялся Валентин, — не пришлось бы вам вести меня за ручку: ничегошеньки не вижу!
На наше счастье, дорожка по дамбе была прямая и хорошо утоптанная. Надо было только не сходить с неё, чтобы не свалиться или в Протоку, рукав Кубани, или просто под откос, да ещё не приложиться к стволу здоровенных верб, росших по речной стороне дамбы. Часа два мы преодолевали эти пять километров, пока не услышали шум воды на шлюзе и вскоре не нащупали подошвами настил моста через опреснительный ерик. Отсюда в лиманы поступала пресная вода из Кубани.
Мы находились у цели своего путешествия, но в темноте не было видно ни одного огонька, ни одного строения, а мы точно знали, что рядом со шлюзом должно было быть и шлюзовое подворье. Попробовали светить спичками, но, кроме толстых стволов верб справа и зарослей акации слева, ничего не обнаружили.
— Что будем делать? — спросил я у Валентина.
— Не знаю... Кричать надо, — ответил Валентин и, вероятно, приготовился крикнуть, но я остановил его, услыхав за спиной чьё-то дыхание.
— Валя! Тут кто-то есть, — сказал я не совсем бодрым голосом.
И, как бы подтверждая это, «кто-то» ударил меня легонько чем-то мягким по ногам. Я осторожно повернул голову и зажёг спичку. У меня задрожали руки, и, как мне тогда показалось, мясо на ногах само стало отделяться от костей: позади нас стояла громадная овчарка. Какие у неё были намерения, разобрать при свете спички было никак нельзя.
— По-моему, она настроена мирно, — сделал предположение Валентин и даже развил свою мысль:
Иначе ей ничто не мешало давно уже расправиться с нашими штанами...
— Это, может быть, пока мы стоим на месте. А чуть двинемся... — подумал я вслух.
— Может быть, — согласился Валентин. — У меня был один такой случай на даче под Москвой. Приехал я, понимаете, как-то на дачу, в Малаховку...
— Валя! Дорогой! — взмолился я. — Вы это потом мне расскажете, в больнице, если нас успеют туда довезти в живом виде. Думайте лучше, что нам сейчас предпринять!
— Может быть, её можно подкупить чем-нибудь? У меня есть в рюкзаке консервы, банка тресковой печени. Как вы думаете, станет она есть тресковую печень? Это очень вкусно.
— Это ты у неё самой спроси! — разозлился я. — Может быть, у тебя и консервный нож найдётся? Только, прошу тебя, не делай лишних движений, когда будешь вскрывать банку. Всего лучше, если бы мы могли предложить ей кусок колбасы или, в крайнем случае, просто хлеба.
Тут я вспомнил, что в карманчике рюкзака у меня лежит не начатая пачка печенья.
— Вы лучше вот что сделайте — протяните осторожно руку и достаньте из карманчика рюкзака печенье.
— Чудесно! — обрадовался Валентин. — Печенье почему-то все собаки обожают. Не скупитесь! Я бы на вашем месте отдал ему всю пачку.
Я чуть не выругал Валентина: как же, стал бы я скупиться в такой момент, когда от этого зависит, может быть, не только судьба наших штанов. Всё же я поступил благоразумно — я не бросил собаке всю пачку целиком, прямо в обёртке, а разорвал пачку и осторожно кинул сначала одно печенье. Судя по хрусту, наша дань была принята.
— Взял! — прошептал я.
— Отлично! — пришёл в восторг Валентин. — А теперь покормите её с рук, а потом погладьте и почешите у неё за ухом. Собаки это очень любят.
— Слушай, Валя! А почему бы вам это не проделать самому? Вы так хорошо знаете собачьи повадки, вам и карты в руки...
— Так ведь я же ничего не вижу. И потом, у меня нет печенья. У меня только тресковая печень.
Пока мы торговались, собака с неизвестными намерениями на уме слопала всё печенье и опять принялась хлестать меня хвостом по ногам. Что надо было делать, я не знал. Может быть, мы так и простояли бы до рассвета, да, видно, псу это надоело, и он... потёрся мордой о мою руку.
— Ласкается! — сообщил я Валентину радостную весть. — Об руку трётся.
— Почешите за ухом. Обязательно почешите, и вы сразу станете друзьями, — прошептал Валентин.
— Валя! - А почему вы так настойчиво сами избегаете этой дружбы?
Поблагодарив меня за угощение, пёс подал негромко голос, прошёл мимо меня, мимо Валентина и скрылся. Минуту спустя мы снова услышали его голос откуда-то снизу.
— Похоже, что он нас зовёт, — сказал Валентин.
— Может быть, — промычал я в ответ. — Вам виднее, вы всё про собак знаете. Вы — ихтиолог!
При свете спички мы обнаружили в стене акации что-то вроде арки и за ней ступеньки, уходящие вниз.
— Идите за мной! — сказал я студенту. — Постарайтесь не свалиться при этом мне на голову. Там внизу что-то белеет.
Мы спускались по ступенькам и очутились у дверей довольно большого дома. Рядом с дверью блестели стёкла окна. Я решительно постучал в окно. Стоило мне только опустить руку, как пёс снова потёрся об неё мордой. Я окончательно расхрабрился и последовал совету Валентина — почесал у пса за ухом.
В доме зажёгся свет, послышался лязг запора, и дверь отворилась. На пороге показался заспанный начальник шлюза. Мы сказали, кто мы, зачем прибыли, показали командировочные удостоверения. Через полчаса мы уже были устроены в комнате для приезжих. Джек вёл себя как радушный хозяин, не отходя от нас ни на шаг. Я рассмеялся и рассказал начальнику о наших страхах.
— Просто удивительно, что он, такой громадный и довольно свирепый на вид, даже не поворчал на нас. Видно, у него характер мягкий...
Начальник усмехнулся:
— Тут не в характере дело. Вы думаете, что он всякого так встречает? Ничего подобного. Есть у нас монтёр, живёт в станице, так он заранее предупреждает о своём приходе, чтобы мы заперли Джека. Он года три тому назад замахнулся на него палкой... Да и других из станицы, незнакомых, он ни за что не подпустит ни к дому, ни к шлюзу. Сторожа нам не надо.
— Однако нас подпустил! Откуда он знает, что мы не станичные?
— Знает... Он даже больше знает — знает, что у вас в кармане лежат командировочные удостоверения. Ему же от вашего брата, командированных, всегда что-нибудь перепадает. Так что он с умом пёс. Да вот пвживёте — увидите. А теперь на покой. Пошли, Джек!
По старой рыбацкой привычке я проснулся до восхода. Валентин спал сном младенца. Прихватив мыло и полотенце, я отправился на ерик. Едва переступив порог, услышал нетерпеливое повизгивание Джека. Он сидел на дамбе у ствола вербы, насторожённо смотрел куда-то вверх, в гуш,у листвы, бил хвостом по земле и возбуждённо повизгивал.
— Джек! Джек! — позвал я.
Пёс обернулся, трижды отрывисто пролаял и снова уставился в крону. Я подошёл к нему, хотел погла-
дить, как накануне, но на этот раз Джек был совсем не расположен к нежностям: он покосился на меня и беззвучно показал клыки. Однако он тут же забыл про меня и снова стал всматриваться в крону дерева.
— Что ты нашёл там интересного? — спросил я и сам стал рассматривать листву.
Но сколько ни напрягал зрение, ничего не увидел. Джек снова трижды пролаял.
— Всё-таки ты пёс со странностями, — продолжал я. — Наверно, птичка там какая-нибудь спряталась?
Джек так посмотрел на меня, что сразу стало ясно: он обо мне был тоже не очень высокого мнения. В это время скрипнула дверь, и на пороге появился начальник шлюза с двустволкой в руке.
— Доброе утро! — поздоровался он. — Ну, Джек, где он там прячется, разбойник?
Начальник стал внимательно всматриваться в листву, наконец он что-то заметил и вскинул ружьё. Грянул выстрел, и к нашим ногам, ломая сухие сучья и сбивая листву, свалился замертво рыжий с чёрными полосами зверь.
— Что это? — вырвалось у меня.
— Дикий камышовый кот. Житья нам от них не было, пока на шлюзе не появился Джек. Никакой живности нельзя было развести — ни курицы, ни утёнка, ни гусёнка. Знаете, сколько таких котов уже истребил Джек? Этот сороковой или сорок первый...»
Джек понюхал кота, брезгливо фыркнул и отошёл в сторону.
— Говорят, что у собак ума нет, один инстинкт, — продолжал начальник. — Тогда как же быть с нашим Джеком? Он только не говорит, а понимать всё понимает. Я подобрал ещё щенком на базаре. Хозяин его выехал, с собой взять не мог, отдал тут одним. В общем, Джек от них сбежал. А на шлюзе прижился. На свободе живёт, а ума не проживает...
Начальник взял убитого кота за хвост и пошёл к сараю. Я направился к ерику. К Джеку вернулось его
миролюбивое настроение, и он побежал по тропинке впереди меня. Он знал, куда мне надо: с большой тропинки он свернул на боковую и привёл меня к мостикам, с которых было удобно мыться.
Умылся я и только было взялся за полотенце, как услышал за спиной отчаянный крик Валентина.
Он чуть не столкнул меня с мостков в ерик. Он был бледен, губы у него дрожали.
— Там... там... там змея!.. Из-под ног... Чуть не укусила, — еле выговорил он.
Не успел Валентин сказать «змея» и показать, где он её видел, как Джек сорвался с места и бросился по тропе. Нам хорошо было видно, как заметался он по траве из стороны в сторону, потом застыл на секунду, припал на задние ноги и метнулся вперёд. Он схватил гадюку поперёк туловища и сразу же изо всех сил замотал головой, чтобы она не смогла его ужалить.
Когда мы подбежали к месту схватки, с гадюкой было уже покончено: она корчилась в последних судорогах...
Валентин еш.ё не пришёл в себя окончательно, поэтому он ничего не сказал, зато ш.едро поделился с Джеком — потрошителем змей, истребителем диких котов консервами тресковой печени — своим любимым кушаньем.
КАПРОНОВАЯ СЕТЬ
Не день, не два — целую неделю дул надоедливый северо-западный ветер. Дул порывисто, со свистом, с причитаниями. Гулял он по азовским просторам, никто ему там не мешал, а как вылетел на берег — тут тебе и хаты, и деревья, и столбы с проводами.
Ерошил ветер камышовые крыши и заборы, срывал с деревьев листву, перебирал провода, как стру-
ны, и они то сердито гудели, то начинали подвывать.
Хлюпали у причалов мелкие волны, негде им было в тесном проливе из моря в лиман разгуляться по-настоящему. Зато на взморье, за посёлком, ветер был полным хозяином: без помех через всё море гнал он водяные горы и с такой яростью обрушивал их на берег, что земля дрожала как в лихорадке...
Рыбаков заранее предупредили о шторме, они вовремя убрали все свои сети, очистили их от морской травы и всякого мусора и развесили на вешалах для просушки.
Только ветер, видно, не доверял рыбакам: он без устали перебирал сетевые полотна и выдувал каждую соринку из каждой ячеи.
И Филе и Валерке далеко ещё было до настоящих рыбаков. Чтобы только семилетку кончить, им ещё было сидеть и сидеть за партами. Настоящие рыбаки, вон, сетками рыбу ловят, а они только удочками. Рыбаки ходят в море на промысел, а им и в лиман не с чем выйти.
Особенно о сетке мечтал Филя. Он и Валерку заразил этой мечтой.
Идут они из школы — нарочно крюк делают, чтобы у рыбацкого стана потолкаться, посмотреть, как рыбаки сети чинят, как перебирают, в байды укладывают. А то и помогать вызовутся. Колхозники были не против таких помощников, даже хвалили.
— Такие настоящими рыбаками будут, — говорил про них бригадир. — Настоящий рыбак, он к сетке с мальства тянется...
Филя в таких случаях усмехался и косился на Валерку. Не должно было, по его мнению, получиться из Валерки рыбака. И росточком приятель не вышел, и плечики у него как у цыплёнка... Вот картинки он
мастер рисовать или вот книжки пересказывать, а в рыбацких делах он почти ничего не смыслит. А Филе эти сетки не в диковину с люлечного возраста — люльку его мать сеткой окутывала, чтобы не вывалился он из неё на пол. А ползунком стал — отец из сетки устроил закутку для сына, чтобы он к воде не уполз.
Всё это Филя только про себя думал, не говорил вслух, боялся Валерку обидеть.
Теперь из-за непогоды и рыбакам было нечего делать, и помощникам. Рыбаки, скучая, посматривали на море, ребята, сидя под забором, — на сетки, что болтались по ветру на вешалах. Как раз о сетках они и разговор вели.
— Думают, не справились бы с сетками? Ещё как справились бы... — ворчал Филя, неизвестно кого имея в виду. При этом он обиженно надувал щёки так, что каждая веснушка на них становилась в два раза крупнее. — Я такие места знаю... Столько рыбы там...
«Ох, и жадный же ты человек!.. — думает про Филю Валерка и смотрит на него исподлобья. — На рыбу жадный... Всё ему мало...»
Филя по-своему понял Валеркин недружелюбный взгляд. Он решил, что Валерка обиделся.
— И ты тоже знаешь эти места. Вместе ведь рыбалим... — поспешил он успокоить приятеля. — Только разве наша рыбалка настоящая? Так, баловство одно. Жди, когда она клюнет. По штуке в час... А сеточку поставил на ночь — и ложись спи. Утром перебрал — полбайды рыбы...
«Куда бы ты её девал? На базар отнёс бы?» — продолжал думать Валерка. Вслух он сказал:
— Так чего же ты сидишь тут под забором? Пойди и попроси одну у бригадира. Вон у него сколько сеток!..
Филя посмотрел на него, как на чудака.
— Придумал же!.. — засмеялся он. — Что это, его собственные сетки, что ли? Эх, ты!..
— Тогда нечего о них говорить и глаза нечего на них понапрасну пялить... Пойдём лучше куда-нибудь, — сказал сердито Валерка и встал.
Куда им хотелось идти, оба они не знали. Они и на самом деле шли «куда-нибудь», шли, пока не очутились на взморье за посёлком, пока море не встретило их дождём солёных брызг. Тут они сразу поняли, что сюда-то им и надо было. Сто раз видели, как бушует море, и всё смотреть хочется.
— Вот бы сейчас на байде в море выйти!.. — крикнул Валерка. — Красота!..
Филя посмотрел на него, усмехнулся и сказал неопределённо:
— Случалось...
— Кому случалось? Уж не тебе ли? — подхватил Валерка. — Что-то я такого не помню.
— Отцу случалось... Да и мне бы, это...
— Ну, ты бы, конечно, показал бы... — прицепился было Валерка, но тут Филя схватил его за рукав.
— Тише!.. — крикнул он. — Смотри...
Давно они вели разговоры о сетке, а когда она нежданно-негаданно попалась им, оба так растерялись, что слова друг другу сказать не могли.
Сетку подарило им море. Как в сказке, вынесли волны на берег и положили к их ногам спутанную, перекрученную, забитую травой и рыбой настоящую рыбацкую сеть.
Первым пришёл в себя Филя.
— Валерка! Оттаскивай её от воды! — закричал он, хватаясь за один конец сети. — На сухое тащи... Тащи, пока ракушкой её не присыпало...
Это была настоящая битва. Море, точно подразнив ребят, норовило забрать назад не только свой дар, но и самих рыбаков. Волны окатывали Филю и Валерку с головы до пяток, но они не отступали. Сеть была спасена.
— Капроновая! — кричал Филя в ухо Валерке. — Три конца... Семьдесят пять метров... Да ты знаешь, это, сколько такая сетка стоит? Тысячу!..
— Откуда её принесло? — спросил Валерка, когда немного отдышался и успокоился.
— С того берега, наверно... с украинского... Давай-ка её, это, распутаем...
В сетке было полно травы и рыбы. Больше всего было тарани, попадались, рыбцы, судаки, было несколько очень крупных лещей. Вся рыба пропала, укачалась.
— Жалко смотреть, сколько добра пропало зазря... Не меньше центнера, — определил Филя на глазок. — Зарыть её надо. Ты, Валерка, сбегай, это, попроси тут на краю у кого-нибудь лопату...
Пока Валерка бегал за лопатой, Филя перебрал сеть, сложил её по всем рыбацким правилам в тугую куклу, а всю пропавшую рыбу стащил в одну кучу.
— Видал сколько? — пробурчал он, беря у Валерки лопату.
— А что же здесь такого? Это тебе не удочка... ответил Валерка, пожимая плечами, хотя ему хотелось сказать совсем другое: «Мало тебе сети... Ещё бы тебе и рыбу...»
Не глядя на Валерку, Филя принялся копать в рыхлом ракушечнике яму. Копал молча до тех пор, пока не показалась вода.
— Сбрасывай!.. — приказал он сердито.
— Не командуй... — огрызнулся Валерка, но всё же начал сталкивать рыбу ногой в яму. — Жалко тебе, что рыба пропала? Наловишь теперь не меньше...
А Филя, и точно, как будто не мог расстаться с рыбой. Он поднял самого большого леща, взвесил его на ладони.
— Такого бы сковородника да на удочке подержать... Сердце бы от страха зашлось. А вдруг, это, удочка не выдержит? Или возьмёт леска и лопнет...
— Да, повозился бы с таким... — согласился Валерка, ещё не понимая, к чему Филя клонит.
— А потом подвёл бы его к байде — и хоп сачком!.. — продолжал сразу повеселевший почему-то Филя. — А когда сеткой, так и не поволнуешься как следует...
Валерка слушал его и ушам своим не верил: неужели Филя решил отказаться от сетки?
— Чего же ты мне всё время голову морочил? — крикнул он. — «Сетку бы, сетку»!.. А теперь пятиться начинаешь?
Филя посмотрел на него, как на несмышлёныша, и даже головой покачал.
— Эх ты, голова садовая!.. Да разве я о том говорил, что мне свою собственную сетку иметь охота?
— А про какую же?
— А про такую... Чтобы нам её в бригаде дали. Хоть не капроновую, простую хоть... Чтобы мы от колхоза ловили, чтоб на рыбозавод сдавгли. По-настоящему чтоб... Всё тебе пояснить надо. Бери лопату. Пойдём..,
Филя перекинул сеть через плечо и зашагал к посёлку. Валерка еле поспевал за ним.
— А я, Филька, совсем про тебя другое подумал... — сознался он. — Думал, что ты жадный. Что ты сетку домой потащишь.
Филя только хмыкнул в ответ.
— Я ведь сразу подумал: раз она государственное добро, то её сдать нужно... Принесём её вот председателю... Он нам спасибо скажет...
Вдруг Валерка осекся на полуслове: Филя, не доходя до колхозного двора, свернул в свой переулок.
— Куда же ты, Филька?! — крикнул он. — Решили же...
— Что решили? — остановился Филя. — Нести дырявую сеть? Зачинить её, это, сначала надо... Тогда будет по-настоящему, по-рыбацкому... Нет, Валерка... как хочешь, а рыбака из тебя не выйдет!..
БОРОДА БОРЕЯ
Петю звали Петей-маленьким по трём причинам: во-первых, он был действительно самым маленьким в четвёртом классе «А», во-вторых, дома его называли так в отличие от отца — Пети-большого, в-третьих, потому, что фамилия Пети была Маликов.
Сегодня Петя-маленький пришёл в класс раньше всех: он дежурил. Обычно на вешалке тётя Даша вручала ключ, и дежурный сам открывал класс. Но сегодня она сказала:
— Класс открыт. Там мастер работает. Петя огорчился: уж очень приятно было самому открывать класс. Подойдёшь, вставишь ключ в замочную скважину — щёлк, щёлк! Потянешь ручку двери на себя, дверь распахнётся — пожалуйста, входи! Чёрные парты шеренгами в торжественном мол-
чании встречают первого ученика — дежурного. И он, словно командир, обходит ряды.
Старик мастер стоял на подоконнике и сломанным ножом замазывал рамы жёлтой замазкой. Крошки замазки валялись на подоконнике и на полу. Это был непорядок, и дежурный решил вмешаться:
— Ой, дедушка, что вы наделали...
— Ничего особенного. Замазал рамы, чтобы вам в уши не дуло. Зима на дворе...
Петя посмотрел через широкое окно во двор. Никакой зимы там не было. Весь школьный двор был залит солнечным светом, молоденькие акации, только весной посаженные учениками, пожелтели, но не потеряли ещё листвы. Далеко внизу, за крышами домов, голубела бухта, и высоко в синее небо из заводских труб поднимался дым.
— Какая же это зима, дедушка? — засмеялся Петя. — Вы посмотрите — все люди ещё без пальто ходят.
Мастер поглядел на Петю и покачал бородой:
— Видать, ты тут недавно проживаешь?
— Мы летом переехали, — охотно объяснил Петя. — А раньше в Ейске жили, на
Азовском море. Мой папа — механик, его перевели на сейнер... Теперь он ставриду ловит.
Старик закончил работу, осторожно слез с подоконника и начал собирать крошки большим куском замазки.
— Значит, ты и понятия не имеешь о нашей зиме. Не знаешь, что такое бора, наш сердитый норд-ост... Сейчас вот солнышко светит, тепло, хоть босиком бегай, а через час, глядишь, бора уже свою бороду расстелила по Мархотке. Тогда только держись, брат! Так начнёт куролесить!..
Мастер наклонился к Пете и, словно по секрету, сказал:
— Вагоны с железнодорожного полотна сдувает под откос. Крыши рвёт... Пароходы срывает с якорей и выбрасывает на берег... Вот какой у нас ветерок!
— А в море? — тоже тихо спросил Петя.
— Про море и говорить нечего. Прихватит ежели рыбака... — мастер безнадёжно махнул рукой, — пропал. Сам попадал в такую беду. Коль не успеешь под берег отойти, утащит до самой Турции. Одним словом, самый вредный ветер на всём белом свете...
Старик полюбовался своей работой, собрал в сумку инструменты, замазку и ушёл. А Петя принялся наводить в классе порядок.
Новороссийск сначала не понравился Пете. В Ейске было много зелени, улицы такие прямые, что с одного конца виден другой конец города, а в море — песчаное дно. Правда, чтобы окунуться как следует, надо целый километр пройти по воде — очень мелко у берега.
А в Новороссийске море у самого берега глубокое, и вода прозрачная. Но зато всё дно усыпано большу-ш,ими камнями, покрытыми скользкими водорослями. Улицы кривые: то в гору поднимаются, то сбегают вниз. И весь город окружён выгоревшими, скучными горами.
Но скоро Петя привык к здешним улицам и к го-
рам. А когда появились друзья-приятели и научили его плавать, новый город совсем перестал казаться Пете скучным. Особенно нравилось, что зима, видно, и не собиралась приходить в Новороссийск.
Летом удалось Пете-маленькому посмотреть настоящее море. Отец взял его в один рейс, на охоту за косяками ставриды. Сейнер далеко ушёл тогда в открытое море, гористые берега Новороссийска стали еле видны.
Хороший был рейс. Но некогда предаваться воспоминаниям: в классе уже полно ребят и дежурный должен быть начеку. Во-первых, надо следить, чтобы ребята не выковыривали свежую замазку, во-вторых, чтобы все вовремя сели на свои места, в-третьих, выяснить, кто не пришёл, кто опоздал... Да вы и сами знаете, сколько у дежурного всяких дел!
Петя-маленький отлично справился бы со всеми этими обязанностями, если бы не одно обстоятельство. После разговора со стариком он никак не мог не думать о бороде борея. Ему так и казалось, что из-за серых зубцов Мархотского перевала вот-вот выглянет сама бора, похожая на мастера-стекольщика, с такой же дремучей бородой.
— Маликов! Почему ты всё время смотришь в окно? — спросила учительница Марья Семёновна.
Петя быстро встал, покраснел и проговорил:
— Простите, я больше не буду.
Бора пришла во время второго урока. Петя сначала даже и не понял, что это она. Просто над перевалом появилось длинное белое облако, густое и неподвижное. Оно как будто приклеилось к хребту. Петя только удивился, что столбы дыма из труб цементных заводов вдруг как будто надломились и поползли по воде поперёк бухты. Вода в бухте стала зелёной.
— Вот это бородища! — прошептал кто-то из ребят.
— Юшков, что за разговоры! — строго сказала Марья Семёновна.
— я только про бору сказал... — повинился Коля Юшков.
Все ребята повернули голову к окнам. Марья Семёновна тоже посмотрела на горы.
— Да, совершенно верно, начинается бора, или северо-восточный ветер. Дежурный, надо проверить, хорошо ли закрыты у нас форточки.
Петя бросился к первому окну, вскочил на подоконник и потянулся к форточке. Но она была так высоко, что нельзя было дотянуться. И вдруг порывом ветра форточку распахнуло, она ударилась о стену, и осколки стекла со звоном посыпались на пол. Марья Семёновна бросилась к Пете и стала осматривать, не поранило ли его. Но всё обошлось благополучно.
— Испугался? — спросила учительница.
— Нет...
Марья Семёновна кивнула головой Серёже Сальникову. Он сразу понял и побежал к окну. Серёжа был самым высоким в классе, и ему ничего не стоило закрыть наружную форточку.
А Петя всё стоял и смотрел в окно. Марья Семёновна положила ему руку на голову и сказала:
— Что с тобой. Маликов? Успокойся и сядь на своё место.
— У меня папа в море... — чуть слышно ответил Петя.
Класс сразу притих. Пете показалось, что рука Марьи Семёновны дрогнула. Это напугало его ещё больше. Значит, отцу действительно грозит опасность. Он поднял голову и вопросительно посмотрел на учительницу. Марья Семёновна смотрела на него ласково и совершенно спокойно.
— Не волнуйся, Петя. Я уверена, что твоему отцу не грозит никакая опасность, — сказала она.
До конца урока Петя-маленький просидел в каком-то оцепенении, не отводя глаз от окна. Он хотел заставить себя слушать учительницу — и не мог.
В бухте творилось что-то страшное. Море кипело.
Ветер срывал и разбрызгивал белые гребешки волн. Даже отсюда, издалека, видно было, как волны штурмуют гранитную набережную порта. Они уже сорвали настил с временного рыбацкого причала, с того самого, от которого только вчера ушёл в море сейнер Петиного отца.
Казалось, что ветер может выплеснуть на берег всю воду из бухты, сорвать и разметать все причалы порта. Но как ни бесновалась бора, сдуть с перевала белую тучу она не смогла. Туча лежала тяжёлыми, мокрыми слоями ваты, заполняя все седловины, цепляясь за каждый выступ, за каждый камень.
На молоденьких акациях во дворе школы не осталось ни одного листочка.
Петя не слышал звонка. Он вздрогнул, когда Марья Семёновна сказала, тронув его за плечо:
— Петя, пойдём со мной.
В кабинете директора никого не было. Учительница сняла трубку телефона:
— Соедините меня с рыбным портом... Володя? Это я, мама. Я прошу тебя, выясни, где находится сейнер «Кефаль»? Тут у меня учится сын механика Маликова. Он очень беспокоится за отца... Что?
У Пети дрогнуло сердечко. Ему показалось, что учительница сказала «что» с испугом.
— Дать ему трубку? Хорошо... Вот, Петя, поговори с моим сыном. Он работает в рыбном порту и всё тебе объяснит.
— Вы слушаете, молодой человек? — услышал Петя голос сына Марьи Семёновны.
— Слушаю...
— Что же вас волнует?
— Папа... Он в море, а на горах... борода...
— Что же тут особенного?
— А ветер? Он же угонит папу... в Турцию...
— Кто это тебе сказал?
— Дедушка, стекольщик. Он тоже был рыбаком, и его утаскивало...
Сын учительницы засмеялся так громко, что в трубке затрещало.
— Так он когда плавал, твой дедушка? При царе Горохе? Они тогда на парусных фелюжках рыбачили, на лодчонках. Твой же отец на сейнере ходит в море. А на сейнере мотор в сто пятьдесят лошадиных сил. Он против любого ветра погонит судно. Уж ты не беспокойся. Если что и случится, мы немедленно пошлём на помощь спасательный корабль. У них на сейнере радио, они сразу могут сообщить нам... Эх ты. Маликов! Забыл, в какое время живёшь. Да теперь рыбак в море в такой же безопасности, как и ты в школе. Ну, а чтобы тебя окончательно успокоить, могу сообщить, что «Кефаль» подходит сейчас к Туапсинскому порту. На борту сейнера отличный улов. Можешь поздравить отца: его бригада закончила годовой план. Ясно?
— Ясно! — крикнул Петя в трубку и сияющими глазами глянул на Марью Семёновну.
Учительница смотрела на него, чуть наклонив седеющую голову, и улыбалась точь-в-точь как мама, тепло и ласково.
jfe ХОРОШЕЕ МОРЕ
зовское море — мелкое море.
Ну что это за море, если целый километр надо идти по воде от берега, чтобы окунуться!
Чуть ли не у самого горизонта стоит в море подорванная гитлеровцами землечерпалка. Кто не знает, подумает, что она на плаву, а на самом деле она крепко сидит на илистом грунте.
Правда, около землечерпалки человеку с таким ростом, как у Ванька Четверикова, будет с ручками, и даже Сергею Комаревцеву там с головкой, но всё равно, что это за море: пять километров от берега, а глубины — сажень!
Конечно, есть в порту приличные глубины. До войны та самая землечерпалка каждый год выбирала грунт у полукилометрового причала и на подходах к нему, чтобы рыбацкие суда могли свободно швартоваться и выгружать улов. Но фашисты сожгли настил, и теперь попасть в дальний конец причала, чтобы выкупаться и половить рыбу, можно было только по обгоревшим сваям да по острым, скользким камням, залитым на полметра водой.
Азовское море — рыбацкое море.
Хотя моряки дальнего плавания и подтрунивают порой над азовцами, сочиняя побасенки вроде такой: «А мы тож, бывает, по недилям плаваем и берега не бачим, бо... камыши кругом, и мы тильки и слышимо, як по хуторам собаки гавкают...», сами азовцы относятся к своему мелкому рыбацкому морю с большим уважением.
А ребята из школы юнгов просто влюблены в своё море. Доказательством такой любви может служить и то, что Ванёк Четвериков вернулся из отпуска на десять дней раньше срока.
Он так и заявил встретившему его завхозу школы Степану Петровичу:
— По морю соскучился...
На это завхоз сказал:
— Очень приятно! А где ты думаешь довольствоваться эти десять дней? Сам знаешь камбуз — на «Волге», «Волга» — в плавании.
Ванёк только вздохнул в ответ. И не потому, что боялся остаться десять дней без довольствия; на это он ответил коротко: «Рыбу буду ловить». Вздохнул при напоминании о «Волге», красавице мотошхуне, белой, как пена прибоя, лёгкой, как чайка, проворной, как дельфин... Плавает она сейчаспоЧёрному и Азовскому морям без него, без Ванька Четверикова. Но что ж поделаешь, если он ещё только перешёл на второй курс...
А по морю действительно Ванёк соскучился. Он и
Fie предполагал, что за год так полюбит его. Правда, была тут ещё причина, почему он рано приехал из отпуска: хотелось ему хоть несколько дней посидеть с удочкой. Во время занятий и некогда было и боялся, что ребята поднимут на смех. Считалось, человеку, решившему стать капитаном или механиком рыбацкого судна, непристойно сидеть с удочкой и ловить бычков. А вот во время отпуска да ещё в жаркую пору, когда запрещён промысловый лов, совсем не стыдно посидеть с удочкой — никто ничего не скажет.
В следующие два дня выяснилось, что не один Ванёк заскучал по солёной воде — из отпуска прибыли ещё двое: Вася и Костик. Первый, как и Ванёк, — будущий капитан, второй — механик. А за ними прикатил и Сергей Комаревцев. Его приезду Ванёк не очень обрадовался: не ладили они с Сергеем. Уж больно Сергей кичился и тем, что вырос на берегу моря (он был из Туапсе), и тем, что плавал кролем, и даже тем, что был правофланговым. А Ванёк замыкал строй на левом фланге, и Сергей всегда подтрунивал над ним.
Вначале все ребята тоже посмеивались над своим левофланговым, но скоро перестали, да и сам Сергей немного прикусил язык, после того как начальник школы сказал:
«Напрасно вы, Комаревцев, задеваете товарища. Это только в строю вы на правом фланге, а в учёбе совсем наоборот: правофланговый Четвериков...»
Костик и Вася немедленно присоединились к Ваньку. Они смастерили себе удочки, накопали червей. Ванька, не сговариваясь, признали за старшего. Он выбирал место для ловли, у него хранились запасные крючки и лески.
Сергей заявил, что рыбу ловить он не пойдёт, что это ему не положено по штату, как будущему капитану. С утра он ушёл в станицу, а рыбаки отправились в порт.
Завхоз, хотя и сказал ребятам, что не сможет взять их на довольствие, всё же приказал прислать кого-нибудь в школу к обеду. Он молча вручил Васе корзинку. В корзине стоял кувшин ряженки, лежали лепёшки, пирожки с яблоками, четыре конфеты «Коровки» и десятка два яблок и груш.
— Это тоже возьмёшь, — сказал Степан Петрович, указывая на большущий арбуз и две дыни, лежавшие на подоконнике. — Бери, бери! Это с нашего подсобного хозяйства. Вы сами их сажали и пололи.
— Да мы не съедим всего...
— После купания вы и быка съедите. Купаетесь?
— Только один раз, — принялся уверять Вася.
— «Один раз»! Знаю я этот «раз»! Утром залезаете в воду, а вечером вылезаете... Всё знаю, сам на море вырос. Ну ладно. Только далеко не плавать!
У Сергея оставалось немного денег. Их хватило на две порции мороженого и два стакана семечек, но, поскольку мороженое и семечки лишь в самой малой степени заменяют обед, пришлось бы Сергею довольствоваться одним морским воздухом, если бы ои не увидел Васю с корзиной.
— Стоп, матрос! Откуда у тебя такая симпатичная корзиночка?
— Из школы. Степан Петрович дал.
— Захватывающее зрелище! Надеюсь, тут моя доля есть?
— Не знаю.
— А кто знает?
— Ванёк.
— Ванёк? Интересно... Атаманом его выбрали?
— А тебе хотелось, чтобы тебя выбрали? — спросил вместо ответа Вася и начал труднейшее путешествие по подводным камням в конец причала.
Сергей посмотрел ему вслед, затем глянул на свои
привезённые из дому брюки клёш и, сокрушенно вздохнув, принялся раздеваться. Ему, так же как и всем ребятам, хорошо был знаком путь по камням и сваям. При своём росте да ешё с пустыми руками он не только догнал Васю, но обогнал.
Вася шёл медленно, боясь уронить корзинку. Сергей даже и не подумал ему помочь, он только сказал:
— Надо было взять байду и доставить продовольствие на байде. А то при твоей ловкости мы можем и без еды остаться.
Но всё обошлось благополучно.
— Привет рыбакам! — ещё издали крикнул Сергей. — Ну, как улов?
Ванёк молча показал на одну из свай: к свае был привязан кукан с рыбой. Видно было, как кукан шевелится в воде. Сергей потянул за шпагат и совершенно искренне удивился:
— Солидно!
— Степан Петрович велел, чтобы мы рыбу принесли Анне Ильиничне. Она поджарит, — сказал Вася. — Тут она нам смотрите сколько положила — еле донёс! А ещё Степан Петрович наказывал, чтобы далеко не плавали.
— Вот, слышали, мальчики, что сказал дядя завхоз? — подхватил Сергей, подсаживаясь к корзине, — Дядю надо слушать. Он на вас не надеется и волнуется. По моим скромным наблюдениям, наш товарищ завхоз не очень-то обожает морскую стихию...
— Вот что, Сергей: ты если не знаешь ничего, то лучше помолчи! — перебил Ванёк.
— Ты видал, сколько у него орденов и медалей? Видал? — набросился на Сергея и Вася.
— Ну и что же! Разве я говорю, что он трус? Я только говорю, что он воды боится. Он мог и на берегу воевать...
— Так вот, — внушительно начал Ванёк, — Степан Петрович — самый настоящий моряк и не на бе-
регу воевал, а на море: сначала на Чёрном, а потом здесь, на Азовском. И был он командиром мотобота. А ты знаешь, что на мотоботах делали? Десант перебрасывали в Крым!
— Так почему же он стал завхозом?
— Да потому, что нельзя ему теперь моряком быть. Нервы у него больные, и доктора ему запретили плавать. Он два года в госпитале пролежал.
— Постой, Ванёк, откуда ты всё это знаешь?
— Станичник наш рассказывал. Тоже морячок. Степан Петрович был старшиной, командиром мотобота. И где было самое трудное дело, сам туда напрашивался. Во время одного дела фашисты подбили его мотобот. Старшина всю ночь проплавал в ледяной воде да ещё при шторме. Утром его подобрал другой мотобот. Только он немного в кубрике обогрелся — самолёт немецкий налетел. Ну, а мотоботу что, много надо? И опять Степан Петрович очутился в воде... Только на другое утро его подобрали у нашего берега, уже без сознания. Вот с тех пор и не может ом спокойно смотреть на воду, когда волна.
Поплавок на удочке Ванька резко дёрнулся и наискось ушёл под воду. Ванёк проворно схватил уди-лиш,е и подсек. Рыбина попалась крупная, она металась под водой в разные стороны, так что леска, натянувшись струной, со свистом резала воду. Все с волнением следили за Ваньком, Костик даже вскрикнул, думая, что сазан сорвётся. Но Ванёк не дал сазану уйти, и через минуту Костик подхватил его сачком.
— Хорош, кило на четыре потянет! — определил Сергей.
Но как только сазан был посажен на кукан. Сер-гей перестал им интересоваться. Его волновала судьба завхоза.
В душе он стыдился того, что, не зная истории Степана Петровича, нехорошо говорил о нём. Но сознаться в этом сейчас, перед ребятами, он не хотел.
— А что я говорил! Настоящий моряк должен уметь отлично плавать. Не буду хвастать, но я при такой обстановке тоже, пожалуй, выплыл бы, а вот Ванёк вряд ли...
Сергей ожидал, что Ванёк насупится и скажет: «Ладно. Там было бы видно...» Но Ванёк только посмотрел на него и как-то странно улыбнулся. Никто из ребят, даже Вася, не знал секрета Ванька. А секрет был в том, что за лето он научился хорошо плавать, и сейчас ему очень хотелось показать ребятам своё искусство, удивить их. Сергей продолжал:
— Вон землечерпалка. Мне до неё пустяки доплыть, а Ваньку вряд ли!
— Что ты заладил: «вряд ли» да «вряд ли»! А вот
и доплыву! — крикнул Ванёк.
— Ты? — встрепенулся Сергей.
Да, я. По потом должен буду тебя буксировать? Спасибо! Удовольствие не очень большое!
Ванёк загадочно улыбнулся.
— Там видно будет, кому кого придётся буксировать. Ну, поплывёшь?
Сергей, всё ещё думая, что Ванёк шутит, сказал:
— Ладно, поплывём. Только сначала вот что: видишь, вон стоит байда на якоре? Ты доплыви до неё, а я посмотрю...
Ванёк сбросил тельняшку и, не говоря ни слова, полез на сваю. Сергей да и Костик с Васей ожидали, что Ванёк рассмеётся и скажет, что разыграл Сергея, но Ванёк, оттолкнувшись от сваи, прыгнул вниз головой. Вася даже дышать перестал от удивления. У Сергея поднялись брови.
Ванёк вынырнул и поплыл к байде. Он знал, с каким вниманием следят за ним ребята, и ему хотелось немного подурачить их. Поэтому он старался плыть как можно хуже, бил по воде руками и ногами, так что вода кипела вокруг него.
— Хорошо, что в море лягушек не водится, — засмеялся Сергей, — лопнули бы от зависти!
— А всё-таки доплыл, — сказал Вася.
Байда стояла на мелком месте. Ванёк влез па неё и уселся на корме.
— Ну, Серёжа, поплыли, что ли? А то не успеем до вечера назад вернуться! — крикнул он.
— Соревнование отменяется! — крикнул в ответ Сергей. — Считаю себя не подготовленным к состязанию с таким стилистом, как ваша милость! Да и соот-ветствуюш,ая подготовка не проведена — надо вызвать водолазный катер. Я, пожалуй, не смогу один разыскать вас в морских пучинах...
— Как хочешь, я и один поплыву, — спокойно сказал Ванёк.
Всё ещё думая, что Ванёк шутит, Сергей схватил его тельняшку, поднял её, как флажок, и скомандовал:
— Внимание! Начинается заплыв на дистанцию в
четыре километра на побитие всеазовского рекорда! На старт!
Ванёк махнул ребятам на прощание рукой и, поднимая тучи брызг, побежал в сторону землечерпалки.
Сергей хохотал; невольно засмеялись и Костя с Васей.
— Вот это стиль! Я такого ещё в жизни не видел! Как он называется? — кричал Сергей.
Но Ванёк уже не слышал его.
Чтобы лучше было видно, ребята перебрались в самый конец причала и вскарабкались на груду камней. До войны эти камни служили фундаментом для маяка.
— А вдруг он и на самом деле поплывёт? — не совсем уверенно сказал Костик.
— Куда? На землечерпалку? — отозвался Сергей, и по его тону было понятно, что он решительно отвергает такую возможность.
Сергей не договорил. Ванёк дошёл наконец до глубины. Даже с такого большого расстояния ребята заметили, что поплыл он совсем иначе. Он не махал руками как попало, а плыл спокойными сажёнками.
— Смотрите, смотрите! — закричал Костик.
— Когда это научился он сажёнками? — как бы слегка удивляясь, сказал Сергей. — Неважный это стиль, им далеко не уплывёшь. Это не кроль. И напрасно он так далеко заплывает — без тренировки такие вещи делать не рекомендуется...
— А ты догони его и скажи, — предложил Вася.
Сергей как будто только и ждал такого предложения. Ему всегда было не по душе, когда героем был не он, а кто-то другой.
Он быстро разделся и прямо с камней бросился в море.
Ванёк был уже далеко. Он устал, но усталость была приятной. Ему хотелось петь от чувства победы,
от ощущения широты морского простора. Конечно, он и не думал плыть на землечерпалку. Шутка ли сказать — до неё километра четыре будет! Но всё равно победа за ним...
Прежде чем повернуть к берегу, Ванёк решил немного отдохнуть и повернулся на спину. Он лежал на воде, раскинув широко руки, и смотрел в синеву неба. Над ним носились серебряные азовские чайки, то взмывая вверх, то стремительно падая на воду.
Немного отдохнув, он приподнял голову и посмотрел на причал. Там на маяке стояли двое в тельняшках. «Костик и Вася, — решил Ванёк. — А Сергей, как всегда, и не смотрит. Ну ладно, пускай!» Но вдруг ему послышался голос Сергея. Ванёк осмотрелся. Сергей плыл в его сторону и что-то кричал.
— Ага, не выдержал! — крикнул Ванёк, повернулся и поплыл к землечерпалке. Пусть догоняет!
Если бы он смог разобрать, что кричал Сергей, то он, наверно, посмотрел бы на горизонт и немедленно повернул к берегу: из-за далёкой косы от норд-оста на небо поднималась чёрно-синяя туча. Даже не моряки в Приморской знают, что несёт такая туча: надвигался шторм.
Сергей изо всех сил работал руками и ногам1{. С такой быстротой он не плавал даже на соревнованиях. Расстояние между ребятами сокращалось, но очень медленно.
— Ванёк! Ва-ня! Стой! Ветер идёт! Стой! — кричал Сергей.
Оттого, что ему приходилось плыть и кричать, у него, как говорят пловцы, пропало дыхание. Пока он отдыхал, Ванёк уплыл ещё дальше, и теперь Сергей не знал, что ему делать: возвращаться к берегу или догонять Ванька.
«Неужели он не видит? — злился Сергей. — Тоже
мне капитан! Мальчишка! Догоняй его, уговаривай! Да что я ему, нянька?»
Лёгкое дуновение ветерка как будто обожгло Сергею лицо и руки. Туча поднялась и закрыла весь горизонт. Она подбиралась к солнцу.
Ванёк в азарте не заметил первого порыва ветра. Он остановился тогда, когда вокруг неожиданно потемнело. Он огляделся и даже не понял сразу, что произошло.
Азовское море — серьёзное море...
И откуда только у этого мелкого моря силы берутся!
Азовский шторм сорвался, как цепной пёс с привязи. Заклокотало море, пошли хлестать волны, да не такими валами, как на Чёрном море, где можно с одной волны на другую, как с горки на горку, перекатываться: поднялась «азовская толчея». Волны налетели сразу со всех сторон: одна швыряет вправо, другая влево; сорвёшься с гребня одной, другая сверху накроет. Тут уже не помогут ни кроль, ни брасс, ни сажёнки, тут только бы на воде удержаться.
Пока Сергей плыл по глубоким местам, он не терял присутствия духа, а как попал на мелкое место, решил, что погиб: на мелком месте и плыть нельзя, и пешком не пойдёшь. Только встанешь на ноги — ударит волна в спину и собьёт с ног.
До причала было рукой подать, но когда Сергей взглянул, то сразу понял, что на причал ему сейчас не попасть, надо держаться от него подальше. Подплыви Сергей близко к причалу, волны швырнут его на сваи. Надо было огибать причал...
На фундаменте маяка, прижавшись друг к другу, стояли Костик и Вася. Волны бились о камни и обдавали их каскадами мутных брызг. Сергей увидел, что и они уже не могут выбраться на берег, и тут же понял, почему ребята не ушли: это из-за них с Ваньком они остались здесь, на каменном острове.
На Сергея нахлынуло чувство тоски: «Как же я
бросил Ванька? Ванёк в море, а я... Сам его подбил, я потом бросил!» Он попытался встать на ноги и, пока его снова не сбило волной, осмотрел море. Но он ничего не увидел среди пляшущих волн. Даже землечерпалка куда-то пропала...
Если бы потом Сергея спросили, что он думал в этот момент, он, пожалуй, и не смог бы ответить. Он просто повернул и снова поплыл в море на помощь Ваньку, с отчаянной решимостью работая руками и ногами. Потом он подумал, что делает глупость, что всё равно не сможет помочь товарищу, если даже и найдёт его. Надо выбраться на берег и послать за Ваньком катер.
Волны били его по голове и спине, трудно было дышать, всё тело одеревенело. Он уже не видел, как его пронесло мимо причала, потом мимо порта и всей станицы. Сознание на какую-то долю секунды вернулось к нему только тогда, когда прибрежный вал швырнул его на песок косы. Он несколько раз поднимался, но волны снова сбивали его с ног. Он едва нашёл в себе силы отползти подальше от воды.
Море гудело, и гул этот мешал ему вспомнить что-то очень важное. И вдруг словно искра вспыхнула в сознании: «Ванёк!»
Он уже не застал Степана Петровича в школе.
— Побежал! В порт побежал, — сказала сторожиха. — Что-то там приключилось... А ты что это? В одних трусиках, грязный.
— Потом, тётя Даша, потом всё расскажу... Давно он ушёл?
— Да вот только что.
В порт Сергей прибежал в тот самый момент, когда катер собирался отвалить от берега.
У катера стояли Костик и Вася.
— Степан Петрович, Степан Петрович! — закричал Костик, — Комаревцев пришёл! Вот он1.
Сергей вскочил на катер:
— Степан Петрович! Мне надо... Разрешите мне с вами!
Завхоз бросил ему свой плащ и стал к штурвалу. Ребята отдали концы. Степан Петрович скомандовал:
— Вперёд!
Катер тряхнуло от удара первой волны. Сергей ухватился за поручни и пошёл на нос. Он не мог заставить себя взглянуть на Степана Петровича и вздрогнул, когда тот крикнул ему:
— Комаревцев, наденьте плаш,!
Почему-то эти слова успокоили Сергея, и он стал пристально вглядываться в бушующее море.
Катер прошёл вдоль всего причала. Сергей только теперь начал понимать, что это Костик и Вася сообщили завхозу о Ваньке и о нём. Он ожидал, что Степан Петрович обогнёт маяк и поведёт катер в сторону землечерпалки, но Степан Петрович взял левее, прямо в открытое море.
«Куда же вы?» — хотел крикнуть Сергей и повернулся к рубке.
— Вперёд смотреть! — крикнул ему Степан Петрович.
Сергей ещё крепче уцепился за поручни и впился глазами в чёрные волны. Ветер дул справа от землечерпалки и поминутно обдавал Сергея дождём брызг. «Конечно, правильно! — догадался Сергей. — Правильно, что он забирает мористей. Ведь его должно было сюда отнести ветром...»
Но вот Степан Петрович круто положил руль вправо, и катер сделал резкий разворот. Сергей увидел впереди землечерпалку. На неё и повёл катер Степан Петрович. Но не прямо, а галсамиВолны бились о катер то с одной стороны, то с другой.
С наветренной стороны землечерпалки творилось что-то страшное. Зато с подветренной, а особенно у
Галс — курс судна относительно ветра. В данном случае катер шёл зигзагами, чтобы можно было осмотреть большее пространство,
9 Воцмаа знает всё 257
самого борта было совсем тихо. Катер подошёл вплотную к борту, и Сергей, не дожидаясь команды, вскочил сначала на поручни, а с поручней прыгнул на мокрую палубу землечерпалки...
Ванёк лежал ничком на корме. Видно, он взобрался на палубу по ковшам, а отползти под прикрытие надстроек у него уже не хватило сил.
— Ванёк! Ванёк!.. — прошептал Сергей.
Ванёк лежал без движения, и Сергей боялся к нему притронуться. Он вздрогнул, когда услышал шаги Степана Петровича.
Азовское море — хорошее море!
Вчера шторм бушевал, над волнами висела чёрная туча, а сегодня и в небе синева, и в море лазурь. О вчерашнем шторме напоминают только выброшенные на берег обглоданные кусты бузины, щепки и бол-беры — поплавки от рыбацких сетей.
Как и до шторма, стоит в море, у самого горизонта, землечерпалка. Её хорошо видно из окна школы юнгов; виден весь порт, причалы, разбитый фундамент маяка.
Сергей и Ванёк сидят на подоконнике в одних трусиках, упираясь друг в друга подошвами босых ног. Костик и Вася стоят рядом.
— Интересно, кукан с рыбой уцелел? — вдруг спросил Вася.
— Кукан что, а вот Серёжкин клёш уплыл! — весело сказал Костик, и все засмеялись.
— А шут с ним, с клёшем! У меня ещё брюки есть, казённые. А вот что Ванёк будет делать? У него казённые уплыли!
— Не горюй, Ванёк! Степан Петрович что-нибудь придумает, — сказал Вася.
При упоминании о Степане Петровиче и Сергей и Ванёк перестали смеяться и посмотрели друг на друга, а потом отвернулись к окну.
Все замолчали, и в наступившей тишине особенно громко прозвучали шаги в коридоре. Ребята узнали шаги Степана Петровича. Сергей и Ванёк соскочили с подоконника.
Дверь отворилась, и Степан Петрович такой же
неторопливой походкой, какой он ходил всегда, вошёл в кубрик. На согнутой левой руке он нёс брюки и тельняшки, а в правой — две пары ботинок. Он стал посредине кубрика и строго посмотрел на ребят. Те невольно вытянулись, как в строю.
Ребята и моряк простояли молча целую минуту, вглядываясь друг в друга. Сергей и Ванёк искали на лице Степана Петровича следы усталости или расстройства, но ничего не могли заметить: лицо моряка было таким же спокойным, каким они привыкли видеть его всегда. Только смотрел Степан Петрович на ребят строго и даже, как им показалось, с укором.
— Ну, капитаны, получайте! — сказал наконец Степан Петрович и протянул ребятам обмундирование.
Опустив головы, Ванёк и Сергей направились к нему. Они не видели, как Степан Петрович подмигнул Васе и Костику, не видели, что в этот момент у завхоза не было на лице никакой строгости, и поэтому для них было большой неожиданностью, когда он обнял их обоих за плечи и прижал к себе:
— Эх вы, капитаны дальнего плавания! Пришлось мне вчера страху из-за вас натерпеться...
И Ваньку и Сергею захотелось повиснуть на шее у Степана Петровича и попросить прощения, но в это время Костик бросился к окну и закричал не своим голосом:
— Ребята, «Волга» на горизонте!
Все бросились к окнам.
Из-за далёкой косы, откуда вчера пришла
штормовая туча, разрезая спокойную гладь воды, полным ходом шла белая мотошхуна.
Ванёк и Сергей торопливо начали одеваться. Им хотелось поскорее встретить мореходов, подняться на палубу своего учебного корабля.
— Ничего, ребята, скоро и мы пойдём в море! — крикнул Вася.
— А меня возьмёте? — спросил Степан Петрович.
Все обернулись к нему.
У Сергея чуть не сорвалось с языка: «А вам же нельзя!» Но Степан Петрович опередил его.
— Теперь уже можно. Вчера я выдержал экзамен, — сказал он спокойно.
И ребята громко закричали:
— Ура!
ЗА ЧАС ДО УРОКОВ
Может быть, сто, может, двести, а может быть, и тысячу лет назад оторвался от скалистого берега огромный кусок песчаника и упал в море, почти у самого входа в бухту. Много таких обломков лежит в воде рядом с ним, и отличается он от других только тем, что с него удобнее ловить рыбу. Чтобы перебираться на этот камень, рыболовы соорудили переход из крупной гальки.
У Бориса и Мишки камень этот считался любимым местом рыбалки. Они приходили сюда ещё до рассвета, чтобы занять его. Первым делом ребята восстанавливали переход. Его размывало волнами. Тут больше приходилось работать Мишке: у Бориса подносить камни силёнок не хватало.
— Эх ты, слабосильная команда! — говорил Мишка. — Не бери больших камней. Сам перетащу. И лучше совсем не трогай, а то ещё снова заболеешь.
Летом они просиживали на камне по целым дням,
удили ласкирей и ставридку. Но всё это было не то: ребята ждали кефальной путины. И наконец дождались. Правда, теперь нельзя было сидеть на камне целый день: в школе начались занятия, но если подойдёт хорошая «кулы-га» кефали, то за одно утро можно наловить столько рыбы, сколько летом не поймаешь за целую неделю.
Снасти у ребят были как у самых заправских рыболовов: длинные удилиида с тонкими концами, прочные лески, настоящие кефальные крючки; они накопали в Инкермане полную консервную банку морских червей, на которых только и ловится кефаль, а рыбы всё не было. За три утра они и кошкам на обед не наловили.
— Почему она не берёт? — удивлялся Мишка. — Все рыбаки говорят, что кефали в бухте полно...
— Норд-ост дует, вот она и не берёт, — пояснил Борис.
— Знаю. Третий день дует и дует. А подул бы «фонарский» или «одесский»... При морском ветре только успевай забрасывать, — сердито ворчал Мишка.
Он не мог сидеть спокойно, как Борис, и то и дело перебрасывал свою удочку. Норд-ост гнал с северной стороны небольшие волны; они подбрасывали поплавки, и Мишка беспрерывно подсекал: ему казалось, что у него клюёт.
— Если завтра опять будет норд-ост дуть, я не приду ловить. И дома уже смеются, и в школе проходу не дают. Шостов наш говорит: «Тоже рыболовы! Не могут поймать и выдумывают: то ветер им мешает, то луна не такая, то вода мутная...»
— Ну и пускай говорит! А как поймаем, сам прибежит с удочкой. Знаю я его...
Солнце поднялось над скалой. Сразу стало теплее, н ветер поутих. В открытом море, за равелином, ещё бегали бесчисленной отарой белые барашки, а в бухте, особенно на северной стороне, вода успокоилась, посветлела, отражая голубизну неба. Прошёл ещё час, но клёва всё не было.
— Давай сматывать удочки, — предложил Мишка. — Всё равно не будет рыбы.
Борис достал из кармана отцовские часы.
— Можем ловить ещё целый час, — сказал он.
— Если бы ловилась, так и десять бы просидел. А так сидеть мне надоело. Хочешь — оставайся, а я пойду, — решительно заявил Мишка и стал наматывать леску на удилище.
В это время поплавок на удочке Бориса несколько раз вздрогнул, потом как будто приподнялся над водой и лёг набок. Так брала только кефаль. Борис ловко подсек, кончик удилища согнулся в дугу.
— Ну, чего же ты остановился? — усмехаясь, спросил Борис.
Мишка стоял в нерешительности, но стоило Борису тут же поймать ещё одну кефаль, как он торопливо стал разматывать удочку и наживлять крючки.
Наконец-то рыболовы дождались путины! Рыбы подошло много, и брала она жадно.
Мишка даже запел от радости:
— «Будет рыбка пареная, будет рыбка жареная, солёная, сушёная и в дыму копчённая...» Посмотрим, что теперь Шостов скажет!
Ребята уже не огорчались, если рыба срывалась.
— Плыви, плыви! — кричал ей вслед Борис.
— Ныряй, ныряй, других присылай! — пел Мишка.
Казалось, они забыли про всё на свете и даже про школу.
Но про школу забыл только Мишка, а Борис вдруг отложил в сторону удочку, вытер руки и достал часы.
— Ещё десять минут — и будем шабашить, — сказал он, вздохнув.
— Почему шабашить? — сразу не понял Мишка.
— Как это — почему? Потому что сейчас без десяти час.
Мишка сразу перестал петь, всю весёлость с него как ветром сдуло. Десять минут просидели они молча. А рыбы с каждой минутой подходило всё больше и больше. Она не давала наживке опускаться на дно, хватала, как говорят рыболовы, «на лету». Уже не по одной кефали засекалось — по две, а то и на все три крючка.
Десять минут прошли быстро.
— У тебя, наверно, часы спешат, — буркнул Мишка.
— Что? Спешат? А ты забыл, что мой папа часовой мастер! Да если ты хочешь знать, это лучшие часы во всём Севастополе. Ясно? Пошли! — решительно скомандовал Борис и встал.
— Давай половим епдё минут десять, — начал просить Мишка.
— Ещё десять, потом ещё десять... Знаю я тебя.
— Давай десять — и пойдём.
— Ладно, — согласился Борис: ему тоже не очень-то хотелось уходить.
Вода буквально кипела от рыбы. Кефаль совершенно не боялась ребят, ходила у камня по дну и поверху, бросалась не только к наживке, а даже к поплавку. Мишка чуть не плакал от досады.
— Это в году один раз бывает. Знаешь, сколько можно поймать? Сто пудов.
— Сто не сто, а пуда три можно поймать, если посидеть до вечера.
— Три? Десять можно поймать! — не унимался Мишка. — Ты смотри, что хватает! Голый крючок хватает! А какая рыба, вся черноспинка, морская. Один жир. Такую и коптить и вялить можно... Давай останемся, — вдруг вырвалось у него.
Борис только что поймал сразу три рыбины и собирался забросить удочку снова. Услышав, что предлагал Мишка, он молча стал накручивать леску на удилище.
— Подумаешь, что тут такого — пропустить один день. Что тебя, из школы выгонят, что ли? Скажем, что заболели... — торопливо уговаривал Мишка.
— Ты соображаешь, что говоришь? А раньше я когда-нибудь врал? — тихо спросил Борис.
— Так это когда! А сейчас? Ты посмотри, что делается.
— Что бы ни делалось, я в школу пойду. Ясно? И если ты сейчас же не смотаешь удочки и тоже не пойдёшь...
— ...так ты побежишь в школу и скажешь про меня?
Борис выхватил из воды садок. Рыба затрепетала в сетке живым серебром.
— Никуда я не пойду, ты это отлично знаешь, — сказал он.
— Можешь и в учительскую сходить. Не страшно! — крикнул Мишка. — А ещё другом называется..,
Борис остановился:
— Эх ты, слабосильная команда!.. Не можешь сам с собой сладить...
Больше Борис не сказал ни слова. Он даже губы сжал поплотнее. Перепрыгивая с камня на камень, он пошёл вдоль берега, не оглядываясь на Мишку,
Мишка нарочно громко запел:
— «Будет рыбка жареная, будет рыбка пареная...»
Но весёлой песни у него не получилось. И две крупные кефали, чуть не сломавшие удочку, не доставили ему удовольствия.
«Ох и трус же этот Борька! Побоялся, что дома нагоняй будет», — подумал Мишка и тут же сам не поверил, что это так. Он хорошо знал Бориса.
Бросив рыбу в садок. Мишка скосил глаза и посмотрел, далеко ли ушёл Борис. Тот уже прошёл половину дороги. Мишка не торопясь наживил крючки, забросил и сразу же засек три кефали. Швырнул их в садок и опять посмотрел в сторону Бориса. Борис был у самого поворота. Он шёл, не оборачиваясь, не замедляя и не ускоряя шага. Ещё немного, и он скрылся бы за скалой.
Мишка вскочил и крикнул:
— Борька! Подожди...
Борис обернулся, и до Мишки долетело:
— Ладно. Только скорее...
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ БАРАБАНЩИК
Как говорили лагерные острословы, Юра возвышался над уровнем моря всего на сто тринадцать сантиметров. Про его вес они так острили: «В походе легче будет нести самого Юрочку, чем его рюкзак». Поэтому и звали все его не Юрой, а Юрочкой.
Но это не огорчало Юрочку. Гораздо больше огорчило его то, что пришлось ему стать двадцать первым барабанщиком. Он приехал в лагерь на три дня позже других ребят и при знакомстве со старшим вожатым заявил:
— Я хочу барабанить. Я уже умею.
— Вот беда-то! — сказал вожатый. — Прямо какой-то наплыв барабапшиков получается. У нас уже есть двадцать специалистов в этой области...
— Значит, я буду двадцать первым, — не сдался Юрочка, хотя и вздохнул по этому поводу. — Мы будем барабанить по очереди.
Однако при первой же Юрочкиной очереди выяснилось. что барабанщик он малоквалифицированный. Для лагерных дел требовалась совершенно иная дробь: боевая, задорная, бодрящая и ещё какая-то, как объяснил Юрочке Алёша, председатель совета лагеря.
— Ты не обижайся, Юрочка, но не получается у тебя, — говорил он. — Тут надо так играть, чтобы ноги сами шли, а когда ты барабанишь, даже я с ноги сбиваюсь. То у тебя слишком быстро получается, то медленно... Лучше ты у нас что-нибудь другое будешь делать. Хочешь, мы тебя в цветочную комиссию запишем?
Юрочка не на шутку обиделся:
— Это девчоночная комиссия! Не пойду! Я лучше на барабане потренируюсь или на трубе...
У Алёши от удивления приподнялись плечи:
— Что ты, Юрочка! Ты думаешь, это так просто? Чтобы стать горнистом, надо сначала амбушюр выработать.
— Какой абажур? — не поверил Юрочка.
— Не абажур, а амбушюр... Нужно научиться вот так, по-особому, губы складывать, и надо, чтобы кожа на губах затвердела. А это не сразу делается.
— Всё равно в цветочную не запишусь! — отре-
зал двадцать первый барабанщик и пошёл разыскивать старшего вожатого.
Вожатый разрешил Юрочке брать барабан в свободное время, хотя и пожалел об этом уже на второй день: свободного времени у Юрочки оказалось очень много, а барабан был занят только во время линейки. К вечеру второго дня Юрочкиных занятий во всех отрядах ребята стали жаловаться, что начинают глохнуть.
— Хорошо ещё, что у него с горном ничего не получается, — говорили ребята. — Совсем бы пропали...
— Ты, Юрочка, уж слишком увлекаешься, — осторожно сказал вожатый. — Оглушил всех.
— Ладно. Я найду место, где никому не буду мешать, — сказал барабанщик и перенёс занятия в лесные окрестности лагеря.
Скоро в стенгазете появился рисунок; на нём была изображена целая сцена: на пенёчке сидел с барабаном Юрочка, а вокруг него толпились разные лесные звери с узелками за плечами. И без подписи было ясно: лесные звери собирались покинуть родные места. Выжил их двадцать первый барабанщик.
На самом же деле ни с какими лесными обитателями Юрочка не встречался, если не считать козла из подсобного хозяйства. Козёл этот хоть и числился домашним животным, но нравом был хуже всякого дикого. Поэтому и прозвище у него было «Шайтан». В музыке он ничего не смыслил, но почему-то его очень заинтересовал барабан. Стоило Юрочке начать тренировку, как Шайтан вырастал перед ним, точно из-под земли, и наставлял рога и на барабан и на самого барабанщика. Отогнать его не было никакой возможности, и пришлось Юрочке перенести занятия на морской берег.
Остряки тут же распустили по лагерю слух, что Юрочка отправился походом на всех морских обитателей и что теперь не поймать рыболовам-любителям ни одного бычка, ни одной ставридки.
Каждый раз Юрочка уходил из лагеря незаметно, чтобы никто не помешал его тренировкам. На все расспросы ребят о том, как идут его дела, он загадочно улыбался и не спешил хвастать успехами. Но как-то он подошёл к Алёше и сказал:
— Алёша! Пойдём — послушаешь...
Новый Юрочкин «класс» оказался замечательным местом. Они взобрались на вершину прибрежной скалы. Отсюда открывался чудесный вид на море. Море сверкало внизу миллиардами солнечных бликов, переливалось синим, зелёным шёлком, пестрело фиолетовыми тенями от облаков. Внизу, у берега, неустанно трудились небольшие волны. Они одна за другой набегали на чёрные обломки скал, захлёстывали их, старались сорвать с них космы водорослей, но камни и водоросли так крепко сжились, что море ничего не могло с ними поделать. Зато мелкую гальку волны ни на минуту не оставляли в покое: перемывали её и перекладывали с места на место.
А вправо и влево, вдаваясь в море синими мысами, тянулись скалистые берега. Сзади толпились горы, выглядывая одна из-за другой, точно и им захотелось полюбоваться морем да заодно и узнать, зачем пришли на скалу ребята.
Среди этого необъятного простора Юрочка показался Алёше совсем крохотным, и он невольно улыбнулся. Но Юрочка ничего не заметил: он готовился к испытаниям.
— Я буду играть, — сказал он, — а ты маршируй.
Юрочка набрал полную грудь воздуха, точно собирался петь, а не барабанить, и начал.
— Ну как? — спросил он, после того как Алёша промаршировал перед ним несколько раз взад и вперёд по плоидадке.
— Идёт дело... Мне только кажется, что у тебя ещё не совсем отработана сила звука. Погромче бы надо. А так ничего, вполне мастерски... Я думаю, что завтра можно будет попробовать тебя на линейке.
От радости Юрочка выколотил на барабане туш, но тут же взял себя в руки и сказал:
— Тогда ты иди, а я ещё немного позанимаюсь.
Алёша спустился по тропочке вниз, а Юрочка принялся «отрабатывать» силу звука, шагая сам под собственную музыку по площадке. Он так увлёкся, что не заметил очень рогатого и очень бородатого слушателя, появившегося из-за кустов.
Шайтан прослушал одно колено, другое, топнул ногой и сердито чихнул. Юрочка обернулся, ахнул и уронил палочки.
Дальше всё произошло с катастрофической быстротой. Бородатый крикнул густым басом: «Бе-е!» — и медленно двинулся на музыканта, выставив воинственно рога. Юрочка попятился от него, споткнулся и упал навзничь.
Бум-м-м-м!.. — И барабан очутился на рогах у Шайтана.
Такого исхода не предвидел и сам козёл. Несколько шагов он сделал с гордо поднятыми рогами, украшенными трофейным барабаном, потом пожелал его сбросить лёгким движением головы, но... не тут-то было. Барабан засел на рогах крепко. Шайтан заорал с перепугу и бросился, не разбирая дороги, вниз...
Юрочка вскочил на ноги и даже глаза протёр: не приснилось ли ему всё это? Но факт, как любил говорить Алёша, был налицо. Вернее, налицо были только две барабанные палочки да сам барабанщик, а инструмента не было, и надо было принимать срочные меры по его спасению.
Размахивая палочками, как двумя кинжалами, Юрочка бросился в погоню. Он не бежал, а летел под гору, перепрыгивал через пни, продирался сквозь кусты, падал, снова поднимался и не переставал кричать:
— Стой! Стой! Держи его!
Кричал он так громко и так требовательно, что Шайтан совсем с перепугу потерял голову и выделывал что-то невообразимое: он бодал воздух, прыгал во все стороны и вверх, ходил на задних ногах и отчаянно тряс головой. При этом он истошно орал. Когда он подбежал к своему стаду, все козы бросились от него врассыпную, точно на них волки напали.
В лагере услышали и крики Юрочки, и воплн Шайтана, и увидели всё, что происходило в кустарнике на склоне.
— Ребята! За мной! — скомандовал Алёша.
И все, кто был с ним рядом, бросились к кустарнику.
Уже на бегу Алёша перестроил свой отряд с таким расчётом, чтобы окружить похитителя со всех сторон.
— Окружай! Не давай ему прорваться! — командовал он.
Заметив, что преследователи во много раз превосходят его численностью. Шайтан метнулся в сторону, попытался прорваться к лесу, но кольцо окружения сомкнулось, и на него сразу навалилось несколько ребят. Кто-то схватил козла за бороду. Алёша сорвал с рогов барабан, а Юрочка выколотил на козлиных боках дробь с той самой силой и страстью, которой так не хватало ему раньше.
Лагерное имущество, хоть и потрёпанное, хоть и
с дырой в боку, было отбито. Юрочка чуть не со слезами принял от председателя барабан и долго изучал повреждение. Второй бок барабана не пострадал.
— Ладно, Юра, — стал успокаивать его Алёша, — не огорчайся. Как-нибудь отремонтируем.
Юрочка, после всей этой истории, в которой он проявил столько мужества, ставший сразу Юрой, связал тесёмки барабана, перекинул их через плечо и тронул уцелевший бок палочками. Барабан откликнулся хоть и надтреснутым голосом, но вполне бодро и жизнерадостно. Юра посмотрел на ребят и улыбнулся во весь рот.
— Становись! — вдруг подал команду Алёша и показал рукой направление строя.
Моментально на полянке выросли две шеренги.
Юра стал рядом с Алёшей.
— На-пра-во! — командовал Алёша. — Музыканты, вперёд! Шагом... марш!
И грянул барабан!
Двадцать первый барабанщик стал как будто и ростом выше, и в плечах шире. Его руки обрушивали палочки на уцелевший бок лагерного барабана, и он гудел с такой силой и в таком ритме, что до самого лагеря ни один человек в строю не сбился с ноги.
— Молодец, Юра! — похвалил председатель.
— Вот видишь, а ты хотел меня в цветочную комиссию! — гордо ответил двадцать первый барабанщик.
Впрочем, с этого дня Юра стал первым и единственным лагерным барабанщиком. Никто, в том числе и остальные двадцать барабанщиков, против этого не возражал.
НА ПОРОГЕ ПОДВИГОВ
ы были тогда ещё очень молодыми водолазами. В наших биографиях только начали отмечаться часы, проведённые под водой. Нам записывали ещё не сотни, а только первые десятки часов, да к тому же половина из них приходилась на спуски в специальный металлический чан, под названием «водолазный танк». Если учесть, что в переводе с английского «танк» можно перевести как «лохань», то, сами понимаете, гордиться нам было ещё нечем...
В танке можно было пройти любую глубину — в «лохани» создавалось искусственное давление воздуха. Иной из нас не спускался ещё и на десять метров, а уже числился глубоководником. Более или менее настоящими водолазами мы почувствовали себя, когда нас, курсантов Балаклавского водолазного училища, перевезли для прохождения подводной практики в Новороссийск. Здесь начались спуски у молов и пристаней, а то и за молом в Цемесской бухте на предмет обследования затонувших кораблей.
После «лохани», где не было никакой свободы действий и передвижения, где за тобой непрерывно наблюдали инструктор и врач через иллюминатор в стене чана, настоящие спуски показались нам припорошёнными немного сказкой, немного романтикой. А все мы потому и стали водолазами, что были романтиками, мечтали о небывалых приключениях, жаждали подвигов... В Новороссийске нас как будто подвели к порогу, за которым начиналась эта чудесная страна приключений и подвигов...
Однако очень скоро нам стало ясно, что простоять на этом пороге можно очень долго. Совершить хотя бы пустячный подвиг, хотя бы подвижок, всё не представлялось возможности. Ведь даже поднять зато-
нувщий корабль или снять с него груз и машины было для водолазов делом обычным, их прямой обязанностью. Вот ежели бы представился случай спуститься на страшенную глубину, на которую ещё никто до тебя не спускался, да не просто так спуститься, ради рекорда, а спасти там кого-нибудь или отыскать какую-то такую вещь, которой цены ещё никто не сочинил, — вот это был бы подвиг...
Но спасать утопающих даже на мелких местах нам не полагалось — на это были водолазы на спасательных станциях: что касается глубин, то мы спускали друг друга только на ту глубину, которую задавал нам инструктор...
К великому счастью, бывают на свете случаи, рассказы про которые обязательно начинаются словами: «Но вот однажды...»
...Но вот однажды, когда наш водолазный бот стоял у причала цемзавода «Октябрь» и мы ожидали прихода нашего инструктора — его срочно вызвало начальство, — к нам прибежали моряки с одного из пароходов, грузившихся цементом.
— Товарищи водолазы, выручайте! Беда! — услышали мы, и сердца наши радостно забились.
— Что у вас приключилось? — спросил я как можно басовитее, так как был оставлен инструктором за старшего.
— Мы намотали трос на правый винт!.. — ответили моряки.
— На винт намотали? — протянул я разочарованно. — Это вам надо вызывать портовых водолазов, а мы только курсанты. Мы военные моряки...
— Пока портовые придут, знаете сколько времени пройдёт? А вы рядом... А каждая минута простоя парохода в большую копеечку государству обходится...
Я мог всё решить самостоятельно, помня о единоначалии в армии и флоте, но я поступил по-другому: я поставил назревший вопрос на «летучке» комсо-
мольского собрания. Собрание единодушно решило помочь морякам, а вину разложить на всех. Конечно, это было не по уставу.
— А не помочь морякам? А государство убытки понесёт — это по уставу будет? — поддержал меня мой дружок Виктор Охалов.
Моряки помогли нам переташ,ить бот на другую сторону пирса, под корму парохода, потерпевшего аварию. Пароход был сильно гружён, корма сидела глубоко, и сверху было не видно, много ли манильско-го каната надо срубить с лопастей. Мне, как старшему на боте, самому спускаться было нельзя, и я приказал одеваться Виктору. За это он, когда мы втряхнули его через резиновый ворот в рубаху, незаметно пожал мне руку.
Хстя мы снаряжали водолаза без инструктора, мы ничего не забыли на него надеть и повесить, не забыли обуть в боты со свинцовыми подошвами, утяжелить пудовыми грузами, подпоясать сигнальным концом, покрыть голову медным шлемом со стеклянными иллюминаторами; не забыл я перед тем, как завернуть передний иллюминатор перед самым спуском, дать команду, чтобы водолазу начали качать воздух.
Прихватив топор, Виктор ушёл под воду, а я уселся на борту бота с сигнальной верёвкой в руке и телефонными наушниками. Вид у нас всех — и у меня, сигнальщика, и у ребят, качальш,иков, вертевших колёса воздушного насоса, — был очень важный. Мы впервые самостоятельно выполняли настояш,ую водолазную работу.
Манильский канат в руку толщиною намотался на лопасти винта тугими петлями. Рубить топором под водой было не так легко, но Виктор что называется «дорвался» до настоящего дела, и сколько я ни требовал, подёргивая за сигнальный конец, молчал и из воды не выходил. Не помогали и телефонные разговоры...
— Чего выходить-то? — шипел в ответ Виктор. — Чепуха осталась.
Я не мог сказать ему по телефону, что надо совесть иметь, что и другим охота попробовать свои силы на настоящем деле: на пирсе собралось много людей. Они не только смотрели, они и слушали... Виктор отлично понимал, что я ограничен в выборе слов и выражений.
— Надо перестать качать ему воздух... — проворчал кто-то из курсантов. — Живо выйдет...
И в тот момент, когда они собирались привести свою угрозу в исполнение, на пирсе послышался шум, потом крики, потом детский плач.
— Кто свалился-то? Мальчонка? Сразу на дно?.. Водолаза надо! Скорее!..
Я изо всей силы задёргал сигнальный конец, требуя, чтобы Виктор поднялся на трап водолазного бота, а по телефону приказал адмиральским тоном:
— Курсант Охалов! Приказываю подняться на трап! Человек за бортом!
Это подействовало, и через полминуты шлем Виктора всплыл рядом с бортом. Десяток добровольцев, ухватившись за канат, уже таш,или нас к месту происшествия, где на пирсе стояла, заливаясь слезами, девчушка лет трёх-четырёх, а рядом с ней, по всей видимости, её нянька, несмышлёныш-мальчонка. Он плакал молча и только изо всех сил старался отта-щ.ить сестрёнку от воды.
— Перестаньте реветь! — приказал я детишкам. — Говорите толком — кто упал за борт?
— Мишка упал... — сказала девчонка, сразу перестав реветь.
— Водолаз Охалов! — крикнул я в трубку, заглядывая в шлем через иллюминатор. — В воду упал мальчик. Зовут Мишкой...
Даже через мокрое стекло иллюминатора я заметил, как радостно и решительно засветились глаза моего дружка.
— Большой он? — зачем-то спросил я у ребят.
— Нет... Маленький... Без ноги... — ответил на этот раз малец.
— Маленький! Безногий инвалид... — передал я Виктору подробности.
Как водится, трудно было потом выяснить, кто первый поднял панику, кто крикнул, что в воду упал мальчишка. Виктор не без основания подумал, что с ним сыграли злую шутку. Потребовав больше воздуха, он всплыл на поверхность и зло швырнул на пирс одноногого плюшевого медвежонка. Медвежонок так тяжело шлёпнулся на доски настила, что и без вскрытия было ясно, что он набит не опилками...
Каната на винту хватало на всех нас, вопреки уверениям Виктора. Я спускался последним. Когда я поднялся на бот, взволнованный капитан потерпевшего парохода уже благодарил вернувшегося инструктора. Инструктор в ответ улыбался, и у меня на душе посветлело: значит, не будет нагоняя за самовольные действия.
Только дружок мой Виктор Охалов чересчур уж много силы приложил, сдирая с меня водолазную рубаху. Видать, он всё ещё не верил в то, что никакого розыгрыша не было, что мы сами испытали чувство, когда до подвига рукой подать...
КАМБАЛА-ГИГАНТ
черноморцев есть поговорка: «Кто однажды отведает черноморской камбалы-гиганта, тот никогда с Чёрным морем не расстанется». Слов нет — хороша рыбка черноморская камбала, хоть и страшновата на вид.
Попадаются пудовые рыбины — ни на какое блюдо или поднос такую не уложишь. Бросишь на стол — полстола займёт коричневая лепёшка. Это спина у камбалы грязно-коричневого цвета, утыканная костистыми шипами, а брюхо у неё белое, гладкое, точно сыромятной кожей подшито, рот перекособочен, оба глаза на один бок посажены. Урод, да и только. А положат тебе на тарелку кусок, на постном масле с лучком поджаренный, — замычишь от удовольствия.
Мы, курсанты водолазного училища, собранные со всех концов страны, очень скоро оценили камбалу по достоинству. А вскоре нам привелось и поохотиться на неё. Сейчас много пишут о прелестях подводной охоты в специальных масках и дыхательных аппаратах, с подводными ружьями в руках. Мы в своё время охотились в обычном скафандре, без всяких ружей. Ловили камбалу голыми руками.
Подводную практику проходили в Новороссийске на затонувших в годы революции в Цемесской бухте кораблях. Тут были и боевые корабли, затопленные
черноморскими матросами по приказу Владимира Ильича, чтобы не достались они немцам-оккупантам, и торговые пароходы, затонувшие при ураганном ветре норд-осте.
Трудно теперь вспомнить, кто из молодых водолазов сделал открытие, что камбалу можно было поймать голыми руками, кто первый вышел из воды с громадиной рыбиной в руках? Помню только, что все мы стали немедленно страстными и неутомимыми подводными охотниками. С пустыми руками никто не возвращался со дна. Мы в первые же два дня завалили нашего кока рыбой. На третий он взмолился, да и мы уже не могли больше ни кусочка проглотить.
Всё дело было в том, что камбала слишком полагалась на свою защитную окраску. Может быть, мелкие рыбёшки или рачки и не всегда замечали вовремя своего врага, слившегося окраской с донным песком, но мы замечали её сразу, если она находилась от водолаза на расстоянии двадцати — тридцати метров. Оставалось только подойти к рыбине, стараясь делать как можно меньше движений.
Последняя операция была совсем не трудной: мы наступали на притаившуюся рыбину тяжёлой подошвой и запускали затем пальцы под жабры. Гораздо труднее было подниматься с камбалой наверх. Ведь работали мы на большой глубине, почти на пятидесяти метрах от поверхности, а подняться сразу с такой глубины невозможно. Подниматься надо с выдержками. На последней «беседке» — это доска, укреплённая на двух верёвках, вроде детских качелей, — сидишь полтора-два часа. Над головой у тебя дно бота, ты до него рукой можешь дотянуться, а выйти нельзя, смертельно опасно, можно заболеть кессонной болезнью.
С пустыми руками сидеть трудно, а когда приходится ещё следить за тем, чтобы добыча из рук не ускользнула, ещё труднее. Некоторые стали поэтому требовать, чтобы их поднимали раньше времени, и то-
гда начальство категорически запретило нам заниматься ловлей камбалы.
Но не так это было просто — отказаться от охоты, до сих пор не виданной в наших водах. А тут ещё чемоданы...
Дело в том, что на причале рядом с нами работали столяры и плотники, и у нас с ними установились меновые отношения — за рыбу они делали нам чемоданы из фанеры. У каждого из нас было не так уж много имуш,ества, но почему-то каждому хотелось иметь чемоданы. У некоторых их было по три штуки, а у моего приятеля Виктора Охалова даже четыре.
И мы рассудили так.
Начальство запретило нам ловить камбалу руками и сидеть с ней на выдержках. Но ведь камбалу можно поймать и на крючок! И что за беда, если мы, находясь на грунте, надоумим её проглотить наживку? А чтобы камбала не ошиблась и хватала приманку именно на нашей закидушке, мы делали свои снасти приметными. На шнуре моей закидушки была прикреплена красная шерстяная тряпочка, хорошо заметная в воде. Другие тоже выбрали себе цвета по вкусу.
Кроме того, мы договорились, что каждый свою добычу вытаскивает из воды саморучно. И это был не лишний уговор — кто-либо мог сделать «подсечку» как раз в тот момент, когда ты взял крючок в руку...
Как-то спускался я третьим или четвёртым. Первым ходил дружок мой Виктор Охалов. Он уже вышел, оделся и достал со дна камбалу.
— Сегодня какое-то нашествие рыбное... — шепнул он мне. — Всё дно усеяно камбалой. Бери на выбор...
Трое курсантов растянули в стороны резиновый ворот водолазной рубахи, в которую я сам залез уже наполовину, и под команду Виктора: «Раз, два... взяли!» — втряхнули меня в неё чуть не с головой. Затем обули в здоровенные ботинки со свинцовыми подош-
вами, повесили на грудь и спину пудовые грузы, и я полез за борт за спусковой трап. Здесь мою голову покрыли медным шлемом с иллюминаторами, пустили в шлем воздух. Виктор задраил передний иллюминатор, и я, ухватившись за ходовой конец, начал спускаться на палубу затонувшего парохода.
Это был английский пароход, гружённый всякой всячиной, даже ящиками с мылом. В сохранности под водой оказалось только это самое мыло. На кусках остались даже выпуклые изображения Британского льва...
Корпус затонувшего парохода тёмной скалой вздымался над песчаной гладью морского дна. Кем только не населён был этот подводный терем! Весь корпус, все
надстройки, остатки снастей — всё было покрыто водорослями, ракушками, слизью. Всмотришься внимательно в эти заросли — и увидишь, что в них копошатся, ползают и плавают тысячи рачков и насекомых, личинок и червей. Часами можно было бы не отрываясь наблюдать за ними, но водолазу надо выполнить задание и приходится лезть в тёмный квадрат горловины трюма за яш,иками с мылом.
Работать в кромешной темноте трюма было тяжело. Гвозди давно перержавели, и ящики рассыпались на отдельные дощечки, как только к ним прикасались. А доски, не всплывая, оставались здесь же в трюме — настолько они пропитались солью. Приходилось всё время рыться в этих досках, отыскивая уцелевшие ящики...
Я еле дождался, когда Виктор сказал по телефону:
— Осталось пять минут...
Быстро догрузив подъёмную корзину, я дал команду, чтобы её поднимали, и сам поднялся на палубу затонувшего парохода. Набрав побольше шланга и сигнала на руку, я вытравил из скафандра лишний воздух и плавно опустился на песчаное дно рядом с бортом. Теперь мне надо было быстро поймать рыбину и нацепить её на крючок своей закидушки.
Виктор не обманул — не сделал я и пяти шагов, как заметил камбалу небольших размеров, а за ней ещё две такие же. Я хотел уже наступить на одну из них, как заметил невдалеке ещё одну. Я сразу понял, что четвёртая рыбина — настоящая камбала-гигант. Она лежала неподвижно, плоская, круглая, усыпанная по спине костистыми шипами, очень похожая издали на чугунную крышку уличного люка. Я начал подходить к ней, стараясь не делать ни одного лишнего движения...
Однако рыбина оказалась куда мудрее своих более мелких сородичей: почти не поднимаясь над песчаным дном, сна отплыла в сторону от меня метра четыре и снова улеглась на песке. Теперь мне захотелось поймать именно эту камбалу, только эту, и я ещё осторожнее стал к ней подкрадываться. Я так увлёкся охотой, что совершенно не слушал, что говорил Виктор по телефону. Заглушая его голос, я кричал только:
— Братцы! Дайте слабину шланга и сигнала... Я должен её поймать! Это их королева!..
Мне попадались десятки рыбин, но я преследовал только её, видел только её, и если бы мне не дали больше слабины шланга и сигнала, я, кажется, обрезал бы и сигнальную верёвку и резиновый воздушный шланг, обрезал бы и помчался догонять эту рыбину.
Наконец я настиг её и придавил к песку сразу двумя подошвами. При этом мне пришлось вытравить из скафандра почти весь воздух, чтобы стать тяжелее, иначе она сбросила бы меня на песок, как сбрасывает с себя лошадь неумелого ездока.
И вот, запустив ей под жабры пальцы, я поволок её туда, где спускалась на дно моя закидушка с красной тряпочкой на шнуре. Но стоило только взяться мне за крючок закидушки, как произошло то, чего я никак не предвидел и чего по уговору на боте не допускалось: кто-то там наверху изо всех сил сделал подсечку, и крючок, предназначенный для камбалы, вонзился в рукав моей рубахи, в налоктевую накладку. Вместо камбалы я сам очутился, как дед Щукарь, на добротном крючке.
Наверху наконец оставили в покое мою закидушку, и я принялся освобождать крючок. Но сделать это было совсем не просто: я не мог дотянуться до крючка, стал тащить за поводок и в конце концов оборвал его. Что мне было делать без крючка? Оставалось только одно — привязать рыбину к обрыву поводка,
что я и сделал. Продел поводок под жабры и завязал надёжным морским узлом. Теперь можно было подниматься, и я крикнул в микрофон:
— Выбирайте шланг, сигнал!..
Ещё с последней выдержки на полуметровой глубине я заметил над головой днище постороннего судёнышка-катера или баркаса. Вероятно, к боту кто-то подошёл, скорее всего рыбаки. Они часто подходили к нам, интересуясь спусками. Но я ошибся. Мне ещё не отвинтили иллюминатора, а я уже знал, что на бот прибыл всеми нами любимый начальник водолазного училища Шпакович.
— Гм... гм... — начал он, когда с меня стаскивали )убашку. — Я вот что хотел у вас спросить, курсант Лманкевич. Вы, случайно, не знаете, кто в настоящее время обучает рыбу в Цемесской бухте вязать морские узлы?
Больше начальнику не надо было задавать никаких вопросов. Всё было ясно. Ему оставалось только назвать цифру — на сколько дней курсант Шманкевич оставлен без увольнения на берег. Оправдываться не было никакого смысла, но всё же я попытался кое-что сделать для смягчения приговора. Зная характер своего начальника, зная его преданность водолазному делу, я сказал:
— Не мог удержаться, товарищ капитан первого ранга. Как увидал этот экземпляр, так сразу решил, что её надо изловить для нашего водолазного музея. Можно, думаю, будет заспиртовать, а то можно чучело сделать...
Начальник ещё раз осмотрел камбалу и сказал:
— Гм... гм... Пожалуй, вы говорите разумно... Экспонат выйдет на славу. Ну, раз вы его изловили, то, вероятно, вы и возьмётесь сделать чучело... Суток пять вам хватит на это дело?
— Что вы, товарищ капитан первого ранга, — воскликнул я, — это очень много!.. Я бы и за одни сутки управился...
— Ну, нет... Не люблю торопливости. Даю трое суток. Вот так. Вопросы есть?
Вопросов у меня не было. Но, увидав, как дружок мой Виктор кусает губы, чтобы не рассмеяться, я шепнул ему, да так, чтобы и другие «подводные охотники» слышали:
— Смотри, как бы я не попросил начальника дать мне помощника... А то охотиться все охочи, а отдувайся я один...
СТРОИТЕЛИ ПОРТОВ
Водолазы строили новую пристань.
На баржах привезли много камней и побросали их в воду. Водолазы опустились на дно и разровняли эти камни. Потом с баржи в воду стали опускать подъёмным краном огромные бетонные кирпичи-массивы. Каждый кирпич величиной с трамвайный вагон и весом в сорок тонн.
Водолазы под водой принимали эти камни и укладывали их как надо, чтоб получилась стена. Положили один ряд, потом на него стали класть второй.
Один молодой водолаз работал под водой по укладке. Пока кран брал с баржи новый массив, водолаз отдыхал. Он прислонился плечом к стенке и стоял неподвижно. Из шлема белым облачком вырывались пузырьки воздуха. Сверкающими бусами они уносились вверх. Меж камней проросли водоросли. Камни покрылись плесенью. В водорослях плавали зеленоватые рыбки зеленухи, гоняясь за креветками. Опускаем, — услышал водолаз голос сигналь-
щика по телефону и взглянул наверх.
Огромная глыба опускалась у конца стены. В зелёном свете воды серая глыба казалась совсем белой.
Плоский и круглый, как серебряный рубль, морской карась подплыл к ней. Он осмотрел её со всех сторон и даже потыкал носом в её шершавые бока. Но на камне ничего съедобного не было, даже плесени, и карась перестал им интересоваться.
Водолаз принялся укладывать глыбу на место, но ему никак не удавалось уложить её правильно. То одна сторона выпирала, то другая, то торчал угол.
Водолаз, кряхтя, поворачивал массив ломом. Упирался в камни свинцовыми подошвами и толкал глыбу плечом. От усталости стучало в висках. От пота намокли даже ресницы.
Уловив момент, когда глыба повернулась правильно, водолаз громко крикнул: «Майна!» («Опускайте!») Глыба вздрогнула и легла точно на место.
— На месте. Как тут и была! — крикнул радостно водолаз. — Дай наверх!
Но ответа не было. Телефон не работал. Водолаз прислушался. Было непривычно тихо. Не было слышно шипения воздуха. «Что-то случилось», — подумал водолаз. Пока водолаз возился с массивом, со дна поднялась муть; когда она осела, водолаз увидел, что
тяжёлая бетонная глыба придавила воздушный шланг и сигнальную верёвку. Телефон перестал работать. Наверное, оборвался провод.
«Надо сообщить наверх!» — подумал водолаз.
Свободный конец сигнала верёвки и воздушного шланга были совсем рядом, за углом массива. Если бы только дотянуться до них рукой! Но рука не доставала до верёвки.
Воздух не поступал. Становилось всё труднее дышать. Водолаз почувствовал, как у него задрожали колени и часто забилось сердце.
«Только бы дотянуться до сигнала!» — подумал он, собрав последние силы, выпустил из рубашки весь запас воздуха и потянулся рукой к верёвке... Вот пальцы уже коснулись её... Но вода почему-то из светло-зелёной превратилась в тёмно-зелёную... потом в чёрную...
Водолаз потерял сознание.
Наверху, на баркасе, двое рабочих вертели колёса водолазной помпы. Сигнальщик сидел у борта, держа в руках сигнальную верёвку.
— Что-то тяжело стало качать воздух! — сказал один из рабочих.
— Не случилось ли чего с водолазом?
Сигнальщик забеспокоился. Он дёрнул за сигнал.
Ответа не было. Сигнальщик стал кричать в телефонную трубку.
— Алло! Алло! Слышишь меня?..
Водолаз не отвечал.
— Что с ним? Придавило, что ли? — спрашивал сигнальщик сам себя.
И вдруг, сунув в руки одного из рабочих сигнальную верёвку, он, не раздеваясь, прыгнул в воду и нырнул. Через полминуты он показался на поверхности и, отфыркиваясь, закричал что было силы:
— На кране... вира... вира!..
Дрогнув стрелами и качнувшись, кран выхватил массив из воды.
— Тащите водолаза! — приказал сигнальщик, сам карабкаясь на баркас.
Но сжатый в помпе воздух ринулся по шлангу в костюм водолаза. Рубашка раздулась пузырём, и водолаз сам всплыл на поверхность. Его быстро вытащили на баркас и сняли шлем. Широко открывая рот, водолаз жадно глотал воздух. Но вот к водолазу вернулось сознание, и он открыл глаза. Сигнальщик сбегал в каюту и принёс стаканчик спирта, разбавленного водой. Водолаз выпил и стал дышать ровнее. Увидав висевший над водой массив, водолаз погрозил ему кулаком и пробурчал:
— Ну вот, теперь с тобой возни опять часа на два...
НА СЕЛЬДЯНОМ ПРОМЫСЛЕ
Прибежал к начальнику водолазной партии председатель рыбацкого колхоза. Снял с головы белую заячью шапку, сунул её за отворот сапога и поздоровался с начальником за руку.
— Выручайте колхоз, товарищи.
— Что-нибудь случилось? — спросил начальник. — Садись.
— Сидеть не время, — ответил председатель. — Рыба уходит из запора. Заперли мы неводом селёдку в Сайда-Губе. Да так много, что весло стоя воткнёшь — не падает. А с утра вдруг стала рыба уходить. Наверно, где-то лопнул запорный невод.
— Ладно. Сейчас поедем к вам на помощь, — сказал начальник и позвал дежурного: — Приготовить самоходный водолазный баркас. Сейчас идём в Сайда-Губу.
— Только поскорее, — просил председатель, — а то рыбы много уйдёт.
Водолазный баркас пришёл в Сайда-Губу и остановился у невода. Смотрят водолазы, а в маленьком
заливчике за неводом вода как будто кипит. Это столько селёдки плавает. А посредине большая лодка. На лодке стоят рыбаки и, черпая большими сачками селёдку из воды, высыпают её в лодку.
— Водолаз к спуску готов? — спросил начальник. — Готов, — ответил сигнальщик. Спускайте.
Водолаз прямо у невода спустился на дно. Заливчик небольшой, но глубокий, а невод до самого дна опущен. Водолаз осмотрелся. Вода в заливчике чистая, зеленоватого цвета. На дне песок и мелкие камни. На камнях разлеглись красные, жёлтые и оранжевые морские звёзды, и пяти, и шести, и даже двена-дцатиконечные. Стал водолаз осматривать невод. А по ту сторону невода селёдка прямо живой стеной стоит.
Носами в ячейки невода тычет. Да малы ячейки. Не пролезть.
Вдруг видит водолаз в правый иллюминатор какую-то белую полосу. Подошёл ближе — а это селёдка белой струёй из невода уходит. Как вода вытекает из дырявого ведра. Кинулся водолаз к дыре. Хотел дыру затянуть, а струя селёдки подхватила его и понесла прочь от невода.
Тогда водолаз полез к дыре снизу и быстро стянул её руками.
— Подавайте верёвку чинить невод! — крикнул он по телефону. — Скорей, а то не удержу.
Плотно стянуть дыру водолаз не смог.
Селёдка находила проходы, и водолаз слышал, как она билась о шлем и рубашку.
Сверху спустили тонкую верёвку. Водолаз «заштопал» верёвкой невод и поднялся наверх.
Весь костюм его был покрыт мелкой блестящей чешуёй. Казалось, что он был сделан из серебра.
ПОДВОДНЫЙ МАГАЗИН
алеко на Севере, за Полярным кругом, где летом солнце не заходит, а зимой долгие месяцы не по- является на небе, работали водо-лазы. В одной бухте, или, как на севере их называют, губе, лежал затонувший пароход. Погиб он в начале воины и за годы, что пролежал на дне морском, так оброс водорослями и ракушками, что и на корабль уже был не похож. Стал каким-то мохнатым морским чудищем.
Прежде чем поднять пароход, водолазам надо было разгрузить все его трюмы, а в трюмах полно было разных грузов. Водолазы опускались в тёмные трюмы, прикрепляли к стальным канатам ящики с грузами, плавучий подъёмный кран поднимал их на поверхность и укладывал на баржи.
После разгрузки водолазы собирались подвести под днище парохода стальные полосы, которые у них называются «полотенцами». На каждом конце такого полотенца — по большой скобе. К этим скобам, когда полотенца будут уже под днищем, водолазы прикрепят затопленные громадные железные бочки — понтоны, а потом выжмут из них воздухом воду, и они оторвут пароход от грунта и потянут наверх.
Поднимут морской корабль и отбуксируют на судоремонтный завод, а там инженеры посмотрят, что с ним делать: если корпус у него крепкий, не проржавел, — отремонтируют, и снова пароход будет по морям ходить. А если ржавчина проела обшивку, тогда корпус разрежут автогеном на куски и отправят на завод, в доменную печь. Из этого металла новые корабли можно будет строить.
Вокруг губы не было ни посёлка, ни даже домика. Только на мысу, при входе в губу, жили постоянно три человека: маячный смотритель Николай Петрович, его жена Мария Павловна и их шестилетний сынишка Костенька. Скучновато жилось Костеньке зимой, когда всё снегом завалено, солнца нет и только сполохи северного сияния иногда промчатся по тёмному небу. Зато летом ему было чем заняться. С весны ловил он рыбу. В губе — треску и окуней на шнур, в озёрах — форель, пёструю кумжу, краснобрюхую палью. Потом в тундре поспевали ягоды, и Костенька ходил с чёрным ртом; осенью наступала очередь и грибов подосиновиков.
А в этом году с весны пришли водолазы, и у Костеньки сразу появилось много друзей. Они хоть и большие все были, но ничуть этим перед Костенькой не хвастали. А дядя Серёжа даже жалел, что во всей водолазной партии нет подходящего Костеньке по росту водолазного скафандра — рубашки со штанами, которые в воде не промокают, и медного шлема с че-
тырьмя окошечками-иллюминаторами. Был бы такой скафандр, дядя Серёжа обязательно взял бы его с собой на затонувший корабль. А так приходилось Костеньке только слушать рассказы дяди Серёжи, как красиво под водой.
И вот пришла нежданно-негаданно беда. Как-то отправился Костенька на озерко за кумжей. Погода была хорошая, оделся он легко, а не прошло и часу, как налетел с Баренцева моря шквал с дождём. Пока добежал рыбачок домой, промок, продрог да и свалился в жару... Водолазный доктор посмотрел больного и сказал:
— Воспаление лёгких... Только вы не отчаивайтесь, это теперь, в наши времена, не так опасно.
Три дня не уходил доктор с маяка и спас Костеньку от смерти. Но лежать Костеньке надо было ещё долго, пока доктор «выпишет его из госпиталя»: так в шутку дядя Серёжа назвал комнатку, где лежал его приятель.
— Скучно ему... — жаловалась мама. — Я не могу ему здесь даже игрушек купить.
— Игрушек? Будут ему игрушки! — сказал дядя Серёжа.
Пришёл он на водолазный бот и стал готовиться к спуску. Сначала надел шерстяное бельё и вязаную шапочку. Потом его товарищи взяли водолазную прорезиненную рубашку — это рубашка и штаны, склеенные вместе, — растянули у неё резиновый воротник и надели на дядю Серёжу. На плечи надели медную манишку, на манишку повесили два свинцовых груза: один на спину, второй на грудь. На ноги надели кожаные ботинки со свинцовыми подошвами, опоясали петлёй сигнальной верёвки и, наконец, покрыли голову шлемом и привинтили его к манишке. Тяжело было дяде Серёже идти с таким грузом по палубе до лесенки, что была спущена с борта в воду, да зато под водой грузы помогают водолазу передвигаться. Без грузов он бы, как пробка, наверх вылетел.
Перед самым спуском водолаз попросил, чтобы к поясу привязали ему сумочку.
— Да ты не на базар ли собрался? — шутя спросили его товарищи.
— В игрушечный магазин, — серьёзно ответил дядя Серёжа.
После работы в трюме поднялся дядя Серёжа на палубу затонувшего корабля и пошёл по ней путешествовать, игрушки «покупать». Хотел было нарвать на корме букет актиний, да разве их нарвёшь? Стоят они пышными кустами, а чуть тронешь рукой — моментально съёжатся, только пятнышко останется. Тогда стал водолаз собирать в сумочку разные морские диковины. Набрал зелёных шариков — колючих ежей, положил несколько ракушек, похожих на веера, потом начал охотиться за морскими звёздами. Ему хотелось найти самую редкую, у которой двенадцать лучей во все стороны расходятся. Долго бродил он по палубе. Сверху, по телефону, ему приказали уже подниматься, когда, наконец, ему удалось разыскать жёлто-оранжевую красавицу такой величины, что она и в сумку не полезла. Так в руке и понёс её наверх дядя Серёжа.
Первый раз заблестели у Костеньки глаза так, как блестели до болезни, когда пришёл дядя Серёжа и разложил перед ним подарки студёного моря.
— Теперь дело за тобой... — сказал дядя Серёжа. — Поправляйся скорее да собирайся в дорогу. Я ещё натаскаю и звёзд, и ежей, и ракушек. Мы их высушим, и повезёшь ты под Ленинград бабушке с дедушкой морские подарки. И приятелей одаришь...
— Ив школу подарю... Я теперь у бабушки буду жить, потому что мне надо в школу. Только не увижу я, как вы пароход поднимете... — сказал с грустью Костенька.
— Увидишь! Как будем поднимать, я попрошу доктора, и он всё сфотографирует, и я пришлю тебе фото заказным письмом. Ладно?
— Ладно... — прошептал Костенька. — Только обязательно заказным... — добавил он.
СПАСЁННАЯ ДЕВУШКА
У пристани морзавода стоял на ремонте большой теплоход. Плотники настилали новую палубу, рабочие разбирали моторы, маляры красили заново корпус.
Под кормой теплохода на верёвках висела доска. На ней си-~ " дели три девушки-маляра и красили чёрной краской железные листы обшивки. Девушка в белой косынке рассказывала подругам что-то весёлое, и все громко смеялись.
— Эй, маляры! — крикнул парень, перегнувшись через перила так, что его белый чуб свесился на глаза. — Вы чего смеётесь?
— Да вот Дуся предлагает, если останется краска, выкрасить тебе чуб! — ответила ему одна из девушек.
— А то похоже, что тебе голову сметаной облили! — добавила вторая.
— Ну ладно, ладно. Я над вами тоже посмеюсь когда-нибудь! — проговорил обиженно парень и отошёл от борта.
Девушки засмеялись ещё громче. Вдруг одна из верёвок лопнула у самой доски, и девушки с громким криком полетели в воду.
Плотники бросили работу и подбежали к перилам.
— Что такое?
— Маляры свалились в воду! Верёвку надо! Тащите верёвку!.. — кричали на теплоходе и на пристани.
Две девушки выплыли у самого борта. Их быстро вытащили. А третьей, той, которую подруги называли Дусей, всё не было.
— А ну расступись! — крикнул белобрысый парень. Сбросив сапоги, тужурку и фуражку, он ловко вскочил на перила и, оттолкнувшись ногами, полетел вниз головой в воду.
Парень долго оставался под водой. Все затаив дыхание ждали. Вот показалась его белая голова. Парень вынырнул один, без девушки.
— Водолаза бы, — сказал кто-то.
— Верно. Надо водолаза. Он быстро найдёт. Потому куда ей деться! — отвечали другие.
— Эй, на катере! — окликнул боцман теплохода проходивший близко моторный катер. — Вон там работают водолазы. Тащите их сюда. Девушка утонула.
Катер прибавил ходу и помчался за водолазами.
Парень продолжал нырять. Он всплывал на поверхность, набирал воздуха и снова погружался. С пристани спрыгнул в воду красноармеец из охраны, и они стали нырять вдвоём. Но найти девушку они ни-
как не могли. Боцман бегал от одного борта к другому. Смотрел, не идёт ли катер. Но наконец он, задыхаясь, крикнул:
— Идёт с водолазами!
Катер поставил баркас между теплоходом и пристанью. Водолаз был уже одет и стоял на трапе.
— Вот здесь, здесь! — закричали все, указывая место, куда свалились маляры.
Водолаз быстро погрузился в воду.
Ноги водолаза коснулись илистого дна. Поднялась муть. Осторожно, чтобы совсем не замутить воды, водолаз пошёл под корму теплохода. На дне валялись куски железа, обрывки тросов и ржавые консервные банки. Девушки нигде не было. В правый иллюминатор водолаз увидел что-то круглое. Оказалось, полусгнившая бочка из-под цемента.
«Куда она могла деться? — думал водолаз. — Течения здесь нет. Утащить её не могло». Он повернул обратно, всматриваясь в потемневшую воду. Впереди неясно вырисовывались сваи пристани. Вдруг у одной из свай водолаз увидел что-то белое. Помогая руками, он пошёл туда. Это была Дуся. Водолаз схватил девушку на руки, но оторвать её от сваи не смог. Девушка зацепилась блузкой за железную скобу, торчавшую в свае, поэтому она и не выплыла.
— Тащите наверх! — крикнул водолаз, отцепив блузку.
Дусю подняли на баркас, а с баркаса перенесли на пристань. За ней поднялся и водолаз. Сквозь медь шлема он слышал резкий гудок автомобиля «скорой помощи». Раздевшись, водолаз тоже отправился на пристань. Девушка лежала на досках, и врач делал ей искусственное дыхание.
— Как вы её нашли? — спросил водолаза белобрысый парень.
— Косынка её помогла. Смотрю, белеет у сваи...
— Оживает, — крикнул кто-то, — веки дрожат!
— Товарищи! Шире круг. Не загораживайте воз-
духа, — просил красноармеец, тот, который нырял вместе с белобрысым.
Девушка глубоко дышала. Даже при слабом свете фонарей было заметно, как порозовело её лицо. Наконец она открыла глаза и села. Её поддержали.
— Ожила! А я прямо скажу, не думал, что оживёт, — радостно заявил боцман. — Ведь она минут двадцать купалась...
НЕФТЕЛАЗ
На Кавказе есть озеро.
В этом озере не поймаешь ни рыбы, ни рака, ни даже водяного жука. И не купается в нём никто, потому что в этом озере не вода, а нефть.
Построили рабочие-нефтяники целый лес высоких вышек. Под вышками просверлили в землю глубокие скважины и стали выкачивать из земли нефть. Нефти было так много, что никаких бочек не хватило бы для её хранения. Вот нефтяники и придумали сделать «нефтехранилище». Они построили между двумя горами плотину из бетона, замостили бетоном дно нефтехранилища и стали по трубам сливать в него нефть. Получилось целое нефтяное озеро. Из озера нефть по нефтепроводу течёт в разные города, как по водопроводу течёт в дома вода.
Как-то ночью вызвали главного инженера нефтепромысла к телефону и говорят:
— Приезжайте скорее. Нефть прорвала плотину.
— Немедленно соберите рабочих. Я сейчас выезжаю... — ответил инженер, сел в машину и поехал.
Нефть сначала только просачивалась через плотину, потом побежала тонкой струйкой и вдруг сразу прорвала в плотине большую щель и хлынула ручьём.
Рабочие притащили брёвна, камни, мешки с землёй и стали заделывать щель. Но остановить нефть не могли. Очень сильный был напор. Инженер сказал:
— Так мы щель не заделаем. Щель можно заделать только изнутри озера.
Сел инженер опять в свою машину и помчался на радиостанцию. И послал на базу телеграмму.
Утром на самолёте из Новороссийска прилетели два водолаза. Рабочие помогли им выгрузить из самолёта водолазный скафандр, воздушную помпу, резиновые шланги. Один водолаз оделся и стал спускаться по лестнице в озеро.
— Спускайся осторожно, — говорил товарищу второй водолаз. В нефть ещё ни один водолаз в мире не спускался.
Опустился водолаз на дно и ничего не видит. Как будто ebjy глаза завязали чёрной повязкой. Стал он тогда шарить по стене руками, отыскивать трещину. Вдруг чувствует, что его тащит течением. Попробовал руками задержаться, но стена гладка и руки только скользят.
Не успел водолаз крикнуть по телефону, чтобы его задержали на сигнале, как понесло его течение и заткнуло им щель, как пробкой. Да так плотно, что водолаз никак не мог обратно выбраться. Тогда он крикнул наверх:
— Тащите за сигнал посильнее! — и сам стал помогать руками и ногами.
Рабочие так натянули сигнальную верёвку, что у водолаза даже дыхание перехватило. Но из щели он выкарабкался. Тут под руку ему попался железный прут, торчавший из стены плотины. Водолаз ухватился за него и прижался к плотине.
— Подавайте мешки! — крикнул он по телефону.
Сверху стали спускать мешки с песком. Придерживаясь одной рукой, водолаз начал забивать мешками щель. Когда течение ослабло, водолаз уложил мешки ровнее, а сверху всё замазал бетоном, который опустили ему в бочке. Нефть больше не текла.
Когда водолаз вылез на плотину, инженер обнял его и даже хотел поцеловать. Но голова водолаза была в шлеме, и инженер только ткнулся носом в стекло иллюминатора. Он выпачкал нефтью свой костюм, но от радости даже не заметил.
— Смотрите, смотрите, — кричал он, — сколько вы спасли нефти, товарищ нефтелаз! Целое озеро...
УТОНУВШИЙ ГОРОД
Пришли на водолазную базу два старых учёных, — Помогите нам, товарищи водолазы, — попросили они, — осмотреть один утонувший город.
— Вы, наверно, шутите, товарищи учёные, — говорят им водолазы. — Мы знаем, что тонут пароходы, разные вещи и люди. Но чтобы целый город утонул, первый раз слышим.
— Нет, мы не шутим. Поедемте с нами, тут недалеко, и мы вам покажем этот утонувший город.
Водолазы согласились и поехали вместе с учёными. А по дороге учёные рассказали:
— Очень давно построили древние греки на бере-
гу Чёрного моря город и назвали его Херсонес. Богатый был город. Находился он в Крыму, около теперешнего Севастополя. И вот стал опускаться берег в море. Опускался да опускался, не сразу, конечно, а постепенно, и оказался город на дне моря. Вот этот город мы теперь отыскали.
— А как же вы его нашли? — спросил самый молодой водолаз.
— А мы знали, что он где-то здесь должен быть. Вот мы плавали на лодке вдоль берега и смотрели в эти трубы.
Учёные показали водолазам две трубы со стёклами в середине. Один конец трубы опускается в воду, а в другой смотрят. На мелком месте видно хорошо, а где глубоко, там ничего не увидишь. Поэтому и к водолазам обратились.
— Ну, вот мы и приехали! — сказал один учёный.
— А я уже почти одет, — ответил молодой водолаз.
Ему хотелось первому попасть в этот необыкновенный город. Ну, его первого и спустили.
Спустился водолаз на дно, смотрит, а никакого города-то и нет. На песчаном дне валяются лишь большие камни, поросшие водорослями да плесенью. По камням крабы боком ползают, плавают меж водорослей рыбки, да неподвижно висят, как потушенные фонари, медузы.
— Товарищи учёные! — закричал водолаз по телефону. — Вы, наверно, ошиблись. Никакого города здесь нет. Одни только камни да крабы!
— А вы что думали, что там все дома стоят целенькие и улицы подметены? Вы осмотрите-ка эти камни. Они не простые.
И верно. Счистил водолаз водоросли с одного камня, а это, оказывается, кусок круглой колонны.
— Верно! Колонна! Прямо такая, как у нас в Москве, в Большом театре! — кричал с восторгом водолаз.
— Идите в глубину, там кое-что поинтереснее найдёте! — посоветовали ему учёные.
Парень набрал на руку побольше шланга и сигнального каната и пошёл в глубину. Баркас поверху двинулся за ним.
Водолаз шёл по песчаной полосе, а по бокам её были навалены камни. Это, вероятно, была улица. Прошёл немного водолаз и наткнулся на вторую полосу. Она шла поперёк первой.
— На какую-то площадь вышел. Не знаю, как называется. И спросить не у кого, — рассказывал водолаз по телефону.
— Это, наверно. Храмовая площадь. Осмотрите её получше, — просили учёные.
В зелёном полумраке воды водолаз действительно заметил впереди очень большую кучу камней. Он подошёл к ним. Хотя всё поросло водорослями, ясно была видна широкая лестница из пяти ступенек. Водо-
лаз поднялся по лестнице и храм. Груды камней лежали угольником. Посредине возвышался большой плоский камень. Водолаз подошёл к нему. Морской бычок с широкой головой отлепился от камня и поплыл навстречу водолазу. «Гостей встречает», — по-
вошел в разваленный правильным четырёх-
думал водолаз и протянул бычку руку. Бычок повернулся и медленно поплыл к камню. Водолаз обошёл весь четырёхугольник, счищая с камней водоросли и плесень. Около алтаря нашёл водолаз небольшую статуэтку и очки в роговой оправе. Водолаз подумал: «Вот старики обрадуются!»
Учёные действительно очень обрадовались статуэтке, хотя она и была с отбитой головой и без руки. А насчёт очков один из учёных сказал водолазу:
— За очки большое спасибо! Только это не греческие очки. Греки очков не носили. А это мои очки. Я же их прошлый год обронил, когда мы город искали, — и тут же надел очки на нос.
ВЕСЁЛЫЙ МЕДВЕДЬ
Про медведей много существует всяких былей и небылиц. Знаю и я одну историю, мне её рассказал старичок — таёжник один. А так как человек он уже в летах, то, мне кажется, едва ли бы он стал небылицами заниматься. Но и за правдивость я ручаться не стану. Лучше я вам историю с медведем расскажу так, как мне сам старичок передавал.
Так вот, жил этот старичок в одной сибирской деревушке. Глухая деревушка, до ближайшего городка семь дней пути, всё лесом-тайгою. Называлась деревенька Ивановкой, а деда звали Иваном.
Понадобилось деду Ивану сменить один венец своей избы, попросил он разрешения у председателя колхоза, взял топор и пошёл в тайгу. Далеко ходить не надо было: кругом деревья одно другого краше. Выбрал он подходящую лиственницу и давай топориком помахивать. Дело привычное, хоть и толста была та лиственница, однако и она скоро крякнула и повалилась на снег.
Отдохнул дед, выкурил трубочку и решил сучЕя рубить. Как и положено для такого дела, сбросил он рукавички, поплевал на ладоши и только хотел за топор взяться, как кто-то его сзади, вроде как по-приятельски, по плечу хлопнул. Обернулся дед — и чуть замертво не повалился: стоит перед ним медведь на задних лапах, ростом с доброго мужика. Стоит на задних, а передние в сторону развёл, вроде и на самом деле старого приятеля встретил, обнять хочет. У деда ноги одеревенели, волосы под шапчонкой петушком поднялись, бородёнка затряслась, как сорочий хвост. «Пропал», — думает.
Простояли они так неизвестно сколько, друг на друга глядя, потом мишка, видя, что дед и не собирается броситься к нему в объятия, сам шагнул к старичку. Тут Ивана точно пружинами подбросило — как заяц, перемахнул он на другую сторону поваленной лиственницы. Это мишке понравилось, и он даже зарычал тихонько. Сначала дед хотел было пуститься со всех ног восвояси, но понял, что далеко по снегу не убежишь. Тогда он вспомнил про топор, обернулся, чтобы взять его, а мишка как раз против топора стоит, по ту сторону ствола. Стоит, на старичка смотрит, а на морде прямо написано: «Ты, дед, не бойся. Я только поиграть с тобой хочу. Давай поборемся».
Иван был человеком таёжным, не впервой медведя видел и сразу определил, что медведь перед ним молодой.
Однако бороться с ним у деда не было никакого желания.
И всё же волей-неволей пришлось поиграть с весёлым зверем. Чуть только тронулся дед вправо — и медведь за ним вправо, прыгнул влево — и мишка влево. Вот и начали они приплясывать: один по одну сторону ствола, другой — по другую.
Мишка был страшно доволен. Он то приседал за стволом, то выбрасывал вперёд лапы и старался поймать деда за бороду. Потом, наигравшись в прятки,
полез к деду через ствол. Иван не стал дожидаться и сам перемахнул через дерево. Видит мишка — перехитрил его старик, полез обратно, а сам доволен, ворчит. Залез на ствол и стоит ждёт, в какую сторону дед бросится. А Иван начал вокруг дерева бегать. «Может, — думает, — приотстанет косолапый, и успею топор схватить». Медведь спрыгнул со ствола — и за ним. Конечно, опустись он на все четыре лапы, так мигом бы деда достал, но он вёл игру честно: дед на двоих, и он на двоих...
Иван говорил, что он вокруг того дерева раз сорок обежал, взмок весь, да и от медведя пар повалил, но он и не думал дать старику передышку. Взмолился тут дед, стал зверя стыдить:
— Отстань ты, окаянный!.. Ишь что удумал! Мне, однако, на седьмой десяток перевалило, а тебе, лешему, поди, и трёх-то нет... Иди в свою берлогу, непутёвый! Какой лешак тебя поднял среди зимы?
Услыхав человеческий голос, медведь вроде как и приотстал, а потом заревел ещё веселее, и пришлось старику прибавить шагу. От этого и слетела у него с головы шапчонка прямо медведю в лапы. Для мишки это было такой неожиданностью, что он сразу остановился и принялся обнюхивать дедов головной убор. Может быть, мишке показалось, что у его приятеля голова отвалилась. При этом он опустился на четвереньки.
Тут бы старику и удирать, но он так запарился, что как пустился вокруг дерева, так и продолжал бежать, ничего не видя. Бежал, пока на медведя сзади не наткнулся и не повалился ему прямо на спину.
Мишка рявкнул с перепугу, затряс спиной, заплясал на месте. Дед запустил ему пальцы в шерсть и ногами окорячил, как мерина. Взревел медведь от страха, рванул с места и понёс деда по тайге...
Тут и не скажешь, кто больше перепугался — дед ли, медведь ли. Летит Топтыгин так, что снег тучей поднимается, а Иван что есть силы ногами его сжима-
ет да старается покрепче за шерсть уцепиться. Проскакал мишка по редколесью и дует прямо в чащобу. Тут сообразил старик, что если не свернёт косолапый, то оба разобьются о деревья. И как-то так вышло, что потянул дед сильнее правой рукой за шерсть, и стал мишка вправо забирать. Потянул дед ещё сильнее, и повернул медведь в обратную сторону.
Хоть и колотилось у деда сердце от страха, однако он понял, что и медведем управлять можно. Как проскакали они мимо поваленной лиственницы, стал Иван заворачивать мишку на дорогу в деревню. По дороге зверь ещё шибче пошёл. В лес дед Иван, может, целый час шёл, а из леса в пять минут к самой околице прискакал. И так он осмелел, что решил всем колхозникам на удивление примчать на медведе в Ивановку. Но не вышло по его. Подкосились у мохнатого коняги ноги, ткнулся он мордой в снег, да и дед не удержался: перемахнул через медвежью голову — в сугроб. А как вынырнул, сразу на медведя посмотрел: не собирается ли теперь Топтыгин на нём в тайгу скакать.
Но мишке не до того. Лежал он на снегу, и бока у него раздувались, как кузнечные мехи, а из пасти пар клубами валил. Встал дед на ноги да как крикнет: — Что, доигрался, косолапый? Мишку как будто вилами поддели — хрюкнул он и на ноги вскочил. Дед повернул — да в деревню. А мишка — в тайгу. Бегут, у обоих пятки сверкают.
у крайней избы дед обернулся, увидел, что мишка уже у самого леса, и закричал:
— Тю-лю-лю-лю! Держи разбойника, держи! Смотри больше не попадайся, сниму шубу!
Однако за топором и шапчонкой с варежками дед так и не пошёл.
СИНЯЯ КОРОБКА
Всё воскресное утро Коля провозился над своим самодельным сундучком; он что-то сверлил, стругал, приколачивал... Вечером показал сундучок отцу и сказал:
— Папа, открой-ка крышку...
Отец попробовал, но у него ничего не получилось — крышка не открывалась.
— Ты что, гвоздями её приколотил? — спросил он.
— Нет! — засмеялся Коля. — Это я пристроил такой секретный замок. Его никто не откроет...
— А зачем он тебе понадобился? — удивился папа. — Что ты собираешься запирать на секретные замки? А главное, от кого?
На это Коля ответил, поглядывая на младшую сестрёнку Таню:
— Есть у меня что запирать и есть от кого.
Таня обиделась.
— Неправда! — закричала она. — Я никогда у тебя ничего без спросу не беру. Зачем ты на меня наговариваешь?
Но на другой же день, как только Коля ушёл в школу, папа — на работу, а мама — в магазин, Таня достала из-под кровати Колин сундучок и принялась его осматривать со всех сторон. Никакого замка на сундучке не было видно, ни внутреннего, ни висячего, а крышка не открывалась. Чем дольше возилась Та-
ня, отыскивая замок, тем сильнее разгоралось её любопытство.
— Что он от меня там спрятал? — ворчала она. — Колька наш такой, что даром не будет секретные замки придумывать.
И вдруг совершенно случайно Таня нажала пальцем на шляпку гвоздя — шляпка торчала сбоку на крышке, — в сундучке что-то легонько щёлкнуло, и... крышка приподнялась.
Сверху в сундучке лежала тетрадка, книжка, переводные картинки. Потом Тане попалась сломанная рогатка, кусок синего мела, четыре стреляные гильзы от винтовочных патронов и ещё разные Колины «сокровища».
— О-о-о! — протянула Таня. — Нашёл что запирать на секретные замки! Так всё лежало — я не трогала, а теперь он придумал запирать... Нужны мне его гильзы!
Но вдруг на самом дне сундучка она отыскала синюю коробку, перевязанную крест-накрест ленточкой. На коробке был нарисован вход в метро, над входом горела большая красная буква «М».
— Конфеты... — прошептала Таня. — Как же Кольке не стыдно? Запер от меня конфеты... Да ведь их всегда маленьким отдают!
Таня долго вертела коробку в руках, пока решилась посмотреть, какие же в коробке конфеты: в завёртках они лежат или просто так? Она осторожно развязала бантик и открыла коробку. Конфеты лежали в четыре ряда, по пяти штук в каждом ряду, и все были завёрнуты в серебряные бумажки.
Потом Тане захотелось узнать, какие это конфеты:
шоколадные или простые? Она осторожненько, чтобы не порвать, развернула серебро. Конфеты были шоколадные, тёмно-коричневые, с рубчиками.
«А с начинкой они или нет?» — подумала Таня и разломила одну конфету. В середине её оказалась розовая помадка.
Ну, а разве с одной распробуешь их — вкусные они или нет? И, только облизав пальцы после третьей конфеты, Таня зажмурилась и сама себе сказала:
«Ишь какие у Кольки конфеты лежат под секретными замками! Были бы простые, небось не запирал бы...»
Однако она тут же подумала:
«Ой!.. Что же это я наделала? Ведь Колька узнает про всё и непременно расскажет маме. А мама обязательно скажет папе. А он не купит мне ёлку, и не будет у меня на Новый год ни ёлки, ни именин... А всё Колька виноват! Всегда он мне что-нибудь такое подстроит... Это потому, что не любит он меня...»
На душе у Тани сразу стало горько-горько. Так горько,, что она взяла и съела ещё одну конфету. Но от этого на душе лучше не стало, и она всё продолжала думать, что ей теперь делать. И придумала: она взяла из буфета кусок чёрного хлеба, слепила из него четыре конфеты, завернула в серебряные бумажки и положила в коробку.
Поддельные конфеты так были похожи на настоящие, что когда на другой день Таня взяла ещё пять штук, то ей попалась одна хлебная. А через несколько дней, сколько она ни искала, ни одной настоящей конфеты в коробке найти не смогла.
— Что же это получается? — возмущалась она. — В коробке было двадцать конфет, а я слепила только девятнадцать. Значит, там ещё есть одна настоящая?
Но последнюю, настоящую, ей уже не пришлось уничтожить: Колю отпустили на каникулы. Целый день Таня с тревогой посматривала на брата, но он
ничего не заметил. Потом папа принёс ёлку. Ёлку надо было украшать. Надо было звонить гостям по телефону и напоминать им, что ёлка будет не простая, а именинная, чтобы гости, чего доброго, про подарки не забыли...
За этими хлопотами Таня совсем забыла про Ко-лины конфеты.
Гостей на именинную ёлку собралось много. Все они поздравляли Таню, дарили подарки. Последним дарил Коля. На глазах у всех он достал из-под кровати свой сундучок и, не скрывая больше от Тани секрета, нажал пальцем на гвоздь. Крышка открылась. Коля достал синюю коробку с конфетами и торжественно преподнёс сестрёнке.
— Бери, — сказал он. — Это я специально тебе на именины берёг. В детском театре я их на «викторине» выиграл. Ну, и решил для тебя поберечь... Только, если можно, дай, Тань, и мне одну, попробовать охота, какие они...
Тут гости все заулыбались, мама погладила Колю по голове, а Таня поёжилась.
Дрожащими руками развязала она липкий, замусоленный бантик на коробке и открыла её. Коля, не выбирая, взял одну конфету, развернул серебро и сунул в рот. Таня зажмурилась.
«Сейчас он выплюнет конфету, и всё откроется», — подумала она.
— Ой, Таня! — сказал Коля. — Да ты только попробуй, какие они... Смотри-ка, с розовой начинкой! Пробуй, пробуй!
Пришлось попробовать.
«Вот всегда так получается! — думала Таня, разжёвывая чёрствый и уже горьковатый хлеб. — Одна была настоящая — и та Кольке досталась! А мне всегда не везёт...»
АФЕН-ПИНЧЕР
У щенка было всё, что положено: четыре лапы, два уха, три чёрные точки на мордочке (нос и два глаза) и хвост кpeндeлe5. Шерсть у него была белая с жёлто-розовым отливом, росла космами, точно он был сшит из овчины. Он мог спать на спине, совсем не по-собачьи; а когда бодрствовал, то лежал на брюхе, нелепо раскинув лапы по сторонам. Как он попал во двор, никто из ребят не знал. Все брали его на руки, тискали, говорили: «красавчик», «хорошенький», но никто не собирался взять его домой. Только один Вовка сумел прочесть в его глазах глубокую щенячью тоску по мягкой подстилке и тёплому углу и косточке от обеда, на которой остался бы хоть запах мяса...
«Будь что будет», — решил Вовка и понёс щенка домой.
— Ты вот что, Вовка... Ты скажи матери, что это очень породистый щенок, что ему прямо цены нет, — посоветовал Вовке его приятель Лёшка.
— Да ты что? — уставился на него Вовка. — Такой породы и не придумаешь, чтобы она к нему подходила.
Лёшка взял щенка, долго рассматривал его, морщил лоб и вдруг решительно объявил:
— А здесь и подбирать не надо породу. Это самый что ни на есть настоящий афен-пинчер.
— Что-о-о? — опешил Вовка. — Какой пинчер?
— Афен! По-немецки значит «обезьяний». Понятно? Обезьяний пинчер. Можешь посмотреть в Большой советской энциклопедии. Что же ты, сам-то не видишь, что ли? Он же вылитая обезьяна!
И, как будто в подтверждение этому, дома мать сказала:
— Батюшки! Где ты такую обезьяну выкопал?
А когда Вовка спустил щенка с рук и тот улёгся на брюхо, раскинув лапы, мать так рассмеялась, что и без просьбы Вовки судьба Афена была решена — он обретал дом и хозяина.
Вот уж чего нельзя было сказать про Афена — это того, что он рос не по дням, а по часам. И часы проходили, и дни, и месяцы, а щенок как был с рукавичку, так таким и остался. Только, может быть, в весе немного прибавил да в глазах у него уже не было щенячьей тоски. Всё шло хорошо, как вдруг однажды приходит Лёшка и спрашивает:
— Ты кулешовскую Альму знаешь?
— Знаю, — ответил Вовка.
Кулешовскую Альму нельзя было не знать: это была такая немецкая овчарка, какой трудно подыскать пару для сравнения.
Вчера ощенилась, — сказал Алёшка. — Всего пять щенков. Одного Серёжка по дружбе уступает нам. Понятно?
— Ничего не понятно, — ответил Вовка. — Он же не бесплатно?
— Ясно, нет. Пятёрку, по дружбе. Настоящая цена тридцатка... Два с полтиной у меня есть, давай и ты столько. Щенок пополам будет.
— Да откуда же я возьму?,. И у меня уже есть щенок, — сказал Вовка.
— Стоп! — перебил его Лёшка. — Вот тебе и деньги. Завтра воскресенье — поедем на Птичий рынок и продадим твоего Афена. Может, и дадут за него два пятьдесят...
Вовка от неожиданности долго не мог даже слова выговорить: как это так — продать Афена?
— Да очень просто! Продадим, и всё. Что с ним возиться? Я ведь наврал, что он Афен. С ним и на улицу выйти нельзя — засмеют... А с овчаркой, на поводке...
Лёшка нарисовал такие картины, так расписал будущую золотомедальную овчарку, что Вовка на-
конец согласился расстаться с Афеном. На следующий день, стараясь не смотреть щенку в глаза, засунув его за пазуху, Вовка отправился с Лёшкой на рынок.
Они еле протиснулись сквозь бесчисленную толпу голубятников, птичников, рыболовов и охотников в тот дальний угол базара, где разрешалось продавать собак. Долго на них никто не обращал внимания, потом один здоровенный малый бесцеремонно
вытащил Афена у Лёшки из-за пазухи, с минуту молча рассматривал его, потом вдруг загоготал на весь базар.
— Это что же за порода такая? — гремел он.
— Афен-пинчер, — сказал Вовка.
— «Обезьяний пинчер» по-русски, — перевёл Лёшка.
— Что, что? Обезьяна? Точно, обезьяна... Хо-хо-хо!..
Вовка хотел отобрать щенка, но его оттеснили.
Сразу собрался народ, к щенку потянулись десятки рук: кто хотел потянуть за ухо, кто дёрнуть за лапу; один пустил струйку дыма прямо в нос щенку, и тот отчаянно фыркнул и зачихал. Это ещё больше развеселило верзилу, державшего Афена за загривок.
— Что, не любишь, подлей? Хо-хо-хо!.. Стой, парень, а сколько ты за него хочешь? — спросил он.
— Два пятьдесят, — сказал Лёшка. — Берите — замечательный щенок.
— Дороговато для одной варежки! — опять захохотал верзила. — Была бы пара таких обезьян, взял бы... Как раз вышло бы две рукавички,
— Отдай! — закричал Вовка, подпрыгнул и повис на руке верзилы. — Отдай, говорю!..
Верзила отпустил руку.
Схватив щенка, Вовка торопливо принялся засовывать его за отворот пальто.
— Ты чего? — зашипел ему в ухо Лёшка. — Может, он и на самом деле купит...
Но Вовка уже не слушал его. Он торопливо, нагнув голову, пробирался через толпу к выходу. Лёшка не поспел за ним и отстал.
Выбравшись за ворота, Вовка вскочил в первый попавшийся трамвай и уехал. Только когда трамвай прошёл одну остановку, он немного пришёл в себя, бережно достал Афена и прижался щекой к его мягкой шёрстке.
— Мальчик, сколько стоит твоя собака? — вдруг спросила его девочка лет пяти.
— Тысячу рублей! — зло ответил ей Вовка.
— Папа, купи щенка за тысячу... — начала ныть девчонка.
Вовке показалось, что папа и на самом деле полез в карман за деньгами.
— Нет! Не продаётся! — крикнул он и бросился к выходу.
Вечером, когда в доме все уснули, Вовка взял Афена с его подстилки, положил рядом с собой под одеяло и прошептал ему на ухо где-то услышанную поговорку:
— «Хорошо, когда собака друг, но плохо, когда друг — собака»...
И трудно было понять, кому он это адресовал — Лёшке или самому себе.
ПРО ОКТЯБРЁНКА ГРИШУ, ПИОНЕРА МИШУ И ПРО КОЗЛА РАЗБОЙНИКА С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Все, кто живёт далеко на севере, за Полярным кругом, считаются за-полярниками. Октябрёнок Гриша и его друг пионер Миша тоже за-полярники. Они живут так далеко на севере, что дальше уже и земли нет, дальше лежит Баренцево море, а за ним Северный Ледовитый океан...
Про посёлок, в котором они живут, тоже надо сказать, что он заполярный. И про дорогу, по которой Гриша и Миша в школу ходят. Она особенная, эта заполярная дорога: сколотили её из толстых досок и уложили на большие валуны — обломки скал — и на высокие деревянные козлы. Без такой дороги трудно было бы ребятам ходить в школу. Летом и осенью им пришлось бы через каждый валун перебираться, через каждый ручеёк перепрыгивать, а зимой их пришлось бы каждый раз выкапывать из сугробов при свете северного сияния.
Ну, а если бы посредине дороги не было заполярного моста через заполярный поток с водопадом, с которого летом ребята ловили заполярную рыбу кумжу, на котором и произошло всё, о чём дальше будет речь, Гриша не ходил бы в первый класс, Миша — в пятый и оба они остались бы заполярными неучами.
...Через поток с водопадом не перепрыгнешь, не переплывёшь его даже на заполярной лодке.
В первый раз Гришу в школу привела мама. За ручку привела. Но уже на второй день Гриша сказал решительно:
— Я не маленький и caM дойду! Ты думаешь, что я никогда до школы не добегал? Ещё сколько раз...
Мама спорить не стала.
— Правильно, сынок! — сказала она. — Не век же мне тебя за ручку водить... Вот тебе завтрак: хлеб и кусок жареного палтуса. Сам укладывай всё в ранец и сам отправляйся в школу.
Взрослому человеку, такому, как Гришин папа, рыбак-помор, дорога от дома до школы покажется совсем пустяковой, а самому Грише она кажется длинной-предлинной. До моста сколько да ещё после моста столько же! А вот пионеру Мише она по-разному представляется: выучит он уроки — бегом в школу бежит, Гришу на мосту обгоняет, не выучит — целый час плетётся, за каждый сучок цепляется, с моста в воду щепки швыряет, отправляет «корабли» на верную гибель в водопаде...
Выскочил Гриша поскорее за дверь, чтобы мама не успела поцеловать, и побежал в школу. Половину дороги, до моста, он пробежал благополучно, а вот на самом мосту его ожидала рогатая и бородатая неприятность — тот самый заполярный козёл Разбойник грязно-серого цвета, про которого по посёлку ходили легенды и которого даже взрослые побаивались.
Одни рассказывали про козла, что он, забредя однажды на грузовой причал, увидал там новенький трактор, только что выгруженный с парохода, принял его за соперника и так поддал трактору в бок рогами, что тот перекувырнулся в воздухе и утонул чуть ли не на середине бухты.
Другие рассказывали, что заполярный разбойник однажды ворвался в продовольственный магазин, разогнал всех продавцов и покупателей, опрокинул кассу вместе с кассиршей, запер завмага в кладовой на щеколду и хозяйничал в магазине, пока не уничтожил всё продовольствие... Пожарную команду вызывали!
Ну, а про то, что он пачками жрёт табак-махорку, что ходит и подбирает окурки, глотает их прямо с огнём, знали в посёлке все: и старый и малый...
И вот теперь этот Разбойник стоял как раз на се-
редине моста, смотрел на Гришу, и ничего хорошего в его взгляде Гриша для себя не видел.
«Как даст рогами, так я кувырк в водопад... Ищи меня потом на дне залива, рядом с тем трактором...» — подумал Гриша.
Можно было бы подождать, когда пройдёт кто-нибудь из взрослых или Миша подоспеет, но так недолго и в школу опоздать. И кто знает, выучил сегодня Миша уроки или не выучил? Может, они такие трудные, что их и выучить нельзя?..
— Уходи отсюда! — крикнул Гриша козлу. — Мне в школу надо!
Но Разбойник и ухом не повёл, вроде он за шумом водопада ничего не слышал. Тогда Гриша решил его задобрить: он снял ранец, достал из него завтрак и швырнул козлу под ноги.
Разбойник крикнул: «Мэ!» — попробуем, дескать, чем вас кормят! — и принялся уничтожать рыбу, помахивая от удовольствия коротким хвостом...
А Гриша тем временем бочком, бочком проскочил мимо козла и припустился в школу.
На большой перемене все ребята завтракали, а Гриша наш только слюнки глотал...
Разбойнику Гришины завтраки вот как понравились: он и на другое утро встретил Гришу на мосту. Знал, злодей, что мост не минешь, стороной не обойдёшь...
— Как тебе не стыдно! — принялся стыдить козла Гриша. — Вон сколько ещё травы кругом, а ты у меня завтраки отбираешь...
Но козёл опять притворился, что ничего не слышит, и так в ответ сердито чихнул и топнул ногой, что ранец сам собой слетел с Гришиных плеч, сам раскрылся, и завтрак — котлета с хлебом — полетел к ногам Разбойника.
И опять на большой перемене все ребята ели свои завтраки, а Гриша только воды кипячёной попил из бачка, чтобы в животе не было скучно...
Дома он так набросился на еду, что отец с матерью глазам своим не поверили.
— Что с тобой? — сказала мама. — Неужели это уроки на тебя такой аппетит нагоняют? Раньше, бывало, тебя силком надо было за стол усаживать...
Что мог ей ответить Гриша? Рассказать про Разбойника? Тогда она непременно станет водить его в школу за ручку...
«Нет! Лучше с голоду помру, а не скажу!» — решил Гриша.
— Это, наверно, потому, что я теперь вот такой физкультурой занимаюсь... — сказал он и сделал «вдох» и «выдох».
Разбойник собирал дань аккуратно, не пропуская ни одного утра.
Грише показалось, что он даже поправляться стал, в боках раздался. А как-то приснилось, что козёл до того растолстел, что загородил весь мост через поток... Съев завтрак, он потребовал, чтобы Гриша отдал ему ранец, и слопал ранец вместе с букварём, тетрадками, ручкой и карандашом... Один только ластик выплюнул: не смог разжевать...
Но и этого Разбойнику, ставшему великаном, было мало. Он топнул ногой и потребовал страшным человеческим голосом:
«Скидывай берет!» И, даже не пожевав его, проглотил...
«А теперь скидывай форму!» — потребовал обнаглевший Разбойник, и форма последовала за ранцем и беретом...
Но и этого козлу было мало!
«А теперь сам полезай ко мне в пасть!» — потребовал он совсем уж кошмарным голосом и разверз перед дрожащим Гришей пасть, громадную, как пещера-
Тут уж Гриша закричал не человеческим голосом, а по-козлиному, жалобно-жалобно: «Бе-е-е!» — попятился от чудовища, оступился и полетел прямо в водопад, на страшные подводные валуны...
Конечно, полетел он на самом деле не с моста, а со своей кровати, ударился не о валуны, а об пол... А что касается того, блеял ли Гриша по-козлиному, то мама уверяет, что блеял.
Она говорит, что проснулась от этого крика, бросилась к Грише, подхватила его на руки и принялась тормошить:
— Что с тобой, сынка? Не заболел ли ты? Может быть, ты переел за ужином?
Гриша пришёл в себя и сказал маме:
— Нет! Ничего я не заболел... Это мне такой страшный сон приснился... Будто стою я на мосту и. подходит ко мне козлище... «Скидывай, говорит, ранец!» А я ему: «Фиг тебе, а не ранец!» Да как схвачу его за рога, да как запущу прямо в водопад! Он как трахнется об валуны да как закричит: «Бэ-э!»...
Собираясь в школу, Гриша сказал матери:
— Не давай ты мне завтраки... Ты лучше давай мне денег. У нас в школе буфет открыли...
— Хорошо, — сказала мама и дала Грише рубль. — Сдачу, чтоб не потерять, положишь в ранец.
Разбойник был на посту. Он расхаживал по настилу, моста, сердито
фыркал от нетерпения, отрывал от досок щепки и жевал их прямо с гвоздями. Увидав Гришу, он гневно крикнул: «Бэ-э!» Наверно, это значило: «Ты почему заставляешь меня ждать?»
— Нет у меня, злище-козлиш,е, никаких завтраков! Вот, рубль мамка на завтраки дала!.. — крикнул Гриша и показал козлу рубль.
А тот хоть бы понюхал рубль! Нет! Выхватил он из Гришиных рук целковый и принялся его жевать...
— Отдай! — завопил Гриша на всё Заполярье, но козёл только рогами в ответ помотал.
— А что он у тебя отнял? — спросил подбежавший Миша.
— Рубль, который мне мама на завтраки дала... — ответил Гриша.
— А зачем ты всяких нахальных козлов рублями кормишь? Их надо за разбой берёзовой кашей кормить! — сказал Миша, отвёл Гришу в сторонку, вооружил его хорошей берёзовой хворостиной и добавил: — Иди смело прямо на него, а хворостину держи за спиной... Как только он заступит тебе дорогу, так ты и угости его берёзовой кашей! Мало будет — добавки всыпь... Да не трусь! Скоро пионером будешь...
Гриша так и сделал. Он собрал всю свою храбрость, двинулся на мост и, как только Разбойник преградил ему дорогу, требуя к рублю ещё и хлеба с рыбой, огрел его хворостиной. От неожиданности козёл даже на задние ноги присел...
После первой же добавки «берёзовой каши» он бросился со всех ног наутёк. На досках настила остался только вконец изжёванный рубль. Гриша поднял его двумя пальцами, поморщился и бросил в водопад: на такой рубль уже ничего нельзя было купить.
Однако Гриша не огорчился — это был последний день, когда он остался без завтрака на большой перемене. Впрочем, Миша поделился с ним по-братски куском пирога с рыбой и рисом.
— На! За храбрость! — сказал он.
РАЗВЕДКА ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ
Сержант Синельников вернулся от командира батальона озабоченным и так посмотрел на солдат, что те понимающе переглянулись.
— В разведку пойдём... — шепнул Сосипатров своему другу ефрейтору Ивлеву. — Вот увидишь...
— Разговорчики... — коротко бросил сержант и снова посмотрел на всех, что-то прикидывая в уме. — Нам дано серьёзное задание: пойдём в разведку. В пяти километрах отсюда есть деревня Нагорки, за деревней скрещиваются две дороги... Нашему командованию необходимо знать, как противная сторона использует их. Это задача. Выполнять её будем так, как будто противной стороной является не наш второй батальон, а самый настоящий противник.
Сержант помедлил немного и, как и ожидали солдаты, добавил:
— Помните золотое суворовское правило: «Тяжело в ученье — легко в бою».
Синельников вызвал из строя Ивлева и Сосипат-рова. Им он поручил идти передовыми.
— Маршрут я вам сейчас объясню...
— Разрешите обратиться, товарищ сержант, — сказал Ивлев.
— Слушаю вас...
— Я эти места, товарищ сержант, отлично знаю и дорогу в Нагорки хоть ночью найду...
— Отлично... Это облегчает нашу задачу. А разве вы из этих мест?
— Нет, я москвич... Но тут недалеко пионерский лагерь нашего завода, и я шесть раз в нём бывал. Последние годы был как вожатый.
— Ну тогда вам и карты в руки... А вернее, не на-
до в руки никакой карты. Проведёте нас кратчайшим путём. На фронте знание местности часто помогало нашим разведчикам — используем фронтовой опыт, — усмехнулся сержант.
Ефрейтор действительно отлично знал местность: он вёл отделение еле заметными тропками, часто сворачивал с них и вёл прямо через лес. Он выбирал не только самый короткий путь, но и самый скрытный. Километра через три он оставил в дозоре Сосипатро-ва, а сам пошёл к сержанту:
— Товарищ сержант, отсюда можно пройти совсем коротким путём, только нужно будет переходить вброд речонку.
— Большая?
— Шириной метра три, но глубина по грудь...
— Беда, какая серьёзная преграда для русского солдата, — нарочно громко сказал сержант, так чтобы слышали все солдаты. — Ведите, ефрейтор...
Ивлев догнал Сосипатрова и резко свернул влево под уклон, в гуш,ину ельника. Они пошли, осторожно ступая по мягкому ковру хвои, спускаясь всё ниже и ниже.
— Там, внизу, речушка будет, — сказал Ивлев. — Но разве она может служить преградой для русского солдата?
Чем ниже спускались разведчики, тем сильнее становился запах лесной прели. Он щекотал в носу и кружил голову, как хмель. Где-то рядом, справа, громко затрещал дятел, и сразу же слева застучал второй. Сосипатров беззвучно засмеялся.
— Автоматчики... Короткими очередями палят, — прошептал он. — Окружают...
— Пробьёмся... — в тон ему ответил Ивлев и тоже засмеялся.
Но вдруг ефрейтор перестал смеяться, с недоумением посмотрел вперёд, потом по сторонам.
— Что такое? Ничего не понимаю... — сказал он довольно громко.
— Что не понимаешь? Заблудились, что ли?
— Да нет... Шли всё время правильно... Только... — Ивлев взглянул снизу вверх на Сосипатрова, тот был на две головы выше его. — А ну посмотри со своей колокольни: что там впереди?
— Река впереди... А что?
— Вот именно — река! А должна быть речка... Речонка. Понимаешь?
— Ничего не понимаю, — сознался Сосипатров. — Какая разница — река, речка...
Разницу между рекой и речкой Ивлев мог бы объяснить, а вот как вместо небольшой речонки внизу перед ними очутилась широкая и, видать, глубокая река, этого он объяснить не мог и приказал Сосипатро-ву вызвать сержанта.
— Непонятное что-то, товарищ сержант... Чудеса какие-то, — начал докладывать Ивлев, но сержант перебил его:
— Яснее... Чудес в военном деле не бывает.
— Бывают, оказывается, — с жаром начал было Ивлев, но тут же спохватился: — То есть я вот про это говорю. — Он указал рукой вниз. — Тут ручей был, а не речка... Вот честное пионерское...
Сержант усмехнулся.
— А кстати, товарищ ефрейтор, когда вы последний раз были в вашем лагере?
— Да не так давно... Три года назад...
— Три года-а-а... — протянул сержант. — Ну, знаете, в наше время это такой срок, что на месте вашего лагеря могли металлургический комбинат выстроить. А что рядом с вашим лагерем — колхоз был?
Ивлев посмотрел на сержанта и вдруг хлопнул себя рукой по лбу.
— Вот пустая-то голова! Ясно, товарищ сержант. Ещё при мне поговаривали колхозники о гидростанции. Только колхоз здесь был маломощный...
— Теперь, наверное, объединились, — вставил Сосипатров. — У нас тоже, пока сами по себе жили, только мечтали об электричестве, а как пришло слияние, так за год станцию отгрохали на Безымянке... А она у нас далеко не Волга. И деревня наша Куриным бродом называется... Сами понимаете, товарищ сержант.
— Понимаю... Своими руками межколхозную ГРЭС строил. Но об этом мы с вами в другое время поговорим, а сейчас надо выполнять боевое задание. Это во всех отношениях лучше, что нам встретилась такая преграда. Поучимся преодолевать... Вы, Соси-патров, приведёте сюда отделение, а мы спустимся с ефрейтором к реке и посмотрим, что там и как.
Ширина новой реки была не меньше ста метров и не сужалась ни вниз, ни вверх по течению. Не видно было и переправ на ту сторону.
— Придётся на подручных средствах форсировать, товарищ сержант, — сказал Ивлев.
— Придётся... Только не в этом месте. Тут слишком зрителей много, — ответил Синельников и показал на ребят, что сидели с удочками на том берегу.
— Из нашего лагеря, — уверенно определил Ивлев.
— А в каком часу они обедают?
— В два...
Сержант посмотрел на часы.
— Значит, просидят ещё не меньше трёх, — подсчитал он, — придётся нам поискать броду где-нибудь повыше...
Отделение снова двинулось в боевом порядке вверх по реке. Только теперь вместе с Ивлевым и Со-сипатровым шёл сержант. За поворотом реки оба берега оказались лесистыми и совершенно безлюдными. Сержант решил переправляться в этом месте и послал солдат на поиски подходящего материала для плота. Но очень скоро выяснилось, что найти в лесу хоть одно брёвнышко не так-то просто. Солдаты не нашли даже валежника. Видно, в местном лесничестве сидели хозяйственные люди. Нашли солдаты только поленницы мелко наколотых дров, но, во-пер-
вых, плота из такого материала не сделаешь, а во-вторых, такие вещи и не полагалось делать без разрешения хозяев.
— Придётся, видно, на сапогах переправляться, — сказал сержант и, видя, что не все его поняли, пояснил: — Старинный солдатский способ. Сапоги связываются за ушки, с маху погружаются в воду вверх подошвами, в головках остаётся воздух, и получается два поплавка... Только вот Иванов и Селифанов меня беспокоят, плавают они как топоры... Да ещё рация...
— Переберёмся, товарищ сержант. Помогут ребята, — в один голос заверили солдаты.
— За рацию тоже не беспокойтесь. Она у меня ко всему привычная, — сказал радист.
— Тогда приступим. Первым поплывёт Ивлев...
Ефрейтор торопливо стал стаскивать сапоги. Верёвочки у него не нашлось, и он принялся связывать ушки голенищ носовым платком. Вдруг сержант прервал его занятие.
— Отставить, — сказал он тихо. — Всем укрыться...
Солдаты пригнулись и исчезли в зарослях орешника. Ивлев хотел тоже метнуться в кусты, но сержант задержал его, только заставил лечь рядом с собой:
— Смотри...
Из маленького заливчика, укрытого нависшими над водой деревьями, на противоположном берегу в реку выплыл довольно большой плот. На нём сидело четверо ребят, одна девочка и три мальчика. Ребята поминутно оглядывались по сторонам, видно, и они хотели переплыть реку незаметно.
— Обувайтесь! — приказал Синельников. — Похоже, что они здесь будут высаживать десант...
И сержант не ошибся: ребята направили свой бревенчатый «дредноут» прямо на куст, за которым укрылись разведчики.
— Обстановка усложняется. Придётся нам отходить, — усмехнулся сержант. — Я почему-то уверен, что мы имеем дело с нашим братом разведчиком...
— Неужели во втором батальоне решили использовать ребят? — удивился Ивлев.
— Нет. Это разведка, так сказать, третьей стороны...
— Верно... Как я сам не догадался? На этом берегу, тут вот за лесом, ещё один лагерь... У нас между лагерями каждую смену проводилась военная игра... По неделям «воевали».
— Тряхнём стариной — поиграем ещё разок, — сказал сержант и дал команду отойти от берега ещё подальше. — Хорошенько замаскироваться. И чтобы ни кашля, ни чиха, ни громкого вздоха... Замри, что называется... Перед нами не ребята-пионеры, а неизвестные лица...
Ивлев ящерицей метнулся к сержанту:
— Одно лицо мне очень знакомо, товарищ сер-
жант. Видите вон белоголового, в синих трусиках? Вот на колено он привстал?..
— Отлично вижу...
— Это Ивлев-младший... Братишка мой. Вот встреча-то!
— Да... Чудеса... — сказал сержант и сразу же посмотрел на ефрейтора.
Тот старался подавить улыбку.
— А ведь мы, товарищ сержант, плотик-то у них можем одолжить, — прошептал подползший Соси-патров.
Сержант приложил палец к губам. Плот причалил к берегу. Первой на берег выпрыгнула девочка. Проворными глазёнками она обшарила все кусты и, крадучись, пошла вверх по откосу. Остальные остались ждать на плоту. Через несколько минут сверху донёсся довольно сильно очеловеченный крик кукушки, три раза по три «ку-ку». Тогда с плота соскочило ещё двое ребят, и они смело направились в сторону «кукушки».
— Я же говорил, говорил, что их здесь не будет... У них никакого флота нет! — начал доказывать один.
Второй одёрнул его:
— Да тише ты, разведчик... Ты бы ещё песню запел...
— Они могут переправиться или по плотине, или пойдут через верхний мост. А сюда они не подумают сунуться, — горячился первый.
— Переправиться не могут, а дозоры выставить могут. Ты думаешь, только мы умники, взяли и посадили ребят с удочками...
Сержант посмотрел на Ивлева и повёл бровями — видал, дескать, какой народ смекалистый...
Трое ребят-разведчиков ушли, а четвёртый, братишка Ивлева, остался сторожить плот. Он только на минутку сошёл на берег и вырезал себе ореховый прут. Прут ему нужен был для маскировки. Он привязал к нему нитку, к нитке прикрепил поплавок и забросил «удочку», как заправский рыболов.
Синельников посмотрел на часы и нахмурился. Скоро им надо было быть на месте и передать первое донесение в штаб, а они всё ещё сидели перед водной преградой. В довершение всего к сержанту подполз солдат и передал записку от радиста. В записке было всего два слова: «Нас иш,ут».
Сержант подумал, положил листок на спину Ивле-ва и написал: «Форсируем водную преграду. На месте будем своевременно».
Слегка раздвинув ветви орешника, Ивлев внимательно рассматривал братишку. За два года Серёжка изрядно вырос, вернее, раздался в плечах. (Ивлевы не отличались высоким ростом.) По расчётам старшего брата, младший был в лагере не больше недели, но за это время он успел крепко загореть и даже разорвал новую матроску на спине. Разорвал и зашил собственными руками. В том, что зашивал он сам, сомневаться не приходилось — видно было по работе.
— А как твой братишка, с характером? Стоит с ним пускаться в дипломатические переговоры? — спросил неожиданно сержант.
Говорят, что характером мы сходны... — ответил, улыбаясь, ефрейтор.
— Упрямый, значит, — уточнил Синельников. — Рискованно, стало быть, но другого выхода у нас пока нет. Надо уговорить его переправить нас на ту сторону... Но сам знаешь, как ребятам трудно бывает удержать что-нибудь в секрете. Постарайся, чтобы он не догадался, кто мы...
— Догадается... Тем более мы с рацией...
— Этого он не увидит. Идите...
Ивлев поднялся, обошёл кустарник и спустился к берегу. Братишка ничего не слышал и вскочил на ноги, когда старший сказал громко:
— Здравствуй, рыбачок!
Мальчик испуганно уставился на ефрейтора и долго не мог узнать его, потом глаза его округлились, рот растянулся в радостной улыбке. Взмахнув руками,
Серёжка перелетел с плота на берег и бросился к брату.
— Костик! Костик! — выкрикивал он, не в силах больше ничего выговорить.
— Ну, я, я... Только чего же ты кричишь на весь лес? Хочешь, чтобы сюда со всех лагерей сбежались?
Серёжка сразу притих и даже зажал себе ладошкой рот.
— Ой, Костик, да откуда ты здесь взялся? Да ты уже ефрейтор... О-о-о! — шептал он.
— А как же ты думал? Служу... Скоро генералом буду... А ты рыбалишь?
— Нет... — сказал Серёжка и сразу же осекся. — Так, балуюсь. Тут ещё и рыбы-то настояш,ей не развелось. Всего два года, как плотину построили... Постой, а как ты сюда попал?
— Совершенно, брат, случайно. Мы с товариш,ами гуляли тут по лесу... Увольнение получили на день.
— Гуляли? — переспросил Серёжка и откровенно фыркнул в кулак. — С автоматами?..
— Чего ты, собственно, смеёшься? — спросил старший, немного раздосадованный тем, что младший так быстро его разоблачил. — Я же не спрашиваю, почему ты ловишь рыбу без крючка и без наживки, но спрашиваю: куда пошли трое ваших ребят?
Серёжка сразу перестал смеяться, посуровел, но ненадолго. Через минуту в глазах у него снова светилось жадное любопытство.
— Всё высмотрели!.. А где же твои товарищ,и? Гуляют?..
— Давай-ка, Серёжка, поговорим без лишних вопросов. По-деловому. Ты мне лучше вот что скажи: сможешь ты нас на ту сторону переправить на своём дредноуте?
— А сколько вас?
— Опять вопросы?
— Ну, а как же? Если двое вас, так плот не потонет, а если больше, так не смогу...
— Да мы сами на плот и не полезем. Нам на нём только снаряжение переправить...
Серёжка сделал вид, что глубоко задумалсяг ему хотелось как можно больше выведать от брата.
— А много снаряжения-то? И пулемёты есть?
— Ты не мудри, Серёжка... Некогда нам.
— А если бы мы не приехали сюда, если бы плота не было, тогда как?
— Тогда нашли бы что-нибудь другое. Что же, ты думаешь, для русского солдата река — великая преграда?.. Взрослый ведь уже, сам понимать должен.
Серёжка действительно всё отлично понимал и даже то, что брат разговаривает с ним немного заискивающе, что от него сейчас многое зависит. Но ему, раз уж выпало на долю такое необыкновенное, хотелось немного побольше поважничать.
— Ладно, товарищ ефрейтор, давай поговорим по-деловому. Вот и ты, и я... Оба мы выполняем задание... На посту, значит. Так ты мне скажи: ты сможешь сейчас пойти со мной в одно место?
— Конечно, нет... Но чего ты сравниваешь меня и себя? Вы играете в войну...
— Нет, не играем...
— Воюете по-настоящему?
— Нет.
— Так что же вы тут делаете?
— Этого я тебе сказать не могу...
— Военная тайна?
— Не военная, но тайна... Лагерная тайна. Игра у нас такая новая есть... Она не военная, но с разведкой. И в разведку посылаются у нас самые ловкие, самые смелые...
— Хвалишься?
— А что мне хвалиться? Приходи к нам в лагерь, и тебе старший вожатый по старой дружбе всё расскажет, — сказал Серёжка.
— Хорошо, хорошо... — поспешно согласился Ко-
стик. — Верю, что ты самый смелый, самый ловкий... Вот ты прояви свою ловкость: переправь нас в кратчайший срок и чтобы никто об этом ни-ни..,
— Да ведь я же на посту, понимаешь: на по-сту...
— Понимаем, — громко сказал незаметно подошедший сержант. — Всё понимаем, товариш Ивлев. Но только мы тебя и не собираемся снимать с поста. Тебе приказано быть на корабле и никуда с него не отлучаться. Отлично. Ты никуда и не будешь отлучаться... Но командир корабля может переменить место стоянки или сделать манёвр? Может, и потом вот что учти: у вас игра, а у нас государственное дело. Учёба. Боевая подготовка,,. Понятно?
Серёжка ответил коротко и решительно:
— Грузитесь...
Переправа заняла ровно десять минут. В бухточке солдаты сняли с плота всё снаряжение и в минуту оделись. Ивлев начал торопливо прош,аться с братишкой, наказывал передавать домашним приветы. Не забыл спросить про отметки.
Серёжка тоже торопился.
— Всё в порядке, Костик. За меня не беспокойся...
— Ну и ты за меня тоже не беспокойся. У меня с учёбой тоже всё в порядке...
Капитан вскочил на свой «дредноут», солдаты оттолкнули плот от берега.
— Спасибо, товарищ Ивлев, — поблагодарил Серёжку сержант. — А на прощание давай всё же вот о чём договоримся: ты нас не видел, а мы тебя... Есть?
— Есть! — ответил капитан. — Только скажите мне, какой вы стороны — красной или синей?
— А ты как думаешь? — спросил сержант и хитро прищурил глаза.
— Красной, наверное.,.
— Ну вот, а спрашиваешь... До свидания!
— Счастливой... — Серёжа хотел сказать «разведки», но передумал и сказал: — прогулки...
Солдаты посмотрели ему вслед, и каждый тепло
улыбнулся, вспоминая своё не так уж давно прошедшее детство. Сержант подал команду, и разведчики бесшумно скрылись в зарослях молодого березняка.
ТРАГИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
Бывает так — вспомнишь о каком-нибудь случае, порой трагическом, и сам смеёшься, и слушателей смеяться заставишь.
— Теперь это выглядит смешно, а тогда впору было белугой реветь, — говорит рассказчик, не переставая смеяться, и начинает пересказывать с новыми подробностями самые трагические эпизоды происшествия.
В таком именно духе и начал нам рассказывать Юрий Александрович о своих недавних злоключениях, пока его супруга Екатерина Григорьевна раскладывала по нашим тарелкам подрумяненные котлеты из свежей щуки.
— Сейчас вы будете смеяться, когда услышите, как мне достались вот эти самые котлеты, заливное, уха, а попробовали бы вы её, треклятую, в пуд весом таш,ить на горбу почти десять километров по сильно пересечённой местности... Да к этому пуду прибавьте ещё пуд, если не больше, на продукты, палатку, посуду, снасти и всё прочее...
Вы знаете, что мы с ним вот, — Юрий Александрович ткнул вилкой в мою сторону, — обзавелись лодкой с подвесным мотором, смастерили палатку, накупили чайников, котелков, деревянных ложек... Всё это хранится в Тарусе. Удобно, знаете: три часа езды — и ты уже на реке, в лодке, а через час — в палатке. Мы уже наслаждались с ним бивуачной жизнью, и вдвоём путешествовали, и с жёнами. Даже трёх собак с собой брали. И всё обходилось более или менее благополучно. А на этот раз благодаря ему, — Юрий Алек-
сандрович снова попытался поддеть меня на вилку, — пришлось мне ехать одному... Не терпелось...
Прибыл в Тарусу, снарядил лодку, всего какой-ни-будь час заводил мотор, и часов в десять утра я уже хлестал Оку леской вдоль и поперёк в надежде, что утренний клёв ещё не кончился. Но часам к трём я понял наконец, что клёв окончился уже давно, может быть, ещё вчера или позавчера. Обычно, все вы это отлично знаете, клёв обязательно кончается накануне вашего приезда. Об этом вы немедленно узнаёте от местных рыбаков: «Вчера дуром брали, а сегодня как отрезало!»
Я решил, что менять заново все свои блёсны нет смысла, что лучше пока устроить бивуак, поесть, малость отдохнуть, а потом попробовать половить в проводку мелочь: «Чего-нибудь на уху надёргаю же!» Отцепил я последнюю блесну, бросил её в рюкзак, вытащил лодку побольше на берег и поднялся на поляну, на которой мы всегда ставим палатку.
И вовремя поднялся: не успел я как следует закрепить оттяжки палатки, как полил такой хороший дождик, что, не будь крыши над головой, промок бы в минуту до нитки...
Перестал дождь только часам к пяти. Спустился я к берегу, наладил проводку и стал ловить. И ничего, знаете ли, поклёвывает. Не считая пескарей и ершей, «бутербродами» из мотыля с опарышем стали интересоваться и голавлики, и плотва. Поймал трёх приличных подустов граммов по триста, потом подошла крупная густера, а за ней и подлещик граммов на восемьсот пожаловал.
Настроение у меня поднялось. Холодновато, правда, было после дождя, но в корзине, пригружённой камнями до половины, плескалась рыбёшка, небо очистилось, ветерок стал утихать... Жить можно!
Я так увлёкся проводкой, что и не заметил пассажирского катера. Последним рейсом он шёл из Алексина на Серпухов. Видать, капитан «Москвича» торопился домой: он лихо провёл свой катер у самого берега, с которого я рыбачил.
Было уже поздно что-либо предпринять, когда я заметил опасность, грозившую мне. Первая же волна, поднятая катером, смыла корзину с рыбой и всё моё. хорошее настроение, хотя меня она окатила всего только до пояса. Бросил я удочки, погрозил вслед катеру кулаком и кинулся спасать корзину. Поймал её, но э ней уже не было ни подлещика, ни густерок, ни подустов, ни даже пескарей, которыми я думал наживить ночные донки.
Плюнул с досады и стал выливать из сапог воду. И как-то случайно взглянул в сторону лодки, взглянул — и вскочил, точно меня током ударило: лодчонка моя с «Чайкой» на корме покачивалась на воде уже метрах в десяти от берега и держала курс на самый фарватер, на быстрину...
Что тут было делать? Но тут как будто кто мне на ухо шепнул: «Спиннинг!.. Всё спасение в нём. Надо постараться зацепить беглянку тройником!»
Как белка, метнулся я на стоянку, схватил рюкзак и удильник, скатился вниз, запустил руку в рюкзак и заорал на всю Оку: на тройник напоролся.
Я там же, на берегу, дал страшную клятву: «Н и при каких обстоятельствах не бросать блёсен в рюкзак как попало!»
Всё, что только может цепляться на крючки, подцепилось. Наконец удалось извлечь из рюкзака блесну. Это была тяжёлая «лососевая», подаренная мне в Мурманске одним любителем. На неё я не поймал в наших водоёмах ещё ни одного щурёнка. Она дорога была мне только как память, но в этот момент я ей несказанно обрадовался: это было как раз то, что надо.
Поцарапанными пальцами — а пальцы были так исколоты, точно я голыми руками рвал колючую проволоку, — я сорвал с тройника полотенце, пару носков и два носовых платка. Наконец я привязал «лососевую» к леске спиннинга и побежал по берегу, чтобы
поближе было бросать. Никогда я не старался уложить блесну так точно по цели, как в этот раз. Й с первого же заброса сам себя поздравил с успехом: блесна перелетела через оба борта лодки и тяжело шлёпнулась в воду. Я начал осторожно подматывать, заранее торжествуя победу. Но... та самая блесна, которая только что умудрилась поддеть в рюкзаке полотенце, пару носков и два носовых платка, не зацепила ни за правый борт лодки,ни за середину, ни за левый. Единственно, что она сумёЛа сделать, — это стащить в воду брезентовый чехол с инструментами для мотора.
Пока я подматывал леску, лодка вышла на струю и резво понеслась вниз по течению. Я вложил все свои силёнки, всё своё уменье и забросил снова. Во-первых, я не попал, во-вторых, намотал такую «бороду», что распутывать её было при настоящих обстоятельствах совершенно бессмысленно. Решил наматывать прямо на «бороду». Да не тут-то было! Не идёт леска! «Ну вот, — подумал я, — ещё зацепа мне только не хватало в такой момент...» А «зацеп»-то вдруг как рванёт удильник из рук! И пошло. Я к себе тяну, а вот эта дурында к себе. Была «борода», а через минуту на катушке и лески почти не осталось: распутала, скаженная, «бороду»...
Тут я испытал такое, что, может статься, другой рыболов за всю жизнь не испытывал: стал желать, чтобы сошла рыба. Бывало, что из озорства раньше кричал: «Сойди! Сойди!» — если замечал, что сосед добычу тащит, а тут сам себе в голос кричать начал:
— Сойди! Отцепись, окаянная! Лодка уплывёт, что я делать буду?
Нет, не сходит, не отцепляется. Да разве с такого тройника сойдёшь? Он с добрый якорь, паянным кольцом к блесне прикреплён. Леска: ноль — восемь... На такую снасть можно не то что рыбину любых размеров вытащить, можно плот небольшой заудить, пароход местного судоходства... Дуром тащил: боялся, что вот-вот удильник у трубки лопнет, а она упёрлась — и ни с места. Я даже нож стал по карманам искать: «Тяпну, — думаю, — по леске, и вся недолга...» Да в последний момент точно меня кто за руку схватил: «Дурной! А к чему ты потом блесну привяжешь?»
А лодка вроде как игру со мной затеяла: зашла в суводь, к берегу подплывать начала. Будь свободен спиннинг — раз плюнуть до неё добросить. Два раза на десять метров ко мне подплывала, попадала снова на струю и уходила от берега, а меня точно цепью приковали. Ну просто зареветь хотелось! Что я без лодки делать буду?
А потом лодка угодила в такое место, где вода стояла как в пруду. Хлопья пены там медленно на одном месте кружились. Решил я тогда плыть. Обежал я два раза вокруг куста орешника, окружил его леской, засунул удильник в середину куста и давай раздеваться.
— Или сходи, или леску рви, как хочешь! крикнул я этому «крокодилу» и бросился в воду.
Новая беда! Сразу же забрызгал очки и, куда плыть, не вижу. Выскочил на берег, снял очки — совсем ослеп. Выходит, даром трусы намочил. Давач скорей одеваться — вода-то не комнатной температуры...
Смотрю, орешник ещё держится, ещё цепляется корнями за землю, но треплет.его как в хорошую бурю. Схватился я прямо за леску, повернулся спиной sz реке и потащил щуку волоком, по-бурлацки. Мне нечего было терять: лодка выбралась из суводи и взяла курс на Тарусу.
Уже в сумерках выволок я свою добычу на берег. Щука к тому времени даже хвостом не шевелила. Выдрать блесну у неё из глотки я уже не смог — сам тоже еле шевелился. Просто ожёг леску папиросой.
Завязал я в палатку всё имущество, запихал щуку в рюкзак и потопал вниз по матушке Оке, по бережку, где по тропочке, где прямо через кусты. Иду и проклинаю и страсть свою рыболовную, и пеньки с корнями...
А река, как назло, точно вымерла: ни лодки рыбацкой, ни моторки бакенщика. Плывёт моя лодочка по самой середине Оки: то носом ко мне повернётся, то кормой с мотором.
Когда огни Тарусы были совсем рядом и я уже не мог точно сказать, какой я в тот момент ступаю ногой, правой или левой, на помощь мне пришла стихия: с противоположного берега реки налетел такой шквал с
дождём, что через десять минут моя беглянка очутилась у моих ног!
Я хохотал на всю Калужскую. Я плясал, как в молодости. Я сбросил рюкзак, припал на колено и поцеловал торчащий из рюкзака щучий хвост.
Мне так начало везти, вероятно, за всё пережитое, что «Чайка» зарокотала, как только я к ней прикоснулся! А в Тарусе и того больше удачи привалило: меня ждала, как говорят моряки, «под парами» новенькая «Волга». И не до Серпухова, а до самой Москвы, до самой квартиры!
«ТЫ ЖЕ ОБЕЩАЛ, ЛЁНЬКА!»
Серафим ходил вдоль забора и за-V нимался последним делом — отыскивал в заборе большие и малые щели и дыры. Автор просит понимать слова «последним делом» не в смысле «плохим», а последним по счёту. Этим заканчивалось строительство ограды его владений. Он ходил по своему собственному двору вдоль нового забора и щели с дырами отыскивал на предмет их полной ликвидации. Что же тут плохого? Отыщет и мелком отметит, чтобы потом одним заходом все их ликвидировать...
А вот Лёнька, сосед Серафима слева, занимался тем же самым с другой стороны забора, но, обратите внимание, совсем с другими намерениями: он и не помышлял заниматься потом плотницкими делами. Больше того — он предпринимал некоторые действия, в результате которых одна из дыр (это была дыра на месте вывалившегося из доски сучка) стала бы значительно больше. За этим занятием он и был захвачен Серафимом.
— Это... это что такое?.. — воскликнул задохнувшийся от негодования хозяин подворья, увидав кость,
производившую в вышеупомянутой дыре враш.атель-ные движения.
Кость моментально исчезла, и Серафим, изогнувшись вопросительным знаком, заглянул на сопредельную сторону. Лёнька уже стоял на середине своего двора. В одной руке он держал своё орудие разрушения — баранью кость, остаток сегодняшнего жаркого, а из большого пальца второй руки пытался, по-видимому, высосать ответ на грозный вопрос Серафима.
— Я тебя спрашиваю: ты зачем это забор ломаешь? Шалопай... — зашипел Серафим.
Услышав знакомое слово «шалопай» (он часто слышал его от соседа, когда ещё не было этого монументального забора), Лёнька заметно успокоился. Теперь он наверное знал, что за забором находится всё тот же Серафим, похожий одновременно и на гусака и на лягушку, потому что у него была жабья морда, посаженная на гусиную шею.
— Я собачку хотел покормить... — сказал Лёнька.
— Что? Собачку покормить? Я тебе покормлю!.. Заимейте своих и кормите... А моих не сметь трогать!.. — прорычал Серафим.
Услышав такое, Лёнька мужественно заревел, то есть заревел про себя. Наружу он выпустил только бриллиантовые слёзы, а звуковое оформление зажал в груди, хотя рыдания распирали её так, что хоть обручи набивай. Но Серафим напрасно подумал, что это он так допёк Лёньку. Все остальные его слова Лёнька пропустил мимо ушей, и только два слова разбередили его: «Заимейте своих...»
Разве же знал Серафим, что Лёнька с того самого дня, как научился сознательно отличать собаку от кошки, пылал желанием иметь собственного щенка. В колясочном возрасте он вполне удовлетворялся щенком, сшитым из отходов какой-то фабрики верхнего платья, но с годами такой щенок, не выросший в собаку, но полысевший и подурневший, получил у хозяина почётную отставку: он и теперь хранился в
Лёнькином ящике под кроватью, но спать с ним в обнимку Лёнька уже не мог. Он понимал, что такую собаку пограничникам не пошлёшь. Но о живой собаке, о настояш,ем Джульбарсе, не приходилось и мечтать: мать была категорически против по разным санитарным соображениям.
Двухметровый забор сплошняком, увенчанный поверх в четыре ряда колючим проволочным заграждением, вырос раньше, чем появился на дворе у Серафима полугодовалый ш,енок-овчарка.
Однако забор не помешал, и знакомство Лёньки с Рексом состоялось. Лёнька за обедом специально отбирал косточки поменьше, чтобы они пролезали в дыру, и старался их сам особенно не обгладывать. Он бы мог просто перебрасывать кости через забор, но это было бы совсем не то; ему хотелось кормить Рекса с рук... Всё было налажено, и вот теперь на пути их дружбы стал Серафим.
Для Лёньки, ещё не познавшего мир со всеми его сложностями, ещё не умеюш,его распознавать плохих и хороших людей, сосед Серафим казался человеком странным и загадочным, не от мира сего. Впрочем, и более взрослое население этого полудачного пригородного посёлка считало Серафима и его супругу Стешу, дородную женш.ину, с такими пухлыми губами и щеками, будто она только тем и занималась, что дразнила на пасеке пчёл, людьми давно минувших дней.
Никто в посёлке не называл их по имени-отчеству или даже по фамилии. Называли просто Серафим и Сте-ша. Этого было вполне достаточно, так как разговаривать с ними никому не приходилось — они ни с кем не водили знакомства.
Соседи по голосам определяли их, когда они разговаривали в своём добровольном «концлагере». Если они слышали высокий бабий голос, то говорили, что это Серафим отчитывает Стешу. Узнать Стешу было ещё легче. По утрам, воспрянув ото сна на часок позже самого Серафима, она выходила на крыльцо и голосом, в котором было столько меди и чугуна, что он был способен заглушить голос Царь-колокола, будь тот пригоден к делу, звала своего супруга. В такие минуты соседям чудилось, что зовёт Стеша не своего земного Серафима, а Серафима небесного. Лёньке в такие минуты было страшно жалко Рекса. Собака пугалась так, что поджимала хвост к самому животу...
Серафим и Стеша перебрались в этот дом уже на Лёнькиной памяти. Раньше они только наведывались сюда из города к матери Серафима. О самой старухе сынок и невестка особой заботы не проявляли — вся забота была направлена на поддержание в хорошем состоянии родового гнезда. То вдруг привозилось кровельное железо и заново перекрывалась крыша, то доставалась краска и перекрашивались стены, менялись наличники...
— Заботливый у вас сынок... — говорили старухе.
— Беда какой заботливый... — соглашалась она усмехаясь. — Да только я тоже заботливая... Саван
сама себе сшила, чтобы сынок в одной сорочке в гроб не уложил...
Покойница трезво смотрела на вещи: хоронил её Серафим с энтузиазмом, но не по первому разряду. Глазетового гроба не было, оркестр за подводой не шёл...
И точно затем, чтобы укрыться от неодобрительных взглядов соседей, принялся Серафим сразу же по переезде возводить вокруг своей усадьбы высоченный забор с проволочной надбавкой. Отгородились супруги и от весёлой поселковой улицы, и от соседей, и от лесной зелени на задах, и от озерка, что лежало в лесу. Будь возможность, и от неба, пожалуй, отгородился бы Серафим...
— А сторожевые вышки по углам вы не собираетесь ставить? — спросил Серафима Лёнькин отец. Не очень-то было ему приятно видеть теперь постоянно из своего окна такой забор с колючей проволокой.
Прямым ответом Серафим его не удостоил, но посоветовал «переменить квартиру», если ему «вид не нравится». А он, Серафим, хочет жить «так, как хочет». До остальных ему дела нет...
И начали Серафим и Стеша жить так, как хотели, так, как давно, наверно, мечтали. Сторожевых вышек они не построили, но сторожевых собак завели. Сначала появился тот самый Рекс, к которому так тяготел Лёнька, потом привёз Серафим из города и вторую овчарку. Если Лёнька мечтал вырастить собаку и послать её на границу, то Серафим, приобретая собак, думал только об охране границ своей собственной территории. Поэтому воспитывал он своих пёсиков в духе лютой ненависти ко всему живому, так, что они даже на галок и воробьёв щерились. По той же причине кричал Серафим всякий раз на Лёньку, обнаружив на своём дворе обглоданные кости, и швырял этими обглодками в собак.
Лёньке-несмышлёнышу казалось, что соседи его оттого злятся и от людей прячутся, что никто их в по-
сёлке не любит, а мы-то люди взрослые и понимаем, что таких людей как раз за то и не любят, что они от людского глаза стараются укрыться. Тут сразу думается, что, видно, совесть у таких не чиста.
Никто в посёлке толком не знал, чем занимаются Серафим и Стеша. С девятичасовым поездом Стеша уезжала каждый день в город и возвращалась вечером. Сам Серафим, видимо, постоянной должности не имел, но зато частенько уезжал куда-то на неделю-полторы. Увидав его, шагающего с большим фанерным чемоданом на станцию, посельчане подмигивали друг другу:
— Серафим опять в «командировку» собрался...
Из «командировки» Серафим возвращался всё с тем же чемоданом, но по тому, как он легко его нёс, похоже было, что возил он его только для вида. Особенно любопытные пробовали навести справки о супругах у инспектора милиции: он-то должен знать!..
— Особых причин для беспокойства, граждане, не имеется. Она работник прилавка, он работает на разовых работах, по договорам. Документы в порядке... — отвечал участковый.
Мало-помалу в посёлке привыкли и к забору, и к зазаборным обитателям. Только при встрече с супругами, особенно с Серафимом, все старались отвернуться и не смотреть на него. Он так надменно нёс свою лягушечью голову на гусиной шее, что смотреть на него было просто неприятно. Лучше бы он и совсем не вылезал из своего «концлагеря»...
Но вскоре и эта неприятность миновала. Однажды Серафим вернулся из очередной «командировки» на собственной машине. «Москвич» был не с иголочки и шёл под управлением Серафима, как старая лошадь, которую всю жизнь кормили только одной сухой соломой. Но даже такую машину потом всем было по-человечески жаль, когда они видели, как Стеша умащивает свои чресла на заднем сиденье.
С появлением собственных средств передвижения
Серафим чаще стал отбывать в свои «командировки», чему от души был рад Лёнька. Он всё-таки перехитрил Серафима, так как сделал для себя мудрое открытие: для того чтобы без помехи дружить с соседскими овчарками, надо было иметь в заборе не большую дыру, а наоборот: чем меньше она будет, тем лучше. И он проделал её с помощью обыкновенного гвоздя.
Особенно хорошие отношения установились у Лёньки с Рексом. Этот умница немедленно отзывался на тихий призывный Лёнькин свист, подбегал к забору и становился на задние лапы. Лёнька готов кому угодно побожиться, что Рекс тоже смотрел на него одним глазком через дырочку в заборе. Второй пёс чем-то напоминал Лёньке самого Серафима. Полкан ие бросался к забору: он сидел всегда поодаль и ждал, когда полетят через забор кости, чтобы схватить на лету самую лучшую.
— Рекс... Рексюшка... — шептал Лёнька. — Хочется тебе к пограничникам?
«Хочется, Лёнька... Ой как хочется!.. Надоело мне сидеть за этим треклятым забором, — отвечал Рекс таким жалобным повизгиванием, что у чувствительного Лёньки комок подкатывал к горлу. — Мне и с тобой побегать, поиграть охота...»
— И мне тоже хочется с тобой побегать, — отвечал Лёнька. — Я бы в лес тебя водил на поводке, а в лесу, вот честное слово, снимал бы поводок... Бегай сколько хочешь. Летом бы мы ходили купаться на пруд. Я бы тебя плавать выучил, как только бы сам выучился...
И вот, по старой поговорке «Не было бы счастья, да несчастье помогло», довелось Лёньке обнять своего четвероногого друга.
В воскресенье, уже в сумерках услышал Лёнька, как Серафим поругивал свою Стешу.
— Опоздаем же... — шипел он на неё. — Билеты зазря пропадут. Три целковых, не шутка... Могла бы подешевле взять.
Успеется... — гудела в ответ Стеша, так что забор легонько вздрагивал. — Не могла же я неглаженая ехать? Я не чучела... И за билеты не ворчи — не полезу же я с лисой на галёрку! Не разоримся с трёшки... Ты лучше проверь, всё ли хорошо заперто.
— Да не учи ты учёного... Лезь уже в машину... Доездимся вот по театрам твоим, вернёмся в пустой дом... Люди-то кругом какие... — бурчал в ответ Серафим.
Наконец Стеша умостилась, Серафим вывел машину за ворота и запер их на все сорок хитроумных замков, засовов и запоров.
Надо полагать, что они ещё и до города не доехали, когда в окнах их запертого дома появился свет. Но это был не свет обыкновенной электрической лампочки, а зловещий отблеск пожара. Второпях Стеша забыла выключить утюг...
Забор загораживал окна, и пожар заметили не сразу. А когда заметили люди беду и бросились на выручку, наткнулись на почти непреодолимое препятствие — на все замки и засовы у ворот и калитки. Пришлось применить древнее орудие штурма крепостей — таран. Добыли люди откуда-то телеграфный столб и принялись разбивать им ворота. Немало ушло на это времени, а когда ворота поддались и добро-вольцы-пожарники хотели ринуться в пролом, их встретили овчарки таким свирепым лаем, что все невольно попятились.
Серафим немало потратил времени на их воспитание. Он приучил их видеть в каждом постороннем человеке личного врага, и псы стойко выполнили свой собачий долг до конца: пока не примчались пожарники на красных машинах, они не впустили во двор ни одного человека. Но и пожарникам пришлось применить один из шлангов, чтобы отогнать собак в дальний угол двора, за гараж.
Пожарники уже не могли ничего сделать. Им удалось спасти из имущества Серафима и Стеши только
большой фанерный чемодан и три мешка с чем-то очень лёгким. При ударе о землю чемодан раскрылся, и на снег вывалилось множество аккуратных бумажных кулёчков, наполненных... лавровым листом. Мешки тоже были набиты лавровым листом, но не расфасованным, а спрессованным, как сено, в квадратные тючки...
Видно, в первом же антракте вспомнила Стеша про утюг. Когда в облаках пара и дыма рухнула крыша дома, ко двору на предельной скорости подлетел «Москвич» Серафима. Народ шарахнулся в сторону, и машина с ходу врезалась радиатором в пожарный «ЗИС». Раздался дикий вопль, точно от боли заревел сам «Москвич», но тут же люди поняли, что это вопил Серафим. Он боком вывалился из машины, приподнялся на четвереньки и так, не поднимаясь на ноги, по-собачьи, продолжая выть, пополз во двор. Народ расступился.
Наткнувшись на чемодан, Серафим сел на снег, вдруг перестал кричать, как-то хитровато улыбнулся и принялся подбирать кульки и торопливо засовывать их в чемодан. У него даже отразились на лице какие-то человеческие чувства, чего никогда и никто не видел раньше. Можно было со стороны подумать, что этот чемодан хранил все самые ценные сокровиш;а в его доме. Подбирая, Серафим начал что-то бормотать, сначала невнятно, тихо, потом всё громче и громче, и, наконец, привстав на одно колено, он принялся выкрикивать:
— Есть лавровый лист!.. Пожалуйте лавровый лист!.. Настояший сухумский ароматный лавровый лист... Рупь кулёк!.. Всего один целковый... Подходите... Подходите! Хватай! Налетай!
Но на этот раз не торопились люди покупать у Серафима его «сухумский товар». Потому что, даже свихнувшись, он вызвал у них не жалость, а ещё большее отвращение. Все притихли, и даже потрясённая Стеша не могла выдавить из себя ни звука...
и вдруг в тишине раздался снова отчаянный крик. Но это кричал уже не Серафим и не Стеша — кричала Лёнькина мать: громадная мокрая овчарка, выбежав из-за гаража, в несколько скачков очутилась около её Лёньки и повалила его ударом лап в грудь на снег. Мать бросилась к сыну, но тут закричал Лёнька: — Не подходи, мама! Разорвёт... Лёнькина мать напрасно кричала: Рекс вовсе не собирался растерзывать её сына на куски. Он лизал Лёньку в обе щеки, повизгивал от полноты чувств и горячо шептал своему другу на ушко, чтобы никто не слышал:
«Ну, что же ты, Лёнька?.. Вставай, бери меня на поводок и веди куда хочешь, только подальше отсюда... Веди в лес, на пруд. Ты же обеЩал, Лёнька!..»
У МАМЫ ВЫХОДНОЙ
Чтобы прекратить всякие прения, отец сказал Димке:
— Как тебе не стыдно! У тебя есть выходной? Есть! И у меня есть. Почему же у мамы не может быть выходного? Побудь с Томкой. Это тебе домашняя нагрузка, — добавил он шёпотом.
— А я ничего не говорю... Идите в театр, если хотите, — не совсем шёпотом заявил отцу Димка. — Только скажите ей, чтобы она не ревела тут без вас...
— Займись с ней чем-нибудь, она и не будет плакать, — тихо сказала мама, надевая пальто.
Но у Томки был очень хороший слух. Она выскочила из своего уголка за диваном, увидала мать в пальто и собралась немедленно зареветь. Но папа сказал строго:
— Тихо! Что это такое? Не маленькая уже... Должна понимать. Сегодня у мамы выходной, мы уходим
с ней, дома остаётся Дима. Не реви, слушайся его, тогда он будет с тобой играть.
Пока Томка, хлопая глазами, решала, реветь ей или не реветь, родители ушли, и Димка остался с сестрёнкой один на один. В тот момент, когда в передней захлопывалась дверь, Томка окончательно пришла к выводу, что реветь надо... Димка поморщился, как от зубной боли.
— Чего же ты теперь-то орёшь, когда они уже ушли? Раньше надо было реветь... А теперь бесполезно, в театр они пошли...
Узнав, что папа с мамой ушли без неё в театр, Томка окончательно расстроилась. Она уже знала, что такое театр...
— И я... И я хочу в театр... — заголосила она.
— В Большой или Малый? — насмешливо спросил Димка.
Томка на минуту перестала реветь, прикидывая в уме, какой лучше. Решила остановиться на Большом: Большой, наверно, настоящий...
— В Большой хочу... — затянула она.
Раздался звонок. Это пришёл сосед Вовка звать
Димку во двор. В руках у него была проволочная клюшка.
— Не могу... — мрачно сказал Димка. — У мамы выходной, они с папой пошли в театр, а мне оставили вот эту домашнюю нагрузку. И что я с ней буду делать? Тебе хорошо, ты у вас один в семье...
— А чего нагрузка плачет? — поинтересовался Вовка.
— В театр ребёночку захотелось... — пояснил Димка.
— В Большой... — добавила Томка, всхлипывая.
Вовка был человеком удивительно находчивым.
— В театр? — переспросил он. — В Большой? Замечательно! Сейчас ей будет представлен Большой театр на дому...
Он моментально сбросил пальто и шапку, на гла-
зах у изумлённой публики сдёрнул со стола красную бархатную скатерть, завернулся в неё, вскочил на стул и, взъерошив волосы, запел страшным голосом:
«Не плачь, дитя! Не плачь напрасно!..»
Томка сразу притихла и попятилась в свой угол, А Вовка запел ещё страшнее:
«я тот, кого никто не любит И всё живущее клянёт...»
Ну как? — спросил он.
— Здорово, — засмеялся Димка. — У Томки даже мурашки по спине пробежали...
ещё! Ещё хочу! — закричала Томка. — А на
одной ножке ты играть умеешь?
— Это она Аистёнка видела,-
— Хо! На одной ножке... Вот невидаль!.. Я на руках умею... Алле! Гоп-ля!
Вовка стал на руки и прошёлся вверх ногами вокруг стола. Томка завизжала от удовольствия.
— А знаете что? — разошёлся Вовка. — Раз у вашей мамы выходной, а у тебя нагрузка и тебе во двор идти нельзя, давайте играть в цирк и в театр... Пускай Томка будет публика, а мы будем представлять...
— И куклы будут смотреть!.. — закричала Томка.
— И куклы... Третий звонок!.. Прошу занимать места согласно купленным билетам... Домашние нагрузки тоже надо выполнять добросовестно.
И начался театр...
объяснил Димка.
Вернулись папа с мамой в полночь из настоящего театра и попали... в домашний... Главного актёра в квартире уже не было. У дверей валялась только его проволочная клюшка. Второй актёр, с роскошными фиолетовыми усами, в маминойшляпе и в папиных охотничьих сапогах, похрапывал на диване. Рядом с ним, положив ему голову на руку, спала Томка. Она улыбалась во сне. Когда мать стала раздевать её, она на минутку проснулась.
— Мама... Почему Вовку никто не любит и все жильцы клянут? — спросила она. — А я его очень люблю, особенно когда он на руках ходит... И Димку я люблю... И Большой театр...
Что ответила ей мама, она не слышала, зато хорошо слышала, что сказал ей Кот в сапогах, настоящий кот из сказки, только почему-то папиным голосом:
— И они тебя любят... И они... Спи, доченька, теперь вы уже подросли у нас... Теперь и у мамы будет выходной...
МИТЯ и ВИТЯ ЕДУТ в ЛАГЕРЬ
Митя позвонил Мите часов в пять утра. К телефону долго никто не подходил, потом тётя Клава спросила сонным голосом:
— Кого вам?.. — и шумно вздохнула: зевнула, наверно.
— Позовите, пожалуйста, Митю... — шёпотом попросил Витя.
— Что? Говорите громче! Не слышно...
— Позовите, пожалуйста, Митю... — чуть громче попросил Витя и опасливо покосился на дверь второй комнаты.
— Это ты, Витя? — спросила тётя Клава серди-
то. — Ты что, разучился соображать? Ночь на дворе, а ему Митя понадобился!,,
— А у нас уже не ночь, тётя Клава.,. У нас уже совсем светло, солнышко уже... — начал оправдываться Витя.
— А на часы ты не мог посмотреть?
— Часы у нас во второй комнате, а там папа и мама ещё спят. Я боялся их разбудить...
— Молодец! Ах, какой молодец! Папу с мамой он будить побоялся, а меня нет... Меня можно, значит, будить?.. — совсем рассердилась Митина мама.
— Так я же не вам, тётя Клава, звонил.,. Я же Мите...
— А я вот же приду сейчас к вам и так оттаскаю тебя за уши!.. Марш в постель и не смей звонить до восьми часов! Понятно?
Витя сказал, что ему понятно, на самом же деле ему было совсем не понятно — как это люди могут спать в такой день? Ведь они сегодня с Митей в лагерь едут. В лагерь!.. Как же это так можно? На дворе день, солнышко светит, а они спят...
— Виктор! — послышался из соседней комнаты голос папы. — Если ты сейчас же не ляжешь, никаких лагерей не будет!
Вот это Вите было понятно. Раз папа говорил, что не будет, значит, не будет. С папой лучше не спорить, и Витя «громко» лёг в постель.
Пока Митя и Витя делают вид, что спят, давайте с ними познакомимся.
Они совсем не похожи друг на друга ни внешне, ни по характеру. Митя — высокий и спокойный, Витя — низенький и беспокойный. У Мити глаза серые, у Вити карие. У Мити волосы белые, у Вити ещё белее, точно ему нечаянно на голову опрокинули кринку с молоком. Живут они в одном доме, на одной лестнице, на одном этаже. Дружат с колясочного возраста, дружат так, что даже после ссор не расстаются друг с другом, а ссорятся они через каждые сорок — сорок
пять минут... Они однолетки, учатся в одном классе, сидят за одной партой. Только отметки получают врозь и разные. Например, если на двоих приходится семёрка, то четвёрку получает Митя, а всё остальное Витя...
Если они что-либо затевали, а затевали они всегда только вместе, то идея принадлежала Вите, а делать всё приходилось Мите, и, если бы Витя не мешал Мите, они могли бы наделать очень много важных и полезных дел. Давно уже существовали бы «ножные» фонари, лампочки которых, будучи при-креплёлными к носкам ботинок, освещали пешеходам путь. Кошки носили бы с благодарностью тёмные очки, в которых они так же хорошо видели бы днём, как видят ночью. Караси разыскивали бы по всему пруду крючки системы Мити и Вити, чтобы убедиться, действительно ли на них удобнее ловиться, чем на все другие...
Вот какие это были приятели.
О том, что они отправляются в лагерь, вы уже знаете. Они давно уже и очень тщательно готовились к этому дню, продумали до мелочей, что им надо было захватить с собой. Составили список, но Витин папа сказал, что навряд ли им дадут в поезде специальный вагон для такого багажа, что список придётся немного сократить — процентов на девяносто девять... Один день они потратили на сокращение списка, ещё день — на добавления... Потом опять сокращали... Потом решили поставить в списке крестики и галочки.
То, что помечено было крестиками, должен был взять Митя, что галочками — Витя...
В семь часов снова раздался звонок, но на этот раз уже в квартире Вити. Витя сразу сообразил, что это звонит Митя, и натянул на голову одеяло. Притворился, что спит. Когда папа проходил мимо кровати, он ещё и всхрапнул для большей убедительности...
— Слушаю... — сказал папа сонным голосом.
Витя затаил дыхание.
— Ладно... — сказал папа. — Виктор, ты что-то важное хотел сказать Мите?
— Конечно, важное...
— Тогда иди говори... Приятель твой на про-
воде...
— Это ты, Митя? — спросил Витя шёпотом.
— Я — А кто же ещё?.. — громко ответил Митя.
— А почему ты так громко кричишь? Ты же разбудишь тётю Клаву, — опять прошептал Витя.
— Сам разбудил, а теперь шипит...
— Так я хотел тогда с тобой шёпотом разговаривать...
— А звонок? Он тоже, по-твоему, шёпотом должен был звонить? Ну ладно... Говори, чего звонил?
Витя наморщил лоб и принялся вспоминать, что он хотел важного сказать Мите.
— Знаешь что?.. Как ты думаешь... Поезд не опоздает?
— Куда?
— На станцию...
— На какую станцию?
— На нашу... Откуда мы поедем...
— Ты умнее ничего не мог придумать? — рассердился Митя.
— Придумай сам, если ты такой умник... Я ещё хотел тебя спросить: не взять ли нам насос?
— Какой насос?
— Тот, что в сарае лежит... Футбольный...
— Какой же это насос, когда там лежит только одна трубка от насоса? — возмутился Митя.
— Ну и что же? — не сдавался Витя. — Мы при-везёМ| трубку, а кто-нибудь привезёт поршень, вот и будет у нас насос. Как только мяч спустит, так мы его насосом...
— Вот что, — строго сказал папа. — Положи-ка трубку... И нечего всем нам голову морочить...
Так Витя и не узнал, что думал Митя о насосе.
С восьми до полудня состоялось ещё не меньше десяти телефонных разговоров, шесть раз Витя лично приходил к Мите выяснять всякие важные вопросы, пять раз Митя являлся по вызову Вити. Наконец мамы не выдержали и досрочно повезли их на вокзал.
На перроне Витина мама отвела Митю в сторонку и сказала:
— Я прошу тебя, Митенька, присматривай там за Витей. Ты же знаешь, за ним не присмотри, так он одними компотами будет питаться...
В это время Митина мама говорила Вите:
— Посматривай там, Витя, за моим... Он ведь и на обед может опоздать, и на линейку... Все вещи порастеряет... Заставляй его почаще писать домой...
Перед самой посадкой в вагон Митя спросил:
— Ты грузила не забыл взять?
— Здравствуйте пожалуйста! — возмутился Витя. — Грузила должен был ты взять. Я взял поплавки...
— Да ты что? Смотри сюда. Что здесь стоит? Галочка? Галочка! Значит, ты должен был взять...
— Ничего подобного! Ничего подобного! Галочки твои. Ты должен был галочек брать! — начал кричать Витя.
— Нет, ты... Нет, ты! Всегда ты всё путаешь! Недаром твоя мама просила меня смотреть за тобой...
— Неправда! Это твоя мама просила меня с тобой нянчиться!
Спорить они продолжали и в вагоне до тех пор, пока поезд не тронулся и пока вожатый не сказал им:
— Перестаньте, ребята, спорить. Обе ваши мамы просили меня смотреть за вами. И я буду смотреть за вами в оба. А сейчас давайте-ка лучше споём вместе со всеми.
Вы, ребята, сами знаете, что всех едуших в лагеря не приходится долго уговаривать запеть весёлую песню. Песня хлынула по вагонам, вылетела в открытые окна и поплыла над полями и лесами. Пели одну песню за другой, пели, пока не доехали до своей станции,
— Слыхал, как я здорово пел? — спросил Витя. — Громче всех!
Митя только усмехнулся в ответ: он-то хорошо знал, что лучше всех пел именно он, Митя...
МИТЯ ИЩЕТ ВИТЮ, ВИТЯ ИЩЕТ МИТЮ
На первой же линейке выяснилось, что Мите с Витей иногда придётся разлучаться. Они хотели и в строю стоять рядом, но ничего из этого не получилось. Стали они на правый фланг — смеются ребята: слишком Витя мал. Стали на левый — опять смеются: слишком Митя высок. Стали в середину строя — ещё больше смех: оба не годятся.
— Так нельзя, ребята, — сказал вожатый отряда. — Дружба дружбой, а строй строем. Ты, Митя, становись на правый фланг, а ты, Витя, будешь у нас замыкающим...
«Замыкающий» сразу надул губы. Вожатому он ничего не сказал, зато Мите прошептал сердито:
— Вымахал с телеграфный столб и радуется!..
— Есть надо получше и зарядкой заниматься, тогда и ты подрастёшь, — ответил Митя.
«Окончательно и навсегда» ребята поссорились, когда стали в палате разбирать рюкзаки. Разобрали и убедились: рыбу им ловить было нельзя — лески и поплавки оба привезли, а грузила и крючки остались дома. Не привезли они и сачков, и альбомов для рисования. Всё это должен был привезти Витя, но Витя кричал, что это полагалось по списку везти Мите.
— Галочки твои! Ты должен был о них думать!
— Крестики мои... — спокойно говорил Митя. — Крестики! И я привёз, а ты, как всегда, напутал всё... Путаник ты, вот кто!
— Я — путаник? — взвизгнул Витя. — Хорошо! После этого я с тобой больше не разговариваю!
— Ох, как ты меня этим напугал! — повысил голос Митя. — Я и сам с тобой не буду разговаривать после этого...
Митя гордо поднял голову и вышел из палаты. Но уже через несколько минут он начал думать, что
напрасно погорячился. Ну что поделаешь, если друг у него такой путаник? Просто следить за ним надо... Вспомнил Митя и то, что Витина мама просила его следить за Витей. Вспомнил и пошёл искать приятеля.
— Вы не видали Витю? — спрашивал он у всех ребят. — Его мать поручила мне за ним смотреть, а он всё от меня удирает куда-то... За ним не присмотришь, так он одними компотами будет питаться... и домой явится худее скелета...
— Да он только что здесь был, — говорили ребята. — Кажется, к речке пошёл...
А Витя в это время бегал и разыскивал Митю. Он считал себя виноватым и первым хотел помириться.
— Вы Митю не видели? — спрашивал он у всех и добавлял сердито: — Ходи вот, иш,и его!.. Мне его мама поручила за ним смотреть... Ведь он может все веш,и порастерять и домой явиться в одних трусиках!
— Да он тебя ищет... К речке пошёл... — отвечали ребята.
Потом сами начали расспрашивать:
— Витя, ты Митю видел?
— Нет... Очень он мне нужен, ваш Митя!.. — бурчал Витя.
— Витя, Митю видел? — спрашивали его снова.
И он решил, что ребята его нарочно дразнят, что
это Митя их научил.
«Ах, так? Хорошо! Не буду мириться!» — разозлился Витя.
Вдобавок кто-то за душевой в кустах пропищал тоненько, по-птичьему:
— Витя, Митю видел? Витя, Митю видел?
— Ладно, ладно... Дразнитесь, дразнитесь... Вот скажу вожатому, и он покажет вам, как дразниться! — крикнул Витя,
Но в кустах сидел кто-то храбрый. Витина угроза на него не подействовала, и он опять пропишал:
— Витя, Митю видел?.. Витя, Митю видел?..
Витя решил узнать, кто его дразнит, и бросился в
кусты.
— Это кто здесь дразнится? — грозно крикнул Витя.
Никто ему не ответил, да и отвечать было некому — за кустами никого не было. Только маленькая сизая птичка сидела на ветке и чистила пёрышки. Она посмотрела на Витю круглым глазом и вдруг деловито спросила:
— Витя, Митю видел?
— Что?.. — прошептал оторопевший Витя.
— Витя, Митю видел? — повторила птичка.
— Нет... А что?.. Он здесь был?
Но птичка, наверно, не расслышала, что он ей ответил, и снова пропишала:
— Витя, Митю видел? Видел? Видел?
Витя так испугался, что бросился прочь из кустов. У душевой он нос к носу столкнулся с Митей. Они так обрадовались друг другу, что и мириться забыли.
— Ты знаешь, Мить, что? Тут у них птицы по-человеческому разговаривают... Меня сейчас спрашивала одна, видел я тебя или нет?
— Я тоже слыхал... — сказал Митя. — Маленькая такая птичка и кричит: «Митя, Витю видел?»
— Нет... Она кричит не «Митя, Витю видел», а «Витя, Митю видел»...
— Опять ты всё путаешь, Витя!.. Она совершенно ясно кричала: «Митя, Витю видел?» Я сам слышал...
— А я не слышал? Да? Глухой я, значит?..
Они, наверно, снова поссорились бы, да тут горн позвал их на обед. В лагере трудно ссориться — некогда...
МИТЯ ГОВОРИТ: «ЖЕРЕХ», ВИТЯ ГОВОРИТ: «ШЕРЕСПЁР»
егодня рыба не клевала. То ли у неё аппетита сегодня не было, то ли она в этом месте не водилась...
— Хорошо бы сделать такую трубу: опустил её в воду и посмотрел — есть здесь рыба или нет? — сказал Витя.
— Хорошо бы... — согласился Митя.
— Или бы опуститься на дно в водолазном костюме... — продолжал мечтать Витя.
— А лучше всего ловить в магазине, где продают живую рыбу, — в тон ему сказал Митя. — На серебряный крючок здорово клюёт...
Витя хотел было надуться на Митю, но не успел: ниже того места, где сидели они с удочками, всплеснула большущая рыбина.
— Видал? Щука... — прошептал Витя.
— Не щука, а жерех, — не согласился Митя. — Щука на течении не держится. Она больше по заво-динам.
Однако Витя не согласился:
— Ну, значит, шереспёр, если не щука... Жерех совсем не так бьёт, если ты хочешь знать.
Но и Митя не собирался уступить:
— Как бьют твои шереспёры, я не видал, а жерехов я ловил и даже в руках держал... Прошлым ле-
том, когда ты болел корью, дядя Костя брал меня с собой на рыбалку, и мы ловили жерехов.
— Не мог подождать, пока я поправлюсь? — возмутился Витя, но ненадолго: ему хотелось узнать про жерехов. — А как же вы их ловили?
— На тюколку...
— На какую тюколку?
— Да на такую. Один
стоит на одном берегу, другой — на противоположном. Удочки у обоих с катушками, лески связаны, на середине подвешен поводок с крючком. Надевают они на крючок жука или стрекозу и тюкают ею по воде, где жерехи бьют...
У Вити сразу глаза заблестели.
— Вот здорово! Давай и мы так попробуем...
— А катушки?
— Обойдёмся и без них. Свяжем все наши лески, и хватит протянуть через речку...
Митя согласился и принялся связывать прочными узлами лески и прилаживать поводок с крючком. Витя в это время гонялся по берегу за стрекозами. Потом он взял стрекоз и свой удильник и переправился на другую сторону речки.
— Давай начинать! — закричал он с того берега.
— Давай, — сказал Митя и тут же сам закричал:- — Как же начинать, когда ты не наживил крючка?.. Теперь переправляйся обратно и наживляй...
Пришлось Вите брести обратно, наживлять, потом снова отправляться на свой берег.
— Ты только держи удочку, а тюкать буду я, — сказал ему Митя.
— Почему это ты? Значит, ты будешь тюкать, а я только держать? Я так не ловлю. Давай пополам. Ты двадцать пять раз тюкнешь, потом я...
Митя сразу согласился и принялся за дело. Он покачивал удильником так, что стрекоза «порхала» у него над самой водой и падала на поверхность. Потом тюкать начал Витя. Тюкали они по двадцать пять раз, по пятьдесят, по сто, а рыба всё не клевала. Вите первому надоело такое бесплодное занятие.
— И никто так, наверно, не ловит... — начал он хныкать. — Ты, наверно,
сам всё это придумал. Сидели бы на месте, давно бы пескарей нало...
Витя не договорил: в том самом месте, где только что над водой порхала их стрекоза, вывернулась здоровенная рыба, и стрекоза исчезла. Сначала Витя ничего не понял. Он подумал, что это Митя балуется и вырывает у него из рук удочку, но тут снова забурлила вода...
— Отпускай! — закричал ему Митя.
— Я и так не отпускаю... — ответил Витя и изо всех сил стал тянуть леску на себя.
— Что ты делаешь? Бросай удочку в воду...
— Сам бросай! Это я тюкал, мне и тащить, — заявил Витя и так потянул, что леска лопнула у самого его удилища. Он потерял равновесие и сел на песок. — Ушла! Ушла! — закричал он.
Но рыба не ушла. Митя дал ей немного погулять и вытащил её на берег. Витя бросился бегом через реку.
— Вот это жерех! На целое кило потянет, — торжествующе сказал Митя.
— Что ты! Два кило, не меньше... Только это совсем не жерех, а самый настоящий шереспёр...
— Сам ты шереспёр! Жерех это...
— Нет, шереспёр! Ше-ре-спёр!
Они подняли такой крик, что прибежали ребята и вожатый.
— Чего вы крик подняли? Я думал, утонул кто-то, — набросился вожатый на ребят.
— Вот скажи ему, Серёжа... Он говорит, что это жерех, — кинулся к нему Витя. — А какой же это жерех, когда это самый настоящий шереспёр...
— Чудаки вы, а не рыбаки, — засмеялся вожатый, — Жерех и шереспёр — одно и то же... Только поймали вы не жереха, а самого настоящего язя. Тащите его на кухню...
— Слыхал? — сказал Витя Мите. — А ты спорил... Путаник ты...
МИТЯ ПОЁТ, ВИТЯ ПОДПЕВАЕТ
На двери столовой появилось объявление о том, что скоро в лагере Г) будет проведён праздник песни.
В празднике могли принять участие все, кто хотел и мог петь.
— Знаешь что, Митя? Давай мы тоже выступим и споём что-нибудь хором, — предложил Витя.
— Как это — хором? — не понял Митя.
— Ну что, ты не знаешь, как поют хором... Вместе, значит, вдвоём.
— Это не хором называется, а дуэтом. Хором — это когда весь отряд поёт, — пояснил Митя. — И не спорь, пожалуйста, я в этом деле разбираюсь лучше тебя. У нас есть знакомый артист, Владимир Иванович. Он в настоящем театре поёт. Между прочим, он говорит, что из меня тоже что-нибудь выйдет, что у меня и слух есть, и голос...
— Подумаешь, какая новость! И слух у него есть, и голос... А я что, глухонемой, что ли? — вдруг обиделся Витя. — Да если ты хочешь знать, я слышу, как пиш,ит комар на той стороне речки... А голос у меня такой, что, если я сейчас закричу, сюда весь лагерь сбежится...
— Я тебе совсем не про такой слух и не про такой голос говорю, — засмеялся Митя. — Кричать каждый может, а петь не каждый... Ты вот, например, рисовать умеешь, а до-ре-ми-фа-соль тебе ни за что не спеть.
— А хочешь — спою!: — начал петушиться Витя. — Возьму вот и спою... И туда спою, и обратно...
— Попробуй!.. — подзадорил Митя.
Витя шумно втянул в себя целый кубометр воздуха и запел:
— До, ре, ми, ля, соль, фа, соль... Слыхал? Это я только вверх пел, а сейчас буду вниз...
— Не надо... — остановил его Митя. Он так смор-
щился от Витиного пения, точно выпил стакан уксуса. — Знаешь, как ты поёшь? Как радиоприёмник, когда его настраивают... Если мы так вот запоём на празднике, так я даже не знаю, что будет... Ведь надо так петь, чтобы ноты поднимались, как по лесенке, на каждой ступеньке по ноте... А у тебя все они или на одном месте топчутся, или сразу через три ступеньки скачут.
— Ну и что же, что скачут? Так быстрее. Я всегда вверх через три ступеньки перескакиваю, а вниз по перилам съезжаю, — заявил Витя.
— Хорошенькая у нас получится песня, если я буду со ступеньки на ступеньку петь, а ты прыгать через три да на перилах спускаться...
Витя приуныл.
— Так теперь что ж? Вы, значит, петь будете, а я молчи? Мне, значит, и рот нельзя открыть?
В голосе его было столько обиды, что Мите стало его жалко.
— Ладно... Может, научишься еш.ё... Пойдём попробуем, — сказал он.
Для спевок они выбрали берёзовую рощу у реки, подальше от лагеря. По дороге решили разучить песенку о весёлом рыболове.
Первые два часа не принесли никаких результатов, если не считать того, что Витя от чрезмерного старания совершенно охрип. Если раньше он пел, как приёмник при настройке, то теперь шипел, как патефон с тупой иголкой...
— Вот что, — сказал Митя, — тебе надо сначала распеться.
— А как? — просипел Витя.
— Наш Владимир Иванович, когда у него садится голос, поёт всё время одно только слово «химия»... Попробуй и ты...
Два дня ходил Витя по лагерю и неожиданно для всех выкрикивал вдруг: «Химия!» Скоро он совсем остался без голоса.
— Может, ты перепутал? Может, физику надо петь или ботанику? — спрашивал он у Мити.
— Ничего я не перепутал... Поют «химия» потому, что в этом слове два «и» и «я» на конце. А их легче всего петь...
Случайно узнал про беду ребят вожатый отряда.
— Чудаки вы! — сказал он. — Надо было сразу мне сказать, и не пришлось бы вам сипеть... Ладно, сделаем так, что вы оба будете петь на нашем празднике.
И всё получилось как нельзя лучше.
— Песенка «Весёлый рыболов», — объявил ведущий. — Исполняют известные певцы Витя и Митя!
Первым на сцену вышел Витя с удочкой на плече. Он уселся на краю сцены, как на бережку, и забросил удочку в зрительный зал. Для такой ловли не понадобились ни грузила, ни крючки. Потом вышел Митя и запел песенку. Витя молчал и только в том месте, где весёлому рыболову полагается петь: «Тра-ля-ля... Тра-ля-ля...» — он смело открывал рот и пел во весь голос. Но, так как голоса его не было слышно, никто и не замечал, что поёт он через три ступеньки на четвёртую и сверху вниз спускается по перилам.
Песенка всем понравилась, все смеялись над весёлым рыболовом и заставили Митю и Витю повторить свой номер.
УМЕЛЫЕ РУКИ
Не успел Митя утром одеться и умыться, как раздался телефонный звонок.
— Не иначе как твой дружок спозаранку трезвонит... — сказала
мама, — Опять что-нибудь такое
придумал, что и на голову не наденешь...
— Это ты, Мить? — послышалось в трубке.
— Я...
— А это я, Витя... Мить, у тебя умелые руки?
— Как это — умелые? — не понял Митя.
— Ну, делать ты что-нибудь умеешь? Строгать там или пилить.
— А то ты не знаешь! Немножко умею, а что? Опять что-нибудь придумал и хочешь, чтобы я сделал? — усмехнулся Митя.
— А я теперь и сам всё могу делать. И тебя, если захочешь, тоже научу... — кричал Витя в телефонную трубку.
— Ну вот, понесло!.. Ох, и любишь ты хвастать! — перебил дружка Митя.
— Я хвастаю? А вот приходи скорее к нам, и я тебе покажу, что я умею делать... Только прихвати с собой свою копилку! — кричал Витя.
— Да ты что, за деньги собираешься показывать? — возмутился Митя.
Но оказалось, что деньги нужны были для общего дела — на приобретение инструментов. Всякому понятно, что даже при самых умелых руках без инструментов ничего путного не смастеришь.
Витя уже опустошил свою копилку — глиняного бульдога с перевязанной щекой — и добыл из неё при помощи столового ножа рубль семьдесят пять копеек в серебре и меди.
Встречая Митю, Витя показал ему книгу, под названием «Умелые руки».
— Это мне один папин знакомый подарил. Я её почти всю прочёл и теперь что хочешь в два счёта могу сделать... — захлёбываясь, говорил Витя. — А потом, когда чего-нибудь дома сделаем, мы и в школе организуем кружок «Умелые руки». Я буду старостой, а ты будешь инструменты выдавать...
— Там видно будет... — пробасил Митя и стал с помощью столового ножа добывать из своего козла-копилки гривенники, двугривенные, пятиалтынные. Он был бережливее Вити, у него только двугривенных набралось больше чем на два рубля. Всего перво-зачинатели кружка «Умелые руки» собрали три рубля девяносто пять копеек и помчались в магазин, в котором продаются всевозможные инструменты.
Разных инструментов в магазине было полным-полно. Рубанки и ножовки, стамески и плоскогубцы, кисти и молотки, топоры и клещи... Инструменты лежали под стеклом на витрине, грудились на полках, висели по стенам на специальных щитах. У ребят глаза разбежались. Может быть, поэтому они и купили, что поближе лежало — коловорот с набором свёрл.
— Рубанок надо было купить... — ворчал потом Митя, подходя к дому. — Рубанком строгать можно, а что будем коловоротом делать?
— Как — что!.. Дырки будем делать, — не унывал Витя. — Дырки, знаешь, тоже интересно делать... Давай вот попробуем просверлить одну в нашем заборе.
— Зачем? — удивился Митя.
— Во двор будем через неё смотреть...
— Во двор можно и через ворота смотреть, — проворчал Митя. Но ему и самому не терпелось попробовать коловорот, и он распаковал покупку.
— Чур, я первый буду сверлить! — крикнул будущий староста кружка «Умелые руки».
— Ладно, — согласился Митя и протянул Вите сначала коловорот, а потом сверло. — Вставляй вот и сверли. Только скорее, мне тоже хочется.
Но вставить сверло в патрон оказалось не так-то просто, сверло почему-то не хотело вставляться.
— Куда же ты смотрел, когда покупал? — набросился на Митю Витя. — Тут же совсем никакого отверстия нет. Куда же тут вставлять-то сверло?
— А сам ты куда смотрел? — надулся Митя. — Я вовсе рубанок хотел купить, а ты коловорот выбрал... Теперь куда хочешь, туда и вставляй...
Но всё же Митя взял коловорот в руки и стал его изучать со всех сторон. Не прошло и минуты, как он понял, в чём секрет.
— Эх ты, мастер-ломастер!.. — засмеялся он. — Смотри вот, повертишь патрон в ту сторону, и вот тебе гнездо раскрылось. Вставляй сверло... Так. А теперь верти в другую сторону... Ну, держится? А ты такой чепухи понять не мог.
— Подумаешь!.. — протянул Витя. — Я бы и сам догадался, так ты же скорее давай из рук вырывать, вертеть... Зато я дырку сейчас как огнём прожгу... Смотри!..
Витя приставил сверло к доске забора, упёрся грудью в головку инструмента и начал вертеть. Но сверло только скользило по доске и никакой дыры «прожигать» не желало.
— Ну вот... Опять не посмотрели и накупили тупых свёрл! — сказал Витя.
— При чём тут свёрла? Сам ты тупой... Ты же-в другую сторону крутишь, — опять засмеялся Митя. — Дай-ка я просверлю сначала.
в руках у Мити коловорот сделал своё дело — сверло с мягким хрустом вошло в доску и через минуту вышло с другой стороны. Дыра получилась круглая, аккуратная. Витя хотел сразу же заглянуть в неё, но она была так высоко, что он и на цыпочках не достал. Тогда он схватил коловорот, примерился по своему росту и стал вертеть... Коловорот и в его руках сделал своё дело, и у него дыра получилась круглая и аккуратная. Глянули они каждый в свою
дырку, да так и замерли от восторга: собственный двор показался им сказочно красивым.
— Как в кино... — прошептал Витя.
— Ага... — согласился Митя.
— А ты не верил, что дырки делать интересно! Ты мне всегда верь, я знаю, что надо делать... А рубак-ком что бы мы делали? Им дырку не просверлишь... — расхвастался Витя, точно он сотворил невесть что. — Я сейчас возьму и просверлю себе рядом ещё одну и буду смотреть, как в бинокль...
— А я что? Я тоже ещё просверлю... — сказал Митя.
Смотреть через две дыры на то, что делается во дворе, было ещё интереснее. Беда была только в том, что во дворе в это время ничего не делалось. Прямо обидно было: то всегда что-нибудь да увидишь — или грузовик уголь привезёт, или точильщик ходит под окнами и кричит: «Точить ножи-ножницы!» — или ещё там что, — а тут двор как вымер, даже никого из малышей не видно было.
— Хоть бы кто ведро на помойку вынес!.. — вздох-нул Витя.
— Да... — согласился Митя. — Или хоть бы какая-нибудь собака за кошкой погналась... И то интересно было бы...
Тут Вите пришла в голову идея:
— Знаешь что? Я буду смотреть, а ты беги во двор и чего-нибудь там делай... Ну, попляши там или на руках походи... Я потом тебе расскажу, интересно было или нет.
— Ишь придумал!.. — обиделся Митя. — Что я тебе, клоун, чтобы на руках ходить? Сам пойди и ходи, а я буду смотреть.
— Нет, ты иди... Потому что я первый так придумал... — настаивал Витя. — А то я и придумывай, я же и на руках ходи. Хитрый какой!..
Тут они непременно должны были поссориться, но этому помешал Серёжка из седьмой квартиры. Ребята с ним почти никогда не водились, потому что это был самый отчаянный ябедник во всей школе.
— Вы чего тут делаете? — спросил он.
В другое время Витя и Митя, может быть, и не ответили бы ему, но сейчас они оба стали наперебой доказывать, да так, чтобы Серёжка их рассудил — кому из них следует смотреть в дырки, а кому ходить во дворе на руках. Но хитрый ябедник Серёжка больше заинтересовался самими дырками, чем спором.
— А ну-ка, дайте-ка я сначала сам в дырки гляну, — сказал он и хотел уже посмотреть.
Но Витя немедленно схватил его за штаны и оттащил от забора.
— Ты чего к чужим дыркам тянешься? Свои надо иметь! Пришёл на готовенькое!..
— А тебе что, жалко показать? — огрызнулся Серёжка. — Ну и не показывай! Очень надо!.. Пойду вот и скажу дяде Николаю, что вы забор портите...
Митя хотел было крикнуть: «Иди, ябеда, говори,.,» — но, вспомнив, что дядя Николай дворник и
что за дырки в заборе в самом деле может влететь, примирительно сказал:
— Ладно... Мы тебе тоже просверлим дырку, только ты сначала сходи во двор и там немножко чего-нибудь поделай... Попредставляй как в кино или как в цирке.
Серёжка взвесил предложение и сказал:
— Кабы две дырки, тогда бы я...
— Хорошо. Просверлим две... Беги во двор, — немедленно согласился Витя.
Но Серёжка побежал не сразу. Он выставил одно условие:
— Одну дырку я сам проверчу...
— Там видно будет... — сказал Митя. — Иди, пока мы согласны, а то других найдём.
Больше Серёжка условий ставить не стал и побежал «представлять». Он старался вовсю: и руками он мотал, и гримасы строил, показывал, как ходят пьяные, и ещё что-то.
Зрители, Митя с Витей, хохотали до упаду.
— Ты на четвереньках побегай!.. — кричал Митя.
— На руках походи!.. — визжал от восторга Витя.
Серёжка старался вовсю. Он честно старался, зарабатывая две дырки в заборе, одну из которых он думал провертеть сам. Если раньше во дворе было пусто, то теперь и грузовик приехал, и тётенька ведро вынесла на помойку, малыши высыпали из всех дверей. Все останавливались и с недоумением смотрели на Серёжку — что это с парнем делается, чего это он один посреди двора на четвереньках ползает? Все смотрели на Серёжку, а он так вошёл в роль, что уже ничего не замечал.
Тут кто-то сбегал за Серёжкиной матерью, и она, бросив на кухне всё печёное и варёное, выбежала во двор.
— Серёженька! Мальчик мой! Что с тобою? — крикнула она. — Тебя что, бешеная собака укусила?
Серёжка сразу очнулся, увидел, что все на него
смотрят, и бросился со двора. Мать кинулась за ним, за ней малыши...
— Бежим! — крикнул Витя.
Но тут кто-то крепко схватил его за руку. Витя так и обмер с перепугу: перед ним стоял дворник дядя Николай. Другой рукой он крепко держал Митю.
— Граждане! Что же это такое? Весь забор издырявили! — сказал он страшным басом, хотя ещё никаких граждан не было, они ещё бежали по двору вслед за Серёжкой.
— Пустите!.. — пропищал Витя.
— Мы больше не будем!.. — прошептал Митя.
— Нет уж... Знаю я вашего брата! — сказал дядя Николай. — Идёмте к родителям...
Он провёл ребят мимо застывших зрителей, так что Витя с Митей так и не узнали, чем кончилось представление и поймала ли Серёжкина мать своего «ненормального» Серёжку или он сбежал от стыда за тридевять кварталов.
У Вити никого дома не было, и дядя Николай отпустил его, предварительно высказавшись в том смысле, что умный человек и с метлой, к примеру, может пользу приносить, а другой и с машиной только вред принесёт. Вечером дядя Николай обещал ещё заглянуть. Митина мама, выслушав дядю Николая, немедленно усадила Митю за уроки до прихода с работы отца.
Примерно через час Витя позвонил Мите:
— Митя! Ты чего делаешь?
— Уроки... — уныло ответил Митя. — А ты что?
— А я работаю...
— Работаешь? А что ты делаешь?
— Дырки в стульях... Мы купили новые стулья, но они все без дырок. Вот я их и переделываю.
— А зачем в стульях нужны дырки? — удивился Митя.
— Не знаю... Но ведь бывают же стулья с дырками. Вон у нас на кухне такой стоит. Я делаю посреди-
,не одну большую дырку, а по краям маленькие. Очень красиво получается... Три стула я уже переделал, остаётся ещё четыре... Потом буду вертеть дырки в дверях...
— А в дверях зачем? — ещё больше удивился Митя.
— Для вентиляции... Как в ванной. У нас, знаешь, без таких дырочек очень душно бывает... Чего ты хихикаешь в трубку?
— Да потому что подумал: что тебе за стулья твоя мама скажет? — засмеялся Митя.
— Скажет, что я молодец! Что у меня умелые руки... Ну, мне некогда с тобой лясы точить, мне работать надо, — сказал Витя усталым голосом и повесил трубку.
Он больше не звонил до самого вечера. Митя ке выдержал и сам позвонил. К телефону подошла Ви-тина мама.
— Позовите, пожалуйста, Витю, — попросил Митя.
— Он не может подойти, — сердито сказала Ви-тина мама.
— А он что, работает?
— Нет, уже не работает... Он стоит уткнувшись носом в угол и думает, что бы ему ещё в доме испортить, кроме стульев, дверей и моих туфель...
— Он и в туфлях дырки вертел? — ахнул Митя.
— Да. Он сделал из них красивые босоножки и уверяет, что они мне будут очень идти... Из отцовских ботинок он успел пока сделать только левую сандалету, правую они будут делать вместе... Ну, всё?
— Всё... — тихо сказал Митя, вспомнив, что и ему предстоит разговор с отцом.
— Ну, если понятно, то вешай трубку. Тут зачем-то пришёл дядя Николай. Может быть, вы и у него что-нибудь переделали своими «умелыми руками»?
Митя ничего не ответил и торопливо повесил трубку.
ТРИНАДЦАТЫЙ ЛИШНИЙ
Сегодня я получил письмо из Заполярья, — как бы между прочим, сказал Мите Витя по дороге в школу. — Ты не знаешь, у меня в Мурманске живут два двоюродных брата и троюродная сестра.
— Интересно, почему это Нюрка стала тебе вдруг троюродной сестрой, если она родная сестра Вовки и Сашки? — засмеялся Митя.
— Братьев двое — значит, они двоюродные... А Нюрка третья, значит... Ну, да это неважно. Важно, что они мне пишут. Читай!
В письме троюродная Нюрка сообщала о том, что они организовали в своём дворе что-то вроде краткосрочного детского сада. Теперь мамы, если им надо было куда-нибудь отлучиться, могли оставить своих маленьких на детской площадке или в красном уголке на попечение дежурных ребят.
— Ты думаешь, у нас нельзя поднять такое движение? Сколько угодно! Только скажи нашим мамашам — сотню малышей приволокут, — принялся фантазировать Витя.
Сотню не сотню, а когда Митя и Витя объявили мамашам о своём намерении, они с великим удовольствием поддержали их движение тем, что привели на детскую площадку целую дюжину ребятишек.
— Хорошо бы и девочек, особенно старшеклассниц, привлечь к этому делу, — пожелали мамаши.
— На готовенькое прибегут и девочки. Важно начать! Но вы не беспокойтесь за маленьких, справимся! Не с такими справлялись, — успокоил мамаш Витя.
После такого заверения мамаши со спокойной душой ушли по своим делам, а зачинатели движения приступили к делу.
— Дети! Сейчас мы для вас слепим снежную бабу, — заявили они своим воспитанникам.
— Мы тоже слепим для вас бабу! — ответили малыши хором, как в хорошем коллективе самодеятельности. — Наша баба будет красивее вашей!
— Ха-ха-ха! — ответил на это воспитатель Витя. — Цыплят по осени считают!.. Помните только, что снежная баба, чем она будет страшнее, тем лучше!..
Между воспитателями и воспитанниками разгорелось здоровое соревнование по лепке снежных баб. И те и другие творили с таким подъёмом, что друг на друга не обраш,али никакого внимания. Малыши скоро так вывалялись в снегу, что Митя чуть было не прилепил одного из них вместо головы к своей снежной бабе.
— Ну, чья взяла? — торжествуюш,е спросил Витя, когда пришло время «считать цыплят». — Чья баба красивее?
— Наша! — не задумываясь, ответил хор малышей. — Она же самая некрасивая, значит, самая красивая! Что нам за это будет?
Честно говоря, воспитатели, принимая во внимание условия соревнования, должны были признать себя побеждёнными: юные скульпторы сотворили такое произведение искусства, что сами на него посматривали со страхом.
— Ладно, уступим им, — примирительно сказал Митя. — Не забывай, что они совсем еш.ё малыши. Вот этот, с конопушками, ещё и говорить как следует не умеет... Премию надо было бы им дать...
— Премию? Сеучас будет им премия! — крикнул Витя и умчался домой.
Через минуту он вернулся и стал раздавать ребятишкам по одному круглому печенью и по одной ириске «Золотой ключик».
И тут случилось совершенно непредвиденное: он отдал последний кружок печенья и последний «ключик», а перед ним стоял еш.ё один малыш, желаюш.ий получить премию.
— Что случилось? Не мог принести на всех? — набросился на него Митя.
— Я принёс на всех... По счёту брал... — смутился Витя. — Ты лучше их самих пересчитай.
— А чего там считать... — начал было Митя, но тут же осекся: малышей действительно было не дюжина, а тринадцать.
— Вот это номер! Как же мы теперь узнаем, который из них лишний, и куда мы его денем? — сказал Витя, поёжившись.
— Как — куда? В милицию отведём или ты его усыновишь, — подсказал выход Митя.
— Почему это я должен его усыновлять? — опешил Витя.
— Ты первый зачинатель движения — тебе и усыновлять...
Тринадцатого лишнего удалось выявить только после того, как мамы опознали своих ребят, предварительно очистив их от снега.
Им оказался тот самый малыш, который ещё толком говорить не умел.
— Ты чей? — начали его допрашивать ребята.
— Айн и айн, — ответил малыш.
— Ясно... А где ты живёшь?
— Ома...
— Ещё яснее! А зовут тебя как?
— Ая...
— Ая? — Митя посмотрел на Витю. — Кажется, он ещё вдобавок и девчонка... Может быть, ты знаешь свою фамилию?
— Аяенго... — твёрдо ответил тринадцатый лишний и протянул руку за премией.
— Да нет у меня больше ничего! — сказал Витя и даже карман вывернул.
У Ли Аяенго глаза мигом уподобились двум родничкам, губы задрожали, наверно, в поисках подхо-дяш,их слов, он повернулся и побежал в дальний угол двора, огороженный глухим забором.
— Куда ты, мальчик! — закричал Витя.
— Подожди, девчонка! — уговаривал Митя.
А малое существо забежало за груду ящиков и... точно на небо вознеслось.
Митя и Витя чуть лбами не стукнулись о забор. Им так было жаль малыша, что они оба готовы были немедленно его усыновить...
И вдруг за забором раздались радостные крики.
— Валя! Валенька! — закричала одна женщина отчаянно-радостным голосом.
— Сидоренко! Ты почему это убегаешь без спроса? — кричала вторая облегчённо-строго.
— Это он из настоящего детсада к нам удрал, — первым пришёл в себя Митя. — Где-то в заборе есть дырка.
— Значит, ему было у нас интересней! — пришёл в себя и Витя. — Вот видишь, мы так развернёмся, что они к нам все перебегут! Завтра же надо будет подготовить ребят, для них каток залить...
— Каток? Да ты что? — рассмеялся Митя. — Ты бы ещё трамплин для них построил! Высотой с дом. И первым с него прыгнет твоя Ая!
— Не «моя», а «мой»... — огрызнулся Витя. — Он хоть и тринадцатый лишний, а парень что надо... Такого можно с закрытыми глазами усыновлять!
КРАСНЫЕ МЕЧЕНОСЦЫ
Я думаю, что нам надо заводить аквариум, — сказал как-то Витя. — Во-первых, это очень краси- во, когда в комнате стоит аквариум. Мы таких золотых рыбок разведём, что все ребята ахнут. А ещё мы с аквариумом всегда будем знать, стоит ехать на рыбалку или не стоит, будет клёв или не будет...
— А как ты узнаешь про клёв? — спросил Митя.
— Очень просто. Будем пробовать ловить в аквариуме. Если золотые будут клевать, так простые и подавно! Иди говори маме, чтобы она дала тебе денег, и поедем на Птичий рынок. Там торгуют по воскресеньям. У меня уже есть рубль...
Пока они протискивались к рыбным рядам, разные торговцы им чуть рукава не пооторвали. Голубятники уговаривали купить пару турманов, крольчатник совал им под нос толстую крольчиху, выхватив её за уши из корзины, птичник подсовывал золотистую канарейку, которая стоила дороже жар-птицы.
Трудно простыми словами описать все причуды подводных мирков, созданных руками аквариумных дел мастеров. О населении этих мирков вообще никакими словами рассказать нельзя. Волшебство! Творения искусства! Люди вывели такие фантастические породы рыб, с таким оперением и такой раскраской, что сама матушка-природа застывала перед ними в изумлении.
Но очень скоро выяснилось, что волшебство это стоит сказочных денег. У ребят хватило их только на те четыре стекла, примазанных цементом к металлическому остову, которые отгораживают подводное царство от внешнего мира. На золотых рыбок они наскребли по карманам немного мелочи, и седобородый чародей-торговец согласился продать им одну пару
красных меченосцев, рыбок величиной с полмизинца, включая и мечевидный хвост самца. В порядке премии к аквариуму он отпустил бесплатно пригоршню речного песку, стакана три слегка подогретой воды и чахлую веточку рдеста — представительницу подводной флоры.
Когда подводный уют был создан, седобородый чародей изловил в своём аквариуме крохотным марлевым сачком самку меченосца и пересадил её в аквариум ребят. А когда дошла очередь до самца, случилось целое происшествие: самец выпрыгнул из сачка, мелькнул в воздухе красной искоркой и упал на снег прямо под ноги Вите. Витя хотел было поднять его руками, но торговец заорал на него:
— Не трожь! Нельзя руками!..
Он выскочил из-за прилавка, при всём честном народе упал на четвереньки, губами поднял рыбёшку и выплюнул её в аквариум ребят.
— Завсегда губами их надо брать, — сказал он, поднимаясь. — Чтобы чешуйки не повредить. Они существа искусственные, нежные, а ты норовил его пятернёй лапнуть...
Митя не доверил Вите нести драгоценную ношу. Он сам внёс аквариум в переполненный троллейбус. Витя шёл впереди и вежливо просил всех расступиться. У самой последней остановки, на Таганке, водитель, чтобы не врезаться в автобус, так резко тормознул, что всех пассажиров швырнуло к передней двери. Сам Митя на ногах удержался, не выронил он и аквариума, но половина воды из него выплеснулась на пол, а вместе с водой вылетела и самочка меченосца.
— Стойте! Не трожьте руками! — закричал Витя, хотя никто даже не заметил этого происшествия.
Не раздумывая, Витя упал под ноги пассажирам, вытянул губы трубочкой и громко втянул в себя воздух.
— Ну, чего же ты? Выплёвывай... — поторопил
его Митя, когда он поднялся, подставляя аквариум.
Но Витя стоял перед ним онемев, глядя на него расширенными глазами.
— Да выплёвывай же! — крикнул Митя. — Она же задохнётся у тебя во рту!..
— Не могу... — выдавил наконец из себя Витя. — Она... Она, понимаешь, проглоти-лась...
И, чтобы Митя убедился в этом, Витя широко открыл рот и даже язык высунул. Действительно, самочки меченосца во рту у него не было.
— Что же теперь будет, Митя? Она ведь живая проглотилась. Она же шевелится в животе...
— О себе только думаешь... — окрысился Митя.
До самого дома Митя не сказал больше ни слова.
Даже когда Витя стал уверять его, что чувствует колики в животе, что может каждую минуту умереть, у Мити не нашлось и слова сочувствия.
Аквариум они установили на Митином столе, долили воды, набросали в воду мотылей и сухого корму. Но меченосец даже попробовать ничего не захотел.
— Конечно, не будет есть, раз ты его самку проглотил! — проворчал Митя. — Он теперь наверняка пропадёт от одиночества...
Витя взял марлевый сачок и стал им подталкивать к носу рыбёшки корм. Меченосец, думая, наверно, что его опять собираются ловить, заметался по аквариуму, и не успел Витя выхватить сачок, как меченосец вылетел из воды, упал на стол, со стола — на пол.
— Не трожь! — закричал Митя. — Я сам!..
Но Витя был уже на полу, губы его уже дотянулись до рыбёшки, он втянул в себя воздух, как исправный пылесос, и... самец-меченосец последовал за своей подругой...
Не поднимаясь с четверенек, Витя направился к двери. Он не мог посмотреть Мите в глаза.
— Я же не виноват, что они такие скользкие... Что они сами в горло проскакивают... — оправдывался он. — Других разведём... каких-нибудь шершавых...
— Да разве с тобой можно рыб разводить? С тобой только крокодилов можно разводить! — крикнул Митя. — Крокодила уж ты не проглотишь! Он сам тебя скорее проглотит!
«ОСТОРОЖНО! ВО ДВОРЕ ЗЛОЙ ПЕТУХ!»
Кажется, мир действительно тесен: поехал я посмотреть на красивей->шее озеро Селигер, что лежит чуть в стороне от дороги Москва — Ленинград, и кого бы, вы думали, встретил там? Ну конечно же, своих старых приятелей Митю и Витю. У них не обошлось без приключений и на Селигере.
В дождь, довольно поздно вечером, кто-то постучал в нашу избу. Я открыл дверь и даже растерялся: на пороге стояли мокрые до нитки Митя и Витя. Витя держал под мышкой спелёнатого полотенцем петуха с громадным оранжевым гребнем.
— Откуда вы здесь появились? — спросил я.
— Мы ту-ту-ри-сты... — ответили они в один голос.
Они так дрожали от холода, что слова раскусывали на кусочки.
— Туристы? А что вы ночью под дождём бродите? Заблудились?
— Н-не-ет... Мы не за-блу-ди-лись... Нас прог-на-ли из палаток... Из-за него прогнали... — еле выговорил Митя и показал на Витю.
— Не из-за меня, а из-за петуна... — запротестовал Витя и показал мне спелёнатого петуха.
Я хотел было дотронуться рукой до роскошного петушиного гребня. Но только я протянул руку, как петух с такой силой клюнул меня в палец, что я даже вскрикнул.
— Видели? — сказал Витя. — Всех так клюёт... За это нас и прогнали из палаток... Велели не приходить в лагерь, пока куда-нибудь его не денем... Он ещё орёт ни свет ни заря...
— Басом орёт... Целый час... — добавил Митя. — А потом целый день дерётся, шпорами царапает... Вы посмотрите, какие у него шпоры!
Митя осторожно, с опаской развернул край полотенца и высвободил правую петушиную ногу. На ноге красовалась такая чёрная шпора, что я невольно отодвинулся. Таким шпорам позавидовал бы любой кавалерист.
— Вы пальцем, пальцем попробуйте, какие они у него острые... — пожаловался Витя. — Все ноги нам порасцарапал... Налетит как скаженный, и не отобьёшься от него.
— Откуда вы его взяли, такого разбойника? стал допытываться я.
И тут выяснилась вот какая история. В школе, где учатся Митя и Витя, организовалась туристская группа для путешествия по Селигеру. Конечно, Митя с Витей не могли остаться в стороне от такого путешествия. В группе у каждого были свои обязанности. Наши герои попали в продовольственно-закупочную комиссию. Они закупили в деревнях молоко и картошку, яички и кур в ощипанном виде. Покупали и петунов (так на Селигере называют петухов). И вот
в одной деревне какая-то старушка уговорила Витю купить живого петуна. Она так его расхваливала, так дёшево отдавала, что Витя не выдержал и купил петуха в живом виде.
По счёту это был третий петух, закупленный комиссией.
— Ну что мы с ним будем делать? — спрашивал Митя по дороге в лагерь. — Не нравится он мне, какой-то подозрительный этот третий. Ты заметил, что деревенские ребята за животы хватались, когда мы несли его по деревне?
— Не знаю, чего они нашли в этом смешного... Петуна, можно сказать, на
смерть несут, а они хаханьки... А мы назло им возьмём да и не зарежем его...
Ребята-туристы встретили петуха довольно радостно; каждый старался погладить его по гребню, взять на руки. Петух позволял такие фамильярности, пока не освоился с новым положением, а затем начал проявлять характер: одного долбанул клювом в руку, да так основательно, что у того синяк появился, второму угодил в щёку так, что турист завопил от боли. Но больше всего петун третий наскакивал на Митю и Витю. Ведь им приходилось с ним возиться — на походе они тащили его на руках, на ночь он устраивался в их палатке на каком-нибудь рюкзаке и орал своим могучим голосом «ку-ка-реку». Орал с вечера, орал в полночь, орал на заре, когда особенно хочется
спать. Ребята запускали в него ботинками и тапочками, но это не помогало: петун орал и прислушивался — ответит ли ему кто из его сородичей. Не дождавшись ответа, кукарекал ещё громче.
Наконец туристы не выдержали и потребовали от Мити и Вити, чтобы петун был использован по назначению.
— В суп его! В лапшу!..
Легко было потребовать, но, когда дело дошло до исполнения приговора, из всей группы не нашлось ни одного человека, кто решился бы отрубить петуну его драчливую и крикливую голову. Не решились ребята и бросить петуна в лесу одного.
— Его же в первую ночь лиса здесь сожрёт... — заявил Витя. — Лисы знаете как петушатину любят?..
— Тогда девайте его куда хотите! — закричали ребята. — А мы его больше терпеть не желаем. Он нас всех калеками и заиками сделает.
В первой же деревне, через которую пришлось проходить туристам, Митя и Витя постарались «забыть» петуна. Радости их и всех ребят не было предела. Но радость длилась недолго: догнала их на лошади молодая колхозница, швырнула петуна им под ноги да ещё накричала на всех: оказалось, что за полчаса петун третий разогнал всех деревенских петухов, а самого боевого исколотил так, что тот лежмя лежит...
Посмеялся я над всей этой историей с петуном, уложил ребят спать, пристроил петуна на холодной печке и сам лёг. Петух, как и следовало ожидать, орал всю ночь, орал на заре. Намучился я и проснулся довольно поздно. Проснулся оттого, что кто-то стал печатать на моей пишущей машинке. Сначала я подумал, что это Митя или Витя пробуют силы, но оказалось, что силы пробовал петун третий. Он взгромоздился на стол и сосредоточенно долбал клювом по клавишам. Когда я стал его гнать, он, не раздумывая, перешёл к нападению.
— Эй, Митя, Витя! Где вы? Забирайте скорее вашего зверя и несите куда хотите!.. — закричал я, отбиваясь от петуна.
Но кричал я напрасно — ни Мити, ни Вити в избе не было. Сбежали туристы. Оставили петуна и сбежали.
Я думаю, что они нарочно это сделали: отомстили мне за то, что я про них рассказы сочиняю...
Еле уговорил я председателя колхоза принять от меня в подарок петуна третьего.
— Что вы! — говорил он. — Это же бойцовый петух. Купцы раньше такую породу выводили. Петушиные бои устраивали на потеху... А нам это ни к чему... Ежели такого петуха в хозяйстве иметь, так на воротах писать надо: «Осторожно! Во дворе злой петух!»
ПИРОГ с СЮРПРИЗОМ
Еели бы Витя, придя из школы, заявил матери, что завтра они с Митей отправляются в Африку ловить крокодилов для своего аквариума, мама, пожалуй, и не удивилась бы. Пожала бы плечами и, может быть, посоветовала бы прихватить зонтики на случай тропических ливней. Но когда Витя влетел в квартиру и, еле переводя дух, сообщил, что они должны вдвоём с Митей испечь пироги к новогоднему банкету, мать не нашла ни слов, ни жестов, чтобы выразить своё удивление.
— Можешь спросить у Мити, если не веришь! Можешь хоть завучу позвонить, — стал уверять её Витя. — Это домоводством называется! Девочки тоже чего-нибудь будут печь и стряпать для банкета, но мы, все ребята, решили утереть им нос... Костя Киреев будет печенье делать, Вовка Симуков мясо жарить. Серёжка Немчинов пончики будет в кипящем масле
варить, а Ларик Терёхин баранки гнуть... Мы с Митей дали обещание на пироги... У нас мука есть?
— Есть... — сказала мама отчаянным голосом. — Только я тебя к муке и близко не подпущу... У нас гости соберутся Новый год встречать, когда же я успею ещё раз помыть полы и убрать всю квартиру?
— Мама! Ну что ты такое говоришь? — трагически зашептал Витя. — Мы же слово дали!.. Это же позор будет на весь класс, на всю школу! Нас же девчонки забьют своими пирожными и пончиками.
В это время раздался звонок, и в квартире появились Митя и Митина мама.
— Слыхали?! — спросила Митина мама так, как будто на город обрушилась новая волна азиатского гриппа.
— Слыхала!.. — ответила Витина мама, как отвечают люди, которых уже предупредили о стихийном бедствии.
Мамы пошли на кухню, посовещались и вынесли такое решение.
— Домоводство — дело хорошее, — сказали они. — Но лучше бы вы занимались этим в школе или в чужом доме. Но, поскольку обещание дано... приготовим для вас тесто и начинку, всё остальное будете делать сами... Испечёте пироги с капустой.
— Почему с капустой? — не согласился Витя. — Мы с вязигой хотели печь!
— А ты знаешь, что такое вязига? — спросила его мама.
— Ну и что же, что не знаю... Зато название какое! Ни у кого таких пирогов не будет...
— И у нас не будет. А станешь канючить, и с капустой не будет! — решительно заявила мама и отправилась ставить тесто.
Скоро у ребят появились первые познания в области кулинарии: тесто имеет свойство подниматься-на дрожжах непостижимо быстро и нестерпимо медленно.
Через полтора-два часа оно уже было гогоио, но попробуйте пялить на него глаза эти два часа! lUi-тя начал заглядывать в кастрюлю уже через пять минут.
Тогда мама отогнала его и велела заняться каким-нибудь полезным делом.
— Ты лук почисть, а Митя наточит нож, — сказала она.
Пока Митя точил нож, Витя пролил столько слёз над двумя луковицами, сколько он, по его словам, не пролил за всё своё детство даже при самых горьких обидах. Он больше не мог смотреть на кастрюлю с тестом, но зато он ясно слышал, как тесто пыхтело, стараясь удрать из-под крышки. Но мамы вовремя вывалили его на стол, добавили муки и замесили. Скоро готова была и начинка.
Началось то самое необыкновенное и незабываемое, на что ребята до этого смотрели как на дело чисто девчоночье: мамы дали им по куску теста и предложили раскатать его в лепёшки по величине противня да ещё чтобы края свисали для «заш.ипа». Ребята схватили скалки и набросились на тесто, как бросаются борцы и боксёры на своих противников. Через минуту пот лил с них градом, но лепёшки не желали почему-то получаться правильной формы. То с одной стороны лепёшка получалась слишком толстой, а с другой тонкой, как бумага, то не получалось прямоугольника, то в середине появлялась дыра величиной с кулак...
— Вот, будете знать, как всем мамам достаётся, — смеялась Митина мама.
— А то им да и ихним папам кажется, что для нас пироги печь да картошку жарить — сплошное удовольствие!
— Ничего! Первый блин, говорят, всегда комом получается, — смеялась Витина мама.
Наконец с помош,ью мам пирог был защипан и отправлен в духовку. Витина лепёшка легла на противень, на неё ровным слоем выложили капусту, Ми-тиной лепёшкой прикрыли сверху.
— Второй делайте сами, — сказали мамы и ушли из кухни.
Ребята ещё от первого не отдышались, как пришлось браться за второй. Но теперь у них был уже опыт по домоводству, и со вторым они справились довольно быстро.
— Мама! Готово! — закричал Витя.
— Молодцы! — похвалила Митина мама. — А как
себя чувствует первый? Ого! Пора его переставить, чтобы верхняя корочка подрумянилась... Митя, дайка мне нож...
Митя бросился искать нож, но он точно сквозь пол провалился. Витя стал ему помогать, но и вдвоём они не нашли ножа.
— Он же на столе только что лежал... Мы же им тесто резали, — приговаривали ребята, заглядывая и под стол и под стулья.
— «Лежал, лежал»!.. — проворчала Витина мама. — А теперь не иначе, как в мусоропроводе лежит... Да ладно уж, хорошо, что только одним ножом отделались...
Наконец пироги были готовы, уложены на столе и прикрыты полотенцем. Но ребята всё не могли уйти из кухни: от пирогов так аппетитно пахло, что Митя с Витей не успевали глотать слюну.
— Завтра попробуете свою стряпню, домоводы, а сейчас марш по кроватям! — скомандовали мамы.
На другой день они волновались не меньше своих сыновей, когда те понесли пироги на новогодний школьный банкет.
удивилась мама.
— Позвоните, какую отметку поставят нам всем, — просили они.
В девятом часу раздался телефонный звонок.
— Пятёрку с плюсом поставили!.. — визжал и прихрюкивал Витя в трубку.
— А плюс за что? — смеялась мама.
— За сюрприз!.. — захлёбывался Витя.
— Какой ещё сюрприз?
— За ножик!.. Мы нашли его в пироге, а ты думала, что мы его в мусоропровод выбросили... В том пироге, что мы сами делали, самостоятельно... А в первом была только одна пуговица от Митиной куртки... Нам её девочки уже пришили... У них тоже всё хорошо вышло, особенно пирожное, под названием «картошка»... Я научу тебя, как его делать, записал рецепт... Надо купить двести граммов сливочного масла, лучше шоколадного, потом натолочь сухарей...
— Хорошо, хорошо... Дома расскажешь. Сейчас мне некогда, полы надо мыть, стол скоблить, твою куртку чистить. А то получилось как в пословице: «Видать, Акулина пироги пекла — все ворота в тесте».
ЖЕРТВЫ «МОЛНИИ»
Вы, наверно, заметили, что Витя питал большое пристрастие к телефону. Он готов был висеть на телефоне и днём и среди ночи, хотя звонил он всего лишь своему дружку Мите и ещё по номеру сто — узнавал время через каждые полчаса.
Чтобы поговорить с Митей, ему достаточно было открыть дверь своей квартиры и нажать кнопку на противоположной двери. Однако Витя предпочитал предупредить Митю о своём приходе по телефону.
— Это ты, Мить? — спрашивал он.
— Нет! Это кошка Мурка, — отвечал Митя.
— Тогда, Мурка, отопри мне дверь. Я иду к вам...
Но вот однажды случился совсем другой разговор-
— Слушай, Мить! — кричал Витя в трубку. — Приходи сейчас к нам... Такое тебе покажу, что ты ахнешь! Я отопру дверь.
— Чепуху небось какую-нибудь покажешь, — не поверил Митя, но всё же направился к приятелю.
Дверь оказалась отпертой, но ни в первой, ни во второй комнате, ни на кухне никого не было.
— Вить! — позвал Митя. — Ты что, спрятался? Это и есть твоя новость?
Ответа не последовало. Только в передней, как послышалось Мите, кто-то приглушённо хихикнул.
— Кончай, — проворчал Митя. — Разыгрался, как маленький...
Он хотел добавить, что уйдёт, ежели дружок не объявится, но передумал: не мог же Витя так спрятаться в квартире, что его нельзя найти.
Митя быстро заглянул под стол, подо все кровати, осмотрел ванную, даже в платяной шкаф заглянул — Вити нигде не было. Зато в тёмном уголке за шкафом Митя обнаружил целую кучу туристского снаряжения. Там лежали два туго набитых рюкзака, котелки, фляги, мотки верёвок, два ледоруба, палатки. У самой стены лежал ещё какой-то свёрток.
Забыв про Витю, Митя взял ледоруб и стал его рассматривать. Это был одновременно и молоток и кирка. Им можно было и колоть лёд, и забивать костыли.
Ледоруб был насажен на длинную рукоятку. Митя решил попробовать, высоко ли можно достать ледорубом. Попробовал достать до потолка — роста
не хватило. Тогда он решил стать на свёрток у стены. И только он поставил на него ногу, как свёрток ожил и заорал на всю квартиру.
— Ты что меня топчешь? Обрадовался, что нашёл? Обрадовался, что я не могу сдачи дать?
Митя наконец пришёл в себя и понял, что в свёртке находится его приятель.
— А я и не думал, что это ты... Как ты туда забрался? Кто тебя так упаковал?
— Никто меня не упаковывал, — ответил свёрток, поднимаясь с пола. — Это спальный туристский мешок. Я сам в него залез. Смотри, как здорово...
Верх мешка отбросился, показалась рука, наш,у-пала «язычок» «молнии», и Витя появился перед Митей с видом Колумба, только что открывшего Америку.
— Папа с товарищами был на Кавказе, — сообщил Витя. — Они там делали восхождение на разные пики... Им приходилось спать прямо на снегу в палатках и в спальных мешках. Здорово? В таком мешке, если хочешь знать, можно хоть на самом Северном полюсе спать... Хочешь попробовать?
Митя не заставил себя уговаривать. Он тут же забрался в мешок, и Витя застегнул «молнию».
— Хорошо?
— Спрашиваешь! — рассмеялся от удовольствия Митя. — А тут просторно. Мы бы и вдвоём могли спать в таком мешке.
— А что? Давай попробуем!.. Подвинься-ка...
Витя улёгся рядом с Митей и старательно застегнул «молнию». Вдвоём лежать в мешке было тесновато, но при нужде спать было можно.
— На полюсе спать вдвоём даже лучше! — сказал Витя. — Теплее...
— Наверно, — согласился Митя. — А в комнате я бы и полчаса в мешке не проспал... Жарко... Давай вылезать, а то я уже вспотел...
— Ну давай. — Витя ухватился за «язычок», дёрнул один раз, другой... Замок «молнии» не двигался.
— Ну, чего ты копаешься? Жарко же... — сказал Митя.
— Не отпирается. Попробуй ты, — ответил Витя.
Через полчаса усиленной возни с замком ребятам
стало ясно, что они попали в западню.
— И когда я только поумнею? Когда я перестану тебя слушаться? — запричитал Митя. — Я тут с ума сойду от жары... Перестань толкать меня локтями в спину... Думай лучше, что нам делать.
— К папиному столу нам нужно добраться. Там у него в ящике инструменты. Может быть, клещами открыли бы... — сказал Витя.
До стола было каких-нибудь пять-шесть шагов... Но как им было пройти это расстояние! С трудом поднялись они на ноги, но стоило им сделать первый шаг, как они снова очутились на полу.
— Так у нас ничего не получится, — сказал Витя. — Нам надо делать прыжки обоим сразу, по команде.
Они снова с великим трудом поднялись на ноги, и Витя, просчитав до трёх, сделал попытку прыгнуть и
так стукнул затылком Митю в подбородок, что тот повалился навзничь, увлекая за собой и Витю.
— Заманил в мешок, — захныкал Митя. — Так и без зубов с тобой останешься.
— А почему ты не прыгал вместе со мной, по команде? Ты думаешь, мне не досталось? У меня теперь, наверно, сотрясение мозгов будет... Пощупай затылок, там, наверно, гуля вскочила... Давай попробуем перекатываться. Перекатимся раза четыре и как раз будем у стола, — предложил Витя.
Витин папа любил повторять, что очень часто теория расходится с практикой. Сейчас ребятам пришлось в этом убедиться на пятом витке своего путешествия к столу. Стоило Вите в пятый раз перевалиться через Митю, как произошло столкновение с телефонной тумбочкой, которая находилась далеко в стороне от папиного стола.
— Стоп! — крикнул Витя. — Я придумал! Сейчас позвоним кому-нибудь по телефону, и нас выручат.
— Молодец! — похвалил Митя. — Звони скорее.
Но — удивительное дело! — сколько ни копались
ребята в памяти, ни одного полезного телефона вспомнить не могли.
— Ноль — один при пожаре надо звонить... Ноль — два — милиция... Может, позвоним ноль — три? В «скорую помощь»? А что? Мы же на самом деле нуждаемся в скорой помощи, — предложил Витя.
— Ну да... А врач сейчас же нам закатит по уколу от столбняка, — напомнил Митя, и вопрос о «скорой помощи» сразу отпал.
— Тогда в милицию... Придёт участковый, и всё будет в порядке.
— Постой! — перебил Витю Митя. — А кто откроет дверь? Набери-ка лучше сто, хоть будем знать, сколько нам ещё париться, пока кто-нибудь из ваших придёт домой.
Механические часы сообщили, что до прихода родителей оставалось не меньше четырёх часов.
— Тогда вот что, — сказал Митя. — Нам нужно сохранять силы... Я читал, что в таких случаях надо лежать совершенно неподвижно.
Сохранять силы путём полной неподвижности оказалось не так уж трудно. Когда Витина мама пришла с работы, то застала ребят действительно в совершенно неподвижном состоянии. Если бы она могла сразу же увидеть их лица, то, пожалуй, и не испугалась бы. Витя и Митя мирно похрапывали в мешке, и обоим им снилось, что они спят на полюсе. Только Вите снился Северный полюс, а Мите — Южный.
КОГДА ЗАКОЛОСИЛАСЬ РОЖЬ...
Витя и Митя примчались ко мне такие взволнованные, что я сразу понял: случилось что-то из ряда вон выходяпхее.
— А то случилось, что мы... — еле переводя дух, затараторил Витя, — что мы сейчас видали на Тишинском рынке старуху... Вот! Она торговала белыми грибами... Не сушёными — сырыми! Понимаете?
— И я видел. Чесслово! Своими глазами, — подтвердил Митя.
— Да не может быть! — притворился я удивлённым. — Откуда им взяться в июне?
— А вот взялись. От дождей и тепла. Они колосовиками называются и бывают только несколько дней, пока рожь колосится... Старушка нам всё рассказала... А вы обещали... Заводите своего «Москвича», и поехали! — потребовали ребята.
Я с удовольствием выполнил своё обещание, потому что сам с нетерпением ждал этой поры. Мы завели «Москвич» и уже через полтора часа были в чудесном грибном краю, у моих старых знакомых. Должен
сказать, что Митя и Витя к грибной поре хорошо подготовились теоретически, по книжкам и по рассказам. Практически они в своей жизни ещё не сорвали ни одного гриба. Но это не помешало им прихватить с собой корзины такой величины, что в кузов машины они не влезли и пришлось их везти на крыше.
В лес мы отправились вчетвером, как и полагается грибникам, чуть свет. Четвёртым за нами увязался хозяйский пёс Дружок. По штату Дружок числился цепной собакой — ночами ему приходилось сидеть на цепи, — характером же он был настолько миролюбив, что на цепь его хозяин сажал только лишь в целях его собственной безопасности: чтобы не украли. Что касается породы, то он был ближе к фокстерьерам, чем к бульдогам. Нашему приезду Дружок так был рад, точно к нему приехали в гости самые близкие друзья, хотя виделись мы впервые. Вероятно, своим собачьим чутьём он понял, зачем мы приехали, умудрился с вечера куда-то спрятаться от посадки на цепь, а утром раньше нас с сЬырканьем и лаем он добежал до леса.
Сколько раз замечали люди, что теория порой очень отличается от практики. Теоретически для успешного сбора грибов надо было иметь: А — лес,. Б — корзину или ведро, В — глаза для обнаружения этих самых грибов, Г — ноги для передвижения (ног у нас было больше чем достаточно, у Дружка их было четыре) и, наконец, Д — руки, которыми грибы срываются, обрезаются, очищаются от грязи и кладутся в корзины. Что касается глаз и ног, то они сразу включились в работу с повышенной нагрузкой, а вот руки... Руки бездельничали почти всё утро. Правда, я, менее теоретически подкованный, чем мои молодые приятели, задавал иногда и рукам работу, вероятно потому, что у меня была долголетняя практика в этом деле.
— Это потому, что вы очки надели. Были б у меня очки, я бы тоже нашёл что-нибудь, — заявил Витя,
— Ay меня что? Очки, да?! — заорал на весь лес Митя и бросился на траву, как футболист-вратарь, спасающий свои ворота от неминуемого гола. Когда он поднялся, в его руке мы увидели полураздавленный белый гриб.
— Смотреть надо получше! — наставительно сказал он Вите.
— Правильно, — сказал я. — Смотреть надо лучше. Где нашёл один, там ищи поблизости второй... А ты, Митя, один сорвал, а на второй Витя наступил.
— А я виноват, что он в траве, да ещё под прошлогодние листья спрятался?.. Его и с собаками не найдёшь, — огорчённо сказал Витя, подбирая крошки раздавленного гриба.
— А ты же у нас мастер на все руки, — ухмыльнулся Митя. — Вот тебе Дружок, выдрессируй его находить белые грибы, и ты всех тогда обставишь.
Витя ничего не ответил приятелю, но по тому, как он притих, я понял, что Митино предложение его задело.
Вечером он приступил, как я и думал, к обучению Дружка. Делал он это так: сначала клал на пол кусочек жареного гриба и, когда Дружок подбегал и брезгливо начинал чихать, Витя бросал ему кусочек колбасы.
— Чтобы у него выработался рефлекс, — пояснял он нам. — Голос, Дружок, голос!
Дружок довольно быстро усвоил, что от него требуется, и от всей души лаял на грибы, получая за это колбасу. Витя торжествовал.
— Завтра я покажу вам, как надо собирать грпбы!
и показал. Но Дружок был здесь ни при чём. Вот как было дело.
— Ищи! — приказал Дружку Витя, как только мы вошли в лес.
Дружок помахал хвостом и даже немного «послужил», но броситься на розыски белых грибов, кажется, у него и в помыслах не было. Он даже не смотрел по сторонам, наоборот, глаз не спускал с Витиных рук, ожидая колбасы.
— Ищи, ищи! — ещё строже приказал Витя.- — Ни кусочка колбасы даром ты у меня не получишь. Десяток грибов — кусок колбасы...
Дружок слушал его внимательно, насторожив уши, наклоняя голову то в одну сторону, то в другую, всё время не забывая следить за Витиными руками,
— Ничего у тебя так не выйдет, — сказал Митя. — Ты ему личным примером покажи, как надо искать...
— Как это — личным примером? — не понял Витя.
— Да так! Стань на четвереньки и полай на гриб. Дружок увидит и тоже станет лаять, — совершенно серьёзно сказал Митя. — Я где-то читал, что так дрессируют животных...
— А ты думаешь, я не читал? Ещё раньше тебя читал, — не задумываясь, перебил его Витя. — Дружок! Смотри, как надо искать. Становись на четвереньки и...
И, знаете, стоило только Вите опуститься на четвереньки, как красавец белый гриб точно из-под земли появился прямо перед его носом.
— Гав! — сказал Витя неуверенно, словно боясь, что перед его носом не гриб, а прошлогодний коричневый лист.
Но гриб не исчез, наоборот: рядом с первым, как
по волшебству, появились ещё три, один одного лучше...
— Гав, гав, гав! — залился Витя на весь лес весёлым лаем.
Дружок даже отскочил от него в сторону и, вероятно, никак не мог понять, всерьёз это или в шутку.
— Перестань, Витька, дурачиться, — проворчал Митя. — Как маленький, поднял шум на весь лес... Вон Дружок смотрит на тебя и, наверно, думает: «Небось по-человечески разговаривать ещё как следует не выучился, а туда же, по-собачьему хочет высказываться!»
— Что? Завидно стало, что я грибы такие нашёл? А ты тоже на четвереньки стань... Вот так... Гав — грибок, гав, гав — ещё парочка...
Полной корзины Витя в этот день не набрал, да, вероятно, ещё и не родился такой искусный грибник, который смог бы её наполнить всего за один день, но собрал Витя намного больше Мити. Приловчился.
— Ас Дружком ты всё равно опозорился, — сгорая от зависти, ворчал Митя. — Горе-дрессировщик...
— Он непородистый. А непородистых трудно дрессировать. А во-вторых, я сам виноват, что он не лаял на грибы. Я же его на жареные натаскивал! Что же, он виноват, что в лесу не растут жареные грибы? Давай я лучше тебя натаскивать стану. Ты как будто породистей Дружка, — принялся подтрунивать Витя.
В ответ Митя только засопел сердито, а это означало, что он решил раз и навсегда прекратить дружбу с Витей.
Я только усмехнулся, глядя на них: знаю я цену всем их ссорам!
БЕШЕНЫЙ КОТ
У этого рассказа может быть два начала. Можно начать с того, как Митя с Витей собирались на подлёдную рыбалку, как Витя, со слов дяди Николая, старшего дворника, чертил подробную кар ту водоёма и ставил на ней крестики в тех местах, где плотва грандиозных размеров ждёт не дождётся, когда кто-нибудь из рыболовов предложит ей крохотный кусочек теста, сдобренный ванилью. А можно начать и с того, как за этой же рыбой собирался старый кот, по имени Филька.
Поскольку танцевать принято начинать от печки, начнём от печки и мы, тем более что она играла в жизни Фильки не последнюю роль.
По утрам Филька покидал своё тёплое логово в домике сторожа лодочного причала и отправлялся на промысел. Только не думайте, что он отправлялся за мышами. Нет, мыши ему даже во сне не снились. Снилась Фильке только рыба.
Летом дело обстояло проще — по утрам он обследовал все лодки на причале: не осталось ли в какой забытой рыбёшки. Вечерами рыболовы сами делились с ним добычей. Зимой дело обстояло хуже — зимой надо было самому отправляться на лёд и по очереди обходить рыболовов, сидящих у лунок. Особенно не нравилось Фильке такое занятие в оттепели, когда на льду появлялись лужи. Однако рыбки-то хочется!
Так было и в этот день: ночь и утро выдались тёплыми, капало с крыш, снег осел и на льду появились большие лужи. Филька брезгливо пофыркал на крыльце, но на печку не вернулся...
Теперь посмотрим, какими были дела у Мити с Витей. Кажется, на этот раз Витя ничего не напутал в своей карте и точно попал на место, рекомендованное дядей Николаем. Правда, рыба попадалась им далеко
пе грандиозных размеров, но поплавки в воде то и дело вздрагивали, и ребята делали торопливые подсечки.
— Ну, Мить, если дело так пойдёт, то мы до вечера обловимся! — повизгивал от удовольствия Витя. — Не успели сесть, а у меня уже пяток есть...
— Ничего, подходяще клюёт... — басил в ответ Митя. — Только я не люблю заранее подсчитывать.
И тут как раз Митя и увидал Фильку. Он даже вздрогнул от неожиданности. Надо сказать, что по внешнему виду Филька очень смахивал на нечистую силу, выгнанную за какие-то грешки из преисподней. При виде его дети хватались за материнские подолы, а набожные старушки крестились и шептали заклинания: «Чур меня! Чур!..»
— Вить... — прошептал Митя. — Смотри, какая зверюга к нам пожаловала.
Витя взглянул и сам чуть было не запричитал заклинания.
От ребят Фильку отделяла большущая лужа. Не будь рядом с их лунками ещё трепещущей рыбы, Филька, может быть, и ушёл бы к другим рыболовам, но теперь он уже не мог уйти. При виде рыбы у него в животе появились колики и начался нервный тик: кончик облезлого хвоста стал беспрерывно подёргиваться, верхняя губа с жёсткими усами дрожать, как при лихорадке, а из раскрытой пасти стал вырываться
приглушённый львиный рык.
— Мить! Знаешь, мне что-то очень не нравится этот котяра... — прошептал Витя. — Как ты думаешь, он не бешеный?
— Да... Видик у него... — ответил Митя, тоже не совсем бодрым голосом. — Хорошо ещё, что он на той стороне лужи...
— Ты думаешь, что он и на самом деле бешеный? — поёжился Витя.
Ребята совсем перестали следить за поплавками. Они смотрели теперь только на Фильку и изредка бросали тоскливые взгляды в сторо-ну других рыболовов, си-девших поодаль грачиной стаей.
— Может быть, нам потихонечку... — начал было Витя, но не успел выразить словами свою мысль до конца: Филька вдруг весь сжался, затем взмыл в воздух и опустился на снег у ног оторопевшего Вити, вперив в него глаза такого жуткого цвета со зловещ,и-ми искрами, что у Вити сразу пропали всякие сомнения относительно Филькиной нормальности.
— Ой! Ты видишь, какие у него гла...гла-за?.. — еле выговорил Витя.
Митя ничего не успел ответить: бешеный кот сделал новый прыжок и очутился у Вити на плечах. Филька часто так делал, когда на льду было мокро, — вскакивал на плечи к рыболовам и принимался клянчить рыбы: «Рыы... ры... ры...»
Витя взял самую высокую ноту, на которую только были способны его голосовые связки, свалился со своего сундучка на снег, покатился по нему, а потом вскочил и понёсся с немыслимой быстротой в сторону рыболовов.
Он летел, не оглядываясь, не разбирая дороги, по лужам, так что вода разлеталась в стороны фонтанами. Он слушал сзади топот — это бежал за ним Митя, но Вите казалось, что это топочет бешеный кот, и он ещё выше поднимал колени, чуть не стукал ими по подбородку.
Остановил ребят только окрик одного из рыболовов, которого они чуть не сбили с его сундучка:
— Вы что это, сказились, что ли?
— На... на... на нас кот напал!.. — еле выговорил Митя.
— Д-и-и-кий... — добавил Витя. — Бе-ее-ешеный...
— Да вы сами, часом, не рехнулись? Где это видано, чтобы бешеные животные по воде ходили, когда для них вода что бензин зажжённый? Сказочки сочиняете... — ругался рыболов.
— Да не сказки... — засмеялся другой рыболов. — Это их Филька в панику вогнал... Только почему вы его за бешеного приняли?
— Так он же набросился на меня... — принялся объяснять Витя. — Как сиганёт на плечи! Как зарычит!
— А он ко всем прыгает на плечи, ежели на льду мокро. И не рычит он, а мурлычет. Рыбы просит... Эх вы, мужчины!.. Такого замечательного кота испугались. Он же умница, каких мало. Он только не говорит, а всё понимает. Да я так думаю, что скоро он и говорить с нашим братом научится. Он уже половину слова «рыба» вполне ясно выговаривает... «Ры... ры... ры...», а скоро он чисто будет выговаривать: «Рыбы, рыбы дай!» А потом и закурить будет просить...
Когда ребята вернулись к своим лункам, Филька доедал последнюю плотву и вид у него был уже такой, как будто он замолил все свои грехи и душа у него была спокойна. В глазах уже не было прежнего алчного блеска, хвост не дёргался, губа не дрожала, а из глотки уже не вырывался львиный рык, а лилось нежное урчание. Ребята могли потом поклясться, что они ясно слышали первые Филькины слова, сказанные по-человечески:
«Хоррроша рррыбка! Ррррыбка хоррроша!.. За-курррить бы теперррь...»
«ПЕТУШИНОЕ» СЛОВО
Так уж у нас повелось: в каждые каникулы Митя и Витя едут со мной куда-нибудь на рыбалку. Зимой мы отправляемся на подлёдный лов, с весны — по открытой воде. И места у нас для разных каникул разные. Весной, например, мы ездим на Кощеево озеро, на речку Унжу. Московские рыболовы так хорошо знают туда дорогу, что рассказывать, где это место находится, лишнее.
ещё в поезде ребята обратили внимание на девочку в зелёном брезентовом плаще. Приметили они её потому, что везла она явно рыбацкую корзину и удочку в матерчатом чехле. А в конце дороги выяснилось, что ехали мы в один дом, что Нюра — так звали девочку — доводилась нашим хозяевам племянницей...
— Кому это ты удочку привезла? — сразу же задали ребята ей вопрос.
— Сама буду ловить... — ответила Нюра.
— Ну да! А ты умеешь? Небось завизжишь, как червяка увидишь... — усмехнулся Витя. — Ваш брат девчонки — народ не из храбрых...
Нюра пропустила его замечание мимо ушей.
— А вы собираетесь на червя ловить? — спросила она, в свою очередь.
— На китайских рачков...
Витя подмигнул Мите, достал коробку с мотылём и показал Нюре рубиновые личинки комара толкунца.
— Да ты их не бойся, они не кусаются! — принялся успокаивать Нюру Митя, хотя Нюра и не думала бояться. Она даже пальцем потрогала наживку.
— Интересно... — сказала она. — И где вы их только берёте?
— Нам их прямо из Пекина доставляют на «ТУ-104»... А рыба на этих рачков берёт — отбою нет! Ну, да завтра увидишь сама. Только ты не очень огорчайся, что у нас будет густо, а у некоторых — пусто... — окончательно разошёлся Витя.
— Научусь когда-нибудь и я ловить... А то скажу «петушиное» слово... — засмеялась Нюра.
— Это ты маленьким рассказывай сказочки про «петушиные» слова... Нет, когда ловить не умеешь, никакое «петушиное» слово не поможет! — заявил Витя.
Мы проснулись ещё до света от необычного шума на реке, которая протекала за огородом нашего хозяина. На берегу творилось что-то невероятное. Можно было подумать, что пол-Москвы уселось на автобусы, грузовики, легковые машины, чтобы прибыть в это воскресное утро на берега неприметной речушки. Из машин вытаскивались разборные и надувные лодки всевозможных конструкций, с моторами и без моторов, на одну персону и на десять. Торопливо составляя удочки, обувая мушкетёрские сапоги, рыболовы спешили занять себе местечко на болотистых берегах Унжи, хотя до рассвета оставалось ещё не меньше часа... Даже страшновато было плыть на плоскодоночке по узкой речке сквозь строй удильщиков: от взмахов удилищами в воздухе стон стоял...
— Можно, я вот здесь вылезу? — попросила у меня, как у старшего, разрешения Нюра.
— Вылезай, вылезай... Может, лягушонка какого
подцепишь тут... — не вытерпел и съязвил Витя.
На нашем любимом омутке уже были рыболовы, но и для нас нашлось местечко. Плотва ловилась неплохо: к вечеру у каждого из нас было по пять-шесть килограммов отличной рыбы.
Интересно, как дела
у Нюры! — вспомнил о ней Митя, когда мы усаживались в лодку.
— Поехала бы, дурёха, с нами, чего-нибудь и поймала бы... — подхватил Витя.
Плотвы у Нюры было не меньше, чем у нас, а может, и побольше. Она с трудом подняла корзинку, чтобы поставить её в лодку. Ребята сразу притихли.
— Я сейчас, только лягушат своих погружу... — сказала Нюра и достала из воды садок.
Тут и у меня глаза округлились — в садке возилось полдесятка язей-лапотников, граммов по шестьсот каждый.
— На что ты их поймала? — прошептал Митя.
— На простого нашенского червяка... Ведь мне никто из Пекина не присылает рачков на «ТУ-104». А плотву я ловила на мотыля из Тимирязевского пруда. Он покрупнее Измайловского мотыля будет...
Митя И Витя переглянулись: у нас мотыль был действительно из Измайловского пруда. Ай да Нюрка! А они ей про китайских рачков сказочки рассказывали.
— Ты вроде как и вправду знаешь «петушиное» слово, — с уважением сказал Витя. — Может, и нам его скажешь?
— Отчего не сказать? Скажу. Вот оно какое: не петушись раньше времени... Меня папа ловить научил.
и места хорошие показал. Становитесь завтра рядом со мной, и вы с язями будете.
На другой день мы так и сделали и тоже вернулись в Москву с язями.
НЕБЫВАЛОЕ ДЕЛО
Даже видавшие виды рыболовы могут с сомнением покачать головою, если вы начнёте им рассказывать о том, что зимой из-подо льда вы ловили карасей и карпов.
— Спят они, батенька! — скажут вам. — Спят, зарывшись в ил.
Так вот приблизительно и ответил своему приятелю Митя, когда тот, захлёбываясь, стал рассказывать, что на Пироговском водохранилище в прошлое воскресенье ловили карпов.
— Поросята, а не карпы! По два кило с хвостиком!..
— Сказки... Рассказы очевидцев... — не верил Митя. — Разве что случайно кто забагрил сонного кар-пишку.
— Да? Не веришь? Рассказы очевидцев? Тогда одевайся, и пойдём сейчас же к дяде Николаю! К очевидцу... У него этих карпов четыре штуки лежат! — торжествующе сказал Витя так, как будто бы он сам изловил этих карпов.
Наш дворник дядя Николай был таким авторитетом по части рыбной ловли, что Митя тут же схватил будильник и поставил его на шесть часов утра.
Воскресным утром все трое — Митя, Витя и дядя Николай — были на Пироговском водохранилище в районе карьера. На том самом месте, где в прошлое воскресенье среди зимы стал брать карп. Дядя Николай посадил ребят у своих старых лунок, а сам пробил себе новую.
— Берёт осторожно... Смотрите лучше за сторожками... А бывает, и с ходу схватит... — предупредил он ребят.
Народу сидело на льду больше, чем болельш,и-ков в Лужниках, когда играют футбольные команды мирового класса. Разница была только в том, что здесь все «болельщики» принимали сами деятельное участие в соревнованиях и не на искусственном льду. Однако скоро выяснилось, что клёв, как обычно это бывает, не шёл ни в какое сравнение с клёвом в прошлое воскресенье. Все были «пустыми». Каждый рыболов, даже если он впервые вышел на лёд, имеет право на своё собственное мнение, почему нет клёва. «Похолодало...» — говорили одни. «Ушёл...» — уверяли другие. «Северный ветер!» — утверждало большинство.
Витя больше всего не доверял северным ветрам. Поэтому он поминутно поднимал мокрый палец, определяя направление ветра, и сокрушённо качал головой. Потом он положил удочку на край лунки и пошёл смотреть, как идут дела у других.
— Эй! Рыбачок! — крикнул ему тут же кто-то вслед. — Где твоя удочка?
Витя бросился к своей лунке. Удочки не было.
— Эх, ты! Растяпа! — набросился на него Митя. — Прозевал карпа!
— А ты поменьше кричи на людей, — огрызнулся Витя. — Смотри лучше за своей удочкой...
И он точно накаркал: не успел Митя обернуться к своей лунке, как увидел, что его удочка, точно ожившая, скачет по льду, норовя вот-вот нырнуть в водохранилище. Митя сделал такой прыжок, которому наверняка позавидовал бы вратарь Лев Яшин. Он успел поймать удильник в тот самый момент, когда тот уже стоял на-попа, готовый нырнуть под лёд.
Тут надо было бы сказать, как это принято говорить во всех «рыболовных» рассказах, что леска зазвенела, как струна. Но она не зазвенела, а застонала,
подобно тросу подъёмного крана, когда тому приходится работать на пределе. Несмотря на холодный ветерок, у Мити выступили капельки пота на лбу.
— Не тяни, не тяни дуром! — кричал Витя, бегая вокруг Митиной лунки. — Оборвёт!
Однако леска выдержала. Одно было только странным: глубина была небольшая, давно уже должна была показаться морда карпа, а её не было. Но вот в прозрачной воде лунки показалась золотистая мормышка... А где же рыба? Митя даже привстал от удивления. И тут вдруг все подбежавшие увидели, что вместо рыбы из лунки вылезла... Витина удочка!
— Это ты мою подцепил! — закричал Витя, хватая удочку.
На Витиной удочке леска была потолще и крючок на мормышке понадёжнее, чем на Митиной, который любил «тонкую» оснастку, и через какую-то минуту старательного сопения Вити на льду забился карп сказочных размеров. А ещё через минуту возник спор: кто поймал карпа?
— Что за вопрос? Уйочка моя — значит, и рыба моя! — кричал Витя.
— Твой карп твою удочку под лёд уволок! Ныряй за ней... Ну да, удочку свою можешь получить, а рыба моя! — ещё громче возмущался Митя. — Если бы я не подцепил твою удочку, где был бы карп?
— Зато вытащил его я! — не сдавался Витя. — А ты обязательно тянул бы дуром, и он сорвался бы!..
Помирил их дядя Николай:
— Тише вы, сороки! Всю рыбу распугаете... Чего вы спорите? Пусть это будет ваш общий карп. Сварите из него уху и на всех хватит по хорошей тарелке. А потом, как говорится, ещё не вечер! Кончайте спор и садитесь к лункам. Да получше смотрите за сторожками: не всякий карп дуром тянет...
ПРО КАРАСЯ, КОТОРЫЙ НЕ УГОДИЛ НА СКОВОРОДКУ
В садке оказалась дыра, и один из двух пойманных карасей воспользовался ею и бежал... На поимку его Витя с Митей затратили полный рыбацкий день. Сбежавший карась, по всей вероятности, был родным братом оставшегося: оба они были великолепны, по пятьсот граммов каждый, и поймались одновременно — значит, паслись вместе. По размерам они были хвост в хвост, голова в голову и похожи друг на друга так, что их и родная мать не различила бы, а вот Витя различил.
— Так тебе и надо, — сказал он. — Будешь в следующий раз проверять садок... Хорошо ещё, что мой не ушёл.
— Что такое? — возмутился Витя. — Почему это видно, что ушёл мой? И почему это я виноват, что в садке была дыра, когда он был у тебя?
Ладно... Про садок я больше ничего не гово-сказал примирительно Витя. — Но карась
остался мой. Ты разве не заметил, что у твоего плавники были немного бледнее?.
— Почему это бледнее?
— Не знаю... Может, твой нездоров был. Может быть, у твоего развилось малокровие...
Митя до того возмутился таким заявлениемприя-теля, что сразу не мог ему достойно ответить.
— Ладно! Хватай своего полнокровного карася и дуй с ним на станцию! А я с тобой не то что водиться — ехать в одном вагоне, в одном поезде не желаю!..
Вечером у Мити раздался телефонный звонок.
— Приходи скорее! — кричал из трубки Витя, — Приходи и посмотри, что он вытворяет в ванне!..
Сгорая от любопытства, Митя побежал к приятелю.
— Ну, что он тут вытворяет? Показывай..,
— Теперь уже ничего... Просто плавает. Отдыхает. А когда я его только пустил в воду, он так носился по всей ванне! И, знаешь, только я на минуточку вышел — он пропал! Прихожу — нет Кари... Это я его так зову — Каря... Я туда, я сюда — нет его нигде! Потом нашёл... Оказывается, как я только вышел, он выпрыгнул из ванны и спрятался за корзину с бельём. Теперь вот сижу и караулю, чтобы он снова не выпрыгнул. Может быть, ты посидишь, пока я поем чего-нибудь?..
Три дня Витины родители и сам Витя ходили в Митину квартиру принимать ванну. В своей ванне они установили круглосуточное дежурство, чтобы карась не выпрыгнул и не погиб за бельевой корзиной. Правда, на третьи сутки Витин папа придумал накрывать ванну старым ковром.
— В конце концов так продолжаться дальше не может... Все караси обречены на усыпление... — проворчал он при этом.
— Тогда усыпи его сам и зажарь со сметаной! — воскликнула в ответ мама. — А мы с сыном посмотрим, как ты будешь уничтожать его за столом на наших глазах...
Витя знал, что его отец и мухи не усыпит, не то что карася, но всё же отправился к Мите и завёл такой разговор:
— Знаешь что, Мить? Я подумал-подумал и решил, что ошибся. Наверно, это твой карась...
— Как же это ты установил? У него что, начало развиваться малокровие? — засмеялся Митя.
— Нет. Но он совсем не обращает внимания на мой голос. Сколько я ни зову его: «Каря... Каря... Каря!» — он даже хвостом не шевельнёт. Давай пере-
садим €го в вашу ванну, и попробуй ты с ним поговорить...
С этого дня Митины родители и сам Митя стали ходить в квартиру Витиных родителей принимать ванну.
Конечно, такое положение не могло продолжаться до бесконечности, и судьба карася была поставлена на повестку дня двухсемейного совета. На совете все высказывались приблизительно так, как Митин папа:
— Карась очень вкусная рыба... Особенно зажаренная в сметане. Но... мы имеем только одного карася, а из одного, как говорят в народе, ухи не сваришь... Вот если бы их было целое стадо!.. Да, да! Стадо! Про рыб тоже так говорят... Черноморское стадо кефалей, например...
На другой день после совета, на зорьке, посадив карася в молочный бидон, оба семейства в полном составе направились к Патриаршим прудам. Здесь в торжественной тишине карась из Переделкинского пруда обрёл постоянную московскую прописку. Папы проводили его с лёгкой грустью, мамы — с лёгкой слезой...
— Привыкли за неделю... — сказала Витина мама. — Оказывается, даже к холоднокровным можно привыкнуть...
А сын её заявил во всеуслышанье:
— Теперь я всем буду говорить, что в самом центре Москвы живёт мой карась!..
Митя посмотрел на него с усмешкой: он твёрдо был уверен, что в Патриаршем пруду будет жить не Витин, а его карась. Последнее время он заметил, что Каря при его появлении начинал чуть-чуть чаще махать хвостом.
ИСТОРИЯ с КУКАНОМ
Сначала Мите и Вите показалось, что они пришли не к реке, а на край света: над водой стоял такой устой, такой вязкий сиреневатый туман, что не только противоположного берега, но и самой реки не было видно.
— Это к-к-как раз хорошо] — принялся уверять Витя, еле выговаривая слова: утренний холодок сделал его заикой. — Это, понимаешь, значит, что... что день будет жаркий и рыба будет з-з-здорово брать.
— Там видно будет! — проворчал Митя. Он страшно не любил, когда заранее говорили о хорошем клёве. — А чего это ты дрожишь, как космонавт на вибростенде?
Накануне рыбалки Витя прослушал сводку погоды. Сообщали, что будет жарко, и он отправился на рыбалку в тапочках на босу ногу, в трусиках и в майке. Митя не поленился надеть брюки и рубашку. Ему утренний холодок не доставлял неприятностей.
— Ничего, п-п-подрожу и перестану... Зато закалка будет... — ответил Витя, изо всех сил растирая плечи и руки, покрывшиеся «гусиной» кожей.
— Ну закаляйся, закаляйся... Куда это мы пришли? Тут же сплошные кусты на берегу: стать негде с удочкой, — продолжал по привычке ворчать Митя.
— Я вот здесь стану! — крикнул Витя, как только им попалась небольшая прогалина в береговых кустах. — А ты себе поищи пониже по течению местечко...
— Место-то я найду... А куда ты рыбу будешь класть? Не взял второго садка?.. — спросил Митя.
Витя сразу же нашёл выход:
— А мы садок опустим в воду так, чтобы он между нами был. Поймаешь рыбу — прибежишь и поло-
жишь в садок. Если хочешь, я буду свою рыбу метить...
— Как это ты будешь метить? Карандашом на ней расписываться?
— Найду как! Я буду своей рыбе хвосты откусывать... — предложил Витя.
Митя сразу же отверг его предложение:
— Не! Так не пойдёт... Знаю я вашего
брата! Ты не только своих перекусаешь, но и моим поотгрызаешь и хвосты и головы.
— Ну тогда пускай садок будет у меня, а ты себе сделай кукан. Кукан для рыбы ещё лучше, чем садок, — нашёл новый выход Витя, — В садке она себя как в тюрьме чувствует, а на кукане она может свободно плавать...
— Вот ты себе и смастери кукан. А мне нечего его делать — у меня садок есть! — возмутился Митя. — Хитрый какой! Свой поленился взять, а теперь на чужой зарится... Ты и мотыльницу забыл: в чём ты мотыля держать станешь? За щеку положишь?
— Ладно... Бери свой садок! Только знай, что рыбу не садком ловят, а уменьем! Я и на кукан столько нанижу, что он и не поместится в твоём гнилом садке... И мотыля мне нечего за щеку сажать — его и в лопушок завернуть можно...
Витя ещё продолжал бы высказываться, но Митя не стал его слушать, отдал половину мотыля Вите, зашагал вдоль кустов и точно растаял в тумане. А Витя принялся мастерить кукан из куска запасной лески. К нижнему концу он привязал палочку побольше, чтобы пойманная рыба не соскочила с кукана:
к верхнему — поменьше, чтобы можно было её продеть через жабры.
Насчёт того, что день для ловли выдался благоприятный, Витя не ошибся: при первом же забросе поплавок дёрнулся и скрылся под водой. Витя рванул удочку — и какая-то серебристая рыбёшка шлёпнулась на траву далеко позади него. Пока он разыскивал её, руки и ноги у него покрылись волдырями, потому что трава оказалась густой крапивой. А добыча оказалась небольшой плотицей. Витя осторожно посадил её на кукан.
— Митя-а-а! — крикнул он во всё горло, думая, что дружок его ушёл далеко.
— Не кричи! Чего рыбу пугаешь? — проворчал Митя где-то совсем рядом.
— У тебя клюёт? — теперь уже шёпотом спросил Витя и, не дожидаясь ответа, сообщил: — А у меня уже пять штук... Отличный клёв!
Добычей Вити была пока только одна плотица, но он решил, что при таком клёве у него через десять забросов будет не меньше десяти плотиц.
И тут он не совсем ошибся: через полчаса на его кукане плавало ещё три плотицы и один небольшой окунёк.
Лёгким ветерком туман стало уносить с реки навстречу всходившему солнцу. Витя наконец увидел Митю — тот ловил в десяти шагах от него. Сгорая от любопытства, Витя побежал посмотреть на Митин улов.
— Только и всего? — засмеялся он, увидев в садке три плотицы и подлещика. — Рыба-чок! Садок ему подавай! У тебя, наверно, спуск на удочке не налажен... Надо так, чтобы наживка у самого дна плыла. У меня скоро полтора десятка будет!..
Митя настолько был поглощён ловлей, что ничего не ответил, да к
тому же в этот момент мотылём на крючке его удочки заинтересовался крупный окунь.
— Подумаешь! — хмыкнул Витя, рассматривая окуня. — Да у меня таких скоро десяток наберётся...
— Как же, наберётся, если ты будешь около меня торчать. И сам не ловишь, и другим мешаешь!
Митя так приловчился, что стал таскать одну рыбину за другой. Он забыл про всё на свете, кроме поплавка, и поэтому даже вздрогнул, когда из-за кустов раздался отчаянный крик Вити.
Бросив удочку, Митя побежал к приятелю на помощь.
— Что случилось? Укусил тебя кто-нибудь, да? — спросил он, подбегая.
Витя стоял по колено в воде и зачем-то шарил по дну руками.
— Кукан! Понимаешь, кукан ушёл... Весь улов пропал... Штук тридцать было! Пятнадцать плотиц и пятнадцать окуней! Да всё во какие!
Витя отмерил правой рукой на левой размеры пропавшей рыбы, и вышло, что каждая рыбина была не меньше, как на килограмм весом.
— Раззява, вот ты кто... Орёшь так, можно подумать, будто крокодил тебя в речку тащит... — проворчал Митя и пошёл на своё место.
А через несколько минут раздался крик Мити, и Витя бросился к нему.
— Смотри, что я подцепил! — кричал Митя. — Чей-то кукан с рыбой!
— Так это же, наверное, мой кукан! — в свою очередь, закричал Витя. — А я уже думал, что он совсем пропал... Давай!
— Как это — твой? Ты что?
Митя сделал вид, что страшно удивлён.
— Сколько на твоём кукане было рыбы? Тридцать штук? Пятнадцать плотиц и пятнадцать окуней, да всё во какие? А на этом? Пять плотиц трепыхается да окунишко с палец... Нет! Это, Витенька, вовсе не твой
кукан! Это ещё какая-то раззява упустила. Но если твой попадётся, то я обязательно тебе его отдам... Да твой кукан с рыбой и не влез бы в мой садок, ты сам об этом говорил, а этот раз — и тама...
— Это не честно... — стал канючить Витя.
— А врать честно? Ладно уж, становись рядом, кидай в садок. И можешь хвосты не откусывать — поделим как-нибудь без обиды...
ХРАНИТЕ ШИФР В СТРОЖАЙШЕЙ ТАЙНЕ!
На этот раз забыл не Витя, а Митя! Невероятно, но факт. Забыл самое главное, без чего ехать на рыбалку не было смысла: забыл дома мотыля. Положил коробочку с наживкой на нижнюю полку холодильника, утром заторопился и забыл...
— Со всяким может случиться... — слабо отбивался он от наскоков Вити. — Если припомнить, сколько раз ты что-нибудь забывал...
— Только не мотыля! Я первым делом хватаюсь за коробку с мотылём... — кипятился Витя. — Что мы теперь делать будем? Котлеты на крючки насаживать или колбасу украинскую?
— Люди на хлеб плотву ловят...
— Плотву? Да что это за рыба? Тьфу! Окунь — это рыба! А он и в рот не возьмёт твой хлеб...
— Червей где-нибудь накопаем...
— Где ты их накопаешь? Забыл, что сделала собачка с моими штанами, когда мы весной попробовали копать червей на чужом огороде? Забыл? А я помню... Сам полезешь теперь за такими червями... А пока ты их накопаешь, полдня пройдёт...
— Ну, поймаем на одну-две рыбёшки меньше, какое это имеет значение? — всё пытался урезонить
Витю Митя, но, видя, что бессилен, сказал: — Ладно, сиди сторожи вещи. Я мигом слетаю домой...
— Давно бы слетал... — проворчал Витя и уселся на диван.
Однако сидел он недолго: сзади него как будто кто с силой закрыл дверцу холо- " -
дильника. Но стоило Вите повернуть голову, как он убедился, что холодильник тут ни при чём, что это захлопнули дверку новинки железнодорожной техники — автоматической камеры хранения ручного багажа.
Что и объяснять: Витя немедленно очутился у автоматов. Их была целая батарея в несколько рядов по горизонтали и вертикали. Шкафчики-автоматы занимали весь простенок, и на дверце каждого была никелированная ручка, прорезь для опускания монеты, окошечко для возврата монеты да ещё, в отличие от всяческих других автоматов, четыре чёрных ручки-вертушки для набора шифра и четыре окошечка для буквы и цифр.
Какой-то дяденька с чёрными усиками шнурочком и горбатым носом как раз укладывал в шкафчик свой увесистый чемодан. Покосившись на Витю, он сказал сердито:
— Э! Что смотришь?
— Так... Просто смотрю... Тоже хочу сдать вещи на хранение, — почему-то сказал Витя.
— Смотри инструкция, если нада... — проворчал дяденька, захлопнул наконец дверцу шкафчика и попробовал за ручку — не открывается ли?
Согласно инструкции, Вите следовало сначала отыскать свободный шкафчик, вложить в него вещи, набрать на обратной стороне дверцы, тоже ручками-вертушками, шифр — одну букву от «А» до «К» и число из трёх цифр, опустить в прорезь пятиалтынный и захлопнуть дверцу. С этого момента тайный шифр, придуманный вами, будет надёжнейшим образом хранить хоть века ваш чемодан, портфель или авоську от вокзальных жуликов. Конечно, шифр надлежало хранить в строжайшей тайне.
Ещё инструкция советовала, чтобы не быть пособником жуликов, не набирать число однозначными цифрами и год своего рождения...
И понятно почему: набери вы шифр однозначными цифрами, вы невероятно облегчите жулику возможность сделать своё тёмное дело — располагая свободным временем, он за час или полтора наберёт необходимую сотню комбинаций и, похитив ваши рюкзаки, где-нибудь в тёмном местечке расправится с котлетами и украинской колбасой, а рюкзаки выбросит. Наберёт «А» и к ней три единицы, дёрнет за ручку. Не открылась дверца — наберёт три двойки, три тройки, и так до трёх нулей. Не открылось — перейдёт на «Б» и т. д.
А год рождения не стоит набирать потому, что жулик запросто может выпытать у вас сведения о вашем возрасте. Подойдёт и, к примеру, спросит:
«Мальчик! Ты на рыбалку едешь?»
«На рыбалку...»
«Как же тебя родители одного отпустили? Ведь там же вода... Утонуть можно... Особенно такому малышу. Тебе, поди, ещё и десяти не стукнуло?»
Ты, конечно, усмехнёшься и с достоинством ответишь:
«Десяти? Хо! Да мне, если хотите знать, уже тринадцать стукнуло!»
А жулику только это и надо. Теперешние жулики тоже грамотные; что ему стоит от текущего года отнять твои тринадцать лет? Раз плюнуть... И шифр у него в кармане, а ты останешься без котлет и колбасы...
Вите пришлось подёргать не менее как за десять ручек, пока он отыскал свободный шкафчик. С большим трудом он втиснул в него оба рюкзака, но вспомнил, что у него нет монеты, и вытащил их обратно. Пришлось нести рюкзаки в другой зал и просить буфетчицу разменять рубль.
— Что у меня тут? Разменная касса? На сдачу мелочи нет...
— Тогда дайте бутылку лимонада... — попросил Витя, выпил её единым духом, без смакования, и заторопился к автоматам: ведь вот-вот должен был появиться Митя.
По дороге он стал придумывать тайный шифр. Конечно, это должен быть такой шифр, чтобы самый опытный жулик и за сто лет его не расшифровал, но и такой, чтобы его нельзя было самому забыть. И вдруг он вспомнил, что буквально накануне у мамы был день рождения: ей исполнилось тридцать девять.
Витя лихорадочно стал отнимать в уме тридцать девять от шестидесяти семи. На бумажке он мог бы это сделать быстрее, но бумажки не было под рукой, а пока её будешь искать, так и Митя заявится... Наконец собравшись с мыслями, он произвёл вычисление и установил на обратной стороне шифр: «М-927», опустил монету и со смаком захлопнул дверку. За-
хлопнул и тут же попробовал — дёрнул за ручку изо всех сил. Дверка не открылась.
— Порядочек... — сказал он вслух.
Он пожалел, что в шкафчик нельзя было упрятать удочки — не помешались, — и побежал к выходу встречать дружка. Только у входа он не пробыл и минуты: а что, если за это время жулик?..
Возвращаясь к шкафчикам, он присматривался к пассажирам: не вздумает ли кто выпытывать у него год рождения? Но никто на него даже внимания не обращал. Лишь один пожилой человек спросил, посмотрев на Витины удочки:
— На рыбалку? Это хорошо... Это просто замечательно! Ни пуха, как говорится, ни пера...
И побрёл своей дорогой, совершенно не интересуясь Витиным годом рождения.
— Я уже тут! — крикнул Митя ещё издали. — Знаешь как нажимал? Аж сердце чуть не выскочило... У нас ещё пятнадцать минут до поезда, пошли за билетами... А где вещи?
— Жулики украли... — как можно спокойнее сказал Витя.
— Ладно, хватит дурака валять... Надо торопиться... Ну, где рюкзаки?
— В автомате... Можешь не волноваться... Знаешь как удобно?
— Конечно, удобно... Но тебе-то зачем понадобилось сдавать вещи, когда мы... через десять минут уезжаем?
— А что, я должен был сидеть около рюкзаков, как Бобик на цепи? А тут за пятнадцать копеек гуляй себе...
— Хорошо, хорошо... Доставай вещи. Как он открывается?
— Очень просто: надо набрать шифр — одну букву и трёхзначное число...
— Так набирай скорее... Нам же ещё билеты надо брать!
Витя подошёл к автоматам и вдруг остановился в нерешительности.
— Ну! — торопил его Митя. — Ты что остановился? Забыл номер?
— Чего мне забывать? Что, я не знаю, сколько моей матери лет?
— А при чём здесь мать?
— При том... Не стану же я набирать свой год рождения! Любой жулик сможет выпытать... Маме тридцать девять, значит, тридцать девять надо отнять от шестидесяти семи...
— Будет двадцать восемь... — быстро сосчитал Митя. — Значит, девятьсот двадцать восемь... Действительно удобно. Набирай.
Витя старательно набрал первой ручкой букву «М» и к ней число «928» и дёрнул за ручку. Дверца даже не пошевелилась. Дёрнул сильнее — то же самое. Попробовал Митя — не открывается.
— Так... — многозначительно сказал Митя. — Поехали на рыбалку... Через пять минут поезд тю-тю... Забыл, значит, номер?
— Ничего я не забыл... Неисправен, наверно, автомат. Сам знаешь, как они часто выходят из строя...
— А голова у тебя ещё чаще выходит из строя... Может быть, ты не в этот шкафчик положил?
— Как будто в этот... А может... Давай посмотрим в этом, — сказал Витя и стал набирать шифр в соседнем шкафчике справа. Однако и у этого хранителя дверца не поддалась. Не открылась дверца и у правого шкафчика...
— Тю-тю наш поезд... — трагически прошептал Митя.
— Поедем на следующем... — ответил Витя, набирая шифр на всех шкафчиках второго этажа.
— Следующий будет через полчаса...
— Ну и что? Поймаем на две плотвы поменьше... Подумаешь!
Когда все шкафчики второго этажа стали показы-
вать год рождения Витиной мамы, Митя принялся за дело сам: стал набирать шифр в третьем этаже, хотя было ясно, что Вите рост не позволял ими воспользоваться. Тут неожиданно появился тот самый, с чёрными усиками. Он схватил Митю за руку и закричал на весь вокзал:
— Что! Жулик? Да? Чемодан хотел воровать?
— Какой чемодан? — оторопел Митя. — Не чемодан, а рюкзаки...
— Не морочай мне голову! Чемодан хотел брать... Куда милиция смотрит?.. — стал кричать черноусый.
А милиция была уже рядом. Витя стал давать торопливые объяснения:
— Я вещи спрятал... А автомат, наверно, испортился...
— Зачем же вы тогда все шкафы пробуете открывать?
— Так он, — Витя кивнул на Митю, — решил, что я перепутал и положил в другой... А я в этот клал...
— Думаю, автомат здесь ни при чём... Напутал что-нибудь молодой человек... Надо дежурного по вокзалу искать, чтобы открыл...
Пока ребята искали дежурного, и второй поезд тю-тю — ушёл. А ждать третьего не было уже никакого смысла. Митя так надулся на дружка, что тот даже заговорить с ним побаивался. Наконец дежурная по вокзалу была найдена.
— Какие вещи были сданы на хранение?
— Рюкзаки... Два рюкзака.
— Какого цвета? Новые, старые?
— Грязного... Были зелёными...
Дежурная вставила в замочную скважину плоский ключ и открыла шкафчик. Рюкзаки были на месте.
— Ну, что я говорил? Испортился автомат, очень просто! — закричал Витя.
— А вот проверим... Говори шифр, — приказала дежурная.
— На днях маме было тридцать девять лет... — начал пояснять Витя.
Но дежурная перебила его:
— Ясно... Ты должен был набрать «М928», а смотри, что набрано?
Витя посмотрел в окошечки на обратной стороне дверки и увидал цифру «927»...
— Подумаешь, на единицу ошибся... — проворчал он.
— Надо было и снаружи набирать с ошибкой... — усмехнулась дежурная. — Или ты за это время поумнел?! Научился правильно считать?
— Я тут ни при чём... Это он виноват... Подсчитал правильно и сбил меня...
РЫБКА НОМЕР ШЕСТЬ
Комната напоминала штаб дивизии перед генеральным наступлением. На полу лежали карта Подмосковья и два командующих. Как давно уже установлено, рядовых в великой армии рыболовов нет. В этой доблестной армии каждый считает себя генералом.
— На речку куда-нибудь надо ехать, — предлагал Митя. — На речке одно место не понравилось — перешёл на другое...
— А кто тебе мешает пройтись по берегу пруда? — спрашивал Витя. — Что ты сейчас на речке поймаешь? Уклейку? Ерша с пескарём? А в том же Продолговатом пруду можно и на рыбку номер шесть нарваться!..
Этот довод убедил Митю, и он согласился ехать на пруд. Да и какому рыболову не хочется поймать приличного карпа или сазана, занумерованных на карте Подмосковья цифрой шесть? Правда, такой пруд, как Продолговатый, и сам-то на карте не значился, не то что рыбы, водившиеся в нём. Но ребятам достоверно было известно от дворника дяди Николая, что в этом пруду имелась не только рыба номер шесть — карп, но и рыба номер один — щука, номер три — окунь и даже плотва с карасями, на которых составители рыболовно-охотничьей карты не пожелали расходовать цифр.
Короче говоря, Витя с Митей решили чуть свет уже быть на пруду, но так как Витя не догадался завести бой у будильника, на пруд они прибыли тогда, когда другие рыболовы уже сматывали удочки, убедившись, что сегодня ни один номер рыбы брать не желает.
— Я же говорил, что на речку надо было ехать... — принялся, как всегда, ворчать Митя. — Там хоть покупались бы вволю, а здесь... Одна тина да ряска...
— Ладно! Поехали, пока не жарко, на речку... — согласился Витя.
И тут как раз у одного пожилого рыболова, сматывавшего удочки, последняя, ещё не смотанная удочка покинула берег и резво направилась к середине пруда. Остолбеневший рыболов стал беззвучно хватать широко открытым ртом воздух, как это делают рыбы всех номеров, очутившиеся вне воды. Немного придя в себя, рыболов швырнул на землю все остальные снасти и бросился на противоположный берег.
Вероятно, он предполагал, что рыбка номер шесть там вынесет ему из воды удочку и извинится за причинённое беспокойство.
Митя с Витей раньше хозяина удочки прибежали встречать карпа. Но полупойманный карп у самого берега сделал левый поворот и потащил удочку в самый дальний угол пруда, сплошь затянутый ряской и тиной зелёно-грязного цвета.
— Пропала удочка, — прошептал рыболов. — Четыре целковых утащил, каналья...
— А рыбу вам не жаль? — спросил Витя,
— А! Не до рыбы...-
безнадёжно махнул рукой рыболов, — Ни одной лодчонки на всём пруду... Вот достаньте вы удочку, а рыбу можете взять себе...
— Раздевайся! — без обсуждения скомандовал Витя и сам стал готовиться к заплыву. — Ты плыви, Митя, прямо к удочке, а я буду смотреть с берега и в случае чего поплыву ей наперерез...
— А почему я должен плыть? — упёрся было Митя. — Может быть, мне тоже хочется смотреть с берега...
— Ты же всегда говорил, что плаваешь лучше меня... Вот и докажи... Он у нас в школе чемпион, — пояснил рыболову Витя,
Мите трудно было что-либо возразить, и он полез в воду. Пока он плыл по чистой воде, было даже приятно, но заплывать в тину было противно. Удилище спокойно стояло на одном месте, пока Митя не коснулся его пальцами. А лишь коснулся, оно снова ожило и помчалось на чистую воду.
— Кролем, кролем плыви! — закричал с берега Витя.
Митя так заработал руками и ногами, будто оспаривал первенство Европы. Скоро он догнал удилище
и схватил его. И тут рыбка номер шесть показала, на что она способна: Митя поплыл, не шевеля ни рукой, ни ногой, так, что и чемпион мира за ним не угнался бы...
— К берегу, к берегу тащи его! — кричал Витя. Это ты карпу скажи, чтобы он тащил меня к
берегу! — крикнул в ответ Митя и, бросив удочку, перевернулся на спинку, чтобы немного отдохнуть. — Сам теперь тащи его... Там не карп, а крокодил какой-то.
В это воемя удочка, сделав правый разворот, понеслась у самого берега, на котором стоял Витя.
— Хватай его! — крикнул рыболов и толкнул Витю в спину.
Витя плюхнулся в воду и, как хватается утопающий за соломинку, схватился за удильник. Схватился и тут же исчез под водой...
— Бросай удочку! — закричал Митя, плывя на помощь.
Витя вскоре вынырнул с удилищем в руках, но оно уже не дрожало, не гнулось в дугу, с конца его свисал обрывок лески...
На какую наживку он взял? спросил, отплёвываясь, Витя у рыболова.
— На манную кащу... - ответил обрадованный рыболов, пряча в чехол спасённую удочку.
— Завтра же купим самую толстую леску и хоть всё лето будем сюда ездить, а карпа поймаем,- решительно сказал Витя.
— Наш будет,. — подтвердил Митя.
ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ...
В это памятное воскресенье Митя и Витя болели сразу двумя лихорадками: грибной и футбольной. В лесу появились первые летние грибы, в Лужниках наша сборная принимала сборную Бразилии.
Решено было так: с утра мы едем в лес, к семи возвращаемся и усаживаемся у телевизоров.
— Только поедем куда-нибудь поближе, — сказал Митя. — Вдруг застрянем, как в прошлый раз...
— А выехать нужно чуть свет, — добавил Витя.
Погода в том году не особенно баловала нас, москвичей, солнечными днями. Те грибники, кто побывал в то воскресенье в лесу, наверно, помнят, с каким волнением они ждали в субботу сводку погоды? Но по сводке получалось, что ехать можно, и мы поехали. Правда, не с первыми солнечными лучами, хотя и поднялись рано: Витя больше часа перерывал квартиру, отыскивая сначала плащ, потом резиновые сапоги и, наконец, ножик. В лесу мы были тогда, когда порядочные грибники уже выходили из него кто с полной корзиной, кто с пустой...
— Вечно из-за тебя опаздываем... — ворчал Митя. — Не мог всё с вечера приготовить.
— Ничего! Наши грибы никуда не делись... Они нас ждут, — успокаивал Витя. — Сколько наберём, столько и будет... Главное — вовремя домой сегодня попасть, к телеку...
— К телеку что! Вот на стадион бы попасть... Есть же счастливчики! Сто тысяч счастливчиков, Я бы за билетик все грибы, какие найду, отдал...
И тут я достал из кармана билет на стадион и показал ребятам. Нет-нет! Я и не думал их дразнить. Для них и доставал билеты, да достал только один.
— Пусть сама матушка-природа решит, кому из вас сидеть сегодня на стадионе, а кому дома у теле-
визора, — сказал я. — Кому она положит больше грибов в корзину, тот и будет её избранником. Но помните: ровно в пять мы садимся в машину.
Лес огласился таким дружным «ура!», что листва на берёзах вздрогнула. Не теряя ни секунды, ребята ринулись в поиск.
Трава в лесу была уже изрядно вытоптана; можно было с уверенностью сказать, что до нас этот лесок прочёсывало не менее батальона грибников. Я долго бродил, пока нашёл первый свой белый грибок. Не везло мне ещё, может быть, и потому, что я поминутно окликал ребят, боясь, что в азарте они забегут невесть куда.
Митя собирал молча, а Витя то и дело оглашал окрестности победным кличем. В конце березняка мы сошлись и заглянули друг другу в корзинки. Я невольно позавидовал Мите: всё дно его корзинки покрывали некрупные белые грибки с коричневыми шапочками. У Вити белых было совсем немного, но зато мелких лисичек он нашёл целую пригоршню.
— Мой будет билетик! Мой! — торжествовал Витя.
— Несправедливо! — запротестовал Митя. — Да я и не брал лисичек... Смотри, одни белые...
— А уговору брать только белые не было... Кто найдёт больше, такой был уговор? Был! Так в чём же дело? — не сдался Витя.
Пришлось мне признать, что он прав. Действительно, по уговору победителем должен был стать тот, кто собрал больше по счёту.
Ровно в пять мы сели в машину. Витя сиял: у него в кармане лежал билет на стадион, а в корзине — тридцать семь грибов. У Мити было всего на один гриб меньше, но...
— Я потом расскажу тебе, как играл их знаменитый Пеле, — посмеивался над ним Витя.
— Сам увижу по телеку... — бурчал в ответ Митя. — Насобирал разного мусора и задаётся..,
Ребята так старательно носились по лесу, так устали, что, когда я стал заводить машину в гараж, они чуть не спали стоя. Но вдруг Митя встрепенулся,, протёр кулаком глаза,, бросил корзину и стал красться к стенке гаража, как кошка, подкарауливая воробья. Потом он упал на живот и стал царапать ногтями асфальт. Мы с Витей переглянулись.
— Мить! Ты это чего? — пролепетал Витя. — -Ты это из-за билета так расстроился? Не надо... Я могу уступить...
— Уступить?! — заревел Митя. — Не требую!! Я его и так получу!
Он вскочил, метнулся в гараж и выскочил из него с ломом в руках. Витя бросил корзинку и юркнул
за мою спину. Однако Митя и не думал совершать вооружённое нападение на своего закадычного дружка. Ломом он ловко поддел небольшой кусок вздувшегося асфальта и отбросил его в сторону. В ямке мы увидали два небольших белых шарика и сразу даже не поняли, что это были грибы. Да, да!, Грибы. Первосортные шампиньоны!
— Тридцать седьмой! — выкрикнул Митя, срывая один гриб и бросая его в корзинку. — А это тридцать восьмой, Витенька! Гони билет... Я потом расскажу тебе, как играл знаменитый Пеле...
Вечером мы с Витей сидели у телевизора и смотрели великолепную игру. Обидно было, что наши ребята не забили ни одного мяча, но бразильским футболистам надо отдать должное...
Был и такой момент: на секунду нам показали крупным планом болельщиков. И знаете что мы увидали? Солидная, уже не молодая гражданка, азартно размахивая правой рукой, что-то кричала в сторону стадиона. Левой рукой она даже не шевелила, потому что, положив голову на её левое плечо, крепко спал наш Митя.
— Ох!.. — простонал Витя и больше не произнёс ни звука.
Вероятно, потому, что победителей не судят...
|