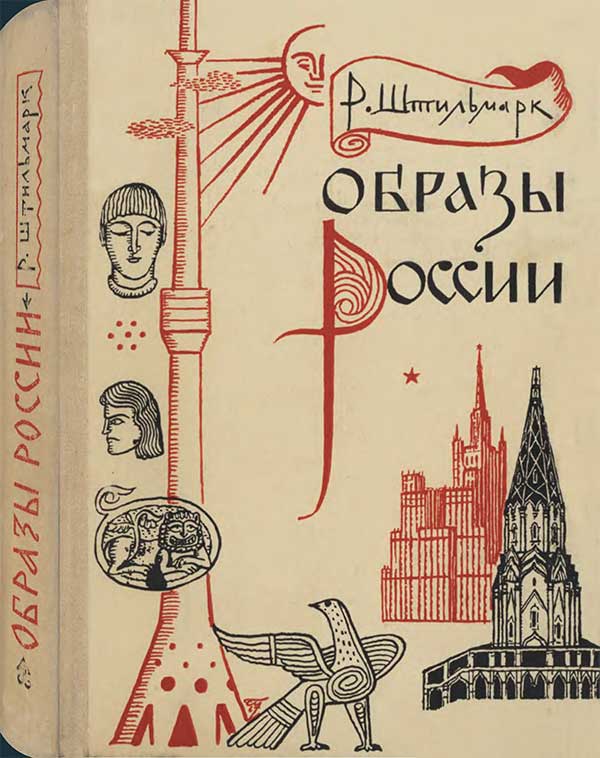О светло светлая и украсно украшена земля Руськая! и многими красотами удивлена еси: озеры многими удивлена еси, реками и кладязъми месточестьными, горами крутыми, холми высокими, дубравоми чистыми, польми дивными, зверьми различными, птицами бещислеными, городи великими...
Безыменный летописец XIII века
Архитектура — тоже летопись мира.
Н. В. Гоголь
Часть первая
ПО ГОРОДАМ КИЕВСКОЙ РУСИ 9
I. У истоков великого искусства
Стольный град Киев
В природе бывает, что несколько больших рек берут начало из одного полноводного озера. Киевская Русь — государство восточных славян IX — XII веков — стала колыбелью трех братских культур. Истоков любой из них нельзя понять, не увидев киевской старины. Один из первых князей Рюриковичей, Олег, прозванный в народе Вещим, предсказал Киеву его высокую судьбу: «Се буди мати градом русским...»
Он несказанно хорош весной, этот город-сад, над широко разлившимися полыми водами великой своей реки, так же неотделимой от истории Руси, как Нил — от истории Египта. Из вагонного окна Киев вдруг открывается взгляду, когда поезд, покружив среди пригородных холмов с живописным старинным кладбищем, как-то совсем неожиданно вылетает на высокий железнодорожный мост.
Вот он, овеянный дыханием летописных легенд, осыпанный лепестками цветущих каштанов, златоверхий красавец город с песчаными кручами над Днепром и густой зеленью садов, с легкими мостами и великолепными храмами-музеями, со старинным фуникулером и новейшей телевизионной вышкой, с пирамидальными тополями и восхитительными улочками, сбегающими с вершин к подножиям холмов, навстречу пароходным гудкам и пенным брызгам от глиссерных реданов.
Тому, кто впервые любуется Киевом с реки, невольно приходит дума о ноябрьской ночи 1943 года: тогда, в канун Праздника Революции, войска генерала Ватутина, одолевшие такую преграду, как Днепр, штурмовали под смертельным огнем эти крутые прибрежные высоты. Ныне вознесена над ними в самое небо игла памятного обелиска, и вечно живет тепло сердец человеческих в негасимом факеле на братской могиле...
Разумеется, всех этих страниц не хватило бы на самую беглую серию очерков о сегодняшнем Киеве, столице Украины, городе арсенальцев и редкостного приборостроения. Но для моей книги требовался другой Киев — хранитель памятников древней культуры, Киев князя Владимира, Ярослава Мудрого и... профессора М. К. Каргера, руководителя многолетних раскопок древнерусских памятников в Киеве и других городах.
Надо сказать, что прошлое вписано в облик сегодняшнего Киева естественно и органично. Связь зодчества с местной природой, содружество архитектурных школ, их преемственность помогли создать много городских ансамблей, удачно сочетающих опыт древних зодчих, народные традиции и достижения нового искусства.
Здания, выстроенные при Владимире, до нас не дошли — не выдержали испытания временем и бедствиями. Но память о былинном князе, прозванном Красным Солнышком, сохранилась и в местных киевских названиях и в картинном монументе, поставленном в прошлом веке на Владимирской Горке, высоко над днепровской синью.
...Длинная Владимирская улица ведет к Старокиевской горе — древнейшей части города. Здесь и зародился стольный град Киев. На этой-то горе и жил, по древнему летописному преданию, легендарный перевозчик Кий, а на двух соседних высотах будто бы поселились его братья Щек и Хорив с сестрою их, Лыбедью.
«Седяше Кий на горе, идеже ныне оувоз Боричев (место и поныне зовется Боричев взвоз, где проложен фуникулер. — Р. ZZZ.), а Щек седяше на горе, идеже ныне зовется Щековица (так и сейчас зовется! — Р. Ш.), а Хорив на третьей горе, от него же прозвалася Хоривица (ныне чаще зовется Киселевкой, но и имя Хоривица еще не забыто. — Р.Ш.)> и створиша град, во имя брата своего старейшего и нарекоша имя ему Киев», — так записал народное предание о начале Киева летописец Нестор в древнейшей русской исторической хронике XI — XII веков «Повести временных лет».
Советские археологи установили, что в VIII — X веках на трех киевских высотах были три славянских поселения, не связанные друг с другом, — каждое со своими могильниками, погребениями ремесленников и воинов-дружинников. Впоследствии эти три поселения племени полян и слились в один город.
Ранние киевские правители — Аскольд и Дир — исторически более достоверны, чем Кий с братьями. В городе сохранилась память об этих правителях — красивая площадка над Днепром поныне зовется Аскольдовой могилой. Тут приезжему показывают ротонду XIX века и каменную лестницу. К ее ступеням и террасам клонятся девически тонкие плакучие ивы, прозрачные, удивительно одухотворенные. Здесь ведь не просто красивый, несколько таинственный парковый уголок: тысячелетняя легенда рассказывает, что на этом месте правители Аскольд и Дир были убиты дружинниками новгородского князя Олега. Произошло это в 882 году.
С того времени, как Олег переселился из Новгорода в Киев и сделал его стольным градом всех русских земель, резиденция киевских правителей долго оставалась на Старокиевской горе. Здесь, за валами и стенами, рядом с курганом каменного века, жили в своих теремах князья Олег, Игорь, затем Ольга, Святослав и Владимир.
В начале X столетия город занимал лишь небольшую часть плато на Старокиевской горе. Днепр тогда был полноводнее и шире: теперешний Труханов остров, летний пляж киевлян, скрывался в старину под водой, а у подножия Старокиевской горы впадала в Днепр речка Почайна с притоком — ручьем Глубочицей. Местность по берегу Почайны за Глубочицей называлась Оболонью. На ее заливных лугах киевляне пасли скот и устроили языческое капище в честь бога Велеса (или Волоса) — покровителя стад. Подол, расположенный между Глубочицей и горой, заселен не был, а на месте нынешнего Крещатика находился заросший берестом дремучий овраг, где князья охотились и где княжеские ловчие добывали дичь тенетами, «перевесами», отчего и овраг получил название «перевеси-ще». Овраг перекрещивался с дорогой на село Бере-стово (летняя резиденция князя Владимира Святославича) — так родилось название «Крещатик». Вокруг Киева простирались дремучие леса. Они поднимались вверх по течению Днепра и Десны, сливались с болотистыми дебрями на Припяти.
Как известно, вдова Игоря, княгиня Ольга, смолоду приняла христианство. На Подоле, у берега Почайны, задолго до крещения Руси уже стояла христианская церковь святого Ильи. Есть отрывочные летописные известия и о других деревянных христианских храмах в языческой Руси — опыт сооружения таких зданий уже был у древнерусских мастеров к тому времени, когда христианство стало государственной религией. Ольгин сын Святослав оставался верен Перуну: в христианах он привык видеть врагов, потому что всю жизнь воевал против Болгарии и Византии. Кстати, византийский историк Лев Диакон сохранил нам описание внешности князя Святослава — это самое первое известие о княжеском одеянии на Руси. Льва Диакона прежде всего удивило, что русский прославленный князь запросто приплыл на военные переговоры с византийским царем Цимисхием в гребной лодке по Дунаю, сам действуя веслом, наравне с другими гребцами.
«Видом же он был таков, — пишет историк, — роста умеренного, ни сверх меры высокого и не слишком малого, с густыми бровями. Глаза у него голубые, нос плоский; бороды у него не было, но сверху над губой свисающие вниз густые, излишне обильные волосы. Голова у него была совершенно голая; на одной ее стороне висел локон, означающий благородство происхождения; шея крепкая, грудь широкая, и весь стан очень хорошо сложенный. Казался же он угрюмым и мрачным. В одном ухе висела у него золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами, с рубином посредине. Одежда на нем была белая, ничем от других не отличающаяся, кроме чистоты».
После переговоров с Цимисхием Святослав с дружиной двинулся домой, в Киев. У днепровских порогов его подстерегли предупрежденные печенеги. Прорваться сквозь заслон не удалось — дружина полегла вместе со своим военачальником. Печенежский князь Курея заказал себе кубок из черепа Святослава и хвастливо пил из него вино на пирах.
Младшему сыну, Владимиру, Святослав оставил в удел Новгород. Вскоре после известия о гибели князя-отца гонцы из Киева прискакали в Новгород с новой тревожной вестью: старший брат Владимира, киевский князь Яро-полк, пошел ратью на землю древлянскую. Средний брат, Олег Святославич, убит под Овручем, землю его захватил Ярополк.
Мать Владимира была не боярского, не знатного рода — Ольгина ключница Малуша, полюбившаяся суровому князю-воину Святославу. Старшие братья, Ярополк и Олег, рождены были знатной княгиней. Легко представить себе невеселое детство Владимира в киевских княжеских теремах! Княжить в Новгород он уехал еще при жизни отца, совсем юношей. Новгородцы любили, чтобы князь жил у них сызмальства и привыкал к тамошним порядкам.
Во главе большой рати из варягов, новгородцев, кривичей и чуди Владимир выступил против Ярополка. Он предложил союз полоцкому князю Рогволоду, дочь которого Рогнеда была просватана за Ярополка. События эти запечатлены во многих народных песнях, сказаниях, летописных свидетельствах. Все и произошло именно так, как поется в песне.
Владимир предложил полоцкому властителю отказать Ярополку: «Хочу дочь твою Рогнеду взять в жены».
Но полоцкая княжна отнеслась пренебрежительно к «сыну рабыни».
И как в песне, Владимир отомстил: внезапно напал на Полоцк, убил Рогволода и двоих его сыновей, а княжну взял себе в жены. В битве за Киев победа досталась Владимиру — он стал единым властителем всей Киевской Руси.
Княжение Владимира I Святославича Маркс назвал кульминационным пунктом в истории Киевского государства. Владения Руси при Владимире простирались от Прибалтики до Карпат, а на юге — до Черноморья. Былинный эпос связывает подвиги русских богатырей именно со временем Владимира — ведь это он привел и «муромцев» и других «сынов крестьянских» под киевские стены. С ними он ходил на степных кочевников, с ними одолевал в лесах соловьев-разбойников, наводивших ужас на торговых гостей. Былины по-народному мудро и глубоко отражают то далекое время.
Среди княжих мужей и отроков можно было тогда действительно встретить в дружине Владимира и выходцев из простого народа. Однако уже становится подчас не по себе крестьянскому сыну Илье Муромцу за княжеским столом! Поздние былины киевского цикла часто говорят об обидах, причиненных князем старшему богатырю. Лишь любовь к матушке Руси, опасности, нависающие над стольным градом Киевом, заставляют Илью забывать несправедливости, брать булатный меч и бросаться в сечу...
По некоторым летописным данным Ярополк, побежденный Владимиром, хотя и был еще язычником, но сочувствовал под влиянием своей бабки Ольги христианству. Между тем Владимир победил его с помощью языческого войска с севера.
Сразу после победы Владимир создал на Старокиевской горе великолепное языческое капище, всегда обильно напитанное алой жертвенной кровью. «И поставил (он) кумиры... Перуна деревянного, а голова у него серебряная, а усы золотые, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь». Так рассказывает об этом капище Начальная летопись.
Перун — главное божество языческого древнеславянского пантеона, бог грома и грозы, а также бог войны. Впоследствии это языческое божество преобразилось в христианского святого Илью. Имена Хорса, Дажбога и Сваро-га, или Стрибога, означают, по-видимому, одно божество: Солнце. Множественность его имен соответствует многопле-менности Владимировой державы. Что касается Мокоши, то эта таинственная богиня покровительствовала ремеслу ткачей и была связана еще со стихией рек. Главным женским божеством была у древних славян Великая богиня — символ земли, божество плодородия, Рожаница. Культ ее впоследствии слился с поклонением христианской богородице.
Но язычество уже изжило себя в феодальном государстве. Требовалось укрепить княжескую власть новой государственной религией, дать простому народу новые нравственные нормы, теснее связать русское государство со странами Запада, прежде всего с православной Византией.
В 988 году произошло крещение Руси. Одна из интереснейших страниц Начальной летописи — рассказ о том, как долго и тщательно князь Владимир «выбирал веру». Он присматривался к иудаизму, мусульманству, католичеству, православию. По летописному рассказу, посланцам Владимира в Европе не приглянулись католические храмы, ибо в них «красоты не видехом никоеяже». У греков же в Царьграде великолепие храмов и церковного обряда так поразило киевлян, что они позабыли «на небе есме, ли на земли: несть бо на земли такого вида, ли красоты такоя».
Очень характерно, что по этой легенде сердца древнерусских людей дрогнули именно перед лицом красоты — к ней всегда чутка душа русского человека. «Мы убо не можем забыти красоты тоя; всяк бо человек аще вкусит сладька, последи горести не приимает».
Летописец, однако, не скрывает, что приказ Владимира о принятии новой веры был крут и строг: князь объявил уклоняющихся от крещения врагами государства и власти. Самые ожесточенные приверженцы язычества бежали в леса, но и те, что пришли к Днепру, рыдали при виде ниспровергнутых старых богов. Даже летописец утрачивает свой невозмутимый тон и восклицает: «Чюдны дела твоя, господи! Вчера чьтим от человек, а днесь поругаем!» И тут же прибавляет, что когда Владимир повелел привязать статую Перуна к конским хвостам и «влещи с горы на Ручай», то народ с плачем побежал к Днепру, провожая слезами ниспроверженного идола.
Кстати, предание говорит, что именно с этой сценой связано название прибрежной местности и древнего монастыря: будто киевляне-язычники бежали вдоль берега и кричали: «Выдыбай, наш боже!» И деревянный Перун» словно вняв их мольбам, вынырнул из быстрой реки в двух верстах ниже Киева, а потом поплыл дальше, к днепровским порогам. После этого местность в Киеве, где язычники провожали Перуна, стала называться Выдубичами, отчего и монастырь получил название Выдубицкого. Монах Сильвестр составил именно здесь, восемь веков назад, первый свод древнерусских летописных записей.
Одну из этих записей, рассказ о крещении киевлян, художник Виктор Васнецов очень точно воспроизвел средствами живописи в своих знаменитых росписях Владимирского собора, построенного в Киеве в XIX веке.
После крещения в Киеве начато было крупное строительство — возводились новые терема, служебные здания и, конечно, храмы. В город приехало множество ремесленников, торговцев, служилых людей: великокняжеская резиденция росла быстро, ей нужен был блеск! Владимир потребовал от византийских императоров Василия и Константина их сестру, принцессу Анну, себе в жены, желая подчеркнуть этим новым бракосочетанием возросший международный авторитет Руси. А покинутая князем поло — чанка Рогнеда, по некоторым летописным сведениям, постриглась в монахини под именем Анастасии.
С образом Владимира в народной молве связано название киевского Детинца, Верхнего города на вершине Старокиевской горы. Окружали город Владимира мощные стены и укрепления из земляных валов и рвов. В Детинец вели Софийские (впоследствии Батыевы) ворота.
Нижний город строился на нынешнем Подоле, около большого торгового порта, что возник близ устья реки По-чайны. Именно здесь, около древнейшей деревянной Ильинской церкви, выходили на гальку киевского берега заморские гости — греки и купцы новгородские, прибывшие с товарами великим водным путем.
Люди Киевской Руси обладали своими устойчивыми, веками сложившимися традициями языческого искусства. Восточнославянские племена, соединенные под властью киевского князя, имели многовековой опыт в деревянном зодчестве, в создании красочных орнаментов для утвари и построек, в затейливом литье из бронзы, железа, драгоценных металлов, в искусстве ювелирном, мастерстве кузнечном. Новгородцы были особенно прославлены как искусные мастера-плотники. Еще в языческие времена жилища древних киевлян размещались по определенному замыслу, образуя улицы и торговые площади. Это показали археологические раскопки. Жилье строили из глины, земли, жердей, плоского, сильно обожженного цветного кирпича — плинфы и, конечно, из дерева. Дома боярские рубили в древнем Киеве разнообразно и красиво: топором и долотом строители создавали замысловатые, очень своеобразные по внешнему виду постройки, например терема с остроконечными шатрами и кровлями.
В X веке мастера Киевской Руси соприкоснулись с богатейшим искусством Византии и Болгарии. По приглашению Владимира приехали тогда в Киев греческие мастера строить и отделывать каменные православные храмы. Рука об руку с приглашенными работали и русские художники.
Впоследствии русские мастера изменили и развили по-своему византийское наследие. Семена византийской красоты, так поразившей посланцев Владимира, дали новые богатые всходы на древнерусской земле.
Первые творения киевских зодчих
Старейшим каменным храмом древней Руси была большая киевская церковь, посвященная Успению богородицы. Строилось это замечательное сооружение с 989 по 996 год. На содержание храма князь Владимир пожаловал «десятину» (десятую часть) своих княжеских доходов. Отсюда и прозвище церкви — Десятинная.
Благодаря труду украинских и русских археологов и искусствоведов ныне можно видеть очертания фундамента Десятинной церкви и получить полное представление о ее первоначальном плане. Фундамент заботливо оберегается: изучение всех его элементов важно для истории русского зодчества.
Ленты древнего фундамента сверху прикрыты защитительной кладкой из кирпича, а с боков залиты асфальтом вровень с землей и кирпичной кладкой. Получается точный план здания — с асфальтовым фоном хорошо контрастирует красноватый цвет защитного кирпича. Можно ходить по всей этой площадке, делать замеры, изучать планировку.
Некогда, в X столетии, угол Старокиевской горы с Десятинной церковью называли Бабиным Торжком. Как предполагают археологи, именно здесь, на этой небольшой площади, князь Владимир приказал установить вывезенные им из Корсуни античные скульптуры — бронзовую колесницу, влекомую четверкой коней, мраморные статуи богинь древней Эллады. Вероятно, эти статуи и объясняют название площади — Бабин Торжок. Торжками назывались в старину маленькие базары. Таких торжков в древнем Киеве насчитывали восемь.
Неповторимо прекрасным было сочетание античного наследия, византийского искусства и древнерусского умения. Бронза и мрамор греческих скульптур, могучие башни и прясла крепостных стен, золотые купола и кресты Десятинной церкви, верхи княжеских теремов на Старокиевской горе царили над пестрой неразберихой нижнего города. Вдоль крепостных стен, по склонам холмов, по берегам ручьев и речек лепились домики горожан, ремесленников и бедняков. Трудовой люд жил в землянках и полуземлянках с крышами из жердей, прикрытых дерном. Кто побогаче — имел рубленое жилище с тесовой кровлей. Там и сям вздымались в нижнем городе каменные и деревянные церкви, а в удобных местах домики будто расступались, образуя площади для торжков.
Один из путешественников XI века, епископ Дитмар Мерзебургский, уверяет, что в Киеве было тогда до четырехсот церквей. Возможно, он принимал за церкви шатровые башенки богатых хором.
Златоверхие теремные башенки, крепостные вышки, церковные шатры и главы красиво выступали из густой сочной зелени на холмах, отражались вместе с деревьями в Днепре. Гости сравнивали древний Киев с Салониками и даже самим Царьградом. Летописец говорит, что деревянные постройки в Киеве и других древних городах на Руси возводили опытные мужи «от словень, и от кривичь, и от чюди, и от вятичь». Возможно, что в архитектурной отделке богатых деревянных зданий издавна применялись и бочкообразные и иные сложные завершения. Эти исконные древнерусские архитектурные формы сказались и на внешнем виде первых каменных храмов.
...Владимир скончался в 1015 году. Тело его погребли в Десятинной церкви, куда сам он ранее перенес из Выш-города прах своей бабки княгини Ольги. Скоропостижной смертью отца воспользовался Святополк Владимирович, предательски убивший своих братьев — Бориса и Глеба, а позднее и Святослава. Последний из братьев, Ярослав, княживший в Новгороде, выступил с ратью против Свято-полка Окаянного и одолел его. Впоследствии Ярослав получил в народе прозвище Мудрого. При нем Киев стал одним из самых больших городов Европы. Новые насыпные валы с каменными стенами по гребню длиной около четырех километров опоясали Киев. Главным входом в город с юго-запада стали знаменитые Золотые ворота.
Этот парадный въезд в Киев был крупным архитектурным сооружением. Две параллельные стены, перекрытые сводом, напоминали тоннель. Главный вход в тоннель был устроен в отводной башне-стрельнице, а еще две дополнительные башни с зубчатыми верхними парапетами защищали среднюю стрельницу с флангов. Надвратная церковь Благовещения с золоченым куполом венчала все сооружение. Дубовые полотнища центральных ворот окованы были позолоченной медью, нестерпимо сверкавшей на солнце. В нижней части Золотых ворот, под церковью, были хранилища для ценностей, и, видимо, здесь же содержали под стражей арестантов.
Если путник ехал к Киеву с юго-запада, по Васильковской дороге, то справа, за глухими дебрями Крещатого яра, оставался Киево-Печерский монастырь, а рядом с ним — село Берестово с летними княжескими теремами и храмом Спаса. Сразу же за выездом из яра возникали перед путником высокие городские стены, а сквозь арку Золотых ворот уже виднелся силуэт самого великолепного строения в тогдашнем Киеве — Софийского собора. На пути к нему видны были также церкви Ирины и Георгия, а дальше, уже за второй стеной — Детинцем, золотели главы Десятинной церкви и шатры княжеских теремов.
Мы и сейчас, спустя тысячелетие, можем взглянуть на Софийский собор сквозь руины Золотых ворот. С Владимирской улицы свернем под сень густо разросшегося, хорошо ухоженного сада и поднимемся на холм с руиной. Бросим взгляд на каменную кладку, ощупаем красноватые камни — розовый шифер, серый гранит вперемежку с плоским кирпичом — плинфой. И будто отдаст тебе этот нагретый солнышком камень тепло тех рук, что укладывали кирпич и булыжник в густой известковый раствор, может быть, даже сохранивший отпечаток натруженных ладоней киевского мастера. И, обменявшись этим рукопожатием с древним пращуром, станем между стенами Золотых ворот и поглядим туда, где высится обласканная солнечными лучами колокольня Софии.
Конечно, вид отсюда ныне не тот, что поражал в XI веке путника, входившего в Ярославов град. Не было тогда у Софии высокой нарядной колокольни — она создана всего лет двести назад, при Екатерине. Да и самое здание собора, построенное Ярославом Мудрым около середины XI века в память победы над печенегами, а с тех пор не раз переделанное, являет собою ныне образчик пышного украинского барокко, а не первоначального — византийского — стиля. Храм и колокольня обильно украшены затейливыми карнизами, разорванными фронтончиками, завитками-волютами. Строгость утрачена. Вместо византийских полукруглых куполов блестят золотом грушевидные. Весь этот пышный декор в сочетании с неуклюжими контрфорсами, укрепляющими углы и участки стен собора, изменил архитектурный ритм здания, его идею. А идея-то была грандиозной!
Массы здания нарастали плавными ступенями, словно взлетая к главному куполу. Объемы ритмически возносились ввысь, один над другим, и завершались двенадцатью куполами, которые создавали как бы стройную пирамиду вокруг тринадцатого, главного. В таком же ритме нарастания сооружены и пять восточных выступов или абсид: крайние — ниже средних, а средние — ниже центральной абсиды, вмещавшей главный алтарь. Как раз восточный, алтарный, фасад собора наименее подвергался переделкам, — он и сейчас как бы приоткрывает нам первоначальный замысел строителей.
Интересны разные типы кладки в древних храмовых сооружениях XI века.
В киевской Софии ряды кирпича-плинфы чередуются с рядами природного камня, заглаженного цемянкой (известковый раствор с примесью толченого кирпича). В те далекие времена фасады не штукатурились. Создавалась очень своеобразная наружная фактура стены. В основание выбирали камень покрупнее, попрочнее — глыбы гранита, кварцита, красного шифера. Чем выше поднималась стена, тем меньше становились эти каменные глыбы, уступая место более легкой плинфе. В опорных конструкциях — столбах, арках, сводах — строители вовсе не применяли камня, делали их из одной плинфы на крепком, хорошо вяжущем цемяночном растворе.
По-иному сложена церковь Спаса на Берестове, где похоронен Юрий Долгорукий. Там кладка выполнена из одного кирпича. Чередуются кирпичные рядки — один выступает, а следующий утапливается в растворе и заглаживается.
Вечерами, на закате, когда красные лучи горели на золотых главах и крестах, будто в каждом из них зажжены были свои маленькие солнца, чередование полос плинфы и камня в Софии или кирпичных рядков в Берестовской церкви оживляло эти стены трепетной игрой светотени.
Если внешние формы Софийского собора существенно переделывались за тысячелетие, то его внутреннее решение сохранилось почти неизменным. Оно до сих пор восхищает грандиозностью и цельностью замысла.
«Церковь дивна и славна всем окружним странам, яко же ина не обрящется во всем полунощии земнем, от востока до запада», — сказал о Киевской Софии талантливый русский церковный писатель Илларион. Недаром киевская София на века определила основные приемы храмовой древнерусской архитектуры.
Подлинно высокое искусство тем и велико, что даже тысячелетия не в силах исчерпать его таинственного воздействия на людские души, все равно, зрелые или юные, доверчивые или скептические, утомленные прежними впечатлениями или жаждущие новых. Надо лишь уметь настроить себя к восприятию серьезного, глубокого, очень отдаленного от нашей жизни искусства древних народных мастеров, искренне веривших тому, что давно превратилось для нас в сказку, легенду, литературный образ.
Художественные средства, примененные во внутренней декорации Софийского собора (сохранившейся почти неизменной), строго подчинены одной цели — представить догматы православия в виде стройной и цельной системы. Древние художники с поразительной силой достигли этого художественного и смыслового эффекта, эпически величаво прославили молодое Киевское государство, представив целый сонм его «небесных покровителей».
Софийские фрески и мозаики должны были зримо убеждать прихожанина в том, что церковь как бы само небо, опустившееся на землю. Создавая эти мозаики и фрески, древние мастера проявили такое колористическое, композиционное, музыкальное совершенство, что и современный зритель остается пораженным.
...В собор я вошел в час, когда посетителей не было. Храм скупо освещался лучами солнца из окон. Световые лучи врезались в сумрак и делали воздух как бы видимым, слегка клубящимся и облачным. Шаги глухо отдавались под сводами: чугунные плиты еще в прошлом веке заменили давно обветшавшие мозаичные полы из камня.
Храм построен в форме крестово-купольной. Главный неф (от латинского nevos — корабль) — средняя, самая широкая часть храма, отделенная столбами от четырех параллельных галерей, — идет с запада на восток. С главным нефом перекрещивается трансепт — средняя галерея, вытянутая с юга на север. Это перекрестье и покрыто центральным куполом.
Нелегкая задача была — перекрыть круглым куполом прямоугольную конструкцию. Зодчий решал эту задачу с помощью подкупольных столбов и треугольных изогнутых сводов, похожих на паруса, наполненные ветром. Название парусов за ними и утвердилось. Между столбами перебрасывались арки, несущие вместе с парусами тяжесть купольного свода.
Опорных столбов в Софии — двенадцать. Столбы имеют в плане тоже крестчатую форму. Они-то и членят внутреннее пространство храма на обособленные части, нефы. Входя, мы идем по главному нефу и останавливаемся под куполом.
Сравнение архитектуры с музыкой не ново. Но ритм музыкальный течет во времени, ритм архитектурный воплощен в пространственных формах. В архитектуре звучание как бы застыло в некий миг ритмического взлета, взмаха. Древним грекам казалось, что плавное движение звездных светил по синему куполу небесной сферы рождает гармонию ритмичных звуков, доступных слуху поэтов и философов. Они говорили о музыке небесных сфер.
Вероятно, такая музыка звучала бы для них и в «сферах», то есть сводах и арках, Софии. Причем этот ритм пространственных форм служит лишь аккомпанементом к тому главному, что бросается в глаза входящему — колоссальной мозаичной фигуре богоматери, Марии-оранты, парящей в золотистом сумраке над алтарем. Это и есть знаменитая «Нерушимая стена» киевской Софии. Ей скоро исполнится тысяча лет!
В фиолетово-синих одеждах, в темно-лиловой с коричневатым отливом фелони, ниспадающей с головы и плеч, Мария словно выплывает из мерцающего фона золотой смальты. Лицо ее исполнено строгости и величия. Широко раскрытые очи устремлены на вошедшего. Руки подняты для благословения и моления — отсюда и название: оран-та — молящаяся. За поясом белеет вышитый платочек-руш-ничок. На подпружной арке — торжественная надпись греческими буквами.
А еще выше, в главном куполе, изображен как властитель небес, вседержитель, или, по-гречески, пантократор, Христос. К нему и протягивает руки Мария-оранта, олицетворяющая, по замыслу создателей храма, заступницу-церковь.
В барабане купола прорезаны узкие, закругленные поверху окна, и оттуда падает внутрь храма дневной свет. Древние зодчие позаботились о том, чтобы и свет участвовал в ритуале. Если молебствия происходили днем и солнце озаряло из двенадцати купольных окон храмовый полумрак, людям, стоящим внизу, должно было чудиться, будто озарение исходит от самого образа Христа, как бы парящего над золотым морем света, а купол воспринимался как голубой свод небес.
Из других мозаичных картин у алтаря очень хороша по композиции, колориту и пластичности сцена «благовещения».
Фигура архангела Гавриила, спешащего к деве Марии, украшает левый столб главной алтарной арки, а на правом столбе снова предстает перед нами сама дева, но уже в иной художественной трактовке. Здесь она изображена за рукоделием: в ее опущенной руке видно веретенце — Мария прядет красную нить для храмовой завесы. Склоненное лицо ее и трогательно женственная поза с этим опущенным, будто забытым, веретенцем выражает чисто человеческое ожидание.
Фигура архангела в отличие от застывшей в предчувствии Марии исполнена порыва, динамики, редкостной для византийских мозаик. Гавриил словно только что успел коснуться земли — правая нога его еще полусогнута, сложенные руки подняты, вся поза динамична. Художник отлично передал переход от одного движения — полета — 26
к другому: стремительной ходьбе. Обе фигуры софийского «Благовещения» разделены пролетом арки и видны как раз над царскими вратами резного иконостаса.
Мозаичная живопись Софии гармонично сочетается с фресковой. Из-под многих наслоений штукатурки реставраторы расчистили около пяти тысяч квадратных метров уникальной фресковой росписи на стенах и столбах собора. Тут, кроме религиозных сюжетов, есть и светская портретная живопись.
Сравнительно хорошо сохранились портреты дочерей князя Ярослава Мудрого в главном нефе, справа от входа. Вероятно, эта группа привлекательных женских фигур является лишь частью большой композиции, изображавшей все княжеское семейство.
Слева от входа можно видеть следы портретной фрески — сыновей Ярослава, а изображение самого князя с княгиней предположительно находилось против алтаря, на внутренней западной стене, не устоявшей до нашего времени.
Множество фресок Софии изображает христианских мучеников, подвижников, воителей, отцов церкви. Образы их по-византийски неподвижны, суровы и спокойны. Они вознесены над человеческими страстями и думами. Исполнены эти фрески многими мастерами, но по времени вся эта роспись относится к той далекой поре, когда храм впервые освобождался от лесов.
Нельзя забывать: собор Софии возник всего через полсотни лет после введения на Руси христианства! Под его своды первыми приходили те, кто еще помнил себя язычником, веровал в наивную языческую магию, в чародейство, приносил жертвы Перуну в капище над Днепром, задабривал домового и овинника.
И сам этот вчерашний язычник, и его дети, и внуки вникали в содержание софийской живописи с трудом, но именно эта живопись наглядно поучала христианским добродетелям, служила образцом нравственного воспитания. На примере Иуды человек учился презирать предательство, в образах подвижников представала перед прихожанином моральная доблесть. Древним людям на Руси могли импонировать суровая простота этих непреклонных подвижников, их презрение к богатству, их воинские подвиги, самоотречение, душевная сила и стойкость в испытаниях, наглядно показанные здесь в стенных росписях.
Предполагается, что лестничные башни в соборе были некогда связаны галереей-переходом с княжеским теремом, а фрески, поныне украшающие стены башен, могли быть заказаны чуть ли не самим Ярославом Мудрым!
В этих башенных росписях нет никаких религиозных мотивов — это самые первые, самые ранние образцы древнерусской светской живописи. XI век! А краски живые, фигуры динамичны и жизненно верны.
На фресках можно видеть, например, сцены скоморошьих игр: шут в красном колпаке сыплет прибаутками, музыканты играют на рожках и гуслях. Есть у них и струнный инструмент, очень похожий на украинскую бандуру. Интересная деталь: у одного из музыкантов (на фреске северной башни) в руках смычковый инструмент, близкий к скрипке. Музыкант поднимает инструмент к плечу и держит наготове смычок — почти так, как это сейчас делают скрипачи. Временем рождения скрипки музыковеды считают XV столетие. Фреска же в северной башне Софии создана, может быть, при жизни Ярослава, возможно, им и заказана — значит, было это за четыреста лет до «официального» рождения скрипки! Очевидно, на софийской фреске изображен некий дальний прообраз скрипки, каким пользовались музыканты при киевском великокняжеском дворе.
Есть среди светских росписей в лестничных башнях очень живые охотничьи сцены. Тут и гепарды, и охота на диковинного вепря, сцена нападения фантастического волка на всадника, охота на белку. Изображены конные состязания на константинопольском ипподроме, причем предполагается, что женская фигура в белом рядом с византийским императором — это русская княгиня Ольга, прабабка Ярослава.
Много государственных обязанностей несла в Киевской Руси величественная София. Здесь киевские князья принимали с долгими, пышными церемониями иностранных послов. Здесь начиналось летописание и создавалась первая на Руси библиотека рукописей.
Служила София также усыпальницей киевских правителей. Слева от главной алтарной абсиды, в одной из око-28
нечностей боковых нефов, стоит в полумраке . массивный саркофаг серо-белого мрамора, богато украшенный резьбой. В нем покоится Ярослав Мудрый, великий киевский князь. А в притворе южной части сберегаются археологические находки, сделанные при раскопках Десятинной церкви. Одна из находок особенно интересна: небольшая гробница из резного розового шифера. Ученые считают, что это саркофаг княгини Ольги, перенесенный Владимиром из Выш-города в усыпальницу Десятинной церкви. Над украшением этого розового саркофага потрудились искусные русские камнерезы.
Кто же создал этот собор, его архитектуру, мозаики, фрески?
Сооружена киевская София в 1037 году. Имен ее творцов летописцы не сохранили. Византийские элементы в храме тесно переплелись с древнерусскими: тринадцатиглавие идет, по-видимому, от деревянной Софии новгородской, башни для входа на хоры устроены по образцу древнерусских теремов. Традиционно для деревянных теремов и обилие приделов, как бы прирубленных к главному массиву здания... «Нужно также подчеркнуть, — говорит Н. Н. Воронин, — что своими размерами киевский Софийский собор намного превосходил византийские крестово-купольные пятинефные храмы».
Да и лица святых на многих софийских фресках — чисто русские, заметно разнящиеся от византийских ликов. Значит, авторами этих росписей наряду с художниками-греками были и киевские живописцы.
Но с востока грянул смерч Батыев, И, облекшись в пепел, дым и смрад, Ты померк, первопрестольный Киев, Ярослава златоверхий град.
Николин день
Год 1240-й. Разорение Киева татаро-монгольской ордой. Начало самой темной и страшной полосы в истории Руси. Вторжение монголов русские люди воспринимали как бедствие неслыханное, библейское, космическое, как неотвратимый гнев божий, гибель мира.
Но письменных свидетельств сохранилось мало — в пламени городов записи погибали вместе с самими летописцами. До прошлого столетия историки располагали главным образом пересказами различных преданий о нашествиях Чингисхановом и Батыевом.
С XIX века на помощь историкам пришла сравнительно молодая наука, исследующая как раз самую древнюю пору жизни человечества, — археология. Разумеется, археологические памятники — могильные курганы, древние капища и храмы — были известны ученым давным-давно, но лишь в недавнем прошлом археология получила арсенал новейших технических средств, армию специалистов, и прежнее любительское «кладоискательство» заменила строгая методика современных раскопок.
Именно они-то и дополнили летописные свидетельства новыми открытиями, вещественными памятниками истории.
Находки эти сделали для нас зримой и картину разорения Киева Батыем. Хранятся эти свидетельства прошлого в ленинградском Государственном Эрмитаже, Киевском историческом и других музеях страны.
Что же рассказывают нам летописи и археологические находки?
...Осенью 1240 года пришел под Киев на разведку хан Менгу с отрядом. Город на том берегу Днепра настолько поразил татарского хана, что он предложил киевлянам сдаться без боя ради сбережения такой красоты. Но защитники понимали, что «сберечь» татары хотят не город, а собственную воинскую силу. Предложение было решительно отвергнуто.
В начале декабря осадили Киев главные силы татаро-монголов. Командовал ими сам Батый.
От скрипа телег татарских, рева верблюдов, конского ржания за стенами града киевляне не смогли слышать друг друга, — так рассказывает летописец про эту осаду. С днепровских круч, с высоких городских стен русские люди смотрели, как через сизый, по-зимнему похолодевший Днепр переправляется татарская орда.
Ночами дым от множества костров плыл в небо, по всему горизонту багровое от пожаров. В городе люди прощались друг с другом в ожидании неминуемой смерти. Отцы и старшие братья пригоняли доспехи и точили оружие, матери прятали ребятишек по подвалам и даже в печах.
В городе заперлись не только киевляне: под защиту каменных стен поспешили тысячи беженцев, иноплеменных обитателей Киевской земли — половцев и торков, иностранных торговых гостей, застигнутых бедою в днепровском порту.
В канун Николина дня Батый начал штурм.
Нижний город, Подол, уже пылал, опустелый и разграбленный.
Со стороны Крещатинского яра и оголенных, безлиственных дебрей татары подтащили к Лядским воротам стенобитные машины — пороки. Машины эти, созданные в Китае, обслуживались и в армии Батыя китайскими мастерами-стенобитчиками.
Осажденные киевляне дрались отчаянно, осыпали стрелами атакующих, но несметно было число их! Тяжелыми каменьями татары били и били в городскую стену у Ляд-ских ворот и, наконец, проломили ее. Батыева рать ринулась в пролом.
Осажденные отступили к последним стенам — Детинцу на Старокиевской горе. До вечера длился смертный бой, лишь к концу дня захватчики преодолели стены древнего Владимирова города. С наступлением темноты бой затих. Татары легли отдохнуть прямо на стенах и в башнях Детинца. Но за ночь жители, не спавшие ни часу, успели возвести внутри Детинца деревянные частоколы, насыпать валы из земли, щебня, обломков.
Рассвело. Утро Николина дня, 6 декабря 1240 года, наступило. Бой закипел на всех улицах, во всех уголках старого Киева. Остатки дружины во главе с тысяцким Дмитрием заперлись в стенах самого большого и прочного здания на Старокиевской горе — Десятинной церкви.
В этой церкви заранее спрятались сотни горожан, искали спасения целые семьи со своими пожитками. Прибежал сюда, среди прочих, некий ремесленник-ювелир по имени Максим, притащил с собой самое ценное, что имел, — формочки для золотого литья, помеченные именем мастера. Наверное, сюда же, под защиту церковных стен, торопился и другой ремесленник-киевлянин, мастер по изготовлению хрустальных бус. Он наполнил бусами глиняный сосуд — корчагу, схватил под мышку и выскочил из дверей своего жилья, да, видно, опоздал! Тут же обрушился на него удар татарской сабли, а по лестничным ступенькам рассыпались хрустальные бусины из разбитой корчаги...
В наглухо запертой церкви, уже окруженной врагами, было сумрачно. Горели свечи, мерцало золото на образах, зарево пожаров отблескивало на цветной смальте мозаик, на каменных плитах пола. Уже никто не надеялся на заступницу богородицу, в чью честь был воздвигнут храм, никто не ждал помощи — прийти ей было неоткуда.
Вдруг кто-то подал шепотом мысль: спастись бегством через подкоп! Это была мысль отчаянная, безумная, но гибнущие ухватились за нее. Ведь снаружи татары уже подтаскивали к стенам храма тараны-пороки. Вот и первый сокрушительный удар... Еще и еще... Сотрясается храм, дрожат полы на хорах, где сотни людей в ужасе, закрыв глаза, прижимаются друг к дружке, ждут своего часа.
А горсточка самых предприимчивых уже взялась рыть землю. В дело пошли два заступа и деревянное ведро на веревке — ведь вынутый грунт надо поднимать наверх!
Удары пороков в стену все чаще, все сокрушительнее. Первые трещины разбегаются по фрескам и мозаикам. Падают иконы, рушится штукатурка на согнутые плечи, на склоненные головы. Потом страшный грохот, вопль и — конец трагедии! Своды рухнули. Тяжелая, крытая свинцом кровля провалилась. Облако праха и пыли взметнулось к небу, и развалины Десятинной церкви на века стали братской могилой всех, кто искал спасения в стенах и подвалах храма.
Неведомо, как остался жив тысяцкий Дмитрий. Быть может, он в последний миг ринулся на вылазку. Во всяком случае, летописец рассказывает, что Дмитрий с тяжелым ранением попал в плен, — и татары были так поражены мужеством воеводы, что сохранили ему жизнь.
Разграбив Киев дотла, Батый двинулся на Волынь, а затем к венгерской границе.
В дымящиеся развалины был превращен великокняжеский град. Там, где стояли терема и башни, бронзовые квадриги и мраморные статуи Бабина Торжка, жилища киевлян и златоверхие храмы, остался разоренный и дикий пустырь. Его заносило прахом, заметало пылью, и сухой колючий терновник покрыл осыпи руин. Бурьян разросся среди развалин, а через десятилетие заполнили град Владимиров и Ярославов окрестные дебри, захлестнули зеленым морем Старокиевскую гору, подножие Софии... Волки выводили по яругам своих детенышей, птицы свивали гнезда в расселинах стен, и над всей этой картиной запустения молча и грустно возвышались остовы разоренных соборов.
Множество жителей татары увели в плен — они особенно дорожили русскими ремесленниками, умельцами. Другие киевляне сами ушли на север, в леса Владимирской, по-старому Ростово-Суздальской, земли, в княжества Московское и Тверское. Но где-то рядом с опустошенным Детинцем все-таки продолжала теплиться жизнь. Люди выходили из окрестных лесов, постепенно оправлялись от пережитого, налаживали свой быт. Опять зазеленела первая полоска хлебов, ударил молот кузнеца, родилась несмелая песня...
Лет тридцать после разгрома Киева Батыем бывший архимандрит Киево-Печерского монастыря, этого, по выражению академика А. С. Орлова, «самого книжного из всех тогдашних центров книжности», епископ владимирский Серапион писал в скорбном своем «Слове»:
«Села наши лядиною поростоша, величество наше сми-рися, красота наша погибе... И всласть хлеба своего изъести не можем, и воздыхание наше и печаль сушит кости наши...»
Прошло шесть веков, и, говоря о «кровавой грязи монголо-татарского ига» в «Секретной дипломатии», Карл Маркс подчеркнул, что иго это «не только давило, оно оскорбляло и иссушало самую душу народа, ставшего его жертвой».
Еще не раз прокатывались татарские орды по разоренной Киевской земле. В XV веке крымский хан Менгли-Ги-рей снова опустошил ее, сжег Печерский и Златоверхий-Михайловский монастыри. Но опять-таки -люди не бросили опаленную свою землю, а возродили ее к новой, полнокровной жизни. Здесь сложилась украинская нация, возникла своеобразная, сильная культура, вобравшая многое из того, что было создано и выстрадано всей историей древней Киевской Руси. В XVII веке украинцы восстановили и Софийский собор.
Сейчас на территории вокруг Софийского собора и в расположении великолепной Киево-Печерской лавры с ее многочисленными церквами-музеями и таинственными подземельями созданы государственные историко-архитектурные заповедники, широко идут археологические раскопки и реставрационные работы. Они воссоздают для нас поучительные, радостные и скорбные, величавые и героические картины далекого прошлого.
Великим водным путем из варяг в греки
Намереваясь рассказать читателю, каким был этот путь прежде и как он выглядит сейчас, я покидал Киев на быстроходном речном катере с подводными крыльями — «Ракете». Около двухсот километров предстояло пройти Днепром, а затем вверх по Сожу, до Гомеля. Для «Ракеты» такая дистанция — сущий пустяк, несколько часов. На полной скорости волна сильно и жестко бьет в днище, будто под ним не вода, а мостовая с выбоинами.
Прибрежные перелески, рощи, сады, по-весеннему свежие, сливаются с городскими окраинами; клиньями парков зелень вторгается в самый город. Привольные окрестности Киева будто самой природой созданы для отдыха горожан среди голубой и зеленой красы.
Проводили взглядом Вышгород, некогда резиденцию княгини Ольги, место, где, по рассказу летописца, суровый Святослав горестно рыдал над гробом матери.
Здесь создана последняя электростанция днепровского каскада, и на берегах нового Киевского моря возникнет скоро целый курортный край с многоэтажными пансионатами и курзалами, охотничьими и рыболовными базами, водными станциями и заповедными лесами. Сейчас островки хвойного леса появляются на горизонте лишь кое-где возле Ясногородки, через час после Киева. Может быть, эти ясногородские сосны — остаток вековых боров древности, описанных летописцами?
Выше устья Припяти пошли по правому берегу рубленые дома с соломенными кровлями, а белые мазанки остались на левом берегу. Правый берег — Белоруссия, левый — Украина.
Еще красивее становится путь по зеленому Сожу, где «Ракете» приходится терпеливо следовать за капризными изгибами реки, чуть сбавлять скорость местами и петлять, петлять меж невысоких берегов с дубняками и юными березками-невестами.
Здесь, на Соже, пожалуй, еще можно выбрать прибрежные уголки, где пейзаж приближается ко временам давним, когда ладьи русские, варяжские, ромейские ходили с товарами по великому водному пути. Одним из его боковых ответвлений, водной дорогой к землям радимичей и кривичей была и река Сож.
В старину на всем протяжении великого водного пути Днепр, Ловать, Волхов текли среди сплошных лесов, густолиственных дубрав, сосновых боров, ельников и березняков, зарослей береста и бука. Если леса расступались, глазу до самого горизонта открывались ковыльные степи, где трава прятала и голову коня и шапку всадника. Во множестве водилась дичь: в лесах — медведь, волк, куница, соболь, в степи — туры, козы, зубры. В 882 году князь Олег видел на всем пути из Новгорода в Киев только два больших города — Смоленск и Любеч на Днепре. Между деревнями и селами пролегали сотни верст незаселенного берега.
Ныне совсем исчезли ковыльные степи — они распаханы, засеяны, по веснам зеленеют озимыми хлебами. В полях журавлиной походкой шагают железные мачты высоковольтных линий. Леса по берегам сведены, и думается, что восстановление водозащитных лесов по Днепру — большая и срочная государственная задача.
Так вот он воочию, великий путь из варяг в греки!
Это здесь, тысячелетие назад, шли от Киева к Смоленску ладьи русских гостей, везли товар на веслах и под парусами, чтобы от Смоленска переставить ладьи на катки или полозья-кренй и волоком идти дальше, к системе северных рек, а по ним плыть к Новгороду и на Балтику.
В те времена ладья или вьючная лошадь была обязательной принадлежностью торгового гостя. И само слово «гость» значило в старину «купец», а «гостьба» — «торговля». Для населения городов и сел всякий купец был человеком заезжим, и потому слово «гость» приобрело и сохранило до сих пор второе значение — пришелец, явившийся навестить.
Купец всегда имел при себе маленькие весы с бронзовыми чашками и гирьки-разновесы. Взвешивал он на них серебро и неполноценные монеты. Стоянка купцов ничем не отличалась от военного лагеря, а сам купец — от воина-дружинника. Он был вооружен с головы до ног и одевался нарядно. Свои деньги он хранил в поясе. Отправляясь в путь, приносил жертву Перуну да и в пути не забывал своих грозных богов.
В Новгороде Перуново капище находилось для удобства купцов у самого берега, близ истока Волхова из озера Ильмень. Место это и теперь зовут Перынью. Лагерь купцов назывался «товар». Поэтому слово «товарищ» первоначально означало принадлежность к такому лагерю или вооруженному купеческому отряду.
От Смоленска начиналась волоковая система, связывавшая Днепр с Западной Двиной, по которой ладьи попадали до реки Торопы, а затем снова волоком передвигались в верховья Ловати. Так ладьи выплывали на Ильмень и Волхов. Специальные поселки «волочан» — крестьян, обслуживающих волоки, находились под наблюдением князя. Когда волочане что-нибудь портили из перевозимого товара, отвечало перед княжеским управителем, тиуном, все село.
Но русская ладья-однодеревка носила своего хозяина не только в дальние походы. Когда наступал час расчета с жизнью, воин или купец языческой Руси подчас совершал в ладье и свое последнее «путешествие».
Почти в каждом музее, где есть зал древней истории, можно видеть копию знаменитой картины академика Се-мирадского «Похороны руса». Оригинал картины — огромное полотно — висит в Государственном Историческом музее в Москве. А раскопки, подтвердившие историческую достоверность этой картины, велись и под Черниговом и под Смоленском. Здесь, близ села Гнездова, археологи вскрыли много погребальных памятников древних славян. Есть и письменные свидетельства. В начале X века арабский путешественник Ибн-Фадлан поднялся вверх по Волге и Каме до столицы царства волжских болгар — города Великие Булгары. Он тут и наблюдал сцену похорон, которую передал нам в красках на своем полотне Семирадский.
...Из дубовых стволов сложена невысокая поленница-помост. Поверх костра водружена русская ладья с резной фигурой на носу, похожей на конскую голову. На корме судна, под расшитым балдахином, полулежит покойник, одетый в парчу и бархат. Собольим мехом оторочена шапка; щит и бронзовые сосуды в ногах, боевой меч сбоку. Дружинники вторят певцу-гусляру траурным звоном — ударами мечей по звонким щитам.
На борту ладьи — белокурая красавица, рабыня властелина. Сейчас женщина в черном заколет ее. Рыдают плакальщицы, толпятся смущенные зрители — смерды. Взнузданные лошади повержены на помост. Миг — и дым костра затмит солнце, а пламя поглотит и господина, и ту, что делит с ним смертное ложе. Останки погребут в земле, над ними насыплют курган.
Конечно, Ибн-Фадлан описал проводы человека богатого и знатного, к тому же умершего в дороге. Похороны простых дружинников были скромнее. Но и в их могилах часто находят рядом с останками мужчины одно-два женских захоронения. Отличают их по бусам, серьгам, несгоревшим останкам. Это насильственно умерщвленные рабыни.
Могилы простых смердов вовсе скромны: при них нет ни убитых животных, ни рабынь, ни дорогих предметов. В крестьянских могилах IX — X веков археологи находят лишь самое необходимое для устройства «на том свете»: нож, самодельный глиняный кувшин... А дальше — обходись, как и на земле, своим ремеслом и искусством, бедняк! Да поможет тебе Перун!
Но как же все-таки представляли себе древние люди грозное языческое божество? Как выглядели славянские идолы?
Повелением князя Владимира и стараниями греческого духовенства статуи и кумиры языческих капищ были посечены и сожжены, а сами капища перекопаны. Ни летописные, ни иные источники долгое время не могли помочь славяноведам решить, какими же изображали древние ваятели славянских богов. Так называемые каменные бабы, простоявшие тысячелетия в южных степях, не проясняли загадки: эти степные скульптуры были половецкими, скифскими, печенежскими, то есть не славянскими.
И как это не раз бывало в науке, помог ей однажды случай.
Более ста лет назад, в 1848 году, в юго-восточной Европе была засуха, мелели реки. На берег реки Збруча в Галиции пришел купаться взвод пограничной австрийской стражи. Кто-то из солдат вдруг заметил, что из обмелевшей реки, под береговым холмом, то появляется, то исчезает все на том же месте круглая шапка. Солдаты поплыли туда и обнаружили, что шапка — каменная и сидит на голове каменной фигуры. Основание статуи глубоко ушло в речное дно. Видимо, в древности статую свергли с холма.
Вот так ученые обогатились редчайшим изображением языческого славянского божества, Збручским идолом. Создан он в X столетии. На все четыре стороны света глядят четыре лика идола. Какому племени принадлежал он, какого бога изображает — наука пока не уточнила. Предположительно, горизонтальные пояса статуи, делящие ее на три неравные части, отражают языческую космогонию. В нижнем поясе изображен бог подземного царства, держащий в руках Землю. В среднем поясе показана Земля с ее обитателями — людьми. Верхний, самый широкий, пояс посвящен небу с богами. На лицевой грани верхнего пояса изображена Великая богиня, олицетворяющая Землю.
Голова идола с четырьмя лицами покрыта шапкой русского покроя, какие носили князья. Идолу нельзя отказать в известной выразительности, но привлекательным его не назовешь. Оригинал находится в Кракове, лучшая по точности копия — в Киевском историческом музее. Есть копия и в Государственном Историческом музее в Москве.
Несколько более примитивная славянская культовая скульптура, пожалуй, древнейшая из найденных в стране, хранится в Новгородском музее. У этого идола нет горизонтальных поясов с космогоническими рисунками, а каменная шапка напоминает головной убор обыкновенного смерда.
Речное мое странствие «великим путем из варяг в греки» прервалось в Смоленске. В наше время нужны тщательные розыски, чтобы установить прежние места волоков и волоцких деревень. Труд человека, войны, работа воды и ветра за тысячелетие внесли такие перемены в ландшафты Смоленщины, что вряд ли сам деревенский староста-кривич, провожавший к Западной Двине обоз днепровских ладей на катках и полозьях-кренях, отыскал бы сейчас привычное сухопутье!
Ожерелье земли русской
В Устюжском летописном своде есть запись, относящаяся к 863 году: «Аскольд же и Дир... поидоша из Новаграда на Днепр реку и по Днепру вниз мимо Смоленск и не явитися в Смоленску зане град велик и мног людьми».
Это старейшее, самое первое летописное упоминание о Смоленске. Уже тогда, в дни полулегендарного Рюрика, главный город славянского племени кривичей был настолько «велик и мног людьми», что Рюриковы военачальники Аскольд и Дир не отважились напасть на него. Лишь двадцатилетие спустя новгородский князь Олег подчинил себе кривичей и их главный город на великом пути из варяг в греки.
Само название города напоминает об исконном природном богатстве здешних мест — хвойных «смоляных» лесах. Сплошной зубчатой стеной подступали они к берегам Днепра и Десны, Угры и Сожа, Каспли и Торопы. Археологи предполагают, что первоначально Смоленск возник в районе древнеславянских городищ близ нынешнего села Гнездова. Впоследствии город был перенесен на приднепровские холмы, где в 1101 году князь Владимир Мономах заложил первый смоленский каменный храм — Успенский собор.
Жители древнейших посадов, существовавших на месте нынешнего Смоленска, занимались смолокурением, бортничеством, охотой, а главное — подсечным земледелием, то есть выжигали под пашни лесные участки. В большом ходу были ремесла плотничное и бондарное, кожевенное и скорняжное дело, добыча воска.
В древнем Смоленске издавна жили иноземные купцы. У них был здесь Гостиный двор и своя католическая церковь на берегу речки Смядыни, невдалеке от Борисоглебского монастыря, выстроенного на месте гибели Глеба, одного из братьев-князей, убитых Святополком Окаянным.
Некогда город делился на концы — Пятницкий, Ильинский, Смядынь, Крылошовский. Смядынь была торговым концом Смоленска: бочонки лучшей смолы для кораблей, выделанные кожи, пчелиный воск для церковных свечей шли отсюда либо вниз по Днепру, либо на запад, в польско-литовские и германские земли, либо на север, к новгородскому порту, и дальше — на Балтику.
В XII веке князь Ростислав смоленский окружил свой город крепостной стеной. Смоленск стал центром самостоятельного княжества. С той поры сохранились в городе три красивых памятника древней архитектуры — церковь Петра и Павла на Городянке (1146), Иоанна Богослова у Нового моста и так называемая Свирская, в честь архистратига (то есть небесного воеводы) Михаила. Смоляне построили ее в последнем десятилетии XII века.
Эти памятники, уцелевшие от глубокой старины, свидетельствуют, что киевские традиции не стали на Руси мертвым каноном, а обрели новые черты в архитектуре многих княжеств, и особенно у зодчих Смоленска. И как раз в смоленских памятниках XII века, воспринявших, кроме киевских архитектурных идей, еще и некоторые декоративные приемы Запада (сказались торговые связи!), уже проглядывают черты будущего общенационального русского зодчества.
Церковь Иоанна Богослова — здание мощное и пластичное. Его фасады расчленены лопатками и массивными полуколонками. Для декорирования стен применены фигурные кресты, выложенные из лекального кирпича (прием, характерный и для Новгорода). Храм имел майоликовые полы, был украшен фресками. Высокую оценку этому зданию дает летописец.
Петропавловская церковь была в старину приходским храмом купцов. Эта древнейшая из уцелевших доныне смоленских построек перекликается с ранней владимирской архитектурой, но в то же время самобытна и характерна для смоленской школы зодчества. Внушительное, несколько архаического вида здание с перспективным порталом, полуциркульным завершением оконных ниш, аркатурным пояском по ровной глади стен, кровлей по закомарам и могучим подкупольным барабаном, будто соединяет опыт новгородских, владимирских и киевских зодчих.
Замечательный храм в честь архистратига Михаила некогда входил в ансамбль княжеского двора. Средняя часть здания сильно устремлена ввысь, напоминает башню, а с трех сторон примыкают к ней притворы, открытые внутрь храма. Хоры не мешали свободной игре света на богатой утвари и росписях. Просторность и высота здания поражали современников.
По своим композиционным приемам этот храм близок к гениально-смелому зданию XII века — Пятницкой церкви на Торгу в Чернигове, которая приписывается архитектору Петру Милонегу, по всей вероятности, смолянину. Те черты, что роднят черниговскую церковь со смоленской, предвосхищают лучшие идеи московской школы зодчества, служат переходом к шатровым каменным храмам.
Сейчас все три старейших памятника смоленской архитектуры, претерпевшие за восемь столетий немало бедствий, восстановлены после тяжелых военных разрушений.
Много важных исторических событий прямо связано с этими зданиями. Так, в XV веке, когда город попал под власть жестоких литовских феодалов, именно под стенами свирской церкви раздался сигнал к восстанию: «черные люди» Смоленска поднялись против литовского наместника и изгнали его. Летописец назвал это народное движение великой замятней. Лишь через год смоляне были побеждены превосходящими силами литовского князя. А в 1514 году московские войска вернули Смоленск русскому государству.
За Смоленском укрепилось название «ожерелье земли русской» еще с тех пор, как в годы 1596 — 1602-й он был обнесен новой каменной стеной. Постройкой этого замечательного фортификационного сооружения руководил русский мастер Федор Конь, строитель московского Белого города — крепостной стены по Бульварному кольцу столицы (эту стену москвичи разобрали в XIX веке). Камень для постройки Смоленского кремля брали из ближних месторождений, подвозили также из-под Рузы. Кирпич обжигали на временных полевых заводах неподалеку от города.
Сооружение по тем временам было огромным, а сроки исполнения выдерживают сравнение даже с современными: за шесть лет возвели стену пяти метров ширины, пятнадцати метров высоты, с тридцатью восемью мощными башнями. Она опоясала весь город, превращенный в настоящую крепость, «ключ-город».
Не прошло и семи лет, как вновь созданной русской твердыне пришлось противостоять осаде, небывалой по своему ожесточению.
В 1609 году многотысячная армия польского короля Сигизмунда III подступила под новые стены Смоленска. Воевода Шеин имел всего три-четыре сотни воинов, но он привлек к защите города окрестных крестьян, городских ремесленников, посадских людей. Сентябрьский штурм Смоленска, начатый со всех сторон одновременно, длился несколько суток подряд. Врагам удалось взорвать участок стены и одну воротную башню, но защитники успели насыпать перед угрожаемым участком земляной вал, и осаждающие не смогли ворваться в пролом.
Осада затянулась. Польские войска обложили город, рыли подкопы, беспощадно обстреливали кремль. Но русские подрывали порохом неприятельские подземные ходы, сами нападали на вражеский стан, изматывая и сдерживая под Смоленском огромные силы противника. Только через двадцать месяцев, уже в июне 1611 года, трое изменников-перебежчиков предательски открыли врагам слабые места обороны, и штурмующие ворвались в Смоленск.
Вот как описывает историк Карамзин трагический исход осады:
«Бились долго в развалинах, на стенах, в улицах при звуках всех колоколов и святом пении в церквах, где жены и старцы молились. Ляхи, везде одолевая, стремились к главному храму Богоматери (к Успенскому собору Владимира Мономаха на днепровской круче. — Р. Ш.}, где заперлись многие из граждан и купцов с их семействами, богатством и пороховою казною. Уже не было спасения. Россияне заждли порох и взлетели на воздух с детьми, имением и славою! От страшного взрыва, грома и треска неприятель оцепенел, забыв на время свою победу, и с равным ужасом видя весь город в огне, в который жители бросали все, что имели драгоценного, и сами с женами бросались, чтобы оставить неприятелю только пепел, а любезному отечеству пример добродетели...»
В память этой обороны 1609-1611 годов был впоследствии воздвигнут над Днепром новый собор. Высится он на месте того Мономахова храма, где взорвали себя смоленские горожане.
В смоленском парке и сейчас видны склоны старого бастиона, прозванного Королевским. Они поросли травой, а один из них включен в овал городского спортивного стадиона.
Рядом — красивое озеро, где школьники катаются на лодках. И бастион, и озеро — следы смоленской обороны 1609 — 1611 годов. Заняв город, поляки увеличили и перестроили тот земляной вал, что насыпали осажденные перед брешью в стене: валу придали форму пятиугольного бастиона. Сто лет спустя Петр Первый заново укрепил и достроил Королевский бастион. От выемки земли образовался ров, ныне превращенный в озеро.
Немало памятников сохранилось в городе и от наполеоновского нашествия. В 1812 году Смоленску снова выпала важная стратегическая роль; он вынес удар главных неприятельских сил и жестоко пострадал в боях. Памятники Отечественной войны 1812 года, своеобразные по замыслу, украшенные пушками, доспехами и орлами, очень запоминаются в смоленских городских садах и парках.
Один из этих памятников изображает крутую скалу. На вершине — орлиное гнездо, два бронзовых орла яростно защищают его от воинственного галла. В римском шлеме, с обнаженным мечом, тот уже подобрался по выступам скалы к вершине и грозит гнезду. Раненая орлица прикрыла телом птенцов, а орел-отец прижал руку врага к скальному камню, и близок миг, когда чужой воин сорвется с выступа...
Многим обязана страна Смоленской земле. Она дала России первых ее смолокуров, а тысячелетием спустя — первого в мире космонавта. В музыке Глинки нашли отзвук песни смоленских крестьян, а их горькое горе зажгло ненависть к самодержавию в сердцах смолян-декабристов: Пестеля, Каховского, Якушкина. Сейчас на Смоленщине есть колхоз имени Пестеля.
Два крупных русских скульптора — Микешин и Коненков — сыны Смоленщины, и оба они кровно связаны с народным искусством и художественными ремеслами своего края. А многим читателям «Василия Теркина» кажется, что этот русский солдат родом из-под Смоленска. Это почти так и есть, потому что в деревне Загорье Смоленской области родился «отец» Теркина — поэт Александр Трифонович Твардовский.
...Прощаясь с городом, я завернул к памятнику Глинке. Великий смолянин стоит с дирижерской палочкой в руке, прислушиваясь сквозь шорох парковой листвы к незримому оркестру. Памятник окружает черная решетка ажурного литья. В нотных знаках на ней как бы застыли мелодии «Сусанина», «Руслана»... Решетку отлили из чугуна по замыслу критика В. В. Стасова. Автор самой фигуры Глинки — скульптор А. Р. Бок.
За поворотом улицы виднеется одна из уцелевших башен древней крепости, высится зубчатая стена, оборонявшая город от стольких воинов-пришельцев! Теперь среди рядков ее кирпичной кладки белеют мраморные доски с именами офицеров, солдат, партизан. Это замурован в древнюю стену Смоленска прах героев Великой Отечественной войны, отстоявших город от последних пришельцев в его истории.
II. Над Волховом-рекой
Новгородская Нередица
В Новгород я не приплыл «великим водным путем из варяг в греки», а приехал в зимний вечер автобусом из Пскова. Администратор гостиницы «Волхов», что на Софийской стороне, заботливо сообщил постояльцам, что метеосводка сулит ночью 25 градусов мороза, а утром — ветер, «от сильного до очень сильного». Прогноз оправдался: к утру ветер действительно обрел ураганный напор.
Новгородский кремль я уже не раз осматривал после восстановления, а знаменитую Спас-Нередицу упрямо берег в памяти такой, какой видел ее до войны, хотя знал, что реставраторы самоотверженно потрудились над ее воскрешением из руин. В этот раз я решил идти прямо к ней. Древний храм находится в трех километрах от городской окраины, и ведет к нему, как и встарь, неприметная проселочная дорога. Но бывал я здесь прежде только летом, а сейчас дорога почти сливалась со снежной целиной.
Ветер дул с Ладоги, взламывая зимний лед на Волхове. Славная река глядела пугающе грозно. Я видел, как ветром погнало льдину вверх по черно-фиолетовой воде, к Ильменю, против сильного течения. Мороз — арктический, безоблачное небо — блеклого голубого цвета, жестокая низовая пурга. Словом, картина довольно обычная, скажем, для Воркуты или Норильска, а в Новгороде — редкая и не очень благоприятная для загородного пешехода.
На полпути я потерял проселок и побрел целиной, по твердому насту, держа направление на земляную насыпь вдали. Высокая и заснеженная, насыпь эта, как и мостовые каменные быки на стрежне Волхова, осталась памятником незавершенного железнодорожного строительства, что велось здесь еще в годы первой мировой войны.
Взбираться на насыпь пришлось по колено в снегу. Ветер просто сдувал, срывал с гребня. Зато опять я увидел, как прежде, Спас-Нередицу, ее неповторимый очерк, без которого новгородские окрестности так же немыслимы, как в Москве Красная площадь без Василия Блаженного.
Рисуется в зимнем небе восстановленная одиночная главка с тяжелым куполом-луковицей, даже великоватым для маленького, бедного храма: будто надел новгородский мальчонка отцовскую шапку. Рисунок этой главки прямо-таки бесподобен! Воскрешено все здание, нет лишь чудесной поэтической колоколенки рядом, ее очень недостает глазу. И по-прежнему это каменное здание, как и многие другие новгородско-псковские памятники, вызывает такое чувство, будто вылеплено оно из сырой глины — так пластичны и вольны его контуры, неровны членения. Не вычерчивал их древний зодчий по византийской линейке, а вдохновенно лепил — от руки!
Даже издали ощущаешь, как непомерно толсты стены, сложенные из кирпича и камня, — не пожалели предки запаса прочности! По этим мощным стенам разбросаны в беспорядке узкие длинные оконца, забранные железными решетками. Неправильность, асимметрия окон очень оживляет стены, придает «человечность» фасадам Нередицы, ничем не украшенным, кроме игры светотени в закомарных дугах.
Безыменные новгородские мастера создали этот храм в 1198 году, почти восемь веков назад. Сейчас его дружески окружает простая жизнь колхозного села. Стоит Нередица на крутой горке, прямо над рукавом Волхова, Волховцом, среди бесхитростных, как сама она, стогов сена, деревенских изб и переживших войну, по-зимнему голых ракит и плакучих ив.
Поставленная «не в ряду» с остальными церквами (отсюда, видимо, ее своеобразное название), Спас-Нередица занимает особое место и в истории новгородской архитектуры. Это последний храм, воздвигнутый в Новгороде на средства князей.
Описание, даже самое точное, бессильно передать невыразимое обаяние этого маленького одноглавого храма, почти квадратного в плане, с обычным трехчастным делением фасадов и тремя абсидами — алтарными выступами округлой формы.
...В толще западной стены узкая лестница ведет на хоры-полати. Они оставляли свободной среднюю часть храма. Войдя в него, можно было сразу охватить взглядом все внутреннее пространство, гладкие стены без пилястр и лопаток, подкупольные столбы. Эту особенность интерьера Нередицы гениально использовали новгородские мастера-живописцы.
Через год после окончания постройки, то есть в 1199 году, храм был расписан изнутри. В качестве красителей для фресок художники использовали местные глины, истолченные цветные камни, окиси металлов. Размешанные на воде краски наносились на сырую штукатурку стены, тщательно подготовленную, многослойную.
Фрески Нередицы мне посчастливилось видеть до войны еще невредимыми. Они представляли собою одно из главных сокровищ новгородского искусства.
Когда вы входили в храм, отовсюду пристально глядели на вас, вызывая невольную робость, черные, горящие глаза святительских ликов. От этих пронзительных, всевидящих глаз некуда было деться, они почти гипнотизировали. Большинству лиц присуща была ярко выраженная крестьянская, народная сила и притом отчетливая местная — новгородская — индивидуальность. Сразу запоминалась и характерная манера самого письма: резкие контрасты, яркие тона, смелые мазки белил, зеленые тени. Все это производило неизгладимое впечатление.
В храме не было ни одного уголка, свободного от росписей. Они покрывали стены, столбы, своды, арки, паруса. Ряды могучих фигур, написанных в полный рост, располагались друг над другом. Иногда в такой ряд фигур врезался медальон или небольшая групповая сценка. Огромная картина страшного суда занимала под хорами западную стену и примыкавшие к ней участки южной и северной. В центре этой сложной композиции зритель мог видеть «князя тьмы» — сатану на чудовищном драконе. Властитель преисподней сам терзал в когтях свою главную добычу — предателя Иуду. Библейская блудница изображалась на звере, символизировавшем порок. Прочие грешники представали перед зрителем на квадратных стенных картинах — прихожанину как бы приоткрывались окна в ад, и он мог в назидание увидеть, как там терзаются нечестивцы — «во тьме кромешной», либо «в смоле», либо «в скрежете зубовном», либо «во мразе», — надписи уточняли на всякий случай, какая мука уготована грешнику. Кстати, в нередицких надписях отчетливо выражен новгородский говор, вторгавшийся в церковнославянский язык.
Встречались в этой сложной фресковой композиции и мотивы, намекавшие на общественные настроения самих живописцев. Конечно, фрескист не сам выбирал темы росписей — они были заданы иконографическим каноном. Но в трактовку этих обязательных сюжетов мастер-новгородец (и мастер-пскович!) вносил немало индивидуальных черт, выделяя и подчеркивая в росписях такие мотивы, где сквозь религиозную оболочку прорывался в какой-то мере и социальный протест.
Например, одна из фресок Страшного суда не без сарказма показывала муки богача. Голый грешник-богач, опаленный адским огнем, молит старца праотца Авраама оказать милосердие — послать в ад нищего Лазаря, чтобы тот помочил палец в холодной воде и остудил грешнику пылающий язык. Но вопли богача остаются без ответа: здесь, в аду, безраздельно властвует сатана. Он хохочет над мольбой грешника и подносит ему огненный кубок, приговаривая: «Друг богач, испей горячего пламени!»
В этой композиции, не лишенной смелости, богач не вызывает ни малейшей жалости, никакого «христианского сочувствия»: зритель видит отталкивающего грешника-притеснителя, и живописец как бы приглашает посетителя храма позлорадствовать над наказанным мироедом.
Разумеется, нельзя думать, будто мастера копировали на фресках конкретные лица. Но, создавая условный образ святого или грешника, талантливый художник обобщал множество штрихов, почерпнутых не только в иконографических предписаниях, но и в реальной жизни. Поэтому весьма вероятно, что какой-нибудь купчина-толстосум с Торговой стороны мог узнать себя, скажем, в образе того же наказанного богача!
Кстати, одна историческая фигура нередицких фресок была портретна: это князь Ярослав Владимирович. Облаченный в богатую одежду, стоит он перед «престолом божиим» и подносит Иисусу Христу свой храм — модель Не-редицы размером в ларец.
Сохранность этих фресок до войны была поразительной, что также показывало высокое умение новгородских живописцев. Ни разу росписи Нередицы не реставрировались. Во всей Европе не было другой такой церкви, которая целиком сохранила бы свое живописное убранство с XII века. Поэтому гибель нередицких росписей — ничем не вознагра-димая утрата для мирового искусства.
Дорожили ими не одни только искусствоведы, ученые и знатоки старины. Любили эту живопись земляки-колхозники, ильменские рыбаки, простые люди-новгородцы. Был, например, у храма-музея сторож Василий Федорович Антонов, не историк, не философ, не художник — просто крестьянин, рожденный в сельце у Нередицы. Вот что довелось услышать о нем от его 80-летней вдовы.
После путешествия по снежным сугробам постучался я в ближайший к Нередице домик. Он как-то непринужденно расположился под холмом, почти у подножия восстановленного храма. Обогревшись, я надолго засиделся у Александры Павловны Антоновой. Вся ее жизнь прошла здесь, лишь война заставила отправиться в эвакуацию под Оренбург.
...Осень 1941-го. Фронт подошел к Новгороду. Баржами и вагонами отправлены ценнейшие экспонаты новгородского музея, хранители выехали с ними в Киров. А храмы-музеи? С ними торопливо прощались научные сотрудники, посвятившие целую жизнь их изучению и сбережению. Спас-Нередица оказалась на переднем крае обороны. Из занятого Новгорода гитлеровцы вели сосредоточенный огонь по всему рубежу на Малом Волховце, где советские войска остановили натиск противника.
Василий Федорович Антонов не покинул тогда Нередицу, хотя села у храма уже не было. Домик сторожа был расстрелян — сам он перебрался в землянку и под круглосуточным обстрелом все-таки оберегал свою Нередицу. И не расстался бы с ней, если бы не приказ, — гражданских людей эвакуировали с переднего края. Пришлось последовать за женой и дочерью.
Но лишь только Василий Федорович оказался под крышей чужого дома на земле Оренбургской, он сел за письменный доклад. Ведь он последним из музейных pat ботников видел уникальный храм! Долг его — доложить коллективу, в каком состоянии памятник. И вот он пишет:
«...По 7 октября, то есть до которых пор я находился около нея, памятник находился в таком состоянии. Начнем с верха. Купол, как крыша, так и свод, пробиты насквозь с западной стороны, но еще держатся на месте. Пострадали Пророки и картина Вознесения. Но самое главное — это снесено западное плечо на хорах почти по окно. С юго-западной стороны, где вход на хоры, пробита стена насквозь прямо на лестницу... Также снесена и изуродована вся крыша, и много еще ранений по стенам».
Так и пишет Василий Федорович: «плечо», «ранений». Для него этот памятник средневекового русского искусства — живое страдающее существо.
Сторож Нередицы не перемог болезни и лишений. Вдова, вернувшись в Новгород, заменила мужа на его посту и несколько лет сторожила развалины Нередицы.
На обломках стен еще сохранились остатки фресок. Пророк Илья, проповедник Петр из Александрии, несколько мелких фрагментов. После реставрации храма эти фрагменты находятся под охраной, как и уцелевшие подлинные части здания: именно в их спасении от окончательной гибели — главное значение реставрации.
Восстановление внешнего облика Нередицы — одна из больших удач советских реставраторов. Очень верно заме чание Д. С. Лихачева, что возрождение здания Нередицы вернуло Новгороду потерянный было горизонт.
Но драгоценные фрагменты нередицких фресок, находя щихся ныне под сводом восстановленного здания, еще нуж даются в дополнительном укреплении — они стали хруп кими и легко осыпаются. Предстоят очень тонкие, требую щие величайшей осторожности работы по сбережению росписей, сохранившихся на остатках древней штукатурки.
Группа художников-энтузиастов, несколько лет работающих в Новгороде, уже накопила ценный опыт в реставрации, казалось бы безнадежно разрушенных стенных росписей. Возможно, что в недалеком будущем остатки нередицких фресок, должным образом закрепленные и реставрированные, станут доступны обозрению не только для специалистов, но и для всех любителей древнерусского искусства. Это было бы для них большим подарком.
В кремле Новгородском
Признаюсь, я не знаю во всей нашей стране места, где течение «реки времен» ощущалось бы столь живо, как в Новгородском кремле. Кстати говоря, и сам автор этой прекрасной метафоры теперь покоится здесь: прах Гаврилы Романовича Державина был в 1959 году перенесен в кремль из разрушенного гитле
ровцами древнего монастыря — Хутынского. Величавая руина монастырского собора издали видна над Волховом, у села Хутыни, верстах в двенадцати севернее Новгорода.
Новый памятник Державину, увенчанный траурной урной, установлен в уютном кремлевском садике, у знаменитых Сигтунских врат новгородской Софии. Когда стоишь на паперти перед западным порталом Софии, памятник поэту рисуется на фоне старинных сооружений Владычного двора. Эти здания — каменная летопись новгородской ис
тории.
Восемью слегка сходящимися на конус гранями устремлена ввысь эпически строгая башня — Евфимьевская часозвоня. Она первой бросается здесь в глаза. Как ясно выразилась в ней новгородская деловитость, пренебрежение к мелочному украшательству! Впечатление величия новгородцы умели создавать лаконизмом форм, простотой, энергией спокойных, будто уверенных в себе архитектурных масс и объемов. Ведь не так-то уж высока башня, около
сорока метров, а выглядит величаво и внушительно, «яко перст остерегающий». Первоначально она была, по-видимому, немного ниже и служила дозорной вышкой. Воздвигли ее в 1443 году по велению тогдашнего главы новгородской вечевой республики архиепископа Евфимия II, самого энергичного поборника новгородской самостоятельности.
Тогда, в середине XV века, противопоставляя Новгород Москве, Евфимий II израсходовал огромные средства на новое строительство в городе, главным образом церковное и оборонительное. Владычный двор в детинце превратился при Евфимии в сложный и красивый ансамбль, дошедший до наших дней в сильно измененном виде, но и сейчас цельный и выразительный. Его главная вертикаль, восьмигранная башня-сторожня, лет двести спустя, уже в XVII веке, сменила свою боевую дозорную службу на мирную службу точного времени: на башне установили часы с боем. Они погибли в одном из пожаров, а название часозвони за башней сохранилось.
Справа примыкает к башне здание, получившее впоследствии название Грановитой палаты. Оно предназначалось для торжественных приемов и заседаний боярского совета господ — верховного органа власти, где председательствовал сам архиепископ.
Верхний этаж Грановитой палаты — самый интересный. Посреди большого зала воздвигнут массивный, расширенный кверху опорный столб. От него лучами расходятся ребристые арки, и весь потолок делится как бы на четыре свода с каркасом из нервюр, то есть выпуклых ребер. Этот зал несколько напоминает архитектуру Грановитой палаты Московского Кремля, но характер их глубоко различен по духу, настроению, тону. Московская палата, ликующая, парадная и гостеприимная, перекликается с архитектурой итальянского Возрождения. Новгородская палата — отголосок мрачной средневековой готики, занесенной в Новгород немецкими или скандинавскими мастерами, которые сооружали это здание вместе с новгородскими каменщиками. Именно здесь, под мрачно-торжественными сводами, закончился последний акт исторической трагедии, обычно связываемой с образом Марфы Борецкой.
Эта властная женщина, вдова посадника Исаака Борецкого, оказывала и сама и через сыновей своих сильное влияние на дела родного города. Во второй половине XV века в Новгороде верховодила олигархическая группа бояр, интриговавшая против Москвы, против усиления общегосударственной власти в стране. Новгородские бояре стремились к сепаратизму, искали союза против Москвы со всеми, кто был заинтересован в ослаблении русской государственности: литовскими феодалами, тевтонским орденом, косвенно с татарским ханом и даже ватиканским престолом. Ватикан поддерживал заговорщиков деньгами, дипломатией, обещаниями.
Народ же новгородский, «людство», не мог сочувствовать этим интригам, видя в московском великом князе не только защиту от врагов внешних, но и управу против боярского всесилия. И когда под новгородские стены стремительно подошла небольшая московская рать, предводительствовавший ею Иван III обратился к новгородцам со словами: «Я сам опас (то есть защита. — Р. Ш.) для невинных и государь ваш; отворите ворота: когда войду в город — невинных ничем не оскорблю!»
Великий князь московский вступил в Новгород под колокольный звон и приветственные крики — народ заставил бояр открыть ворота. И как раз под ребристыми арками Грановитой палаты прозвучала тогда, осенью 1478 года, гневная речь Ивана III, судившего заговорщиков. Главные виновники осуждены были на казнь, семьи боярские и купеческие отправились в ссылку, новгородский владыка Феофил сослан был в Чудов монастырь. Еще раньше, весной, Иван повелел вывезти из города Марфу Борецкую. В том же обозе увезли и мятежный вечевой колокол.
В сенях, при входе в Грановитую палату, в одной из ниш, советские реставраторы расчистили кусок фресковой росписи того века. Изображает эта пятисотлетняя фреска Иисуса Христа, держащего евангелие с такой надписью: «Не на лице зряще судите, сынове человечестии, но праведен суд судите, им бо судом судите, судится вам», то есть: «Судите праведно, невзирая на лица, ибо каким судом судите вы, таким же будут судить и вас самих». Эта надпись звучит как предостерегающий голос самой истории, голос, к которому не сумел вовремя прислушаться новгородский совет господ.
Ныне Грановитая палата используется как выставочный зал историко-художественного музея. Увидеть здесь можно великолепные образцы древнерусских художественных изделии, произведения чеканщиков, резчиков, ювелиров, злато- и среброкузнецов.
Зубчатые кремлевские стены высотою до десятка метров похожи на московские, но постарше и попроще. Некогда кремль со всех сторон окружал глубокий ров с водой, лишь с востока река делала ров излишним. Весной этот древний ров и поныне полнится водой; повсюду он густо зарос старыми деревьями. Иные заглядывают через стены прямо в кремль, шелестят листвой выше зубцов с бойницами. По верху, вдоль зубцов, хоть на тройке разъезжай! Надо рвом поднимаются сейчас девять кремлевских башен. Самая высокая из них — знаменитый Кокуй (от немецко-голландского «куккен» — смотреть). Это название башня получила при Петре, когда надстроили древнее основание ее: над четырехгранником подняли еще два восьмерика (излюбленный прием москвичей!). Верх покрыли шатром, а над ним вознесли в небо новгородский герб на золотом «прапоре» — так называли раньше знамя.
В старину, кроме стен и рва, детинец защищала дополнительная система укреплений, так называемый Малый город. Эти укрепления срыты еще в прошлом столетии. Сейчас на их месте тенистый бульвар.
Был у Новгорода и внешний оборонительный пояс, острог, окружавший весь посад по обоим берегам Волхова. Остатки пояса видны и сейчас — сохранился (к сожалению, не везде) земляной вал, по которому некогда тянулась дубовая, а местами и каменная стена. Одна башня — Белая — уцелела и реставрирована.
Этот старый оборонительный пояс послужил защитникам Новгорода в августе 1941 года: вал изрыли окопами, противник бил по ним фугасами, взметая насыпную, веками слежавшуюся землю.
Справа от входной (западной) арки кремля возвышается Златоустовская башня, заложенная в XIV веке. Примыкает к ней небольшая, гораздо более поздняя пристройка. У этих зданий есть и революционное прошлое. В пристройке находилась квартира музейного служителя Талалаева, и тут ссыльный питерский рабочий Змеев создал первую в Новгороде подпольную социал-демократическую типографию. Революционеры-подпольщики напечатали в ней несколько боевых прокламаций и воззваний.
Между Златоустовской башней и входной аркой участок кремлевской стены всегда украшен живыми цветами, венками, алыми лентами. Горит здесь вечный огонь. Это братская могила павших в январские дни 1944 года при освобождении кремля и Софийской стороны. В 1965 году временный памятник был заменен постоянным. Я поторопился к нему прямо с ночного автобуса и в свете вечного пламени разбирал слова на большой гранитной плите: «Здесь лежат солдаты Великой Отечественной войны...» Это лежат те, кто в памяти нашей всегда останутся двадцатилетними. Их жизнями вернули мы себе Новгородский кремль.
Сверху, с вертолета, очертания кремля похожи на зерно фасоли или боб. Вогнутая сторона его омывается Волховом. В центре кремля — площадь с монументом 1000-летию России, главным корпусом музея и самым величественным памятником новгородской истории, знаменитым Софийским собором.
Об этом здании существует огромная литература. Уже новгородских летописцев, известных своим предельным лаконизмом, строительство новгородской Софии интересовало чрезвычайно. Они пристально следили за его ходом, отмечая подробности.
В истории русского искусства огромнейшее значение имеет не только сохранившееся каменное здание, но и его деревянный прообраз — богато украшенный дубовый собор «о тринадцати верхах», ровесник киевской Десятинной церкви по времени закладки (989), но законченный в том же году, за семь лет до завершения Десятинной.
Установлено, что деревянная София стояла на месте ныне сохранившейся церковки Андрея Стратила-та у юго-восточного прясла кремлевской стены. Быть может, археологические раскопки Борисоглебской церкви, существовавшей на этом же месте, откроют нам следы деревянной Софии? Как обогатило бы это наши знания о древнейшей народной архитектуре Руси! Тринадцатигла-вие первой новгородской Софии было впоследствии, в XI веке, перенесено на Софию киевскую, а сама дубовая новгородская «поднялася от огня», простояв всего шесть десятилетий.
В годы 1045-1050, при князе Владимире Ярославиче (внуке Владимира), новгородцы воздвигли пятиглавый каменный Софийский собор. Он-то и стоит в кремле перед нами. Связь новгородской истории с этим храмом символически выразил князь Мстислав Удалой, воскликнув: «Где София, там и Новгород». Новгородцы подхватили этот клич и гордились им. С именем Софии устремлялись они на врага. Ей посвящали подвиги, подносили богатые подарки, во славу ее слагали песни.
Внешне собор сразу вызывает в памяти образы древнерусских богатырей. Его купола формой напоминают богатырские шлемы. Большой средний купол высоко вознесен над кремлем, будто сам Илья Муромец в золотой шапке стоит дозором над землей Новгородской и далеко за городом видит зеленые равнины и синий простор Ильменя.
Достойно изумления искусство, с каким древние зодчие соединили элементы конструктивные с художественными, заставляя технику служить красоте, подчиняться ей, а не подавлять ее.
Членение фасадов достигнуто с помощью прямоугольных «лопаток» — встроенных в стену каменных столбов, выступающих наружу, чтобы укрепить стену и вместе с тем оживить ее поверхность, создать ритм. Внутри храма на те же столбы опираются арки сводов. Железная (некогда свинцовая) кровля уложена по сводам, и это позволило очень своеобразно завершить все четыре стены закруглениями арок и совсем неожиданными треугольными, острыми фронтончи-ками. Такие острия — несомненное влияние деревянного зодчества! — и составляют индивидуальную особенность новгородской Софии.
Великое произведение древнерусского искусства — Софийский собор связан, разумеется, с целым роем поэтических легенд и поверий.
Внутри главного купола, например, был изображен, как и в Софии киевской, Христос-вседержитель. Кисть его правой, благословляющей, руки новгородские живописцы, по преданию, написали разжатой. Но всякий раз, когда мастера являлись утром в собор продолжать работу, они... видели руку сжатой! Трижды переписывали мастера эту руку, и трижды пальцы на фреске таинственно сжимались к утру следующего дня. Наконец — по легенде — «бысть глас с неба» не спорить с волей божией и оставить кисть вседержителя сжатой, ибо она, дескать, держит судьбу Новгорода: когда пальцы разожмутся, то и Новгороду наступит конец!
Зрительная иллюзия объяснялась тем, что живописцы не приняли во внимание кривизны купольного свода: пальцы на фреске, написанные без учета кривизны, снизу производили впечатление сжатых...
В 1941 году немецкий снаряд угодил в самый купол и безвозвратно разрушил старую фреску.
Поэт Всеволод Рождественский дал такой стихотворный образ новгородской Софии:
Он весь — тугая соразмерность,
Соотношение высот,
Асимметрия, тяжесть, верность
И сводов медленный полет.
Этот «сводов медленный полет» еще сильнее воспринимается внутри здания. Освещено оно скуповато — новгородцы делали окна в церквах узкими, похожими на бойницы. Климат-то здесь не киевский, да и впрямь могло довестись этим щелевидным окнам сыграть роль бойниц! Нет в новгородской Софии и той роскоши убранства, что так поражает в Софии киевской, не так богата игра света и тени, потому что внутренность новгородского храма более расчленена. Каждый из притворов воспринимается здесь как отдельное помещение, более интимное, позволяющее прихожанину уединиться, уйти из большой толпы.
Но центральная, крестообразная часть, перекрытая высоким куполом, выделена архитектором особо, именно для большой толпы прихожан, как бы противопоставленной «властям предержащим».
Люди, стоявшие внизу на открытом пространстве под куполом, окружены были серовато-сизым сумраком, лишь чуть подсвеченным огоньками лампад и свечей. А на хорах (по-старинному — полатях)., высоко вознесенных над простым людом, блистала парчою и бархатом княжеская свита и стоял сам князь или его наместник. Хоры щедрее освещались из окон, чем главный неф храма, и когда-то, столетия назад, народ видел здесь и Александра Невского, и Ярослава Мудрого, и непреклонную Марфу Посадницу, и самого великого князя Ивана III, сломившего новгородское упрямство.
В храме было устроено хранилище для государственной казны, имелись, по летописным преданиям, и тайники с кладами. В ризнице сберегалась драгоценная утварь, про-изведения ювелирного искусства. В новгородской Софии обучались книжной грамоте сыновья почтенных городских граждан, тут возникла и первая новгородская библиотека — собрание рукописей. Монахи-летописцы вели здесь записи сохраняя для потомков «земли родной минувшую судьбу... войну и мир, управу государей...».
Прекрасен западный портал Софии, откуда мы бросили взгляд на Владычный двор и часозвоню. Архитектурная отделка портала, напоминающая владимирские храмы, относится ко временам позднейшим, но именно здесь, у западного входа в Софию, новгородцы XIII века повесили замечательный военный трофей — Сигтунские врата. Створы этих ворот состоят из бронзовых пластин с выпуклыми изображениями. Сработаны они были двумя немецкими мастерами в городе Магдебурге и предназначались, видимо, для Швеции (или были захвачены у немцев шведами).
Новгородцы привезли к себе Сигтунские (или Магдебургские) врата в разобранном и испорченном виде. Чтобы из груды бронзовых пластин с изображениями библейских сцен воссоздать тяжелые и сложные ворота, потребовалась искусная работа русского литейщика, мастера Авраамия.
Задачу свою новгородец решил блестяще, восполнив и потерянные куски. Но он задумал еще нагляднее показать согражданам, что нисколько не уступает в мастерстве немецким коллегам. На нижнем клейме левой створы (врата открываются внутрь храма), точнее — на самом разделительном столбике между нижними клеймами, мы видим скульптурную фигурку осанистого человека в русском кафтане, опоясанном кушаком с кистями, и в высоких щеголеватых сапожках. На шее крест, в левой руке кузнечные клещи, в правой — молот. Волосы подстрижены в кружок, борода округло подравнена. В бронзовой фигурке отлично передано человеческое достоинство новгородского умельца. Вероятно, автопортрет похож.
Упрямо выдвинута из-под бронзовых усов нижняя губа, а выпуклые очи вот-вот лукаво подмигнут экскурсанту-правнуку: дескать, и мы, в нашем XIII веке, не лыком шиты были!
Концы посадские
Некогда, еще в языческую пору, собиралось новгородское людство на вече по призывному голосу била. Вечевой бирюч ударял по билу молотом. В тихую погоду вольно разносился звук призыва по реке, вверху будил эхо за Перынью на Ильмене, и в Рюриковом городище на Малом Волховце, рстах в восьми от Новгорода.
Всяк горожанин бросал свое дело и, в чем был, спешил на вече. Рыбаки правили челны и просмоленные дочерна насады (лодки с наращенными бортами) к новгородскому берегу, к дощатым пристаням на сваях. Кузнец оставлял мехи и полупотушенный березовый уголь на горне. Гончар сдерживал быстрый ход круга. Кожемяка погружал мостовьё в чан с дубильным раствором и снимал с себя пахучий усменный (кожаный) фартук. Все шли на зов, в детинец либо на Торговище.
Вечевое било, а позднее — медный вечевой колокол, скликало горожан для разных надобностей по-разному. Скажем, одно дело — князя встречать и кричать, люб ли; или посадника, или тысяцкого о ратной заботе послушать, а то и к ответу потребовать. Другое же дело бывает попроще, к примеру — распределить повинности по концам, рассудить торговый спор между общинами. По наиважнейшим нуждам течет народ к детинцу, на гору, а обычное вече правится на Торговище, против детинца, на той стороне Волхова.
Вокруг кремля-детинца и напротив, за рекой, разросся новгородский посад. На левом берегу городские концы названы были Неревским и Людиным, а на той, Торговой стороне, концы зовутся Славенским и Плотницким. Потом еще прибавился на левой стороне Загородский конец, а соседний с ним Людин стали именовать Гончарским. Давно это было, еще до церквей.
Почему же столь древний город прозван Новым, Новгородом?
Потому что задолго до Рюрика было «городище древя-но» близ Малого Волховца, рубленное в незапамятные времена. Когда стало в нем тесно, а может, и по другой причине, перенесли люди свое поселение на холм у берега Волхова и прозвали новое городище Новгородом. А когда пришел Рюрик с дружиной, то стоял он, по преданию, сперва в Ладоге, потом в прежнем городище на Волховце, отчего с тех пор именуется оно Рюриковым. Много позднее, в XII веке, стало оно опять княжеской резиденцией.
Собирались люди на вече по концам, а не сбивались в одну шумную, бестолковую толпу. Как на улице двор примыкает ко двору, так и на вече становилось людство улицами, каждая за своим уличанским старшиной. Бывали вечевые сборища и кончанские — когда не весь город грудился, а только один из концов.
Для большого веча построена на Торговище степень — высокий помост, куда поднимается посадник, тысяцкий и ораторы. Кончанские старосты становятся внизу, рядом со степенью, — они знают законы, подскажут вечу решение, а людство согласится или отвергнет. Если спор разгорится не на шутку — доходит дело иногда и до потасовки. Уже в конце X века оба берега новгородских соединились «великим мостом» о семнадцати устоях, и случалось, что вечевой спор кончался на мосту, и кое-кому приходилось отведать холодной и быстрой волховской воды.
Иногда споры на вече затягивались до сумерек. Но вот, после пересудов и уговоров, дело сладилось, несогласные смирились. Расходится людство по домам!
Уходят по своим гостиным дворам и чужестранцы, те, что полюбопытствовали прийти, побывали на вече. Переговариваются между собою иноземные гости, и больше прочих дивятся новички, впервые попавшие в город: как же чисто он содержится! На Западе так и не слыхано.
Площадь-торговище сплошь замощена деревянными настилами. В любую погоду, в любую темень пройдешь — ногу не сломишь. Лаптей новгородцы не носят, все в кожаной обувке — и стар и млад. Улицы новгородские впадают в Торговую площадь, как речки в Ильмень-озеро: иные улицы ширину имеют почти до трех сажен, другие — в две сажени или полторы, как и в городах свейских, нурманских и немецких. Но хоть и не широки улицы, зато мощены так же, как и площадь, а где поизносится мостовая — повинен хозяин двора немедля участок улицы исправить.
Многолетние раскопки в Новгороде показали, что был он замощен сплошь, включая дворы, причем на некоторых участках археологи сосчитали по двадцати пяти слоев мостового покрытия — старшие его слои восходят к X веку! Средневековый Париж приступил к мощению своих улиц на полтысячи лет позже...
Древнее Торговище, то есть вечевая и торговая площадь, примыкало с юга к Ярославову дво{йпцу. Будто на этом месте Торговой стороны соорудил себе вопреки обычаю предков княжий терем Ярослав Мудрый (до него князья, видимо, жили в детинце). От этого терема на дворище следов не найдено, но, по древним легендам, он был богат и пышен, — даже варяжские сказители пели о нем в своих сагах. Потомки и наследники Ярослава жили тоже на дворище, застраивали его теремами и церквами.
Сын знаменитого киевского князя Владимира Мономаха Мстислав воздвиг в 1113 году на дворище пятиглавый Никольский (или Николо-Дворищенский) собор. Это древнейшее храмовое сооружение Новгорода после Софии.
В Николо-Дворищенском соборе очень ясно выражена основная архитектурная идея старейших новгородских храмов — предельная простота,, логичность форм. Кажется, что такой храм можно сложить из детских кубиков: простой куб, три алтарных выступа (или абсиды) с востока, скупое, излюбленное новгородцами разделение стен прямоугольными вертикальными лопатками. Узкие, щелевидные окна, асимметрично разбросанные. Лопатки наверху соединяются спокойными полукругами закомар — по ним некогда шло свинцовое покрытие. Впоследствии посводное покрытие заменили четырехскатной крышей, а все здание увенчали вместо прежнего торжественного пятиглавия единственным круглым барабаном и шлемовидным куполом. В таком виде собор и дошел до наших дней.
Он и теперь живописен и даже величав в своей скромной простоте. Запоминаются его внушительные округлые абсиды, в особенности когда утреннее солнце пригреет оштукатуренный камень, игра теней убавит суровости, придаст этим пластичным тяжеловатым выступам некоторую мягкость, человечность.
У Николо-Дворищенского собора есть в Новгороде два очень родственных здания, по которым интересно проследить развитие тех же архитектурных идей и приемов. Это — Рождественский собор в Антониевом монастыре и Георгиевский собор в Юрьевом монастыре (издали мы его уже видели, когда побывали у Спас-Нередицы).
Летописец сохранил для потомков только имя строителя самого большого из этих трех зданий — Георгиевского собора. Его автор — мастер Петр-новгородец, гениальный зодчий, творчески переработавший византийское и южнославянское наследия, один из создателей новгородской школы зодчества.
Исследователи считают, что близкое архитектурное родство Георгиевского собора Николо-Дворищенскому и Рождественскому не случайно: время их постройки близко совпадает, и возможно, что у них один автор, тот же мастер Петр. Все три архитектурных памятника представляют собой образцы великого северорусского строительного искусства. Это здания эпических силуэтов, прямых и строгих линий, могучих масс и объемов. Их стены украшены скупо, фасады лишены узорочья, и покоряет нас эта архитектура своей суровой правдивостью, энергией и предельным лаконизмом. Он близок лаконизму новгородских летописей.
Антониев и Юрьев монастыри служили в старину как бы воротами к Новгороду. Оба расположены на берегах Волхова: Юрьев — на левом, в трех километрах выше детинца, Антониев — на правом, на северной окраине Торговой стороны. От Ярославова дворища до монастыря — около двух километров вниз по реке.
Сейчас в зданиях Антониева монастыря размещается Новгородский педагогический институт. У западного входа в Рождественский собор прежде лежал большой темно-серый валун (теперь он внесен в здание). Предание гласит, что монастырь основан в XII веке православным угодником Антонием.
До этого жил он в Риме, где его преследовала кознями «церковь латинская». Святому уже грозила гибель, когда по божьему велению он воссел на камень и... спокойно поплыл, куда указывал «перст божий». Камень за трое суток привел его на Волхов-реку, ко славному граду Новгороду и здесь вынес на берег. Знакомые мне девушки-студентки пединститута не поленились подсчитать, что Антоний-римлянин одолел дистанцию в четыре тысячи миль со скоростью в пятьдесят пять узлов, то есть путешествовал в XII веке быстрее, чем мы на «ракетах» и «метеорах» с подводными крыльями.
Вот перед нами Рождественский собор Антониева монастыря, построенный в годы 1117 — 1119-й. Если окончательно подтвердится, что Рождественский собор выстроен Петром, то эта постройка послужила как бы испытанием мастера перед его главным жизненным подвигом — созданием Георгиевского собора. Многие черты, получившие полное выражение в Георгиевском соборе, талантливо намечены уже в Рождественском.
У собора три главы, очень смело поставленные, без всякой симметрии, на первый взгляд — произвольно. Но попробуйте мысленно передвинуть главы — сразу ритм и архитектоника здания изменятся, ухудшатся! Найдено самое точное и «музыкальное» размещение.
Главы непропорционально велики — это позднейшая переделка. Низкие галереи-паперти, широкие окна, пробитые в стенах вместо прежних щелевидных, и другие перемены все же не мешают увидеть близость этого храма Ни-коло-Дворищенскому собору. План, композиция, членения фасадов те же, только вход на хоры здесь решен в виде круглой башни у северо-западного угла. Оба здания сложены из крупного плитняка с прослойками кирпича-плин-фы, на крепко вяжущем растворе.
Но если Николо-Дворищенский и Рождественский соборы были первыми вехами на творческом пути мастера Петра, то каков же апофеоз этого художника?
Взглянем на Георгиевский собор. Удобный речной трамвай «москвич» быстро доставит нас по Волхову вверх, до Юрьева монастыря.
Стоит он на взгорке, невдалеке от Ильменя. Здесь и летом свежо, ветрено, а весной, в половодье, когда Волхов, его рукава и сам озерный залив сливаются в одно необозримое море, Юрьев монастырь кажется издали островным городом из сказки о царе Салтане, но не прянично-слащавым, как его рисуют для кондитерских, а величественным, неприступным, строгим.
Мне довелось фотографировать весь этот ансамбль — крепостную стену, колокольню, белый собор, башни, над-вратную церковь, — вскоре после войны, еще без куполов, с искромсанными стенами, выбитыми окнами, сорванными дверьми. Ныне он возрожден. Уходят в небо три соборные главы изумительных пропорций, блистают белизной могучие стены, нарочито оставленные Петром гладкими, без декора, чтобы взывали они к трезвомыслящему северянину-новгородцу не суетой украшений, а чистыми гранями камня, как у пирамид Египта или у скал крымского Судака.
По размерам Георгиевский собор близок к Софии, а внутри производит, пожалуй, даже еще более целостное и внушительное впечатление. Взгляд разом охватывает внутреннее пространство. Оно все устремлено ввысь, к полушарию купола. Стены имеют чуть заметный наклон внутрь, это усиливает ощущение устремленности кверху.
А внешне здесь до полного совершенства развита асимметрическая композиция трехглавого собора, подобного Рождественскому в Антониевом монастыре. Как и там, к северо-западному углу пристроена башня-лестница, ведущая на хоры, но здесь башня имеет в плане квадратную форму и выглядит как своеобразный уступ, органическая часть фасада. Это подчеркнуто еще и мастерским применением элементов декора, расположением оконных ниш... Во всем блеске проявилась здесь зрелость мастера.
В нижней части стен Георгиевского собора и на лестничной башне можно различить следы древнейшей фресковой росписи, похожей на роспись киевской Софии. Выполнены эти фрески прекрасно, причем очевидно, что работало здесь несколько художников — мастера различной школы, различной манеры, еще далекой от особенностей новгородской живописной школы (последняя зародилась чуть позднее, но уже к концу века дала столь совершенное творение, как нередицкие росписи). Выстроен Георгиевский собор в 1119 — ИЗО годах. Заказчиками его были князь Всеволод Мстиславич, внук Мономаха, и игумен Юрьева монастыря Кириак.
Несколькими годами позднее произошли крупные события в новгородской истории, о чем сказано в летописи: «Бысть восстань велика в людех».
В 1136 году новгородское вече потребовало князя к ответу, сурово предъявив ему обвинение в трусости, а главное — в том, что он вмешивает Новгород в междоусобицы и «не блюдет смердов» (то есть не заботится о простом народе). Всеволода изгнали, а нового князя, Святослава, сильно ограничили в правах.
С той поры и превратился Новгород в самостоятельную феодальную республику, первую на Руси. Князья лишились права жить в городе, на Ярославовом дворище, и должны были вместе со свитой и челядью переселиться на старое Рюриково городище. Результатами восстания 1136 года воспользовались влиятельные купцы и бояре. Детинец остался резиденцией архиепископа, игравшего главную роль в совете господ. Ярославово дворище и Торговая площадь сделались средоточием бурной общественной жизни города.
Вблизи от Николо-Дворищенского собора стоит интересное здание, о котором можно часто слышать от горожан, будто здесь-то некогда и висел вечевой колокол новгородский, сменивший древнее било. У этого трехэтажного здания две проездные арки и красивая восьмигранная башня — шатер. Долгое время считалось, что это гридница XV столетия, то есть вечевая канцелярия. Но архитектура здания и башни относится ко временам более поздним, к XVII веку, когда новгородское вече уже перестало существовать. Новыми исследованиями установлено, что здание и башня связаны с бывшим вечем только своим местоположением, а служили въездом в Гостиный, то есть купеческий, двор.
Уцелевшая часть Гостиного двора, или (по-старому) «гридница», гармонирует с архитектурой остальных зданий на Ярославовом дворище и на Торгу. Некогда на Торговой площади стояло двенадцать больших храмов, не считая еще одного монастыря. До наших дней уцелело семь, они-то и придают Дворищу и Торгу незабываемый облик.
К числу интересных строительных особенностей древнерусской архитектуры относится устройство особых резонаторов — «голосников». Это вмазанные в стены, обожженные глиняные горшки. Служили они не только для усиления звука, но и облегчали тяжесть сводов, арок и всей купольной системы. В наше время акустические опыты показали, что в зданиях с голосниками человеческая речь и пение звучат красивее и сильнее, а исполнителю поется легче.
Строились церкви на Торговище ремесленными братствами в честь патронов-покровителей разных видов ремесла: своя церковь была у суконщиков, своя у кузнецов, своя у торговцев воском. При церквах действовали советы купеческих или ремесленных объединений.
В сохранившемся поныне большом храме Ивана на Опоках (то есть на белой глине) разбирались в старину торговые тяжбы, совершался купеческий совестный суд. Тут же, в специальном ларе, хранились торговые договоры, а в притворе стояли весы особой точности, которые мы назвали бы контрольными. Если возникал спор насчет недовеса, и недомера, доставали из ларя «гривенку рублевую», выверенные безмены, а то и старинную меру — «локоть иванский», чтобы смерить в длину партию товара.
О многом могли бы поведать храмы на Торгу и Ярославовом дворище. Каких только бед не переживали новгородцы! Сколько раз пожары истребляли деревянный город с узкими улицами! Сколько тысяч и тысяч сынов северной русской земли полегли в битвах, сколько горьких слез пролили матери и жены! Но не было у Новгорода худших врагов, чем последние пришельцы — фашисты. В городе, выжженном и безлюдном, как пустыня, гитлеровцам достались одни камни, но ведь и камни говорили о стойкости, о жизнелюбии русского народа. И фашисты объявили войну камням. Они взрывали древние памятники, мостили обломками храмов дороги, давили эти обломки гусеницами танков. Многие памятники новгородского зодчества стерты с лица земли, другие вернулись нам в развалинах. Не помедливши, возвели наши упрямые люди защитные шатры над руинами и принялись за реставрацию. Работы начались еще до окончания войны.
Возрожденные памятники древней архитектуры изумительно вписаны в облик сегодняшнего Новгорода. Город над Волховом вторично за одиннадцать веков оправдал свое название: он действительно опять новый, воскрешенный из пепла и каменных осыпей.
Когда приезжаешь сюда — трудно бывает уйти с нового моста через Волхов. Направо глянешь — сияет золотом шлем Софии над твердынями кремля, плывут тихие обла ка над Кокуем, просвечивает синева в проемах софийской звонницы. А налево — уходит вдаль широкий проспект Гагарина и виден силуэт храма Федора Стратилата. Искусствоведы справедливо считают его шедевром новгородской архитектуры XIV века. Когда-то он стоял на берегу ручья, отделявшего Плотницкий конец от Славенского. Теперь ручей засыпан, по бывшему его руслу мчатся машины из Ленинграда в Москву.
Очень похожая на храм Федора Стратилата, но более нарядная красуется в глубине Первомайской улицы церковь Спаса на Ильине. Она была расписана изнутри вели» ким мастером живописи Феофаном Греком, и, к счастью, многие фрески уцелели. Главная композиция Феофана — устрашающе грозный Христос-пантократор в купольном своде, так же как и старцы, пророки, столпники, написанные на стенах и сводах, — до сих пор поражает необычайной смелостью рисунка, своеобразием колорита, трагическим пафосом и совершенством психологической характеристики.
Если вам придется смотреть, как мне в последний раз, эти потрясающие фрески в холодное время года, они будто просвечивают через голубоватый дым, и краски не так ясно различимы. Но даже в неблагоприятных условиях зимы ценитель фресковых росписей получит в храме Спаса на Ильине впечатление глубокое и сильное.
Оба здания, Федор Стратилат и Спас на Ильине, тоже перенесли тяжкие военные повреждения и были спасены умелыми руками советских реставраторов, как и многие другие памятника новгородской старины. Все они отделяются от остальных строений свежей, ослепительно яркой на северном солнышке побелкой. Те, что ближе к реке, глядятся с берега в серо-синюю, чуть тронутую рябью, глубокую и спокойную воду. Это здания-ветераны, вышедшие победителями из Великой Отечественной войны, простые и скромные, мудрые в своем немногословии.
Живые голоса древних новгородцев
Есть у искусствоведов такой специальный термин — граффити. Наши первоклассники удивились бы, узнав, что это такое. И пожалуй, неосторожная пропаганда этого слова могла бы привести кое-где к последствиям, нежелательным для школьного завхоза.
Граффити — это те самые, строго-настрого запрещенные всеми правилами внутреннего распорядка настенные рисунки, надписи, что так раздражают и сердят нас в лифтах и коридорах, на лестницах, а то и в красивых горных ущельях, где, правда, нет стен, но есть поросшие мохом или открытые солнцу изломы скал.
Археологи уделяют много внимания исследованию граффити. Это требует специальных знаний — истории языка, диалектологии, палеографии. Выцарапанная на стенной штукатурке надпись или рисунок живет иногда очень долго.
Граффити, конечно, вредят казенному имуществу, но спустя века могут принести пользу науке. Да ведь и не всегда рисунок на стене связан с безделием или шалостью. Подчас это — след трагического и страшного происшествия. Сколько рассказали, например, тюремные надписи об ужасах Моабита и Бухенвальда, Освенцима и Дахау!
В памятниках древней архитектуры, воплотивших на века замысел зодчего, часто сохраняются и следы рук тех, кто пользовался зданием, бывал в нем, запечатлевал в рисунке или надписи свои думы и чувства.
В лестничной башне Рождественского собора в Антониевом монастыре был обнаружен в 1944 году рисунок, нанесенный на штукатурный слой красной краской. Изображен на рисунке сутуловатый человек с бородкой и небрежно подстриженными волосами. Одет он в кафтан, опоясан кушаком. Одну руку прижал к поясу, другую отвел в сторону, будто что-то поясняет. Над головой процарапана надпись: «ПЕТР».
Летописец ничего не сказал о личности мастера Петра, творца Георгиевского, а предположительно и Рождественского и Николо-Дворищенского соборов. Понятно, какой жгучий интерес вызывает каждый штрих, способный хоть что-то поведать нам о замечательном русском архитекторе XII века. Обнаруженный рисунок мог, по мнению специалистов, принадлежать руке самого мастера, — тогда мы имеем автопортрет древнейшего из известных нам по имени русских зодчих. А может быть, мастера Петра изобразил кто-то другой, работавший с ним бок о бок?
Похожее открытие было сделано недавно в Софийском соборе. Там нашли выцарапанный на первоначальном штукатурном слое силуэт церковного здания и... подпись «ПЕТР». Рисунок надежно датируется XII веком — значит, тоже может относиться к великому зодчему? Может быть, во время молебствия он стоял в уголке и чертил каким-то острием силуэт задуманного храма?
Особенно богаты граффити Софийский собор и храм Федора Стратилата на Ручье. Каких только надписей не сохранилось на церковной штукатурке! Тут и поминания, и коммерческие подсчеты, и даже сердечные признания...
Надо заметить, что иные граффити исполнены прямо-таки каллиграфической старославянской вязью, сохраняя черты новгородского говора. Значит, они принадлежат людям здешним, притом простым ремесленникам. Есть, например, слова, выцарапанные на глиняных голосниках еще до обжига, — их несомненно писал на своем еще сыром и мягком изделии сам мастер — новгородский гончар.
Словом, прежние представления о мнимой поголовной неграмотности древней Руси разлетаются в прах, так же как и попытки рисовать тогдашний Новгород грязным и неблагоустроенным (каким был в те времена, например, Лондон).
Археологи находили в Новгороде памятники древнерусской письменности, говорящие о повседневном, бытовом ее применении. На винной бочке XIII века обнаружена подпись владельца — «Юрище». На сапожной колодке — имя заказчицы, новгородской модницы Мнези. Но эти доказательства письменной культуры древних новгородцев не всем казались убедительными, пока в 1951 году экспедиция московского профессора А. В. Арциховского не сделала в Новгороде поистине исторического открытия. Речь идет о так называемых берестяных писаницах.
Об этом выдающемся открытии написаны десятки ученых трудов, специальных статей, научно-популярные работы, как, например, прелестная книга В. Янина «Я послал тебе берёсту».
Уже давно при новгородских раскопках ученые находили свернутые в трубочки куски бересты. О том, что березовая кора служила универсальным «оберточным» средством, было известно и раньше. Берестой соединяли стыки подземных дренажных и водопроводных труб, то есть, по выражению строителей, ее использовали как средство гидроизоляции. Из нее делали замечательные по красоте обои. Применяли бересту и в рыбацком обиходе. Поэтому, обнаруживая скатанные трубочки, археологи принимали их за поплавки для рыболовной снасти.
Но вот 26 июня 1951 года в одном из раскопов новгородской мостовой участница экспедиции заметила между слоями старых бревен берестяной «поплавок» и присмотрелась к нему внимательнее... Буквы! Целые слова и даже фразы из процарапанных букв!
«Впечатление было потрясающее. Казалось, из-под земли раздались живые голоса древних новгородцев», — писал Арциховский.
С тех пор найдены, обработаны лабораторными приемами, прочитаны, всесторонне исследованы сотни берестяных грамот. Исследования показали, что жители древнего Новгорода и его окрестностей, а может быть, и всей Новгородской земли, широко пользовались письменной грамотой. Читать, писать буквы и цифры, вести арифметический счет умели, оказывается, и городские люди и крестьяне — мужчины и женщины. Дети сызмальства приучались к письму — для этого имелись специальные пособия вроде деревянных азбук, вырезанных на дощечках. На одной из таких дощечек — азбуке XIII — XIV веков — размером около ста двадцати квадратных сантиметров — вырезано 36 букв сла-72
вяно-русского алфавита. Более древнего учебного пособия в нашей стране нигде не найдено.
О чем же рассказывают эти грамоты на бересте, ныне выставленные в Государственном Историческом музее в Москве?
Вот крестьяне пишут хозяину в город, что урожай собран: рожь, мол, собрали по едокам, «а на твою долю немного, господине, ржи». Вот записка «от Бориса ко Но-стасье»: по горло занятый супруг просит жену отправить следом конного нарочного, а с ним дослать и сорочку, впопыхах забытую дома. Есть грамоты, написанные детьми. Есть взволнованное сообщение, что высушенное сено украдено соседями. Есть завещания, письма из других городов...
Словом, жизнь во всем ее многообразии, с естественной речью, характерным новгородским «цоканьем» и другими особенностями живого северорусского просторечия засверкала перед нами всеми красками и переливами.
Помогла археологам новгородская почва с повышенным содержанием естественных кислот. Она прекрасно консервирует древесину и сберегла для нас в течение веков эти реальные следы бурного потока жизни наших северных предков.
История в лицах
Перед тем как проститься с Новгородом, постоим перед памятником 1000-летию России. Этот огромный монумент воздвигнут на кремлевской площади, между зданием музея и Софийским собором.
Издали похожий на колокол, он кажется тяжеловатым и старомодным. Не нужно тонкого художественного чутья, чтобы понять: перед нами не творение высокого искусства, как, скажем, Медный всадник. Однако памятник сработан большими мастерами скульптуры, отлично расположен, сразу бросается в глаза приезжему. На площадке перед ним всегда многолюдно. Экскурсанты проводят здесь целые часы. Это понять не мудрено — ведь памятник очень наглядно изображает в лицах тысячелетнюю историю нашей страны, а кроме того, уже и сам имеет собственную историю, возвысившую его значение.
...20 января 1944 года советские войска выбивали гитлеровцев из развалин Новгородского кремля. Опаленная разрывами, полуразрушенная, лишенная глав и креста, но по-прежнему далеко видимая отовсюду, поднималась из-за кремлевских стен белая звонница Софийского собора. Каждый солдат, штурмовавший кремль, запомнил миг, когда на звоннице вдруг стал виден крошечный красный лоскут!
И когда из кремля понесли раненых по медсанбатам, а тела убитых сложили под стеной, солдаты-победители, осматриваясь в освобожденном кремле, увидели странные бронзовые обломки, черневшие на закопченном снегу. Там вздымалась рука с крестом, там уткнулся в сугроб крылатый ангел, там поверженный воин в кольчуге как бы грозил саблей вслед убегавшим фашистам. Посреди же кремлевскои площади возвышался круглый гранитный постамент разрушенного памятника 1000-летию России. Этот момент запечатлен на известном полотне художников Кук-рыниксов.
Скоро пленные немецкие солдаты признали, что они распилили и разобрали памятник не ради металла для патронов. Оказалось, фашистское командование приказало отправить части монумента в Германию и установить там как символ «порабощения России».
На многих ротных и взводных собраниях наши солдаты писали резолюции химическими карандашами на тетрадных листках: немедленно восстановить памятник! Требо вание удовлетворили: монумент вскоре был полностью воскрешен на прежнем месте, в прежнем виде и стал с тех пор как бы своеобразным памятником нашей победы.
Но почему он называется памятником 1000-летию России?
Обозначенный летописцем год прихода Рюрика в Новгород — 862-й — признавался в царской России годом начала государства российского, и в честь этой годовщины было решено установить в 1862 году официальный памятник. В конкурсе участвовало более пятидесяти скульпторов, но победителем вышел, к Общему удивлению, не скульптор, и притом совсем еще молодой человек.
Михаил Осипович Микешин (1836 — 1896), из небогатых дворян Рославльского уезда Смоленской губернии, кончил Академию художеств по классу батальной живописи. Неожиданный результат конкурса — победа микешинского проекта — принес молодому художнику славу. С тех пор он посвятил себя ваянию, и во многих городах стоят монументы, воздвигнутые им в содружестве с другими скульпторами, — в том числе конный памятник Богдану Хмельницкому в Киеве, памятник Екатерине II в Ленинграде.
Список исторических деятелей для увековечивания на памятнике 1000-летию России претерпел немало изменений. Из него были вычеркнуты имена поэта Кольцова, художника Александра Иванова, сатирика Кантемира, актера Мартынова, флотоводца Ушакова. Царь Александр II категорически запретил запечатлеть на памятнике образ Тараса Шевченко, и лишь с большим трудом Микешину удалось включить в список имя Гоголя.
...На памятнике — 128 фигур. Две верхние аллегоричны: ангел с крестом благословляет Россию, изображенную в виде женской фигуры на коленях. Позы ангела и женщины пластичны* но религиозная символика чужда нашим экскурсантам. Мне приходилось слышать, как довольно большие ребята в пионерских галстуках спрашивали у экскурсовода:
— Чья это там могила наверху?
Действительно, черный византийский крест, выполненный по рисунку архитектора В. А. Гартмана, ангел с опущенными крыльями и коленопреклоненная женщина вызывают у нас, людей другой эпохи, скорее представление о надгробии, чем о памятнике славы.
Второй ярус — фигуры, размещенные вокруг огромного шара, похожего на Мономахову державу, — представляет главных исторических деятелей Руси.
Опирается на щит с надписью «ЛЕТА 6370» (то есть 862 год) суровый варяг Рюрик в кольчуге и с обнаженным мечом. Владимир Святославич правой рукой поднял восьмиконечный крест, а левой указывает язычнику-смерду на поверженного идола, велит уничтожить обломки прежнего кумира.
Фигура смерда очень хороша: это старик в русской рубахе с закатанными рукавами, труженик земли русской. Он медлит исполнить приказ: не так-то легко уничтожить то, во что верил всю долгую жизнь! И эта фигура смерда и другая — женщины с младенцем — едва ли не первое изображение людей простонародных на официальном памятнике в царской России.
Князь Димитрий Донской сжимает в руке трофейный татарский бунчук; князь Пожарский с обнаженной саблей совсем заслоняет робкую и неуверенную фигуру юноши-царя Михаила Романова. Гений славы осеняет Петра-победителя.
Остальные сто девять фигур размещены в нижнем ярусе, на горельефе, опоясывающем гранитный постамент. Чтобы лишь бегло осмотреть каждую фигуру в отдельности и разобрать подписи, выполненные славянской вязью, нужно потратить не меньше двух-трех часов... Горельеф — самая интересная часть памятника. Здесь повторяются фигуры второго яруса, но в реалистических позах, в естественном окружении. Они как бы живут своей особой жизнью, общаются друг с другом и со зрителем.
Вот новгородцы. Нелегко было поместить на памятнике фигуру Марфы Посадницы! Скульптор получал возмущенные письма: разве уместно изображать рядом с героями вдохновительницу темных интриг? Но Микешин настоял на своем, и образ Марфы стал одной из художественных удач скульптора.
Мы видим Марфу на горельефе над останками разбитого вечевого колокола. Это уж не властная боярыня, а подавленная горем новгородская горожанка, оплакивающая былую вольницу, убитых детей и внуков, гибель честолюбивых замыслов.
Во весь рост стоит победитель тевтонских рыцарей на Чудском озере, красавец и богатырь Александр Ярославич Невский. Рядом с ним князь Довмонт-Тимофей, правитель «молодшего города» — Пскова. Литовец родом, он, приняв православие, получил имя Тимофей, но летописцы больше привыкли называть его по-старому.
Часто посетители по нескольку раз обходят памятник в поисках фигуры Ивана Грозного. Но его на памятнике нет. Было решено, что психически неустойчивому царю, маньяку, готовому пытать людей по малейшему подозрению, жестокому сыноубийце не место среди прославленных героев государства российского. Эпоху Ивана Грозного представляют на памятнике кроткая царица Анастасия, протопоп Сильвестр и окольничий Адашев. Дескать, они умиротворяли больного царя.
И вот, наконец, деятели русской науки и искусства: Ломоносов, Державин, Крылов, Карамзин, Грибоедов, грустный Лермонтов, живой и вдохновенный Пушкин, сосредоточенный Гоголь, чем-то озабоченный Глинка и повернувшийся к нему Брюллов...
Нет среди этих деятелей неистового Виссариона, но многие замечают, что лицо Лермонтова удивительно похоже на Белинского. Не думаю, чтобы это сходство было случайным. Микешин слишком хорошо понимал значение Белинского, знал, как Лермонтов был восхищен своей единственной встречей с ним на гауптвахте. Поместить Белинского на памятнике было невозможно, и скульптор подчеркнул в облике Лермонтова сходство с Белинским, как бы намекая на внутреннее родство трагической лермонтовской музы с миром идей великого критика-революционера.
В летние дни, когда в Новгороде много экскурсантов, трудно даже подойти к памятнику. Люди подолгу разбирают надписи, обсуждают микешинскую трактовку образов, а бывает, «добавляют» к фигурам на памятнике собственных кандидатов — Радищева и Герцена, Толстого и Чайковского.
Так официальный монумент царского времени, демонстративно разрушенный врагами Советской страны и воссозданный после победы над ними, стал для нас значительной исторической ценностью, потому что мы видим в нем памятник отечественной истории, бронзовый гимн творцу истории — народу, выдающимся государственным деятелям, защитникам страны, творцам русского классического искусства.
Исторически значительно и само гражданское здание, перед фасадом которого установлен памятник тысячелетию России.
В прошлом это было здание присутственных мест, где некогда служил ссыльный Герцен. Сейчас оно целиком принадлежит новгородскому музею, одному из крупных центров исторической науки в нашей стране» — его столетний юбилей широко отмечала советская печать в 1965 году. Именно по инициативе деятелей новгородского музея создается ныне близ Юрьевского монастыря и Перунова скита архитектурный заповедник, куда уже перенесена из дальнего приселья деревянная курицкая шатровая церковь, один из замечательных памятников новгородской архитектуры.
Этот «музей под открытым небом», где будет собрано несколько сотен деревянных строений, дополнит для приезжего те глубокие впечатления, какие он получит в Новгородском кремле.
III. Воин и страж земли русской — Псков
Легенда об Ольгином граде
Датский писатель Мартин Андерсен-Нексе, гостя в Москве, как-то спросил меня:
— По исторической традиции у городов есть символические ключи, а у ключей — хранитель. Кого вы назвали бы хранителем ключа к душе древней Москвы?
Озадаченный этим романтическим вопросом, я подумал о знатоке быта старой Москвы «дяде Гиляе» — писателе В. А. Гиляровском, о художнике-историке Аполлинарии Васнецове, об искусствоведе и художнике Игоре Грабаре, об авторе «Археологии и топографии Москвы» Н. А. Скворцове, о большом архитекторе А. В. Щусеве... Наконец я рассказал Мартину Андерсену-Нексе об ученом — археологе и историке Москвы Иване Егоровиче Забелине (кстати, теперь его имя носит в Москве бывший Большой Ивановский переулок, рядом с Государственной публичной исторической библиотекой, созданной при участии И. Е. Забелина). Вместе с датским гостем мы долго листали страницы великолепной «Старой Москвы», задуманной Иваном Егоровичем, но изданной позднее, уже в его память... Андерсен-Нексе, помню, согласился с моей рекомендацией.
С тех пор я часто думаю о метком слове старого писателя насчет хранителя ключа к душе города. И мне посчастливилось встречать в разных городах именно таких людей-энтузиастов, к которым удивительно подходит это выражение.
Например, ключ ко всем тайнам Суздаля, бесспорно, хранит тамошний археолог А. Д. Варганов! Ключ Киева, верно, в руках искусствоведа Г. Н. Логвина, автора многих работ о городах Киевской Руси. Хранительницей ключа к душе древнего Новгорода является, по моему убеждению, Тамара Матвеевна Константинова, научный руководитель Новгородского музея. Свое назначение на этот пост она получила 18 января 1944 года, за двое суток до полного изгнания гитлеровцев с Софийской стороны, и вошла в свое кремлевское хозяйство, пылающее и разгромленное, чуть ли не с первыми бойцами наших атакующих частей. Много труда вложила эта мужественная женщина в восстановление и сбережение новгородских памятников культуры.
Есть свой хранитель ключа и у древнего Пскова.
Еще в Москве, в главных реставрационных мастерских, дали мне адрес Ивана Николаевича Ларионова. Это историк, исследователь псковских архитектурных памятников, краевед, музейный работник, собиратель фольклора и лектор.
Найти Ивана Николаевича в Пскове оказалось не так-то просто: в тот мартовский день видали его в трех противоположных концах большого города, там, где велись работы по реставрации или консервации памятников. Наконец мы встретились в полутемном подвале, под сводами одного из самых романтических зданий Пскова — мрачноватых Поганкиных палат.
Иван Николаевич рассказал о последних реставрационных и археологических работах в кремле, Довмонтовой крепости, в Среднем городе, на «полонище», в Завеличье и Запсковье (по • местной традиции, мой собеседник делал ударение на первом слоге).
В старых русских рукописях Псков, или, по-старинному, Плесков, иногда называется Ольгиным градом, потому что знаменитую киевскую княгиню Ольгу считают псковитянкой. И. Н. Ларионов записал немало народных легенд об основании «Ольгиного города». Вот одна из них в вольном пересказе.
Более тысячи лет назад были дремучие леса там, где стоит теперь город Псков. На реке Великой, немного выше нынешнего города, уже тогда пряталась среди лесов деревня Выбуты. Жители ее — славяне-кривичи — растили хлеб, держали скотину, били зверя стрелой и рыбу острогой, бортничали. И жила в деревне крестьянская девица Ольга, дивной красоты и светлого ума. По бедности родителей пришлось ей искать заработка, чтобы приданое скопить. Стала она перевозчицей: на легкой лодочке перевозила путников через реку Великую.
Шумела вода у каменных порогов, не каждый брался спорить с бурливой и быстрой рекой, но девица ловко управлялась с веслами и шестом. Случилось ей раз переправлять молодого витязя. На стрежне реки смутил он Ольгу смелым взглядом, сам схватил весла, а на той стороне помог девице сойти на берег, имя спросил и кольцо подарил с ярким самоцветом. Не знала перевозчица, что это сам Игорь-княжич, сын новгородского властителя Рюрика. А когда настала пора Игорю жену выбирать, послал он сватов к Ольгиным родителям. И стала Ольга женой киевского князя Игоря.
Плывет раз в нарядной ладье молодая княгинюшка вниз но реке Великой. Увидела высокую скалу над разливом, как раз там, где речка Пскова впадает в Великую, а на самой вершине шумят вековые сосны. Указала Ольга на скалу и говорит:
— Быть здесь городу, великому и славному!
Так и исполнилось веление Ольгино. Появились вскоре на скале и по берегам обеих рек первые дома. Окружили жители новое поселение тыном и назвали «Ольгин город». А близ деревни Выбуты и поныне всякий покажет приезжему светлый Ольгин ключ — испокон веку пробивается здесь тихоструйная ледяная вода. Говорят, любила сюда Ольга по воду ходить, пока была еще крестьянской девушкой.
И камень есть на Великой реке, у берега, весь оброс зеленоватым мхом и потрескался, а на камне — узкий след, будто от женского сапожка. Поныне зовется камень — Ольгин след.
Такова легенда о происхождении Пскова.
Что в ней достоверно, а что — поэтический вымысел?
О родительском доме Ольги науке ничего не известно. Народная гордость превратила ее в простую крестьянку, но трудно допустить, чтобы киевскому князю повезли издалека, из-под Пскова, невесту-бесприданницу.
Скупой на похвалу Нестор-летописец назвал Ольгу «мудрейшей из людей», о красоте ее не умирают предания, и подвергать их сомнению нет причин. Виктор Васнецов, очень долго искавший лицо Ольги для росписей Владимирского собора в Киеве, в конце концов остановился на образе женщины прекрасной и высокоодухотворенной, мудрой властительницы, грозной для врагов Руси. Такой понимал Ольгу творец легенд — народ, и художественная интуиция подсказала мастеру, что этот легендарный образ правдив.
А вот насчет основания города Пскова красивая легенда не выдерживает научной критики.
В археологических коллекциях накоплено много находок, извлеченных из псковской земли, — древнейшие орудия труда, остатки посуды, художественные поделки. На берегах Великой селились в древности отдельные финские племена, буквально затерянные среди непроходимых лесов. Примерно с VI века нашей эры оставили здесь следы своей хозяйственной жизни славянские племена кривичей, а к VIII веку, как свидетельствуют находки, на стрелке Псковы и Великой уже существовал большой укрепленный город Псков, поселение купцов и ремесленников.
Он занимал выгодное положение на большой реке и потому уже в раннюю пору своей истории обогнал в развитии другой древний город кривичей — Изборск, заложенный позднее Пскова, западнее его, над суходолом, в краю небольших, очень красивых озер.
От начала своей письменной истории и до XIV столетия Псков подчинялся Новгороду, считался как бы его пригородом, но отнюдь не все, исходившее от Новгорода, принималось псковичами безропотно. Псков стремился к самостоятельности и подчас тяготился своей зависимостью от старшего брата. Не раз между обоими городами возникали распри, пока, наконец, в 1347 году Псков окончательно не освободился из-под надоевшей опеки.
Произошло это в связи с нападением на Северную Русь шведского короля Магнуса. Псковичи ударили на врага вместе с новгородцами, но потребовали себе от новгородского веча полной независимости. Новгородцы отозвали свою администрацию из Пскова и признали его равноправным «молодшим братом».
Так появилась на русском севере вторая вечевая республика. Боярство и купечество были здесь не такими влиятельными, как в Новгороде, и вечевой строй — более демократическим: влияние князя менее ощущалось в общественной жизни республики.
Земли псковские тянулись неширокой полосой вдоль западной границы владений Господина Великого Новгорода. Пограничное положение псковских земель наложило на все местное зодчество заметный отпечаток.
Прежде всего, разумеется, и в самом Пскове, и в его посадах и пригородах — Изборске, Печорах, Порхове, Гдове, Ворониче, Опочке — издавна возникли могучие крепости. На их высоких башнях, сложенных из камня-плитняка, некогда вспыхивали сигнальные костры, чтобы оповестить о появлении опасности. Поэтому название «костры» перешло на самые башни.
Часто мы читаем у летописцев: «Бурковский костер», «Мстиславский костер», — так называли в старину те или иные зубчатые псковские башни.
Великую службу сослужили эти крепости русскому государству!
Дивишься разнообразию фортификационных приемов, применявшихся северорусскими горододельцами: железные или дубовые решетки, преграждавшие вражескому флоту доступ к речным пристаням; подземные ходы-«слухи», пригодные для внезапных перебросок ратников во вражеский тыл; дополнительные стрельницы для защиты ворот; продуманная система зубцов, амбразур, навесных бойниц, орудийных площадок, штурмовых накатов... Все эти боевые устройства не раз помогали псковичам создавать неодолимую преграду на пути завоевательных армий.
В самом городе выросло постепенно пять поясов укреплений. Многие участки их уцелели, частично реставрированы и вошли в архитектурные ансамбли современного Пскова, придавая городу на стрелке особую горделивость, величавое достоинство.
Сперва возник на высоком каменистом мысу Псковский кремль, или, как его называют сами псковичи, кром. Укрепления здесь были воздвигнуты еще в XI — XII веках.
Второй древний укрепленный пояс появился в XIII веке, при знаменитом князе Довмонте-Тимофее. Этот второй пояс, непосредственно примыкающий к высокой стене кро-ма, получил в народе название Довмонтова города.
Третий пояс создан был в начале XIV века. Участок города, огражденный этой стеной, назывался Старым За-стеньем, а сама третья стена сохранилась в народной памяти как стена посадника Бориса, ее строителя.
В конце того же XIV века псковичи обнесли стеной еще один участок и прозвали его Новым Застеньем. Эти четыре городских оборонительных рубежа воздвигались с наиболее угрожаемой, южной стороны.
В XV веке выстроено было и пятое — последнее, самое мощное — кольцо псковских укреплений. Оно опоясало «Окольный город», включая и Запсковье, то есть посады за рекой Пековой.
В наши дни вдоль этой древней стены, местами реставрированной, местами полуразрушенной, тянутся великолепные городские бульвары, идут тихие тенистые улочки с хорошими старинными названиями, как, например, Застенная.
Удивительно красиво место встречи древней стены Окольного города с рекой Пековой, где когда-то были «верхние решетки» — защита от неприятельского флота. Решетки с их пятью водобежными воротами тянулись от Грановитой башни к прославленной Гремячей (или Космодемьянской). Она и сейчас гордо высится на склоне Гремячей горы, над каменистым руслом Псковы. Это в ней, в Гремячей башне, спит, по преданию, красавица девица, обладательница несметных сокровищ! Гремячая башня до сих пор является как бы символом древнего Пскова. Пригородные поселения по левую сторону реки Великой, напротив крома, находились вне защиты городских стен, хотя именно эта часть Пскова, носящая и поныне название Завеличья, первой горела и подвергалась разорению. Защитой служили ей хорошо укрепленные монастыри — Ми-рожский, Ивановский, Ильинский, Николо-Каменоградский, Николаевский Кожин монастырь, а также отдельные4 церкви за каменными стенами, позволявшими выдерживать кратковременные осады.
Общая длина городских стен Пскова — более девяти верст. Башни располагались так, что противник попадал под перекрестный, «кинжальный», огонь.
Сама местность здесь совсем иная, чем в Новгороде. Там — просторные луга, низменная пойма Волхова, Меты и множества малых речек, синяя гладь Ильменя, спокойные склоны невысокого кремлевского холма. Здесь — крутые, как в горных местностях, овраги, порожистые реки, перекатывающие камни, отвесные склоны, обнажения скальных пород. Особенно красивы прослойки известняка на приречных обрывах близ Снетогорского монастыря.
Все это, конечно, теперь сильно «сглажено» цивилизацией, приспособлено для транспорта, но картину далекого прошлого легко представить себе, бродя вдоль псковских укреплений.
Видишь, что в отличие от новгородских стен, выстроенных из бутового камня и обложенных кирпичом, стены и башни псковской крепости сложены из местного известкового камня-плитняка.
Его легко добывали (да и сейчас добывают) в каменоломнях под городом. В постройки он идет вперемежку с гранитными валунами — по ним поныне можно переходить Пскову вброд, столько их принесено за века со склонов!
Небольшие плиты известняка, слегка напоминающие старинный кирпич-плинфу, очень удобны для кладки и прочны, если испытать сложенную из них стену на удар. Но один важный недостаток этот местный камень имеет: мягкий и пористый, он сильно впитывает влагу и постепенно разрушается, если оттепели часто чередуются с морозами.
Чтобы спасти постройки от разрушения, псковские мастера густо белили поверхность стен, а местами перед побелкой штукатурили их глиной. Однако древние крепостные сооружения Пскова все-таки не дошли бы до нас, если бы не усилия реставраторов. Слишком большие испытания выпадали за столетия на долю этих каменных стен: частые войны, наводнения, размывы, оползни, пожары... Лишь благодаря крупным реставрационным работам, выполненным в последние годы, мы и теперь можем полюбоваться на древние памятники ратной доблести над реками Великой и Пековой.
Псковские набаты
Когда подъезжаешь к Пскову какой-нибудь проселочной дорогой, одной из тех, что некогда бежала под колеса пушкинской кибитки, еще километров за тридцать можно различить простым глазом над щетиной лесов, над отлогими холмами со всходами озимых стройную громаду Троицкого собора.
Это белое здание, вознесенное к небу на крутом прибрежном мысу, играло важную роль в истории Пскова. Здесь «благословляли на брань» князей перед выходом в ратное поле в челе псковских дружин. Тут же происхо
дили торжественные церемониальные приемы иноземных послов. В особых «сенях» хранились государственная казна, важнейшие документы.
В нижнем ярусе Троицкого собора была усыпальница, где хоронили князей, церковных деятелей и первых санов
ников города.
Над южной кремлевской стеной, или «першами», была устроена некогда звонница — колокольня. Голоса ее колоколов перекрывали шум, царивший в деловом центре, Довмонтовом городе.
Здесь, на крошечном пространстве, опоясанном могучими стенами, буквально лепились друг к другу всевозможные постройки. Недавние археологические раскопки вскрыли здесь остатки церквей, звонниц, часовен, каменных домов, складов, гридниц, кладбищ. Важнейшие из открытых фундаментов сейчас расчищены и приведены в порядок. Можно бродить между ними, представлять себе жизнь, кипевшую некогда в этом псковском «сити». Самое прочное из гражданских сооружений — Приказные палаты на южной границе Довмонтова города — сохранилось до наших дней. Это монументальное двухэтажное здание очень характерно для старого Пскова.
Сейчас и Довмонтов город и кром — территории заповедные, отданные во власть реставраторам, археологам, бесчисленным экскурсантам, студентам-историкам, учителям, искусствоведам. Здесь можно встретить псковских старожилов, которые любят показывать приезжим памятники, рассказывать об их боевой судьбе.
Совсем недавно я видел, как вокруг такого старожила-пенсионера собралась целая группа военных курсантов. Я прислушался и был рад тому неподдельному интересу, с каким молодежь ловила каждое слово старика, в прошлом — рабочего-строителя, очень грамотно и связно говорившего о реставрационных работах, в которых сам принимал участие. Говорил он и о вечевой республике, и об Александре Невском, и о судьбе псковского колокола.
Из поколения в поколение привыкали древние псковичи прислушиваться к призывному гулу вечевого колокола, ожидая то радостных, то тревожных вестей.
В XIV — XV веках вечевые сходки не раз кончались плачевно для власть имущих. В 1483 — 1486 годах власти совершили подлог, тайком подменив в Троицком вечевом архиве грамоту о повинностях смердов, чтобы увеличить поборы. Народ узнал про обман, разгромил дома вечевых заправил и казнил посадника Гаврилу «всем Псковом на вече». В те же годы, как повествует с обычным бесстрастием летописец, «посекоша Псковичи дворы у посадников... и иных много дворов посекоша».
Так расправлялись псковские смерды с неугодными властями.
По-иному город встречал своих героев и любимцев.
Именно на соборной площади крома, под стенами Троицкого собора, чествовали псковичи в апреле 1242 года ратников Александра Невского и самого князя после победы в Ледовом побоище.
В тяжелые годы татарского ига Александр Ярославич одержал подряд четыре победы, сыгравшие огромную роль для народного самосознания, для политических судеб будущей России.
Прозвище свое — «Невский» — он завоевал на берегах Невы 15 июля 1240 года, разгромив отборные войска ярла Биргера из рода Фолькунгов. Биргер думал воспользоваться ослаблением Руси, сожженной и истоптанной татаро-монголами, и оторвать «под шумок» для себя лакомый кус северных земель, куда не смогли добраться Батыевы рати, увязнувшие в болотах в сотне верст от Новгорода. Шведский ярл объявил против Руси священный поход, дошел до Невы и был наголову разбит Александром.
Одержав свою первую большую победу, юный Александр Невский отправился во Владимиро-Суздальскую землю для встречи с отцом, владимирским князем Ярославом. Отъездом Александра поспешили воспользоваться другие хищники — немецкие рыцари Тевтонского ордена. Они напали на земли Великого Новгорода и внезапно захватили Псков.
По легенде, врагам помог изменник, псковский посадник Твердило Иванкович: он будто бы показал им подземный и подводный ходы из Завеличья в кремль, и враги ночью прокрались в город. Исторически достоверно, что Твердило «владел в Пскове вместе с немцами», то есть предательски сотрудничал с врагами.
Чтобы прочнее утвердиться на землях Господина Великого Новгорода, немцы спешно построили крепость на Ко-порском погосте, укрепились и в занятом ими Пскове. В 1241 году новгородские гонцы вызвали Александра из Владимирской земли на север. С небольшой дружиной он нанес удар по крепости Копорью, и вскоре на новгородском Торговище русские люди увидели шествие понурых немецких завоевателей, плененных Александром при освобождении Копорья. Но штурмовать Псков Александр в тот год не успел — сам хан Батый потребовал личной встречи с юным князем, и ему пришлось совершить путешествие в орду. Увидев русского гостя, Батый сказал своим вельможам:
— Нет подобного этому князю!
Воротившись из орды на север, Александр во главе новгородской рати пошел освободить Псков от тевтонских рыцарей. Он отобрал у них город приступом, и это один из редких случаев в истории Пскова, когда сильные укрепления крома не сдержали натиска атакующих.
Почти не дав своим войскам передышки, Александр двинулся против главных сил Тевтонского ордена.
Рыцари ордена получили из Германии сильное подкрепление и готовились к решающей битве, сулившей ордену открытый путь ко всем богатствам русской земли. Сосредоточенная сначала на западном берегу Чудского озера немецкая армия после встречи разведывательных отрядов двинулась к восточному берегу, где Александр расположил у Вороньего острова свои рати, укрыв их в прибрежном лесу.
Войска Александра состояли из ополченцев, набранных в Псковской и Новгородской землях. Были у полководца и суздальские дружинники. А противостояли они отборнейшим войскам крестоносцев, вчерашним завоевателям Палестины — армии профессиональных убийц, великолепно обученных, спаянных в боевом рыцарском союзе, для которого завоевание прибалтийских земель было вопросом «жизни и смерти».
Результат великой битвы известен. «Русь обняла кичливого врага», угодившего в железные клещи и добитого конным резервом Александра. Поражение нанесло ордену такой военный и моральный урон, от которого завоеватели никогда не смогли уже полностью оправиться. В истории России Ледовое побоище стало одним из тех событий, какие на века решают судьбу народа.
...Есть что-то возвышающее душу в каждом озерном пейзаже, в спокойной и величавой шири воды и дальних берегов, исчезающих в дымке. Но совсем особое чувство вызывают в сердце озерные пейзажи здесь, невдалеке от Пскова, где когда-то пролегал рубеж между русской землей и владениями опасного врага, Тевтонского ордена. Рубеж этот шел и по озерам Псковскому и Чудскому, разделенным, или, вернее сказать, соединенным промежуточным Теплым озером (в древности — Узменью), на краю которого и произошло историческое сражение.
Сейчас совершает здесь рейсы красивый теплоход «Лермонтов». Ходит он по трем озерам из Пскова в Тарту. Поездка эта, длящаяся около 14 часов, незабываема. Река Великая, ее устье, тихие острова с рыболовецкими колхозами, русская и эстонская речь, исконные названия: Чудская рудница, Вороний остров...
Вечевой колокол, некогда возвестивший псковичам о победе в Ледовом побоище, висел на своей кремлевской звоннице до 1510 года. В ту морозную зиму прибыл из Москвы дьяк Третьяк Далматов и повелел созвать вече в последний раз. На прощальный призыв колокола прибежали на соборную площадь и стар и млад. Умолк колокол, стихла толпа.
— «...Ино бы у вас вечья не было да и колокол бы есте сняли долой вечный, а здеся бы быти двем наместником!..» — читал нараспев дьяк Далматов приказ московского великого князя Василия III.
Никто не посмел ослушаться. Спустили колокол с троицкой звонницы, подошел палач в красной рубахе и тяжелым кованым молотом отбил медные уши колоколу, чтобы не повадно было псковичам водворить его обратно. Повезли опального в санях на Снетогорское подворье в городе и близ церкви Иоанна Богослова опустили в яму, словно в тюрьму. Вопли женские и детские, да и немало скупых мужских слез провожали изгнанника дальше, в последний путь, когда повезли его в Москву, чтобы показать самому великому князю.
Повезли, да не довезли, если верить старой псковской легенде. Будто сорвался на Валдайских горах колокол с саней, упал на камень и разбился на тысячу кусков. А каждый кусочек этой меди сделался маленьким ямским колокольцем. С тех пор несут они во все концы России звонкоголосую славу старого псковского глашатая!..
...Однажды, неподалеку от крома, в Запсковье, набрел я на небольшую улочку с замечательным названием — Набат. Кстати сказать, выразительные слова-названия, так много говорящие и сердцу и уму, неоценимые для истории нашей культуры, слова, полные поэзии, зачастую плохо оберегаются, утрачиваются. Псковская улица Набат, к счастью, сохранила свое древнее название, меткое и точное, народное слово-памятник.
Да, тревожные набаты часто будили горожан в зимние и летние ночи, когда пожар охватывал тесную улицу, целые кварталы деревянных строений и даже камень в городской стене превращался от жара в известь и рассыпался. А бывало, как мы знаем, и похуже — подступал к стенам города враг.
В 1581 году сильная армия польского короля Стефана Батория захватила город Остров и подошла к Пскову.
И когда здесь уже трезвонили всполошеные колокола с дозорных башен и вышек, секретарь королевской канцелярии пан Пиотровский торопливо заносил в путевой дневник:
«Господи, какой большой город! Точно Париж! Помоги нам, боже, с ним справиться... Город чрезвычайно большой, какого нет во всей Польше!»
В сентябре, после двухнедельной ожесточенной осадной войны, враги ринулись на штурм. Все население Пскова вышло на стены. Псковитянки в мужских доспехах сражались плечом к плечу с мужчинами. Артиллерия пробила бреши в стенах, но защитники выбивали врагов из всех проломов. Приступ потерпел неудачу, дальнейшая осада измотала силы Батория, и кровопролитная война кончилась для него поражением на русском Севере.
В честь трехсотлетия Псковской осады был воздвигнут в 1881 году на братских могилах памятник-надгробие. Он сохранился и поныне, невдалеке от так называемого Ба-ториева пролома в стене Окольного города.
Не прошло и четырех десятилетий после отражения Ба-ториевой рати, как новые полки чужеземцев — армия шведского короля Густава Адольфа — подошли к городу под звуки боевых труб и барабанный бой. Иные ополченцы, юношами сражавшиеся с Баторием, вновь затягивали перевязи мечей, когда призвал их к этому гудящий медью набат.
Уже занят был неприятелем ближний форпост Пскова — монастырь на Снетной горе. Густав Адольф знал, что гарнизон города-крепости сейчас невелик, не ждал серьезного сопротивления и предложил псковичам выслать парламентеров с ключами от городских ворот.
Для устрашения горожан шведский король (ему было 20 лет) повелел устроить парад своих войск под самыми стенами Пскова.
С развернутыми знаменами и королевскими штандартами, блистая оружием, шли церемониальным маршем королевские войска — пехота, конница, артиллерия. Войска вел мимо притихшего города генерал Эвертгорн, а из шелкового шатра наблюдал за этим внушительным шествием и сам король-завоеватель. Сейчас откроются ворота, и ключи города будут вынесены на серебряном блюде русской чеканки...
И ворота открылись! Это были тяжелые крепостные во рота — Варлаамовские, как раз рядом с нынешней, улицей Набат. Но не покорные парламентеры, а псковская конница потоком хлынула из ворот, врубилась в ряды дефилирующих шведов и нанесла им страшный удар. Рухнул с коня сам генерал Эвертгорн, в панике побежала пехота... Русские конники мгновенно спешились, заклепали брошенные врагами осадные пушки, сделав их негодными для стрельбы, захватили пленных. Сам король Густав Адольф получил ранение и еле добежал до Снетогорского монастыря.
Еще несколько месяцев простояли шведы у города, но их наступательный дух был уже подорван неудачей. Не принес успеха атакующим и генеральный штурм в октябре — псковичи отбили его на всех участках городских стен. Вдобавок в шведской армии вспыхнула эпидемия. 17 октября 1615 года Густав Адольф покинул свою обескураженную армию. Поредевшие шведские полки сняли осаду и вслед за молодым королем ушли восвояси. А защитники города, павшие в этих сражениях, оплаканные родными и близкими, погребены были в самом Псковском кремле.
Поднимемся туда по крутой каменной лестнице, вдоль увенчанных деревянными шатрами стен. Вот и башня «ку-текрома», то есть «угол кремля», откуда любил полюбоваться окрестностями Пскова Пушкин.
Отсюда хорошо виден вдали четкий очерк Ваулиных гор. Это там в июльские дни 1944 года советские войска готовили прорыв «линии Пантеры». Прорыв этой линии фашистской обороны, освобождение Пскова от гитлеровцев — навеки памятная страница все той же общерусской летописи боевых побед.
Таинственный средневековый дом
Находится он на Некрасовской улице, знаменит среди историков архитектуры, описан в беллетристических повестях и ученых сочинениях, дал сюжеты мрачноватым преданиям. Носит он несколько странное для непривычного слуха название — Поганкины палаты.
Это очень загадочный дом! Когда спускаешься в его подвалы или бродишь по сводчатым ходам и узеньким лестницам, пробитым прямо в толще стен, невольно думаешь о тайнах, связанных с этим зданием и его владельцами. Вся эта массивная каменная романтика была в годы Великой Отечественной войны под угрозой полного исчезновения с карты Пскова: фашисты взрывали Поганкины палаты по частям (может, клады искали?).
Ныне здание заново отремонтировано после тяжких военных потрясений и хранит в своих стенах музейные ценности. Я ожидал увидеть на древней стене обычную мемориальную доску, но сперва неожиданно очутился перед иной надписью. На фасаде музея, выходящем на Некрасовскую, наспех выведено коричневой краской:
«Дом разминирован. Л-т Корнеев».
Это памятка июльских дней 1944 года, когда саперы обшаривали с миноискателями или понятливыми остроносыми лайками псковские руины.
Поганкины палаты построены в середине XVII века по заказу купца Сергея Поганкина, одного из крупнейших псковских богачей. Он контролировал значительную часть торговых оборотов своих сограждан, владел множеством лавок, кожевенным заводом, садами, огородами, управлял городским денежным двором.
О жизни купца Поганкина ходит множество легенд и рассказов, и нигде не говорится о нем по-доброму. Рассказывают об его алчности, жестокости, нечистом пути к богатству. Эти рассказы могли бы послужить иллюстрацией к Марксовым страницам о первоначальном накоплении! Будто был Сергей Поганкин в молодости разбойничьим атаманом, и палаты его народ потому и прозвал погаными, что стоят они на отнятых чужих крохах и невинно пролитой крови.
По другому преданию, сам царь Иван Васильевич бросил в сердцах это прозвище купчине за жадность, да так оно и прилипло ко всему роду. Кстати, род этот прекратил существование в страшную чумную эпидемию 1710 года, когда вымерла большая часть псковичей.
Обновленное деревянное крыльцо с лестницей ведет прямо в средний этаж главного корпуса. Из обширных сеней направо и налево тянутся проходные покои, перекрытые сводами. Вероятно, эти комнаты служили для приема важных покупателей, здесь же держали образцы товаров. Об этом свидетельствуют кольца для цепей (на них товары развешивались напоказ), тайнички в стенах, ниши.
Главные товарные склады находились в подклетах главного (двухэтажного) корпуса и в подвалах одноэтажной части здания. Вот в этих-то жутковатых подвалах и подклетах молва народная и рисует страшную домашнюю тюрьму купца Поганкина: здесь томились и отдавали богу душу те, кто попадал в кабалу к жестокому купцу-ростовщику, да и те, кто осмеливался жаловаться на кровопийцу, искал на него управу у московского великого князя.
Будто бы даже молодой жены своей не пожалел купец: привязал к хвосту дикого коня и пустил в поле, а с той поры еще пуще стал лютовать над своими жертвами...
Сейчас в подвалах Поганкиных палат находятся музейные фонды — хранятся редчайшие первопечатные книги, древние иконы и рукописи.
Старый дом напоминает крепость, даже тюремный замок с узкими окнами-бойницами. Если мысленно добавить окружавший здание ров с водой и подъемные мосты, впечатление суровости еще усилится.
По народной молве, из подвалов шел под городские стены подземный ход, где и хранил свое золото купец Поганкин. Следы таких тайников нередко встречаются при раскопках: в богатом пограничном городе, всегда находившемся под угрозой, тайники у богачей, конечно, имелись. А превращать свои жилища в крепости заставлял страх перед городской беднотой.
В 1650 году в Пскове вспыхнул «хлебный бунт», поддержанный крестьянами соседних сел. Псковские богачи пытались во время бунта отсидеться в своих домах-крепостях, переждать лихо, как в осаде. Хорошо сохранившиеся По-ганкины палаты очень выразительно рассказывают об этом языком камня.
И все же, несмотря на мрачноватую славу, этому старому дому, как и другим псковским сооружениям той поры, нельзя отказать в суровом обаянии. Уж очень величественна эта скупая гладь стен, полное пренебрежение к «узорочью». Строители достигли строгой гармонии в композиции разноэтажных теремов, будто приставленных один к другому.
На редкость живописно распределены все сто пять окон, выходящих во двор и на улицу. Есть неуловимый ритм в чередовании этих узких, неодинаковых окон. Впрочем, узкими они только кажутся: на самом деле дом хорошо освещен естественным дневным светом из этих окон, расширяющихся внутрь помещений.
Здесь, внутри палат, можно увидеть ныне очень интересные вещи. Тут и богатая картинная галерея, и научная библиотека, и замечательные коллекции древностей, от неолита и ранней кривичской культуры до прекрасных изделий мастеров XVIII и XIX веков. Сюда перевезли с озерного берега серый камень-валун, найденный у селения Чудская Рудница. Столетия пролежал камень близ места Ледового побоища, и возможно, в честь погибших в этом бою было высечено на камне грубое изображение креста.
Висит на стене в музее и подлинный меч князя Довмонта. Прямой, тяжелый, почерневший от времени меч! Этим оружием Довмонт бился во многих сражениях, им одержал и последнюю свою победу над сильным отрядом немецких рыцарей в 1299 году. Вскоре после битвы воевода умер, и с той поры в Троицком соборе препоясывали над гробом Довмонта его мечом тех псковских князей и посадников, что выступали навстречу неприятельским ратям.
Здесь берегли «Слово о полку Игореве»
В Завеличье, то есть за рекою Великой, чуть наискосок от Покровской башни Окольного города, виден сквозь арку башни на том берегу чудесный ансамбль старейшего псковского монастыря — Мирожского.
Есть в биографии этого монастыря одна подробность, которая не может оставить равнодушным любителя древней русской литературы: по мнению знатоков, здесь в XVI, вероятно, веке был переписан неведомым монахом тот рукописный сборник, что заключал в себе среди прочих отечественных и переводных сочинений текст «Слова о полку Игореве». Драгоценный сборник этот впоследствии попал в Ярославль, был продан московскому меценату Мусину-Пушкину и потом сгорел в московском пожаре 1812 года.
Ныне в Псковском музее трудится глубокий знаток «Слова о полку Игореве» Леонид Алексеевич Творогов, принявший в современном Пскове эстафету любви к великому творению нашей словесности, ту эстафету, что нес людям безвестный переписчик-монах, выводивший гусиным пером бессмертные строки полуязыческой русской поэмы.
Из-за монастырской стены и голых вязов поднимается приземистое здание собора. Это храм Спаса, наиболее древний памятник псковской архитектуры из тех, что уцелели до наших дней. Строили его около 1156 года, под наблюдением новгородского епископа Нифонта. Византийский грек родом из Херсонеса, Нифонт был знатоком греческого зодчества, любил византийские архитектурные каноны. Однако псковская каменщицкая артель внесла в эти каноны много собственной выдумки. Псковичи-строители Мирожского храма нашли такие линии и пропорции, которые надолго определили для Пскова своеобразный местный стиль церковной и гражданской архитектуры.
Прежде всего зодчие отказались от громадных сооружений византийского типа, таких, как София в Киеве или в Новгороде. При взгляде на Мирожский храм Спаса и на другие, более поздние церковные здания в Пскове видишь стремление здешних зодчих ограничиться возможно более тесным пространством, сэкономить место. А это требовало новых пропорций, новых соотношений масс и объемов здания, придавало псковским строениям их компактный, приземистый, коренастый вид. Иные из них, и особенно сам Мирожский Спас, очень похожи на крепкие и гордые грибы подосиновики с ровными тугими шляпками, только-только проглянувшие из-под земли.
...К Мирожскому монастырю, прямо по льду реки Великой, вела чуть приметная тропка (летом здесь переправляются на маленьком пароходике-пароме). Увязая в глубоком снегу, я обошел здание собора, пока сторожиха возилась с ключами.
Пожалуй, самую характерную особенность Мирожского Спасо-Преображенского храма легче всего усмотреть с боковых фасадов, северного и южного. Здесь бросается в глаза, что в своем стремлении ограничить объемы строители как бы сдавили храм с востока, что привело к двухчастному, а не трехчастному, как обычно, делению боковых фасадов. Заметно также, что в старину здание имело форму равноконечного креста. Обе боковые абсиды вполовину меньше главной. Противоположные абсидам углы храма, как бы корреспондируя с пониженными боковыми абсидами, некогда были одноэтажными. Потом их надстроили вровень с основной, двухэтажной, частью храма, перекрыли кровлю на четыре ската, а к северо-западному углу прибавили двухпролетную звонницу чисто псковского типа.
Внутри же здание и поныне сохранило свой первоначальный вид, не считая неудачного поновления фресок в начале нашего века. В своем древнем виде фрески Мирожского Спаса принадлежали к высоким образцам монументальных стенных росписей.
В сыром воздухе оттепельного дня, когда мне впервые довелось осматривать мирожские фрески, вся эта стенная живопись покрылась изморозью и слабо проблескивала сквозь дымчатую, напитанную холодным туманом, как бы уплотненную пелену. Но одна из лучших фресок, под названием «Надгробный плач», как раз, будто по заказу, осталась свободной от изморози и запомнилась поэтому навсегда. Это высокая и светлая живопись, где перед зрителем предстает горе матери, рыдающей над распростертым телом любимого сына. Исполнены драматизма и скорби также и коленопреклоненные фигуры учеников у ног Христа.
Отсюда, из Мирожского монастыря, вела некогда в город, по преданию, подземная галерея под рекой Великой. Во время Баториевой осады монахов пытали, чтобы выведать тайну этого хода. Либо монахи оказались стойкими, либо известие о подземной галерее — легендарным, во всяком случае, воинам Батория не пришлось ею воспользоваться.
К другому славному монастырю Пскова, Снетогорскому, ведет ныне не какой-нибудь мрачный подземный ход, а весьма удобная автобусная линия. В ранний утренний час я оказался единственным пассажиром этого автобуса до Снетной горы. Впервые я видел Снетогорский монастырь не в зелени, а в непривычном мне уборе из снега и морозного инея. Мартовская зорька вызолотила соборный крест. Под обновленными куполами, на карнизах и выступах, присыпанных снежком, сидели нахохленные галки, и снизу казалось, что на барабаны церковных главок накинута горностаевая мантия с черными точечками-хвостами.
Река Великая здесь кажется поуже, чем в городе, словно Снетная гора с монастырем на вершине потеснила реку. Кое-где сквозь зимний лед просвечивали полосы холодной голубизны, как синие вены на руке. Течение здесь очень быстрое, морозу трудно держать реку в ледяной узде. Местность вокруг монастыря необыкновенно красива, особенно с воды.
Снетогорский монастырь основан, по-видимому, самим князем Довмонтом еще в XIII веке как форпост обороны. Монастырский собор Рождества богородицы построен был позднее, в 1310 — 1313 годах. Сразу же после постройки собора псковские живописцы изнутри расписали стены и столбы фресками.
Эти фрески имеют исключительный интерес — их никогда не «записывали» и не поновляли. Открыли их из-под слоев позднейшей штукатурки в 1949 году. Хорошо сохранились композиции «Воскрешение Лазаря», «Избиение младенцев», «Вход в Иерусалим», изображения пророков и святых. Теперь, уже в 1967 году, молодой искусствовед-реставратор Наташа Датиева раскрыла доселе неизвестную фреску с изображением библейского рая.
В дореволюционных книгах о русском искусстве творения художников-псковичей почти не упоминались. Только реставрационные работы советских ученых открыли псковскую школу живописи, существовавшую наряду с широко известной новгородской.
Продолжая традиции «Нередицы», псковичи внесли в свою стенную живопись новые черты. Работали они в смелой, резкой манере, подчас отказываясь от церковных предписаний, обращаясь к живой натуре. Преодолевая условность иконописи, эти средневековые живописцы поражают своим свободомыслием, реализмом и «плотскостью» деталей.
Например, в сложной снетогорской композиции «Страшный суд» имеются медведи, барс, олень и лось, написанные в XIV веке с такой верной передачей натуры, будто иллюстрируют книгу анималиста или охотничий альбом, а не религиозную картину, в центре которой находится проклятый церковью убийца братьев Святополк Окаянный.
По мнению В. Н. Лазарева, снетогорские фрески близки по колориту композициям Феофана Грека, он мог их видеть здесь и, быть может, именно через них соприкоснулся с «той богатейшей живописной традицией, которая бытовала на новгородско-псковской почве с XII века», почерпнув и для себя живые творческие импульсы.
Рассматривая снетогорские фрески, испытываешь чувство гордости за наших северных живописцев, чье искусство так же человечно и пластично, как пластичны и человечны постройки псковских зодчих, — эти житейски мудрые, скромные и уютные храмы с тяжелыми, устойчивыми крыльцами на круглых опорных столбах и открытыми звонницами.
Даже самые названия псковских церквей весело-ироничны и метки, связаны с бытом, со здешней местностью, историей, традициями: Церковь Василия на Горке, Николая от Каменной Ограды, Паромо-Успенская, Косьмы и Дамиа-100
на с Примостья, Покровская от Торга, Николы со У сохи (то есть у русла высохшего ручья), Ильи Мокрого, Сергия с Залужья (то есть за лугом) и т. д. и т. п.
Для архитектурного убранства псковских церквей характерны скромные орнаментальные пояса из тесаных или косо поставленных кирпичей, плавно бегущие волны линейного узора, пояски цветных изразцов, похожие на вышитые.
Уменьшение размеров зданий позволило впервые выработать здесь тип бесстолпного храма — не имеющего вовсе подкупольных столбов. В таком храме тяжесть купольного барабана покоится на опорных сводах и консольных конструкциях, передающих эту тяжесть стенам. Примером отличного решения бесстолпной конструкции служит изящная церковь Николы со У сохи, у стен которой некогда собиралось вече Опочецкого конца.
...Как-то ночью я возвращался в гостиницу. Незнакомый пскович спросил, смотрел ли я архитектурную фотовыставку в фойе кинотеатра «Победа». Там уже гасили свет после заключительного сеанса. Но псковичи недаром известны своим гостеприимством: свет зажгли снова, и я смог увидеть прекрасные работы местного фотографа-художника и архитектора-реставратора В. С. Скобельцына. Приятно было узнать, что у города есть подлинный поэт-фотограф, уверенно владеющий секретами мастерства.
Над голыми ветвями городского бульвара перед вечером успели протянуть плакат: «Прощай, русская зима, здравствуй, весна-красавица!» Улицы опустели, витрины погасли, стали различимы бледные северные звезды, стихал городской шум.
И в этой тишине отчетливо и ясно прозвонили старинные городские куранты. Серебряными голосками они каждые четверть часа играют несколько тактов, похожих на вступление к менуэту или гавоту. Часы с курантами украшают здание бывшего Кадетского корпуса, где ныне размещены областные организации Пскова.
Вдоль бульваров и чудесно обновленных улиц с большими красивыми домами хорошо шагать весенней влажной ночью, когда только псковские куранты неутомимо бодрствуют над городом древней славы!..
Псковские пригороды
Прекрасно озеро Чудское,
Когда над ним светило дня
Из синих волн, как шар огня.
Встает в торжественном покое...
Николай Языков
В верстах в трех от восточного побережья Чудского озера псковичи в 1431 году «за-ложиша город нов на Гдове реке» — построили крепость. Так на северной границе Псковской земли возник укрепленный пригород — Гдов.
Прежде он был излюблен художниками живописцами, многие ленинградцы любили проводить здесь летние отпуска — город славился красотой своего расположения и выдающимися памятниками древней архитектуры.
Немецкие фашисты начисто уничтожили красивый старый город, взорвали знаменитую своим изяществом бес-столпную Успенскую церковь, Дмитриевский собор и шатровую колокольню, некогда служившую своеобразным маяком чудским рыбакам. Сейчас город возродился, отстроился, живет новой жизнью, но гибель памятников древней культуры совершенно изменила прежний облик Гдова. Только руина крепости напоминает здесь о седой старине.
Есть любопытное предание о том, как местные жители по-своему истолковали название города.
Будто жили когда-то в устье Гдовы-реки псковские рыбаки. На них во время лова напали ливонские рыцари. Тела загубленных вынесли волны. Вдовы-рыбачки, ожидая нападения на село, опоясали его глубокой канавой с кольями на дне, а сверху прикрыли яму валежником и землей. Враги угодили в эту ловушку, никто не ушел от мести рыбачек. С тех пор жители часто зовут свой город не Гдовом, а Вдовом.
Кстати, мне кажется, что места, особенно красивые по своей природе, богатые архитектурными памятниками, обязательно богаты и легендами, былинами, сказаньями, песнями и частушками. Хотелось бы надеяться, что читатели этой книги не станут упрекать автора в излишнем пристрастии к таким словесным памятникам — ведь они очень хорошо вяжутся с памятниками вещественными, хорошо дополняют и поясняют народную архитектуру.
...Особенно привлекателен и природными, и архитектурными, и языкотворческими богатствами другой дальний пригород Пскова — Изборск. Здесь, по летописному преданию, княжил в IX столетии Рюриков брат, Трувор. Сейчас это большое селение на Рижском шоссе зовется Старым Изборском в отличие от промышленного города — Нового Изборска, расположенного километрах в семи от Старого, близ железнодорожной станции.
По дороге сюда, на двадцать первом километре от Пскова, можно заметить следы старой государственной границы СССР. Еле различимы в траве остатки фундамента от домика погранзаставы.
В стороне от дороги стоит обелиск в память последнего боя за Изборск, и лежат под этим обелиском мои товарищи и однополчане по нашей 291-й Гатчинской орденоносной стрелковой дивизии, изгнавшей отсюда врага в июльские дни 1944-го...
С развилки дорог хорошо видна вся Староизборская крепость: здесь, как и в Севастополе, и на Бородинском поле под Москвой, да и на многих других полях России, героическая старина соседствует с недавними, можно сказать, еще вчерашними памятниками ратной доблести.
Староизборская крепость возведена на высоком утесе. Прясла ее древних стен поросли травой, а кое-где и кустиками берез. Птицы гнездятся в башнях. Любой местный мальчишка назовет вам безошибочно их имена: Талавская или Плоскушка, Вышка, Рябиновка, Темнушка, Колокольная и Куковка (вспомним, кстати, новгородский Кокуй). Кое-где сохранились на стенах архитектурные украшения из отесанного камня — кресты и геометрические узоры. Они очень интересны для изучения русского орнамента.
Биография этой крепости, воздвигнутой в 1330 году, поистине самая боевая! С XIV и до начала XVI столетия Изборск выдержал не менее восьми ожесточенных осадных войн с ливонскими рыцарями. На протяжении двух веков войска Ливонского ордена, оснащенные стенобитной техникой, пытались захватить Изборск, но так и не одолели эту крепость. Лишь Баторий, осаждавший Псков в 1581 году, овладел на короткое время Изборском, но был остановлен псковичами. Сейчас Староизборская крепость, этот первоклассный образец древнерусского военного зодчества, по праву занимает одно из самых почетных мест среди сохранившихся памятников истории и культуры.
Ходишь здесь, в окрестностях Старого Изборска, крутыми каменистыми тропами и не знаешь, чему дивиться: журчащим ли ключам с удивительно чистой и холодной водой, ручьям ли с перепадами быстрой воды и редкостными прибрежными растениями, просторным лесистым далям с голубыми озерами, отражающими лебяжий пух облаков?.. Могут показать в окрестностях Изборска и источник «Черный Ключ», в котором крестьянки некогда красили льняную пряжу в черный цвет, причем устойчивости этого природного красителя могут позавидовать современные химики.
Находящийся в крепости Никольский собор, небольшая церковка Сергия под крепостной стеной, ныне превращенная в народный музей, «Корсунская» часовенка над обрывом, в соседстве с угловой башней, — все это образцы древнепсковской архитектуры, искусства самобытного и высокого, в котором непременная оборонная устойчивость сочетается с уютностью, милой сердечностью и свободной непринужденностью. В отличие от большинства зодчих новгородских псковичи больше стремились к задушевности, чем к величию.
В полуверсте от крепости к северу виден самый старый исторический памятник здешних мест — так называемое Труворово городище, огромный насыпной холм с террасами. Он так крут и четко очерчен, и снизу, от озера, кажется таким грандиозным, что его трудно называть холмом, — хочется сказать: гора! (Здесь все так и говорят.) На самом верху ее — белая Никольская кладбищенская церковь с типично псковским крыльцом и красивой звонницей.
Неглубокий, заросший северным разнотравьем ров отделяет церковь с ее каменной оградой от тенистого кладбища, тихого и красивого. Здесь можно набрести на древние, поросшие зеленоватым мхом могильные плиты и темный каменный крест, очень большой и таинственный. Стоит он будто на Труворовой могиле!
Изборяне любят древнерусскую сказку о богатырях, спящих здесь, под этими каменными плитами. Будто по звуку боевой трубы, под сполох набатных колоколов богатыри пробуждаются, отодвигают тяжелые плиты и выходят на защиту своей земли. И если случится воину получить рану от вражеского меча, то исцелят ее ключи Славянские, что живой гремячей струей бьют у подножия древнего городища и сливаются в ручей.
Заложено это городище веке в восьмом-девятом. Это и было первоначальным Изборском, укреплением славян-кривичей. Отсюда и перенесли жители свой город в XIV веке на соседнюю, более просторную Жеравью гору, где каменная Староизборская твердыня (связанная с замыслом оперы «Псковитянка») сохраняется поныне.
...В двух десятках километров от Изборска приезжего ждет удивительное зрелище еще одной могучей твердыни — Печерской крепости, или Псково-Печерской лавры. Этот известный монастырь зародился в XV веке, а в следующем столетии приобрел для Пскова важное стратегическое значение, став крепостным форпостом. Он сыграл немалую роль в отражении Стефана Батория, приняв первый удар этой армии. Сейчас древняя твердыня восстановлена в своем первоначальном виде и поражает зрителя гармонией форм, слиянием с природой.
Особенно берет за сердце плавный ритм так называемых «корнилиевых стен»: от башни, поставленной на дне глубокой долины с тальвегом ручья, в плавном размахе взлетают по крутым склонам могучие крылья стен с волнообразными завершениями верхней кромки, как бы в подражание крыльям лебединым. А за этими стенами и крепостными башнями видны главы древних храмов — Успенского, высеченного прямо в естественном грунте, и Николы Ратного на вершине холма. Здесь, в соседстве с Успенской церковью, находятся известные лаврские пещеры, давшие имя монастырю и городу.
По сравнению с Печерской Староизборская крепость кажется запущенной и ветхой, хотя и в ней уже ведутся реставрационные работы. Когда холодной осенью я возвращался из Печор в Изборск, прояснился вечер, прекратился дождь, и по крутой тропинке ребята проводили меня к Славянским ключам.
Снизу Изборская крепость с ее башнями будто плыла в закатных облаках. Было так красиво и тихо, что хотелось только молчать, глядеть, запоминать. А ребята без устали, с бескорыстным гостеприимством торопились пересказать приезжему здешние поэтические легенды, навеянные не только прелестью этих мест, но и находками археологов около Колокольной башни.
Ведь и на самом деле был здесь потайной подземный тоннель, что вел от башни к источнику, чтобы во время осады могли черпать от животворного ключа силу свою русские люди, потомки кривичей, защитники пограничных твердынь на древней Псковской земле.
Часть вторая
НА РУСИ МОСКОВСКОЙ
I. Сторона Залесская
Старейшие города средней Руси
Не многие города на Руси народ удостаивал чести называть великими. Город Ростов на озере Неро получил столь почетное прозвище около семи столетий назад. Ныне он зовется Ростовом-Яро-славским, хотя волжский красавец Ярославль возрастом помоложе и в старину не мог бы тягаться с боярским Ростовом в пышности и богатстве.
Начальной летописью Ростов упомянут впервые в связи с рассказом о призвании новгородцами Рюрика с братьями Синеусом и Трувором. Значит, в 1962 году минуло ровно одиннадцать столетий со времени первого летописного упоминания о городе-патриархе средней Руси — Ростове Великом.
Человек давно поселился на берегах озера Неро — одного из больших и красивых озер в лесном краю между Волгой и Окой. Археологи нашли близ озера много неолитических стоянок и древнее финно-угорское городище на реке Саре, километрах в пяти южнее озера.
Летописец помнит «близ Ростовского озера» финно-угорское племя меря. Верно, от языка этого племени здесь и сохранилось поныне много своеобразных слов-названий: озеро Неро, реки Ильма, Ишна, Сить, Вёкса. В IX веке берега озера Неро заселили новгородские словены и кривичи.
Князь Ярослав Мудрый смолоду, еще при жизни отца, Владимира, правил Ростовом до своего переезда в Новгород. В недолгие годы ростовского княжения Ярослав и заложил на Волге, в устье реки Которосли, крепость, ставшую потом знаменитым волжским городом. На века сохранил этот город имя своего основателя Ярослава.
Когда Ростов перешел под власть Ярославова внука, Владимира Мономаха, началось постепенное возвышение прежде глухой киевской провинции — Ростовской земли — и был сильно укреплен другой древний город далекого Залесья — Суздаль, впервые упомянутый летописью в 1024 году.
Само название Залесской земли с течением времени менялось: в XI веке она звалось Ростовской, в XII — Суздальской, а затем утвердилось за нею название земли Владимирской, потому что еще сам Владимир Мономах заложил на Клязьме-реке, в тридцати верстах от Суздаля, новый город, затмивший впоследствии славу и Ростова и Суздаля, — златоглавый Владимир. Киевляне называли его в старину Владимиром-Залесским.
Вот тогда-то, на рубеже XI — XII веков, и началось сооружение старейших ростовских, суздальских и владимирских храмов и теремов. Это строительство, начатое Мономахом, продолжал его сын, Юрий Долгорукий, а затем развернули еще шире сыновья Юрия — князья Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. Воздвигнутые при них здания принесли русскому зодчеству мировую славу. Прямой преемницей этого раннего владимиро-суздальского и ростовского зодчества стала Москва.
Зодчество северо-восточной Руси органически вобрало в себя многие черты новгородского, киевского, галицко-волынского строительного искусства. Мастера-строители владимирской Руси знали и западные образцы, в частности романскую архитектуру, и сумели так тонко преобразовать некоторые романские мотивы в своем творчестве, что эти мотивы не выглядят чужеродными вкраплениями: русские северо-восточные памятники очень органичны, самобытны, находятся в незыблемом единстве с природой. До нашего времени дошло несколько подлинных шедевров этой архитектуры, поражающей богатством замысла, красотой исполнения и поэтической задушевностью.
Однако в старейшем городе Владимирской земли, в самом Ростове Великом, архитектурных памятников глубокой древности, к сожалению, не сохранилось. Лишь археологические изыскания приоткрывают для нас картины давнего строительства на берегах озера Неро.
В XII веке в Ростове сгорел построенный при Владимире Мономахе дубовый собор — первый здешний большой христианский храм, «такова убо не бывало».
Возможно, на его месте был возведен в XVI веке Успенский собор, поныне осеняющий городскую площадь. Он напоминает Успенский собор Московского Кремля, но несколько архаичнее, что позволяет думать, не повлияли ли на его планировку прежние храмы — времен Андрея Боголюбско-го или Константина Всеволодовича, разобранные перед закладкой нового собора XVI века.
Один из строителей этих храмов — князь Константин, сын Всеволода III — запечатлен в народной памяти как просветитель и книголюб. При нем, в 1207 году, Ростов сделался столицей удельного княжества. Константин создал уникальную библиотеку рукописных книг в своем тереме и первую школу в городе. Богатейшие библиотеки Константина Всеволодовича и ростовского епископа Кирилла превратились при татарском нашествии в груду пепла — это одна из невознаградимых потерь для истории русской культуры.
В здешнем историко-краеведческом музее оберегаются сейчас искусно высеченные из белого камня барельефы с фигурами спящих львов. Эти львы да еще литые из бронзы звериные маски с кольцами-рукоятями в зубах — все, что пока удалось найти в ростовском грунте от древнейших дворцов и храмов.
В 1238 году город был испепелен и разгромлен Батыевой ратью почти до основания. Сражение русских войск с ордынцами произошло недалеко от города, на реке Сити, где в руки татарского воеводы попал молодой ростовский князь Василько Константинович. Его геройская, мученическая гибель в плену за отказ пойти на службу к Батыю была высоко оценена современниками и воспета летописцем. Сохранилась запись своеобразного поэтического плача княгини-вдовы о погибшем герое.
Сожженный татарами город возродился вновь, и этот-то оживший Ростов Великий с честью пронес сквозь черные годы монгольского ига свое высокое прозвище.
Из Ростова вышли два больших просветителя: Епифаний, по прозвищу Премудрый, и Стефан, прозванный Пермским (за деятельность в Пермском крае, то есть в северо-восточном Приуралье). Ростовские мастера уходили в «целинные» земли далекого севера, недоступные татарским сборщикам дани, углублялись в зеленый океан нетронутых лесов по берегам северных рек, озер и морских заливов. Здесь выходцы из Ростова построили немало новых монастырских зданий, возвели вокруг них прочные укрепления, срубили великолепные шатровые церкви, сберегая драгоценные народные традиции и умение. Мастера-ювелиры возрождали ремесла, пришедшие в упадок в разгромленном городе. Ростовские монахи-книжники описывали для потомков события страшных лет, призывали бороться с врагами Руси.
В городе Великом Устюге на реке Сухоне ростовчане-строители воздвигли изумительный храм с шатровым верхом, один из деревянных прообразов московского Василия Блаженного. И в самом Ростове постепенно ожило строительное дело, выросли новые каменные здания, возродился Успенский собор, а в старейшем монастыре города — Авраамиевом — возник Богоявленский собор, ровесник Василия Блаженного. Он тоже был построен по велению Ивана Грозного в честь казанской победы.
Но главную архитектурную славу создал Ростову грандиозный ансамбль «архиерейского дома». Обычно этот богатейший архитектурный ансамбль называют Ростовским кремлем. Он был создан по замыслу властолюбивого и гордого митрополита Ионы Сысоевича.
Я прикинул, что примерно половина всех полотен и графических работ на выставках «Памятники древнерусского зодчества в работах московских художников» была посвящена именно Ростовскому кремлю. Такое ошеломляющее впечатление оказывает на художников этот белокаменный град, отраженный в синих водах озера Неро. Но эта могучая эпическая поэма из белокаменных зданий, золотых глав и серебряных шатров возникла уже в XVII веке — поэтому о ней, о красотах Ростовского кремля, будет рассказано пониже, в разделе, посвященном самым характерным постройкам русского XVII века.
Нам же предстоит сейчас вернуться к далеким домонгольским годам, когда боярский Ростов неодобрительно встречал возникавшее по соседству на Суздальской земле крупное строительство новых княжьих градов, затеянное Мономаховичами — Юрием Долгоруким и Андреем Бого-любским.
Старейший памятник этого строительства, первый белокаменный храм Залесской земли, мы сейчас и увидим.
Сельцо Кидекша в устье Каменки
Обычно в Суздаль туристы и экскурсанты попадают из Владимира по хорошей асфальтированной дороге, ведущей знаменитым «опольем», то есть безлесной, чуть всхолмленной равниной, давнишней кормилицей обоих городов.
А в моей памяти есть другой, непривычный путь к Суздалю — по воде. Эта поездка, совершенная с группой товарищей, некогда позволила мне узнать суздальские памятники не по обычной экскурсионной программе, а именно в исторической последовательности, начиная с древнейшего из них — долгоруковского двора в Кидекше. После той поездки село Кидекша стало для меня как бы архитектурным предисловием к Суздалю, и именно этим путем намерен я вести читателя.
Ведь, может быть, читатель и сам пожелает повторить наш старый речной маршрут? Вероятно, сейчас сделать это на разборных байдарках много проще, чем в 1928 году, когда мы на рыбачьей плоскодонке приплыли в Суздаль по клязьминской Нерли. Истоки обеих Нерлей, волжской и клязьминской, сходятся близ Плещеева озера, невдалеке от Переславля-Залесского. С него мы и начинали свое путешествие.
Перед рассветом, когда порозовело небо, приехали мы поездом из Москвы на маленькую станцию Берендеево, за Александровом. Все время, от полуночи до проблесков зари, мы простояли у открытого окна. Поезда ходили тогда медленно, и мы прислушивались сквозь паровозные гудки к неутомимым соловьям в придорожных кустах.
Название станции прозвучало как напоминание о сказочном веке царя Берендея! Это впечатление сказочности усилилось при выходе из вагона, потому что за станцией, у коновязи, ожидала нас вереница самых неожиданных «транспортных средств». Не только я, но и старшие мои коллеги, в том числе археолог зрелых лет, нигде и никогда дотоле не видали такой удивительной музейной коллекции экипажей. Их возницы наперебой «зазывали» пассажиров, предлагали свои услуги едущим до Переславля-Залесского (от станции Берендеево — верст двадцать). И мы одолели эти двадцать верст часа за четыре в карете с хрустальными фонарями, гнутыми дверцами, убирающейся ступенькой и прочими атрибутами стародавнего графского комфорта.
Ехали мы рощами черемухи, а в Переславле-Залесском застали народный праздник, когда рыбаки выходили на разукрашенных лодках в простор Плещеева озера, трезвонили колокола и толпы народа двигались по набережным реки Трубеж. Чаровало звучание местных душистых, будто медом пахнущих, слов-названий, излучающих поэзию так, как звезды в ясную ночь излучают свой блеск.
Была куплена плоскодонка и доставлена в Заозерье. Не без хлопот перевезли лодку в село Фалалеево и спустили по тамошнему ручью в тихоструйную Нерль. Началось удивительное плавание, о котором можно бы написать и красочное полотно и поэтическую книгу. Длилось это неторопливое плавание по Нерли неделю и окончилось у невысокого песчаного откоса, над которым вот уже восемь веков вздымаются полукруглые алтарные выступы Борисоглебского храма в Кидекше...
Село невелико, окружено пашнями и огородами, до Суздаля проселком — километров пять. Другая дорога перешагивает Нерль по бревенчатому мосту и теряется в сосновом лесу.
Невдалеке от Кидекши, у села Новоселки — оно хорошо видно с берегового откоса, — впадает в Нерль суздальская речка Каменка. Теперь Каменка — небольшой, местами пересыхающий ручей, но тысячелетие назад эта река была полноводнее, чем нынешняя Нерль, а сама Нерль служила для Суздальской земли важной водной артерией, потому что по Клязьме шли в нее грузы с Поволжья и из других земель, связанных волоковыми системами с окским бассейном, — например, из Киева, Новгорода, Галича.
Поэтому сын Мономаха, суздальский князь Юрий Долгорукий, и решил поставить укрепленный княжеский двор как раз в Кидекше, близ впадения Каменки в Нерль, чтобы контролировать торговые связи суздальских бояр и купцов. Суздаль сделался уже главным городом Ростовской земли, но Юрий готовился к борьбе за киевский престол, чтобы стать верховным судьей всех споров и распрей между удельными властителями.
Однако ростовское и суздальское боярство не могло простить ему властной, самостоятельной и в общих чертах последовательной объединительной политики. Боярам отнюдь не улыбалась перспектива подчиниться киевскому князю, выполнять общегосударственные повинности и тем более позволить Киеву распоряжаться военной силой уделов. Тайное и явное противодействие бояр как бы предвещало кровавую трагедию в Боголюбовском замке, когда жертвой заговора пал сын Юрия, князь Андрей Боголюбский. Да ведь и сам Юрий был, по-видимому, отравлен в Киеве тайным агентом заговорщиков — младших князей и воевод.
Постройка загородной усадьбы в Кидекше и была для Юрия одним из средств «отбояриться» от противников. Устройство этой резиденции напоминает в миниатюре создание князем Андреем Юрьевичем великолепного Боголю-бовского замка, откуда было легко надзирать за ввозом и вывозом из Нерли в Клязьму.
Представим себе, что мы вновь, уже в наши дни, приплыли в Кидекшу по Нерли и ошвартовались под обрывом. Поднимемся наверх по узкому овражку, косо сбегающему к воде. Присмотревшись, мы видим, что таких овражков здесь два — с северной и южной стороны от усадьбы. Это следы древних съездов к бывшей здесь речной пристани.
Неискушенному даже поверить трудно, что ансамбль зданий Кидекши, стоящих тесно на маленьком участке, складывался в течение шести веков. Главный храм Бориса и Глеба датируется 1152 годом, чудесная колокольня с шатровым верхом возведена в начале XVIII века, двухарочные «Святые ворота», увенчанные маленькой главкой, — начало XVIII века, а «теплая», то есть отапливаемая зимой, церковь Стефана возникла здесь в 1780 году. Шесть веков между первой и последней постройками ансамбля!
А глядя на эту группу древних строений, сразу чувствуешь их единство, естественную связь с красотой ландшафта, соразмерность человеку. В этой слитости усадьбы с речным берегом, близким лесом, русским небом и русским селом и заключается сила обаяния здешней архитектуры.
Главный храм ансамбля, церковь Бориса и Глеба — здание исторически драгоценное. Это самый старший из дошедших до нас белокаменных храмов Владимирской земли. В нем еще только намечены характерные приемы здешнего зодчества. Он прост и суров. Его массивные алтарные выступы обращены к реке, средний — чуть больше боковых. В них чернеют прямоугольники оконных проемов, ничем не украшенных. Можно различить и следы заложенных окон. Ведь где-то рядом с этим храмом стоял терем Юрия Долгорукого. Наверное, в случае осады или пожара можно было пройти из терема в храм по закрытому переходу.
Ни крепостные валы, ни тын не могли спасти маленькую усадьбу от разорения татарами в 1238 году. Храм сильно пострадал, но уже через год его починили, с переделками. Новые бедствия — новые повреждения: у лишенного кровли храма рухнули верхние своды и часть восточной стены. В XVI — XVII веках церковь восстановили, заново перекрыли сводом, защитили четырехскатной кровлей. Вместо старинного купола-шлема появилась над храмом маленькая глава. Таким и стоит ныне этот уникальный памятник XII столетия.
Кладка здесь совсем иная, чем в Киеве или Новгороде. Храм Бориса и Глеба — образец так называемой полубуто-вой кладки. Стены возведены на фундаменте из булыжника, с каменной цокольной отмосткой вокруг здания. Выложены стены из отлично тесанного белого камня, а пространство между внешней и внутренней стенками заполнено бутом — булыжником на крепком известковом растворе. Белокаменные бруски в стене пригнаны друг к другу так плотно, что швы незаметны даже вблизи. Украшений на этой ровной белой глади нет — только скромный аркатурный поясок плавно обегает вокруг всего здания. Поясок этот — первый по времени изо всех аркатур на владимирских зданиях: он как бы предвосхищает богатейшие по рисунку аркатуры Дмитриевского и Успенского соборов, церкви Покрова на Нерли и в особенности красоту аркатурного пояса Рождественского храма в Суздальском кремле.
По вертикали зодчие расчленили здание прямоугольными лопатками, привычными по киевским, новгородским, псковским постройкам. А более поздний западный притвор с двускатной кровлей построен ради соблюдения архитектурного единства с соседним зданием. Здесь проявлена забота о цельности ансамбля: ведь в XVIII веке рядом с Борисоглебским храмом появилась интимная вторая церковка — Стефана, уютно сохраняющая в камне тип рубленого деревянного домика. И поэтому новый западный притвор как бы связывает собор Бориса и Глеба с этой небольшой церковкой, а вместе с тем и с крестьянскими рублеными домиками села Кидекши. Тонкий, очень верный расчет.
Колокольня в усадьбе много моложе соборного храма, но как же великолепно вписана она в пейзаж всего белокаменного городка! Она пленительно хороша по своим пропорциям. В основе ее — старинный тип деревянного шатрового храма, излюбленного зодчими на севере: восьмигранный столп на четырехгранном срубе, или, как говорили плотники, а за ними и каменщики, «восьмерик на четверике».
В четверике издали заметен пролет входной арки. Надо подойти поближе, чтобы понять, как достигнута игра теней на восьмигранном ярусе столпа. Оказывается, он весь декорирован клинчатыми поясками (вторящими рисунку аркатурного пояса на соборе), а кроме того, между угловыми лопатками столпа видны фигурные ниши, очень оживляющие каждую грань. Над проемами «звона» устроена широкая полица — раструб шатра, пришедший в каменное зодчество из деревянного (он служил для отвода дождевой воды от стен). Прямой шатер колокольни прорезан оконцами-слухами, увенчан миниатюрной, легкой и гордой главкой.
Теперь в Борисоглебском храме Кидекши открыта небольшая экспозиция Суздальского музея. Благодаря усилиям реставраторов здания находятся в хорошей сохранности. Множество экскурсий — рабочих, колхозных и студенческих — приезжает в Кидекшу полюбоваться красотою местности, послушать историческую лекцию и отдать дань уважения творческому подвигу древнерусских строителей.
Город-музей Суздаль
Как прекрасен удивляющийся человек!..
Способность удивляться это дар.
Не каждый достоин его.
Что может быть на свете лучше, чем быть удивленным.
Есть недруги удивления. У них в глазах — мертвая роговица.
Евгений Винокуров
Хочу заранее поделиться с читателем одним очень нехитрым и, казалось бы, само собою разумеющимся рецептом осмотра суздальских памятников архитектуры: к ним надо обязательно приближаться пешком. Личные автомобили и экскурсионные автобусы приучили многих покидать машину перед самым входом в здание. Это лишает зрителя перспек-
тивы, или, по поговорке, мешает видеть лес из-за деревьев. Особенно важно избежать этого именно в Суздале, городе продуманных архитектурных ансамблей, где их не теснит, не подавляет более поздняя застройка, часто вредящая единству замысла древних художников.
Суздаль — великолепный памятник русской национальной культуры прошлых веков. Его не тронула война и не коснулись непоправимые искажения по случайной прихоти быстро сменяющихся мод. Город лежит в стороне от железной дороги, связан с областным центром — Владимиром — тридцатикилометровой асфальтовой ниточкой и ныне представляет собой уникальное собрание архитектурных богатств.
Сбережением и изучением этих богатств город в значительной мере обязан трудам искусствоведа и археолога Алексея Дмитриевича Варганова, подлинного энтузиаста охраны памятников суздальской старины. Именно теперь, когда почти все древние русские города от Киева и Чернигова до Новгорода и Старой Ладоги претерпели жесточайшие за всю их историю военные разрушения, сохранность такого исторического города-музея, как Суздаль, надо прямо назвать счастьем для нашего искусства.
Давно, десятилетия назад, посчастливилось мне впервые увидеть этот город в синих предгрозовых сумерках. Низкое закатное солнце подсвечивало края туч и заставляло взблескивать городские шпили, словно от них сыпались электрические искры. А за городом нарастала грозовая мгла. Она надвинулась с севера, и каждая шатровая колокольня, каждый купол, каждый крест в небе излучали струйки и снопики таинственного света.
Потом все кругом стало расплывчато и неясно, ливень уже хлестал, а мы со спутниками шагали по дороге к городу под вспышками грозового света, среди полиловевших лугов и нив, и сердца наши пели от только что пережитого зрелища. Это была радость первооткрывателей, и каждый жалел, что нас так мало и всего в нескольких человеческих сердцах сможет сохраниться озарившая нас на дороге красота.
А потом мы догнали человека с клеенчатым портфелем. Он был лишь немного старше большинства из нас и походил на землемера, ветеринара или бухгалтера. Обогнав, мы весело пригласили его идти вместе. И он зашагал быстрее, в ногу с нами. До самой городской черты он клял погоду, ругал Суздаль, какого-то своего подчиненного, а более всего некоего возчика, не то опоздавшего заехать за ним, не то, напротив, поспешившего уехать.
Сказочный, как Китеж, город медленно рос и приближался. Мы пробовали узнать, что за округлые валы виднеются из-за деревьев, известны ли имена создателей этих неповторимых ансамблей с башнями и стенами, как называется та или другая церковь. Но спутник наш на все отвечал одним: «Да почем я знаю? Глупости какие-то спрашиваете...»
И мы поняли, что он может только испортить нам сильное и глубокое впечатление, потому что от каждого его слова и жеста так и несло духом непримиримой обывательщины и самодовольного невежества.
Это беда, если порой вырастает у нас эдакая личность с нелюбопытным умом и незрячими очами, заклеенными мещанской спесью! Значит, воспитатели и учителя не научили этого человека видеть и ценить красоту окружающего, не разбудили в нем желания открывать ее в повседневном и близком.
У иных натур чувство красоты бывает природным и проявляется рано. Есть хороший рассказ Юрия Нагибина, как деревенский мальчик постиг красоту зимнего дуба на лесной полянке и опаздывал в класс, потому что нарочно ходил в школу дальней дорогой: у него была потребность видеть могучее спящее дерево, совершать как бы утреннюю зарядку красотой. Можно не сомневаться, что из такого мальчика вырос бы душевно щедрый и очень дельный человек, с творческим подходом к любому труду, с мыслью о подлинной красоте повседневной жизни.
...Разобраться в памятниках Суздаля не так-то просто. После первого ошеломляющего впечатления сказочности хочется вникнуть поглубже в тайны этого города — тайны художественные и тайны человеческие. Ведь за прочными стенами здешних монастырей, в светлицах теремов и палат происходили сложные события, завершались большие человеческие трагедии, одевались камнем трудные судьбы...
Но мы уже дошли до города, поля уступили место постройкам, и вот перед нами просторная площадь с торговыми рядами, гостиницей, автобусной станцией. Обступают площадь чудесные суздальские храмы, бесконечно разнообразные и вместе с тем созвучные друг другу, как ноты в гармоническом аккорде. Еще издали легко догадаться, что самый большой пятиглавый собор рядом с мощной шатровой колокольней и белокаменными палатами — это главные здания Суздальского кремля. Ведет к ним от площади прямая тихая улочка.
В старину кремль главенствовал в городе, потом, с веками, сделался окраиной. До XVIII столетия шла по кремлевскому валу рубленая стена с башнями. В страшный пожар 1719 года она сгорела, более не возобновлялась, и теперь лишь земляные валы, поросшие травой, дают представление о прежних границах Суздальского кремля.
Нынешним центром Суздаля стала большая Советская площадь (бывшая Торговая), откуда мы и отправились в путь по городу.
Главная асфальтированная улица, ведущая на север, в Иваново, является как бы планировочной осью Суздаля. Я помню ее еще с деревянной мостовой, всегда присыпанной конским навозом, сенцом, мякиной, с тучами воробьев, взлетавших из-под конских копыт. В глубокую старину здесь, вдоль этой улицы, был укрепленный посад или острог, то есть город-крепость, тоже защищенный валами, рубленым тыном и башнями. Пожар 1719 года уничтожил не только эти городские укрепления, но и все деревянные церкви старого Суздаля. С тех пор укрепления не возобновлялись, церкви строились только из камня, и облик древнего «града древяна» сильно изменился.
Этот «град древян» отличался особенной планировкой. В большинстве старых русских городов кремли или детинцы располагались посреди города, как яблочко в мишени. В Суздале и сейчас по сохранившимся валам и рвам можно заметить, что кольцо кремля не опоясывалось вторым, внешним кольцом острога, а находилось чуть поодаль от него, в близком соседстве с острогом. Сообщение между обоими укрепленными кольцами шло через Ильинские ворота в северо-восточной части кремля. Ворота выводили к мосту через ров, разделявший кремль и посад. Этот ров и служил для защиты кремля, когда враг овладевал острогом и посадским людям оставался последний оплот — кремль. Стоишь сейчас на валу, присматриваешься — оборонная тактика суздальцев легко читается по остаткам земляной крепости.
Но не только посад, сам кремль тоже был густо заселен простым людом. И какой же разительный контраст представляли собой жилища этого трудового люда по сравнению с великолепием каменных храмов и княжеских теремов! Мы сейчас и за жилье не признали бы те жалкие хижины-землянки, где ютились суздальские горожане — ремесленники, строители, землекопы, чьими руками создавалась краса города.
Недавние раскопки А. Д. Варганова раскрыли много таких бедных суздальских жилищ. Устроены они были так: выкапывалась яма на глубину примерно половины человеческого роста; из жердей делали каркас для стен и кровли. Каркас походил на прочный шалаш, способный выдержать тяжесть дернового слоя, которым землянка покрывалась снаружи. Лишь выходивший из отверстия дымок показывал, что зеленый холм не курган, а жилище горожанина.
Были и рубленые хижины, углубленные в землю и присыпанные с боков, для тепла, грунтом. Над кровлями таких лачуг, полуземлянок и изб высились каменный собор и богатые терема знати.
Главный собор кремля, Рождественский, возник впервые при Мономахе, на рубеже XI — XII веков, и построен тогда был из плинфы, на киевский образец.
В начале XIII века суздальцы разобрали старое здание и возвели на том же месте новый собор, уже из другого материала — ноздреватого известкового туфа. Эта особенность — кладка из неровных туфовых плит — придала стенам некоторую суровость, родственную по духу новгородской архитектуре.
На грубоватой фактуре стен пластично выступают белокаменные узоры. Этот художественный эффект найден великолепно, и мы можем оценить его даже ныне, хотя собор XIII века дошел до наших дней не полностью: верхняя часть храма, пострадавшая от пожаров и войн, в XV столетии обрушилась, и лишь в 1528 — 1530 годах верх, разобранный до аркатурного пояса, был вновь надстроен, но уже не из туфа, а из кирпича: туфовые плиты сохранились только в нижней части стен, до резного белокаменного пояса, красиво углубленного в толщу стены.
Когда подходишь к Суздальскому кремлю, еще издали бросаются в глаза золотые звезды на синем поле мощных соборных куполов — эти звезды как бы напоминают о красоте ясного неба в тихую зимнюю полночь. Величавому зданию собора с его тремя боковыми притворами хорошо соответствует массивная колокольня с циферблатом старинных часов. Цифры здесь обозначены старославянскими буквами, как в летописях. Некогда часы эти отзванивали не только четверти, но и каждую минуту часа. Ежеминутно над Суздалем звучал тихий и нежный колокольный звук, будто хрустальная капелька падала на дно серебряного блюда, — помысли о вечности!
Огромное здание Архиерейских палат, очень сложное по архитектурной композиции, замыкает кремль с юго-запада. Рядом с порталом собора возвышается над главным входом в палаты бирюзово-лазурный с прозеленью шатер из поливных изразцов, к сожалению уже сильно поредевших.
В Архиерейских палатах развернута экспозиция Суздальского музея, но и само здание очень интересно своими каменными галереями, переходами, лестницами, встроенными прямо в стены. Из музейных залов глядишь сквозь узорные оконные решетки, а снаружи, на восточном фасаде, полукруглые окна изобретательно украшены резными наличниками.
Дом строился постепенно. К его древнему ядру XVI века пристраивали новые части, сооружение вобрало в себя несколько домовых церквей и, наконец, в XVII столетии приняло свой нынешний вид. Более поздние переделки и искажения были исправлены А. Д. Варгановым при реставрационных работах уже в послевоенные годы.
Теперь и Рождественский собор — музейное царство. Лучшие «экспонаты» здесь — так называемые златые врата, украшающие южный и западный входы в главный неф собора из боковых притворов. Присмотришься к этим драгоценным вратам — ахнешь!
Массивные створки их склепаны из черненой листовой меди. На этом бархатисто-черном фоне нанесен тончайший рисунок, будто соткал паук-волшебник затейливые узоры из золотой паутины. Древнерусские мастера XIII века процарапали по меди острием эти рисунки, протравили их кислотой и «навели» золотом.
Рисунки бесконечно разнообразны, фантастичны, символичны: тут и растительный орнамент, и фигурки полуска-зочных животных, и целые сцены из евангелия, из житий святых. Тончайшее, дивное мастерство работы! А надписи XIII века настолько разборчивы и ясны, что чтение их доступно даже неспециалистам.
Очень хороша в соборе и фреска 1233 года с бородатым, сурово-сосредоточенным ликом святого. Сохранность фрески поразительна. Поднимаешься во второй ярус храма узкой деревянной лестницей и вдруг встречаешь со стены пронзительный взгляд удивительно живых глаз из-под густых нахмуренных бровей. Очень скупыми живописными средствами достигнут этот подлинно художественный эффект. Так мало штрихов, и такая предельно полная характеристика! Лицо аскетически худое, русское, строгое. Борода подчеркивает впалость щек, волосы откинуты с высокого, умного, морщинистого лба. Левая рука сжимает свиток, правая сложена для двуперстного благословения. Замечательное это произведение суздальского или ростовского художника расчищено реставраторами (из-под позднейшей штукатурки) в 1938 году.
Года два назад, когда впервые после военных лет я приехал в Суздаль, за Архиерейскими палатами я неожиданно увидел новое сооружение, трогательное и страшно знакомое, хотя раньше его здесь не было. Оказалось, это Никольская церковь, перенесенная сюда из села Глотова, где срубили ее для сельского погоста безвестные плотники в конце XVII века.
Теперь кинозрители знают ее по фильму «Метель» — она отлично «играет» деревенскую церковь, где Бурмина обвенчали с Машей. Но не все знают, что именно этому зданию посвящены поэтические и добрые строки из «Владимирских проселков» Солоухина:
«В окружении могильных крестов и деревьев, дошедшая из тьмы времен, пришедшая сразу из всех сказок, стояла деревянная церковка... Такая архитектура годилась только и именно для деревянной церковки... Перед нами стояла не просто церковь, но произведение искусства, шедевр деревянного зодчества... На высоте более человеческого роста окружала церковку деревянная, с резными столбами узкая галерея, под узкой тесовой крышей. Над галереей поднималась двумя стремительными острыми шатрами тесовая крыша, так что один шатер пониже примыкал к другому шатру повыше. Крыша была настолько крута, что удержаться на ней было бы невозможно... Осенние дожди насквозь пробивают изъеденную желтым лишайником крышу гло-товской церковки. Она истлевает на корню, а когда истлеет, не останется второй такой во всей России. Глотов-ская церковь, перенесенная из глуши в более доступное место, могла бы сделаться объектом многочисленных экскурсий...»
Мечта писателя осуществилась: этот редкий образец русской деревянной архитектуры, которому действительно грозила на месте неминуемая и скорая гибель, был разобран и перевезен в Суздаль, где установили его на старом фундаменте некогда сгоревшей здесь другой церковки. Тысячи людей, как и предвидел Владимир Солоухин, познают по ней приемы старинного деревянного зодчества.
Недавно перевезена в Суздаль и трехглавая деревянная церковь из села Козлятьева под Киржачем — редкостное творение народного гения. По своей архитектуре козлять-евская церковь несколько напоминает прославленные храмы Кижей. Ее установили на высоком берегу Каменки, как раз напротив кремля.
Инициатором спасения этих реликвий был все тот же неутомимый исследователь и реставратор Суздаля А. Д. Варганов, почти легендарный в тех краях человек, многолетний руководитель реставрационных мастерских во Владимире. Литературный портрет Алексея Дмитриевича несколько условно дан Солоухиным в тех же «Владимирских проселках».
А. Д. Варганов, получивший блестящую научно-искусствоведческую подготовку в Ленинграде, не погнался за столичной карьерой, сулившей ему спокойную академическую деятельность, может быть, кафедру, научные чины и оклады. Он предпочел Суздаль, где кое-кто считал его чуть не самоучкой, называл чудаком. Варганов отдал Суздалю всю свою жизнь, талант исследователя, энергию и бескорыстие энтузиаста, знания большого ученого. Любой из сбереженных в Суздале памятников испытал на себе заботу этого человека.
Есть у самого вала, в юго-восточном углу Суздальского кремля, еще одна Никольская церковь, но не деревянная, а каменная. Ее колокольня похожа на ту, что мы видели в Кидекше, но убор еще наряднее. Отличается она от ки-декшской и формой шатра: у здешней грани шатра слегка вогнуты.
Такая форма шатра — прием чисто суздальский, и если вы еще где-нибудь встретите колокольню с вогнутыми гранями шатра, значит создана она по суздальскому образцу и скорее всего именно суздальским мастером, потому что такая кладка шатра требует, как говорится, высокого класса точности от мастера-каменщика.
Если пойти от кремля к северным окраинам города, то вдоль русла Каменки будут развертываться все новые, все более величавые ансамбли. Там, на северных окраинах, сосредоточены главные суздальские монастыри.
Подсчитано, что в XVI веке в кремле было 15 оборонительных деревянных башен, семь деревянных церквей и каменный собор. В черте острога, на посаде, было еще четырнадцать деревянных церквей. К этому прибавлялось двенадцать ближайших монастырей с их двадцатью семью храмами! А жилых дворов в Суздале было чуть более четырехсот, как в большом селе.
Надо изумляться упорству и громадной энергии посадских людей, построивших такое множество сложных, нарядных зданий, увенчанных шатрами и куполами, в столь маленьком городе, давно потерявшем самостоятельность, пережившем в веках тяжелые бедствия. Ведь после первого татарского разгрома Суздаль много раз выгорал, страдал от повальных болезней, новых и новых опустошительных набегов то золотоордынских, то крымских ханов.
Очень тяжелым был для Суздаля и XVII век. В начале польско-литовской интервенции город дважды осаждали, грабили и сжигали. Затем, в 1634 году, на Суздаль напали крымские татары. Еще десять лет спустя огромный пожар опустошил посад, а в середине столетия половину жителей унесла эпидемия моровой язвы. И все-таки город и тогда строился, деревянные здания после пожаров стали даже заменять каменными. На глинистых берегах речки Каменки мастера наладили изготовление кирпича. Может, потому она и Каменка? Археологи находят здесь печи и остатки кирпичного производства. Велось оно крупно, и притом кирпич выпускался превосходный. Этого требовали, в частности, высокие заказчики — московские князья, чтившие Суздаль-город.
При Иване Грозном он был включен в опричнину, его монастыри получили десятки тысяч крепостных. Монастырские пастыри оставляли крестьян-земледельцев на пашне, а ремесленников переселяли в пригородные слободы. Вот эти-то люди и создали неповторимый облик Суздаля, так поражающий своим единством.
Тайна этой гармонии — в мудром сочетании архитектуры с местностью, с холмистым рельефом. Здания соразмерны и человеку и друг другу и подогнаны к каждому изгибу реки, каждому холмику. Это истинное зодчество, это искусство!
Имен большинства суздальских зодчих история не сохранила. Летописцы услужливо берегли для потомства громкие имена благотворителей, жертвователей, заказчиков построек, чаще всего князей, епископов, царей, богатых купцов. Исполнители же забыты. И лишь изредка воскресают в старых документах имена творцов зданий.
Так, записи сберегли для нас три фамилии древних суздальских архитекторов. Звали их Иван Мамин, Андрей Шмаков и Иван Грязной. Работали они, по-видимому, всегда в содружестве. Они построили здания Ризположенского монастыря, служившие потом образцами для изучения и подражания. К несчастью, лучший из этих памятников — Троицкий собор — не сохранен.
Мастера Мамин, Шмаков и Грязной были, видимо, крепостными людьми Ризположенского монастыря. В 1688 году они построили здесь знаменитые по всей тогдашней Руси «святые врата» — так принято было именовать главные монастырские ворота.
Когда-то сквозь арочные проемы Ризположенских ворот проходила городская улица, выводящая на ярославскую дорогу, так что город прощался с отъезжающим и торжественно напутствовал его высокой аркой своих ворот, увенчанных шатрами. После частичной перепланировки Суздаля в XVIII веке улица прошла справа от ворот.
Декораторский талант, великолепное чутье пропорций и в то же время сердечность — вот чему хочется поклониться здесь, у этого нарядного и выразительного сооружения. Фасады ворот умеренно украшены «ширинками» — прямоугольными углублениями с цветными изразцовыми донцами. Пояс изразцов и зубчатый карниз под кровлей создают переход к двум низким восьмерикам, служащим основаниями для красивых остроконечных шатров с главами. Таковы Ризположенские врата, хорошо сохранившиеся.
Поодаль от них, в другое прясло монастырской стены встроена самая высокая колокольня Суздаля, различимая отовсюду, за десяток верст. Теперь это главная композиционная вертикаль городского ансамбля.
Колокольня построена в 1813 — 1819 годах на средства горожан, пожелавших отметить победу над Наполеоном. Воздвигнута она в стиле русского классицизма и сама по себе не является большой художественной ценностью. Но велика ее «дирижерская», организующая роль в ансамбле: она как бы группирует, собирает окружающие шпили, шатры, купола и острия.
Возникновение мощных монастырей-крепостей под Суздалем имело те же стратегические цели, что и под Псковом. Сам Александр Невский заложил, по преданию, монастырь немного северней Ризположенского. Правда, от времен великого полководца в Александровском монастыре не сохранилось ничего — до нас дошли более поздние памятники: надвратная башня, строгая шатровая колокольня, церковь конца XVII века, очень интересная пластичностью линий, красотой южного фасада и умелым применением характерных суздальских приемов архитектурной обработки окон, барабанов, карниза. Ко всем этим деталям надо внимательно присматриваться. Все три здания недавно реставрированы.
Издали возникает над кручами Каменки твердыня Спас-Евфимьевского монастыря. Его кирпичные стены с двенадцатью башнями протянулись больше чем на километр. В XVII веке они сменили более ранние тыновые укрепления.
Этот ансамбль победил по величию и мощи все сооружения Суздаля, в том числе и кремлевские. Он и сам похож на кремль, неприступный и величавый. Под его стенами не раз звенели мечи. Невдалеке от него в 1445 году нанесла поражение сильному татарскому отряду небольшая московская рать Василия Темного. Затем, окруженная подоспевшими главными силами врага, русская рать полегла на поле вся, до последнего человека. Сдавшихся, уцелевших — не было. Около каждого убитого ратника лежала груда тел пришельцев.
...Вот мы уже под главной башней Спас-Евфимьевской твердыни. Хотя в неплохом путеводителе издательства ВЦСПС «По древнерусским городам» мы и прочли, что стены и башни «придают монастырю облик грозной крепости», согласиться с этим трудно. Я не раз любовался, издали и вблизи, величавой панорамой Спас-Евфимьевского монастыря, но не ощущаю в нем ничего «грозного», пугающего. Эпическая мощь его облика сродни богатырям на картине Васнецова — могучим, как Волга, великим своей спокойной, доброй силой.
Двадцатитрехметровая входная башня со «святыми вратами» — сооружение внушительное и вместе с тем нарядное. Даже бойницы сверху украшены узорными наличниками. Как видно, в те времена украшали не только оружие и доспехи, но и место, где предстояло действовать защитнику, тем более что в мирное время сама башня служила архитектурным украшением города. Сейчас перед этой башней не очень удачно поставлен бюст князю Пожарскому, погребенному в стенах Спас-Евфимьевского монастыря.
Можно много бы рассказать о замечательной стенной живописи в монастырском Спас-Преображенском соборе, где, например, на одной из фресок изображены основатели династии Романовых — Михаил Федорович и Алексей Михайлович. Очень хорош в архитектурном ансамбле монастыря строгий шатер Успенского трапезного храма — один из первых каменных шатров на Руси, построенный в 1525 году. Все это примечательно, да... времени у нас остается мало! Ведь автобус должен доставить нас во Владимир и в Боголюбове. Мы торопимся, но в один из уголков Спас-Евфимьевского монастыря все же заглянем.
Миновав ворота и второй, внутренний, пояс ограды с надвратной церковью XVII века, направимся в самый угол двора. Здесь видна еще одна, третья по счету, каменная стена с мрачным арочным проемом. Сквозь него попадаем в небольшой дворик, настоящий каменный мешок. Еще дверь, низкая и пугающая. Она ведет в глухие казематы. Холод и сырость пронизывают здесь до костей, несмотря на жаркий день. Что это? Монастырь в монастыре? Затвор для затворников?
Да, здесь некогда была своего рода тюрьма в тюрьме, учрежденный Екатериной II особый корпус для строгого заключения преступников против церкви. Под этими гнетущими сводами окончил свои дни декабрист Ф. Шаховской, здесь же и похороненный. Чувство жути берет за душу при взгляде на каземат для узников, заживо одетых камнем.
И, словно для душевного успокоения, после этого мрачного места мы оказываемся на суздальской улице перед старинным домиком XVII века. Весь вид его будто приглашает развеять невеселые впечатления: дескать, для того он и стоит здесь, против главной входной башни Спас-Евфимь-евского монастыря.
Что особенно приятно: домик не выступает из ряда остальных уличных построек, не выделяется, и это-то и придает ему особенную жизненность. «Я не экспонат какой-нибудь, — говорит он прохожему, — я просто дом, как любой другой, только мне посчастливилось прожить дольше, чем живут мои соседи. Тех давно нет, а я вот три столетия гляжу моими тремя оконцами на монастырскую стену! И пусть меня сложили из кирпича, все равно я похож на старые деревянные постройки...»
К передней «избе» домика приставлена задняя «клеть», более высокая, с подклетом. Дом состоит из этих двух частей, точно прилепленных друг к другу. Над трехоконным фасадом — треугольный фронтон, как у любой русской избы, только полукруглым сделано слуховое чердачное оконце.
Словом, это те же приемы, что мы видели в Кидекше, в композиции церкви святого Стефана. Значит, русское церковное зодчество шло от народной бытовой архитектуры! Становится еще очевиднее, как важно изучать древнерусское зодчество, выяснять его народные истоки, связь с житейскими вкусами населения.
Осмотренный нами трехоконный домик принадлежал, как полагают, отцу еретика и раскольника Никиты Пустосвята, казненного на Красной площади 6 июля 1682 года в связи со стрелецким заговором Хованского.
Мы опять выходим к высокому берегу Каменки, минуя небольшие огороды и приусадебные участки. Признаться, таких грядок, как в Суздале, мне видывать нигде не приходилось, даже в Ростове, издавна славящемся своим огородничеством. Здешние, суздальские овощеводы только что не прожевывают землю зубами — так образно высказалась сотрудница музея, показывавшая мне спас-евфимьевские фрески.
Действительно, земля у суздальских огородников измельчена, удобрена и ухожена так, что становится легкой, пушистой и сочной, почему и собирают здесь мощные урожаи овощей — например, пуд огурцов с квадратного метра гряды. Спрашиваю: как же поливаете? Ведь воду поднимать из Каменки сюда примерно как на пятый этаж? Показали нехитрое устройство: самодельная канатная дорога с легким воротом и скользящей по тросу бадейкой. За полчаса одна старушка при мне полила свой огород без особых усилий, потом уступила очередь соседу. Думаю, что это устройство подсказано опытом очень давним.
...С высокого левого берега Каменки хорошо виден отлогий правый с удивительным ансамблем еще одного прославленного суздальского монастыря — Покровского. А можно выбрать и такую точку (например, от городского моста), откуда видны сразу три монастыря-крепости: Александровский, Спас-Евфимьевский и Покровский. Придите сюда, посмотрите — и не пожалеете о поездке в Суздаль!
Картина поразительна, неизгладима. Красные стены и башни Спас-Евфимьевского монастыря с его суровыми мужественными чертами, белоснежные храмы Покровской женской обители и массивный шатер колокольни Александровского собора не просто созвучны — они сливаются, как струи в реке, как звуки в песне.
И вплетается сюда, как отголосок, как грустная припевка, еще одна мелодия — архитектурный ритм стоящей чуть поодаль, в скорбном одиночестве, церковки Петра и Павла, с парной ей «теплой» церквушкой. Опальная жена Петра I, Авдотья (или Евдокия) Лопухина, учредила в этой церковке Алексеевский престол в память о сыне своем, царевиче Алексее, казненном с согласия отца за измену интересам России.
Немало человеческих трагедий завершилось в стенах Покровского монастыря.
Московский великий князь Василий III потратил большие суммы на достройку и украшение Покровской обители: лишь за одно десятилетие зодчие воздвигли здесь трехглавый собор, «святые врата» с надвратной церковью, еще одну церковь с трапезной. Такая спешка с возведением торжественных монастырских зданий была неслучайной.
Князь Василий III был женат на боярышне Соломонии Сабуровой, избранной им из полутора тысяч невест, привезенных на смотрины. Но брак оказался бездетным, и великий князь обвинил Соломонию в бесплодии. Начался долгий, возбудивший множество пересудов бракоразводный процесс. Наконец в 1525 году молодую княгиню насильно постригли и отослали в Суздаль, «во тот ли монастырь во Покровский», как пелось в народной песне. Великий князь женился после этого на польско-литовской княжне Елене Глинской, и через три года появился на свет младенец — будущий царь Иван Грозный.
Однако до Москвы дошел слух, будто в Суздале постриженная Соломония родила сына и назвала его Георгием. Наряженное следствие установило, что младенец скончался и погребен в монастыре. Это успокоило расследователей.
После смерти Василия III Елена Глинская, из-за малолетства сына Ивана, несколько лет сама правила, государством, обнаружив недюжинный ум. В 1538 году она была тайно отравлена недоброжелателями.
Соломония пережила в монастыре и мужа и соперницу. Семнадцать лет провела она в затворничестве и скончалась в 1542 году. Ее имя звучало в народных песнях, ореол тайны и мученичества окружал его, церковь посмертно объявила Соломонию святой, а ее гробницу — чудотворной.
Народ же, творец легенд и сказаний, не захотел поверить в смерть младенца Георгия. По легендам, царица уберегла мальчика, поручила верным людям, а царских слуг обманула мнимым погребением ребенка. Когда же мальчик вырос, он возлюбил вольное житье и стал знаменитым разбойником Кудеяром... Так отразилась дворцовая драма в устном сказочном творчестве народа.
Возможно, эта история забылась бы, как тысячи ей подобных, но неожиданно напомнила о ней интересная археологическая находка, сделанная в 1934 году в усыпальнице Покровского собора. Рядом с гробницей Соломонии обнаружили маленькую могилку. В деревянном гробике покоилась... богато наряженная кукла в детской рубашечке и свивальничке, расшитом мелким жемчугом!
Что же значит эта находка, ныне выставленная в Суздальском музее?
В 1964 году слабый свет на тайну пролило антропологическое исследование останков Ивана Грозного. Оно свидетельствует, что Иван IV — родной сын Василия III. Тем самым косвенно подтверждается бесплодие Соломонии. Значит, погребение куклы было просто инсценировкой? Однако ее цель до сих пор не вполне ясна.
В этом же монастыре завершилась не только трагедия Соломонии. Примеру отца последовал и сам Иван Грозный, повелевший заточить сюда свою жену, Анну Колотов-скую. В 1622 году в монастыре умерла злосчастная Ксения Борисовна Годунова (погребенная в подмосковной Троице-Сергиевской лавре). В 1698 году судьбу своих предшественниц разделила жена Петра I Евдокия Лопухина.
Собор Покровского монастыря служил и молельней и некрополем для многих знатных затворниц.
Сам внешний вид Покровского собора и внутренняя отделка вполне отвечают его назначению — служить духовной тюрьмой и мавзолеем! «Он облагорожен и одухотворен женским страданием», — сказал о нем один французский гость. Собор величав, спокоен и строг, очень скупо отделан и вовсе лишен росписей. Пол в нем был вымощен черной керамикой, голые стены дышали на затворниц беспощадным холодом. У каждой инокини было здесь свое, строго установленное место и своя «печура» («пещера»), стенная ниша для молитвенных принадлежностей.
Возвращаясь в город, мы еще успеем перед отъездом бросить с моста взгляд на церковь Козьмы и Демьяна.
Этот маленький храм с его типично суздальской колоколенкой глядится в тихую и мелкую воду Каменки вот уже около двух с половиной столетий, а кажется он даже еще старше и архаичнее. И когда вы смотрите на его отражение в воде среди кувшинок и остролистой береговой травы, в сердце вам закрадывается щемящая грусть. То ли вид этой церкви над обрывом вызывает мысль о ее неизбежной обреченности оползню, то ли вы просто услыхали нетерпеливый гудок вашего автобуса. Пора прощаться с Суздалем, а это всегда грустно. Город-музей остается в памяти каким-то почти неправдоподобным, как сновидение.
Расставаясь с ним, всегда испытываешь каким-то уголком сердца тайный страх, чтобы, подобно древнему Китежу, и этот город не исчез из глаз, не погрузился в зачарованные воды Светлояра-озера!
Златоглавый Владимир
Когда на Руси еще не не знали слова «Москвва», Владимир был уже внушительным городом-крепостью Ростово-Суздальской земли.
Еще раньше, задолго до сооружения этой крепости, возник среди девственных лесов над Клязьмой безыменный русский поселок. Предполагается, что на ничейных землях осели предприимчивые ремесленные и торговые люди, покинувшие старые боярские города Залесья — Суздаль и Ростов. К началу XI века поселок уже разросся. В конце века воинственный черниговский князь Олег, тот самый, что, по выражению «Слова о полку Игореве», мечом крамолу ковал, завладел Муромом и заручился поддержкой рязанских и муромских бояр, давно мечтавших пограбить ростово-суздальских князей. И вот во главе большой рати Олег вторгся в северные наследственные владения Владимира Мономаха, опустошил и Суздаль и Ростов, сжег множество деревень и сел. Это, собственно, и была первая большая феодальная война на Руси, когда по русской земле
...редко оратаи кликали,
но часто вороны каркали,
трупы деля меж собой.
Каркали вороны и над клязьминской поймой, где немало полегло княжеских дружинников и боярских ратников.
В те тяжелые годы князь Владимир Мономах смог сполна оценить оборонное значение высокой гряды холмов над Клязьмой. Это был естественный рубеж, будто созданный самой природой для прикрытия Суздаля с юго-востока, со стороны Рязани и Мурома. Тогда-то безыменный поселок и получил княжеское имя Владимир.
Тысячи дубов-великанов, вековых елей и сосен пали под топорами горододельцев. Землекопы приспособили глубокие природные овраги для системы рвов, земляные валы опоясали средний холм. По гребню вала выросла рубленая стена, а из-за нее поднялась глава первого владимирского храма — церкви Спаса, рядом с княжеским теремом. Работы велись с конца XI ьека, а к 1108 году летописец засвидетельствовал, что крепость и храм готовы. Этот год и принято считать годом рождения города Владимира.
Сын Мономаха, Юрий Долгорукий, окончивший свои многотрудные дни в далеком Киеве, основал в Ростово-Суздальской вотчине много укрепленных городов — Переславль-Залесский, Юрьев-Польский (от слова «ополье»), Дмитров, Звенигород. Он же усилил кучковскую крепостцу Москву (постройкой ее, кстати, непосредственно руководил сын Долгорукого, князь Андрей Юрьевич, впоследствии прозванный Боголюбским).
В разросшийся уже многолюдный город Владимир, под защиту его стен и воинов, успели перебраться сотни иногородних жителей, в том числе и немало киевлян, измученных в родном крае непрестанными усобицами, поборами и произволом. Новый град, хотя и далеко отстоял от «матери градов русских», все же напоминал киевлянам их родные места. Подобно Киеву, Владимир занимал прибрежные кручи. Высокая гора с крепостью получила название Печернего города, а киевские названия рек — По-чайна, Ирпень, Лыбедь были перенесены на здешние притоки Клязьмы.
Став киевским великим князем, Юрий Долгорукий послал Андрея в Вышгород, намереваясь завещать сыну киевский стол. Но Андрей ослушался. Вопреки планам отца, разгневав его, Андрей покинул Вышгород и самовольно, в 1155 году, вернулся на север.
Он рассчитывал сделать стольным градом Руси не ослабевший, хотя и по-прежнему великолепный, Киев, а родной Владимир. Крупные вотчинники противились объединительной политике, но Андрей мог опереться на горожан, заинтересованных в защите от бояр. Князь создавал себе свиту и дружину из «милостьников», получавших жалованье, наделы, должности, а то и жительство при дворе, почему и стали со временем называть это новое сословие дворянами.
Нетерпеливый, жестокий, самоуверенный Андрей Юрьевич воздвиг себе загородный замок недалеко от впадения Нерли в Клязьму. Для торговых гостей этот замок — Боголюбов© — должен был служить как бы преддверием к княжьему граду — Владимиру.
Чтобы все эти начинания выглядели не причудами са-мовластца, а исполнением божественной воли, Андрей Бо-голюбский привлек духовенство. Уже свой отъезд из Выш-города он обставил многозначительной церемонией, сыгравшей важную роль в возвеличении Владимира.
В вышгородском храме находилась знаменитая икона XII века, впоследствии получившая название Владимирской богоматери. Это изумительное произведение древнего, вероятно, греческого живописца, пережило века и сохранилось поныне: икону можно увидеть в Третьяковской галерее. Уже в глубокой древности сильное впечатление на зрителей производила трогательная человечность, высокий строй чувств, искусно выраженные в лицах богородицы и прильнувшего к ней щекой младенца Христа. Такой тип икон именовался «Умилением». Церковь провозгласила эту икону чудотворной, приписав ее кисти евангелиста Луки (по преданию, жившего в IV веке!). Окруженная всеобщим поклонением, икона эта была известна каждому верующему на Руси, привлекала в Вышгород толпы паломников-пилигримов... И вот эта киевская святыня пожелала сойти с места!
Куда же она вознамерилась следовать? Оказывается, в залесский край, сопровождать князя Андрея!
Икона вместе со священниками, княжеской свитой и самим князем Андреем совершила в 1155 году трудный путь на север. В пути происходили «чудеса». Так, достигнув устья Нерли, кони, впряженные в возок, внезапно стали как вкопанные, а ночью, когда князь спал в своем походном шатре, богородица явилась ему и повелела воздвигнуть здесь храм. Князь дал обет, и утром кони легко стронули возок с места. Желание богородицы удивительно совпало с планом самого князя построить для контроля речной торговли Владимира отдельный боголюбовский замок при впадении Нерли в Клязьму! А прибыв во Владимир, икона «отказалась» ехать дальше, в Ростовскую епархию, и предпочла стать Владимирской.
Очутившись в руках владимирского духовенства, икона стала очень щедрой на дальнейшие «чудеса». О них было сочинено даже особое сказание, рассчитанное на простой народ и поэтому написанное несложным, бытовым, довольно красочным языком. Повествует оно, как богородица исцеляла больных, спасла некую попадью от бешеного коня, выручила мужика-проводника, избавила от смерти нескольких горожан, придавленных рухнувшими створками Золотых ворот. Так ореол церковных «чудес» осенил владимирское строительство, которое с таким размахом и страстью повел Андрей Боголюбский.
В небывалые до того сроки, за каких-нибудь шесть-семь лет, город Владимир превратился в настоящий чудо-град, к тому же отлично укрепленный.
Именно впечатления «чуда божьего» Андрей и добивался. Со всех концов русской земли — из Новгорода, Пскова, Галича, Смоленска — звал он к себе каменщиков, плотников, кузнецов, живописцев, чеканщиков, гончаров, оружейников. Шли сюда и мастера с Запада, иноземцы. Есть летописное свидетельство, что в росписи храмов участвовали и грузинские живописцы — как известно, сын Андрея Юрий был мужем знаменитой грузинской царицы Тамары. В остатках фресок на стенах Дмитриевского собора есть лицо святого, в котором и неопытный глаз сразу узнает характерные грузинские черты.
Добиваясь полной независимости от Киева, Андрей поставил во главе владимирской церкви некоего Федора, «лживого владыку», как его называли в народе. Этот церковный союзник князя Андрея был предан в Киеве митрополичьему суду и казнен как еретик. Андрей не смог противодействовать этому, но одной из причин похода владимирской армии вместе с половцами против Киева в 1169 году были, по-видимому, счеты Андрея с киевской церковью.
Удар по Киеву Андрей расчетливо нанес уже тогда, когда величию древнего града на Днепре он смог противопоставить красоту Владимира. Новый город с его белокаменными храмами, Золотыми и Серебряными воротами, могучей крепостью среди зеленых холмов над лугами Клязьмы становился реальным источником новых легенд и сказаний. В летописи можно прочесть, как поразила владимирскую рать картина их прекрасного родного города, представшего перед ними в необычном утреннем освещении.
Летом 1177 года (уже после смерти Андрея) владимирцы выступили в поход против ростово-суздальских боярских войск князя Мстислава: шла борьба за владимирский престол, и во главе владимирской рати стал брат убитого Андрея Боголюбского — Всеволод III.
На заре владимирцы вышли из Серебряных ворот на суздальскую дорогу. Когда воины поднялись на гребень отлогого увала и, как бы прощаясь с родным городом перед битвой, обернулись назад, весь Владимир, от края до края, предстал перед ними, «акы на воздусях», а превыше града, озаренный утренними лучами, торжественно плыл в небе белокаменный Успенский собор. Воины поняли это как небесное знамение и радостно закричали Всеволоду: «Прав еси!»
Профессор Н. Н. Воронин в монументальном своем труде «Зодчество северо-восточной Руси», удостоенном Ленинской премии, так оценивает это летописное сказание:
«Почвой этих легенд была реальность. В ранние утренние часы рассвета, когда владимирские холмы тонут в призрачном море поднимающегося тумана, можно видеть захватывающее воображение и теперь зрелище, как пламенеющий в красных лучах восходящего солнца собор как бы отделяется от земли и плывет на зыбких, колеблющихся облаках. Слитая с природой, созданная зодчими красота уподоблялась в сознании средневекового человека чуду...»
В древний Владимир можно было войти или въехать с любой стороны света через городские врата с башнями. С юга, то есть от Клязьмы, перед путником распахивались ворота Волжские, с севера — ворота Медные, с востока, от Суздаля и Боголюбова — Серебряные (у моста через Лыбедь), а на западе издалека сверкали золоченой медью створов знаменитые Золотые ворота. Они служили триумфальным въездом и надежной боевой защитой города.
В древнюю Мономахову крепость на среднем холме — Печерний город — вели ворота Ивановские и Торговые. И была еще в городе внутренняя цитадель, детинец, с главными соборами и дворцами — княжеским и епископским. Отгородил его от остальной части Печернего города князь Всеволод III, и в этой ограде тоже были массивные ворота, судя по раскопкам, очень богато отделанные.
Такова была могучая оборонительная система Владимира, от которой до наших дней дошел один замечательный памятник архитектуры — Золотые ворота.
Они достались нам перестроенными и поновленными и все же поныне внушают глубокое чувство уважения как подлинная реликвия славной старины. Под их аркой, сохранившейся с XII века, проезжал Александр Невский, снимал княжескую шапку перед Ризположенской церковью, вознесенной над верхней площадкой Золотых ворот. А последний свой путь Александр совершил сюда уже в гробу: в 1263 году на пути во Владимир из Золотой орды он простудился и еще в дороге, в Городце, невдалеке от Нижнего Новгорода, скончался от воспаления легких. В старину болезнь эта была смертельной, и жертвами ее стали многие русские богатыри. Когда тело привезли для похорон во Владимир, сюда пришли жители всей округи. Летописец рассказывает: «Был здесь плач великий и кри-чание, и великая печаль, и казалось, будто и земля потряслась».
Построены Золотые ворота в 1164 году, при Андрее Бо-голюбском. С боков примыкали к воротам насыпи, по верху которых шли дубовые стены. Внутренние и наружные стенки ворот — из тесаного белого камня, промежуток заполнен бутовым камнем на крепком растворе. Своды выложены из более легкого камня — туфа. За восемь веков конструкция доказала свою прочность!
Основа Золотых ворот — белокаменный куб с прорезанной в нем стройной аркой. Она так высока, что никакие створки не смогли бы ее закрыть. Поэтому полотнища ворот перекрывали арочный пролет по высоте лишь наполовину. Для упора воротных створок строители вывели еще малую арочную перемычку посредине пролета. Нижняя часть ворот запиралась дубовыми, обшитыми медью, полотнищами, а пустое пространство от перемычки до верхнего
го свода защитники города использовали как боевую площадку.
В стенах пролета и сейчас видны четырехугольные пазы, куда заводились концы бревен, по которым, в уровень с перемычкой, настилался накат боевой площадки. С нее воины обстреливали наступающих, лили смолу, кипяток, сбрасывали раскаленные камни.
Самым примечательным во всем сооружении были в старину полотнища ворот. Татары ободрали обшивку и увезли с собой. Быть может, на ней были такие же чудесные рисунки, наведенные золотом, как на вратах Суздальского собора?
Теперь лишь кованные древними кузнецами воротные петли напоминают, что некогда здесь висели тяжелые створки... Этим петлям 800 лет, как и камням арочного пролета. Видно и гнездо для древнего запора. Это был тяжелый железный брус, которым вечерами воротные сторожа закладывали створки. Не поспел горожанин домой до сумерек — ночуй в поле, коли стража не смилуется и не пустит в калитку. Кстати, завоеватели-монголы ворвались во Владимир не через Золотые ворота, а через брешь в подожженной стене — ворота были неприступны.
К югу от ворот сохранился остаток древнего земляного вала. Участок его близ Золотых ворот зовется Козлов вал. Он круто спускается к реке Клязьме. По откосам его, на склоне глубокого оврага, разбит красивый сад. Отсюда, с гребня вала, открывается великолепная панорама Печер-него города с Успенским собором на вершине главного холма.
Вспомним слова Виктора Гюго о средневековых соборах:
«Рассеянные в массах дарования, придавленные со всех сторон феодализмом, словно testudo (кровля из щитов), нэ видя иного выхода, кроме зодчества, открывали себе дорогу с помощью этого искусства, и их илиады выливались в форму соборов. Все прочие искусства повиновались зодчеству и подчинялись его требованиям... Архитектор-поэт... объединял скульптуру, покрывающую резьбой созданные им фасады, и живопись, расцвечивающую его витражи, и музыку, приводящую в движение колокола и гудящую в органных трубах. Даже бедная поэзия — подлинная поэзия, столь упорно прозябавшая в рукописях, вынуждена была под формой гимна или хорала заключить себя в оправу здания» (подчеркнуто мною. — Р. Ш.).
Слова великого поэта Франции помогают постичь, почему столь совершенна архитектура многих средневековых зданий и почему именно зодчество было ведущим искусством в те времена. Но у тогдашнего владимирского зодчества был еще один, самый важный и могучий стимул — идея всенародного единения, идея общерусская. Она и творила чудеса.
Вдохновенный замысел родится лишь тогда, когда в камне должна воплотиться мысль, волнующая мастера, та высшая идея, ради которой он живет, которая наполняет его ум, его сердце. Что могло быть для русского зодчего ближе, чем мысль о борьбе «с тьмой раздробления нашего»?
Замыслив Успенский собор, князь Андрей совещался с его будущими творцами и говорил им о создании общерусского храма, чье великолепие не только должно затмить Софию, но, что важнее, послужить всей Руси, то есть помочь объединению княжеств. Эта общенародная идея и придала творчеству владимирских зодчих особенно высокий пафос. В церковных зданиях строители поэтизировали свою любовь к отчизне, в камень облекали гражданскую мысль — вот потому эти памятники волнуют человеческие сердца так глубоко и так долго.
Успенский собор во Владимире, заложенный в 1158 году, был закончен в 1160-м. Срок для тех времен необыкновенный. Белый камень окских и москворецких месторождений подвозили крестьяне конными подводами по санному пути. На месте добычи камень грубо отесывали, чтобы не возить лишней тяжести, а близ строительной площадки его обделывали начисто.
По высоте собор равнялся киевской Софии, но был чуть уже, занимал меньшую площадь и потому казался более легким и стройным. Архитектура была светлой, радостной. Одноглавый купол сиял золотом издали, будто половина солнечного шара круглилась над барабаном собора. Великолепная каменная резьба украшала аркатурный пояс и арочные дуги портала. Главный портал принадлежал к типу так называемых перспективных: входящему казалось, будто он преодолевает целый коридор из арок, отступающих в глубину. Перспективные порталы — один из распространенных приемов древнего владимирского зодчества. Известны они издавна и в романской архитектуре.
Изнутри собор создавал у зрителей такое же сильное и праздничное настроение, как и снаружи. Много солнца пропускали внутрь храма окна в стенах и в подкупольном барабане. Опорные столбы легко несли сложную систему сводов и арок, передававшую тяжесть купола большим и малым парусам. Резные каменные львы дремали у оснований подпружных арок. Полы из майолики, словно водная гладь, отражали огни.
Но через двадцать пять лет после окончания храма случилась обычная для древних городов беда: страшный пожар. Этот пожар 1185 года превзошел все прежние — сгорела большая часть города. Великолепный Успенский собор тяжело пострадал. Липкая жирная грязь и копоть покрыли белокаменные стены, разошлись от жары швы перевязок камня, стены дали трещины. Здание надо было разбирать или спасать немедленно.
Это и было сделано в дни правления Всеволода Большое Гнездо. Брат и преемник Андрея Боголюбского так укрепил могущество Владимира, что летописец называет его Всеволодом Великим, а автор «Слова о полку Игореве» говорит, что воины Всеволода могут веслами расплескать Волгу. Не было у Всеволода и недостатка в зодчих — князь, как свидетельствует летописец, уже «не искал мастеров от немец». По его заказу владимирские мастера восстановили — в расширенных размерах — Успенский собор. Эта задача была выполнена с блеском, и в мировой архитектуре владимирский Успенский собор стал одним из интереснейших зданий.
Строители обнесли старое здание собора новыми стенами, не тронув старых (лишь укрепив их). Прежнее здание оказалось как бы взятым в футляр. Была разобрана и заново переделана алтарная часть, прорезаны арочные проемы в старых стенах — для связи со вновь построенными галереями, которые опоясали здание с трех сторон. Вместо шести первоначальных опорных столбов их стало восемнадцать; вместо прежней одной главы возвысились над кровлей пять куполов. Четыре новые главы не только архитектурно завершили новое, по существу, здание, но и дали дополнительный свет галереям.
Новый — Всеволодов — Успенский собор сделался, пожалуй, еще величественнее и торжественнее, чем первый, но помрачнел. Прежняя ликующая архитектура собора приобрела после перестройки более траурное звучание, свойственное великокняжеской гробнице, мавзолею. Новые галереи предназначены были служить усыпальницами. Сюда перенесли прах Андрея Боголюбского, здесь погребли и самого Всеволода III.
Это здание претерпело столько новых бедствий и тяжелых испытаний, что реставраторам XIX и XX веков пришлось положить много труда для его спасения.
Чудовищна трагедия, разыгравшаяся в этих стенах в февральские дни 1238 года, когда монголы прорвали оборону города и окружили собор. Там искали спасения семьи осажденных. Наступающие завалили собор сухими бревнами от разрушенных домов и подожгли завалы. В дыму и пламени погибли все находившиеся в соборных стенах, а сами стены раскалились и потрескались, однако выстояли, были потом вновь починены.
Горел собор и в XVI веке, и лишь полная реставрация XIX века восстановила уникальную постройку в ее прежнем виде, какой она была в 1185 — 1189 годах и какой ее мог бы узнать сам Всеволод III. Правда, реставраторам пришлось сохранить и некоторые более поздние пристройки: колокольню, построенную в 1810 году в духе классицизма, и придел, связывающий колокольню с собором. Какой-то шутник сострил, что по случаю проведения железной дороги даже к древнему собору «прицепили паровоз» (то есть приставили колокольню с приделом).
В начале XV столетия высокочтимый Успенский собор во Владимире — ведь именно в нем венчали на великое княжение и московских властителей — прославился еще одной художественной ценностью. Прибыл тогда во Владимир величайший живописец древней Руси Андрей Рублев. Ему поручено было расписать обновленные стены храма. Он и выполнил эту задачу в 1408 году вместе с художником Даниилом Черным и группой учеников. Фресковой росписью они покрыли внутренние стены и написали по дереву иконы для алтарной преграды — иконостаса.
Чтобы сейчас сполна оценить эту живопись, нужен некоторый опыт или помощь хорошего экскурсовода, потому что сохранность фресок далеко не соответствует их мировой славе. Большая часть их подвергалась неосторожным, невежественным поновлениям, была погребена под слоями позднейшей штукатурки. Советским реставраторам лишь с огромным трудом удалось очистить остатки этих фресок, а значительная часть их погибла невозвратно.
Собор так велик и сложен, что внутри не сразу удается сориентироваться. Если входишь в него с севера, со стороны колокольни, надо сначала пройти придел XIX века, только потом вступаешь под древние своды... Да, здесь отлично видишь все мастерство строителей XII века. Собор в соборе! Храм Андрея Боголюбского, взятый в оправу новых белокаменных стен! Вокруг главного ядра здания образованы просторные галереи, они соединены с древним нефом сложной системой сводов и арок, пробитых в стенах Андреева собора. Вот они, камни, выдержавшие пожар 1238 года, слышавшие гортанную речь Батыевых ратников, стоны заживо горящих...
Собор и теперь очень наряден и благолепен внутри: блистает позолотой помпезный иконостас (не тот, который был создан Рублевым!), сверкают золотые оклады икон, каменья в рамах, и среди всего этого великолепия отнюдь не бросается в глаза потускневшая, плохо различимая в сумраке фресковая роспись. Люди же, сведущие в искусстве, спешат прежде всего именно к ней, к южному нефу собора.
Кому не знакомо чувство, похожее на робость, когда предстоит тебе встретиться с великим произведением искусства? Это может быть первая или десятая встреча — волнение то же! Или это радость «первооткрывателя», или радость встречи с привычным, вечно для тебя прекрасным, уже глубоко «твоим»... Вот они, трубящие ангелы, вот воины в доспехах... Праведники, шествующие в рай после страшного суда... Все это так хорошо известно по репродукциям, книжным иллюстрациям!.. Здесь перед нами подлинник. Это кисть Рублева!
Кажется, прежде всего ощущаешь: художник, связанный обязательным сюжетом, подчинил фресковую роспись архитектуре здания. Действительно, эта красочная поэма не только взята в торжественную оправу собора, но нераздельно слита с ним в едином музыкальном ритме.
Над головами шествующих в рай праведников видна в энергичном развороте фигура апостола Павла. Он указывает путь, в левой руке у него — длинный белый свиток, продолжающий ритм поднятой руки, и этот динамический жест вторит ритму изогнутой арки свода, сквозь которую смотрится фреска. Архитектура и живопись соединяются в художественное целое.
Фреска южного нефа «Идут святые в рай» — заключительная часть всей композиции, созданной Рублевым и Даниилом Черным в Успенском соборе. Мы заговорили сначала об этой фреске, потому что она лучше сохранилась, яснее различима. От остальной росписи время сберегло лишь фрагменты.
В юго-западном углу, на арке под хорами, видна фигура ангела в торжественных одеждах с поднесенной к губам трубой. Звучит глас страшного суда, этот звук должен поднять мертвецов из могил.
Изображения грешников, низринутых в «геенну огненную», и картины вечных мук в аду помещались в северном нефе и не дошли до нас, но и по сохранившимся деталям росписей мы можем судить, что вся композиция проникнута характерными для Рублева и его школы идеями гуманизма, добра, глубокого сострадания к людям.
Ангелы трубят здесь не в библейские медные трубы, могущие сокрушать каменные стены и будить мертвецов в могилах, а в тонкие, словно тростниковые, свирели, пригодные разве что для пастушеских мелодий. Образы ангелов, Христа, апостолов не грозны и не строги. У них стройные, изящные тела, их лица одухотворены умом, сочувствием к обреченным.
Дважды повторен в росписи образ апостола Иоанна. Лицо его, как мне кажется, — высший предел мастерства, вершина всего, что сохранилось от рублевской композиции. Такие лица и сегодня встречаешь в жизни — приветливое, старческое, с ясным, открытым взглядом, лицо крестьянина, чем-то опечаленного и взволнованного. Это не суровый подвижник с фресок киевской Софии, не устрашающий пророк из Нередицы, не изможденный аскет мирожских и снетогорских росписей, а задумчивый, опечаленный русский старик, жалеющий осужденных собратьев.
Интересно сравнить рублевские росписи Успенского собора с другой композицией того же содержания в главном соборе Иринина монастыря. Расположен монастырь невдалеке от Золотых ворот, роспись собора была выполнена московскими иконописцами во главе с Марком Матвеевым в сороковых годах XVII века. Матвеевские фрески представляют собою уже переход к искусству нового времени, то есть искусству с реалистическими бытовыми деталями, взятыми из жизненных наблюдений автора.
В росписи Марка Матвеева наглядно виден интерес к обновлению живописных приемов, к многосложному красочному повествованию. В распоряжении мастера оказалась огромная плоскость западной стены, и на этой плоскости он развернул гигантскую сцену страшного суда — последнего дня мира.
Здесь нет умиротворения и рублевской просветленности: огромный чешуйчатый змей, символизирующий грех и порок, опутал и сдавил страшными кольцами целую толпу осужденных. Крошечная человеческая душа показана в виде голой фигурки, беспомощной и затерянной среди океана ужаса и скорби. Могилы вскрываются, рассыпаются гробовые доски, мертвецы встают, толпами движутся к демонам ада, навстречу неотвратимой расплате.
Вся сложнейшая композиция решена мастерски, отличается приглушенным, неярким колоритом — в нем как бы ощутим отсвет грозного «адского пламени», лежащий на зеленых и синих красках фона. Матово отливают золотом и серебром украшения, доспехи, одеяния, кое-где видны богатые, пурпурные одежды. Двери рая художник снабдил шатровыми главками по углам — это характерная черточка родной для Матвеева московской архитектуры XVII века.
Сложность орнаментов и композиции, множество чисто бытовых подробностей, изощренность сюжета — все это приближает матвеевскую фреску к миру страшных сказок и фантастических поверий, которыми так богата русская литература XVII века. Этот мир уже очень далек от настроения рублевской живописи XV века.
...В Успенском соборе мы застали художника-реставратора Н. Гусева, кончавшего копию рублевского ангела со свитком неба в руках. Ведь по библии в день всеобщего судилища исчезнет не только земля, но и небо — останутся лишь рай и ад. И вот Рублев изобразил, как ангелы свертывают свиток неба... Сейчас москвичи могут полюбоваться отличными копиями этой и других рублевских фресок, размещенными в стенах Андроникова монастыря в столице.
Я спросил художника, где, по его мнению, Рублев брал краски.
— Там же, где беру их и я, — ответил мастер, — на берегу Клязьмы. Утречком, по холодку, ходил Андрей Рублев к речке, собирал разноцветные камешки, отвердевшие глины, ракушечник. Ученики потом размалывали в порошок отобранное, очень тонко, и разбавляли водой с яичным желтком. Иногда к растертым камням добавляли золотой пыли или какой-нибудь красящей жидкости вроде «черной воды» изборского источника под Псковом; ведь свой секрет красок был у каждого мастера... Потом по сырой штукатурке, хорошо подготовленной, наносили красящий слой на стену. Обычно рисунок заранее процарапывали, потом прокрашивали, а вот Рублев писал без предварительной наметки, сразу кистью. И ведь тут ошибиться нельзя — краску со стены не смоешь и не сотрешь, можно только снимать всю штукатурку и заново готовить потом стену под фреску. Задуматься, помедлить тоже нельзя: высохнет штукатурка, не примет стена краску, значит, опять начинай всю подготовку заново... Фреска — требовательное, трудное искусство, и Рублев в нем — мастер непревзойденный. А к тому же здесь, в соборе, его фрески прекрасно гармонировали с прежним иконостасом. Конечно, не с этим вот, — художник кивнул в сторону роскошного золотого иконостаса, типичного для времен Екатерины.
Некогда на месте нынешнего стоял более строгий по своей архитектуре иконостас XV века. Он был разобран в XVIII веке, иконы, написанные Рублевым, переданы другим церквам. Уже после Великой Октябрьской революции эти иконы, писанные на огромных липовых досках, были объявлены всенародным достоянием, доставлены в Третьяковскую галерею и в Русский музей.
Теперь Русский музей гордится иконой с изображением апостола Павла из старого, рублевского иконостаса. Великий художник изобразил апостола не суровым и нетерпимым фанатиком, а мыслителем, книжником, погруженным в глубокую думу. И книга в его руках воспринимается не как собрание мистических суеверий, а как символ знания. Тонкие пальцы рук, босые ноги в сандалиях, живописные складки плаща, легкая фигура — все это производит впечатление изящества, высокой одухотворенности.
Если Успенский собор во Владимире получил мировую славу благодаря рублевским фрескам, то собор Дмитриевский, находящийся неподалеку, может быть по праву назван сокровищницей камнерезного искусства.
Между этими двумя соборами было бездушно втиснуто в конце XVIII века казенное здание Присутственных мест. Своей громадой оно как бы потеснило и придавило Дмитриевский собор — восточный торец казенного здания слишком близко подступает к собору.
Вообще, шагая по кромке приклязьминских высот во Владимире, любуясь зеленой ширью загородных лугов и красивыми петлями реки, видишь, как мало дорожили владимирские купцы и фабриканты красотою исторически сложившегося города. «Его препохабие» капитал поистине затмил очи людям наживы. Чего стоит хотя бы устройство путевого железнодорожного хозяйства на спуске к реке! Железная дорога отсекла от реки высокогорную часть Владимира, его Печерний город, который некогда переходил в клязьминскую набережную. Купцы изуродовали панораму, а ведь все железнодорожное хозяйство могло бы пройти позади Печернего города, вдоль речки Лыбеди. Правда, это стоило бы несколько дороже... И вот в жертву была принесена красота города!
А сколько варварских проектов переделки памятников древнего зодчества вносили не только отцы города, но и сами отцы церкви! Архиепископ владимирский Антоний в 1871 году энергично хлопотал о... сломе Успенского собора! Дескать, чинить дорого, надо разобрать и построить новый. План мракобеса был, к счастью, отвергнут: здание отремонтировали, спасли. Другой епископ, настоятель Боголюбова монастыря, добивался позволения снести церковь Покрова на Нерли! Спасла драгоценный памятник сперва чистая случайность — артель дорого запросила за разборку. А тем временем вмешалась в дело русская общественность, знатоки и ценители искусства, сумевшие защитить народную реликвию.
Городской голова Владимира, купец-толстосум Никитин выдвигал проект превратить Золотые ворота в водонапорную вышку. Но и тут патриотические силы города воспротивились, и главный памятник боевой владимирской славы уцелел.
...Миновав длинное строение Присутственных мест, мы подошли к Дмитриевскому собору. Если нам посчастливилось застать собор открытым — заглянем сначала внутрь!
Белокаменные стены и четыре подкупольных столба восхищают своей чистотой, благородством линий и форм. Когда вы стоите в соборе, вам начинает казаться, что солнечные лучи проникают внутрь здания не только через окна и прорези, но и просвечивают сквозь этот чистый камень. Он кажется теплым и розоватым, насквозь пронизанным светом, как живая ткань. Розовые отсветы и голубоватые тени как у человеческого лица в солнечном луче...
Красота этого светлого интерьера действует так сильно, что даже трудно сосредоточить внимание на здешних древних фресках, очень хороших и редкостных.
Но самая главная и запоминающаяся особенность Дмитриевского собора во Владимире — его удивительные рельефные узоры, его наружные скульптурные украшения. Покрывают они все пространство стен над аркатурным поясом, вплоть до закомарных дуг. Это настоящее каменное кружево, в котором глаз не в силах разобраться сразу.
Духовенство в древней Руси опасливо относилось к искусству ваятелей и не поощряло его: в статуях, изваяниях, барельефах православная церковь видела «языческое идо-лоподобие». Но, разумеется, в отделке многих древнерусских зданий не мог не сказаться высокий декораторский талант нашего народа.
В своем самодеятельном творчестве русский кустарь-крестьянин проявил много вкуса и умения, когда резал по дереву бесконечно разнообразные, поразительные по силе воображения орнаменты, щедро и пряно расписывал свою домашнюю утварь — от мисок до прялок, находил веселые краски для глиняных и деревянных игрушек. Столь же разнообразны и совершенны работы безыменных русских кружевниц и вышивальщиц, чеканщиков и кузнецов или тех мастеров-каменосечцев, что покрывали архитектурные сооружения Владимира фантастическим белокаменным узорочьем...
Скульптурный наряд Дмитриевского собора — яркий образец древнего декоративного искусства. Собор этот был не городским, а домовым храмом: построенный в 1194 — 1197 годах по вкусу и заказу князя Всеволода III, он входил в группу дворцовых сооружений и воплощал идею могущества и богатства владимирской державы при «буйтуре» Всеволоде.
Сложные, замысловатые, часто совершенно загадочные рельефы! Поражаешься умению мастеров-камнерезов не затемнить таким обилием украшений самой архитектурной идеи, не отвлечь внимания от красоты форм. Вглядываешься, отходишь назад и убеждаешься: нет, не изменило строителям чувство меры! Весь щедрый узор остается в строгом подчинении у главного, у архитектурного ритма, и лишь помогает подчеркнуть красоту целого, сделать собор праздничным, ликующим. Накинул веселый кудесник на плечи собора парчовую ткань с бахромчатым пояском аркатуры, да так и вросло это покрывало в камень стен!
Трудно передать вкратце, что же изображают изваяния на Дмитриевском соборе. Фантазия ваятелей не знала преград. Она обнаруживает исключительную начитанность авторов — их знакомство и с миром сказки, и с древними библейскими легендами, и апокрифами, даже с греческой мифологией.
Больше всего здесь зверей, птиц, чудищ. Часто они очеловечены: львиные морды похожи на человеческие лица, а хвосты этих полусфинксов оканчиваются пучками странных растений, листьев. Звери танцуют на задних лапах, как геральдические чудовища. Фантастические птицы и земноводные, драконы, сирины, грифоны — все эти существа летают, ползают, яростно сражаются друг с другом — мы видим целый мир окаменевших поверий и волшебных сказаний.
И сколько же их! Ведь лишь по стенам размещено более пятисот резных фигур, не считая аркатурного пояса и трех алтарных абсид.
Исследованиям этих изваяний посвящены интересные работы советских ученых — Ю. Вагнера, В. Лазарева, Н. Воронина. Специалисты пришли к выводу, что собственно христианские мотивы занимают в резном уборе храма небольшое место. Действительно, все эти каменные дива отнюдь не славят творца и заняты не «умилением», а напряженной борьбой. Воплощение местных сказок? Но звери эти слишком диковинны и ничуть не похожи на реальных животных здешних мест — волка, медведя, лису, зайца, рысь, лося... В. Н. Лазарев все же считает эти скульптуры пантеистическим гимном, воспевающим природу во всем ее многообразии.
Н. Н. Воронин и Ю. К. Вагнер убедительно доказали, что главная композиция на северной стене изображает самого князя Всеволода, держащего на руках младшего наследника. Остальные птенцы Большого Гнезда окружают фигуру властителя. Этому рельефу композиционно вторит сцена вознесения на небо героя древности — Александра Македонского. Библейский царь-псалмопевец Давид мастерски изображен со свитком в руке — его пророческому пению внимают звери и птицы...
Над истолкованием всего замысла загадочных рельефов ученым еще предстоит немало потрудиться.
Нежность камня
(Боголюбове и Покров на Нерли)
Так в округе твой очерк точен,
Так ты здесь для всего нужна,
Словно создана ты не зодчим,
А самой землей рождена.
Н. Коржавин
Ко всякой встрече с великим творением искусства нужно быть внутренне подготовленным. Хорошо, если предварительно успел прочесть что-нибудь о самом мастере или произведении, но не только в этом состоит подготовка внутренняя. Надо хоть на короткое время суметь как-то отрешиться от повседневных забот, настроить себя на несколько приподнятый, торжественный лад, идти на встречу с красотой, как на праздник.
Нельзя слушать концерт Чайковского и думать, например, об обмене квартиры. Едва ли следует человеку, приехавшему в Москву, «забегать», как это водится, в Третьяковку — такой «забег» не обогатит душевно. Тут уж надо выбрать несколько часов и пойти посмотреть картины (а лучше даже одну картину или работы одного мастера!) сосредоточенно, забыв обо всем другом. Иначе красота не откроется.
До недавних пор мне ни разу не случалось бывать у храма Покрова на Нерли без спешки. Не случалось и побыть наедине с этим памятником, хотя и немало воды утекло в Нерли с тех времен, когда я впервые увидел белокаменный храм на ее берегу.
Словом, как-то весной выбрал я свободный денек, доехал до Владимира автобусом и тут узнал, что до станции Боголюбово пойдет сейчас местный поезд. Состоял этот поезд из видавших виды пассажирских вагончиков, влекомых огнедышащим паровозом. Езды до Боголюбова — с десяток километров, дальние экспрессы там не останавливаются. Публика попадает сюда из Владимира обычно по шоссе, на автобусах. Но я был рад не очень быстрому средству передвижения, потому что в обрамлении вагонного окна, сразу же после индустриальных окраин Владимира, неторопливо развернулся левитановский холст: синяя кромка дальнего леса, плывущие над ней паруса облаков и темная зелень луга в холодном серебре росы, робко подсвеченном зарею.
Здесь, в Боголюбове, владимирские экскурсоводы показывают приезжим остатки некогда великолепного дворца Андрея Боголюбского. Эти остатки находятся за каменной оградой бывшего монастыря, рядом с громоздким собором и внушительной колокольней XIX века. От древнейших построек дворцового ансамбля сохранились только белокаменная лестничная башня и двухъярусный переход из башни на хоры княжеского храма. От самого храма устояла северная стена — к ней уже в XVIII столетии пристроили новую церковь.
Боголюбовская лестничная башня и переход — свидетели убийства Андрея Боголюбского. Заговорщики изранили князя в его «ложнице» и добили уже на ступеньках «вос-ходного столпа», то есть винтовой каменной лестницы. Стены лестничного перехода в прошлом столетии были покрытая росписями на тему «убиения мученика Андрея» и его похорон. Эти росписи художественного интереса не представляют, но помогают как-то живее вообразить трагедию, разыгравшуюся здесь в 1174 году.
...Высадивший нас в Боголюбове поезд сразу тронулся и вскоре замелькал между перекрестьями мостовых ферм. Там, впереди, под этим мостом течет еще невидимая от станции Нерль, а памятник — храм Покрова — главная цель странствия — стоит ниже по течению Нерли, почти у слияния ее с Клязьмой. По левую сторону путей остается монастырь с остатками боголюбовского замка — издали весь ансамбль очень внушителен и живописен. А к Покрову надо идти влажным просторным лугом, по неприметной, еще сыроватой от росы и недавнего половодья тропе.
Лозняк, кустарник, редкие деревья сначала заслоняют храм, если шагать к нему от станции напрямик. И лишь когда выйдешь из отлогой низинки к берегу клязьминской старицы, церковь Покрова на Нерли вдруг открывается вся, от подножия до золотого креста в небе.
Как белая свечечка, одна-одинешенька в зеленой зыби полей, оберегаемая только старыми вязами от недоброго взгляда, стоит эта красавица восемь столетий над тихими луговыми реками Клязьмой и Нерлью, и восемь столетий ходят сюда люди, гости ближние и дальние, чтобы на всю жизнь унести в сердце невыразимое обаяние этого места.
Здесь слезал с коня сам заказчик храма, хмурый и стремительный Андрей Боголюбский, даже не удостаивая взглядом того, кто подхватывал небрежно оброненный князем повод. Шли сюда и бедные просители, обременяя богородицу множеством житейских забот и жалоб. Идут люди и сейчас, но то уже и люди иные и заботы их не те, что прежде... В путь сюда пускаются уже не убогие просители, а хозяева земли, и не по бедности душевной, а наоборот, от душевного богатства, от полноты высоких и светлых чувств.
Еще около станции я заметил впереди, на тропе, двух молодых людей, девушку и юношу. Они не приехали с поездом, а шли, видимо, от Боголюбова. Я не делал попыток нагнать их, они были заняты друг другом.
Утреннее солнце легло розовым отблеском на белока менные стены храма, и весь он, чудесно опрозрачненный этим живым озарением, отразился в зыбкой воде речной старицы. Пролетали над Нерлью чайки-рыболовы, и тогда рядом с недвижным отражением белого камня быстро проскальзывала на воде живая тень, уже иного оттенка белизны. Да еще облака, все еще похожие на корабельные паруса, неторопливо и важно шли над лугами и рекой. Хорошо было увидеть все это именно весной, когда речные воды у Покрова на Нерли холодны и чисты, зелень еще не запылилась и ветром приносит откуда-то острый дух тополиных листьев.
Я стал фотографировать храм, снова и снова дивясь его пропорциям и тому гениальному «чувству природы», что подсказало древним строителям поставить одинокий храм именно здесь, в пустынном зеленом лоне полей, на пороге Владимирской земли, на ее рубеже. И в ту минуту я опять увидел юношу и девушку. С дальнего берега старицы они, обнявшись, глядели на озаренный солнцем храм и на плавные круги чаек над водой.
Я спросил о чем-то. Девушка подняла синие глаза на спутника, а тот нахмурился. Поняв, что нечаянно помешал важной минуте в чужой жизни, я извинился, отошел и тут же сам забыл о незнакомцах.
Передо мною находилось чудо красоты. А я ведь пришел сюда, чтобы в одиночестве слушать и постигать его таинственную речь. В чем сила его воздействия на каждого, кто бывает здесь? В чем разгадка этой красоты?
Может быть, в чудесной стройности этих алтарных полукружий — абсид? Когда стоишь под ними и взгляд скользит вверх по бесконечно нежным, исполненным девичьего изящества линиям камня, они будто оживают, будто дышат... Или, может быть, это сочетание плавного арочного портала с резным пояском аркатуры? Или это тонкие окна, четко прорезающие каждое членение стены, завершенное полукружием-закомарой? Или легкая главка, грациозно взнесенная над каменными плечами? Или резные украшения?.. Они напоминают каменные рельефы на стенах Дмитриевского собора во Владимире, и опять: фигура царя Давида, заворожившего игрой на гуслях сказочных зверей и птиц...
Нет, дело, конечно, не в деталях! Невозможно выделить из архитектуры здания какие-то особо удавшиеся «куски», объяснить очарование целого успехом частностей. Поистине «все в ней — гармония, все — диво».
И очень ясно ощущается, что зодчие посвятили свое творение божеству не мужскому, а женскому. Своим изяществом, нежностью храм Покрова заставляет вспомнить легкие здания Эллады, посвященные прекрасным богиням древности.
Сказание о богородицыном покрове перенесено на русскую почву с греческой. По этому сказанию богоматерь вошла однажды в царьградский храм, сняла с головы и плеч воздушную ткань и незримо простерла ее над головами людей.
При князе Андрее Боголюбском был установлен на Руси новый праздник покрова и воздвигнут в честь этого праздника богатый храм в устье Нерли, на владимирской границе, чтобы каждый гость видел здесь первой именно эту церковь — белокаменный символ небесной покровительницы всей русской земли и княжьего града.
Этот замысел был глубок и дальновиден. Он в религиозной форме выражал тогда идею особой роли Владимирской земли как наследницы киевской державы, то есть силы, призванной сплотить охваченную усобицами Русь. Высокому замыслу строители нашли гениальное выражение в камне.
Храм Покрова на Нерли является, по-нашему говоря, и выдающимся инженерным сооружением. Поставлен он на затопляемом участке речной поймы. Чтобы противостоять наводнениям, церковь возведена на прочном фундаменте, устроенном на искусственном земляном холме с дренажем. Верхнюю площадку холма покрывали каменные плиты с выдолбленными желобками водостоков.
Нарядная каменная галерея некогда опоясывала храм — по ней князь и свита поднимались на хоры. С галереи можно было сойти каменными ступенями вниз, к воде, где на причальных цепях покачивались корабли иноземных и иногородних гостей. Отстояв первый молебен у Покрова, гости могли следовать дальше, к Боголюбову, где князь любил задерживать бывалых путешественников-купцов и показывать им свои богатства.
...Если возвращаться к станции берегом Нерли, храм еще долго виден. Меняется освещение, и с каждой новой точки пути меняется весь очерк здания, словно оно играет тенями и светом.
И уж совсем у самой станции я неожиданно встретился вновь с моими незнакомцами. Похоже, они поджидали меня у бережка, чтобы, как говорится, смягчить неловкость.
Молодые люди оказались здешними. Он рабочий, станочник, она чертежница. Живут, как они выразились, на Оргтруде — так по названию предприятия именуется и фабричный поселок. Год назад познакомились здесь, на экскурсии, ходили тогда со всеми к этому архитектурному памятнику, а возвращались одни. Теперь женятся, свадьба — на днях, с гулянием, товарищами, подружками.
А пока вот... Опять приходили сюда, снова одни, на заре. Просто так, посмотреть. Наедине побыть с красотой.
II. Собирательница Руси
Москва деревянная и белокаменная
Тема «Москва» неисчерпаема, как море. В истории нашей столицы все волнует, все вызывает жгучий интерес. Каждый из нас связывает с Москвой мысли о будущем страны, но и в прошлом судьбы народа были неотделимы от судеб Москвы: только ей оказался по плечу великий подвиг — вновь объединить Русь из разобщенных уделов и княжеств.
Как же начиналась Москва?
Самые ранние славянские погребения, открытые в границах нынешнего города, археологи относят к VI — VII векам нашей эры. Предками москвичей были славяне-вятичи. В ближайшем соседстве с вятичами сидели и кривичи.
Широко известны два первых летописных упоминания о Москве, от которых ведется ее официальное летосчисление: 4 апреля 1147 года Юрий Долгорукий, князь суздальский, дал в Москве «обед силен» союзному черниговскому князю Святославу (отцу Игоря, воспетого в «Слове»), а в 1156 году построен был в Москве «град», то есть крепостная стена. Строил ее не сам Юрий, уже сидевший в Киеве, а сын его — Андрей Боголюбский.
Но эта московская крепость XII века была здесь, на кремлевском холме, не первой: советские археологи обнаружили в древнейшей части Кремля, на Боровицкой высоте, остатки другого оборонительного рва, который был по меньшей мере на полвека старше боголюбовского града 1156 года. Этот ров защищал, видимо, укрепленный град боярина Степана Ивановича Кучки, чьи села «красные, хорошие», по старинному преданию, были на Москве-реке, близ устья Неглинной реки, уже в начале XII столетия.
К городу-крепости примыкали посады, тянувшиеся в сторону Яузы (позднее они получили название Зарядья). Очень рано там появились ремесленные мастерские и торговые лавки.
Место для града-крепости близ впадения Яузы и Неглинки в Москву-реку было выбрано удачно. Здесь проходил торговый путь из Галича, Чернигова и Киева в Ростов, Суздаль и Владимир. Мимо Москвы ездили купцы из Новгорода в Рязань, через Москву шла дорога на восток из Смоленска. Не мудрено, что на таком людном перекрестке поселок, защищенный стенами от лихих людей, с течением времени превратился в настоящий средневековый город.
Московские укрепления 1156 года состояли, как и по всей Суздальской земле, из глубокого рва и вала с рубленой стеной по гребню. Когда копали ров, землю отвозили и относили поодаль, чтобы между валом и рвом оставалось свободное пространство и земля не оползала в ров.
Высота вала была внушительной — с нынешний пятиэтажный дом. Срубы, или так называемые тарасы для стены, рубили из еловых и сосновых бревен, пустоты засыпали землей и камнем. Поверху ставили заборола — щиты из толстых тесин или бревен, с бойницами. Позднее, перейдя в каменную архитектуру, заборола превратились в зубцы, форма их стала сложной, похожей на ласточкин хвост.
В 1238 году, спалив дотла Рязань, подошли к Москве Батыевы рати. Москвичи бились ожесточенно, но Батыю удалось поджечь крепостные стены, хотя строители густо мазали их глиной, а потом белили, придавая дереву некоторую огнестойкость. Конечно, устоять против Батыевых воинов Москва тогда не могла. Овладев городом, татары «град и церкви святые огневи предаша... монастыри вси и села пожгоша... люди избиша от старьца до сущего младенца».
После нашествия москвичи быстро восстановили свой город: ведь здесь — в окраинных лесах Владимирской земли — оседали тысячи и тысячи беженцев из южных княжеств. Вскоре даже говор Москвы изменился — стал по-южному акающим.
Александр Невский отдал Москву в удел своему сыну Даниле; тот с 1261 года стал первым московским владетельным князем. И сам он и его сыновья, внуки Невского, Юрий Данилович и Иван Данилович, расширяли владения Москвы, присоединили к ней Переславль-Залесский, Коломну и Можайск, стали соперничать с богатой Тверью.
Это соперничество выиграл Иван Данилович, получивший прозвище Калита (кошель, денежный мешок) за бережливость, умелое, рачительное хозяйствование и важные успехи в «собирании Руси» вокруг Москвы. Иван Данилович первым стал именовать себя «великим князем московским и всея Руси» и сумел убедить владимирского митрополита Петра перенести престол в Москву. Это имело огромное значение для поднятия ее авторитета.
В годы княжения Ивана Калиты (1325 — 1341) начали строить первые каменные храмы Москвы — Успенский и Архангельский соборы, церковь Спаса на Бору (на месте первой деревянной). Выстроили и новые стены, правда, еще не каменные, а деревянные, рубленные из подмосковных дубов.
Какими были тогда подмосковные леса, характеризует случай, описанный в «Истории России» С. М. Соловьевым: один крестьянин, промышлявший бортничеством, спустился в сосновое дупло и по самое горло увяз в пчелином меду. Двое суток он тщетно ожидал помощи, питаясь одним медом, и, наконец, выведен был из этого отчаянного положения... медведем, который полез за медом, но спускался в дупло задними лапами. Крестьянин ухватил медведя за лапы, заорал, напуганный зверь ринулся из дупла, вытащив и находчивого мужика.
Из таких-то сосен были срублены прежние кремлевские укрепления. Калита заменил их еще более прочными — дубовыми. Как раз в годы правления Калиты московская крепость получила название, ставшее для нас таким привычным — Кремль. Происходит оно, по-видимому, от греческого «кримнос», что соответствует народному русскому «крутица», то есть крутой холм, гора, возвышенность. В просторечии же крепость называли просто городом. Когда возник второй пояс московских укреплений, Китай-город (XVI век), Кремль стали называть Старым городом, а Китай-город — Новым.
В 1365 году, уже при внуке Калиты, Димитрии Донском, случился страшный пожар: «погоре посад весь и Кремль и Заречье». Два года спустя москвичи начали класть первые каменные стены Кремля. Белый камень возили крестьяне санной дорогой с Мячковского месторождения у Москвы-реки. С тех пор народ и стал величать стольный град белокаменным. Но ждали Москву новые испытания.
Татарский темник (воевода) Мамай, правитель почти всей Золотой орды, понимал, что усиление Москвы не сулит ханам ничего доброго. Посланный Мамаем крупный отряд мурзы Бегича, который должен был «застращать» москвичей, был встречен на притоке Оки, реке Воже, ратью князя Димитрия Ивановича и разгромлен. Было это в 1378 году.
В ответ Мамай поклялся стереть с земли непокорные города русских, а от Москвы не оставить ни следа, ни даже памяти. Два года он готовился к великой схватке, заключив договоры против Москвы с Литвой и Олегом Рязанским. Грандиозное предприятие Мамая летописец сравнивает с Батыевым нашествием. Великая опасность грозила всем русским землям: Мамаева рать насчитывала тысяч полтораста клинков и копий.
Но Русь была уже не так разобщена, как при Батые. На сборный пункт русских ратников в Коломне шли под знамена Москвы люди всех княжеств, даже тех, чьи князья сами не отваживались выступить против татар. Кроме того, и союзники Мамая — литовский князь Ягайло и Олег Рязанский — не выполнили своих обещаний, не присоединились к татарскому войску, заранее перекочевавшему к устью реки Воронеж. Решающая встреча татарских и русских сил произошла на берегу речки Непрядвы (правый приток Дона), на местности, носившей название «Куликово поле». Помните, у Блока:
Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла
И, словно облаком суровым,
Грядущий день заволокла...
Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!..
Победный гром Куликовской битвы 1380 года, величайшего сражения в истории средневековой Европы, эхом прокатился по всей Руси. Люди поверили в свои силы, поняли, что окончательное избавление от ханского ига уже не за горами.
Но и ханы не собирались уступать власть бескровно. Преемник Мамая, бежавшего с отрядом в Кафу (позднее — Феодосия) и там убитого генуэзцами, хан Тохтамыш, решил внезапным ударом покончить с Москвой и в 1382 году подошел к ней «изгоном» (то есть быстро и тайно).
Димитрий Донской при известии о походе Тохтамыша ушел на север набрать войско для московского гарнизона, поредевшего после Куликовской битвы. Но и в отсутствие Димитрия Тохтамыш не смог взять Москву приступом и прибег к хитрости. Ему удалось обмануть осажденных лживыми посулами: москвичи сами открыли ворота крепости. За свою доверчивость они поплатились жестоко — в один час Москва была сожжена дотла, жители истреблены.
Уже через одиннадцать лет после Тохтамыща Москва отстроилась, вновь возникли в ней и терема, и храмы, и посады. От той поры и дошел до нашего времени старейший каменный ветеран столицы — кремлевская церковь Рождества богородицы. Церковь эту повелела строить великая княгиня Евдокия, вдова Димитрия Донского (он умер в 1389 году), в честь Куликовской победы, одержанной в день праздника Рождества богородицы, 8 сентября 1380 года.
Воздвигнутая в 1393 — 1394 годах, кремлевская церковь Рождества богородицы была впоследствии надстроена, но нижняя часть храма — подклет — сохранилась доныне в первоначальных формах. По этому подклету мы можем судить о том, как высоко стояла и в XIV веке, в труднейшие для страны времена, русская строительная культура.
Здание сложено из белого тесаного камня в традициях владимиро-суздальского зодчества, но уже с новыми, московскими чертами. Вместе с тем есть в композиции храма и сходство с новгородско-псковской архитектурой. Сложная система сводов, внушительные опорные столбы круглой формы, лестницы в стенах, гулкий сумрак... Кажется, что за этими мощными стенами плещет Волхов или река Пскова.
Особенно красив западный перспективный портал с килевидной — уже московской! — аркой. Этот замечательный памятник древнерусского зодчества был в XIX веке включен в ансамбль Большого Кремлевского дворца, с западной стороны теремов. Поэтому он доступен лишь для экскурсантов, осматривающих Большой дворец и терема изнутри.
В тот самый 1408 год, когда москвич Андрей Рублев расписывал во Владимире Успенский собор, Москву неожиданно осадил золотоордынский хан Едигей (убивший Тохтамыша и впоследствии сам погибший от руки его сыновей). Обложив Кремль, Едигей одновременно разослал отряды и против соседних городов, сжег Переславль-Залесский, Ростов Великий, Дмитров, Верею, Серпухов, Нижний Новгород, Клин, подмосковные села. Но Московский Кремль остался неприступен. За выкуп Едигей снял осаду и увел рать в орду, спалив по дороге Рязань.
По данным летописцев и раскопок, в Москве и ее окрестностях с середины XIV века и до двадцатых годов XV века было возведено пятнадцать монументальных каменных зданий и сооружены белокаменные стены Кремля с башнями.
Одним из самых интересных памятников архитектуры той поры является главный собор Андроникова монастыря над Яузой-рекой. Это замечательное здание 1420 — 1427 годов было недавно капитально реставрировано. Освобожденный от лесов Спас-Андрониковский собор буквально поразил знатоков московского зодчества, так неожиданно предстало перед ними прекрасное здание, столько лет простоявшее в искаженном виде.
Собор Андроникова монастыря интересен как проявление в архитектуре Руси начала XV века новых художественных тенденций, рожденных новыми общественными идеями. У храма необычная центрическая композиция с величавым нарастанием масс и объемов к единственной главе на стройном, высоком барабане.
Ритмическое движение каменных масс начинается от пониженных угловых абсид, передается высокой средней абсиде, переходит ко второму ярусу закомар и кокошников, красиво обрамляющих основание барабана. Невольно возникают ассоциации с памятниками древнерусского зодчества XII века: смоленским храмом Михаила Архангела и черниговским храмом Пятницы на Торгу.
И становится ясным, что передовые идеи московской архитектуры XV века были предвосхищены работами далеких предшественников, и лишь обрушившееся на Русь бедствие — татарское иго — надолго задержало, а местами и просто прекратило развитие этих высоких архитектурных идей и строительных приемов.
Название Андроников, или Андроньев, монастырь получил в честь своего основателя Андроника — ученика и соратника Сергия Радонежского, сыгравшего большую роль в сплочении русских земель вокруг Москвы. Спасский собор Андроникова монастыря был расписан изнутри самим Андреем Рублевым, но по непростительному невежеству при безвкусной перестройке собора в XIX веке тогдашние «реставраторы» соскребли со стен и рублевские фрески! Советские ученые обнаружили лишь следы этой драгоценной росписи. Сейчас в зданиях бывшего монастыря помещается музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева.
Тут же, близ собора, находится и место его погребения. В те времена Андроников монастырь считался загородным, служил немаловажным укреплением в устье Яузы-реки на подступах к Московскому Кремлю.
А сам Кремль Московский утвердился окончательно в нынешних своих границах лишь в XV веке, при Иване III. К началу его правления белокаменные стены, сложенные еще при Димитрии Донском, совсем обветшали, выдержав столько осад и пожаров. К тому же 1 октября 1445 года Москву постигло и вовсе редкое здесь природное бедствие — землетрясение.
Иван III решил окружить Кремль новыми стенами — «града прибавиши», то есть расширив границы Кремля. Государю всея Руси, как теперь именовал себя московский князь, уже не подобало жить в небогатом, поставленном на военную ногу городке, уступавшем по красоте и Новгороду, и Пскову, и Владимиру, и Ярославлю, и Твери. Всегда готовая к битвам, Москва мало походила на столицу великого княжества.
Между тем именно при Иване III, в 1480 году, Москва свергла татаро-монгольское иго, а до того одержала победы в войнах с Литвой. Враги Руси ясно увидели крушение всех планов раздробить и одолеть ее. Об этом недвусмысленно писал своему магистру кенигсбергский командор Тевтонского ордена: «Старый государь русский... управляет один всеми землями, а сыновей своих не допускает до правления, не дает им уделов; это для магистра ливонского и ордена очень вредно: они не могут устоять пред такою силою, сосредоточенною в одних руках».
Этой-то государственной силе Руси, «сосредоточенной в одних руках», и нужно было создать достойный внешний ореол.
В 1472 году в Москву прибыла из Рима с огромной свитой невеста Ивана III, греческая царевна София Палеолог, племянница императора Константина, павшего в 1453 году на стенах Константинополя при захвате его турками. Брат императора Фома Палеолог с сыновьями и дочерью Софией нашел прибежище в Риме и дал согласие на брак дочери с московским царем. Этот брак знаменовал, что Москва становится преемницей духовных заветов Византии.
«Москва — третий Рим, а четвертому не быти», — гордо провозгласила русская церковь. Византийский герб — коронованный двуглавый орел, символизирующий владычество над Западом и Востоком, — стал государственным гербом московского царства.
Лучшие русские мастера — владимирцы, суздальцы, псковичи и ростовцы — вызваны были в Москву, украшать ее новыми зданиями. Но в те далекие годы самой прославленной страной зодчих была Италия, и в зените славы находился болонский архитектор Родольфо Фиоравенти, прозванный Аристотелем (в честь одного из величайших умов древней Эллады) за свои многосторонние знания и строительное мастерство.
Приглашенный русским послом в Венеции Семеном Толбузиным, он приехал в Москву в 1475 году, уже лет шестидесяти от роду. Примерно в ту же пору прибыли к нам другие итальянские зодчие — Антон Фрязин, Марко Руффо, Пьетро Антонио Солари, Алевиз Новый. Перед этими зодчими и их русскими товарищами стала задача — используя итальянские конструктивные приемы, новейшую технику и средства архитектурной обработки фасадов, создать стольный град великого князя в русском народном духе. Третий Рим должен был выглядеть именно русским Римом!
Мы, далекие потомки, можем теперь беспристрастно судить о том, как была решена эта великая задача.
В Московском Кремле грандиозность замысла соединилась с удивительной задушевностью и поэтичностью. Можно только поражаться, что каменная твердыня-крепость, способная противостоять любым тогдашним наступательным средствам, приобрела вид не только не угрожающий и мрачный, а напротив — светлый, торжественный, влекущий к себе, как сказочные грады древних легенд и песен.
Именно тогда, на рубеже XV и XVI веков, созданы были важнейшие архитектурные памятники Кремля, а затем он постепенно дополнялся новыми зданиями, боевыми устройствами, инженерными сооружениями.
Как выглядела наша столица в ту далекую пору — мы с вами увидим воочию, совершив в следующей главе экскурсию в XVI век.
Если бы ожила картина Васнецова...
Я на памятники, как на живых людей, смотрел — расспрашивал их: «Вы видели, вы слышали — вы свидетели?»
В. Суриков
В одной старинной сказке оживает перед мальчиком картина, много лет висевшая в детской: поскакали рыцарские кони, затрубили нарисованные герольды... Мальчик прыгает через раму и бросается в гущу событий, изображенных на полотне.
Известный художник, историк и археолог Аполлинарий Михайлович Васнецов оставил русским музеям множество картин и рисунков, воссоздающих прошлое Москвы так, будто сам он побывал на улицах древней столицы и зарисовал их с натуры.
Есть у Васнецова картина «В Московском Кремле в начале XVI века». И право же, требуется не так-то много усилий воображения, чтобы «перепрыгнуть через раму» и смешаться с москвичами, занятыми своим делом на соборной площади Кремля. Разумеется, наши пиджаки, брюки и ботинки должны быть волшебным образом превращены в одежду, скажем, торговых гостей или приказных подьячих. В длиннополом охабне поверх кафтана мы, может быть, почувствуем себя не слишком ловко, но зато никто не обратит на нас особенного внимания и не примет за «немцев». Сапоги из мягкого сафьяна очень удобны, а шапочка с коническим верхом сделает наш рост повиднее...
Словом, если мы еще и бородку отпустим заблаговременно, отрастим волосы по плечи и не забудем подкручивать усы, то можем смело шагать к землякам XVI века.
Но вот спутницам нашим было бы труднее следовать за нами!
Встречные москвичи и глазом не поведут в сторону древней старухи богомолки с клюкой, но появление на улице в неурочный час боярышни или иной, даже победнее, девицы-красавицы вызовет сразу недоумение и неодобрение. Боярышне или дочке купеческой — место в тереме, сенной девушке — в сенях или в людской. Показаться на людях — зазорно! Выход на улицу небогатой девушке один: до церкви и обратно, а богатой и того нельзя — в отцовском доме есть своя часовня или молельня.
Только на праздниках может боярышня побегать на лужке, поиграть в горелки, покачаться на качелях, песню спеть в хороводе, но и то под неусыпным надзором мамушек и нянюшек...
Итак, девушки-читательницы, участницы нашей экскурсии, придется вам следить за событиями на древней площади из-за теремной решетки, сквозь слюду окошечка. И наверное, скоро запроситесь вы в свой привольный XX век!
...Художник привел нас к строящемуся Архангельскому собору в тот момент, когда сюда направляется со свитой князь Василий III, сын Ивана III и Софьи Палеолог. Даже издали хорошо видна золотистая парча княжеского охабня и частые парные ряды пуговиц — от горла до колен. Княжеская шапка расшита яхонтами и жемчугами.
Впереди боярин с пергаментом в руках, по-нашему, начальник стройки: он обязан без промедления докладывать князю о всех неполадках с артельщиками и поставщиками. Как тогда говорили, он «построением храма ведать наряжен».
Объяснения дает черноволосый итальянец в добротной русской одежде, строитель собора — Алевиз Новый. Нанял миланского архитектора еще Иван III лет пятнадцать назад, и за эти годы миланец полюбил нашу страну, с уважением изучая ее строительный опыт и народную архитектуру. Судьба его вскоре трагически оборвалась — он погиб в Москве от порохового взрыва.
По дощатым настилам князь шествует вокруг храма. Он еще в лесах — значит, Кремль на васнецовской картине можно датировать довольно точно: мы попали в 1508 год, потому что в следующем году Архангельский собор был уже освящен митрополитом Симеоном. Сам он, кстати, тоже нынче на площади и хмурится, глядя на этот новый собор. Диво, как строен, из кирпича стены, из белого камня резные украшения... а все-таки есть в этом здании что-то от лукавого. Слишком оно светское, не божественное, не церковное! Глаз не оторвешь от резных белокаменных раковин — зодчий латинец решил закрыть ими все закомарные дуги... Но такого еще не видано было на Руси, прежде никто так не украшал фасадов! Вот как раз поднимают на строительные леса с помощью лебедки одну из пятнадцати этих раковин... Сейчас наладят ее мастера-бе-локаменщики...
Покамест не возвысились соборные главы с куполами, не верится даже, что строится здесь православный храм, а не дворец венецианского герцога или флорентийского вельможи. В чем же дело-то? Ведь как будто все требования заказчиков соблюдены в строгости. Основной тип храма все тот же — древнерусский, крестово-купольный, с тремя алтарными абсидами. И будет строгое пятиглавие, только, правда, чуть сдвинутое к восточной стороне.
Новшество именно в обработке фасадов — оно-то и пришло из итальянской классики: резные раковины в дугах закомар, а вместо среднего аркатурного пояса — широкий карниз. Под ним видны прорезанные окнами арки — кажется, будто карниз покоится на них. На самом же деле это чистая декорация: арки ничего не несут, а лишь украшают фасад. Второй карниз протянут над окнами второго света, он как бы отсекает раковины-закомары от стены. Все эти приемы и придают зданию нарядный, светский вид.
Потому и хмурится митрополит: дескать, зря тут князь Василий красотами увлекся! Ведь главное назначение собора — траурное, служить он будет великокняжеской усыпальницей. Каменные саркофаги, числом до двадцати, уже помещены в недостроенном соборе.
Позднее, как нам известно, Архангельский собор примет под свои своды гробы всех русских царей, до Петра...
Что ж, используем редкую возможность погостить в XVI веке, поднимемся на леса, опоясавшие новый собор. Вот он, тогдашний Московский Кремль и уходящие за горизонт дали!
Внизу, под нами — Соборная площадь. Слева — домовая церковь великих князей, Благовещенский собор, созданный псковичами в 1484 — 1489 годах, тоже на месте более древнего храма.
Благовещенский собор очень легок, наряден и гармоничен, хотя сочетает в себе черты различных архитектурных школ. Здание как раз тем-то и примечательно, что в нем слились самые типичные приемы древнерусских зодчих — псковичей, владимирцев, москвичей. А собор — цельный, чисто русский, близкий к нарядной деревянной архитектуре. Особенно хороши затейливые ряды кокошников, создающие здесь, как и в деревянных теремах, переход от стен к башенкам, в этом случае — к барабанам глав. Правда, в те далекие годы мы увидели бы собор лишь с тремя главами: шесть дополнительных увенчали его уже во второй половине XVI века.
Совсем непривычными для нас выглядят два центральных дворцовых сооружения между Благовещенским и Успенским соборами. Это Золотая палата с высоким подклетом и тремя лестницами, ведущими на открытую верхнюю площадку, и Великая палата, прозванная потом Грановитой.
Обе палаты служили для дворцовых приемов: Золотая — для малых собраний и заседаний боярской думы, Грановитая — для самых торжественных церемониальных приемов. Послов-иноземцев Грановитая палата поражала пышностью и богатством. Архитектура этого здания, построенного двумя фрязинами — Марко Руффо и Пьетро Антонио Солари — в конце XV века, напоминает уже знакомую нам новгородскую Владычную палату, а наружная облицовка граненым камнем дала Великой палате ее второе, сохранившееся за ней название — Грановитая.
И вот, наконец, главный храм Москвы — великолепный Успенский собор, выстроенный под наблюдением Аристотеля Фиоравенти всего за четыре года (1475 — 1479). Дошел он до нас без существенных изменений — в этом мы можем убедиться и на нашей экскурсии! Но его история была сложной: Москве, как говорится, далеко не сразу удался ее главный храм.
В те времена не дворцы, не стены с башнями, не дома именитых горожан, а именно соборный храм считался важнейшим украшением города, как бы его символом. Столица Руси не могла обходиться без такого здания, нужного для всех торжественных случаев государственной жизни. Еще Иван Калита возвел в Московском Кремле первый Успенский собор, со временем настолько обветшавший от войн и пожаров, что к началу царствования Ивана III надо было бревнами подпирать стены, чтобы они не обрушились.
В 1472 году митрополит Филипп решил строить новый храм на месте прежнего. Был объявлен большой денежный сбор, и, когда серебро, собранное с прихожан всех русских церквей и монастырей, привезли в Москву, старый храм разобрали до фундаментов и начали на том же месте постройку нового Успенского собора.
Строительство поручили двум москвичам, Кривцову и Мышкину. Вероятно, это были добросовестные и сведущие люди, и можно лишь гадать, почему их постигла неудача: доведенное до сводов здание собора рухнуло.
Призванные на совет мастера-псковичи осмотрели развалины, похвалили гладкость каменной тески, но нашли, что скрепляющий раствор был «неклеевит и жидок», булыжник, использованный как заполнитель, не мог схватиться с известью и раздал изнутри белокаменную кладку стен.
Сам Иван III, уже на средства своей казны, решил тогда продолжать постройку Успенского собора. По указанию князя болонец Аристотель Фиоравенти отправился во Владимир, изучил и обмерил тамошний Успенский собор, пришел в восторг от него, расчистил московскую строительную площадку от обломков и начал дело заново.
Через четыре года великий князь Иван III вошел под соборные своды, озаренные тысячами свечей, и воскликнул в восхищении:
— Вижу небо!
Окончание постройки собора отпраздновала вся столица, отметили летописцы, запомнили гости Москвы. Пир на княжеском дворе длился целую неделю...
Разумеется, Москве не пристало бы слепо копировать владимирский собор. Иван III к этому и не стремился — он указал строителю лишь образец для изучения. Мы теперь имеем возможность сравнить оба здания.
Сходство, разумеется, есть. Главный материал — белый камень, в основе плана тот же крестово-купольный тип, одинаковы принципы членения фасадов по вертикали, тот же ритм закомарных дуг. Оба храма — пятиглавые, у обоих — аркатурные пояса и перспективные порталы.
Но и различия бросаются в глаза. Во владимирском храме — три алтарные абсиды, в московском их пять, притом с ионическими пилястрами. Совершенно несходен рисунок глав и барабанов, но главное различие внутри.
Мы помним мрачноватый, расчлененный внутри владимирский собор с его хорами и галереями. А здесь, в ликующем, светлом, просторном храме, входящий действительно будто «видит небо»: московский собор устроен «по-палатному», без хоров, в виде одной огромной залы. Летописца особенно восхитили круглые опорные столбы, ему представилось, что верх храма «утвержден акы на четырех древах».
В этом соборе впоследствии короновались цари, он служил усыпальницей митрополитов и патриархов, стал архитектурным образцом для многих соборов на Руси.
...Город же за пределами кремлевских стен с высоты кажется нам фантастической сказкой. Только очертания кремлевского холма, петли Москвы-реки и устья ее притоков — Неглинной и Яузы — помогают нам несколько сориентироваться. Какая теснота застройки! Бревенчатые дома так близко лепятся друг к дружке, что остается маловато места для зелени.
Деревянное море! Даже мостовые и те бревенчатые! Неужели это и впрямь наша Москва?
Вот журавли над колодцами и даже над Москвою-рекою. Так поднимают воду для кухонь и, главное, для бань. Их множество — видимо, москвичи очень любили попариться. И чтобы тепло лучше сохранялось, над банями не делали покатых кровель, а устраивали дерново-земляные перекрытия по жердяному или бревенчатому накату.
В концах улиц, ведущих к Кремлю, видны решетки и ворота из крепких бревен. На ночь решетки запирались. Это делали особые сторожа, чтобы не набежал — в случае пожара — лихой народ, не разграбил имущества погорельцев.
За нынешней площадью Дзержинского начиналось Куч-ково поле, тянувшееся дальше по Сретенке, — здесь шла торговля бревенчатыми срубами домов. К услугам вчерашних погорельцев были тут и разборные дома целиком и части домов. Как видите, стандартное строительство было в ходу уже в тогдашней Москве!
Мосты, мосточки, переходы через ручьи и речки — горбатые, пологие, крутые, длинные, короткие, с перилами и совсем открытые по сторонам. Мостов так много, что даже само название города — Москва — пытались истолковать от слова «мост» — дескать, мостковая столица.
Около больших мостов кипела большая торговля. А по ночам из-под тех же мостов вылезали тати и воры с ножами и кистенями... И утром всплывали на речках и прудах тела утопленных и зарезанных. «Божедомы» — обитатели богаделен и приютов — подбирали убитых и выносили на перекрестки — там родственники могли опознать тело...
На запруженной Неглинной реке, на Яузе и Черногряз-ке видны издали мукомольные и пороховые водяные мельницы, а чуть подальше, в Кудрине, машут крыльями ветряные. Дальние концы города — слободы ремесленников: котельников, гончаров, кожевников, сыромятников, кузнецов. Слава этих московских ремесленников, в особенности кожевников и ювелиров, гремела по всему миру, их изделия ценились очень дорого.
Западная часть посада, то есть огромное пространство от Кремля до Ваганькова и в петле Москвы-реки, до Новодевичьего монастыря, все улицы от Боровицких и Троицких ворот до села Кудрина — все это принадлежало царю и было занято царской обслугой. Впоследствии именно эту часть Москвы Иван Грозный передал в опричнину.
На речном берегу (у нынешнего Крымского моста) находилось Остожье, сенокосные луга и выгоны для дворцовых лошадей. Отсюда прежнее название улицы — Остоженка. В этом конце всегда пахло сеном — его заготовляли впрок тысячами пудов на Остоженном дворе. По улице Арбат (от слова «арба», что значит «повозка») жили татарские купцы, а в Замоскворечье имелась целая слобода переводчиков — толмачей. Около Каменного моста был Колымажный двор, где чинили экипажи, а в особой слободе близ Арбата содержался Конюшенный двор для запасных коней царского выезда.
У Дорогомилова перевоза на берегу располагался Дровяной двор — там припасали к зиме дрова. Поэтому тамошняя церковь называлась Никола на Щепах. Близ села Новинского стояла слобода кречетников, сокольничьих и других мастеров царской охоты, а поддержанные плотинами пресненские водоемы (от них до наших дней сохранились лишь небольшие пруды зоопарка) издавна служили садками для рыбы к царскому столу.
За прудами, дальше на запад, неподалеку от нынешнего Ваганьковского кладбища, находился Потешный пса-ренный двор, перенесенный сюда из Старого Ваганькова (оно соседствовало с Кремлем, у Боровицких ворот).
Поварская улица с переулками Столовым, Хлебным, Скатертным населена была мастерами дворцовой кулинарии. Хозяйство древнего Кремля было огромным: пекарни для черного хлеба, особые хлебни для калачей и сладких мучных изделий; «естовые поварни», то есть кухни царские, людские, боярские; сытные избы, где варили пиво, кислые щи, сбитень, сытили мед и курили вино для царского обихода. В клетях и подклетях, в погребах и ледниках заготовляли капусту, огурцы, яблоки, сливы, разные варенья и соленья. В «сушилах» висели копченые окорока, мясо, всякая рыба, заготовленная на зиму. Все это привозили к Боровицким воротам тысячи и тысячи крестьянских подвод — в виде оброка, тягла, податей...
Богатая Кадашевская слобода — против Кремля, за Москвою-рекою — занята была хамовным делом: там изготовляли и шили скатерти, белье, полотна — словом, «белую казну» для дворцов. Тем же ремеслом на вольную продажу занимались в Хамовниках. Огромный штат швей, портних, искусных мастериц-вышивальщиц, составлявших прислугу царицы, обитал в домах по Никитской улице и в слободе Кисловке.
А против Кремля и Китай-города, за рекой, на участке между Каменным мостом (тогда — бродом) и бревенчатым Москворецким, вдоль старицы Москвы-реки (по ней потом прошел Водоотводный канал) еще Иван III приказал устроить Государев сад. Он был великолепен и требовал такого множества умелых рук, что из поселений царских садовников возникли две слободы: Нижние и Верхние Садовники.
Живописное Воронцово поле с летним теремом и красивое загородное село Воробьево, что далеко виднелось на возвышенном правобережье Москвы-реки (теперешние Ленинские горы, прежде их называли Воробьевыми), служили в те времена княжескими летними дачами.
Всеми этими богатыми угодьями и самим населением — государственными крестьянами, мастеровым людом, большей и лучшей частью Москвы и окрестностей, всеми торговыми путями в государстве, всем государственным доходом самолично распоряжался, через своих приказных, великий князь московский, самодержец, царь. Кровь и пот «мизинных» (так их называла летопись) людей, смердов и холопов переливались в золото для царского двора. На это народное золото был укреплен, обстроен и украшен Московский Кремль — «маковица Руси», резиденция великокняжеская и царская, но вместе с тем и средоточие самого ценного и прекрасного, что создали вековым трудом своим безыменные народные таланты, мудрые мастера искусств и художественных ремесел.
Каждый камень здесь — заветное предание поколений, и у каждого кремлевского памятника всегда хочется постоять подольше, как бы прислушиваясь к немому повествованию обо всем, чему были эти камни свидетелями в долгих и трудных веках России.
Дерзость, устремленная в небо
Знаменитый храм над крутым обрывом Москвы-реки, так называемый Коломенский столп, высоко поднят над темно-зеленой речной поймой и даже издали с первого взгляда удивляет смелостью архитектурного замысла. Ленинградский поэт Вадим Шефнер посвятил ему строки:
Он рвется ввысь, торжественен и строен,
Певучей силой камень одарен, —
Для бога он иль не для бога строен,
Но человеком был воздвигнут он.
И нет в нем лицемерного смиренья, —
Безвестный зодчий, дерзостен и смел,
Сам стал творцом — и окрылил каменья,
И гордость в них свою запечатлел...
Но, может быть, поэт пристрастен? Послушаем, что говорили о церкви Вознесения люди, приезжавшие в Москву издалека.
«...Ничто меня так не поразило, как памятник древнерусского зодчества в селе Коломенском. Многое я видел, многим любовался, многое поражало меня, но время, древнее время в России, которое оставило свой памятник в этом селе, было для меня чудом из чудес. Я видел Страсбургский собор, который строился веками, я стоял вблизи Миланского собора, но, кроме налепленных украшений, я ничего не нашел. А тут передо мной предстала красота целого. Во мне все дрогнуло. Это была таинственная тишина. Гармония красоты законченных форм... Я видел какой-то новый вид архитектуры. Я видел стремление ввысь, и я долго стоял ошеломленный».
Такие слова не простая любезность гостя, они свидетельствуют о глубоком душевном переживании. Высказал эти мысли французский композитор Берлиоз. В 1863 году, во время московской гастроли, он посетил Коломенское.
...Осенью 1936 года выезжал я в качестве спецкора ТАСС навстречу туркменским рыбакам-колхозникам. Они совершали необычный поход из Каспийского моря в Москву на легких лодочках — таймунах. Октябрьским вечером таймуны достигли высоких обрывов у села Коломенского, и я повел рыбаков наверх показать им с галереи-гульбища Коломенского храма вечернюю панораму Москвы, разлив электрического света вдали, ширь заречных полей, красоту памятников русской старины и богатырскую мощь четырехсотлетних дубов коломенского парка.
И вот, спустя три недели, которые были наполнены для наших гостей самыми разнообразными столичными впечатлениями, включая награждение орденами за успешный поход, прием в Кремле, я спросил у одного из рыбаков, что ему больше всего понравилось и запомнилось в Москве. Гость совсем плохо знал русский язык и отвечал мне примерно так:
— Хорош Москва! Кремль хорош. И хорош Коломо-кишлак. Помнишь, ты нам показывал, где твой мечеть высоко над рекой и большой старый дуб, да? Сильно хорошо это. Богаче есть, красивее нету!
Как я жалел, что этих слов туркменского рыбака не мог услышать Аполлинарий Михайлович Васнецов, умерший за несколько лет до того (7 марта 1933 года). Он очень любил Коломенское, не раз подолгу живал там в летние месяцы. Комнатой для работы служила ему одна из небольших верхних надвратных палат под шатровой башен-кой-часозвоней. И все те, кому случалось беседовать здесь с Аполлинарием Михайловичем, бродить с ним среди дубов и пихт коломенского сада, не забудут его немногословных, внешне суховатых, но полных внутреннего сдержанного волнения рассказов о народных умельцах древней Руси, о старой Москве, о селе Коломенском.
И сегодня поездка в Коломенское оставляет глубокий след в памяти. Ездить туда интересно в любую пору, и трудно решить, какое время года более «к лицу» памятникам Коломенского. Пожалуй, все-таки весна, потому что зацветают тогда окрестные вишневые сады, покрываются нежной прозеленью заречные луга, веселее журчит ручей в глубоком Голосовском овраге, а на реке после зимнего безмолвия снова перекликаются пассажирские теплоходы и буксирные катера.
Но и зимой Коломенское прекрасно. Поразившая Берлиоза таинственная тишина окружает памятники, древние дубы, темно-зеленые пихты. Пихт некогда было здесь много, они подступали к самому храму Вознесения, соперничая с ним в стройности. Юные лыжники, как и века назад, лихо слетают с крутых горных склонов, подпрыгивая на естественных трамплинах. И уж вовсе нипочем наша московская зима деревянной башне Братского острога, в 1959 году перекочевавшей в Коломенское с берегов Ангары.
От старинного острога, срубленного казаками в XVII веке, уцелели до наших дней две башни. Одну перенесли с затопляемого участка ближе к плотине Братской ГЭС: говорят, памятник старины кажется особенно выразительным рядом с грандиозным творением современной техники. А другая башня отныне установлена в Коломенском парке, в соседстве с подлинным домом Петра Первого, привезенным из-под Архангельска, и монастырской воротной башней Николо-Карельского монастыря, с «летнего» (то есть южного) берега Белого моря, из-под нынешнего города Северодвинска.
В Коломенское, родовую великокняжескую вотчину, вела в XVI веке дорога от Тайницких ворот Кремля через Москворецкий мост, который сначала был наплавным: связанные друг с другом бревна просто лежали, плавали на воде, как понтоны. Далее дорога шла заречным посадом мимо Кадашевской и Стрелецкой слобод (по теперешней Пятницкой улице) и в районе нынешней Добрынинской площади пересекала вал Земляного города. Вал назывался Коровьим, по здешнему Скотному рынку. Земляной город, или «Скородом», был хорошо укреплен: по гребню вала шли бревенчатые стены, высились сторожевые башни. Создана эта крепость по воле Бориса Годунова.
Именно по этой дороге на Коломенское царь Алексей Михайлович некогда велел установить верстовые столбы, очень заметные и высокие, расставленные к тому же весьма далеко друг от друга. Верно, царю хотелось, чтобы верст до Коломенского намерили поменьше, чтобы путь казался покороче! Значит, старинное выражение «коломенская верста», означающее и очень высокого человека и очень длинную «версту», родилось именно здесь лет триста назад.
По преданию, село основано в XIII веке беженцами из Коломны, сожженной Батыем дотла.
Музейная табличка на каменных воротах... Две арки... Входим!
Нас встречают старые липы. Аллея указывает путь по заповеднику, ведет мимо очень красивой синеглавой церкви Казанской богоматери. Здание воздвигнуто в XVII веке как домовый храм первых царей романовской династии, Михаила и Алексея. Архитектура здесь чисто «местная» — суздальская и московская. Очень красив рисунок пяти глав, тесно поставленных над верхним четвериком. Наклонная лестничная галерея связывает храм с колокольней, и арочные дуги высокого подклета как бы аккомпанируют плавным волнам закомарных дуг.
Восьмигранный шатер колокольни с оконцами-слухами, пояса ширинок, треугольные фронтоны наличников — вся эта сдержанная и спокойная архитектурная обработка, характерная для Москвы начала XVII века, создает Казанской церкви облик праздничный и торжественный. Такой храм мог бы прославить не только село, но и любой крупный город, не возникни это здание здесь, в Коломенском, по соседству с двумя неповторимыми шедеврами русского зодчества. Увы! Красивой Казанской церкви суждено, по-видимому, вечно оставаться в их тени.
Подходим ко вторым, так называемым Передним воротам с шатровой башенкой-часозвоней. И уже сквозь арку этих ворот, пока вы минуете их, становится виден силуэт Коломенского столпа. Перед вами
Как дым костра в безветрии, как пламя,
Как песня, храм струится в высоту...
Первое, что вы сразу почувствуете, — дерзновенность замысла. Да, здесь нет смирения! Здесь крылатый порыв ввысь, но не прочь от земли, а дерзкое стремление воспеть ее, поднять, превознести до небес прекрасную нашу землю, раскинувшуюся вокруг насколько глаз хватает.
Название храма — церковь Вознесения. Здание, по замыслу зодчего, должно было символизировать, зримо воплотить легенду о вознесении на небо воскресшего после страданий и смерти Иисуса Христа.
Храм Вознесения в Коломенском — произведение неизвестного нам русского мастера, великого новатора своего времени, гениально развившего архитектурные идеи лучших русских зодчих XIV — XV веков — смолян, владимирцев, москвичей. Заложенный в 1530 году, этот радостный храм-обелиск был окончен в 1532-м. Полагают, что Василий III повелел воздвигнуть его в честь рождения своего наследника, сына Елены Глинской, — будущего Ивана Грозного.
Летописцы, пораженные необычностью храма, записали, что сделан он «на деревянное дело», то есть по образцу деревянных построек древней Руси — башен, крылец, колоколен. Разумеется, в архитектурном решении церкви Вознесения к традициям деревянной архитектуры прибавился новый опыт башенных построек из камня, в том числе кремлевских.
«Бе же та церковь вельми чудна высотою, и красотою, и светлостью, — восхищается летописец и добавляет: — Такой же не было прежде на Руси».
Но не только совершенство архитектурных форм храма, их предельная цельность, безошибочность, четкость, отсутствие лишних деталей, единство идеи и формы здания восхищают нас в этом творении русской архитектуры XVI века. Гениален сам выбор местности для торжественного здания. Оно будто вырастает из земли над крутым обрывом реки, подобно белому сталагмиту, выкристаллизованному самой почвой, самой природой, среди всей этой синевы и шири, распахнутой настежь перед душой человеческой.
И веками дивятся люди каждому штриху этого здания, изучают, как удалось мастеру сделать камень невесомым. А ведь толщина кирпичных стен — немалая: почти два метра! Внутри стены даже устроена лестница на дозорную вышку. Ощущение тяжести снимают белокаменные детали отделки, пилястры и стрелы, создающие переход к стройному двадцативосьмиметровому шатру. Сверху на него как бы накинута легкая сетка, сплетенная из белокаменных нитей.
Ветры почти четырех с половиной столетий обдували это здание, вставшее над Москвою-рекой спустя десяток годов после смерти во Флоренции Леонардо да Винчи и за тридцать лет до рождения в Англии Шекспира. Когда храм еще стоял в лесах, в Европе распространялись фантастические россказни о первом кругосветном плавании Магеллана. В Германии в это время бушевала крестьянская война и подверглась разгрому мюнстерская коммуна — первая практическая попытка устроить человеческое общежитие на справедливых началах. Вот каковы исторические события и люди — ровесники Коломенского столпа.
По другую сторону глубокого Голосовского оврага, в окружении кладбищенских крестов и обелисков, издали видна реставрированная недавно Дьяковская церковь — второй уникальный памятник коломенского заповедника. Ее полное название: храм Усекновения главы Иоанна Предтечи. Этот храм, построенный, как полагают, в начале пятидесятых годов XVI столетия, сразу напоминает нам нечто очень знакомое, давно привычное.
Перейдя по мостику ручей, поднимаемся на крутой противоположный склон оврага и идем дорожками кладбища к главному входу в Дьяковскую церковь. В 1964 году я побывал здесь в тот момент, когда заканчивались реставрационные работы. Руководил ими архитектор И. Новиков.
Из храма еще выносили остатки строительных припасов, еще трудился на площадке маленький экскаватор, заравнивавший съезд к реке, еще горели в кострах-теплинках щепки и обрезки досок. Здание радовало глаз чистотою своих ясных, строго логичных архитектурных форм (оно еще сдержаннее и строже, чем церковь Вознесения), не подчеркнутых никакой раскраской, а внутри не затемненных ни церковной утварью, ни алтарными преградами. Этим зданием можно было любоваться, как обнаженным телом атлета, — ничто не мешало видеть упругую красу его каменной мускулатуры.
...Четыре угловых столпа, завершенных низкими куполами, симметрично сгруппированы вокруг высокой башни — центрального большого столпа. Чувствуется стремление зодчего сочетать две противоположные архитектурные формы: привычное пятиглавие больших русских соборов и островерхий, будто рвущийся к небу, шатер. Эти две формы слиты здесь в одно нерасторжимое целое. И как напоминание о псковской старине красуется на западном фасаде, как раз над главным входом, прелестная каменная настенная звонница под треугольным фронтоном. Массивный дубовый ствол, почерневший от времени, перекинут от стены храма к среднему столбику звонницы. Столбу этому много лет, столько же, сколько и самой звоннице: некогда он служил для подвески главного колокола.
Игорь Грабарь так охарактеризовал архитектуру Дьяковской церкви:
«Прекрасно выисканные формы храма, с его оригинальным, из ряда вон выходящим верхом, поражают пластичностью детальной обработки. Свободно и смело распорядился зодчий всем запасом новых знаний, вложив в них тайну передачи деревянных форм, изваяв как бы резцом игрушку-храм... Воспроизведя структуру дерева в камне, зодчий не отказался от традиционных уступчатых кокошников, придав им лишь форму фронтонов остроконечных и кругло-плоских в основании средней главы... Дьяковский храм, подобно деревянным сооружениям, блещет убранством своих «верхов», оставляя в умеренной простоте убранство стен. Декоративность переходов от стен к главам не выходит из пределов логичности, и вся группа «столпов» понятна, ясна и правдива».
Перед древним строителем была поставлена задача объединить в одном здании как бы пять церквей, со своим алтарем каждая, и он решил эту задачу так, что по созданному им здесь, в Дьякове, образцу одним или двумя годами позже было заложено и возведено одно из самых необыкновенных зданий в мире — храм Василия Блаженного на Красной площади. Потому-то здание Дьяковской церкви показалось нам при, первой же встрече таким знакомым и привычным давно. Раньше этому впечатлению помогала еще и раскраска, несколько напоминавшая раскраску знаменитого собора.
Внутри Дьяковской церкви сразу становится понятен необычный план здания: четыре угловых столпа и связывающие их галереи. Поднимаешь голову — дух захватывает! Вот это «светлость и звонность»! Стройная башня открыта взору вся, до самого купола. А в вышке — вместо обычной религиозной картины или символического голубя — реставратор оставил на виду кирпичный замок свода, чтобы посетители могли воочию видеть замечательное мастерство строителя. В центре свода, от выложенного из кирпича диска, разбегаются изогнутые кометные хвосты. Это рядки кирпича, которыми сведено купольное полушарие. Здесь ясно постигаешь смысл слова «свод»!
В Дьяковской церкви зритель испытывает такое же сильное ощущение высоты, дерзкой устремленности вверх, как и внутри храма Вознесения.
...Сохранились в коломенском заповеднике бывшие Приказные палаты. Они связаны старинным лестничным переходом с Передними воротами и шатровой башенкой-часозво-ней. В этих помещениях развернута экспозиция Коломенского музея.
Здесь оживают перед посетителем события «смутного времени», когда в селе Коломенском стояла лагерем крестьянская рать Ивана Болотникова. Рядом, в соседнем зале, показаны события Медного бунта 1648 года. Тут можно видеть те небрежно нарубленные медные монеты, из-за усиленного выпуска которых началось вздорожание жизни и вспыхнуло народное возмущение. Есть и кандалы и клеймо «Буки» (то есть буква «Б» — бунтовщик), которым клеймили щеки схваченных москвичей.
Верхний зал занимают часовые механизмы XVII века. Выставлена в музее и поистине уникальная модель знаменитого Коломенского деревянного дворца, созданного в 1667 году. Этот дворец называли восьмым чудом света.
При Екатерине II обветшавший Коломенский дворец решили не реставрировать, а разобрать. «Дивный сон былого» сломали так же безжалостно, как в XIX веке был разорен знаменитый Каменный, или Всесвятский, мост на Москве-реке — своеобразное и удивительное мостовое сооружение, перед которым и лондонский Тауэрский мост не выглядел бы диковиной.
Однако перед разборкой Коломенского дворца были, к счастью, сделаны зарисовки и чертежи здания. Затем мастер Д. Д. Смирнов создал большую деревянную модель, воспроизведя дворец во всех подробностях.
Одно из зданий, показанных на модели, уцелело в натуре — это Казанская церковь, и по ней мы можем судить, насколько точна модель, над которой мастер трудился десять лет.
...Если прямо из Коломенского поехать на Красную площадь, у нас в памяти будет еще очень свежим облик Дьяковской церкви, послужившей архитектурным прообразом многоглавому Василию Блаженному. Знаменитый собор — филиал Государственного Исторического музея — стоит на спуске с Красной площади к Москворецкому мосту.
Издали кажется, что здание это — фантастически беспорядочное нагромождение причудливых столпов, куполов, луковиц, шатров, кокошников... Ни одна башенка, ни одна деталь здесь не похожа на другую, все словно случайно набросано со сказочной щедростью.
На самом же деле собор строго продуман, воздвигнут по ясному (симметричному!) композиционному плану и необыкновенно точно рассчитан на тот зрительный эффект живописного беспорядка, какой он и производит на первый взгляд.
Создатели собора, Барма и Постник (есть гипотеза, что это одно лицо), были подлинными новаторами, и их знаменитое творение стало первым и важнейшим поводом для того, чтобы народ присвоил бывшему Торгу, или Пожару, почетное имя Красной, то есть красивой, площади. Поставленный вне кремлевских стен, около моста через Алевизов ров, отделявший Кремль от площади, храм прежде назывался «Покровский собор, что на рву» и был первым большим собором, воздвигнутым не для царя, а для посадского населения Москвы.
Построен храм в честь великой победы, одержанной войском Ивана IV над казанским ханом (1552). Покорение и присоединение к московскому государству Казани (а вскоре и Астрахани) значительно уменьшало опасность опустошительных татарских набегов на Москву. Заложенный в 1555 году, на месте группы прежних деревянных церквей и одного каменного (Троицкого) храма, Покровский собор был завершен в 1561 году в виде девяти престолов, собранных воедино и поставленных на одно общее основание — подклет.
«Поставлен бысть храм каменный преудивлен, различными образцы и многими переводы, на одном основании девять престолов», — говорит пораженный летописец.
Это значит: здание удивляло тем, что соединило вместе девять церквей, а создано было по образцам и переводам (то есть было «переведено» с уже имеющихся на Руси образцов). Этими образцами послужили, в частности, только что осмотренные нами коломенский храм Вознесения и Дьяковская церковь. Поэтому не удивительно, что большие фотографии обоих этих зданий мы встречаем в самом начале музейной экспозиции внутри московского храма.
Описать во всех деталях собор Василия Блаженного — значит создать еще целую книгу, по размеру равную этой! Книга получилась бы увлекательная — так богата, сложна и драматична история замечательного памятника. Но и самый подробный рассказ не заменит живого впечатления от собора, потому что этот храм своего рода художественный итог всего, созданного раньше народным русским зодчеством, а вместе с тем исток чуть ли не всех приемов, получивших распространение в более поздней русской архитектуре, вплоть до XVIII века.
Каждый придел Покровского собора посвящен определенному событию войны 1552 года, то есть тому дню, который был ознаменован победоносным сражением во время казанской осады. По тогдашним верованиям своими победами русское оружие обязано было небесным покровителям. Это и определило замысел собора: всем «покровителям» воздвигли по отдельной церкви со своими престолами, а затем связали эти церкви воедино вокруг главного престола — Покрова богородицы (как раз в покров день, 1 октября, начался заключительный штурм казанской крепости).
Барма и Постник оказались «примудрии и удобни таковому чюдному делу» — они великолепно решили звездную композицию храма. Результат получился таков, что, по старинному народному преданию, царь повелел ослепить строителей, чтобы уж нигде в мире не повторилось дивное московское здание...
Но почему же храм, посвященный Покрову богородицы, в народе известен под другим именем — собор Василия Блаженного?
Василий Блаженный — реальное лицо, нищий юродивый, живший в первой половине XVI века. Он помнил еще Ивана III, знал Василия III и Ивана IV. И не только знал — в народе он прославился бесстрашными обличениями этих царей.
Что же мешало властелинам убрать опасного проповедника? Суеверный страх перед кощунственной расправой с полупомешанными фанатиками: считалось ведь, что их устами «вещает бог», и поэтому даже царь не мог заставить юродивого умолкнуть. Цари безуспешно пытались задабривать этих «божьих людей» — вспомним сцену в пушкинском «Борисе Годунове».
Церковь посмертно причислила Василия Блаженного к сонму святых, а над местом его погребения (он умер до постройки собора) много позднее, уже в конце XVI века, была воздвигнута небольшая каменная часовня — у северо-восточного угла собора. Впоследствии ее как бы «встроили» в здание собора, в виде дополнительного, десятого, придела с маленькой отдельной главкой. Название придела Василия Блаженного перешло со временем на весь собор. Шатровую колокольню пристроили к собору в XVII веке.
Старинный придел Василия Блаженного мы минуем, входя в храм-музей, — именно здесь находится сейчас кассовый вестибюль. Отсюда попадаем в нижний ярус собора, то есть в его подклет, расположенный непосредственно над фундаментами и игравший ту же роль складского помещения, какую нередко выполняли подвалы: в нем хранилась казна и большие ценности. Подклет находится над землей, но со всех сторон закрыт толстыми стенами и освещается узкими окнами с решетками.
После кремлевских соборов храм Василия Блаженного кажется тесным, неудобным. Есть каменные галереи в полметра шириной — там не разойтись двум человекам при встрече! Но сколько романтики, сколько заманчивой тайны в этих переходах, галерейках, в этом кирпичном лабиринте!..
Лестница приводит нас на потолочное перекрытие подклета. И вот тут-то, собственно, и начинается собор с его девятью престолами.
Таким образом, поднявшись наверх, вы попадаете на плоское кирпичное основание храма. Задумайтесь над тем, как смело решена эта гигантская подставка, на которой и установлен весь собор. Это перекрытие-подставка (из кирпича!) покоится на системе сводов подклета и, в свою очередь, несет огромную тяжесть всей надстройки.
Некогда те узкие галереи, по которым вы, опасаясь заблудиться, бродите от придела к приделу, были открытыми, как сейчас гульбище в коломенском храме Вознесения. Восьмигранные столпы соборных приделов можно было видеть с площади. Чтобы закрыть галереи с боков, и пришлось так сузить проходы.
Центральный шатер собора, под которым находится главный престол, очень внушителен: высота шатра внутри здания равна сорока семи метрам!..
Здесь, под самым шатром, в верхних ярусах восьмерика, реставраторы несколько лет назад вскрыли важную летописную запись XVI века. Запись выполнена в виде фрески и точно датирует время завершения храма — июнь 1561 года (раньше храм принято было датировать 1555 — 1560 годами).
Чего только не испытал собор Василия Блаженного за четыре века! Злоумышленники, воспользовавшись бурей, однажды подожгли деревянную Москву со всех концов, чтобы взять казну из подклета собора. Их изловили и казнили — тут же, на Лобном месте (в то время оно еще представляло собой деревянный помост).
Страшные пожары уничтожали все деревянные части собора. Наполеоновские генералы превращали его в конюшню для кавалерийских лошадей. В дни последней войны авиационные бомбы падали близко от здания, и тогда вздрагивали древние стены, раскачивались на железных цепях светильники-паникадила и старинные фонари со слюдяными пластинками вместо стекол.
Тщательная реставрация, всестороннее изучение, бережная забота о сохранности памятника на долгие, долгие века — такова счастливая судьба этого исторического здания в наше время.
III. В зеркале озер и волжских вод
Шатры Ярославля — век семнадцатый
Семнадцатый век — особая страница в летописи русского искусства.
Для Руси это была трудная, противоречивая, но и очень яркая пора. Полтора десятилетия кровопролитной борьбы с польско-шведским вторжением, бедствия моровой язвы и чумы, пожары ожесточенных крестьянских войн, жестокое подавление религиозного раскола, казнь неуступчивого протопопа Аввакума, пылающие скиты староверов-самосожигателей... Немало имен национальных героев внес XVII век в пантеон русской славы: Минин и Пожарский, Авраамий Палицын и защитники Троицкой лавры; Иван Болотников и Степан Разин; целая плеяда русских зодчих и художников, выходцев из народа, таких, как Важен Огурцов, Яков Бухвостов, Петр Досаев, Симон Ушаков... В XVII веке московская Русь воссоединилась с Украиной. Наконец, в канун нового века вышла на историческую сцену группа сподвижников юного Петра.
Именно в XVII веке, в особенности когда Русь начала оправляться от бедствий «смутного времени», народ проявил просто небывалую дотоле строительную энергию. Ведь к тому времени южные, восточные, северные княжества, собранные Москвой воедино, успели накопить богатый строительный опыт, создать общенациональную архитектуру, вознести в небо шатры своих башен и храмов, палат и теремов. Островерхий каменный шатер, могучий и прямой, как северная ель, чьи очертания он воспроизводит в зодчестве, — это такой же вклад Руси в мировое искусство,, как греческая колонна или египетский обелиск.
Но к началу XVII века многие русские города стояли полуразрушенными, обгорелыми, неживыми. Требовалась уже не починка, а подчас полное обновление зданий и целых ансамблей. Вот тогда-то русские зодчие и отстроили заново кремли старинных городов, стены и башни монастырей-крепостей, царские дворцы и палаты.
Это в ту пору получил свое окончательное архитектурное убранство Московский Кремль — как раз тогда его башни украсились стройными шатрами, белокаменными фигурными деталями. Был достроен кремлевский собор Двенадцати апостолов, ныне заботливо реставрированный. И когда мы любуемся резным убором Спасской башни, как не вспомнить с благодарностью имя мастера Бажена Огурцова, придавшего камню легкость и музыкальную ритмичность. Как тонко обогатил он эту башенную архитектуру, сочетав ее итальянские мотивы с национально-русским, крестьянским узором!
В том же столетии Яков Бухвостов воздвиг величавый собор в Рязани. Над озером Неро возник кремлевский ансамбль Ростова Великого — творение палатного мастера Петра Досаева. Тогда же заново отстроились Кирилло-Белозерский и Иосифо-Волоколамский монастыри, пополнились архитектурными шедеврами знакомые нам монастыри Суздаля и вынесшая польскую осаду Троице-Сергиевская лавра, а в излучине Москвы-реки взлетела над стенами Новодевичьего монастыря высокая колокольня, удивляющая своей воздушной легкостью, будто невесомостью. Она и по сей день — одно из лучших украшений юго-западной части нашей столицы.
Москва сохранила немало зданий и ансамблей XVII века, начиная с интереснейшего памятника архитектуры, так называемой церкви Грузинской богоматери, иначе — Троицы в Никитниках. Некогда она почти примыкала к Китайгородской стене, а после сноса стены часть этой церкви стала видна с площади Ногина. Памятник примечателен тем, что в нем применены почти все приемы архитектурного убранства, какие были затем в ходу у зодчих на протяжении целого века. В этом смысле церковь в Никитниках (названная так по переулку, куда она выходит фасадом) — еще более универсальная энциклопедия русского зодчества, чем сам Василий Блаженный, созданный все же в предшествующем, XVI веке.
Замечательные памятники XVII века сохранились по дороге из Москвы в Ярославль и в самом Ярославле, где сбережены и реставрированы превосходные ансамбли. Этими памятниками архитектуры и стенной живописи, прикладного искусства и «ценинной хитрости» (то есть керамической отделки зданий) и принято заканчивать историю древнерусского зодчества.
Именно XVII столетие было золотым веком ярославского зодчества и стенной живописи.
Городу на Волге выпала важная роль в освобождении Руси от польско-шведских армий в 1612 году. Народное ополчение Минина и Пожарского несколько месяцев пополнялось и оснащалось в Ярославле, чтобы затем двинуться отсюда на Москву, занятую врагами. В эти месяцы Ярославль был средоточием патриотических сил, являлся важнейшим городом для сожженной, измученной, но непобежденной страны.
Уже к тому времени в Ярославле успела сложиться своя школа зодчества и живописи, достигшая затем полного расцвета во второй половине XVII века.
Ярославль начал быстро богатеть еще при Иване Грозном, когда был открыт Архангельский порт. Путь из Москвы к Белому морю пролегал тогда через Ярославль. Сюда же шли волжские караваны с низовьев, из стран Ближнего Востока, из Персии, Грузии, Армении. Ярославские купцы были известны и на Востоке и в Западной Европе, с которой оживленно торговали. Эти купеческие роды стали полными хозяевами города, по их вкусам зодчие строили и расписывали здешние храмы и палаты.
Окружали город богатейшие приволжские боры, заливные луга, зелень пастбищ и золото крестьянских пажитей. Это богатство природных красок сказалось и в здешней стенной живописи, и в веселой наружной расцветке зданий, и в местном керамическом искусстве — волжские береговые глины давали для него превосходный материал.
Выстроенные по заказу ярославских купцов церковные здания XVII века заметно крупнее, монументальнее своих сверстников — московских храмов. Увеличивая основные кубические объемы, ярославские строители пропорционально увеличивали и крытые паперти, крыльца, приделы, площади окон и дверей, размеры глав. Излюбленные москвичами ярусы кокошников в основании глав или шатров уступают в Ярославле чаще место более древним закомарным дугам — они как бы подчеркивают снаружи внутреннюю конструкцию сводов. Но архитектурные украшения — висячие гирьки, затейливые наличники, кувшинообразные утолщения арочных столбов, украшения карнизов и цокольных выступов — ярославцы охотно брали у москвичей.
Очень характерны для ярославского XVII века узоры из фигурного кирпича, цветные изразцы на стенах и печах, наружная роспись всей стены, придававшая зданию необычайно жизнерадостный, нарядный облик.
Один из широко известных архитектурных памятников того времени, церковь Иоанна Златоуста в Коровниках (слободе, где как раз жило много гончаров), особенно щедро и талантливо украшен поливными изразцами. Цвета их пленительно хороши: ярко-синие краски чередуются с желтыми и зелеными, а все наличники, порталы, колонки гончары выполнили из красного кирпича — на белом фоне стен. Изумительно расцветили зодчие и шатровую колокольню Златоустовского храма, «что в Коровниках».
Архитектурную идею для многих позднейших построек дала церковь Ильи Пророка на бывшей Ильинской (ныне Советской) площади Ярославля.
Эта площадь издавна является как бы архитектурнопланировочным центром города: именно от нее лучами расходятся главные городские магистрали. Зодчий Ильинской церкви неизвестен, а заказчиками были купцы Скрипины, одни из самых именитых торговых «гостей» тогдашней Руси. Их торговый двор с большими амбарами, складами, лабазами занимал целый участок города близ набережной. Обнесенный оградой, он издали мог походить на монастырский двор, а Ильинский храм занимал на этом скрипинском дворе самое почетное место, напоминая соборное здание.
По русской традиции XVII века храм высоко поднят на каменном подклете. Центральная часть здания — правильный куб с пятью главами — окружена с юга и севера приделами и галереями. Это дань более древним строительным обычаям, принятым в XVI веке.
Необычность композиции церкви Ильи Пророка состоит в том, что на северо-западном углу придел увенчан стройной, тонко декорированной шатровой башней, стоящей на одной линии с колокольней и вторящей ее силуэту. Такое решение создает уравновешенность композиции, если смотреть на план здания. Однако в натуре ощущение уравновешенности исчезает, и все здание с его двумя башнями и пятью главами воспринимается как вольная, асимметричная, на редкость живописная архитектурная композиция в духе деревянного северного зодчества, где шатры колоколен так искусно сочетаются с многоглавием храмов.
Особенно любовную заботу зодчий посвятил убранству ильинской колокольни. Оформление шатрового придела скромнее, проще, оно оставлено как бы в тени. Так и врезается в память эта композиция из затейливых, нарядных крылец, храмового пятиглавия и двух красивых башен, увенчанных восьмигранными шатрами.
А стенные росписи Ильинской церкви — едва ли не самое лучшее, что создано ярославской школой художников. Великолепны многокрасочные, в чем-то предвосхищающие светскую живопись циклы картин-фресок — «Житие Ильи Пророка» и особенно «Житие Елисея», который, по библии, был учеником Ильи. Росписи эти выполнены артелью из тринадцати художников во главе с известными мастерами Гурием Никитиным и Силой Савиным.
Их картины на стенах ильинской церкви похожи на иллюстрации к восточным и древнерусским народным сказаниям и повестям, так живо переданы фигуры и лица персонажей. Есть такие композиции, где библейские чудеса, исцеления и иные подвиги пророков оттеснены на второй план, а главное место в картине занимают бытовые сцены, как, например, изображение торга или поразительно верно переданная сцена жатвы, напоминающая о русской крестьянской страде.
Не мудрено, что и в наше время посетителей пленяет эта оптимистическая, светлая и звучная живопись русских мастеров в Ильинской церкви. Кто не видел ярославских фресок в натуре, тому можно от души посоветовать поездку в этот город на Волге, так много внесший в сокровищницу русского искусства.
Дивная в древнем Угличе
В наши дни московские экскурсанты запросто отправляются в Углич на воскресный день, но триста лет назад, во времена годунэв-ские, поездка в Углич считалась не близкой. По свидетельству Пушкина, московский старец Пимен «в дальний Углич на некое был услан послушанье».
Самый интересный путь к Угличу — по воде. Около полусуток рассекает современный теплоход воду красивых озер-водохранилищ, одолевает шлюзовые ступени, расходится по установленному ритуалу со встречными пароходами на Волге, минует старинный Калязин с его полузатопленной колокольней. Наконец судно опускается на двенадцать метров под высокой, далеко видной аркой шлюза и причаливает к пристани Углича под кремлевским откосом.
Здешний кремль — историческое ядро города, возникшего около 937 года, когда Киевской Русью правили Игорь и Ольга. Название Углич объясняют по-разному. В частности, производят его от «угла» Волги-реки, то есть излучины, где примостился город.
Самый старший памятник архитектуры здесь — двухэтажные княжеские палаты с тронной залой и изумительным наружным керамическим убором, настоящей «вышивкой по кирпичу». Здание известно под названием Палат царевича Димитрия, но построено столетием раньше, во второй половине XV века. В палатах развернута музейная экспозиция, на редкость интересная. Отведена музею и небольшая, нарядная церковь «Димитрия на крови», построенная, как гласит предание, на месте гибели царевича.
В Димитровской церкви и в кремлевском соборе Спас-Преображения доступны обозрению фресковые росписи. В соборе они исполнены артелью крепостных художников, которыми руководил живописец Тимофей Медведев, но относятся эти картины уже к XIX столетию. Димитровская церковь сохранила росписи XVIII века, посвященные истории гибели царевича.
Само же здание церковки «Димитрия на крови» — характерный образец именно московской архитектурной школы интересующего нас сейчас XVII века. В манере XVII века выдержана и превосходно формирующая ансамбль кремля шатровая колокольня, построенная, правда, в 1730 году, но сохранившая черты «нарышкинского стиля», свойственные концу XVII века...
Именно этот век подарил Угличу два его архитектурных шедевра. Первый из них виден с реки, из-за более поздних строений: это ансамбль бывшего Воскресенского монастыря, невдалеке от угличского гидроузла. Строения монастыря сильно обветшали, ждут реставрации, но смелость и красота замысла видны и сейчас. Причем лучше всего смотрится этот памятник не с воды, а с суши, с улицы, что ведет на плотину.
Как подойдешь по этой улице ближе к Воскресенскому монастырю, сразу берет тебя в плен сама композиция монастырских зданий. Тут применен излюбленный русскими зодчими принцип асимметрии, неожиданных сочетаний как будто совсем разных элементов. Но резких диссонансов нет, получается полный и звучный аккорд, потому что очень уж хорошо выбраны связующие звенья!
Главное связующее звено здесь — звонница. Она и служит для глаза архитектурным переходом от каменного Воскресенского собора к трапезной палате со Смоленской монастырской церковью. Получается редкостное сочетание поднятых в небо глав, куполов, крестов. Да и сама звонница на редкость величава со своими широкими проемами, открытыми волжскому ветру. Она похожа на ростовскую Успенскую звонницу, и не мудрено: Воскресенский монастырь в Угличе обстраивался одновременно с Ростовским кремлем и Борисоглебским монастырем под Ростовом — по заказу и под наблюдением энергичного митрополита Ионы Сысоевича.
Через дорогу от монастыря, выходя фасадом на небольшую, поросшую травой или ушедшую под сугробы площадку, стоит еще один храм XVII века. Церковь и шатровая колокольня издали будто сливаются с монастырем в один ансамбль. Храм этот, посвященный Рождеству Иоанна Предтечи, связан с темной трагедией в семье богатого угличского купца.
Малолетний сын купца, Ванюшка, был жестоко убит одним из приказчиков, затаившим злобу против хозяина. Событие, видимо, взволновало древних угличан не на шутку — о нем ходили сказания, пелись песни. Была даже попытка причислить Ванюшку к лику святых, однако церковные власти эту попытку пресекли, чтобы купеческий сын не «конкурировал» с сыном царским, убиенным здесь же Димитрием-царевичем. Но хотя угличанам и не удалось причислить Ванюшку к сонму местных угодников, все же ореол младенческого мученичества издавна окружал храм Рождества Иоанна Предтечи, построенный отцом убитого мальчика.
Возведение храма рядом со знаменитым Воскресенским монастырем могло быть поручено только мастерам строительного искусства. Они выполнили заказ превосходно, и небольшая церковь Рождества Иоанна Предтечи стала одним из выдающихся памятников XVII века.
Но главное архитектурное диво Углича с реки не увидишь вовсе. И помню, когда я впервые подошел к этому зданию, риск опоздать на пароход показался мне довольно маловажным обстоятельством. Возникло даже нечто вроде испуга: а ведь мог проехать мимо, так и не увидев этот памятник.
Вот что говорит о нем поэтесса Ольга Берггольц в своей лирической повести «Дневные звезды»:
«А из окна, за купами деревьев и кровлями, строго, печально и стройно возносясь в чуть голубевшее небо, виднелись три шатра Дивной — церкви Алексеевского монастыря, три с половиной столетия назад названной так народом за свою поистине дивную архитектуру».
Монастырь, основанный еще в XIV веке московским митрополитом Алексием, воспитателем и советчиком Димитрия Донского, был жестоко разрушен в годы польско-литовской интервенции. За стенами монастыря укрылись сотни угличан, оборонявшихся до последнего воина. «Кто твою, граде, погибель теплыми слезами не оплачет... кто не поболезнует сердцем!» — восклицает летописец, скорбя о погибших.
Трехшатровая церковь Дивная была построена через полтора десятилетия после этих кровавых и героических событий. Строители избрали древнерусский тип шатра для завершения здания, потому что именно в шатровой архитектуре воплотились для русского человека тех времен самые высокие идеалы красоты. Глядя на эти три шатра, вырастающие над скупым убором кокошников, невольно думаешь, какой жестокий урон нанес отечественному зодчеству Никонов строгий запрет: «А шатровые церкви отнюдь не строить!»
Да, эту церковь с тремя шатрами на высоком подклете сам народ окрестил Дивной. Глубоко задел сердца ее создателей образ северных елей, встающих над Волгой. Перенесенный в камень, он живет для нас в этом строгом, печальном и стройном творении зодчества. Описать его красоту словами невозможно, как невозможно передать словами музыкальную фразу, мелодию песни, рыдающий звук ростовского колокола Сысоя. У трех шатров Дивной свой язык, и счастлив тот, кто научится внимать их каменному глаголу!
Борисоглебские слободы
Книга эта, в сущности, развернутый путевой блокнот. Главное в ней — дорожные зарисовки, начатые очень давно. В ранней моей юности были, кроме дорог железных и речных, еще и многоверстные, летние и зимние, большаки и проселки, колеса, смазанные дегтем,
постоялые дворы. Парные упряжки и даже знаменитые тройки еще не окончательно перекочевали тогда в сферу метафор и масленичных гуляний.
Но романтическая муза дальних странствий и поныне, без троек и ямщиков, жива в каждой русской дороге. Конечно, спугнуть эту капризную музу легче, чем приручить. Муза, например, благоволит ночным поездам и автобусам. Вступает она в свои права, когда замолкнут радиорупор или транзисторы и начнут всходить над дальними взгорьями лучи встречных фар и прожекторов. Их потом мгновенно берет темнота, и тогда лови опять ритм летящих деревьев за полосою асфальта или насыпи, приглядывайся мимоходом к огням чужого уюта.
Пассажир, глухой к шепотку музы, уткнется в журнал, карты, заведет пустой спор с соседкой или проспит, сделает, словом, все, чтобы не заметить дороги вовсе. А ведь есть и сейчас такие маршруты, какие надобно переживать всей душой, как лучшие спектакли и концерты. Таково, например, Ярославское шоссе со многими его ответвлениями.
Есть на этой дороге все: полифония пейзажа и архитектуры, красота и величие больших озер, холмы и лощины с прудами и ручьями, крутые спуски и смелые подъемы. На этой дороге увидишь, как наливаются силой краски рассвета, те самые, что переданы на старинных фресках в ярославских церквах. Увидишь, как по-девичьи очнется речная вода, как туманы уходят с лугов, свиваясь, будто театральный занавес. А то застанет вас на дороге неждан-ная-негаданная гроза, и в автобус набьются мокроволосые босые девушки с туфлями под мышкой. Их спутники, деревенские парни-трактористы, будут маскировать застенчивость напускной грубостью. Но стоит лишь чуть-чуть помочь им переключиться на серьезное, подтолкнуть мысль к тому, что сами они меж собой держат в сердечной тайне и неприкосновенности, не выдают словами, — вот тогда-то и получится у вас в дороге разговор о красоте родной земли, о богатстве души человеческой, воплощенном в древнерусском зодчестве, которое есть не что иное, как выраженная в камне великая любовь к родине.
Кто все это ценит, тому мой совет — после плавания до Углича отправиться отсюда автобусом на Ростов Великий.
Это девяносто километров родной природы и великолепного зодчества. Оно провожает вас от угличских окраин, настойчиво требует вашего внимания в Улейме, где на горе высится заброшенный монастырь с собором XVII века и оригинальнейшей церковью Введения. Еще много раз вам будут встречаться памятники, заставляющие хвататься за фотоаппарат, пока не приведет дорога к могучему апофеозу башен, шатров, крепостных стен, надвратных храмов и куполов.
Нет, нет, это еще не сам Ростов Великий — до него остается километров восемнадцать-девятнадцать. Это его преддверие, архитектурная увертюра к нему, его дальние слободы — Борисоглебские, со старинным монастырем-крепостью, некогда оборонявшим путь из Углича на Ростов.
Леса вокруг монастыря добрые, тут не диво даже из автобуса увидеть лося. Минуешь деревянный мост через речку Устье и въезжаешь в уютный, на редкость красиво разбросанный по холмам и лощинкам поселок — Борисоглебские слободы.
В старину слободами назывались селения, освобожденные от тягла и поборов. Потом название перешло на пригороды и приселья, где дома ставили привольнее, «слободнее», чем в самом городе или селе.
Основали Борисоглебский монастырь еще в XIV веке два троицких монаха, Федор и Павел, сподвижники Сергия Радонежского. Их могила находится в усыпальнице Борисоглебского собора — древнейшего здания в монастыре, построенного в двадцатых годах XVI века.
Некогда богатый монастырь захирел в XVIII столетии, после секуляризации церковных земель. Лишился он тогда и пригородов-слобод — Екатерина подарила их графу Орлову, своему фавориту. С тех пор каменного строительства в монастыре не велось, и вся его архитектура, величавая и выразительная, целиком относится к двум предшествующим столетиям. Как раз здесь очень интересно наблюдать, как менялись у русских зодчих XVI — XVII веков их архитектурные вкусы, приемы, понимание прекрасного.
Борисоглебский монастырь, возведенный в камне почти на столетие раньше знаменитого Ростовского кремля, впоследствии, уже в конце XVII века, испытал на себе влияние ростовского опыта, обогатился им. Всего один характерный пример: надвратный Сергиевский храм в южной стене Борисоглебского монастыря построен был в 1545 году, через двадцать лет после монастырского собора, как предполагают, одним и тем же мастером каменных дел Григорием Борисовым, большим архитектором XVI века. Сергиевский храм стал прообразом для последующих ростовских и борисоглебских надвратных церквей.
Затем ростовские мастера, уже после возведения кремля в Ростове Великом, построили в 1680 году на северной стене Борисоглебского монастыря последний надвратный храм — Сретенский. Многие считают эту церковь наивысшим достижением среди ростовских надвратных храмов, фланкируемых башнями.
Тут применены для украшения такие элементы, как аркатурный пояс и резные оконные наличники, а соединительная галерея между обеими башнями сплошь покрыта узором, характерным для русского XVII века. Скульптурно-пластичны висячие гирьки в арках ворот и окон галереи, умело выбраны красочные пятна цветных ширинок из поливных изразцов. Все это радостно, величаво и необыкновенно нарядно.
Однако старый Сергиевский надвратный храм перестал гармонировать с новым Сретенским, выглядел слишком суровым и простым. Тогда строители в конце XVII века придали и Сергиевской церкви новый декор, убрали ее узорочьем, подвесили каменные гирьки в арках и таким образом соединили суровую простоту XVI века с нарядной живописностью XVII. Словом, можно сказать, что в этом здании органически слились искания таких разных мастеров, как Григорий Борисов и Петр Досаев, между которыми — полтора века! И, наложив свой отпечаток на памятник ранний, более поздняя эпоха не исказила его, а действительно украсила и обогатила.
Монументальная и в то же время легкая звонница, построенная в 1680 году, завершила ансамбль, включающий сейчас десять зданий XVI — XVII веков, не считая пятнадцати каменных башен и могучих стен. Можно много рассказать о здешнем Благовещенском храме с трапезной и настоятельскими покоями, но... хочется, чтобы читатель сам побывал в этом борисоглебском «кремле», как его называют здешние жители, послушал увлекательные рассказы активистов местного Народного музея, а если повезет, то и его директора — Марии Николаевны Карасевой. Эта по жилая женщина-пенсионер, глубокий знаток борисоглеб-ской старины, энтузиаст охраны памятников искусства, часто сама показывает гостям музей, помогает приезжим и советом и консультацией.
...Уже с автобусной остановки, боясь опоздать, я поглядел на монастырский ансамбль и увидел игру рассветных теней на башнях. Как же это должно выглядеть сверху, с башенного шатра? Может быть, снять надо? А доступ в башню? Я не вытерпел и... постучался к Марии Николаевне. Из-за двери послышался вопрос: «Сколько вас?», потом вздох, а потом такие слова:
— Что ж, это вы правильно заметили, утренние тени действительно здесь у нас великолепны. Особенно если пройти по стенам, подняться на башню. Ладно уж, ступайте к Сергиевскому храму, оттуда ход наверх, сейчас приду, покажу...
А было-то... пять утра и погожий майский рассвет 1966 года!
Кремль над озером Неро
Дорога моя из Углича и Борисоглебских слобод к Переславлю-Залесскому шла мимо Ростова-Ярославского, города-патриарха средней Руси. О нем я кратко рассказал в начальной главе этой части книги. Здесь попытаюсь передать впечатление от Ростовского кремля — одного из самых грандиозных и прекрасных ансамблей русского XVII века. Даже для привычного глаза Ростовский кремль — всегда новый, всегда неожиданный.
У знакомого рыбака я выпросил весельную лодку и выгреб на середину озера Неро. Оно волновалось, тени белокаменных храмов и палат смешались, исчезли со взъерошенной воды. Я повел лодку мимо кремля к Яковлевскому монастырю. Освещение менялось непрестанно — то майский грозовой ливень рябил озеро и скрывал даль, то солнце внезапно всеми лучами нацеливалось на какой-нибудь храм, будто намереваясь вывести его вперед или приподнять над другими.
Со своим кремлем, городскими архитектурными памятниками, Яковлевским монастырем на западе и Авраамие-вым на востоке, Ростов Великий не сравнится ни с чем в целой России. Он совершенно своеобразен, и лейтмотив его торжественной красоты принадлежит именно XVII веку. Общий замысел здесь легко угадывается: это идея величия. И строители нашли великолепную форму для ее воплощения.
Когда плывешь на лодке мимо Ростовского кремля, здания его как бы тихонько передвигаются по твоей воле, оборачиваются к тебе то одним фасадом, то другим, купола и главы то собираются в пышные букеты, то словно растягиваются в гирлянду. Башенные шатры осторожно выдвигаются из-за деревьев, располагаясь между куполами и крестами.
Такой калейдоскопической смены архитектурных пейзажей на небольшом пространстве не увидишь больше нигде. Зритель здесь становится художником, творцом — в его воле бесконечно разнообразить и менять эту сказочную панораму, стоит только не спеша грести, чтобы, наконец, включить в нее еще и окраинные монастыри, сторожащие с боков резной белокаменный ларец кремля.
Какие же здания образуют этот ансамбль?
Строго говоря, не все эти здания относятся собственно к кремлю, но издали они все так слиты воедино, что кажутся неразделимыми.
Основа ансамбля — уже знакомый нам Успенский собор XVI века, отделенный невысокой каменной оградой от городского центра. Рядом с ним красивая звонница, грандиозный музыкальный инструмент с его тринадцатью звучными колоколами, создавшими славу «ростовскому звону». Каждый из этих колоколов — настоящее произведение искусства.
Архитектура звонницы кажется москвичам знакомой. Ведь когда-то в Москве, из окна патриарших палат, ростовец Иона Сысоевич, «блюдя» место опального патриарха Никона, глядел на Соборную площадь, на колокольню Ивана Великого с пристроенной к ней кремлевской звонницей.
Вслух митрополит Иона осуждал Никона, считавшего, что патриаршая власть выше царской, но втайне сочувствовал никоновской идее величия церкви и ее главенства над троном. Никон, почувствовав охлаждение к нему царя Алексея Михайловича, самовольно оставил Москву и удалился в Воскресенский монастырь на Истре. Он ждал, что царь встревожится и пошлет за ним. Однако патриарху подыскали «местоблюстителя» и не позвали назад, в Успенский собор Москвы. Тогда Никон внезапно воротился в Москву сам, так же неожиданно и самовольно, как уехал. И тут-то Иона ростовский вопреки наказу уступил ему престол. За это он и сам сразу угодил в немилость и вынужден был навсегда удалиться в свой Ростов.
Здесь, в своей вотчине, митрополит Иона, церковный феодал, богач и неограниченный властелин над шестнадцатью тысячами крепостных крестьян, вложил всю неиз-бытую страсть властолюбца в создание кремля — митрополичьего града. Иона и здесь мечтал о Москве, мысленно видел ее, и не случайно в ростовских постройках повторены некоторые московские архитектурные формы.
В Ростовском кремле поразительный композиционный дар зодчих ярославской школы сочетается с московской нарядностью, столичной пышностью, узорочьем. Вообще-то говоря, различие в архитектурных школах XVII века можно сравнить с различием местных говоров в едином общенациональном языке. Разумеется, есть свои излюбленные приемы у зодчих суздальских, новгородских, ярославских, московских («суздальский вогнутый шатер», «ярославский план храма», «ростовский тип фланкирующих башен»...), но в целом речь идет всего лишь о различных говорах одного общерусского архитектурного языка.
Важная особенность ростовского (как и борисоглебско-го) ансамбля — многоглавые надвратные храмы с башнями, как бы поставленными сторожить воротную арку. Часто эти башни соединены ходовой галереей, красиво украшенной. Таковы храмы Воскресения и Иоанна Богослова. Этим над-вратным храмам вторят золотая глава высокого, очень стройного храма Спаса на Сенях, церковь Одигитрии, прижавшаяся к северной стене, шатры и шлемы кремлевских башен. А в самом городе великолепно согласованы с кремлем храм Спаса на Торгу и церковь Рождества богородицы среди зелени сквера.
Добавьте к этому архитектурному богатству еще соборы и стенные башенки обоих окраинных монастырей, Яковлевского и Авраамиевского, попробуйте представить себе весь этот белокаменный гимн, повторенный в зеркале озера Неро, и легко будет понять, откуда русские песенники черпали краски, чтобы воспевать сказочные грады над водами, дворцы Бовы-королевича или терема на «острове Буяне»!.. Народные песни и сказки передавали то, что можно было в действительности увидеть на древней Руси и что дошло сквозь века и до нашего времени в виде памятников архитектурного искусства, созданных мастерами из народа.
Кто же был строителем Ростовского кремля? Кому принадлежит художественный замысел всей композиции?
Поиски ученых приоткрыли эту тайну: в синодике (списке умерших, за которых молилась церковь) одного из ростовских храмов записан под 1684 годом на поминание род «палатного мастера», каменщика Петра Ивановича Досаева. Именно этот ростовчанин и является, по мнению советских исследователей, строителем кремлевского ансамбля,
Кремль Ростова Великого, как и все городские здания, связанные с ним единством архитектурной композиции, понес в течение прошлого века и в начале нынешнего немало потерь — по вине городских и церковных властей, портивших ансамбль безвкусными переделками. К счастью, Ростову Ярославскому не довелось познать в годы Великой Отечественной войны горечь гитлеровской оккупации. Варварская взрывчатка не поднимала здесь на воздух древние стены и башни. Но, разумеется, в те годы ремонтные работы не велись, памятники ростовского зодчества выглядели после войны запущенными.
После победы Ростов медленно чинился, а в начале пятидесятых годов неожиданно пострадал от стихийного бедствия: страшный смерч налетел на город. Очевидцы рассказывали мне, что летним днем 1953 года надвинулась со стороны озера черная туча, воздух взвихрило, загремели сорванные железные крыши, большие рыбачьи челны взлетели вверх, как бумажные игрушки, а потом рухнули на улицы и дома, в сотнях метров от берега. Кремлевские церк ви и башни остались непокрытыми, обезглавленными. Это грозило памятникам быстрой гибелью.
Советское правительство приняло решение о полной научной реставрации кремля и главных памятников ростовской архитектуры. Потребовались крупные денежные средства, много строительных материалов и большое число высококвалифицированных мастеров всех специальностей, в особенности плотников и каменщиков. Начатые в 1956 году работы велись под руководством архитектора В. С. Баните до 1960 года.
Ныне ростовский ансамбль кремля и другие памятники возрождены в таком виде, как были созданы в XVI — XVII веках. Нельзя не думать с горячей благодарностью о людях, вынесших гигантский труд этой художественной реставрации, самой грандиозной в нашей стране за три последних столетия!
Реставрационные работы в Ростове не прекращаются и в наши дни. Предстоит еще много сделать, чтобы укрепить и сберечь отличные фресковые росписи надвратных храмов ростовского кремля, принадлежащие кисти художников Ярославско-Костромской школы.
...Доброжелательные автотуристы подвезли меня по московской дороге до моста через речку Ишню. Казалось бы, после ростовских памятников архитектуры уже ничто не могло поразить воображения. Однако маленький деревянный храм Иоанна Богослова на Ишне не померк даже перед каменной архитектурой Ростова!
Хорошо прийти сюда под вечер, спросить ключ у сторожихи Надежды Константиновны Калмыковой, и побыть здесь перед небольшим иконостасом, хранящим следы шаровой молнии, что могла бы испепелить маленький храм, но лишь сбила главку, оставила странные пятна на иконах, будто подзолотила некоторые узоры и венцы, и ушла в окно, «насытясь разрушением». Пахнет здесь старым сухим деревом, и можно руками ощупывать хорошо подогнанные сосновые бревна, проверять доброту их тески и рубки.
Вот уж поистине как у Андрея Вознесенского:
сколько раз мои печали развели
эти пальцы деревянные твои!
Переславль-Залесский
Этот старинный город, лежащий на дороге Москва — Ярославль, теперь встречает приезжего индустриаль н ы м и шумами, не умолкающими и ночью. И пахнет здесь порой «химией», она заметно присутствует в воздухе — это дают себя знать фабрика кинопленки и красильные. Рыбаки на Плещеевом озере жалуются, что уловы знаменитой плещеевской ряпушки, или, как ее еще зовут, переславской сельди, сильно убыли.
В городе много новой застройки — по большей части на лугах, подступающих к озеру. Особой заботы о красоте этих жилых «массивов» строители не проявили. А при желании можно бы почти при тех же затратах куда более умело связать эту застройку с городской архитектурой и природой, сберегая красоту древнего города. Хорошо, что теперь вынесено на этот счет постановление Совета Министров, и с архитектурным нигилизмом и убогим делячеством по отношению к памятникам зодчества и сложившимся ансамблям будет, надо полагать, навсегда покончено.
Переславль основан Юрием Долгоруким, и еще при жизни этого князя здесь возвели Спасо-Преображенский собор, около самого крепостного вала. Этот главный собор Переславля поныне сохранен в его первоначальных формах и производит исключительное впечатление своей могучей, суровой и скупой гладью белокаменных стен. Архитектура его типично владимирская, северо-восточная.
Если случится вам побывать в Переславле хотя бы проездом и даже ночью — можете смело поспеть к собору за десять минут. В темноте он будто слегка светится, как сказочный бел-горюч камень, на фоне темного, заросшего травой вала, сохранившегося с XII века. Собор кажется цельным монолитом, будто высеченным из одной глыбы. Глава его невысоко поднимается над земляным валом — верно, в древности собор был включен в оборонительную систему города.
А поблизости, к югу, виден интересный шатровый храм XVI века, входящий в живописный, более поздний ансамбль двух пятиглавых церквей. Храм этот построен в честь исторического лица, митрополита Петра, в связи с любопытным эпизодом, разыгравшимся в Переславле-Залесском. Случай этот своеобразно отражает соперничество князей Москвы и Твери.
Еще в начале XIV века пресвитер одного из южнорусских монастырей иконописец Петр получил от константинопольского патриарха Афанасия сан митрополита киевского и «всея Руси». Из Киева Петр перенес митрополичий престол во Владимир, но фактически жил в Москве, чем вызвал недовольство тверских князей.
Петр поддерживал объединительную политику московского князя Юрия Даниловича и его младшего брата — Ивана Калиты. Князья тверские оклеветали Петра, обвинив в продаже церковных должностей, и потребовали суда над ним. На суде, который состоялся в Спасо-Преображенском соборе Переславля, престарелый Петр держался с большим достоинством и доказал свою невиновность. Противники его были посрамлены.
Эпизод этот подготовил почву для окончательного переноса митрополичьей кафедры в Москву, а в честь оправдания Петра, в память о его блестящей самозащите переслав-цы воздвигли шатровый храм рядом с местом суда, Спасо-Преображенским собором.
Богат Переславль и сооружениями XVII века. К числу лучших принадлежат Проездные ворота в Горицкий монастырь (где ныне помещается местный музей). Ворота эти монументальны и в то же время нарядны, праздничны и как-то по-доброму, по-крестьянски наивны. Их украшают резные каменные кони-рельефы, похожие на детские глиняные игрушки, у них веселый, жизнерадостный убор, напоминающий рисунки деревенских рукодельниц.
В другом переславском монастыре, Никитском, на озерном берегу, сохранился ансамбль построек времен Ивана Грозного, пополненный в XVII веке шатровой колокольней и новым архитектурным убором Трапезной палаты.
По дороге в Москву, в двух верстах от Переславля, на лесной опушке виден еще один каменный шатер, старинный и немного сказочный. Это Федоровская часовня, иначе называемая «Крест». Ее шатровый верх опирается на кувшинообразные столбы-опоры. На этом месте, четыре века назад, будто бы появился на свет царь Федор Иоаннович: царица-мать родила Ивану Грозному престолонаследника во время богомолья, на пути к переславским святыням — Горицкому и Никитскому монастырям.
Скоро мелькнет и Загорск со знаменитой лаврой — архитектурным ансамблем, создававшимся на протяжении четырех столетий и все-таки единым и цельным.
Если иметь в виду только XVII век, очень хороша и характерна для этого времени в Загорской лавре шатровая церковь Зосимы и Савватия с примыкающими к ней Больничными палатами — один из немногих образцов русской гражданской архитектуры XVII века, не искаженных поздними переделками (здесь их недавно убрали наши реставраторы).
Композиция церкви Зосимы и Савватия — прямой след старорусской деревянной жилой архитектуры, где высокое крыльцо, часто завершенное шатровым верхом, служило композиционным центром для обеих клетей здания, срубленных справа и слева от крыльца. Такую композицию можно и сейчас видеть в северных постройках под Архангельском, Вологдой или Петрозаводском.
IV. Канун реформ Петровых
Строил Трофим Игнатьев
(Иосифо-Волоколамский монастырь)
Волоколамск — слово очень емкое и выразительное. Оно мгновенно создает целую картину жизни древнерусских людей на реке Ламе, правом притоке Волги. Ламская волоковая система была важным связующим звеном на водном пути из Новгорода в Москву.
Самый волок имел протяжение около пяти верст, суда одолевали этот участок на катках и полозьях-кренях. Новгородские гости проходили по рекам Волошне, Гряде и Озерне в Рузу, приток Москвы-реки, а через реку Протву можно было попасть прямо в Оку. Ламский волок был так хорошо известен в старину, что летописцы часто пользуются им как ориентиром, даже не уточняя названия: «пошел за волок», или «в селах за волоком...».
Для защиты Ламского волока здесь давно заложили город-крепость. Остатки высокого насыпного городища со старинным собором наверху и теперь хорошо видны, когда подъезжаешь к Волоколамску.
Если от Волоколамска свернуть в сторону большого села Теряева, то примерно на двадцать втором километре (поверим счетчику!) появится слева от шоссе неглубокое, облюбованное рыболовами озерко, поросшее камышом и осокой. Еще в старину здесь запрудили мелкую луговую речку Сестру — получился водоем, поныне красиво отражающий соборные главы и высокие стены Иосифо-Волоко-ламского Успенского монастыря. Этот монастырь — один из выдающихся памятников архитектуры XVII века.
Основал его в 1479 году монах Иосиф Волоцкий, церковный писатель и проповедник, стоявший близко ко двору московского князя Ивана III. Последователей религиознополитического учения Иосифа стали называть иосифлянами. Они противостояли еретическому учению нестяжателей.
К началу XVI века монастыри, в том числе и Иосифо-Волоколамский, владели огромными поместьями и десятками тысяч крепостных крестьян. Нестяжатели во главе с «заволжским старцем» Нилом Сорским и его последователем Вассианом Косым, требовали изъятия у монастырей этих владений как противоречащих христианскому учению. Иосифляне же стали на защиту земельных владений церкви.
«Аще у монастырей сел не будет, како честному и благородному человеку постричися? — восклицал Иосиф Волоцкий на церковном соборе. — И аще не будет честных старцев, отколе взяти на митрополию или архиепископа, или епископа и на всякие честные власти? А коли не будет честных старцев и благородных, ино в вере будет по-колебание...»
Церковный собор, приняв сторону Иосифа Волоцкого, осудил нестяжателей. Стоявший близко к ним ученый-гуманист Максим Грек был приговорен к заточению в Иоси-фо-Волоколамском монастыре. Здесь же, в стенах этой обители, окончил свои дни соратник Нила Сорского Васси-ан Косой, отпрыск старинного княжеского рода Патрикеевых, приходившийся внуком великому князю Василию II. Таким образом, в одном монастырском соборе «почили в бозе» два непримиримых врага — идеолог нестяжателей Вассиан и глава иосифлян, поборник церковных прав на землю и крепостных, создатель учения о божественном происхождении царской власти игумен Иосиф Волоцкий. Кстати, теорию «Москва — третий Рим» создал его ученик, монах Филофей.
В начале XVII столетия Иосифо-Волоколамский монастырь оказался в самой гуще борьбы с восставшими под водительством Ивана Болотникова крестьянами. Монастырь помогал Василию Шуйскому и деньгами, и военной силой, и... молитвами, лишь бы царь одолел Болотникова. А когда сам Василий Иванович Шуйский был свергнут и пострижен в монахи, то местом заключения ему избрали все тот же Иосифо-Волоколамский Успенский монастырь.
Поляки осадили этот монастырь-крепость, взяли его и разорили в 1610 году. От этого разгрома монастырь долго не мог оправиться и возродился вновь только при царе Алексее Михайловиче. Были частично восстановлены некоторые древние строения, например Богоявленская трапезная церковь 1504 года, — возведены новые здания и возобновлена ограда, великолепное ожерелье шатровых башен над каменными стенами.
Внутри этих стен поныне сохранились три многоглавых храма. Главной вертикалью Иосифо-Волоколамского ансамбля была колокольня, одно из прекраснейших высотных зданий древней Руси, прямой прообраз знаменитого кремлевского столпа — Ивана Великого.
Возведенная в восьмидесятых годах XV века, колокольня Иосифо-Волоколамского монастыря была надстроена через два столетия, при Алексее Михайловиче. Ее девять постепенно сужающихся кверху ярусов возносили крест и купол на огромную высоту. В прошлом веке стали замечать, что башня чуть-чуть покосилась, но архитектор К. Тон, обследовав ее могучие фундаменты, вычислил» что колокольне не грозит никакая опасность — она может простоять века, правда, увеличив собою число так называемых «падающих башен», столь редких во всем мире. И простояла бы красавица колокольня века, если бы не фашистское нашествие: в 1941-м ее поднял на воздух... аммонал. Сильно пострадали тогда и другие архитектурные памятники монастыря.
Самые тяжелые повреждения теперь исправлены, остро не хватает лишь колокольни — так сказать, главной дирижерской палочки всего ансамбля. Но даже и без нее он очень красив. Особенно хороши островерхие башни, пятиглавый надвратный храм, гармонически связанный с соседней башней, и главный кубообразный монастырский собор — Успенский, с прекрасным изразцовым поясом.
Все эти сооружения характерны для подмосковного XVII века. Присматриваясь к ним, особенно после знакомства с владимирскими и ростово-ярославскими памятниками, видишь, как бесконечно разнообразны приемы композиции и оформления зданий, как непохожи они друг на друга — по стилистическим особенностям и творческому почерку, и в то же время как своими чертами общности и родства все они сливаются в единое великое национальное зодчество.
Башни и стены Иосифо-Волоколамской обители задумывал мастер Иван Неверов, а возводил другой зодчий — Трофим Игнатьев. О его личности мы знаем мало, но бессмертное его творение, которому мастер отдал восемнадцать лет жизни, сохранилось среди русской лесистой равнины, на озерном берегу. Вот как характеризует, например, Кузнечную башню Иосифо-Волоколамского монастыря один из крупнейших современных знатоков русской архитектуры, профессор Михаил Андреевич Ильин:
«По изяществу своего многоярусного силуэта, обработке рустами колонок и украшению многоцветными изразцами Кузнечная башня превосходит не только созданное одновременно с нею завершение Боровицкой башни Московского Кремля, но и более позднюю башню Сюмбеки в Казани».
Поездка в Теряеву слободу много обещает тому, кто хочет повнимательнее прислушаться к древнерусскому каменному сказу, изучить редкий по цельности замысла ансамбль. Его архитектура порадует самый взыскательный глаз, если пройти не спеша вдоль монастырских стен.
Они тянутся примерно с километр, образуя замкнутый многоугольник. Мерный ритм этих стен перебивают стремительные взлеты башен. Сохранилось восемь (из девяти), и ни одна в точности не повторяет другую. Разница не только в отделке, но и в архитектурном типе: с восточной стороны башни круглые, типа столпа; с западной — ярусные (такой была некогда и колокольня), их нарастание ввысь идет ступенями, ярусами.
На восточной стене, начиная с северного угла, стоят башни — Безымянная, Никольская, Мироносицкая (или Воскресенская); юго-восточный угол украшен Петровской башней, а вдоль западных прясел расположены самые интересные башни — цилиндрическая Старицкая, квадратная в плане Германова (она служила местом заключения знатных узников) и ярусная Кузнечная.
Обойдешь эти стены, любуясь и старинными запущенными прудами, где некогда монахи откармливали карпов, — и подумаешь, что не только в пропорциях объемов и красоте узоров заключается тонкий художественный расчет Трофима Игнатьева. Поражает знание перспективы, умение с непогрешимой точностью угадывать и предусматривать тайны светотени.
Уже в послевоенные годы, во время реставрационных работ, группа преподавателей и студентов Московского архитектурного института сделала точные обмеры, сняла планы и зарисовала здания ансамбля. Обмеры показали, как свободно владели древнерусские мастера всеми средствами художественной выразительности.
Например, во всех башнях применен прием постепенного, незаметного глазу сужения объемов по вертикали. Введена сложная система «оптических» поправок, чтобы усилить динамизм этой архитектуры, ее устремленность вверх. Даже машикули, то есть навесные бойницы, сужены кверху — верхняя часть прорези обязательно уже, чем нижняя, и в целом эффект взлета достигается полностью. Этому помогает и весь декор башен.
Вовсе отсутствует в этом зодчестве принцип строгой симметрии, математической правильности. Начинавший строительство Иван Неверов и осуществивший постройку до конца Трофим Игнатьев пренебрегли слишком легкими возможностями трафаретных решений, повторяемости деталей. Каждая часть ансамбля решена свободно, по-своему. Принцип симметрии здесь уступил место принципу гармонии, равновесия масс и объемов, при вполне свободной композиции их. Это и создает ощущение жизненности, вольности. А самое главное — это безошибочное ощущение слитности всех строений воедино. Ни одно здание не мыслится вне ансамбля, вопреки ему и природе...
На пути к Волоколамску минуешь и знаменитый Новый Иерусалим, бывший Воскресенский монастырь на Истре, любимейшее детище патриарха Никона, здесь и погребенного. Монастырь тоже был разрушен осенью 1941 года, но уже частично воскрешен реставраторами: они восстановили стены и башни ограды, красивый Входо-иерусалимский храм, построенный крупнейшим зодчим XVII века Яковом Бухвостовым (кстати, Трофим Игнатьев был его односельчанином).
Можно надеяться, что такие уникальные памятники древнерусского искусства, как иосифо-волоколамский и ново-иерусалимский ансамбли, со временем будут полностью возрождены трудами советских реставраторов.
Звенигородский, Саввино-Сторожевский
В стародавние времена стояла дозорная вышка с колоколом на крутом песчаном обрыве над рекой Сторожкой, притоком Москвы-реки. Поблизости, верстах в двух, срубили укрепленный городок рядом с дедовскими, славянскими могилами-курганами. На все стороны кругом синели леса.
Внизу, под горой, полая Москва-река крутила по веснам тяжелые, почерневшие льдины, принесенные «из-за Можая»... До Москвы намерили отсюда верст полсотни с гаком. Владели здешним уделом младшие московские князья, жительствовавшие обычно поближе к великокняжескому двору, в самой Москве.
Сигнальная дозорная вышка на Стороже-горе предупреждала о любой угрозе, надвигавшейся с запада. Звенела тогда с горы колокольная медь, и стали жители называть свое поселение Звенигородом.
После Куликовской победы Димитрий Донской завещал города Галич и Звенигород младшему сыну Юрию. Князь Юрий был честолюбив, решителен и рано стал готовиться к тому, чтобы потягаться за власть со старшим братом Василием и его потомками.
В удельном своем Звенигороде он сильно укрепил кремль, или, как тут говорили, городок, окружил его валами и стенами, построил себе терем, а рядом с теремом — белокаменный одноглавый храм в честь Успения богородицы.
Этот храм сохранился без особенных переделок до нашего времени и носит название «Успенский собор, что на городке». Невидимый с дороги, он стоит над спокойным изгибом Москвы-реки. Поднимаешься к нему крутой лестницей и, лишь одолев ее всю, увидишь среди невысоких домов и зелени белокаменный собор.
Выстроен он в самом начале XV века в духе традиций домонгольских, владимиро-суздальских, но есть в нем и чисто местные, московские, черты. Безошибочностью своих благородных пропорций, тонкой грацией, казалось бы, совсем простых и все-таки изысканно подобранных украшений этот памятник пятисотлетней давности приобрел славу одного из самых ценных образцов раннего подмосковного зодчества.
Для росписи «Успенского собора, что на городке» князь Юрий сумел заручиться помощью самого Андрея Рублева — мастер прибыл сюда с учениками, и, видимо, под его наблюдением были написаны соборные фрески. Их следы, открытые в прошлом веке, сохранились поныне.
А в двух километрах отсюда, на Стороже-горе, там, где стояла древняя дозорная вышка с колоколом, возникло передовое укрепление: Саввино-Сторожевский монастырь-крепость. Существуют разные сведения о годе его основания в конце XIV столетия, но создание монастыря, несомненно, связано с именем ближайшего и любимого ученика Сергия Радонежского — монаха Саввы.
Князь Юрий Дмитриевич пригласил Савву (которого Сергий сделал настоятелем Троицкой лавры) в игумены вновь созданного монастыря в Звенигороде. Как писалось в старой житийной литературе, «Савва отправился на указанное ему место, дабы видеть, удобно ли оно будет для иноческой жизни. Увидевши, что это место прекрасно, как небесный рай, он начал молить божию матерь о помощи» и т. д.
Расположение монастыря действительно прекрасно (и стратегически было выгодно!), а авторитет Сергия Радонежского и его близких учеников был в те времена так высок, что одно имя Саввы привлекло к новой обители всеобщее внимание. Это вполне отвечало честолюбивым замыслам Юрия и его сыновей, вовлекших московскую Русь в долгую междоусобную войну.
Чтобы возвеличить новый монастырь, Юрий повелел построить внутри его деревянных стен Богородице-Рождественский собор. Его воздвигли в первые десятилетия XV века по образцу соседнего «Успенского собора, что на городке» и главного храма Троицко-Сергиевской лавры — Троицкого собора, который, кстати, тоже был выстроен на средства Юрия. Если сравнить друг с другом эти три древнерусские постройки, сходство сразу бросается в глаза.
Архитектурная отделка собора в Саввино-Сторожевском монастыре несколько проще отделки Успенского храма, но внутри Рождественский собор был искусно расписан живописцами XV века, опять-таки при участии Андрея Рублева. Незначительные остатки этих высокохудожественных росписей сохранились доныне. Они, быть может, дошли бы до нас почти полностью, если бы в XVII веке царские мастера не сбили рублевские фрески, чтобы расписать собор изнутри наново.
Эти росписи XVII века, тоже очень интересные, выполнила артель придворных художников во главе со Степаном Рязанцем. Сейчас ведется постепенная реставрация и изучение тех и других росписей.
Немало крупных событий русской истории разыгралось в этом монастыре или с ним связано. Здесь укрывалась вдова первого Лжедимитрия Марина Мнишек со своим отцом Юрием Мнишеком. Отсюда польская авантюристка перешла в 1608 году в Тушино — лагерь второго Лжедимитрия. За то, чтобы Марина признала «тушинского вора» истинным «царевичем Димитрием Ивановичем», Юрий Мнишек запросил триста тысяч рублей золотом!..
Войска польско-литовской шляхты разгромили Саввино-Сторожевский монастырь с его деревянным тыном. Уцелел лишь белокаменный собор.
В 1652 — 1654 годах Алексей Михайлович почти заново отстроил монастырь. Опасаясь новой войны с Польшей, он сильно укрепил обитель, окружил ее мощными каменными стенами с семью башнями (сохранилось шесть). Царские горододельцы, работавшие под началом Ивана Шарутина, создали по всем тогдашним правилам боеспособную крепость, могущую противостоять врагу не хуже, чем Троицкая лавра.
В те же годы в монастыре был построен дворец для Алексея Михайловича и его свиты (в расчете на 500 человек!). Особые палаты воздвигли для царицы Марии Милославской, матери Софьи, — в этом каменном здании очень нарядно крыльцо, характерный образец архитектурной отделки XVII столетия.
Тогда же соорудили в монастыре обширную трапезную, новую Троицкую церковь и достроили замечательную колокольню-звонницу. Строительство велось столь широко, Алексей Михайлович делал монастырю такие подарки — драгоценности, земельные угодья, варницы, рыбные ловли и, разумеется, тысячи и тысячи крепостных людей, — что Саввино-Сторожевский монастырь одно время стали величать даже более торжественно: «лавра».
Правительница Софья укрывалась в монастыре вместе с юным Петром в дни заговора Хованского. В память об отом Софья повелела построить рядом с трапезной и колокольней еще одну церковь — Преображенскую.
В начале XIX века, когда уж никакой монастырь не мог заслонить подступов к Москве, Звенигород оказался на дороге наполеоновского корпуса, которым командовал принц Евгений Богарне. Существует предание, что на принца произвели сильное впечатление мощи основателя монастыря Саввы, стоявшие перед соборным иконостасом в особой раке. Принц, если верить легенде, спросил: «Сколько лет спит этот старец?» Получив ответ: «Пятое столетие», принц будто бы приказал пощадить обитель.
Из окрестностей Звенигорода наполеоновских интервентов прогнали партизанские отряды.
...Когда находишься внутри стен монастыря, особенно восхищает колокольня, чей силуэт с группой шатров издали виден на вершине горы Сторожи.
Собственно, именно колокольня Саввина монастыря и оправдывала до нашего века название Звенигорода, потому что висел на ней знаменитый колокол в 2125 пудов, отлитый мастером Григорьевым в 1667 году. Это был звонкий памятник русскому литейному искусству. Звучность григорьевского колокола была такова, что глохли саввинские звонари. Мне рассказывали, что звук колокола со временем пришлось искусственно ослабить: в колоколе просверлили отверстия. Но даже ослабленный звон сторожевского великана явственно слышался в тихую погоду за двадцать и более верст. Колокол погиб в 1941 году, при попытке эвакуировать его во время наступления немцев.
Строение Саввино-Сторожевской звонницы росло постепенно: в пятидесятых годах XVII века впритык к южной стене трапезной построили трехъярусную колокольню с широкими проемами для «звонов». Позже над арками возвели восьмигранные шатровые башенки для малых колоколов — «подзвона». А над центральным проемом, где висел главный григорьевский колокол, устроили еще дополнительную часовую башенку. Часы для нее царь Алексей Михайлович вывез из Смоленска, отбитого у поляков. Наконец, в конце XVII века пристроили к колокольне отдельную лестницу, чтобы легче было всходить на высоту, к «звонам». В часовой башенке поныне висит смоленский колокол отливки 1636 года. У него чистый и ясный звук.
Поднимешься туда, на верх колокольни, — даль распахивается на десятиверстья. Неторопливо моет песчаные берега река Москва, запруженная выше, под Можайском, где возникло самое молодое из подмосковных морей. Поэтому здесь, у Звенигорода, река неглубока, прогрета до самого дна, на редкость приветлива в своих луговых бережках: множество ребятишек по-утиному плещется возле желтых мысов и отмелей.
У подножия горы Сторожи впадает в Москву-реку извилистая речка Разводня, именуемая, впрочем, и Сторожкой, по аналогии с горой. Прожилки тропинок во все стороны разбежались со склонов. Звенигородцы и приезжие люди, отдыхающие в местных санаториях, любят побродить по холмистым окрестностям Саввинской слободы. Чуть сбоку от речной дуги, между монастырем и Звенигородом, приподнята над лесом одинокая главка Успенского собора, что на городке. Легко здесь дышится пряным ветерком с луговой речной поймы.
А внизу, от башни к башне, тянутся прясла стен Савви-но-Сторожевского монастыря. Они замыкают древнерусский архитектурный ансамбль, один из тех, что выстроен будто одним зодчим, жившим на протяжении столетий. Ведь от старейшего «ядра» этого ансамбля — храма Рождества богородицы с его узорчатым резным фризом — до братского корпуса XIX века пролегло более четырех веков, но любая новая постройка входила в прежнее единство органически: уважение к трудам предшественников характерно для древнерусского зодчества.
Три памятника над Москвой-рекой
Пассажирам открытой линии метро Кунцевского радиуса хорошо знаком красивый силуэт златоглавого храма, мелькающий за окнами вагона, когда поезд, пробежав вдоль Москвы-реки, минует Фили.
Это многоярусный храм Покрова — одно из самых совершенных произведений русского зодчества конца семнадцатого века. Следование древним традициям сочетается здесь с поисками новых средств выразительности, а поиски эти очень характерны для начала времен Петровых.
Имя автора здания пока установить не удалось. Заказчиком был брат царицы Наталии Кирилловны, матери Петра, боярин Л. К. Нарышкин.
Церковь построена на филевской пригородной усадьбе Нарышкиных. В той же манере выстроено в самой Москве и загородных имениях Нарышкиных много красивых и нарядных зданий — дворцов, церквей, беседок, парковых павильонов. Им всем присущ тот же торжественный, мажорный, празднично-приподнятый стиль, который вошел в историю русского искусства под названием нарышкинского, или московского, барокко.
Создавая храм Покрова в Филях, один из самых блестящих образцов нарышкинского барокко, неведомый нам строитель (несомненно, выходец из крепостных крестьян) проявил глубокое знание древнерусских архитектурных образцов и живой интерес к декоративным приемам современного ему Запада.
Расположение и планировка церкви Покрова напоминает черты храма Вознесения в Коломенском: на арках подклета устроена и здесь терраса-гульбище, куда посетители поднимаются по широким, плавным лестничным всходам. Они ведут на террасу с трех сторон света, кроме во сточной, алтарной. И как в Коломенском храме, прием этот делает здание более земным, не дает ему оторваться от родной почвы, при всей его устремленности к «горним высям».
Как и большинство более ранних русских церквей, храм Покрова имеет высокий и просторный подклет. В нем в прежние времена была отдельная церковь. Собственно же храм Покрова расположен (как и в соборе Василия Блаженного) над подклетом, опирается на его перекрытие.
Главный, кубический объем здания снаружи кажется неприметным — он с четырех сторон окружен полукруглыми приделами, причем каждый увенчан золотой главой. Подобное центрическое построение с приделами-прирубами, несущими главы, — прием, распространенный в деревянной русской архитектуре.
В храме Покрова глазу открыт снаружи только верх четверика, над которым вырастает главный (световой) восьмерик. Зодчий умело решил переход от четверика к восьмерику, оттенив этот переход карнизом и резными белокаменными украшениями, как бы продолжающими тройные капители угловых колонок. Верх главного восьмерика перекрыт сводом, выше идет второй восьмерик с проемами для «звона». Колокольный гул разносился по всей округе, но в самом храме был не слышен. Барабан центральной главы тоже оформлен как изящный, стройный восьмеричок.
Зодчий дал здесь новое архитектурное выражение древнему типу церкви «иже под колоколы», известному в деревянном зодчестве и позднее перенесенному в камень. К этому интересному храмовому типу принадлежит небольшая, но поразительно цельная и монументальная Духовская церковь в Троице-Сергиевской лавре, небольшой Георгиевский храм в Коломенском и необычайно благородная в своей изысканной простоте белокаменная трехъярусная церковь села Полтева близ Купавны, построенная на рубеже XVII — XVIII веков, но уже не в нарышкинском стиле, а с элементами раннего петровского барокко.
Итак, основные приемы композиции храма в Филях как будто традиционные: высокий подклет, приделы-прирубы, паперть-гульбище, принцип «восьмерик на четверике», тип храма «иже под колоколы». Каковы же приметы нового времени в этом шедевре нарышкинского стиля?
Они глубоки и важны для понимания путей развития русского зодчества. Было бы неправильно искать эти приметы лишь в тех западных влияниях, что проникли к нам сквозь «окно», прорубленное Петром в Европу. Гораздо важнее уяснить себе те перемены, какие произошли к тому времени в народном сознании.
Само духовное начало русских людей становилось более мирским, светским. Крепло национальное самосознание, чувство принадлежности ко «всея Руси» и к единому народу. Повысилось и ощущение сложности, ценности отдельной человеческой личности. По-новому осмыслялись явления природы и космоса, расширялись географические представления. Природа и небо, земной шар переставали быть полу-сказочными областями.
Все это находило выражение в искусстве, в том числе и в таком чутком, как зодчество.
Русские архитекторы той поры, выходцы из крестьян, приобретали теперь свой опыт не только от старшего мастера и не из одних лишь древних образцов. До русских мастеров палатных и каменных дел начинали доходить и книжные сведения об архитектуре других стран и сменах стилей. Эти сведения черпались из итальянских, французских и голландских книг о зодчестве, частично переведенных на русский язык и имевшихся в библиотеках заказчиков — таких, как Нарышкины и Шереметевы, Апраксины и Голицыны.
Глубоко народное искусство — русская архитектура — было всегда искусством идейным, жизнеутверждающим. Новшества архитектурные становились девизом, боевым знаменем.
И недаром противники петровских реформ в те же годы подчеркнуто держались «чистой старины»: так бояре Милославские, родственные царевне Софье и оппозиционные Петру и нарышкинской партии, построили в своей усадьбе Аннине (районе нынешнего города Рузы) шатровый храм во вкусе XVI столетия. Этот интересный памятник архитектуры, воздвигнутый в знак протеста против новых веяний, сохранился до сих пор и наглядно свидетельствует в камне, как глубоко и остро происходила тогда идейная борьба в искусстве. Если сравнить аннинский шатровый храм, в котором все подчеркнуто традиционно, с Покровской церковью в Филях, новаторские черты этой церкви проступят необыкновенно ярко.
Зодчий Покровской церкви свободно пользуется сочной резьбой по белому камню на красном кирпичном фоне стен. Эта резьба так пластична, что уже приближается к скульптуре. В рисунки наличников, надкарнизных поясов и колонок смело введены мотивы западного барокко.
Внутри храма строитель отказался от полутемного, расчлененного столбами пространства владимиро-суздальских и ранних новгородских церквей. Он решает храм как единый высотный зал, хорошо освещенный из больших окон.
Внутреннее убранство церкви Покрова — это подлинная сокровищница деревянной резьбы. Особенно интересен иконостас — грандиозное сооружение, воздвигнутое от пола до верхних сводов.
Мне довелось побывать здесь во время реставрационных работ, когда многоярусные леса поднимались под самые своды, деля внутреннее пространство на горизонтальные пояса-площадки, на которых работали художники-реставраторы. На верхней площадке архитектор-реставратор Ирина Валентиновна Ильенко показывала мне подновленные росписи на сводах и изумительную резьбу иконостаса под самым куполом храма. Резьба эта тонко рассчитана на зрительное восприятие снизу.
Как и большинство русских церквей, храм Покрова построен на невысоком холме, над речным берегом. Он был виден издалека. Его отражение повторялось в воде старинного пруда, сохранявшегося еще в тридцатых годах. Теперь вокруг памятника — современный пейзаж бурно растущего городского района Фили — Мазилово, связанного новым мостом с районом Красной Пресни на том берегу. В этом окружении Покровский храм, несмотря на свое архитектурное совершенство, несколько проигрывает в сравнении с двумя другими памятниками той же поры, расположенными выше по Москве-реке.
Верховья нашей реки — красивейшие места Подмосковья. От Можайского моря до Звенигорода, от Звенигорода до Серебряного бора пейзажи речной поймы и высоких лесистых берегов меняются с каждым изгибом реки. Эти пейзажи приветливы, река ласковая, тихая, душевная. Плывешь ли по ней на байдарке, идешь ли пешком вдоль берега, срезая путь по прямой между речными петлями, — перед тобой все время красота природная и красота, созданная человеческими руками.
Километрах в пятнадцати ниже Звенигорода, за селом Успенским и санаторием «Сосны», на одном из приречных выступов Николиной горы издалека виден силуэт церкви, созданной по заказу графа П. Шереметева крепостным зодчим Яковом Григорьевичем Бухвостовым между 1694 и 1697 годом. Стоит церковь Спаса в сельце Уборах, некогда входившем в шереметевские владения.
Добираться до нее нам придется пешком, из Петрова-Дальнего или Успенского, но зато по дороге будет время припомнить жизнь самого Якова Бухвостова. История типическая и обыкновенная для Руси XVII столетия, необыкновенным был лишь талант крепостного мастера, рожденного в селе Никольском-Сверчкове под Дмитровом.
Крепостной крестьянин графов Татищевых, Яков Бухвостов оставил потомкам зримую память о своем выдающемся даровании. Он построил стены, башни и надвратную церковь Ново-Иерусалимского монастыря, а в Рязани — величавый и необычайно оригинальный собор. Этот собор строился в одно и то же время с церковью в Уборах.
Страстно преданный архитектурному искусству, вкладывая в свои постройки всю душу художника, Бухвостов не мог, разумеется, вести обе сложные постройки одновременно: шереметевский храм стоял в лесах, работы над ним приостановились.
Рассерженный вельможа пожаловался на мастера в Приказ каменных дел, сославшись на договор. В Рязань отправились уполномоченные, чтобы арестовать зодчего, но вернулись они с докладом, что «поймати себя он, Якун-ка, не дал и от них, посыльных людей, ушел». Видимо, рязанцы, дорожа мастером, сумели укрыть его.
Все же спор с всесильным боярином мог окончиться плохо для мастера. Его в конце концов разыскали, заключили в тюрьму, и Приказ каменных дел вынес приговор «бить его кнутом нещадно». Если бы Шереметев сам не попросил об отмене приговора, церковь в Уборах, вероятно, никогда не была бы закончена.
Время сберегло для нас творение зодчего — вот он, почти трехсотлетний храм, воздвигнутый над просторной речной излучиной.
Если из села Уборы выйти к пойме реки, обойти бух-востовский храм и спуститься с небольшой высотки, очерк храма ляжет на воду пруда или речной старицы, точно там, между желтых лилий-кувшинок и стеблей осоки, укрыто еще одно — зеркальное — повторение бухвостовского здания. Оно и похоже и не похоже на Покровскую церковь в Филях: тот же принцип «восьмерик на четверике», тот же тип храма «иже под колоколы», то же гульбище, но общее архитектурное решение и декоративный убор, может быть, даже превосходят по совершенству то, что было достигнуто в Филях!
Это тоже нарышкинское, или, как его еще именуют, московское, барокко. Но такая бездна изобретательности и выдумки применена здесь буквально в каждой детали, что в рамках одного стиля достигнуты совершенно новые эффекты. Трудно перечислить все тончайшие приемы декорации, придуманные талантливым мастером. Тут и особенно пластичная, будто вылепленная из глины, «трехлепестковая» форма притворов, придающая стенам скульптурную игру теней. Тут и необычайно щедрый белокаменный резной убор — витые колонки, изогнутые волюты; крученые, как сахарные леденцы, столбики, раковины алевизовского типа (как в Архангельском соборе Московского Кремля). Тут и богатейший, пышный узор наличников, которым не устаешь любоваться. Нужны часы времени, чтобы зарисовать хотя бы часть этих бесконечно разнообразных украшений.
Сейчас, когда интерес к памятникам отечественной культуры становится всеобщим, в село Уборы приходят многие экскурсанты, школьники и студенты — увидеть пейзаж и здание, сберечь для себя память о творческом подвиге крестьянина-зодчего Якова Бухвостова, завещавшего нам любовь к отечеству, его лугам и водам, отражающим творения дивной русской архитектуры.
О последнем из трех памятников XVII века над Моск-вой-рекой — всего несколько слов. Многим москвичам он хорошо известен, а людям приезжим стоит потратить часок-другой, чтобы взглянуть на него хоть издали.
Я говорю об удивительной по своим пропорциям и архитектурной отделке церкви, построенной, как доказано исследователями, тем же Яковом Бухвостовым в другой подмосковной усадьбе, принадлежавшей роду Нарышкиных, — селе Троице-Лыкове. Смелый очерк этого храма с его дополнительной парою куполов над боковыми притворами виден над высоким обрывом Москвы-реки, у самой Троице-Лыковской пристани.
Над восстановлением первоначального, изумительно нарядного облика этого храма еще долго предстоит трудиться реставраторам. Долго еще храм будет окружен строительными лесами — объем восстановительных работ здесь велик, и сложность их значительна. Ведь надо возродить то, что некогда с такой тщательностью и совершенством вырезали из камня крепостные мастера.
Но когда реставрационные работы подойдут к концу, это здание вновь заблестит, как драгоценность, усыпанная бисером, обтянутая золотыми нитями, сверкающая и переливающаяся в лучах солнца, — так образно охарактеризовал внешнюю отделку Троице-Лыковского храма один из его исследователей, В. Н. Подключников.
А профессор М. А. Ильин пишет о нем:
«Храм Троицкого-Лыкова, один из последних памятников Древней Руси, может быть с полным правом назван ее лебединой песнью».
Звучит она, эта лебединая песня древнерусской архитектуры, над берегами Москвы-реки, над зеленью Серебряного бора и ближними окраинами нашей столицы. Идут под обрывом катера и спортивные гички, желтеет песок излюбленных купальщиками отмелей, и тысячи глаз видят уступчатую пирамидку храма-башни, последнего по времени архитектурного дива древней Руси.
Северные прообразы каменных шатров
Искусствоведы давно задумывались над тем, где искать корни, истоки большой московской архитектуры XV — XVI и XVII веков.
Еще в прошлом столетии историк и археолог И. Е. Забелин, многолетний руководитель Государственного Исторического музея в Москве, первым вы
двинул теорию, объясняющую своеобразие каменной московской архитектуры времен Ивана III, Василия III и Ивана IV тем, что свои основные формы эта архитектура взяла из народного деревянного зодчества, преимущественно северного, воссоздав в камне традиционные формы шатра, кокошника, бочки, «гирьки» и другие характерные мотивы. Эта теория И. Е. Забелина в основном, с некоторыми поправками, принята и советским искусствоведением. Поправки учитывают преимущественно технологическую сторону дела — нельзя было механически переносить в камень приемы деревянной архитектуры.
Для московской архитектуры, несомненно, сыграл свою положительную роль и технический опыт, почерпнутый у блестящей плеяды миланских, венецианских и болонских мастеров, приглашенных в Москву. Но, конечно, главным источником творческого вдохновения русских зодчих, создавших Дьяковский пятиглавый храм, изумительную церковь села Остров с ее двумястами кокошников, храм Вознесения в селе Коломенском, собор Василия Блаженного, кремлевские палаты и башенные шатры XVII века, явился тот подъем высоких гражданских чувств, что был вызван освобождением страны из-под татарского ига, победами над ливонскими рыцарями и польско-литовской шляхтой.
И не удивительно, что мастера каменных дел обратились именно к исконным традициям деревянной народной архитектуры. Вспомним, что до XVI — XVII веков весь Суздаль был по преимуществу деревянным. Даже подмосковный Коломенский дворец, построенный в XVII веке и служивший еще детям Петра (он и сам любил это здание), представлял собою настоящую сказку, вырезанную из дерева русскими умельцами. Но главным хранителем традиций русского деревянного зодчества был во все времена русский север.
Не коснулось северных земель татарское нашествие. Северяне не селились столь скученно, и пожар здесь не мог сразу уничтожить целое поселение. Хвойный лес самых ценных пород окружал любое жилье, а величавая лесная природа формировала и величавые характеры здешних зодчих — людей неторопливых и могучих, как кряжистые сосны над ширью северных вод, озаренных негаснущим летним солнцем и покойным светом белых ночей.
Там, на севере, и рождались основные формы деревянных строений, получивших распространение по всей Руси. Они известны с глубокой древности, но до наших дней дошли лишь образцы деревянной архитектуры XVII — XVIII веков. Прообразами московских каменных шатров были, конечно, не эти случайно уцелевшие и дошедшие до нас поздние рубленые постройки, а их давние предшественники, строившиеся по всей стране, в том числе и в Москве, до тех пор, пока деревянную архитектуру не стала постепенно вытеснять каменная.
Какого совершенства достигала эта древняя архитектура, как русский крестьянский топор создавал мировые памятники искусства, об этом дает представление замечательный заповедник, созданный на далеком острове Кижи, одном из полутора тысяч островов неспокойного Онежского озера.
Туристы обычно навещают остров Кижи летом, и надо сказать, что поездка туда на теплоходе едва ли не самый увлекательный у нас туристский маршрут. Из года в год маршрут этот становится все популярнее. За лето Кижский заповедник посещают теперь десятки тысяч человек — количество прежде небывалое.
Но когда мне выпала возможность отправиться в Кижи, стояла уже глубокая осень, музей в заповеднике закрылся, сотрудники покинули остров, остались там одни сторожа и плотники, кончавшие намеченные планом на год реставрационные работы. Над Онежским озером гуляли осенние штормы, суда выходили с перебоями в его простор.
Впервые после войны разглядывал я улицы Петрозаводска и... не узнавал здесь почти ничего старого. Былая деревянная неразбериха уступила место современному, нарядному, хорошо спланированному городу. Сама северная природа, в свое время так точно воспетая Державиным, многое подсказала здесь строителям, и они не отмахнулись от ее мудрости, а удачно приноровились к прибрежным скалистым холмам и лощинам, где шумят под новыми теперь мостами сердитые и бурные речки. Главная улица берет разбег у вокзальной площади и круто сдерживает ритм своих зданий над озерным откосом. В этих домах можно глотнуть онежского ветра прямо из приоткрытой форточки. Хороший стал город! Рожденный после войны почти заново, он приобрел немало черт, роднящих его с великим собратом на Неве.
За просторной площадью, где бронзовый Киров стоит перед многоколонным фасадом театрального здания, заново отделанного после войны, еще издали угадывался спуск к портовой набережной, и уже по цвету неба, по особенной суровости горизонта и отсутствию далей было видно: на озере разыгрался сильный шторм. В порту подтвердили: десять баллов, рейс в сторону Кижей и Великой Губы отменен. Следующий рейс состоится при любой погоде — пойдет большой теплоход «Ладога», а пока, за двое суток, можно поспеть в город Кондопогу и на водопад Кивач. Нашлись и попутчики — ленинградские студенты.
Часа за два автобус довез нас до города бумажников — Кондопоги, и когда мы добрались до берега Кондопожской Губы, то на небольшом скалистом мыске, врезанном в стылую рябь залива, увидели знакомый очерк чудесного деревянного здания, памятный еще по Коломенскому музею: картина, посвященная кондопожской церкви Успения, висит в Коломенском как изображение одного из деревянных предков Коломенского столпа.
То обстоятельство, что Кондопожская церковь возникла двумя столетиями позднее Коломенской (в 1764 году), не имеет значения: безвестный автор северной церкви строил ее так, как до него строили многие здешние мастера, преимущественно по происхождению новгородцы, передававшие свое искусство «из-под руки» — от поколения к поколению. Умели они перенимать секреты красоты непосредственно у самой природы. Вот что пишет об этом знаток северного деревянного зодчества Игорь Грабарь:
«Поразительно умение, с которым эти строители-поэты выбирали места для храмов: нет возможности придумать композиции лучше той, при помощи которой они связывали встающие из-за леса шатры или вырастающие из-за береговой кручи главки церквей со всем окружающим пейзажем, с изгибом реки, с изломом холмов, с гладью лугов и со щетиной лесов. Необыкновенно сильное впечатление оставляют целые группы таких церквей на великих северных реках: издали их можно принять за укрепленные городки со множеством башен и глав».
Кондопожская церковь Успения, выдающийся памятник древнерусского деревянного зодчества, находится под охраной государства. Огромным старинным ключом — таким и от недоброго человека отбиться можно! — сторожиха отперла нам храм, открыла все ставни, и тогда внутренность церкви озарилась и потеплела от неяркого северного солнышка.
Главный неф церкви невысок, по-крестьянски строг и очень уютен. Потолок подпирают красивые резные колонны. Пахнет здесь душистой сосновой смолой с неуловимой примесью запаха очень старых масляных картин, того запаха, что всегда приводит в волнение художников. Очень хорош здешний иконостас и старинные иконы северного письма, родственного суздальскому.
А внешний очерк храма просто незабываем. В нем нет вычурности, нет сказочности кижских церквей, но своей спокойной простотой Кондопожская церковь пленяет самых строгих знатоков искусства. Водники говорят, что особенное впечатление она производит со стороны озера, но и с берега Успенский храм выглядит величавым и задумчивым в своем одиночестве на чуть возвышенном береговом мыске. Идешь к нему деревенской улицей, смотришь, и начинает казаться, что откуда-то из деревни доносится протяжная народная песня, и щемит сердце от задушевного женского голоса — столько в этом деревянном храме самобытной, чисто русской, в лесу рожденной, на волнах сплавленной, сердце томящей красоты, грусти и глубокой думы!
...Железнодорожная станция при городе Кондопоге называется Кивач, но до знаменитого водопада надо проехать или пройти от станции километров тридцать.
Лесной заповедник у водопада просто великолепен. В нем-то и сохранена та северная природная краса, что воплощена во всей древнерусской архитектуре, возникшей именно среди таких, некогда нетронутых, хвойных богатырских боров.
Есть около водопада и маленький природоведческий музей. Пол в нем чуть дрожит от неумолчного грохота воды по соседству.
Державин посвятил Кивачу оду «Водопад» и назвал его алмазной сыплющейся горой. Поэт видел его, вероятно, при солнце. Ночью же, под луной, рвущаяся с одиннадцатиметрового каменистого порога вода, вся превращенная в белую кипящую пену, становится странно зеленоватой, и отблески этого магического света ложатся на скалы и завороженные сосны.
...Теплоход «Ладога» — настоящий современный красавец, и никакие бури на Онежском озере ему нипочем. Но при выходе из Петрозаводской Губы на простор открытого озера корабль мотается на волне, как в заправский морской шторм. Исчезают за кормой, справа, Ивановские острова, и по всему горизонту остаются лишь вздыбленные волны, низкие тучи, косые полосы дальних дождей. Ложится на палубу мокрый снежок, сечет лицо ледяная крупа. Потом возникает впереди полоска суши с металлической башенкой Гарницкого маяка. Это Климецкий остров. Мы уже в Заонежье. Вскоре и первая пристань — Сенная Губа. Хорошо видны старинные дома, большие, некогда рассчитанные на патриархальные семьи. Высоко на мысу — белая каменная церковь.
Слабенькая пристань трещит и качается под мощным напором бортов нашей «Ладоги». Земля острова — черного цвета и на редкость плодородна. Кое-где огороды отделены друг от друга длинными грядами камней, похожими на ледниковые морены. Но эти гряды не игра природы, а результат человеческого труда: огородники отбрасывают каменья при вспашке, а потом складывают вдоль границы участка, вместо забора. Говорят, сколько ни копай, а камней все не убывает. Нелегка обработка этой почвы, но если хорошенько потрудиться — хлеба встают выше головы.
А теплоход уже идет кижскими шхерами, лавируя в проливах между островами, и кажется иногда, будто плывем мы по реке. Справа по курсу остается мыс Корба с деревней того же названия, где дома полускрыты высокими елями. И теряется среди этих темно-зеленых хвойных шатров еще один шатер, пониже и чуть острее — деревянная часовня деревни Корба, один из местных памятников архитектуры. Видно высокое крыльцо, восьмигранный шатер с двумя полицами (водоотводными раструбами), виден рубленный клетью придел с маленькой главкой на коньке кровли. Какое удивительное слияние природы и искусства, архитектуры и пейзажа! Кажется, будто здание само собою выросло здесь, как выросли эти молчаливые старые ели, мох на валунах, трава у крылечка...
Но вот впереди, над водой и низкой полоской земли, уже прояснилось небо и возникла фантастическая, неправдоподобная пирамида, какой-то сказочный утес... Это погост Кижи, цель нашего плавания!
При виде Кижского погоста, как и на Красной площади Москвы перед храмом Василия Блаженного, глаза разбегаются: вы не в силах сразу охватить строгой логики сложного архитектурного творения, которое с первого взгляда кажется чудесным, но беспорядочным нагромождением куполов, крестов, глав, бочек-теремков, крылец, кокошников. Только природа бывает так щедра на красоту, когда громоздит над морем причудливые изломы утесов или возносит на холм целую семью прекрасных медноствольных сосен и озаряет их лучами заката! Здесь же все сотворено не природой, а гениальным зодчим, что сумел научиться у природы ее щедрости и добавил к ней красоту человеческого разума. Ибо, присмотревшись ближе и лучше, вы постигаете вскоре великолепный, небывалый архитектурный замысел автора.
Двадцатидвухглавый храм Преображения — средоточие всего кижского ансамбля, торжественной деревянной легенды. Храм этот тоже памятник славы: он возник в 1714 году, когда победа России в Северной войне освободила Зао-нежье от постоянной угрозы со стороны шведских соседей.
В честь победы население Кижского погоста, веками служившего передовым укреплением для этого края, собрало деньги, наняло плотничную артель и заказало ей такой храм, какой поразил бы каждого своим великолепием. По легенде, мастер, окончив работу, забросил топор свой в озеро и сказал про кижскую церковь: «Не было, нет и не будет такой!»
Когда обходишь церковь Преображения кругом, нетрудно находить точки, откуда архитектурный замысел предстает наглядно, и ярусная структура здания становится понятной. Тогда искусство древнего умельца, его художественные приемы, чутье пропорций, вкус и глазомер восхищают еще сильнее.
Фундаментом для нижних венцов обвязки служат врытые в землю столбы («стулья») и положенные прямо наземь массивные камни-валуны. К среднему, главному, восьмерику примыкают с четырех сторон двухступенчатые прирубы. Каждая ступень имеет двускатную кровлю, увенчанную бочкой с куполом-главкой. Так размещены на ступенях-ярусах восемь глав.
Главный восьмерик тоже завершен восемью главами на бочках. Между ними встроен второй восьмерик, снова оформленный четырьмя главами. На втором восьмерике воздвигнут третий, служащий основанием для барабана центрального купола — по счету двадцать первого. Еще одна, двадцать вторая, глава поставлена над алтарной частью, а с противоположной, западной, стороны устроено парадное крыльцо с красивыми лестницами и галереей-гульбищем.
Самое удивительное в этой сложной композиции — умение зодчего создавать посредством разномасштабности глав и куполов эффект нарастания объемов ввысь, полнейшая целостность замысла, монолитность всего творения.
Срублен храм из могучих сосновых бревен, обработанных только топором и долотом древнерусских строителей. Необычайно сложное и стройное здание высотою в тридцать пять метров построено без железных скреп и гвоздей, только на идеально точных врубках и врезках. Великолепные резные доски-причелины, внутренние опорные столбы, водостоки, все прочие украшения выполнены простейшими инструментами: топором, ножом, долотом. Топором произ-234
водили и отеску, — надо видеть, как тщательно отглажены, отполированы перила, стены, столбы с лицевой стороны, там, где их могут касаться руки или где на них просто падает взгляд.
Перед нами творение народного гения. Безыменность эта даже символична: автор здания — русский народ, и нет в этом здании ни одного мотива, ни одной черточки, чуждой многовековому искусству русского народа. Здесь нова и необычна для своего времени только удивительная композиция этих традиционных форм в одном здании и ни с чем не сравнимая точность, с какой счастливый замысел зодчего воплощен в монументальном памятнике.
Храм Преображения — главная, но не единственная драгоценность кижского ансамбля. Через полвека после возведения этого многоглавого храма рядом с ним, на погосте, возникла еще одна церковь — Покровская. Ее строители, разумеется, приняли во внимание, что замечательное произведение архитектуры нельзя заслонить или испортить неподходящим соседством. Ведь чувство ансамбля, единства нескольких зданий, попадающих в поле зрения одновременно, было характернейшей чертой древнерусских зодчих. И создатели Покровской церкви избрали для нее более скромные формы, однако очень хорошо гармонирующие с храмом Преображения. Художественная ценность десятиглавой Покровской церкви тоже очень велика.
Связующим звеном между обоими главными зданиями кижского ансамбля служит колокольня, построенная в 1874 году. Это сооружение, значительно более позднее, чем обе церкви, не сохранило в полной чистоте исконные народные формы, кое-что было навеяно городской модой — полуциркульные окна над входами, лишний второй вход, — но эти мелочи теряются в общем облике колокольни, исключительно удачно поставленной и композиционно сливающейся с обеими церквами. Получается ансамбль, будто созданный одним зодчим, по единому замыслу. Форма колокольни — традиционная: тонко декорированные «восьмерик на четверике», красивый деревянный шатер над столбами звонницы.
Советские реставраторы под руководством архитектора А. Ополовникова осуществили крупные работы, чтобы устранить в ансамбле кижского погоста неудачные переделки XIX века и полностью восстановить первоначальный архитектурный облик памятников. Снята тесовая обшивка с Преображенской и Покровской церквей, чтобы зритель мог оценить все очарование «этой поистине единственной вдохновенной купольной сказки». Открытые взору бревна в обоих храмах создают удивительные ракурсы уходящих в небо масс здания. В Покровской церкви убрана внутренняя штукатурка, и лишь ее следы напоминают о купеческих стараниях придать этим чудесным рубленым стенам штукатурное «благолепие».
Воссоздана и монументальная ограда древнего погоста. Эта деревянная стена с воротными башенками вызывает в памяти воспоминание о тех временах, когда погост был боевым укреплением, всегда готовым к осаде.
История Кижского погоста уходит в далекое прошлое, и прежние его укрепления, воспроизведенные советскими реставраторами, знали трагические и кровавые события. Когда жителей погоста, здешних крестьян, потомков новгородской вольницы (Заонежье некогда входило в Обонеж-скую пятину Великого Новгорода), приписали к олонецким чугунолитейным заводам, началось брожение среди трудового люда. К середине XVIII века положение ухудшилось. Тяжесть податей и оброчных платежей, беззаконие администрации, оскорбления — все это привело к восстанию.
Почти два года Кижи оставались главным очагом восстания, которым руководил крестьянин Климент Соболев. Преображенский и Покровский храмы — свидетели этих событий. С этих деревянных крылец и галерей звучали речи повстанческих вождей, внизу же, у лестничных ступеней, бушевала взволнованная толпа крестьян, вооруженных вилами, топорами, косами. А у царского воеводы были пушки: в 1771 году маленький остров Кижи окутался облаками порохового дыма. Войска подавили крестьянское восстание, вожаки погибли в бою или были казнены, бунтари-рядовые пошли на каторжные работы, под ременную плеть...
Теперь остров Кижи — энциклопедия крестьянского мастерства. Сюда, в защищенный от пожаров уголок Зао-нежья, постепенно перевезли несколько выдающихся памятников народной деревянной архитектуры и древнего быта. Здесь можно изучать огромное многообразие приемов деревянного зодчества в старой северной деревне, не 236
знавшей ни крепостничества, ни татар, меньше страдавшей от княжеской феодальной усобицы, чем села средней и южной Руси.
Сюда, в Кижи, перевезли с Климецкого острова и других соседних островов три крестьянских дома, очень характерных для старинного северного жилья. Тут и конструкция дома «кошелем», и дом постройки «брусом», и нередкий в старину тип крестьянской курной избы. Каждая деталь этих домов — свидетельство высокого искусства народных мастеров, их неистощимой изобретательности, фантазии. Пример такой изобретательности — остроумная конструкция безгвоздевых тесовых крыш на кокорах и слегах. А резные наличники, балконы, крыльца, галерейки, при-челины, смягчающие суровую архитектуру этих больших, просторных домов!
Тут же, рядом с крестьянскими домами, можно видеть и стародавнюю ветряную мельницу, и нехитрую, но надежную мельницу водяную, и амбары. Но, конечно, полную меру своего искусства деревенский строитель вкладывал в первую очередь в обработку зданий, связанных с церковной службой. Это не мудрено — в XVI — XVII веках крестьянская жизнь была вся пронизана религиозными суевериями, связана с необходимостью соблюдать множество церковных обрядов. Сама церковная служба на Руси была сложна и длилась долго. В храме сходились все вместе, миром, и ясно, что это «общественное здание» старались выделить из ряда обыкновенных сельских построек.
В Кижах собрано несколько замечательных северных деревянных церковок или часовен. Разумеется, вырванные из своего «контекста», из того первоначального окружения, какое избирали для них древние зодчие, эти шатровые часовни сильно проигрывают, не производят такого впечатления, как виденная нами с теплохода часовня деревни Корба, просящаяся на полотно вместе с окружающими ее елями. Но самый факт сбережения этих деревянных кижских «новоселов» — неоценимая заслуга организаторов заповедника.
Среди этих «новоселов» есть подлинный уникум: маленькая церковь Лазаря, перевезенная на остров Кижи из бывшего Муромского монастыря Пудожского района. Возраст этого деревянного здания шесть веков, и во всей нашей стране едва ли сыщется ему деревянный ровесник. Церковь Лазаря — типичное сооружение так называемого «кдетского» типа, отличающегося от простых рубленых изб более крутой и высокой кровлей. В этом очень древнем, трогательном своей наивностью зданьице вдобавок сохранилось и все его внутреннее убранство. А ведь срублена церковь при Димитрии Донском!
Вокруг Кижей разбросано по островам немало деревень, где еще сохраняются исторические архитектурные памятники, что называется, прямо на корню. Буквально в трех-пяти-восьми километрах от Кижского погоста, в деревнях Васильеве, Воробьи, Подъельниках, на Волкострове и чуть подальше — в Типиницах, Усть-Яндоме и Яндомозе-ре — можно видеть замечательные шатровые часовни XVII века, очень разнообразные по строительным приемам, очень редкостные и красивые.
Заонежье сохранило нам не только образцы народного зодчества. Край этот — родина лучших сказителей былин. Как раз недалеко от Кижей, в селе Гарницы, родился, жил и прославился исполнением былин знаменитый Трофим Григорьевич Рябинин. Из села Гарницы он перебрался в село Середку и мог из окна дома, через пролив, видеть пирамидальный очерк Кижского погоста. В селе Боярщине, против Кижей, жил и сказиФель В. П. Щеголенок. С голоса обоих этих мастеров-сказителей ученые фольклористы записали былины про Илью Муромца, Садко, Василия Буслаева, про Дюка Степановича и Вольгу... Так, среди северных елей и сосен, среди шатровых, как сами эти деревья, построек, здешний неторопливый и спокойный народ создавал и берег сокровища русского искусства, и если теперь каждый школьник учит былину о богатырских подвигах Ильи и Добрыни, то обязаны мы этим северу — Большому Онего, Кижам...
Когда теплоход оставляет Кижи за кормой, громады его храмов становятся похожими на паруса фантастических кораблей, удаляющихся в страну сказок. И невозможно думать, что все это богатство принадлежит лишь прошлому народа-творца, что не пробьет оно себе, как подземный ключ, новых русел в искусство наших дней.
Часть третья
НЕВСКАЯ СТОЛИЦА И ГРИБОЕДОВСКАЯ МОСКВА
I. Полнощных стран краса и диво
На берегу пустынных волн
Есть ли в мире еще город, вдохновивший и наполнивший собою всего за два с половиной века столько гениальных страниц художественной прозы, столько чеканных стихотворных строф, сколько посвящено их невской столице? От первого знакомства в юности с «Медным всадником», «Шинелью» и «Белыми ночами» до запавших в сердце строк ахматовской «Ноченьки» и торжественной, как гимн, надписи на Пискаревском граните создавался и рос в наших думах образ города-исполина, города-поэмы.
Он весь — овеществленная идея. И возник он по строгой логике российской истории для того, чтобы самому творить эту историю дальше, быть свидетелем и участником исторического торжества молодой России над ее врагами. Ни одному из этих врагов не удавалось хоть на короткое время покорить этот город, ступить на его улицы. Отсюда, с Сенатской площади, ветер истории разнес по стране пороховой дым декабрьских залпов 1825 года, а еще девяносто два года спустя грянула здесь на весь мир пушка «Авроры».
В годы Великой Отечественной войны Ленинград пережил больше трагического и геройского, чем за все прошлые века, и для каждого, кому выпала честь защищать его, кто вынес блокаду и помнит Ленинград тех дней, самый малый камешек здесь свят и бесценен.
Город так красив, так велик и богат, что нет никакой надежды вместить в одну книжку описание хотя бы главных его сокровищ, а вместе с тем он так логичен и ясен, что даже малоопытные приезжие ориентируются в нем легко и быстро. Коренному же ленинградцу в любом другом городе поначалу не хватает именно ленинградского порядка, строгой и мудрой четкости его как бы проложенных в будущее проспектов — самых первых в России, его каналов, мостов, его силуэтов, прекрасных под солнцем и под луною, в тумане и в дожде.
Поразительнее всего в нем — сочетание двух противоположных, казалось бы, начал: широкий простор для разгула морских ветров, невских вод, северных морозов, и одновременно — строгая, дисциплинирующая сила удивительно гордой архитектуры, рожденной для обуздания природных стихий. Единый градостроительный замысел, по которому шло с самого начала и поныне идет развитие этого города, стал образцом для перепланировки многих, более старых городов России.
И нельзя приписывать этот замысел только основателю невской столицы — Петру или тем великим зодчим XVIII—XIX веков, что создавали здесь лучшие сооружения и планы отдельных городских участков. Замысел Петербурга диктовала этим зодчим-поэтам сама здешняя природа, и зодчие не были глухи к ее голосу! Соавторство с архитекторами делят здесь — береговая полоса Балтийского моря, Невы державное теченье, протоки и острова ее дельты, определившие направление и границы городской застройки.
Создавали северную столицу России не одни северяне, а уроженцы всех российских земель — от Архангельска до Астрахани, от Днепра до сибирских рек. Неласково встречала их древняя новгородская земля, берега Финского залива и хмурого Нево-озера, прозванного Ладожским. Множество человеческих жизней засосали трясины болот, унесли волны наводнений и морских штормов, сразили болезни и лишения. Иногда опасности и страдания казались безмерными и неодолимыми. Требовалась прозорливость огромного, но холодного и жестокого государственного ума, чтобы провидеть сквозь даль времен и глубину человеческого страдания гранитный город, возникающий «из топи блат». Нужна была неуемная работоспособность, беспощадная требовательность, к себе и другим, свойственная инициаторам и руководителям исторически великих начинаний. Именно такой энергией, всегда сопутствующей необыкновенно одаренным людям, обладал Петр Первый, «этот действительно великий человек» по словам Энгельса.
Для охраны здешнего края были построены еще новгородцами старые русские крепости — Корела (теперь Приозерск), Орешек, Иван-город близ нынешней Нарвы. В Ливонскую войну XVI века они отошли к Швеции, потом, на короткое время, снова возвращались России, а после «смутного времени» их пришлось вновь уступить шведской короне — по условиям Столбовского мира (1617). Шведские военачальники сильно укрепили эти твердыни. Молодая Россия оказалась полностью отрезанной от необходимого ей выхода на Балтику. Турки отгородили от России Черное море, и единственным русским морским портом оставался далекий Архангельск, всегда находившийся под угрозой со стороны той же Швеции.
В ходе многолетней Северной войны были сначала очищены от шведских судов Псковское и Чудское озера, а осенью 1702 года, когда русская армия была уже peopганизована и перевооружена, наступило время выполнить давнишний план Петра — «Орешек достать», то есть атаковать сильную шведскую крепость Нотебург (бывший русский укрепленный город Орешек).
В ночь на 11 октября 1702 года войска Шереметева начали штурм крепости, и через тринадцать часов гарнизон ее капитулировал. Участвовала в бою и Ладожская флотилия, созданная Петром. «Зело жесток сей орех был, однако, слава богу, счастливо разгрызен», — писал голландцу Ви-ниусу обрадованный победой Петр. Он переименовал взятую крепость в Шлиссельбург (Ключчюрод), «ибо сим ключом отворились ворота в неприятельскую землю».
В апреле следующего, 1703 года русская армия вышла к невскому устью. Запиравшая его правобережная шведская крепость Ниеншанц стояла при впадении в Неву реки Охты. Против крепости, за Охтой, располагался посад из четырех сотен домиков. Перед штурмом этой фортеции к войскам прибыл сам царь под именем «бомбардирского капитана Петра Михайлова». После короткой осады крепость Ниеншанц пала, Петр переименовал ее в Шлотбург (а впоследствии срыл, найдя ее расположение неудачным, незащищенным со стороны суши).
Петр со спутниками разъезжал по невской дельте на лодках, присматривал место для новой крепости и городка. И присмотрел! Поистине будущий парадиз: позади огромное Нево-озеро, впереди ветры Балтики... Вот они, желанные морские врата, те самые, которыми в IX — XI веках варяжские драккары и русские ладьи-однодеревки начинали плавание «из варяг в греки». Молодая Россия вернула себе северный конец этой великой водной дороги.
Море напомнило о себе сразу, на другой же день после взятия крепости Ниеншанц. С Балтики, из-за острова Кот-лин, подкрались под прикрытием тумана два шведских корабля: четырнадцатипушечная шнява «Астрельда» и десятипушечный бот «Гедан». Остальные суда шведской эскадры остались в море, а корабли-разведчики поднялись вверх по Неве, держась подальше от берегов.
Внезапно из утренней туманной мглы на борт «Астрельды» первым вскочил, размахивая гранатой, высоченный бомбардирский капитан — сам царь! За ним поручик Меншиков и гвардейцы, окружившие вражеские корабли на лодках...
По случаю этой победы была потом высечена медаль: «Небываемое бывает». Царь велел заложить крепость на острове Енни-Саари, по-русски — Заячьем, а второе укрепление выдвинуть глубже в море, на остров Котлин.
И вот 16 мая 1703 года застучали топоры на Заячьем острове: это ронили деревья для крепостных ряжей, закладывали на островке крепость, нареченную Санкт-Питер-Бурх — город святого Петра.
Рядом с крепостью рубили деревянный городок. Крепость потом получила, по своему собору, название Петропавловской, а за городком так и укрепилось наименование Санкт-Петербург.
Первым строителям невской твердыни пришлось нелегко. Двадцать тысяч подкопщиков, русских мужиков в просоленных потом рубахах, копали рвы, били кувалдами сваи, насыпали шесть бастионов, а главное, поднимали подсыпкой грунта самый уровень острова, потому что природа создала его слишком узким и низким: волны заливали его при малейшем подъеме воды в Неве!
Мужики-рекруты, вчерашние пахари, и согнанные на постройку работные люди плели из лозняка корзины и таскали землю, а кому не хватало корзин или тачек, тех заставляли таскать грунт даже в полах военных кафтанов — враг не дремал, корабли шведской эскадры крейсировали почти на виду, около Котлина!
Вечером строители падали с ног от усталости, но успевали приметить, что их рослый предводитель в капитанском мундире Преображенского полка еще не ложился, что-то чертит при свете костра, разложенного для обогрева в майскую ночь, почти бестеменную, но сырую и промозглую. Сидит, попыхивает голландской трубочкой, что-то втолковывает полусонному Александру Меншикову. Потом вскакивает, длинноногий, перешагивает через бунты канатов, поваленные деревья, торопится куда-то, на соседний бастион или на берег протоки, что отделяет островок от большого — Городского или Березового — острова (ныне Петроградская сторона).
Царь оставил Меншикова губернатором Санкт-Питер-Бурха, а сам, во главе своих обновленных полков, двинулся отбирать у шведов старые отечественные грады-крепости в Прибалтике. За короткое время пали Копорье, Ямбург, Дерпт, Нарва, Иван-город... Европа забыла о первых поражениях, понесенных Россией под Нарвой в 1700 году, и с волнением следила за событиями Северной войны (она окончилась победой России в 1721 году).
В 1704 — 1705 годах войска Карла XII, в свою очередь, ожесточенно атаковали с моря и суши новый городок на Неве. В отражении этих атак участвовала новая крепость Кроншлот (впоследствии Кронштадт) на острове Котлин, гарнизон и артиллерия Петропавловской крепости.
Осенью 1704 года по чертежам Петра начата была постройка третьего укрепления Петербурга, наискосок против Петропавловской крепости. Это была Адмиралтейская корабельная верфь со стапелями, складами, подсобными мастерскими и целой матросской слободой. По замыслу Петра строители окружили Адмиралтейство земляным валом с пятью сильными бастионами, а образовавшийся ров заполнили водой. Получилась большая верфь и вместе с тем сильное левобережное укрепление.
Одновременно достраивали Кроншлот и усилили оборону подступов к Петропавловской крепости со стороны суши. Солдаты-землекопы расширили протоку, отделявшую Заячий остров от остальной части Петроградской стороны, и за протокой, севернее крепости, построили в 1706 году дополнительное укрепление — кронверк, мощное земляное сооружение в форме зубчатой короны, с широкими рвами перед каждым зубом-лучом.
Впоследствии на большой площади, окруженной валами кронверка, были воздвигнуты крупные каменные здания военного назначения. В одном из них ныне находится интереснейший Артиллерийский исторический музей. Расширенная протока стала именоваться Кронверкским проливом.
В том же 1706 году первоначальные земляные бастионы, стоившие подкопщикам таких неимоверных трудов, начали заменять каменными. Бастионам присваивали имена ближайших сподвижников Петра. Сам он, собственными руками, заложил первый камень в основание Меншикова бастиона.
Где бы ни находился Петр — в походах ли, в Москве ли, встретившей его в 1704 году колокольным звоном и наскоро воздвигнутой триумфальной аркой, — везде он думал, тревожился, заботился о своем «парадизе», о судьбе любимого детища — Петербурга. После решающей Полтавской победы (1709) и взятия Выборга в 1710 году Петр окончательно решает перенести столицу на берега Невы.
Осуществилось это в 1712 году: в Петербург переехал царь, переехали придворные сановники, правительственные учреждения. К этому времени в городе было уже немало красивых капитальных зданий, выстроенных из дерева, но имитировавших своей штукатурной отделкой камень. Были и настоящие каменные дома, казармы, амбары. По типовым проектам, разработанным архитектором Доменико Трезини, строились обывательские дома-мазанки, менее подверженные пожарам, чем простые деревянные домики. Но главная масса строений представляла собой еще времянки, лачужки строителей, склады, первые промышленные заведения — Литейный двор, пороховые заводы, Смоляной двор, парусные мастерские, печи для обжига кирпича.
Жилые дома знати возводились преимущественно на Городском острове (Петроградская сторона), в соседстве с Петропавловской крепостью и сохранившимся поныне рубленым домиком Петра, на набережной Невы. Строились дома богачей также на Васильевском острове. Появились улицы и на левом берегу, под защитой укреплений Адмиралтейства. Словом, петровский «парадиз» в 1712 году уже не казался деревней, а смотрел настоящим городом.
В самой восточной части невской дуги, в густом сосновом лесу, вскоре возник пригородный Александро-Невский монастырь, а между Невой, Фонтанкой и Мойкой зазеленели и вытянулись деревья, ударили фонтаны молодого Летнего сада, заложенного по желанию Петра еще в 1704 году, всего годом позднее Петропавловской крепости.
Боевая слава этой крепости вскоре уступила место недоброй славе государственной тюрьмы. Первыми узниками ее оказались мятежные моряки с корабля «Ревель» — их заперли тут и пытали осенью 1717 года. Весной 1718 года в Трубецком раскате казнили сына Петра, царевича Алексея. Потом в стенах крепости томились и погибали политические узники, мыслители, свободолюбцы, революционеры.
Известный экономист начала XVIII века, автор знаменитой книги «О скудости и богатстве», крестьянин по рождению, торговый человек по профессии, публицист-обличитель по призванию, Иван Тихонович Посошков пророчески писал перед своим арестом:
«Все пакости и непостоянство в нас чинится от неправого суда, от нездравого рассуждения, от нерассмотритель-ного правления и от разбоев: крестьяне, оставя свои домы, бегут от неправды... Неправда вкоренилась и застарела в правителях, от мала до велика все стали поползновен-ны — одни для взяток, другие боясь сильных лиц. Оттого всякие дела государевы не споры, сыски неправы, указы недействительны... Наши судьи нимало людей не берегут и тем небрежением все царство в скудость приводят»...
Заключенный в Петропавловскую крепость, Иван Посошков скончался здесь 10 февраля 1726 года.
В 1733 году в крепости построили страшный Алексеевский равелин. Это была настоящая тюрьма в тюрьме — даже внутри крепости равелин был особым миром. Со всех сторон его окружали воды Невы и глубокого рва. Только узенький мостик, строго охраняемый, связывал равелин с самой крепостью.
Здесь в 1790 году находился под следствием Александр Радищев, осужденный за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» к смертной казни (потом казнь заменили ссылкой в Сибирь). 13 июля 1826 года привели из Алексеевского равелина к дощатому помосту, наспех сколоченному на земляном валу кронверка, пятерых декабристов — Рылеева, Пестеля, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина, Каховского... Два года спустя, во время прогулки, Пушкин и Вяземский набрели на остатки помоста и в память о повешенных друзьях отломили себе пять щепочек со следами плотницких топоров.
В XIX веке Алексеевский равелин видел в своих стенах Достоевского, Писарева, Чернышевского... Здесь был написан роман «Что делать?». Отсюда совершил свой побег П. Кропоткин (в истории равелина побег этот остался единственным).
Равелин в конце XIX века был снесен, но в это же время в Трубецком бастионе воздвигли новую тюрьму. Брат Владимира Ильича Ленина Александр Ульянов отправлен был из здешней тюремной камеры на казнь в Шлиссельбург (1887). В конце века в камеры Трубецкого бастиона были брошены революционеры-большевики Бауман и Ленгник, Ольминский и Лепешинский, а в начале XX века здесь находился в заключении Горький.
Ровно два столетия Петропавловская крепость служила тюрьмой, пока не ворвался в нее с площадей Петрограда буйный ветер революции. И вновь, как в первые годы своего существования, крепость обрела былую боевую славу: ее арсенал снабжал оружием отряды Красной гвардии, а вечером 25 октября 1917 года именно с форта «Петропавловки» блеснул сигнальный огонь... Потом, в течение очень короткого времени, погостили в стенах крепости ее прежние хозяева — министры Временного правительства. С 1922 года старая крепость стала государственным музеем.
Когда идешь пешком к Петропавловской крепости, то с Кировского моста через Неву открывается такой вид на Дворцовую набережную, на стрелку Васильевского острова и на величавую крепость, что можно от души позавидовать тому, кто видит все это впервые, останавливается, потрясенный, и даже как будто не слишком склонен верить глазам: дескать, неужто и в самом деле все это существует не только на прекрасных гравюрах, а в действительности, и можно запросто приехать сюда и опять увидеть эту воду, эти здания!..
Немного найдется в мире городских панорам, которые могли бы соперничать с этой. Поразительнее всего здесь полнейшая гармония, слияние в одном сплаве очень разных составных частей. Чтобы понять тайну этого единства, надо отдать себе отчет в главном: вся эта петербургская классика, барокко и даже элементы готики — результат осмысленного выбора и творческого освоения всего лучшего в мире, что приходилось кстати великому градостроительному замыслу. Отбор этот в конечном итоге определялся национальным духом и национальным вкусом России. Прогрессивность градостроительного замысла, глубокое соответствие русской природе, гуманистические и патриотические идеи гениальных зодчих — Баженова, Старова, Кокоринова, Кваренги, Воронихина, Захарова, Тома де Томона, Росси, Стасова, государственное значение и размах архитектурных задач — все это определило успех строительства и создало здесь то самое единство, которое мы обобщенно зовем русским или даже петербургским классицизмом XVIII — XIX веков. Достижения этих зодчих-классиков, сыгравших, кстати сказать, заметную и своеобразную роль в искусстве европейском и мировом, преимущественно и определяют собой наиболее характерные черты невской панорамы, что развернулась сейчас на обоих берегах перед нашим взором.
За Кировским мостом начинается Кировский (бывший Каменноостровский) проспект и в самом его начале находится площадь Революции. Она как бы перекликается с просторами Марсового поля и зеленью Летнего сада на том, оставленном нами, берегу. От площади Революции отходит влево низкий Иоанновский мост с чугунной решеткой. Под каменными арками этого моста плещется вода Кронверкского пролива, который омывает с северной стороны Заячий остров с крепостью. Форма острова в плане напоминает пирожок, вытянутый в длину с востока на запад. С юга — Нева, с севера — пролив. Самый западный угол острова некогда отделялся небольшой протокой, отрезавшей маленький участок суши, со всех сторон окруженный водой пролива и протоки (вот там-то и находился Алексеевский равелин).
Другой равелин Петропавловской крепости, Иоанновский, построенный вместе с Алексеевским, но дошедший до наших дней, занимает восточный угол Заячьего острова. Туда, под каменную въездную арку, и ведет от проспекта внушительный Иоанновский мост. Никаких надписей на арке Иоанновского равелина нет, однако чувствуешь, что входившие сюда некогда люди мысленно читали на ней дантовские слова: «Оставь надежду!»
Надо помнить, что пушки Петропавловской крепости сыграли немалую роль в обороне города на заре его истории. И отголоском прежних боевых традиций служит ежедневный пушечный выстрел из крепости, тот самый, что приучил ленинградцев к поговорке, непонятной жителям других городов: «Точно, как из пушки!»
На куртине Нарышкина бастиона стоит эта крупнокалиберная гаубица времен минувшей войны. За десять минут до полудня к ней подходит артиллерист со своим вторым номером, проверяет канал ствола, заряжает орудие. Затем 250
ствол медленно поднимается в небо. По точному сигналу комендор дергает шнур, тугой звук прокатывается над Невой, эхом отдается в Нарвском районе и на Выборгской стороне.
Но Петропавловская крепость — музей не только военно-исторический, но и художественный, притом в первую очередь именно архитектурный.
Самый ранний архитектурный памятник здесь вместе с тем и старейший образец капитального каменного строительства в Ленинграде. Это вход в крепость с территории Иоанновского равелина, оформленный в виде красивых ворот, в стиле раннего петербургского барокко. В этих воротах нет ничего мрачного. Вот по ним-то сразу и чувствуешь, что возводилась здесь отнюдь не тюрьма! Ворота названы Петровскими — об этом некогда гласила и надпись на фронтоне. Сам Петр их видел и под ними проходил — каменные построены в 1717 — 1718 годах, на месте еще более старых, деревянных.
Строитель ворот итальянец Доменико Трезини был знающим инженером и архитектором. В Петербург он прибыл еще в год закладки города и до самой смерти (в 1734 году) строил здесь крепостные сооружения, дворцы, храмы, частные дома, разрабатывал типовые проекты «обывательских строений», участвовал в постройке Александро-Невской лавры. По его проекту воздвигнуто на Васильевском острове здание Двенадцати коллегий, ныне занятое Ленинградским университетом. Трезини пользовался доверием и выполнял непосредственные поручения Петра, вникавшего во все подробности строительных работ в Петербурге. Сооружение Петровских ворот в крепости — своеобразный памятник и Петру, основателю города, и самому зодчему, первому строителю-архитектору невской столицы.
Фасадная, украшенная пилястрами стена нижнего яруса ворот облицована рустованными каменными блоками и прорезана полукружием центральной арки, с которой красиво сочетаются две глубокие ниши для скульптурных фигур. В левой нише установлена статуя богини войны Беллоны, в правой — богини мудрости Минервы, покровительницы ремесла, науки и искусства. Над аркой — огромный свинцовый герб, двуглавый орел (весом более тонны!)
Переход от нижнего яруса к верхнему и к завершающему композицию ворот фронтону с фризом удачно создают боковые завитки-волюты очень хорошего рисунка. Единство обоих ярусов подчеркнуто тем, что пилястры второго яруса тоже имеют рустованную поверхность. Плоскости стен второго яруса покрыты барельефами. Центральный барельеф над аркой, выполненный скульптором К. Оснером в дереве, изображает «чудесную» сцену из жития апостола Петра.
По церковному преданию, некоему Симону-волхву, доказывавшему, что языческие боги сильнее христианских, удалось посредством волшебства подняться в небо. В спор с ним горячо вступил апостол Петр, и бог, вняв молитве апостольской, низринул Симона-волхва с облаков назад, на землю, для вящего посрамления язычества. Специалисты считают, что эта сцена на барельефе символизирует победу царя Петра над шведским королем Карлом XII.
Несомненно, что Петровские ворота представляют собой интересный образец соединения мастерства архитектора с искусством скульптора.
Главной художественной и исторической достопримечательностью Петропавловской крепости является, конечно, монументальный собор. Автор его тот же Доменико Трезини, «полковник от фортикации», как титуловали его при императрице Елизавете Петровне, очень его ценившей.
Трезини заслуживал бы славы и почета, создай он одну лишь соборную колокольню в Петропавловской крепости. Увенчанный фигурой крылатого ангела с крестом, острый шпиль этой колокольни служит, по выражению архитекторов, главной доминантой города.
Колокольня была воздвигнута раньше собора, и потому в 1720 году Петр мог уже любоваться с ее верхнего яруса панорамой Петербурга. Еще через год золотой шпиль с ангелом взлетел над городом. Окончательно отделана была колокольня в 1725 году.
Но многие москвичи удивятся, узнав, что замысел этого шпиля родился не в Петербурге, а в Москве, где одна прекрасная колокольня — у Чистых прудов, в нынешнем Телеграфном переулке, — была некогда украшена такой же стройной иглой-шпилем. Здание это, известное под названием Меншиковой башни, сохранилось до наших дней и представляет собой одно из лучших в Москве сооружений 252
Петровской эпохи. Архитектура Меншиковой башни и ее первоначального шпиля (сожженного молнией в 1723 году) и оказала влияние на архитектуру соборной колокольни в Петропавловской крепости.
Судьбу московского шпиля вскоре разделил и петербургский: его тоже расщепила и подожгла молния. Пожар перекинулся на здание собора... Это случилось в ночь на 30 апреля 1756 года, и потребовалось потом очень много труда, чтобы восстановить деревянные конструкции шпиля и собора.
Известен в истории анекдотический случай, когда комендант-смотритель Петропавловской крепости доложил императору Павлу, что шпиль колокольни покосился и грозит падением. Обследовать шпиль Павел поручил знаменитому механику Кулибину. Старик смело взобрался по деревянным внутренним стропилам к верхнему оконцу в шпиле, проверил прямизну по отвесу, а затем обследовал окно, из которого комендант смотрел на «покосившийся» шпиль. Оказалось, что покосился не шпиль, а... оконная рама!
В 1830 году ветхая обшивка шпиля и давшая крен фигура ангела были отремонтированы без лесов мастером-кровельщиком Петром Телушкиным. Изготовив веревочную снасть, смельчак долез до фигуры ангела, перебрался через шаровидное подножие фигуры и проложил себе канатную дорожку, которой пользовался затем в продолжение всех ремонтных работ на этой страшной высоте.
Однако деревянные конструкции Петропавловской иглы к середине прошлого столетия обветшали. Надо было заменить их. Архитектор К. А. Тон предложил надстроить колокольню, завершив ее обычной луковичной главой. Все своеобразие «петербургской доминанты» исчезло бы — лучшая городская вертикаль была бы безнадежно испорчена. К счастью для искусства, замечательный петербургский инженер Д. И. Журавский выдвинул другой проект: заменить деревянные конструкции металлическими.
Проект приняли. Шпиль не только был сохранен, но и чуть удлинен, в соответствии с пропорциями колокольни. Высота шпиля на металлическом каркасе — 56 метров, а вместе с колокольней шпиль и парящий над ним ангел превышают 122 метра. Нынешний ангел — третий по счету — сделан по рисунку Ринальди. Фигура ангела, укрепленная на вращающейся оси, может указывать направление ветра.
Сам собор, внутри разделенный на три корабля-нефа (наподобие латинской базилики), менее выразителен, чем колокольня, но с тех пор, как здание превратили в музей, оно очень выиграло. Исчезли светильники, канделябры, бесчисленные венки и украшения, загромождавшие прежде помещение. Теперь оно стало светлым, просторным.
Два продольных боковых нефа заняты царскими надгробиями. Петр умер еще до окончания постройки, прах его был позднее перенесен сюда, к алтарной стене собора. Поблизости, под беломраморными саркофагами погребены Елизавета, Екатерина II, Павел, Александр I, Николай I.
На соборном иконостасе вся живопись расчищена — теперь ей больше не угрожают коптящие лампады и свечи. Главным живописцем был здесь большой мастер Андрей Меркурьев.
...В ансамбль Петропавловской крепости входят и другие памятники русской архитектуры XVIII — XIX веков. Среди них так называемый Ботный домик Петра, где некогда сохранялся доставленный сюда из Москвы «дедушка русского флота» — маленький ботик, ныне сберегаемый в военно-морском музее на Стрелке Васильевского острова.
К архитектурным памятникам крепости относятся Инженерный дом, Комендантский дом, Комендантская пристань с Невскими воротами и Монетный двор, основанный еще при Петре I. В наше время здесь был изготовлен вымпел, доставленный на Луну советским космическим кораблем.
И наконец, Трубецкой бастион — самое мрачное и очень запоминающееся место в этом большом и сложном заповеднике. И хотя водят вас по камерам, коридорам, карцерам и страшным лестничным переходам приветливые ленинградские экскурсоводы, вы чувствуете всю тяжесть этих стен, холод металла, давящий полумрак помещений.
Все это принадлежит прошлому, но мы не вправе забывать о тех, кто бестрепетно прошел здесь испытание камнем, холодом, железом, одиночеством. Люди эти огнем сердец своих победили мрак и холод, они здесь творили, мыслили, боролись, и тюремщики боялись своих узников неизмеримо больше, чем узники тюремщиков.
Ваятель и его творение
По ночам, когда для пропуска судов разводят мосты на Неве, конный памятник Петру, знаменитый Медный всадник, освещается лучами прожекторов. Если вы пойдете ночью к этому монументу, не забудьте посмотреть на разводку Дворцового моста! Даже ленинградцам не часто случается видеть, как мосты разводят — горожане спят в эти часы...
Однажды мы, группа литераторов — гостей Ленинграда, поздней ночью пришли к Неве, чтобы перебраться на Васильевский остров. Пронзительный свисток милиционера заставил нас опомниться почти посреди моста, когда, можно сказать, прямо из-под ног наших начал вздыбливаться средний пролет. Огромный, со всеми своими троллейбусными мачтами и проводами, с трамвайными рельсами, перилами и мостовыми, он пошел вверх, как в сказке, и стал стеной. Милиционер потребовал было у нас паспорта, чтобы оштрафовать нарушителей порядка, но, узнав, что мы приезжие, смягчился.
Потом, на реке, в разведенном пролете, долго мерцали, сменяя друг друга, зеленые и красные бортовые сигнальные огни кораблей, а их белые топовые фонарики на мачтах проплывали вровень с нами, пока мы стояли на мосту. Попасть на тот берег мы уже не могли, и просидели до утра у Медного всадника. В сильном беспощадно резком световом луче видна была каждая жилка на бронзовых мускулистых ногах коня, заметен был даже слабый налет прозелени на развевающихся одеждах всадника.
...Парижского ваятеля звали Этьен Морис Фальконе. Он был уже знаменит, принят в лучших салонах французской столицы, слыл острословом и фрондером, дружил с Дидро. Его «Купальщицу» и «Пигмалиона» купили раньше, чем резец мастера в последний раз прикоснулся к их мраморным телам. Можно исписать целые фолианты, рассуждая о скульптурном искусстве, о стилях, о мастерстве, но все слова слабее одного простейшего наблюдения: посмотрите на кусок дикого камня в мастерской ваятеля, а потом — на рожденное из этого камня человеческое тело, живое, вечно прекрасное. Вот тогда легко понять, почему древние сравнивали ваятелей с богами. Таким замечательным даром владел и Фальконе.
Успех «Купальщицы» был таков, что ваятелю предложили место главного скульптора на знаменитом Севрском фарфоровом заводе. Почти двадцать лет Фальконе создавал в глине и гипсе героев античной мифологии, рисовал декоративные узоры, лепил амуров, нимф, цветы. Фигуры, рожденные фантазией мастера, превращались в фарфоровые статуэтки. Они были аллегоричны, изящны и легки, но отличались от остальных изделий этого жанра какой-то беспокойной скрытой силой, почти тревожной. Окруженный фарфоровыми безделушками, мастер мечтал об искусстве большом и монументальном, он чувствовал, что такое искусство посильно ему. Он владел пером, и на журнальных страницах утверждал право искусства на высокие чувства, благородные страсти. Он мечтал об искусстве, способном облагораживать людей.
Мастеру было уже около пятидесяти лет, когда он узнал о том, что в далекой северной столице, на берегу самой полноводной в Европе реки, должен возникнуть некий величественный памятник в честь основателя города и реформатора страны.
Идея создания памятника Петру на Сенатской площади возникла в России давно, еще при жизни самого императора. В 1720 году замечательный скульптор-итальянец Карло Растрелли (старший) начал работать над конной статуей Петру. Выдержанная в духе барокко, она представляла Петра властным императором, восседающим на спокойном и важном коне. Символом величия и славы служил лавровый венок, венчавший голову Петра. Статуя Растрелли, отлитая в 1747 году, опоздала: барочный памятник уже не отвечал вкусам пятидесятых-шестидесятых годов, тяготевшим к раннему классицизму — большей выразительности и ясности линий, идейной глубине, более сложной символике.
При Екатерине II Сенат, приняв во внимание «высочайшее» мнение, вынес указ о новом памятнике Петру, подчеркивая, что монумент Растрелли «не сделан искусством таким, каковым должно представить столь великого монарха и служить к украшению столичного города Санкт-Петербурга» (впоследствии эту статую установили перед зданием Михайловского замка — резиденции Павла).
Указ о будущем памятнике Петру был вынесен, требовалось найти исполнителя. И вот философ Дидро пишет императрице, что исполнитель найден: им может быть только скульптор Фальконе!
Это была не первая кандидатура — русские послы в западных столицах уже вели переговоры с некоторыми скульпторами. Услыхав о рекомендации Дидро, русский посол в Париже князь Голицын согласился с философом, хотя кое-кто из художников, ближе знавших Фальконе, предостерегал посла: дескать, Фальконе — это не тот человек, что пригоден для придворной жизни и общения с императрицей. Да и сам Дидро не расточал в письмах к Екатерине одни похвалы скульптору. Вот как характеризовал он ваятеля императрице:
«В нем бездна тонкого вкуса, ума, деликатности, и вместе с тем он неотесан, суров, ни во что не верит. Добрый отец, а сын от него сбежал... Любил до безумия любовницу и свел ее своим нравом в могилу. Корысти не знает...»
Да, этот человек не знал корысти! Во время переговоров о сроках и плате за работу Фальконе запросил вдвое меньше, чем другие его коллеги, так что Голицын даже посоветовал скульптору «накинуть» сто тысяч. Скульптор отверг это предложение наотрез.
И вот кибитка, дорога, Россия. Стареющий мастер ехал в чужую страну не один. Все тяготы и все радости дальнего пути делила с ним его талантливая и прелестная ученица, семнадцатилетняя девушка-скульптор Мари Анна Колло. Она очень смутно представляла себе город, куда они ехали, но мечтала помочь любимому метру в его важной и трудной задаче, хотя личность императора Петра была для нее уже только историей.
А сам метр хорошо помнил, как в дни его отрочества Европа взволновалась вестью о смерти северного повелителя-исполина, как из уст в уста ходили рассказы о подробностях. Петр простудился, работая по пояс в ледяной воде: в дни зимнего наводнения он спасал людей с засевшего на мели судна.
Императрица встретила ваятеля ласково, даже удостоила дружеской переписки, восхищаясь тонкостью его ума и силой творческого энтузиазма.
Но Фальконе скоро утомил царицу своей требовательностью и той серьезностью, с какой он относился к своей задаче. И тогда императрица переложила заботу о ваятеле на плечи царедворца И. И. Бецкого, сиятельного президента Российской академии художеств.
Это был человек своеобразный и отнюдь не злой, известный широкой благотворительностью и имеющий немалые заслуги перед русской культурой. Однако Иван Бецкой сам проектировал памятник Петру и ревниво относился к более счастливым соперникам.
Чудаковатый проект Бецкого был изложен на французском языке в обстоятельной и велеречивой записке. Бецкой представлял себе памятник с длиннейшей надписью на пьедестале, напоминающем комод. Конную фигуру он хотел окружить пышными медальонами и атрибутами славы. А сам царь, по замыслу Бецкого, должен был одним глазом охватывать Адмиралтейскую верфь, дворец, Петропавловскую крепость, другое же царское око устремлялось на фасады Академии наук и Академии художеств, и далее — на Финляндию и даже Эстляндию.
Фальконе смешила и сердила эта безвкусица. Но упрямый вельможа-чудак, всерьез вообразивший себя соавтором проекта, испортил скульптору немало крови. Когда же ваятель представил двору небольшую модель и рисунки будущего памятника, пошли слушки, темные пересуды.
В самом деле, нечего сказать: полураздетый, босой царь на взбесившемся жеребце, накрытом звериной шкурой вместо седла!.. Но хотя Екатерина знала об этих пересудах, она поняла, что перед ней нечто действительно новое и необычайно талантливое — и «крамольный» проект монумента был августейше утвержден. Началась трудная пора воплощения замысла.
У Фальконе был большой опыт в скульптурном изображении людей, но лепить лошадей ему не случалось. А ведь задуманный им конь был необычен, как огненный скакун бога Аполлона, как непокорный Пегас, взнесенный над бездной. И скульптор принялся с терпением подлинного художника изучать натуру.
В конюшне графов Орловых он наблюдал чудесных арабских жеребцов. Каждый день перед глазами скульптора взлетал на искусственное деревянное возвышение лучший наездник царской конюшни. И даже сам герой конных атак турецкой войны, генерал Мелиссино, симпатизировавший ваятелю, проделывал для него в манеже взлеты на крутизну.
Ваятель ловил эти движения, следил за каждым мускулом упругих конских ног, за изгибом шеи, движением всадника, взмахом руки... Говорили, что в лице и фигуре генерала Мелиссино было что-то общее с Петром. И скульптор без конца рисовал, мял глину, уточняя, выискивая, совершенствуя образ, отбрасывая десятки, сотни вариантов.
За этой работой шли годы. Целых двенадцать лет потребовалось, чтобы подготовить и отлить в гипсе модель памятника уже в натуральную величину: она была закончена лишь в 1778 году.
Долго не давалась скульптору голова Петра. В выражении лица нужно было сочетать волю, ум, суровость, властность, устремленность в будущее, непреклонность и порыв.
Скульптор порой отчаивался, но за эти трудные годы исканий его помощница и друг Мари Анна Колло и сама стала законченным художником. Она работала рука об руку с Фальконе и оставила нам, в частности, чудесный бюст ваятеля, выставленный в Государственном Эрмитаже и дающий ясное представление о живом, темпераментном лице мастера.
Несмотря на кратковременный и несчастный брак с сыном Фальконе, Пьером, она осталась преданным другом скульптора до его смерти.
Именно этой молодой женщине удалось найти верный образ Петра, она вылепила его голову. Змею, попираемую ногой коня, изваял для монумента русский скульптор Ф. Г. Гордеев.
Но какой пьедестал мог нести такую скульптуру?
Еще в первые годы после приезда в Россию Фальконе потребовал для памятника скальный камень необыкновенных размеров. Условия, которым должен отвечать камень-постамент, были широко оглашены.
И вот из деревни Лахты явился крестьянин, сообщивший, что лежит верстах в десяти-двенадцати от окраины Петербурга громадная скала. Мужики называют этот камень «гром»: расселина в нем есть от грозового удара. И будто сам царь Петр не раз забирался на лахтинский камень, обозревая окрестности, и даже след ботфорта оставил на мшистой поверхности скалы.
Когда скульптор потребовал, чтобы камень-«гром» был доставлен на Сенатскую площадь, Бецкой сперва было запротестовал, но, сообразив, что доставка в город такой махины прославит его самого, приказал начать работы.
Прорубили в лесу широкую просеку, подвели под монолит помост-платформу. Литейный и кузнечный мастер Емельян Хайлов отлил из меди желоба и шары — самые первые в мире шарикоподшипники! Опутанный канатами камень весом 1600 тонн медленно двигали на шарах-катках. Чтобы не терять времени, четыре десятка каменщиков работали на движущемся камне, сбивая ненужные выступы и создавая форму волны.
До залива пришлось двигаться таким образом девять верст. Потом скалу погрузили на устойчивый плот с бортами, и два корабля отбуксировали его морем и Невою до места выгрузки.
Выгрузили камень в присутствии всего царского двора и даже прусского гостя — принца Генриха. Была высечена медаль, посвященная перевозке камня. Надпись гласит: «Дерзновению подобно, генваря 20-го, 1770».
Отношения с Бецким окончательно испортились, когда скульптор приказал фута на два отсечь верхнюю часть скалы, чтобы соразмерить постамент с фигурой. Взбешенному царедворцу Фальконе презрительно бросил: «Не изваяние для ради постамента, а наоборот!»
В стране происходили крупные события. В Петербурге часто теперь произносили имя Пугачева. Работные люди, с которыми приходилось сталкиваться скульптору, делались все угрюмее и молчаливее. Фальконе видел, как при 260
известии о казни Пугачева иные горожане снимали шапки и тихонько крестились... Двору было не до ваятеля! Когда же он окончил фигуру в гипсе и открыл посторонним доступ в свою мастерскую, богатые петербургские купцы и чиновный люд возмутились тем, что увидели: «Усищи ужасно к лицу прилеплены и одежда русская, противу коей царь боролся!» Императрица отказалась посетить мастерскую скульптора и запретила сыну — цесаревичу Павлу — смотреть монумент.
За отливку статуи никто в России браться не хотел, иностранцы требовали несусветной суммы. Надо было приниматься за дело самому скульптору. Вместе с литейщиком, пушечных дел мастером Емельяном Хайловым он подбирал сплав, делал пробы — ваятелю пришлось впервые учиться искусству литья.
Наконец нашли состав и начали отливку. Внезапно, в самый решительный миг, глиняная форма треснула, расплавленный металл хлынул в мастерскую, вспыхнул пожар. Рабочие бросились врассыпную. Спас положение Емельян Хайлов. Он ринулся к пролому, сам обжегся, но предотвратил катастрофу. Все же статую пришлось отливать заново.
Однако и повторная отливка имела незначительные изъяны, и недоверчивый Бецкой потребовал новой переливки. Лишь ценою напряжения всех своих сил ваятелю удалось отменить это распоряжение, после чего изъяны были исправлены чеканкой, с самыми незначительными затратами.
Тем временем по городу распространились слухи, что Фальконе вообще-то имеет лишь техническое касательство к памятнику, а идея принадлежит Бецкому. Скульптор не выдержал травли, сплетен, козней. Оскорбленный и разгневанный, так и не дождавшись установки памятника на постамент, он вместе с Мари Колло уехал на родину. Силы его были подорваны, через несколько лет его не стало. Мари намного пережила своего учителя: застала приход в Париж русских казаков, дожила почти до кончины Наполеона.
А в России, через четыре года после отъезда Этьена Фальконе, происходило великое торжество на Сенатской площади Петербурга, и среди многотысячной толпы стоял молодой красивый человек с удивительным взором, будто способным проникать сквозь камень. Это был Александр Радищев — в то время начальник Петербургской таможни, будущий автор «Путешествия из Петербурга в Москву». Он и оставил в письме к своему другу лучшее описание торжества открытия памятника Петру.
Он видел, как строились полки, как вышла из царской шлюпки и проследовала к зданию Сената Екатерина, как вслед за тем, в порфире и короне, она появилась на балконе Сената. В тот же миг упали полотняные щиты, заслонявшие памятник, и открылся всем взорам Медный всадник на гранитной скале! А сам ваятель, уже больной и старый, узнал об открытии петербургского монумента лишь из журнальных сообщений.
Мы же, гости и жители Ленинграда, люди, воспитанные социалистической страной, не забываем о создателях той красоты, что досталась нам и от прошлых веков. В нашей благодарной памяти всегда будет жить имя творца Медного всадника — статуи, вдохновившей великого поэта России на создание «Медного всадника» — поэмы!
Петербургский чародей
(Варфоломей Растрелли)
Воздействие на нас великого произведения архитектуры во многом зависит не от авторского замысла, даже не от претворения его в жизнь, а от того, в каком виде и окружении памятник дошел до нас: не искажен ли он безвкусными переделками или неудачным соседством, не нарушено ли то единство, о котором заботился автор.
В Ленинграде мы уже не раз, например, на пути к Петропавловской крепости, поражались тому, как зодчим XVIII — XIX веков удавалось создавать стилистическое единство из разнородных, даже противоречивых элементов. Одним из высоких образцов такого единства является главный архитектурный ансамбль города — его Дворцовая площадь.
Слагался этот ансамбль веками, в него вложен талант очень разных мастеров архитектуры, но для нас он неразделим. Это одна из художественных святынь России. Дворцовая площадь Ленинграда, как и Красная площадь Москвы, кажется нам такой цельной, будто она так вот сразу и возникла, созданная колдовским искусством какого-нибудь джинна из арабских сказок — того, что предлагал властелину во мгновение ока воздвигнуть чудо-город.
Дворцовую площадь мы знаем такой же, какой знали ее наши отцы и будут знать внуки. Есть у нее удивительное свойство: во все времена она созвучна любому душевному настрою тех, кто к ней приходит. Попробуйте, испытайте сами! Ведь на эту площадь можно, скажем, прийти ночью, одному... и поймешь, что это отличный способ избавиться от докуки мелких огорчений. А можно на эту площадь «влиться каплей с массами», прийти сюда, например, с колоннами первомайских демонстрантов, и обрести иное, ни с чем не сравнимое ощущение — причастности к великому и прекрасному общему...
Одним из творцов этой величавой площади, автором Зимнего дворца, был русский зодчий, итальянец родом, Варфоломей Растрелли.
В Россию он приехал вместе с отцом — скульптором Карлом Растрелли — в 1716 году, еще юношей и по дороге, в Кенигсберге, увидел Петра. «Северный властелин», о ком так много говорили в Европе, как раз ехал за границу и пожелал побеседовать с приглашенным в Россию скульптором-итальянцем.
Беседа эта произвела на юношу огромное впечатление. Вскоре он тоже вступил «в царскую службу» в качестве ученика и помощника отца. Этот-то юноша помощник и стал одним из величайших зодчих молодой России.
Уже Растрелли-старший довольно быстро обрусел и перестал нуждаться в услугах переводчика. А Растрелли-сын, проведя всего несколько лет за пределами России для пополнения архитектурного образования, уже более не покидал нашей страны до самой своей смерти. Мастера-каменщики звали его Варфоломеичем, а фамилию переделали в «Расстреляев».
Творчество Растрелли всецело принадлежит России. Он зорко присматривался к самобытной архитектуре древней Руси, изучал ее так же пристально, как это делал в свое время его земляк и предшественник, зодчий Аристотель Фиоравенти. Это и позволяет исследователям творчества Растрелли говорить, что в нем отразилась Русь со всем ее прошлым, с наследием веков и с новыми, современными Растрелли настроениями, пришедшими с Запада.
До Варфоломея Растрелли у нас в стране не было архитектора, которого знала бы вся Россия. Зданиями Растрелли народ гордился, они становились лучшим украшением городов и великолепных загородных имений. Растрелли — один из создателей и самый яркий представитель того архитектурного стиля, который вошел в мировую историю искусств под названием петербургского барокко.
Архитектурный стиль барокко раньше всего появился в Италии XVI века, сменив искусство Ренессанса (Возрождения), в свою очередь пришедшее на смену готике, романскому, византийскому стилям средневековья. Само слово «барокко» значит: странный, причудливый. Это искусство прославляло абсолютизм в пору его расцвета, воспевало величие трона и церковных престолов, но вместе с тем выражало и новые представления о человеке, о бесконечном разнообразии мира, его вечной изменчивости, динамике, неустойчивости.
Постройки стиля барокко поражают грандиозностью, необыкновенной пышностью, обилием украшений, тревожной игрой светотени. Прямые, спокойные линии, свойственные постройкам эпохи Возрождения, сменяются линиями кривыми, беспокойными. Создается впечатление непрерывного, нервного движения архитектурных форм и линий.
Меняется самый план зданий! Где зодчий Возрождения избрал бы уравновешенный круг, там мастер барокко берет капризный овал. Где прежде разбивали строгий квадрат, там — для барочного здания — квадрат удлиняется в прямоугольник. Зодчий и скульптор работают теперь на постройке рука об руку с живописцем. И это сотрудничество подчас ставит себе целью достижение почти театрального эффекта, особенно в обработке интерьеров: стены будто раздвигаются, потолок либо становится зрительно выше, либо даже вообще как бы «исчезает» — плафон имитирует небо в облаках, бесконечно отдаленное от зрителя.
От обилия украшений — масок, картушей, завитков, скульптурного орнамента — подчас просто рябит в глазах. В храмах, как и в больших дворцах, зодчие барокко стараются слить несколько внутренних помещений в одно огромное целое, залитое светом из высоких окон.
Вечерами в дворцовых залах тысячи свечей, вставленных в замысловатые канделябры, озаряли живописные плафоны и лепнину потолков, играли на лакированной мебели, на гнутых поверхностях карнизов, парных пилястр и бронзовых подставок, на раскрашенных скульптурных группах. Особенной затейливостью отличалось капризное барокко Франции накануне революции.
В Россию отзвуки барокко проникли в начале XVII века и слились здесь с тем «узорочьем», которое стало излюбленной декоративной манерой русских мастеров XVII столетия. В русском, так называемом нарышкинском барокко очень мало «пришлого» — лишь отдельные архитектурные элементы западного склада пришлись по вкусу русским зодчим. В основе же русских построек XVII века лежат глубоко национальные традиции передового зодчества XVI века, воплощенные в храме Василия Блаженного, Дьяковской церкви, от которых нетрудно, как мы уже видели, проследить путь к церкви Покрова в Филях, к Бухвостову...
Следующая же стадия русского барокко теснее связана с общеевропейским течением. Элементы западного барокко вводили в русскую архитектуру либо зодчие, прибывшие из-за границы (Леблон, Трезини), либо те, кто ездил туда учиться (молодой Растрелли, архитекторы Земцов, Еропкин). Своего расцвета стиль барокко достиг в России при Елизавете и в начале царствования Екатерины. Лучшими произведениями растреллиевского барокко можно считать такие сооружения, как Андреевская церковь в Киеве (мы стояли рядом с ней, когда рассматривали фундаменты древнейшей Десятинной церкви на Старокиевской горе, но в ту минуту не хотелось отвлекаться даже на творение Растрелли), как великолепный строгановский дворец на Невском или воронцовский дворец на Садовой, близ Гостиного двора.
Есть, кстати, в Ленинграде и площадь, носящая имя великого архитектора: «площадью зодчего Растрелли» называется теперь бывшая Екатерининская площадь перед Смольным собором. Этот великолепный пятиглавый, необычайно смело решенный в барочных формах собор был заказан мастеру самой императрицей Елизаветой: перед смертью она собиралась стать монахиней Смольного монастыря и «замаливать грехи» в соборе.
Здание Смольного собора — один из шедевров петербургского барокко. Уже после смерти Растрелли другой большой архитектор, представитель раннего классицизма, Кваренги, проходя мимо растреллиевского Смольного собора, никогда не забывал снять шляпу, отвесить низкий поклон и воскликнуть с восхищением: «Экко уна чиеза!» («Вот это церковь!»).
Но главное творение Растрелли — Зимний дворец на площади у Невы.
Здесь, на этой площади, все исполнено красоты и того торжественного спокойствия, что присуще наиболее совершенным созданиям монументального искусства. Над Дворцовым мостом, ведущим к площади со стрелки Васильевского острова, да и над самой площадью всегда веет солоновато-свежим морским ветром, и чувствуешь, что даже небо с его облаками или звездами включено в ансамбль этой площади, созданной не только фасадами домов: в это единство входит и камень, и бронза, и воздух, и свет, и тени, и простор небесный, потому что посреди площади возносится в вышину гранитный монолит колонны, увенчанной крылатым ангелом. За колонной — украшенный статуями фасад Зимнего дворца.
Поколения архитекторов учились у этого здания искусству композиции, да и сейчас студенты «разучивают» его, как музыкант — оперную партитуру.
Если мы представим себе размеры соседствовавших с ним некогда сооружений, станет ясно, каким колоссом выглядел два века назад этот дворец, протяженностью почти в четверть версты (в нынешних мерах — 210 метров). Легко ли было зодчему избежать монотонности, скуки, ритмического однообразия в таком длинном строении? Присмотритесь, какими средствами Растрелли избежал всего этого, оживил фасады, придал дворцу ликующий, торжественный и нарядный вид.
Прежде всего обратите внимание на все углы и выступы здания, обработанные с таким искусством, что богатейшая игра светотени бесконечно разнообразит дворцовые фасады. Они расчленены по вертикали на два яруса, каждый из которых декорирован колоннами. Первый ярус соответствует первому этажу, второй объединяет два верхних этажа — парадный второй и жилой третий.
Заметьте, как решен фронтон над тремя въездными арками со стороны площади, как четок ритм колонн, какую торжественность придают фасадам скульптурные маски, наличники, декоративные вазы, статуи. Красоту архитектурных форм подчеркивает и раскраска: на зеленых фасадах празднично выделены белые столбы колонн, рисуется весь барочный орнамент.
Архитектура Зимнего дворца — настоящий гимн, а вместе с тем и эпилог целой главы в истории русского искусства — растреллиевского барокко. Это последнее по времени и одно из самых совершенных произведений этого причудливого стиля.
В год смерти Пушкина (1837) большой пожар, вспыхнувший во дворце, принес огромные разрушения. Погибла вся внутренняя отделка. Черный, обгорелый фасад даже отдаленно не напоминал о былом великолепии. Император Николай потребовал немедленной и полной реставрации дворца, что и было выполнено под руководством В. П. Стасова и А. П. Брюллова. В течение одного года здание возродилось из пепла, причем работы велись в нечеловеческих условиях.
Вот как современник описывает труд реставраторов Зимнего дворца:
«Чтобы работа была кончена к сроку, назначенному императором, понадобились неслыханные усилия... Во время холодов от 25 до 30 градусов шесть тысяч неизвестных мучеников, мучеников без заслуги, мучеников невольного послушания, были заключены в залах, натопленных до 30 градусов для скорейшей просушки стен... Эти несчастные, входя и выходя из этого жилища великолепия и удовольствия, испытывали разницу в температуре от 20 до 60 градусов... Те из несчастных, которые красили внутри натопленных зал, были вынуждены надевать на головы нечто вроде шапок со льдом...»
Внутренняя отделка помещений была решена по-новому, и лишь некоторые интерьеры, в частности знаменитая Иорданская лестница в северо-восточном углу, воскресли после реставрации в том виде, какими их задумывал Растрелли. Но и более новые залы — бывший тронный, или Георгиевский (где сейчас можно увидеть уникальную карту Советского Союза, выполненную из 45 тысяч самоцветных камней), Малахитовый зал, Военная галерея 1812 года (ее отделку выполнил К. Росси), концертный зал, Гербовый — представляют собою великолепные образцы внутреннего дворцового убранства.
Сейчас Зимний целиком входит в комплекс зданий одной из величайших художественных сокровищниц мира — Государственного Эрмитажа. Кроме Зимнего дворца, музей занимает помещение Малого Эрмитажа, Старого Эрмитажа, Эрмитажного театра и Нового Эрмитажа. Все эти здания связаны с дворцом в единый огромный комплекс с фасадами на Неву и на Дворцовую площадь.
Название «Эрмитаж» впервые получило именно здание Малого Эрмитажа, построенное архитектором Ж. В. Валленом-Деламотом для Екатерины II и узкого круга ее приближенных. Слово «Эрмитаж» означает уединенный, пустынный приют отдохновения, тихий уголок. Малый Эрмитаж, непосредственно примыкающий к Зимнему дворцу, представляет собой красивый павильон с двумя светлыми галереями, между которыми, на уровне второго этажа, находится знаменитый висячий сад. В павильоне поместили в 1764 году большую партию картин, привезенных из-за границы, — эта коллекция и положила начало музею, ставшему впоследствии одним из самых богатых в мире.
Когда, побывав в залах Эрмитажа, выходишь снова на площадь, открывается взору ее противоположная сторона — с аркой Росси, которая связывает воедино два огромных корпуса, где некогда помещался Генеральный штаб и другие государственные учреждения.
Эти корпуса Росси построил в 1819 — 1829 годах, а в 1834 году была открыта посреди площади Александровская колонна. Еще через несколько лет архитектор А. П. Брюллов замкнул перспективу площади зданием штаба гвардейского корпуса, связав его с другими сооружениями. Вот как длительно и бережно создавали зодчие этот градостроительный шедевр — Дворцовую площадь.
А судьба самого Растрелли?
Ее нельзя назвать счастливой. Зимний дворец был начат при Елизавете в 1754 году, а закончен при Екатерине, когда растреллиевское барокко уже перестало отвечать требованиям «последней моды», вкусам двора и самой императрицы. Екатерина отдавала препочтение архитектуре классицизма, работам Валлена-Деламота, Джакомо Кваренги, Камерона, а Растрелли дали почувствовать холодное отношение царицы и ее вельмож. В частности, сыграл свою роль и приказ о подчинении Растрелли все тому же И. И. Бецкому, ведавшему Канцелярией от строений.
Получавший раньше все указания непосредственно от императрицы, Растрелли, узнав об оскорбительном для «обер-архитектора» приказе, был вынужден подать в отставку. Он покинул Петербург и через семь лет, забытый всей столичной знатью, умер в Митаве.
Улица зодчего Росси
Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень...
А. С. Пушкин
То, что я попытаюсь передать здесь, — невымы шлейный рассказ о первой моей «сознательной» поездке в Ленинград. Спутница моя была экскурсоводом в Совторгфло-те, отлично знала архитектурные памятники города и учила меня постигать их красоту.
Впрочем, их всегда постигаешь наново, когда бы ты ни попадал в этот город. Сюда интересно приезжать по воде и прилетать, но, на мой взгляд, все-таки самый приятный и лучший способ очутиться в городе на Неве — это скорый поезд. Бодрствуя в вагонном купе, когда свистит за окном мрак и мигают дальние огни, лучше чувствуешь расстояние, лучше готовишь себя к встрече с Ленинградом.
В ту памятную поездку мы читали Пушкина. В купе был еще один попутчик, он сказал: «Да, в Питер без Пушкина нельзя!» И мы полюбили этого человека.
Поезд наш приходил в город не утром, а поздним вечером. Уже в Чудове, где мост через Волхов, стало смеркаться, но привычная ночная тьма не сгустилась, потому что кончался май, и северная часть неба оставалась совсем дневной, только южный край горизонта как-то странно мрачнел. Промелькнули блоковские дачные пригороды, потом привокзальные огни, и чуть ли не прямо с поезда мы оказались посреди Невского проспекта.
Конечно, для людей привычных в этом ничего удивительного нет. Московский вокзал обращен фасадом к Невскому проспекту. Когда-то здесь кончалась дорога почтовых троек и вылезали из кибиток приезжие москвичи. Потом провели железную дорогу (по царской линейке), и почтовую станцию сменил вокзал. Вот потому и удобно приезжать в Ленинград поездом — попадаешь сразу в сердце города.
...Еще стоял на привокзальном сквере конный памятник Александру III с надписью, сочиненной Демьяном Бедным:
Мой сын и мой отец при жизни казнены,
А я, пожав удел посмертного бесславья,
Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки сбросившей ярмо самодержавья.
Памятник был беспримерен. Я никогда не мог понять, как царское правительство позволило поставить в столице в 1909 году такой ярко обличительный монумент. Макет или модель памятника в Музее скульптуры не дает представления о том, как этот памятник выглядел на площади, в особенности с близкого расстояния, когда прямо над головой вдруг тяжко нависал чудовищный царский сапожище и были видны очи коня, затянутого уздой так, что конская шея трещала и глаза наливались кровью...
Автор памятника, замечательный русский скульптор Паоло Трубецкой, проживший большую часть жизни в Италии, создал произведение огромной саркастической силы, выразив свое отношение к самодержавию как нельзя яснее: солдафон в полицейской форме и с плоской барашковой шапкой на голове, завалясь назад, круто затягивает поводьями тяжеловесного коня. Тот с трудом несет всадника, согнул шею, затянут уздой и сдавлен шенкелями, но где-то в этом коне уже начинает копиться гнев. Рассказывают, что вдовствующей императрице Марии Федоровне на открытии памятника сделалось дурно, когда спала завеса, и бронзовый тяжеловесный всадник-император предстал перед взорами толпы.
...Едва только сквер и памятник Александру остались позади, началась загадочная ворожба белой майской ночи. Мы шли по Невскому к Адмиралтейству, и одно чудо торжественно сменялось другим.
Предметы потеряли свои тени, подобно герою известной сказки Адельберта Шамиссо. Можно подумать, что при таком освещении любоваться архитектурой нельзя, ведь зодчество имеет дело с перспективой, пространственными формами, оживляемыми игрой света и тени. Без них она мертва. Отнять эту игру у здания — то же, что оборвать у цветка лепестки. Но эта архитектура не умирала в полупрозрачной ночной мгле, а лишь теряла свою каменную тяжесть, становилась невесомо воздушной, зыбкой, как во сне.
На память приходили сказки о городах-призраках, о подводных царствах, где дворцы, статуи, мосты и каменные арки видны зачарованному пришельцу сквозь чуть колеблемую морскую воду. Помните такой город в сказке Сельмы Лагерлеф о приключениях Нильса с дикими гусями? Кто не мечтал побродить по такому волшебному городу! Оказалось, что это совсем нетрудно — нужно только приехать белой ночью в Ленинград.
Все было совсем как в тех, навеки запавших в нашу память пушкинских строках, что знакомы с детства. Вот когда постигаешь их абсолютное совершенство и точность! Музыка их звучала как лейтмотив всего, что здесь развертывалось перед глазами: два ясных ряда спящих громад вдоль величавой пустынной улицы, и чугунный узор оград, и светлая игла впереди.
Стихи и город так созвучны, будто силой этих-то строк и рождена вся поэзия здешнего ночного света, одухотворенного камня и задумчивой воды с отраженным в ней спящим городом.
Может показаться, будто в таком поэтически приподнятом душевном состоянии не станешь интересоваться искусствоведческими подробностями. Это неверно! Поэзии никогда не мешают даже крупинки знания — нарушить поэзию могут только невежество и пошлость.
Мы долго простояли на Аничковом мосту через Фонтанку. Кто не знает, хотя бы по иллюстрациям, знаменитых укротителей коней, изваянных скульптором П. К. Клодтом? Но только тот сполна оценит силу этих скульптурных групп, кто здесь, на мосту, приглядится к четырем огненным животным. Прекрасны обнаженные тела смелых юношей-укротителей, прекрасно напряжение борьбы, вольны и совершенны схваченные ваятелем позы.
А в названии моста сохранилась память о сподвижнике Петра полковнике Аничкове, который командовал Астраханским пехотным полком, расквартированным в слободе за Фонтанкой. Первый мост, выстроенный солдатами этого полка через Фонтанную реку, был деревянным. В своем нынешнем виде мост существует с 1841 года.
Многих приводит в недоумение название реки — Фонтанная. Оказывается, для фонтанов Летнего сада в петровские времена повели воду от Пулковских высот. Был прорыт двадцативерстный Лиговский канал от Пулкова до Бассейной улицы, где устроили бассейн для приема воды. Речка, бравшая начало от Невы и снова впадавшая в Неву, превращая в остров адмиралтейскую часть города, называлась тогда Безымянным ериком. Она оказалась на пути водопровода, было решено подать воду через нее по трубам. От этих «фонтанных» труб Безымянный ерик и получил название Фонтанной реки, Фонтанки.
На набережной Фонтанки запоминается огромный Аничков дворец. Он был построен для фаворита Елизаветы — Алексея Разумовского. Позднее в этом дворце блистала на придворных балах Наталья Николаевна Пушкина. Начинал постройку архитектор Земцов, продолжал Дмитриев, затем переделывал фасады Растрелли, строил один корпус Кваренги, а в XIX веке фасады вновь перестраивали другие зодчие. При Советской власти в Аничковом дворце был сначала музей, а в 1937 году весь огромный дворец, занимающий вместе с садом целый квартал по Невскому проспекту, стал Дворцом пионеров.
Но позвольте вернуться к памятной белой ночи, что привела нас на Невский.
Здесь, на оси проспекта, на пространстве, которое можно не спеша обойти часа за два, сосредоточены главные архитектурные шедевры великого зодчего Карла Росси. Полвека назад Игорь Грабарь писал о них: «Настанет время, когда будут приезжать смотреть на эти великолепные произведения Росси, как ездят смотреть мастеров Ренессанса в Италию».
Архитектор Карл Росси (1775 — 1849) — уроженец Петербурга, сын известной танцовщицы екатерининских времен Гертруды Росси. Первым учителем его был архитектор Бренна, построивший по проектам Баженова Михайловский замок — резиденцию Павла I. Росси завершил свое архитектурное образование за границей, во Флоренции, затем получил назначение в Москву. Пожар 1812 года уничтожил в Москве, около Арбатских ворот, интересное и нарядное театральное здание, построенное Росси.
С 1816 года зодчий вновь работает в Петербурге и здесь в очень короткий срок создает несколько грандиозных ансамблей.
Редкому зодчему выпадало счастье видеть воплощение своих больших градостроительных замыслов, и именно Росси достиг этого благодаря своей удивительной энергии и огромной силе дарования. Он принадлежал к числу дерзких и смелых мечтателей, архитектурные замыслы его были необыкновенно широки уже в молодости, но они никогда не бывали беспочвенными фантазиями, они были осуществимы, и Росси это горячо доказывал. Не сооружение отдельных домов, даже таких выигрышных, как театры, дворцы, храмы, захватывает его воображение — он был именно градостроителем, мечтал создавать площади, улицы, города с великолепными набережными, садами, статуями на площадях. Он хотел видеть Петербург таким, каким был древний Рим в расцвете могущества.
«Размеры предлагаемого мною проекта превосходят те, которые Римляне считали достаточными для своих памятников. Неужели мы побоимся сравниться с ними в великолепии? Цель не в обилии украшений, а в величии форм, в благородстве пропорций, в нерушимости».
Это писал Росси в объяснительной записке к проекту Адмиралтейской набережной. Проект был отвергнут, как чересчур грандиозный и дорогостоящий, но он очень характерен для смелого, еще очень молодого творца.
Ансамбль Александрийского театра на Невском и прилегающих к театру площадей — торжество градостроительных принципов Росси.
Получив в 1828 году «высочайший» заказ на сооружение театра, Росси совершенно преобразил застройку целого участка. Центром композиции он сделал здание театра — прямоугольное в плане, очень компактное, собранное и притом празднично нарядное благодаря великолепной колоннаде-лоджии и торжественному аттику (стенке над верхним карнизом вместо фронтона). За колоннами фасада рисуются полукружия окон, созвучные двум боковым нишам для скульптур. Над аттиком вознесена фигура древнего бога искусства Аполлона, летящего на четырехконной колеснице.
Перед главным фасадом театра Росси создал большую площадь (она называлась Александровской, а теперь носит имя драматурга А. Н. Островского, чьи пьесы ставились Александринским — ныне имени Пушкина — театром). Как же удалось архитектору связать театральный фасад с остальной застройкой? Ведь площадь очень велика — около пяти гектаров, а кажется даже еще просторнее.
С западной стороны площади (в стороне Адмиралтейства) Росси воздвиг новый корпус Публичной библиотеки. При этом он бережно сохранил полукруглую угловую часть прежнего здания (зодчий — Е. Соколов), выходящего на Невский и Садовую.
Перед Росси стояла очень сложная задача: нужно было добиться композиционного и стилевого единства зданий театра, бокового фасада Аничкова дворца и библиотеки. К соколовской закругленной части библиотеки, смотревшей и на Невский и на новую площадь, Росси пристроил свой корпус с ионической колоннадой и красивым аттиком, увенчанным статуей богини мудрости Минервы. В южном конце этого корпуса он повторил соколовскую угловую часть. Получилась композиция цельная и столь прекрасная, что может спорить с самим театром по красоте и ритму линий.
Но это лишь одна, западная, сторона площади. Противоположную сторону образует сад перед боковым фасадом Аничкова дворца. Чтобы уравновесить архитектуру площади, Росси строит на границе дворцовой усадьбы два садовых павильона, отвечающих фасадам театра и библиотеки.
Позднее, уже при Александре II, в годы упадка классицизма, когда, по выражению Достоевского, восторжествовала в архитектуре капиталистического Петербурга «какая-то безалаберщина, соответствующая безалаберности настоящей минуты», на Александровской площади разбили сквер и воздвигли, по проекту Микешина, памятник Екатерине II. Он не имеет отношения к замыслу Росси и несколько заслоняет чудесный театральный фасад, но есть в этом помпезном памятнике все же какая-то внутренняя связь с окружающим ансамблем.
Императрица изображена во время царского выхода, в горностаевой мантии и со скипетром в руке. Вокруг постамента, на круглом цоколе, размещены фигуры Суворова, Потемкина, Румянцева, княгини Дашковой, поэта Державина, президента Академии художеств Бецкого, екатерининского фаворита графа Орлова, адмирала Чичагова, канцлера Безбородко... Скульпторы (М. Чижов, А. Опекушин, работавшие по рисункам Микешина) достигли в этих бронзовых изваяниях большого портретного сходства.
Отвлекаясь от ансамбля Росси, добавлю еще, что памятник Екатерине я видел в тяжелейшие дни блокады. Нельзя было разглядеть ни одной из запорошенных снегом скульптур; казалось, бронзовые люди прижались друг к другу, чтобы согреться в лютую февральскую стужу 1942-го. На цоколе было множество свежих осколочных ранений, виднелись и вмятины на складках мантии. Нам, офицерам с передовой, возвращавшимся в свои части, патруль предложил пройти в соседнее бомбоубежище: объявили воздушную тревогу. Мерзлая земля хорошо передавала близкие разрывы. После отбоя ветер еще нес кисловатый дым, на снегу осел свежий прах, а бронзовая фигура по-прежнему величественно шла навстречу ветру. И право же, в ней чувствовалось то же презрение к обстрелам и бомбежкам, которое в те дни было самой характерной чертой ленинградцев.
Позади Александрийского театра Росси создал короткую улицу — кажется, самую великолепную в городе. Она напоминает внутренний двор или даже торжественный зал, только без потолка. Одним концом она выходит на площадь Ломоносова.
Архитектура двух зданий-дворцов, образующих улицу Росси (она по праву носит его имя), подчеркнуто скромнее, чем убранство самого театрального фасада, — улица как бы готовит зрителя к радости войти в мир театральных чудес. Фасады обоих зданий, зеркально повторяющие друг друга, расчленены на два яруса. В верхнем ярусе парные дорические полуколонны, чередуясь с широкими окнами, похожими на плавные арки, создают торжественный, мерный ритм, сопровождающий движение людей к театру.
Здесь рассказано лишь об одном ансамбле этого мастера, а если припомнить, что им возведено здание Русского 276
музея с прилегающей Площадью искусств, построены дома Сената и Синода на Исаакиевской площади и здание Генерального штаба со знаменитой аркой — на Дворцовой, Елагинский дворец на Островах и другие шедевры, то понятна признательная любовь ленинградцев к памяти великого архитектора.
Рано надорвав свои силы, он, как и Растрелли, вынужден был еще сравнительно нестарым человеком подать прошение об отставке. Последние годы жизни Росси ничего не строил и умер в безвестности.
...После ночной летней прогулки по улицам и площадям, созданным Росси, вы так утомитесь, что даже асфальт Невского покажется зыбким, как моховое болото, по которому ступали здесь некогда ботфорты Петра. Но если вы, поджав гудящие от усталости ноги, чуть-чуть про-дрогнув, не ожидали первых солнечных лучей в каком-нибудь ленинградском скверике и у вас на плече не спала молодая женщина, самая прекрасная на свете, если вы не прислушивались к ее дыханию, не отваживаясь даже дохнуть поглубже, не то что пошевелить рукой, — тогда вы не знаете, что такое белая ночь в городе на Неве!
II. От Старо-Невского к Адмиралтейству
«Здесь лежит Суворов»
Рассказать коротко об этом музее — нелегкое дело: самый беглый путеводитель по нему занимает 250 страниц. И листаешь их с волнением! Музей этот — подлинный памятник славы: и боевой, и поэтической, и художественной.
Возникнуть он
мог только в городе, где многими десятилетиями накапливался драгоценный фонд монументальной скульптуры — на площадях и улицах, на бульварах и в садах, на мостах и набережных и, наконец, в некрополях и усыпальницах. Ведь народная любовь к великим землякам очень ярко проявляется у нас и в заботе о славных могилах. Один из мудрецов античной древности метко сказал: «Глядя на могилы — сужу о живых!»
Старо-Невский проспект, ведущий к лавре, заканчивается небольшой площадью Александра Невского. На площадь выходит двухэтажный надвратный храм с классическим фронтоном — это и есть вход в лавру. У него заметное сходство с Таврическим дворцом: автор у них один — зодчий Иван Старов. Он же построил и главный собор Александро-Невской лавры — Троицкий, с двумя башнями-колокольнями, высоким красивым куполом и строгим классическим портиком с колоннадой.
Однако не собор со всеми его архитектурными и скульптурными богатствами (статуи внутри него сработаны крупнейшим русским скульптором XVIII века, односельчанином Ломоносова Федотом Шубиным) привлекают в лавру основную массу посетителей, а музей в Благовещенской церкви и два некрополя. Слева от входа в лавру — некрополь XVIII века (бывшее Лазаревское кладбище), справа — некрополь мастеров искусств (бывшее Тихвинское лаврское кладбище).
...Зимним днем я пришел в лавру с маленьким букетом живых цветов. Хотелось положить их на чью-нибудь не очень прославленную и, может быть, не самую «ухоженную» могилу. Времени до закрытия оставалось немного, посетители разошлись. Сторожиха повела меня прямо в дальний угол, ближе к зданию Лазаревской усыпальницы, и сказала с хозяйской гордостью:
— Тут вот у нас Ломоносов, Михайло Васильевич!
Я прочел надпись на русском и латинском языках. Как много говорит она о прошлом России! Вот полный текст русской надписи:
«В память славному мужу Михаилу Ломоносову, родившемуся в Колмогорах в 1711 году, бывшему статскому советнику, Санкт-Петербургской Академии Наук профессору, Стокгольмской и Болонской члену, разумом и наукам превосходному, знатным украшением отечества послужившему, красноречия, стихотворства и гистории российской учителю, мусии (то есть: мозаики. — Р. Ш. ) первому в России без руководства изобретателю, прежде вре-мянною смертию от муз и отечества на днях святыя пасхи 1765 году похищенному воздвиг сию гробницу граф М. Воронцов, славя отечество с таковым гражданином и горестно соболезнуя о его кончине».
Рядом с Ломоносовым — А. К. Нартов, знаменитый механик XVIII века. Чуть подальше — Леонард Эйлер, Денис Фонвизин...
Тут переходишь от памятника к памятнику, и можно позабыть про самые неотложные дела, столько читаешь имен, изречений, дат — будто перелистываешь энциклопедию русской науки, словесности, градостроительного искусства. Творцы петербургской архитектуры: Тома де Томон — автор Биржи и ростральных колонн; строитель Казанского собора А. Воронихин, создатели петербургских памятников — Ф. Шубин, М. Козловский, И. Мартос...
Цветы остались на снегу перед очень скромной стелой серого гранита с французским текстом: под нею покоится Карл Росси.
Когда идешь к запасному выходу, обязательно минуешь длинный серый саркофаг с надписью: Наталия Николаевна Ланская. Эту фамилию после вторичного замужества носила вдова Пушкина.
Еще одно надгробие в некрополе XVIII века связано с Пушкиным — небольшой саркофаг розового гранита, недалеко от входа, перед Лазаревской усыпальницей. Это могила маленького Коли Волконского, сына декабриста Сергея Волконского. Его жена Мария Волконская (урожденная Раевская, правнучка Ломоносова) уехала в Сибирь следом за мужем-каторжанином. Этот подвиг был воспет и Пушкиным и Некрасовым. В разлуке с нею скончался оставленный в Петербурге сын. Фамилию важного государственного преступника высечь на памятнике не разрешили, надгробие мальчика осталось безыменным, но Пушкин написал для маленького монумента стихи, они были высечены на розовом камне и, конечно, все понимали, о ком говорили эти «бесцензурные» строки:
В сияньи, в радостном покое,
У трона вечного творца
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.
На бывшем Тихвинском кладбище лавры нет таких великолепных скульптурных произведений, как в некрополе XVIII века и в Благовещенской церкви, — большинство тихвинских надгробий изготовлено во второй половине XIX века, в тогдашней вычурной манере. Но имена, высеченные на этих памятниках!.. Достоевский и Карамзин, Глинка и Чайковский, Куинджи и Крамской, Шишкин и Витали, Комиссаржевская и Стрепетова... Чтобы уйти отсюда, надо буквально заставить себя не глядеть, не читать.
И вот, наконец, главное здание музея, бывшая Благовещенская церковь, возведенная в стиле барокко по проекту Доменико Трезини. Строилась она еще при Петре и служила усыпальницей сановников и членов царской семьи. В середине XVIII века к зданию церкви добавили красивый лестничный придел, богато украшенный барочным орнаментом и колоннами. Это и есть вход в нынешний музей, и сначала посетителя приглашают во второй этаж, где размещена экспозиция моделей.
Вы как бы совершаете здесь увлекательное путешествие по всему Ленинграду, но... лилипутских размеров. И вы чувствуете себя Гулливером, который в силах за полчаса осмотреть все статуи, триумфальные колонны и арки Ленинграда. Их модели выполнены самими авторами памятников или в редких случаях учениками. Увидите вы здесь в миниатюре и памятник Александру III, о котором рассказано выше, и Александровскую колонну на Дворцовой площади, и Нарвские, и Московские триумфальные ворота, ростральные колонны, памятник «Стерегущему», памятник Крылову, клодтовских коней...
Выставка дореволюционной городской скульптуры заканчивается моделью последнего монумента, что был установлен в царском Петрограде: это памятник М. Ю. Лермонтову. Сделан он по проекту Б. М. Микешина, сына известного скульптора М. Микешина. В 1916 году памятник был открыт на Могилевском (ныне Лермонтовском) проспекте, против здания Николаевского кавалерийского училища, где в лермонтовские времена помещалась Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.
Главный неф Благовещенской церкви теперь превращен в просторный музейный зал. Сразу у входа в этот торжественный белоколонный зал, между серыми плитами пола, врезана светлая каменная плита с предельно лаконичной надписью:
ЗДЪСЬ ЛЕЖИТЪ СУВОРОВЪ
В изголовье могилы, между двумя белыми колоннами, установлен хороший бюст Суворова, выполненный скульптором Демут-Малиновским. Надпись придумал сам полководец. Старые-старые подлинные суворовские знамена, помнящие Измаил и Альпы, свесились над этой могилой. И каюсь, стало мне на миг как-то смутно на сердце, когда приблизилась сюда со своей группой девица-экскурсовод на высоких каблучках.
Но... раздается ее негромкий голос, и гляжу, кто-то уже спешит сдернуть позабытую на макушке кепочку, кто-то перестал перешептываться, а там и взгляд — сердитый, мальчишеский — на взрослого, который некстати засмеялся... Слова экскурсовода — не заученные, не безучастные, и уж без всякой «смуты на сердце» слышу перестук ее каблучков дальше по этому залу.
Много прекрасных скульптур можно увидеть и в церковной пристройке, так называемой «палатке», где погребены сподвижники Петра, Елизаветы, Екатерины. Лучшие надгробные монументы созданы великим русским ваятелем Иваном Петровичем Мартосом (1752 — 1835).
Москвичи знают Мартоса как автора классического памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, одесситы — как автора великолепно поставленной фигуры «дюка» (герцога) де Ришелье на Приморском бульваре, жители Архангельска любят изваянный Мартосом памятник Ломоносову-поэту. Для ленинградцев же Иван Петрович Мартос прежде всего автор дивных художественных надгробий, и вершина его творчества — поразительный по силе скорби мраморный памятник Е. С. Куракиной. Рыдающая женщина трогает зрителя такой искренностью горя, вызывает такое сочувствие, что никто не остается равнодушным у этого прекрасного произведения.
Не уступает ему и бронзовая портретная статуя Е. И. Гагариной. Здесь, в этой изящной женской фигуре, на первый взгляд ничто не говорит о скорби и смерти, и лишь легкий жест левой руки, указывающий вниз, раскрывает печальное назначение статуи.
Но в ведении Музея городской скульптуры есть еще и Литераторские мостки на Волковом кладбище. Погребены там Белинский, Добролюбов, Гончаров, Лесков, Мамин-Сибиряк, Гаршин, Салтыков-Щедрин....
На открытой площадке, где несколько расступились старые деревья, будто оторвался на миг от книги и в раздумье приподнял голову Плеханов, изваянный из гранита скульптором И. Я. Гинцбургом. Над этим бюстом Гинц-бург работал еще при жизни Ленина, и Владимир Ильич письменно обращался к Петроградскому Совету с просьбой помочь скульптору и обеспечить его всем необходимым, чтобы ускорить создание монумента первому русскому марксисту.
Облокотившись на камень, глядит вам прямо в глаза Глеб Успенский (скульптор Л. Шервуд). Издали узнаешь характерную голову Ивана Сергеевича Тургенева — его надгробный бюст создала Жюли Полонская, хорошо знавшая писателя лично.
Недалеко от входа, слева от аллейки, стоит строгий обелиск черного полированного гранита с портретным барельефом. Эту могилу перенесли сюда со Смоленского кладбища. Здесь лежит Александр Блок...
Напрасно и пытаться описать Литераторские мостки подробнее. Поезжайте, проведите там неторопливый день раздумий — изредка это хорошо, и в восемнадцать и в восемьдесят лет. Только раздумья у этих возрастов — разные.
Колоннада на Невском
Чуть более ста лет назад (так недавно!) в России отменили крепостное право. Но еще за сорок семь лет до этого скончался на пятьдесят четвертом году жизни один из величайших русских зодчих, Андрей Никифорович Воронихин. Родина его — село Новое Усолье в Приуралье. Все жители этого села издавна были закрепощены за уральскими богачами, бывшими купцами, а впоследствии — баронами и графами Строгановыми.
Наше воображение с трудом рисует себе жизнь крепостного раба, обычно, как правило, неграмотного, замученного подневольным деревенским трудом. Но еще труднее представить себе судьбу крепостного человека, наделенного редким умом, обширными знаниями, исключительным художественным даром. Трагизм этой доли довелось испытать целой плеяде российских крепостных интеллигентов, таких, как поэт и художник Тарас Шевченко, артист Михаил Щепкин, композитор Михаил Матинский, живописцы Иван Петрович и Николай Иванович Аргуновы... К этой же плеяде можно причислить и Андрея Воронихина.
Деревенский мальчик рано обнаружил редкостные способности рисовальщика. Семнадцатилетний юноша был отправлен владельцем в Москву — учиться живописи (богатые крепостники всегда старались иметь «своих» художников, зодчих, артистов). Его учителями становятся большие русские архитекторы Баженов и Казаков. Разумеется, у таких наставников талантливый юноша не остается равнодушным к архитектуре! Граф А. С. Строганов переводит Воронихина в Петербург для обучения архитектурному искусству, а затем отправляет вместе со своим сыном за границу, в Италию и Францию.
Воротился Андрей Воронихин на родину законченным мастером архитектуры, знатоком физики, механики, математики. Биографы говорят о необыкновенном его трудолюбии и работоспособности.
Обогащенный знаниями, молодой зодчий получает в Петербурге от своего хозяина множество заказов. Граф А. С. Строганов поручает ему отделку парадных залов своего дворца на Мойке.
Задача была не из простых: Воронихину пришлось приспосабливаться к растреллиевской архитектуре и «вписывать» в нее интерьеры в духе новой классики. Он отделывает картинную галерею строгановского дворца и строит графскую дачу на Большой Невке.
Свои архитектурные произведения Воронихин изобразил на картинах. За это он был произведен Академией художеств в академики перспективной живописи. Строгановская дача на Большой Невке, к сожалению, не сохранилась: в XX веке частные владельцы разобрали этот замечательный павильон.
Андрею Воронихину едва исполнилось сорок лет, когда император Павел задумал выстроить в Петербурге собор в честь так называемой Казанской богоматери. По желанию Павла в основу архитектурного образа нового собора зодчий должен был взять знаменитый храм святого Петра в Риме. Есть сведения, что идея здания Казанского собора с его колоннадой принадлежит гениальному русскому зодчему Баженову.
Было решено разобрать на Невском проспекте прежнюю церковь Рождества богородицы и на ее месте воздвигнуть собор, чтобы придать проспекту в этой центральной части столицы законченный, более величественный характер. Эта задача выпала Воронихину.
Граф А. С. Строганов, на которого царь возложил всю административную и организационную работу, был как бы начальником строительства, а главным архитектором и инженером — в одном лице — был Андрей Никифорович Воронихин, получивший от Академии художеств звание архитектора (1800), а вскоре и профессора архитектуры за проект Петергофских каскадов (1802). Граф А. С. Строганов уже давно, в 1786 году, выдал ему «вольную», то есть освободил от крепостной зависимости.
Жутко становится от слов: купчая крепость, оброк, души на вывод, владелец душ, вольная... Мастер архитектуры, получивший от своего барина «вольную»! А ведь мог бы и не получить...
Десять лет, до сентября 1811 года, возводили Казанский собор. Это одно из самых прекрасных и самых торжественных зданий Северной Пальмиры, как иногда называли Петербург. Люди поверхностных представлений об архитектуре иногда говорят, будто в этом здании мало оригинального, просто, мол, римский собор перенесен под петербургское небо. Это глубоко неверно! Да и нельзя было бы механически «перенести» итальянское творение на невские берега — оно выглядело бы здесь чужим, оно завяло бы, как пальма на морозе.
...Пойдем по Невскому от Адмиралтейства на восток. Мост через Мойку в пушкинские времена назывался Полицейским. Сразу за этим мостом предстанет нам, выходя одним фасадом на Невский, а другим — на Мойку, строгановский дворец, тот, что выстроен был Растрелли, а изнутри отделывался молодым Воронихиным. Минуем дворец, пройдем еще полквартала, и тогда справа откроется Казанский собор.
Он словно распахивает объятия навстречу зрителям, так широк и гостеприимен размах его полукруглой колоннады. Выше этой плавной многоколонной дуги вознесен в небо купол собора. Барабан под куполом прорезан высокими узкими окнами, а еще выше — кольцом слуховых окон. Идеально гармоничны и легки пропорции центрального портика с шестью коринфскими колоннами и треугольным фронтоном.
Составляют колоннаду четыре ряда колонн — целый лес! Их здесь 144, стройных, украшенных желобками-каннелюрами, увенчанных коринфскими капителями, похожими на окаменевшие корзины цветов.
Здесь, на этом здании, легко демонстрировать главные элементы классической ордерной архитектуры, поэтому между рядами колонн часто видишь студентов архитектурных вузов и художественных училищ. Они старательно обмеряют, срисовывают каждую деталь этих на диво выисканных, изящных и таких загадочно легких конструкций. Удивительна игра света и теней, когда вы проходите под колоннадой: к вам приближаются одни и удаляются от вас другие группы колонн, высеченных из светлого пудожского камня.
Сама конструкция плоских балок над колоннами требовала очень точного расчета: раньше такие нагрузки доверялись только арочному типу перекрытий. Воронихину пришлось долго и мужественно отстаивать эти смелые конструкции в боковых проездах по концам колоннады. Проезды связывают соборную колоннаду с соседними улицами и по своему архитектурному наряду похожи на триумфальные арки.
Левое крыло колоннады скульптор Мартос украсил фризом-барельефом в классическом стиле на тему «Истечение воды из камня». Это библейский эпизод, когда в пустыне истомленные жаждой евреи — беглецы из Египта, уже близкие к изнеможению, внезапно обретают воду, хлынувшую из каменной скалы.
Сильно и верно передает скульптор порыв людей, тянущихся к влаге, к наполненным водой сосудам... Женщины, дети, старцы и сильные мужи (забыв о собственной жажде, они несут на руках к воде своих истомленных спутниц) — таковы фигуры фриза.
И внутри храма у вас сохраняется, даже усиливается ощущение приподнятости, торжественности, гармонии. Вы даже не сразу улавливаете знакомую традиционную крестово-купольную планировку: ее как бы заслоняет мерное шествие парных колонн.
В отличие от наружных внутренние колонны здесь гладкие, без желобков. Высокие своды богато украшены, но все это великолепие вас не смущает. Этим Казанский отличен от Исаакиевского, где огромность и пышность подавляют воображение. Здесь же величие замысла не лишает его задушевности и теплоты, пронизывающей всю эту торжественную архитектуру. Верно, отгадка этой тайны — в личности самого зодчего, воплотившейся в искусстве, в прекрасных художественных формах: Андрей Воронихин был человеком редкостного личного обаяния, доброты и мягкости. Сердце его было столь же большим, как и ум, как и дарование.
Одновременно с Казанским собором Воронихин строил величественный дом горного института на Васильевском острове. Здание это многоколонным портиком создает впечатление мужественной силы. Оно украшает невысокий невский берег, хорошо видно с другой стороны реки и зримо напоминает ленинградцам об их великом земляке-классике.
Не успели убрать леса с Казанского собора, как началось вторжение в Россию огромной наполеоновской армии. Жители невской столицы мысленно связали новый собор с этими событиями. Здание стало служить как бы символом победы. Многие ленинградцы твердо убеждены, что собор и построен-то в честь событий 1812 года (на деле он завершен был годом раньше). Но пантеоном славы Отечественной войны 1812 года собор действительно стал.
Через год после изгнания Наполеона из России Петербург хоронил фельдмаршала Кутузова, умершего в походе, во время преследования вражеских войск. Толпы народа вышли на городскую окраину встречать гроб и несли его на плечах до самого собора. Здесь фельдмаршала погребли справа от главного входа. Пушкин посвятил этой могиле стихотворение «Перед гробницею святою».
Перед главным фасадом Казанского собора, на высоких гранитных постаментах установлены были в 25-ю годовщину Отечественной войны 1812 года статуи обоих русских полководцев: Барклая де Толли — слева, Кутузова — справа. Сработаны статуи скульптором Б. И. Орловским.
Высокий обелиск некогда украшал площадь перед дугой колоннады. Потом его снесли. Но собор и площадь лишь часть воронихинского замысла. Усовершенствуя свой проект, зодчий задумал еще одну колоннаду, с противоположной, южной, стороны собора. Если бы этот проект осуществился, получились бы четыре площади и фантастическая композиция колонн, расходящихся плавными крыльями по сторонам главного корпуса. Сооружение было бы единственным в своем роде, не имеющим ни предшественников, ни аналогий. Война 1812 года, а затем смерть автора и его покровителя А. С. Строганова помешали реализации воронихинского замысла, хотя его горячо поддерживали и другие большие мастера. Лишь небольшая полукруглая площадь перед западным фасадом, окруженная чугунной решеткой, была дополнительно разбита после официального освящения собора.
Эта решетка длиной более 150 метров — одна из больших художественных ценностей Ленинграда. Она опирается на четырнадцать гранитных столбов-колонн, увенчанных шарами поверх капителей. Рисунок ее — из последних работ Воронихина — по красоте превосходит и знаменитую фельтеновскую решетку Летнего сада и растреллиевскую решетку Смольного.
Сама же южная колоннада собора осталась, увы, на листах проектных чертежей, и теперь лишь воронихинский узор решетки напоминает нам о неосуществленном замысле великого градостроителя.
Есть у площади перед Казанским собором и революционное прошлое. 6 декабря 1876 года сюда — впервые в истории русского рабочего движения — пришли питерские пролетарии, развернули алое знамя, а со ступеней собора перед ними выступил Георгий Валентинович Плеханов. Поэтому именем его названа улица, берущая начало от площади у собора.
Не раз рабочие Петрограда приходили сюда снова, и напуганный градоначальник приказал в конце концов разбить перед собором сквер с фонтаном. Он считал, что зелень и фонтан займут всю площадку и для демонстрантов попросту уже не хватит места!..
«Постройкой Казанского собора А. Н. Воронихин написал одну из самых крупных глав в истории русского храмового зодчества, — говорит биограф Воронихина В. А. Панов. — Больше того: если бы он осуществил полностью свою композицию собора, он дал бы несравненный уникум на фоне европейского зодчества».
Исаакий
В августе 1941 года, на одном из участков Ленинградского фронта, в бумажнике убитого фашистского ефрейтора нашли цветную открытку. Видимо, она дважды побывала в типографском станке, потому что поверх старого цветного изображения был жирно наложен свежий штамп. Изображен был на открытке Исаакиевский собор, а двустишие, напечатанное по-немецки поверх изображения, призывало фашистское воинство устроить в этом здании... публичный дом!
Комиссар 1025-го полка отдал открытку одному из ротных политруков и сказал:
— У вас в роте много ленинградцев. Покажите им. А вы, — обратился он ко мне, — при случае рассказали бы солдатам об этом соборе. Полезно знать, что у нас под защитой...
Потом, когда бои на северном участке фронта стали позиционными, закрепились передовые рубежи и началась зимняя окопная жизнь, мне случалось не раз вести с бойцами беседы о Ленинграде, его истории и памятниках культуры.
Представьте себе окопную землянку, светильник системы «зов предков» — на солярке (ее добывали у танкистов соседнего укрепрайона), махорочный дым, уплывающий в печурку, ту самую, о которой сложена известная фронтовая песня. Сидят в землянке свободные от наряда бойцы в расстегнутых ватниках. Временами неподалеку ухнет разрыв или щелкнет пуля в траншее («а до смерти — четыре шага!»), и непременно кто-нибудь заметит, что огонь при-ослаб, потому что «он» ужинает. Винтовки чуть отодвинуты от дощатой стенки, чтобы уступить кусочек места планшету с контурами Исаакия. И идет неторопливый разговор об этом здании.
Строгие искусствоведы находят в Исаакиевском соборе те или иные погрешности, считают его чрезмерно пышным, перегруженным лепными украшениями, позолотой, бронзовым литьем, скульптурой. Дескать, мол, чересчур щедро! Но и самые придирчивые критики единодушны в том, что Исаакий — это выдающееся сооружение, очень хорошо вписанное в силуэт города, одно из самых больших купольных зданий мира, и к тому же подлинный геологический музей: при постройке собора использовано сорок три породы минералов.
Грандиозный собор задуман был как памятник победы в Отечественной войне 1812 года. Но под конец строительства об этом уже начали забывать — собор возводили в течение сорока лет.
Автором проекта был Август Монферран, молодой француз, приехавший в Россию в 1816 году с рекомендательным письмом от знаменитого часовщика Брегета. Его приняли на работу в Комитет для строений и гидравлических работ и поручили поработать над проектом Исаакиевского собора.
Никакого строительного опыта у Монферрана не было, но он хорошо рисовал, и альбом его рисунков с набросками нового собора был показан царю. В феврале 1818 года Александр I подписал указ о назначении Монферрана главным архитектором Исаакиевского собора. Так, почти случайно, на долю молодого еще человека досталась самая технически сложная постройка Петербурга.
Лишь вмешательство целой группы выдающихся русских зодчих — В. Стасова, Карла Росси, А. Мельникова, А. Михайлова — спасло начатое в 1819 году строительство от провала. Был разработан на основе монферрановского эскиза новый технический проект, продуман план организации работ, внесены важные поправки в архитектуру здания. Оно стало стройнее и легче. Тем не менее неопытность главного архитектора привела к неравномерной осадке здания и другим тяжелым последствиям. Устранять их приходится и до сих пор — советским реставраторам.
Наибольших хлопот потребовал, как мы сейчас говорим, «нулевой цикл», то есть устройство фундаментов. Если кому-нибудь из наших строителей назвать количество рабочих, возводивших эти фундаменты, он ахнет: 125 733 человека! Только фундаментные работы потребовали пять лет. Забито было в грунт 12 тысяч свай, и по ним уложено два ряда огромных гранитных блоков. Связывали их скобами и заливали для прочности свинцом вместо раствора.
Собор строили еще крепостные люди. Это последнее в России грандиозное сооружение, возведенное трудом крепостных. Об их мастерстве писал впоследствии сам Мон-ферран:
«Мы просим разрешения принести благодарность нашим прекрасным и честным плотникам за всю огромную работу, проделанную ими, и сказать, что без них собор не был бы построен... Искусные в своем ремесле, они часто оказываются виртуозами... и исполняют самые сложные и трудные работы с удивительной точностью».
Но лишь ничтожное число мастеров-умельцев получило потом награды по представлению Монферрана. Он многих забыл, даже архитектора В. Шрайбера и скульптора Ф. Ле-мера, авторов больших работ по внутренней и внешней отделке здания.
Огромность сооружения могут иллюстрировать некоторые цифры: высота собора — 101,5 метра, а весит он 300 тысяч тонн. Восстановить его в случае разрушения было бы невозможно: в месторождениях выработан, например, крупный малахит, какой шел на плитки для облицовки внутренних колонн собора.
Колонны Исаакия подавляют своими размерами: высота каждой из 48 гранитных колонн, установленных на портиках, 17 метров. Колонна из цельного куска камня высотою в пятиэтажный дом!
Для перевозки этих колонн из Финляндии, где их вырубали прямо из скал, служили особые плоты-баржи и были сконструированы сложные системы блоков и воротов. По тогдашнему времени это были технически передовые методы. С помощью подъемных кабестанов удавалось ставить колонну на место в очень короткий срок — за 40 — 50 минут. Заняты были на подъеме обычно около ста такелажников, стоявших у ручных лебедок и направлявших тяжесть. У строителей имелась даже первая в Европейской России узкоколейка с паровым двигателем — на ней перемещали тяжелые грузы.
Внутри собор отделан с подавляющим великолепием. Здесь все огромно, дорого, роскошно. Белый итальянский мрамор, колонны, облицованные малахитом и ляпис-лазурью, черный агат, червонное золото (его пошло почти полтонны), тяжеловесная бронза, скульптурные группы, статуи, барельефы — все это создавало впечатление сказочного богатства. Собор-великан вмещает до тринадцати тысяч человек.
Снаружи он столь же роскошен и пышен и несколько тяжеловат со своими огромными ангелами-светильниками по углам и четырьмя малыми куполами, не вполне соразмерными главному.
И все же, несмотря на некоторый излишек пышности, Исаакиевский собор — последнее большое произведение русской архитектурной классики — сыграл выдающуюся роль в ансамбле города. Мы уже не можем представить себе Ленинград без огромного, сверкающего золотом купола. А когда над Мойкой чуть клубится туман, Исаакиевский собор, видимый с Поцелуева моста, утрачивает свою тяжесть, становится почти воздушно-легким, полупрозрачным.
Мне довелось наблюдать его с Васильевского острова во время воздушного налета зимой 42-го. Из-за ангелов-светильников взлетали струи трассирующих пуль. Рядом, на Неве, бухали зенитные пушки линкора «Октябрьская Революция», или «Октябрины», как звали ее моряки. Корабль, пришвартованный к стенке, как бы замыкал ансамбль Сенатской площади. За башнями и трубами «Октябрины» виднелся Исаакий, но уже не в золотом, а в сером шлеме — купол закрасили темной краской, и матросы шутили: сменил, мол, парадную форму на полевую.
После войны правительство отпустило большие средства на восстановление прежней отделки Исаакия, сильно пострадавшей от налетов и обстрела. Миллионы рублей стоило возрождение памятника-музея, и сейчас он, как никогда прежде, наряден, великолепен и полностью исцелен не только от военных потрясений, но и от последствий ошибок малоопытного строителя, который лишь за долгие годы работы над этим собором стал настоящим мастером архитектуры (возведенный по проекту Монферрана и под его надзором Александрийский столп на Дворцовой площади — большая удача зодчего).
Внутри Исаакиевского собора, где когда-то висел литой из серебра символический голубь, установлен маятник Фуко, доказывающий вращение Земли вокруг своей оси. Опыт этот интересен и нагляден, в нем есть, если хотите, даже нечто торжественное, соответствующее величию здания.
Экскурсовод ставит на пол спичечный коробок и пускает маятник, подвешенный в куполе. Пока идет речь о достопримечательностях собора, маятник чертит незримые меридианы на каменном полу; острием своим он неотвратимо приближается к коробку и, наконец, сбивает его, когда Земля успевает обернуться вокруг своей оси на какую-то долю, выраженную в градусах и минутах.
Видный отовсюду, царит над Невой, над простором площадей Ленинграда могучий исполин Исаакий. К славе архитектурного памятника и он тоже прибавил славу стойкого ветерана ленинградской блокады.
Под светлой иглой
(Здание во славу русских морей)
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла.
«Медный всадник»
Если бы захаровское здание Адмиралтейства безвозвратно погибло, скажем, в дни войны и блокады, оно все равно сохранило бы вечную жизнь в пушкинской строке, даровавшей ему бессмертие.
Но свой нынешний, такой значительный для города облик Адмиралтейство приобрело лишь в прошлом столетии. Первоначально же, во времена Петровы, оно было просто-напросто береговой крепостью и судостроительной верфью. Здесь 15 июня 1712 года Петр спустил на воду свой первый крупный боевой корабль «Полтаву». Для спуска судов от верфи к Неве прорыли каналы, надолго нарушив сквозное движение вдоль реки, по набережной.
В 1730 году один из Петровых пенсионеров, архитектор Иван Коробов, построил на верфи Адмиралтейский дом (то есть административный корпус) с высоким деревянным шпилем.
К началу XIX века коробовское здание пришло в ветхость, да и сама верфь устарела. У главного архитектора Адмиралтейства Чарльза Камерона, занимавшего еще множество почетных должностей, руки не доходили до капитальной перестройки Адмиралтейства. И вот престарелую знаменитость — Камерона — сменяет в качестве главного архитектора Адмиралтейства зодчий русской академической школы Адриан Дмитриевич Захаров, чья связь с Адмиралтейством была, так сказать, наследственной: отец архитектора был мелким военнослужащим при морском ведомстве.
Детство Адриана Захарова было нелегким — семья еле-еле перебивалась на скудное отцовское жалованье. Шестилетнего Адриана удалось определить в училище при Российской академии художеств «на казенный кошт». Совершенствовать свое образование ему довелось в Париже, и в 1805 году, в полном расцвете творческих сил, накопив немалый строительный опыт, Захаров создает свой проект полной перестройки Адмиралтейства.
К первоначальному плану Ивана Коробова Захаров отнесся бережно. Основы планировки, в сущности, остались прежними: главный, административный корпус охватывает с трех сторон кораблестроительную площадку — стапеля, мастерские, доки. Только потерявшие смысл крепостные валы Захаров срыл и на освобожденной территории разбил площадь. Сохранил он и коробэвскую идею центральной части со шпилем. И даже старый деревянный шпиль по сей день сберегается под новой — захаровской — иглой. Разумеется, каменная башня стала много выше коробовской: высота ее сейчас — 73 метра.
Но, сохранив основы планировки, Захаров совершенно наново решил всю архитектурную отделку Адмиралтейства. Прежние формы петровского барокко он преобразовал в строгую классику и придал всему сооружению грандиозный масштаб, ясно сознавая, что здание станет архитектурным центром Петербурга. От главного фасада нынешнего Адмиралтейства расходятся, как три луча, три городские магистрали: Невский проспект, улица Дзержинского и проспект Майорова.
Несмотря на колоссальную длину главного фасада — 407 метров! — Захаров нашел такое композиционное решение, что здание получилось гармоничным, цельным и неоднообразным.
Как же найдена эта гармония?
В решении главного фасада звучат три архитектурные темы. Первая — это центральная часть, то есть коробовская башня, въездная арка, колоннада и шпиль. Вторая тема — боковые двенадцатиколонные портики. Эти два могучих портика выдержаны в спокойном дорическом стиле, самом мужественном из всех классических ордеров. Обоим портикам как бы аккомпанируют на длинном фасаде дополнительные выступы — ризалиты, тоже украшенные колоннами, по шести на каждом. Это третья тема фасада.
Все вместе разнообразит единый ритм фасада и отчетливо символизирует величие страны, воздвигнувшей здесь первую свою балтийскую верфь, колыбель российского северного флота и кораблестроительной промышленности. Эту главную идею здания хорошо подчеркивают и два классических павильона, выходящих на Неву. Перед одним дремлют львы — олицетворение силы и власти, перед другим — античные амфоры символизируют вечную красоту.
В содружестве с Захаровым работали над украшением Адмиралтейства лучшие русские скульпторы — Феодосий Щедрин (изваявший статуи морских богинь с земным шаром и фигуры четырех воинов у основания башни) и Иван Теребенев (создавший статуи Афины и Геракла в великолепном захаровском вестибюле). На гравюрах XIX века можно видеть и другие статуи, сработанные для Адмиралтейства С. Пименовым и В. Демут-Малиновским. Эти скульптуры изображали в аллегорических образах русские реки, страны света, морские божества. Выполненные из недорогих материалов, они не выдержали сурового климата и были убраны в 1860 году. Сейчас на их постаментах лежат якоря. Но и сохранившиеся скульптуры Щедрина и Теребе-нева дают представление о творческом содружестве зодчего и ваятелей. Оно много глубже, чем у мастеров барокко, где обилие скульптурных украшений преследовало цели декоративные, чисто «украшательские». У представителей классицизма цель иная, куда более глубокая: подчеркнуть в скульптурных образах идею здания, выразить патриотические чувства, прославить в античных формах подвиг своего государства. Именно так понимали роль своих скульптурных групп те ваятели, что вместе с Захаровым работали над украшением Адмиралтейства.
Пострадавшее в дни войны, оно было отлично восстановлено ленинградцами по чертежам Адриана Захарова. Воспетая Пушкиным Адмиралтейская игла с золотым корабликом стала такой привычной приметой великого города, что именно она и выбита на боевой медали «За оборону Ленинграда». Оно и само, захаровское здание Адмиралтейства, вполне заслужило этот знак победы над силами зла.
III. По мертвую и по живую воду
(Мемориальные пушкинские места)
Эти дома его помнят
Есть в России одна дорога — деловитая, оживленная, подобная сотням других. От ленинградских окраин бежит ее ухоженная асфальтовая лента через Гатчину и Псков до города Острова. Отсюда, перемахнув по двум старинным цепным мостам через реку Великую, дорога долго кружит полями и голыми равнинами, чтобы привести, наконец, своих путников в гористую лесную местность, где уже издали, выше сосен и елей, становится виден остроконечный шпиль Святогорского монастыря. Сюда февральской ночью 1837 года привезли из Петербурга для тайного погребения гроб с телом Пушкина.
Мне давно хотелось увидеть последнюю дорогу Пушкина в такую же зимнюю пору, как полтора столетия назад, когда офицер, слуга и жандарм провожали тело поэта к святогорскому холму. Проехать и пройти этой дорогой, как бы следуя за полозьями пушкинских саней, я решил от самого Невского.
Шофер такси довольно хорошо знал излюбленные экскурсантами пушкинские места в самом Ленинграде и ближних пригородах, однако просьбе ехать на Невский немного удивился. Мы остановились у бывшего Полицейского моста. Удивление шофера возросло, когда он услышал, что все четыре угловых здания на перекрестке Невского и набережной Мойки непосредственно связаны с жизнью и гибелью Пушкина.
Вот на углу уже знакомый нам превосходный памятник архитектуры, бывший строгановский дворец. Граф Г. А. Строганов считался, на правах дальнего родственника, покровителем жены поэта, Наталии Николаевны. Обладатель огромного богатства, царедворец, близко стоявший к императорскому семейству, Г. А. Строганов был назначен опекуном детей Пушкина и, кроме того, принял на себя хлопоты о похоронах поэта. Поэтому в прежние времена его обычно причисляли к благожелателям Пушкина.
Однако беспристрастный анализ фактов, документов, показаний современников и некоторые новые обстоятельства, недавно выясненные советскими исследователями, раскрывают роль графа Г. А. Строганова как одного из прямых виновников кровавой развязки ссоры Пушкина с Дантесом и Геккерном.
Прямо к графу Строганову метнулся голландский посланник Геккерн, приемный отец Дантеса, получив 26 января последнее письмо разгневанного поэта. И, по сути, именно эти два человека — Геккерн и Строганов — решили участь Пушкина. Сам Геккерн писал: «Я посоветовался с графом Строгановым, моим другом. Так как он согласился со мною... вызов господину Пушкину был послан». И никто иной, как тот же граф Строганов, впоследствии писал голландскому посланнику, прося его сообщить высланному из России Дантесу о «сочувствии к нему всех честных людей».
Граф Г. А. Строганов, его жена Ю. Строганова, внебрачная дочь последней, — Идалия Полетика, известная своей лютой враждой к Пушкину, граф и графиня Нессельроде, приятели Дантеса кавалергардские офицеры Куракин и Трубецкой, граф А. X. Бенкендорф, графиня С. А. Бобринская, тетка Наталии Николаевны Пушкиной Е. И. Загряжская — вот несколько непосредственных виновников травли и убийства поэта, уж не говоря о коронованном их подстрекателе. Как известно, царь выслал Дантеса во Францию. Сердце его «билось ровно» еще целых 58 лет после выстрелов на Черной Речке. Дантес де Геккерн занимал важные государственные посты во Франции и в отличие от убитого им русского поэта удостоился пышных похорон в 1895 году.
Как раз напротив строгановского дворца, на другой стороне Невского, сохранилась до наших дней бывшая голландская церковь в Петербурге — грамотная, добросовестная (но и только!) работа архитектора Жако. Портик с четырьмя колоннами, купол над центральной частью дома. Этот внушительный, хотя и довольно сдержанный фасад вызывает в нашей памяти все те же зловещие образы пушкинских гонителей. Ведь перед этим домом, почти не изменившимся за полтора века, часто стояла в пушкинские времена карета с ливрейным лакеем, ожидавшая своего хозяина барона Геккерна.
Может быть, именно здесь, в церковной тишине, Геккерн обдумывал, как бы оскорбительнее сочинить анонимку о семейной жизни поэта, кому из приятелей Дантеса поручить рассылку этих грязных листков, по каким адресам их направить...
Анонимный пасквиль был получен Пушкиным и некоторыми его знакомыми 4 ноября, и авторство Геккерна заподозрили очень скоро. Поэт послал вызов Дантесу, а напуганный Геккерн всеми силами старался притушить грозящий пожар, умоляя Пушкина об отсрочке дуэли.
Однако лишь только затих шепоток о разосланном пасквиле и поэт, несколько успокоенный женитьбой Дантеса на сестре Наталии Николаевны, Екатерине Гончаровой, отказался от дуэли, враги Пушкина тотчас же затеяли новые интриги. Пока плелась эта паутина, сам поэт, несмотря на тревоги и волнения, все-таки старался не вовсе отрываться от письменного стола. И как раз третий дом на перекрестке Невского и Мойки прямо связан с литературной работой Пушкина перед гибелью.
Дом выходит на набережную Мойки, углы его закруглены и украшены двухъярусными колоннами в духе барокко. Это придает зданию нарядность и делает похожим на дворцовые строения. Тут помещалась типография издателя Плюшара, и Пушкин бывал в этом доме по литературным делам. Последний раз он был здесь 10 (22) декабря 1836 года и договорился с Плюшаром о выпуске однотомника стихотворений.
И наконец, четвертый дом на том же перекрестке...
Это последний дом, откуда Пушкин, еще здоровый и невредимый, вышел на людный Невский проспект, чтобы прямо отсюда ехать на дуэль. Находилась здесь кофейня Вольфа и Беранже. За столиком этой кофейни Пушкин обсудил со своим секундантом Данзасом подробности предстоящей дуэли. Санки ожидали у подъезда, швейцар подал Пушкину шляпу и меховой плащ.
На глухой окраине Петербурга, за Черной Речкой, противники сошлись в половине пятого дня 27 января. Смертельно раненный Пушкин сделал ответный выстрел, целя в грудь противнику. Выстрел был точен, но пуля отскочила будто бы от пуговицы мундира, и убийца поэта отделался легким ранением руки.
Уже в наши дни группа ленинградских криминалистов экспериментально воспроизвела условия дуэли, вплоть до выбора тогдашнего сорта пороха для ответного пушкинского выстрела. При этом опыте пуля буквально вдавила пуговицу в грудь манекену.
У криминалистов укрепилось подозрение, не спасла ли Дантеса заранее надетая кольчуга. В самом деле, не для того ли и понадобилась Геккерну отсрочка дуэли, чтобы заказать для Дантеса нагрудную кольчугу, например, из офицерского корсета, усиленного стальными пластинами?
Впрочем, знатоки той эпохи, ученые-пушкинисты, не склонны поддерживать предположение криминалистов насчет Дантесовой кольчуги.
На месте дуэли теперь стоит обелиск из красноватого гранита — цвет камня напоминает о роковом исходе поединка. Ленинградцы поставили этот памятник в дни столетней годовщины со дня гибели Пушкина.
Отсюда, уже в сумерках, его везли домой, на набережную Мойки. В санях он еще не знал, что умирает, но страдал жестоко. Ни на миг мужество, присущее Пушкину с детства, не изменило ему. Даже секундант убийцы, д’Аршиак, свидетельствовал, что на дуэли «Пушкин был изумительно высок, выказал нечеловеческое спокойствие и мужество». Такое же презрение к боли и смерти он выказывал до последнего вздоха.
После смерти Пушкина его последнюю квартиру (набережная Мойки, 12) никто не берег и не охранял. Лишь через пятьдесят лет на доме появилась мемориальная доска. Квартиру Пушкина не раз перепланировали, а в связи с перестройкой дома в 1910 году даже отрезали часть этой квартиры для устройства парадного хода на Мойку.
Только после Октябрьской революции квартиру превратили в музей, восстановили семь комнат, которые занимала семья поэта, реставрировали дом снаружи, придав ему тот архитектурный облик, какой он имел при Пушкине. Все это сделано по документам, воспоминаниям, зарисовкам современников.
...Минуя вестибюль, который в давние времена был общим для жильцов всех трех этажей дома, входим в квартиру Пушкиных, живших в первом этаже. Удивительное чувство охватывает вас здесь.
Вы почти не ощущаете музейной атмосферы, словно еще сохраняют эти стены запах жилья. Кажется, хозяин квартиры только вышел, он вернется, непременно вернется к своему столу, чернильнице, книжным полкам. И вы ловите себя на мысли, что вроде бы и нескромно так жадно любопытствовать в чужом доме. А стихотворные цитаты, висящие по стенам в виде подписей к портретам и рисункам, нисколько не нарушают цельности впечатления, потому что стихи Пушкина очень хочется точнее вспомнить именно тут, память же наша обманчива...
Здесь особенно глубоко чувствуешь, что поэта убили в самом расцвете его сил. Он был полон великолепных замыслов. Черновики и наброски, отрывки начатого, конспекты — все, что он писал за этим скромным столом, складывается, вместе взятое, в горестную повесть о том, что еще мог свершить и не успел свершить Пушкин.
Он без устали читал. Книги его библиотеки в кабинете испещрены пометками. Сам он говорил с упреком:
«Мало у нас писателей, которые бы учились, большая часть только разучивается».
Никто из писателей, современников Пушкина, так не углублялся в источники, исторические документы, рукописи, архивные богатства. И когда Пушкин, понимавший, что идет в Петербурге к неизбежной катастрофе, подал ходатайство об отставке, прося лишь позволения продолжать необходимые ему изыскания в архивах, царь отказал. Закрывая поэту доступ к материалам, заключающим в себе правду истории, он отнимал у Пушкина смысл жизни, и поэт, стиснув зубы, взял прошение об отставке обратно. Это был путь самопожертвования — во имя литературного долга.
В этой квартире была закончена «Капитанская дочка» — под стеклом тут выставлена фотокопия рукописи. Большое произведение о Петре, начатое здесь, стало бы в мировой литературе предметом нашей национальной гордости. А работал поэт урывками между светскими приемами и постылыми камер-юнкерскими обязанностями, терзаемый интригами.
Тут рождались и замыслы будущих номеров «Современника» — об этом журнале Пушкин думал еще утром, в день дуэли, писал письмо переводчице и писательнице А. О. Ишимовой о материале для очередного выпуска. Эти строки — последнее, что вывело пушкинское перо. Вот и оно перед нами — простое гусиное перо, самый волнующий экспонат музея!
Идем по этим комнатам. За маленькой буфетной очень простая столовая, потом гостиная со старинным фортепьяно, а на его крышке ноты шутливого канона, написанного Пушкиным и его друзьями в 1836 году, на празднике в честь М. И. Глинки. На премьере первой оперы композитора «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») — 27 ноября 1836 года — Пушкин присутствовал. Прошло несколько недель, и здесь, в этой гостиной, дежурившие в доме друзья услышали слово: скончался!
Рядом с гостиной спальня Наталии Николаевны, а по соседству комната детей. Их было четверо, и самой младшей, Наташе, еще не исполнилось и года, когда убили отца.
Об этом убийстве и повествуют собранные здесь предметы: чиненый жилет Пушкина, снятый с него, раненого, свеча, оставшаяся после отпевания, перчатка Вяземского — пара к той, которую Вяземский бросил в гроб своего друга. Сохранились и записки о состоянии здоровья Пушкина, что вывешивал Жуковский на двери квартиры, — их читали все приходившие к дому, чтобы узнать, тяжела ли рана.
А в кабинете, вероятно, и сам поэт, войди он сейчас сюда, не сразу угадал бы перемены! Тут и письменный стол с чернильницей, подарком П. В. Нащокина, и рабочая конторка, за которой Пушкин любил писать, полулежа на своем диване.
Часы стоят на 2,45 пополудни: в этот миг сердце поэта остановилось...
А еще через три четверти часа Пушкина — мертвого — вынесли в переднюю, потому что по приказу Николая шеф петербургских жандармов Дуббельт опечатал кабинет, чтобы позднее учинить там обыск.
Скульптор С. И. Гальберг снял с лица Пушкина посмертную маску. Она висит в передней, куда народ — тысячи людей! — потек прощаться со своим поэтом. Власти встревожились этим траурным шествием. Сын графа Г. А. Строганова, молодой А. Г. Строганов сунулся было в толпу, но, по его словам, увидел там «такие разбойнические лица и такую сволочь», что предупреждал отца своего не ездить туда.
Среди этих «разбойнических лиц» был и Иван Сергеевич Тургенев. Он попросил слугу срезать у поэта прядь волос для медальона. Теперь этот медальон с прядью пушкинских волос и запиской Тургенева — одна из заветных реликвий музея.
Людям, далеким от музейной работы, вся здешняя экспозиция представляется такой натуральной, простой, само собой разумеющейся, что можно подумать, будто создать музей-памятник было легко. На самом же деле сколько понадобилось неутомимых поисков, труда знатоков, чтобы восстановить здесь эту волнующую атмосферу подлинности, достоверности! Важная заслуга в создании музея принадлежит его многолетнему хранителю, ученому-пушкинисту, неутомимому изыскателю документов, книг, предметов, связанных с поэтом и его окружением, — Екатерине Владимировне Фрейдель.
Здесь, в последней квартире, тело поэта оставалось недолго: гроб уже в ночь на 31 января (12 февраля) перевезли в Конюшенную церковь. Николай приказал не допускать «толпу» на отпевание, а газетам и журналам — соблюдать надлежащую умеренность. Тут же полетело с фельдъегерем распоряжение псковскому губернатору: «Никакой встречи и никакой церемонии!»
Тайком, под охраной жандарма, мертвого поэта повезли в Святогорский монастырь. Из друзей Пушкина сопровождал тело молодой офицер Александр Тургенев — брат осужденного декабриста — и старый дядька поэта — Никита Козлов. На рассвете 6 февраля (18-го) лишь они, да несколько местных крестьян, да петербургский жандарм предали Пушкина земле.
Пушкинские Горы
Где белый памятник, и шум берез, и ночь.
Вс. Рождественский
К Пушкинским Горам я приближался на стареньком местном автобусе.
Как и во всякой поездке по России, здесь не устаешь прислушиваться к живой поэзии в названиях придорожных сел и деревень. Иногда они остродраматичны («Зарезница», «Кровоселье»), иногда спокойно-повествовательны, иногда ироничны, а то и вовсе загадочны для чужого: Череха, Стремутка, Черепягино...
За селами Решеты, Гараи и Заходы рощицы и перелески чередовались с заснеженными безлесными полями. По дороге мела поземка. И на заносимом снегом асфальте часто попадались дети-школьники. Здесь есть близ дороги
совсем маленькие деревни, и ребята оттуда ходят в школу за несколько километров. Рейсы автобусов спланированы так, чтобы дети могли утром доезжать до школы и в обед ехать обратно. Но школьники постарше не прочь пробежаться по морозцу, иных мы обгоняли в пути. Водитель терпеливо тормозил и подсаживал каждого. Ребята отвечали на заботу песнями. По команде водителя запевалы выходили вперед, становились лицом к публике, а их товарищи, заполнявшие задние сиденья автобуса, дружно поддерживали запев.
Ребята рассказали, что в стенах Святогорского монастыря, в бывшем Братском корпусе, теперь работает детская музыкальная школа. Может быть, этому обстоятельству мы и были обязаны хорошим, музыкально верным и задушевным исполнением песен? Мела метель, февральские снега уходили за горизонт, пассажиры зябко поёживались, а ребята пели:
Край родной, навек любимый,
Весь цветет, как вешний сад.
И была в этих словах такая неколебимая, незыблемая вера, что и мы, пассажиры, почувствовали: должно быть, и впрямь весной-то уж пахнет, а там и зацветет весь родной край...
Уже в темноте очутился я перед входом в святогорскую монастырскую ограду.
От чернеющего в сумраке голыми сиреневыми кустами дворика вверх на холм, к Успенскому собору, круто поднимается каменная лестница с разметенными от снега, истертыми ступенями-плитами. Железная калитка на верхней площадке оказалась лишь прикрытой, не запертой. Я обогнул здание собора и сразу же за алтарными выступами в окружении темных деревьев, тихих звезд и узорного чугуна решетки увидел памятник. Был он в дощатом защитном чехле, но траурная урна в нише виднелась сквозь стекло оконца. О том, что испытывает человек в редкостную минуту ночного одиночества у могилы Пушкина, говорить, думаю, нет надобности.
Утром сменщица сторожихи отперла собор и рассказала, как на ее глазах фашисты взрывали этот старинный памятник псковской архитектуры. Было это в марте 1944-го. С окраины поселка было видно, как саперы закладывали взрывчатку в толщу вековых стен, а офицер, стоя поодаль, подавал команды. На воздух взлетела колокольня. Главное здание и приделы обрушились наполовину.
Сейчас даже трудно поверить этим рассказам очевидцев, так мастерски восстановлен из руин Успенский собор Святогорского монастыря. Он выглядит таким, каким знал его Пушкин.
Могилу поэта на вершине холма немцы заминировали зарядами огромной разрушительной силы. Мины были натяжного действия, рассчитанные на то, чтобы кто-нибудь зацепил ногой натянутый провод.
И саперы наших наступающих частей наспех написали на дощечке:
«Могила А. С. Пушкина, заминирована. Подходить нельзя!»
Как только бойцы закрепили рубеж, усталые саперы вернулись к полуразрушенному монастырю, оцепили могилу, сняли провода, хладнокровно вынули смертоносные заряды и убрали, наконец, свою дощечку, не подозревая, что ее подберут и сберегут заботливые, умные руки. Теперь эта дощечка, ставшая памятником Великой Отечественной войны и реликвией пушкинистов, хранится среди музейных экспонатов в соборе.
Здесь устроены две интересные выставки. Одна рассказывает историю Святогорского монастыря, основанного при Иване Грозном и служившего форпостом обороны города Воронина, впоследствии разрушенного Баторием. Вторая выставка посвящена дуэли и смерти Пушкина. В мрачном и холодном соборном приделе, в соседстве с пушкинской могилой, выставка эта незабываема. Представленные на ней полотна с изображением раненого Пушкина, последней дороги и тайных похорон производят впечатление потрясающее.
...На околице поселка Пушкинские Горы, что издавна возник около подножия монастырского холма, стоит обыкновенный дорожный указатель у развилки. А написано на нем: «Тригорское — Михайловское».
Зимняя пора не очень-то благоприятна для поездки в самое сердце пушкинского заповедника — Михайловское, но есть и у этой поры свои преимущества, своя прелесть. Можно увидеть Михайловское уединенным, вслушаться в его святую тишину. Можно навестить дом и сад поэта именно тогда, когда здесь
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя...
От Пушкинских Гор в Михайловское ведет та же дорога, где проносились легкие пушкинские санки, мимо деревни Бугрово, к Михайловскому лесу. При въезде в этот заповедный лес раньше была перекинута над дорогой деревянная арка с портретом Пушкина и словами его, будто адресованными потомкам:
Здравствуй, племя младое, незнакомое!
Арку потом убрали, а пушкинские слова высекли на огромном придорожном валуне.
Дальше — извилистая, холмистая, задушевная лесная дорога. Приводит она к небольшой усадьбе. Входишь в калитку, спускаешься в овражек, минуешь горбатый мостик, вспоминаешь: «Да ведь это же здесь островок уединения!» И бредешь тропками, где будто еще совсем недавно хозяин Михайловского проезжал верхом, встречал приезжих, провожал друзей...
Бредешь, жадно глядишь на каждое дерево, стараешься угадать, помнит ли дерево «его» или оно гораздо моложе?.. И вдруг, как-то неожиданно, возникает до боли знакомое: деревянный одноэтажный дом, старый вяз перед ним, а слева, в сторонке, рядом с могучим кленом, еще один небольшой дом, который не спутаешь ни с одним другим на свете... И справа тоже какой-то флигель... Да как же так? Ведь мы читали о гибели всех этих памятников!
Сама собой вспоминается здесь, в возрожденном Пушкинском заповеднике, старая русская сказка, одна из тех, что рассказывала Пушкину зимними вечерами няня — Арина Родионовна. Это сказка про вещего Ворона, что летал для Серого волка за мертвой и за живой водой.
Мертвая вода русской сказки — понятие не отрицательное. Ведь сперва Серый волк должен был обрызгать изрубленного на куски Ивана-царевича именно мертвой водой: от нее тело срастается, раны заживают, щеки розовеют. И тогда брызгал на царевича Ворон живой водой, и просыпался Иван-царевич со словами: «Долго же я спал!»
Точно так же, мертвой и живой водой, был воскрешен и Пушкинский заповедник. Трудная задача возродить из пепла Михайловское досталась пушкинисту и искусствоведу Семену Степановичу Гейченко. Он пришел сюда прямо из фронтового госпиталя, еще не совсем привыкнув обходиться одной — здоровой — рукой. К обязанностям директора заповедника Семен Степанович приступил еще до окончания войны. Погромыхивала она довольно близко: как известно, прибалтийская, так называемая курляндская, группировка гитлеровцев капитулировала последней, уже после падения Берлина.
Как и в Святогорском монастыре, так и здесь, в Михайловском, пришлось проверять миноискателями каждый квадратный метр земли, расчищать, обезвреживать, разбирать. Из-под руин и обломков извлекли остатки уникального памятника — домика няни, единственного здания, простоявшего с пушкинских времен до гитлеровского нашествия. Сейчас эти остатки выставлены в домике обновленном.
Так обрызгано было Михайловское сначала мертвой водой. Изрубленное «тело» заповедника зарубцевалось, зажили раны: по документам и старым рисункам, обмерам уцелевших каменных фундаментов, опросам старожилов выросли вновь дом поэта, домик няни, флигель под названием «кухня-людская» и еще один флигелек, разобранный еще сыном Пушкина в XIX веке. Все, что в силах была сделать мертвая вода, было сделано. Теперь требовалась живая вода, чтобы возрожденный пушкинский уголок действительно ожил не как простой макет прошлого, а как подлинный приют поэта, помогающий нам глубже понять его творчество.
Живая вода — это общая наша любовь к Пушкину. И работники заповедника заботой своей сумели сделать все восстановленное в Михайловском и Тригорском действительно достойным бережливой народной любви.
Здесь надо побывать, чтобы увидеть, как хорошо сохранены, несмотря на все перенесенные невзгоды, чудесные уголки «пушкинской» природы, возрождены пейзажи, знакомые из хрестоматийных строк — все эти лесистые холмы, озера, аллеи, речные обрывы... Здесь надо побывать, чтобы порадоваться, как точно восстановлен дом поэта, понять, какой величавый вид открывается из окна пушкинского кабинета на долину луговой речки Сороти. Там, за этой ширью лугов, находится тоже давно знакомое нам Тригорское с его изумительным мемориальным парком над Соротью.
Но не только прекрасная живая природа воссоздает в заповеднике дух подлинности этих мест. Музеи в Михайловском и Тригорском обладают уникальными предметами, которые очень помогают нам почувствовать, что мы поистине пришли сюда к Пушкину. Эти подлинные вещи, принадлежавшие поэту, бывавшие в его руках, придают особенную значимость возрожденной обстановке комнат. В кабинете можно увидеть и трость поэта и подножную скамеечку Анны Петровны Керн, а в соседнем зальце лежат под стеклом старинной горки бильярдные шары и кий, служившие Пушкину.
Пожалуй, самый трогательный экспонат сегодняшнего Михайловского — это дубовая шкатулка Арины Родионовны с надписью: «Для чорного дня. Зделан сей ящик 1826 г. Июля 15-го дня». Когда-то шкатулку взял себе на память поэт Н. М. Языков, а один из его потомков подарил эту реликвию Михайловскому музею.
Ведется здесь, в заповеднике, большая работа, пополняющая науку о Пушкине и его времени интересными открытиями и исследованиями. Всего один пример. С. С. Гейченко в результате упорных архивных розысков удалось найти записки святогорского игумена Ионы, надзиравшего за Пушкиным в годы его михайловской ссылки. Записки Ионы и другие документы о монашеском житье-бытье оказались драгоценными и для пушкиноведения и для атеистической работы. Как известно, в Михайловском был создан «Борис Годунов», причем странствующие старцы, отец Ми-саил и отец Варлаам, «списаны» поэтом с реальных святогорских монахов. Исследования С. С. Гейченко лишний раз подтвердили, как точен и близок к натуре пушкинский рисунок этих бродячих, христарадничающих бездельников.
Стали обычными в заповеднике интересные Пушкинские чтения, а народные празднества, приуроченные ко дню рождения поэта, год от года становятся все многолюднее. Они бывают здесь в первое воскресенье июня и собирают до десятка тысяч участников. На торжества в честь 165-летия со дня рождения Пушкина (в июне 1964 года) съехалось более тридцати тысяч гостей из окрестных селений, из Пскова и Острова. Тысячи гостей собрал здесь и пушкинский День поэзии в июне 1967-го.
Вот почему поездка последней дорогой Пушкина не оставляет тягостного чувства. Мы видим, как много значит сегодня для нас пушкинская лира, как дорог народу пушкинский голос. И невольно вспоминается мне одна сцена, очень давняя, московская.
В один из первых годов революции к памятнику Пушкина на Тверском бульваре подошла вечером, уже при фонарях, группа красноармейцев в буденовках и с красными полосами на шинелях. Самый высокий из них стал перед бронзовым Пушкиным так, что склоненное лицо поэта, казалось, прямо было обращено к молодому собеседнику. Поэт будто ждал, что же пришел сказать ему этот представитель «племени младого, незнакомого».
И тот громко, на всю площадь, стал читать стихи.
Я не ручаюсь, что запомнил их правильно, но кончались они примерно так:
Сколько слав забвенья скрыто пеплом!
Сколько тронов взято в топоры!
Только твой треножник неколеблем
Чернью, потрясающей миры!
Я так и не смог узнать, чьи это были стихи. Для меня, юнца, они прозвучали тогда вещим голосом самой великой Революции.
IV. «Порфироносная вдова»
Мастера московского классицизма
(Баженов, Казаков, Жилярди, Бове)
Около двух столетий отделяет нас от той поры, когда на тихих улочках и в пригородах патриархальной Москвы, уступившей с петровских времен свое общерусское главенство Петербургу, стали опять во множестве появляться строительные леса. Сооружались новые городские дома знати, переделывались или возводились вновь домовые церкви. Среди березовых рощиц и луговой зелени Кускова, Архангельского, Останкина возникали великолепные усадебные ансамбли, окруженные «версальскими» парками с прудами, фонтанами и статуями...
Чем же было вызвано это строительное оживление к концу XVIII века?
Манифест о вольности дворянской, обнародованный 18 февраля 1762 года, освобождал дворянина от обязательной военной службы и других государственных обязанностей, давал ему право свободно распоряжаться своим временем, то есть благоденствовать летом в загородной усадьбе, а зимой переезжать в городской дворец или особняк.
Именно в те годы многие представители московских графских и княжеских фамилий, богачи с титулами и без титулов с облегчением выходили в отставку, покидали места службы, в особенности невскую столицу с ее сырым климатом, придворными интригами и чиновной чопорностью, возвращались в Москву и, прочно осев здесь, принимались восстанавливать или строить наново свои дома.
В архитектуру этих домов «явно вмешался гений древнего Московского царства, который остался верен своему стремлению к семейному удобству» (В. Г. Белинский).
По словам Белинского, петербуржец в Москве «с изумлением увидит себя посреди кривой и узкой, по горе тянущейся улицы... на которой самый огромный и самый красивый дом считался бы в Петербурге весьма скромным... Один дом выбежал на несколько шагов на улицу, как будто бы для того, чтобы посмотреть, что делается на ней, а другой отбежал на несколько шагов назад, как будто из спеси или из скромности... Между двумя домами скромно и уютно поместился ветхий деревянный домишко и, прислонившись боковыми стенами своими к стенам соседних домов, кажется, не нарадуется тому, что они не дают ему упасть... Подле великолепного модного магазина лепится себе крохотная табачная лавочка, или грязная харчевня, или такая же пивная. И еще более удивился бы наш петербуржец, почувствовав, что в странном гротеске этой улицы есть своя красота...»
Белинский подмечает печать семейственности и на дворянских домах, и в купеческом Замоскворечье, где «дом или домишко похож на крепостцу, приготовившуюся выдержать долговременную осаду».
«Из средневекового древнего города Москва начала делаться городом торговым, промышленным и мануфактурным, тогда как Петербург стал городом по преимуществу административным, бюрократическим и официальным».
Заметим сразу, что эта меткая и прозорливая характеристика Москвы и Петербурга относится к первой половине XIX века, то есть уже к концу того периода в истории русского зодчества, который мы зовем периодом московской классики, московского ампира. Начало же этому периоду было положено во второй половине XVIII века.
Тогда, примерно с шестидесятых годов, в русском искусстве восторжествовал классицизм, пришедший на смену различным формам барокко. Прихотливое, капризное барокко уже не могло отвечать новым вкусам, новым идеям гражданственности и просветительства. Эти идеи стали близкими образованной части дворянства, тяготившейся подневольным положением крестьян, дикостью русского барства, пережитками средневековья в крепостнической стране. Мысли об идеально устроенном правовом дворянском государстве волновали Сумарокова и Фонвизина, Кантемира и Крылова, Новикова и молодого Радищева.
С начала екатерининского царствования эти идеи стали своеобразно преломляться в эстетике русского классицизма, воплощаясь в величавые архитектурные формы, унаследованные от древнего республиканского Рима.
И тогда по своеобразной и самобытной своей красоте, получившей мировую известность, Москва, по-новому понятая и спланированная талантливыми зодчими, стала соперничать с Петербургом.
Конечно, московская архитектура уступала петербургской в великолепии и строгости, но обаяние древней столицы было в другом — в задушевности, человечности и красочности ее построек, ее «семи холмов» и «сорока сороков», к которым XVIII век добавил немало новых зданий и ансамблей.
Первая же четверть XIX века придала главным площадям Москвы классическую стройность, обогатила город прекрасными, цельными по замыслу сооружениями, а главное, мудрыми планировочными наметками, нацеленными в далекое будущее. Забегая вперед, приходится сказать, что капиталистическое развитие города пошло стихийно, и наметившееся единство градостроительного замысла было позже нарушено.
Крупнейшими мастерами московского зодчества в период раннего классицизма были Василий Баженов и его ученик, продолжатель баженовских традиций Матвей Казаков.
Многие знатоки архитектуры да и просто люди, ценящие «застывшую в камне музыку», считают лучшим зданием Москвы XVIII века бывший Пашков дом, построенный на Моховой улице в 1784 — 1786 годах. В XIX веке его знали как Румянцевский музей, теперь это Государственная публичная библиотека имени Ленина. Сам Владимир Ильич, пользовавшийся этой библиотекой, очень любил «Румянцевку». Бонч-Бруевич вспоминает, что Ленин восхищался красотой и цельностью здания.
Документы и проектные материалы, касающиеся Пашкова дома, почти целиком сгорели в 1812 году, но исследователи установили, что автором его был не кто иной, как великий русский зодчий Василий Иванович Баженов (1737 — 1799).
...Моховая улица (ныне проспект Маркса) спускается чуть под уклон к перекрестку, и если идешь пешком вниз, то справа от тротуара, словно бы в такт шагу, плавно нарастает зеленый, покрытый дерном, холм. Вершина его выровнена, окаймлена стриженым кустарником. Там и высится чудесное здание, вернее целая композиция, в которой сразу угадываешь руку большого мастера, наделенного безошибочным чувством пропорции, энциклопедическим знанием архитектуры прошлого и умением связать архитектуру с пейзажем. Впрочем, пейзаж-то в XVIII веке был здесь иным!
Сейчас склон холма просто срезан, тогда же он спускался к реке Неглинной несколькими террасами. На этих террасах синели зеркала прудов, отражавшие парковую зелень. Вершину холма венчал великолепный Пашков дом.
Он окажется, в сущности, простым, если мы последуем примеру пушкинского Сальери («...Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп, поверил я алгеброй гармонию»...).
Центральный куб. Наверху бельведер с колоннами, балюстрада с вазами на каменных постаментах. Цокольная часть здания, отделанная рустом, выступает вперед, чтобы служить опорой для колонн портика. На фоне рустованной стены плавно повторяются арки оконных проемов. Вот тут-то и скрыта тайна мастерства, ибо пропорции окон так безупречны, что лишь рука мастера, искушенного и высокообразованного, могла найти эти абсолютно ритмичные формы. Вместо наличников зодчий избрал лепные гирлянды, в замках арок поместил львиные маски. Кажется, будто иначе и нельзя, а ведь решение совершенно оригинальное. Смотрится весь цокольный этаж как арочная галерея, своеобразное «гульбище».
Радуют глаз тончайшие зрительные эффекты, рассчитанные точно и верно. Например, звучание главного портика подчеркнуто тем, что его колонны поддерживают аттик с гербом, в то время как на обоих павильонах-флигелях портики завершены иначе — треугольными фронтонами. Взгляд не задерживается на этих треугольниках, а «проскальзывает» по ним выше, к аттику, чтобы, наконец, остановиться на бельведере. Там стояла до пожара 1812 года античная статуя, сам же бельведер был меньше в диаметре и «прозрачнее»: нынешние его полуколонны отделялись от стен, образуя колоннаду вокруг бельведера.
Баженов избрал для колонн композитный ордер — легкий и изящный, менее суровый, чем дорический, но более мужественный, чем ионический. И снова неожиданный эффект в расстановке колонн на выступе цоколя: вся эта подставка будто предназначена для шести колонн, однако их четыре. Вместо крайних колонн зодчий поместил на заготовленных для них базах... две статуи! Они красиво рисуются на фоне пилястр и окон второго этажа.
Все в целом создает впечатление праздничной нарядности, хотя красота здания достигнута не обилием украшений, а соразмерностью частей, тонкостью пропорций, цельностью замысла.
Со стороны «красного», то есть парадного, двора здание выглядит не менее торжественно и нарядно, а самый вход во двор оформлен в виде ворот. Их, вероятно, можно назвать лучшими въездными воротами в старой Москве, потому что каждая деталь — от ионических колонок и декоративных стенных арок до рисунка античных ваз на балюстраде — исполнена здесь с высоким художественным совершенством.
Как же складывалась жизнь этого замечательного архитектора, как он оттачивал свое огромное дарование?
Василий Иванович Баженов происходит из русской крестьянской среды. Родился он в семье церковного причетника в селе под Малоярославцем и с малых лет рос в Москве, куда отца перевели дьячком одной из церквей.
Дар будущего зодчего проявился рано. «Рисовать я учился на песке, на бумаге, на стенах... по зимам из снега делывал палаты и статуи», — вспоминал он о своем детстве.
Известный архитектор Д. В. Ухтомский (строитель знаменитой лаврской колокольни в Загорске) принял пятнадцатилетнего Баженова в свою архитектурную школу-команду, а позже, уже окончив Петербургскую академию художеств, Баженов (в 1760 году) отправлен был за границу — во Францию и Италию — для усовершенствования мастерства.
Возвращение Баженова было триумфальным: двадцативосьмилетний русский зодчий вернулся на родину профессором Римской академии и со званием действительного члена Флорентийской и Болонской академий — самых прославленных в то время центров архитектурной науки.
После работы в Петербурге, где он возвел здание старого Арсенала и составил проект Смольного института, Баженов на три десятилетия переезжает в Москву и строит здесь много домов, из которых с наименьшими искажениями дошло до нас здание Библиотеки имени Ленина.
Творческий путь крупнейшего из русских зодчих эпохи раннего классицизма В. И. Баженова полон трагических конфликтов и горьких разочарований. Замыслы, которым он отдавал главные силы души, энергию и талант, будто по злому року не могли осуществиться, оставались проектами. Начатые по ним постройки то забрасывались, то грубо уничтожались, то доделывались другими.
После того как был заброшен проект Смольного института и Баженов стал работать в Москве, Екатерина II поручила ему полную реконструкцию Кремля. Императрица заказала Баженову постройку Большого Кремлевского дворца таких размеров, что, если бы проект был осуществлен, древние соборы и Иван Великий превратились бы во внутренние дворовые здания, а целые участки кремлевских стен пришлось бы снести. Этот проект связывали с общей перепланировкой Москвы.
И Баженов, поставленный во главу целой «кремлевской экспедиции», начал с 1767 года свой многолетний труд по разработке вариантов нового дворца.
На баженовских проектах Кремль утрачивает свое прежнее значение внутренней цитадели, укрывавшей за своими стенами народные святыни и царские палаты. Грандиозный дворец, реконструированные набережные и площади (в том числе и Красная), превращали Кремль во всенародный форум, грандиознее римского, преобразуя городской центр в средоточие гражданской общественной жизни.
Одобренный императрицей проект встревожил и возмутил москвичей, хотя никто не сомневался в могучем таланте зодчего. Просто никакой дворец не мог бы компенсировать утрату Кремля. Да, по-видимому, и сама царица, заказывая проект, едва ли всерьез собиралась осуществить его. Ей нужно было показать миру «неисчерпаемые» богатства царской казны, будто бы вовсе не истощенной войнами с Турцией, — к такому выводу пришли современные исследователи баженовского проекта.
Но искренний и прямодушный Баженов поверил в государственную необходимость и реальную осуществимость замысла. Он построил замечательную деревянную модель дворца (которая хранилась в Музее архитектуры, в бывшем Донском монастыре, а теперь выставлена в Кремле) и уже приступил к разборке кремлевской стены со стороны Моск-вы-реки. Заключались договоры с подрядчиками, шли подготовительные работы.
А в 1775 году Екатерина приказала прекратить их вовсе, сославшись на то, что пороховые взрывы привели к трещинам в стенах Архангельского собора. Если начало строительства было демонстрацией финансового могущества императрицы, то и приказ о прекращении постройки имел демонстрационное значение: Екатерина как бы подчеркивала, что не хочет «идти против воли народной». А для самого Баженова это был один из тяжелейших ударов в жизни — он-то верил, что дело начато всерьез!
По новому заказу Екатерины он начал строить для нее подмосковную резиденцию в Царицыне. С присущей Баженову широтой замысла был спроектирован и этот ансамбль, включавший два дворца — один для самой Екатерины, другой — для цесаревича Павла, различные службы, павильоны в парке, мосты, подъезды, парковые пруды.
Строительные работы близились к концу, необычайный ансамбль уже воплотился в камне, вызывал восторг знатоков, но смущал царедворцев своей новизной. Было решено показать будущую резиденцию самой императрице. Баженов встречал ее на строительной площадке в радостной уверенности, что его оригинальный замысел будет оценен по достоинству. Последовало новое тяжкое разочарование — императрица выразила полнейшее неудовольствие и приказала сломать дворцовые постройки, почти законченные.
Существует несколько предположений о причинах этого царского каприза: императрица нашла «непочтительным» размещение павловского дворца рядом и как бы .«наравне» с ее собственным, не понравились ей подъездные пути, и весь ансамбль показался ей сумрачным, будто бы нарочно задуманным как место домашнего ареста для нее по проискам сторонников Павла, престолонаследника.
Сыграла свою роль в судьбе царицынского ансамбля и дружба Василия Баженова с известным русским просветителем Иваном Новиковым, одним из крупнейших деятелей передовой журналистики XVIII века. Екатерина питала к нему острую неприязнь, видела в нем врага крепостнического строя и давно готовилась к беспощадной расправе с опасным противником (в 1792 году он был приговорен к пятнадцатилетнему заключению в Шлиссельбургской крепости). Узнав, что Баженов близок к новиковскому кругу, императрица наказала своей немилостью и зодчего и его творение в Царицыне.
На месте сломанного дворца ученик Баженова Матвей Казаков построил новое здание, но и оно не было доведено до конца. Сохранились в Царицыне, рядом с казаковской руиной, лишь недостроенные баженовские сооружения — Оперный дом, Фигурные ворота, мост над дорогой. Исполнены эти постройки в необычном, своеобразном стиле, где традиции древнерусского зодчества сочетаются с мрачноватой готикой.
Эти руины из красного кирпича с белокаменным орнаментом, уцелевшие среди царицынского парка, невдалеке от живописных прудов, лишь «отдаленно свидетельствуют потомкам о несвершенных замыслах больших русских зодчих» — так выразился о царицынских памятниках их знаток и исследователь, советский архитектор А. В. Щусев.
Павел I, отослав Баженова снова в Петербург, поручил ему проектирование Михайловского замка. Исполнение постройки было потом передано архитектору Бренна, и тот достроил дворец, но современные исследователи установили, что проектное решение целиком принадлежит Баженову.
Назначенный в конце жизни вице-президентом Академии художеств, Баженов приступил к сбору чертежей и проектов всех выдающихся зданий в России. Однако и эта работа не была осуществлена: помешала болезнь, а потом и преждевременная смерть мастера.
...Никто так и не откликнулся на призыв Баженова, один Матвей Казаков, его московский соратник, поспешил послать ему проектные материалы некоторых своих построек.
Обоих зодчих соединяла давняя дружба. Еще во время работы над проектом Большого Кремлевского дворца Баженов сделал своим ближайшим помощником Казакова, не имевшего тогда ни диплома, ни звания — такое доверие внушал молодой талантливый зодчий-москвич, обучавшийся только в команде-школе архитектора Ухтомского. Попал Казаков в эту школу тринадцатилетним мальчиком.
Впоследствии самый блестящий период московского классицизма, на рубеже XVIII — XIX столетий, часто именовали казаковским.
Одно из ранних, но и самых выдающихся сооружений Казакова — здание для ведомств Сената в Московском Кремле. Ныне в этом здании оберегается музей-квартира Ленина и размещены правительственные учреждения Верховного Совета и Совета Министров СССР.
Здание это сооружалось на небольшой и очень неудобной — треугольной формы — площадке, только что освобожденной от последних кремлевских частных землевладельцев, князей Трубецких. Им пришлось переселиться в бывший апраксинский дворец на Покровке (кстати говоря, одно из лучших московских зданий растреллиев-ского барокко, — ныне это дом № 22 на улице Чернышевского).
Матвей Казаков с блеском решил трудную задачу — вписать большое парадное здание в заданные тесные границы. Он устроил три закрытых двора: два угловых — для служебных надобностей, третий — в центре, парадный. Композиционной основой здания стал великолепный круглый трехсветный зал (теперь он называется Свердловским), украшенный колоннами и перекрытый могучим куполом, хорошо видным с Красной площади. Это над ним плещется, точно алое пламя, красный флаг, поднятый по приказу Ленина в марте 1918 года. Особенно хорош этот флаг зимней ночью, когда в прожекторном луче будто летит сквозь метель над казаковским куполом.
Еще одна работа Казакова — старое здание университета. Правда, свой нынешний вид оно получило после 1812 года, когда сгоревшее здание восстановил Доменико Жилярди. Казаковский университет имел ионическую колоннаду, а Жилярди избрал суровый дорический ордер. У боковых крыльев были торцовые фасады с треугольными фронтонами и пилястрами, а стены главного здания расчленялись лопатками.
На выезде из Москвы, по дороге в Петербург, за Тверской заставой построил Казаков ансамбль Петровского дворца, редкостный по замыслу. Во время пожара 1812 года дворец служил убежищем Наполеону. Сейчас здесь помещается Воздушная академия имени Жуковского.
Ансамбль необычен, оригинален. Есть в нем и древнерусские мотивы — кувшинообразные столбы, стрельчатые арки, висячие гирьки, затейливые наличники, любимые в XVII веке. Но соседствуют они с мотивами готики, взятыми с Запада. Этот причудливый стиль, найденный еще Баженовым, некоторые исследователи называют ложноготическим, или «условно-готическим», хотя древнерусские черты здесь преобладают, дают тон общему. Да и самый материал постройки избран, как и в Царицыне, в традициях допетровской архитектуры — красные кирпичные стены, покрытые прихотливой вязью белокаменных украшений. Тут преобладает не готика, а скорее нарышкинское барокко.
...На Большой Калужской улице (Ленинский проспект) сохранилось классическое здание Голицынской, ныне Градской, больницы. Лейтмотив ее главного корпуса — величавый портик с шестью дорическими колоннами. Над фронтоном круглится строгий купол — излюбленная Казаковым архитектурная форма. Но не здесь зодчий заканчивает композицию — выше купола воздвигнут маленький изящный бельведер в форме ротонды.
Участок больницы был просторным, выходил к Москве-реке. Там, над береговым откосом, Казаков поставил две круглые беседки — ротонды, известные теперь каждому посетителю Парка культуры имени Горького.
Мировую известность приобрел казаковский Колонный зал в Доме союзов (в прошлом веке это был зал Дворянского собрания), сохранивший до наших дней свое первоначальное убранство.
Дворец Александра Разумовского на Гороховской улице (сейчас в нем — Институт физической культуры) был воздвигнут в начале XIX века, очевидно тоже не без участия Казакова.
Бывшая Гороховская носит теперь имя Матвея Казакова, великого московского зодчего. По словам его сына, весть о пожаре Москвы нанесла Казакову «смертельное поражение».
Действительно, пережить сердцем последствия московского пожара было нелегко. Картины спаленного города потрясали очевидцев — об этом есть много письменных свидетельств. Люди рыдали, глядя на взорванные, обожженные огнем башни Кремля: император французов приказал взорвать Кремль, Новодевичий монастырь, собор Василия Блаженного!.. Ночь отступления была дождливой, часть тлеющих фитилей погасла от сырости, часть потушили самоотверженные жители. Все же несколько взрывов грянуло — рухнули три кремлевские башни (Никольская, Троицкая и Водовзводная), обвалилась стена между Никольской и угловой Арсенальной башнями, звонница у Ивана Великого. Но очень скоро москвичи восстановили Кремль, как символ бессмертия России. Об этом Николай Станкевич писал так:
Склони чело, России верный сын:
Бессмертный Кремль стоит перед тобою.
Он в бурях возмужал — и, рока властелин,
Возвысился могуч, неколебим,
Как гений славы над Москвою.
Воскрешение Кремля таким, каким мы его знаем сейчас, — заслуга даровитых московских зодчих, особенно Осипа Ивановича Бовё. В созданной тогда Комиссии строений О. И. Бове возглавлял Фасадническую часть, то есть ведал планировкой и архитектурным оформлением зданий. Он проявил величайшую бережность к старине при воскрешении городского центра и Кремля и вместе с тем талантливо обновил их.
На просмотр к Осипу Ивановичу поступали все без исключения проекты городских построек, казенных и частных. Строгий и тонкий вкус архитектора, его строительный опыт и академические знания сослужили Москве великую службу, заметно повлияли на облик обновленного города. Тогда-то и наметились черты архитектурного единства Москвы, были удачно решены ее центральные площади.
По проекту Бове разбили Александровский сад у кремлевской стены — на месте взятой в трубу Неглинки-реки, оформили здание Манежа (технический проект разработал инженер Бетанкур), засыпали Алевизов ров на Красной площади, убрали мосты к Спасской и Никольской башням.
В содружестве со скульптором Витали Бове возвел Триумфальную арку при въезде в Москву из Петербурга. Этот памятник русской славы будет восстановлен на Кутузовском проспекте — по дороге от центра города к Бородинской панораме.
Очень оригинален убор Никольской башни Кремля на Красной площади — с этим новым убором башня восстановлена из развалин по рисунку Бове.
Его таланту мы обязаны и знаменитым портиком Большого театра с его восемью колоннами, треугольным фронтоном и летящей над ними колесницей Аполлона. Один такой театральный портик мог бы навек прославить архитектора!
Оформление фасадов старых Торговых рядов на Красной площади, сооружение строгого больничного здания рядом с казаковским на Большой Калужской — все это далеко не полный список заслуг Бове перед нашей столицей.
В уцелевших доныне памятниках московского архитектурного классицизма воплощен созидательный пафос народа, память о победах русского оружия, высокогуманное представление о человеческой личности.
Памяти великого подвига под Москвой
(Бородинское поле и панорама Рубо)
Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель пятисоттысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородином была наложена рука сильнейшего духом противника.
Л. Н. Толстой, Война и мир.
Поле Бородинского сражения... Спокойная подмосковная равнина с плавными переходами от увалов к лощинам. Луговая речка Ко-лоча, отороченная темной зеленью кустов. Монастырские стены и сельская колокольня. Тишина, сгустившаяся за полтора столетия. Ненадолго нарушали ее вновь взрывы и залпы, но она осилила их и торжествует снова... Точно так же, как художник Суриков спрашивал у кремлевских памятников: «Вы видели? Вы слышали? Вы свидетели?» — хочется и здесь спрашивать об этом у каждого холмика и овражка, у камней и ручьев, у высокого кургана, сохранившего поныне название «батарея Раевского».
В Бородинском сражении Наполеон лишился 58 тысяч солдат, 1600 офицеров, 47 генералов. Русская армия потеряла 44 тысячи солдат, полторы тысячи офицеров, 23 генерала. Значит, примерно 100 тысяч мертвых тел устлали Бородинское поле вечером 26 августа (7 сентября) 1812 года!
Разумеется, под Бородином Кутузов не мог еще ставить перед своим войском задачу полного разгрома армии Наполеона, хотя в своей знаменитой диспозиции перед боем русский полководец и учитывал возможность перехода к частичному преследованию неприятеля. Для разгрома наполеоновских войск русские силы под Бородином были, конечно, недостаточны. Но армия Наполеона здесь «расшиблась о русскую» (слова Ермолова) и «русские получили в этот день право называться непобедимыми» (слова Наполеона).
Стратегическое искусство русских военачальников оказалось выше наполеоновского: императору французов не удалось осуществить ни одного замысла обходных движений, он вынужден был принять продиктованные ему Кутузовым условия лобового боя на узком фронте в 4 — 5 километров. И нигде Наполеон не смог прорвать фронта, а русский кавалерийский рейд по французским тылам в разгар битвы вызвал смятение среди наполеоновского арьергарда, заставил императора прекратить атаки против русского центра и дал Кутузову возможность перегруппировать войска. После наступления темноты Наполеон отвел свои войска на исходный рубеж, оставив позиции, стоившие ему почти шестидесяти тысяч солдат.
Русские готовы были назавтра продолжать бой, и Наполеон это видел. Но Кутузов знал, что в бой не вводилась наполеоновская гвардия — она оставалась в резерве и в случае возобновления битвы могла нанести тяжкий урон. В результате мог сломиться сам костяк русской армии, могли погибнуть ее лучшие солдаты, имевшие опыт и Шенг-рабена, и Аустерлица, и Смоленска. Ради сбережения главных сил Кутузов и приказал войску остановить подготовку к новому сражению, уложить в повозки раненых, похоронить подобранные тела и приготовиться наутро к маршу.
Русская армия отходила в готовности развернуть свои походные порядки в боевые. Солдаты знали, что подойдут подкрепления, что решающие бои впереди. Иное настроение было в войсках противника. Маршалы упрекали Наполеона в нерешительности, солдаты-армейцы косились на гвардию. Потери устрашали наступающих: пехотные роты поредели почти наполовину, конница растаяла на три четверти.
С этого дня начал меркнуть блеск наполеоновской счастливой звезды. Гренадеры шли к Москве в молчании, зная, что впереди те, кого не удалось одолеть во вчерашней битве.
...На поле Бородинского сражения уцелело и дошло до нас со времен 1812 года только одно старое здание — свидетель и участник тех событий. Это белая церковь Рождества в самом селе Бородине, построенная в 1701 году. С ее колокольни наблюдатели передавали Кутузову сведения о передвижениях французских войск в самом начале сражения.
Мемориальные монументы, поставленные на Бородинском поле почти столетие спустя в честь 1812 года, стали знаменитыми. Их посещают тысячи гостей Бородина.
Несколько менее других известны памятники на Утицком кургане, потому что находятся они по левую сторону от железной дороги. Туда экскурсанты заглядывают реже, а заслуживают эти памятники особого почета. 26 августа 1812 года здесь, близ деревни Утицы, на крайнем фланге кутузовских войск, кипел кровопролитный бой за Утицкий курган — господствующую высоту на этом фланге. Мужество ее защитников сорвало замысел Наполеона обойти левый фланг русской позиции и нанести с тыла удар по Семеновским флешам одновременно с фронтальной атакой. Корпус маршала Понятовского безуспешно пытался прорвать русскую оборону близ Утицкого кургана. Здесь одна из ключевых позиций Кутузова, одна из вершин русского подвига...
На Бородинском поле перед столетием битвы поставили всего 33 монумента, и три из них увековечили память утиц-ких защитников-гренадеров.
...Очевидцы рассказывают, что накануне битвы над русским станом парили орлы. Эта весть распространилась на всю Россию — передавали, будто парящего орла видели чуть не над головой Кутузова. Это казалось добрым предзнаменованием. Молодой поэт Жуковский посвятил стихи этому диву. Традиционный символ мужества и победы — могучий орел — получил поэтому в памятниках Бородинского боя еще и некий конкретный смысл. С тех пор образ орла тесно связан с подвигами защитников России в Отечественной войне 1812 года. Потому-то целая стая бронзовых орлов озирает с высоты гранитных колонн и мраморных обелисков широкий и спокойный простор знаменитого поля.
Когда выходишь с московского электропоезда на станции Бородино, глаз охватывает эту ширь сразу же за пристанционным поселком, по обе стороны асфальтированной дороги к музею и селам Семеновскому и Бородину.
Рядом со старыми монументами видны теперьчпамятни-ки войны недавней, обелиски-надгробия, увенчанные не крестами и орлами, а лавровыми венками и золотыми звездами. В братских могилах лежат здесь московские ополченцы и солдаты кадровых частей, оборонявшиеся в 1941-м и наступавшие в 1942-м.
Сохранены и реальные следы боев: бетонные доты, стрелковые огневые точки, окопы, траншеи, противотанковый ров. На багратионовом Шевардинском редуте заметны стрелковые ячейки и остатки батальонного НП 1941 года. Рядом с батареей Раевского, у самой подошвы кургана, врыт в землю железобетонный дот для крупнокалиберного пулемета. А чуть выше, уже на фоне неба, чернеет силуэт надгробного камня, положенного на могиле Багратиона. Когда-то здесь высился, господствуя над всей местностью, главный памятник в честь Бородинского боя 1812 года.
От холма с батареей ведет короткая аллейка к обновленному зданию Бородинского военно-исторического музея. В нем теперь стало восемь залов вместо памятных мне четырех, устроен заново электрифицированный макет битвы, хранятся эскизы к панораме Рубо и подлинный личный экипаж Кутузова, экспонат уникальный и чем-то очень трогательный.
А за селом Семеновским — кирпичная ограда Спасо-Бородинского монастыря. Там недавно восстановили Тучковскую часовню. Ее поставила над могилой генерала А. А. Тучкова его молодая вдова. Браку их было всего несколько месяцев, когда пришла война.
Весть о страшном сражении заставила встревоженную женщину поспешить к месту события. Среди живых Тучкова не было; командиры и солдаты его частей молчали и отворачивались. В темноте ночи, с фонарем, сопровождаемая только старой нянькой, она искала тело мужа среди десятков тысяч трупов. И под утро нашла.
Похоронив мужа, вдова поставила сначала надгробную часовню, а потом основала Спасо-Бородинский монастырь, невдалеке от Багратионовых флешей, близ места гибели А. А. Тучкова. Здесь, в монастыре, молодая женщина и провела весь остаток жизни.
А в бывшей гостинице этого монастыря, ныне занятой под школу, останавливался Лев Николаевич Толстой, когда приезжал на Бородинское поле изучать местность и расположение войск, уточнять подробности сражения.
На Бородинском поле двух отечественных войн колосится и ходит под ветром рожь, тают снега под апрельскими дождиками... Люди приходят сюда и читают на придорожном памятнике близ села Семеновского краткую, точную надпись:
Подвигам доблести слава, честь, память!
И если читают вслух и слушающие не видят ни орфографии, ни даты, как угадать, какой странице русской истории посвящены эти слова — году 1812-му или году 1942-му?..
Если вам посчастливилось побывать на Бородинском поле в погожий день ранней осени, когда зелень трав блекнет, а к небесной голубизне примешивается золотистый отблеск, когда кусты над рекой Колочею еще хранят полную силу зелени, а в лесах еще не облетела редкая листва, вот тогда, не откладывая, пойдите на Кутузовский проспект посмотреть панораму Рубо. Со свежим впечатлением от осеннего Бородинского поля вы еще больше оцените это сильное произведение батального искусства.
Между моим первым посещением панорамы «Бородинская битва» в дощатом балагане на Чистых прудах и вторичной встречей с этим произведением Рубо в 1964-м прошло ровно по л столетия!
Сравнивать впечатления 1914 и 1964 года нельзя, и не только из-за возрастного различия. Тогда, в 1914-м, зрители не были избалованы ни широкоэкранным цветным кинематографом, ни особенными постановочными эффектами в театре (вспомните любую батальную сцену в Центральном театре Советской Армии), ни достижениями панорамного кино. Разумеется, насмотревшись всех этих «иллюзионных» чудес шестидесятых годов XX века, нынешние зрители не испытают того чувства изумления и восторга, с каким полвека назад мы глядели на панораму Рубо. И все-таки даже ныне впечатление сильно, образы остаются в памяти, возникает желание пойти еще раз, приглядеться внимательнее, сравнить пейзажи панорамы с натурой, вникнуть в подробности боевых эпизодов.
В связи со столетней годовщиной битвы Москва получила отличный Бородинский мост, выстроенный по проекту архитектора Р. Клейна (1852 — 1924). Архитектура моста подчеркнуто торжественна и триумфальна, намеренно выдержана в излюбленных формах александровского классицизма времен 1812 года. Две полукруглые колоннады в виде четвертей ротонд и два обелиска как бы перекликаются с памятниками Бородинского поля, а на башне Киевского вокзала (архитектор И. Рерберг), мы сразу узнаем знакомых чугунных кутузовских орлов, будто перелетевших сюда с памятных монументов Бородина, Тарутина или Смоленска.
На месте же прежней подмосковной деревушки Фили, где в избе крестьянина Фролова собирался военный совет Кутузова, и стоит теперь кирпичная изба-музей, в 1962 году воздвигнуто было новое специальное здание для панорамы. Ближайшая к нему станция метро носит имя Кутузова, следующая именуется Багратионовской. Во всех этих архитектурных и словесных памятниках живет в нашей сегодняшней Москве благодарность героям 1812 года.
В соседстве с крошечной «кутузовской избой» здание для панорамы выглядит исполином. Его внешнее оформление — этюд современной архитектурной стереометрии, своего рода решение задачи на сочетание цилиндра с прямоугольными объемами. Авторы этого сооружения — архитекторы А. Р. Корабельников, А. А. Кузьмин, С. Л. Куча-нов — как бы подчеркивают, что не мы, москвичи XX века, удаляемся из наших дней в русскую старину, а наоборот, приглашаем к себе предков. И прадеды пришли и увидели себя на московском проспекте, носящем имя их современника-полководца, в необычном здании, какого не бывало в те времена на столичных улицах.
...Небольшой спиральный подъем из круглого зала наверх, и мы в гуще Бородинского боя. Пылает Семеновское — мы как раз на окраине этой деревни. Черный столб дыма вырывается из чьей-то избы, застилает ясное, доброе осеннее небо.
Кипит бой. Кругом люди, люди, люди, тысячи, десятки тысяч — пеших, конных, занятых у пушек, бегущих, охваченных яростью боя. Кажется, все кругом полно движения, грома, огня. Нет, нет, не верьте экскурсоводу, будто это всего-навсего полоса крашеного холста ста пятнадцати метров длины и пятнадцати вышины, будто она отстоит от вас на каких-то тринадцать метров, занятых предметным планом! Верьте правде искусства, верьте художнику, который смог так наглядно воскресить для вас подвиг прадедов! Вы видите их в тяжком солдатском труде на поле боя, они бьются и умирают за вашу судьбу... И происходит это все на фоне знакомого вам осеннего пейзажа, такого умиротворенного, полного тихой песенной грусти.
Трудно сказать, какой эпизод боя волнует сильнее, является во всей этой композиции как бы центральным. Пожалуй, эпизод конной «сечи во ржи».
Очень выразительно Рубо противопоставил друг другу обоих полководцев.
Крошечная фигурка императора на белом коне впереди свиты не героизирована художником. Глядишь на этого всадника, и вспоминается его приказ перед сражением. Как мало мог обещать Наполеон своим солдатам! Удобные квартиры, скорое возвращение с добычей на родину...
Шестьдесят тысяч французов императорской армии легли на Бородинском поле, где теперь, близ Шевардинско-го редута, стоит памятник, воздвигнутый общественностью Франции в 1913 году. На сером каменном обелиске замерли в бессильном взмахе крылья бронзового орла, навеки прикованного к этому камню скорби.
Иная цель, иные слова к солдатам были у русского полководца. Мы видим его среди соратников. Вокруг него широкий луг, позади спокойные рощи Подмосковья. И от самой фигуры Кутузова исходит спокойствие. Бой достиг наивысшего напряжения, полуденное солнце светит сквозь пороховые облака, но Кутузов уже знает: цель битвы достигнута, нанесен первый удар, от которого противнику не оправиться.
Когда Кутузову донесли, что при восьмой атаке французов на флеши смертельно ранен Багратион, командующий ахнул и покачал головой. На место Багратиона поскакал Дохтуров, а Багратиона уносит тройка коней, впряженных в коляску: мы видим эту сцену на панораме, причем написана она уже в наши дни художником И. В. Евстигнеевым.
332
Эта часть полотна Рубо наиболее пострадала во время длительного хранения после первого экспонирования и была заменена. Заново воссоздан и весь предметный план, делающий незаметным переход от трехмерного, объемного пространства к полотну. Оно подвешено на кольце за пределами нашего глаза и равномерно освещается лучами рассеянного скрытого света.
Весь предметный план панорамы изготовлен из гипса, дерева и соломы. Очень удачно имитирована почва, растительность, подбитые орудия, разбросанные ядра. Все это не заслоняет главного, не отвлекает от основного — мастерской передачи на полотне исторического подвига России в Бородинской битве.
Автор панорамы, живописец-баталист Франц Алексеевич Рубо (1856 — 1928) был действительным членом Петербургской академии художеств и выдающимся педагогом. Его учениками в Академии художеств были известные советские художники-баталисты М. Б. Греков, И. И. Авилов, П. И. Котов.
Из трех созданных Ф. Рубо панорам — «Штурм аула Ахульго», «Оборона Севастополя» и «Бородинская битва» — обе последние, восстановленные и реставрированные советскими мастерами живописи, стали выдающимися достопримечательностями двух наших городов-героев — Москвы и Севастополя.
Немало памятников искусства, посвященных Отечественной войне 1812 года, находится в ближнем и дальнем Подмосковье.
В селе Тарутине под Малоярославцем на средства, собранные крепостными крестьянами в 1829 году, был воздвигнут по проекту архитектора Антонелли красивый и величественный монумент — чугунная колонна, украшенная позолоченными воинскими доспехами. Огромный золотой орел с разящей молнией в когтях венчает это внушительное сооружение.
Тарутинский памятник, сильно поврежденный гитлеровцами в дни великой битвы за Москву, был капитально реставрирован в 1962 году и сейчас далеко виден из-за леса на окраине исторического села. Поставлен он посреди главного редута русских войск, стоявших лагерем на высоком берегу реки Нары у Тарутина. Сам фельдмаршал Кутузов, обращаясь к потомкам, просил не разрушать этих земляных укреплений — редутов, чтобы напоминали они внукам и правнукам о доблести защитников России. И потомки выполнили завет великого предка — три боевых редута до сих пор видны среди колхозных полей. На одном из них высится колонна с орлом, а рядом с другим редутом лежат под новым памятником те, кто именно здесь, у Малоярославца и Тарутина, начинал разгром гитлеровцев под Москвой в 1941 году.
В самом Малоярославце есть небольшой музей Отечественной войны, монументы на братских могилах 1812 года и выдающийся по красоте памятник архитектуры, поражающий совершенно необычным, высокохудожественным замыслом.
Это здание главного собора в Малоярославецком Черноостровском монастыре. Сам монастырь создан здесь еще в XIV столетии. В октябре 1812 года его каменные стены и так называемые «Голубые ворота» были тяжко изранены пулями и ядрами. Впоследствии эти реальные следы ожесточенного сражения под Малоярославцем, в результате которого Наполеону не удалось прорваться к Калуге и хлеборобным губерниям России, были сохранены на монастырских воротах — до сих пор видна на них табличка со старинной надписью: «Язвы 12 октября 1812 года».
А в пределах монастырских стен, высоко над заросшим зеленью оврагом, на самом краю, с необычайной смелостью воздвигнуто прекрасное здание собора в честь победы, одержанной Кутузовым под Малоярославцем.
Собор был заложен еще в 1812 году. Возвели его, как считают, по проекту большого русского зодчего Александра Лаврентьевича Витберга, друга Герцена по вятской ссылке. Исследователи полагают, что слова Герцена: «На днях он (Витберг) набросал дивный проект, слезой я наградил его и восторгом», — относятся именно к проекту Малоярославецкого монастырского собора.
И хотя здание нуждается в реставрации, оно и сегодня поражает оригинальностью композиции, редким изяществом и какой-то спокойно-грустной силой. Этот храм на обрыве вызывает в памяти лучшие творческие искания и традиции Баженова и Казакова.
Москва Льва Николаевича Толстого
В представлении всех, кто знает и любит Толстого, жизнь его неотделима от Ясной Поляны. Но неотделима она и от Москвы: девятилетним мальчиком Толстой впервые увидел московские улицы и Кремль, посвятил ему восторженные детские строчки. Было это в год гибели Пушкина...
Толстой подолгу живал и работал в Москве, а с 1881 года переехал сюда на целых два десятилетия, чтобы дети могли учиться: сын постарше — в Московском университете, дочь — в Училище живописи, ваяния и зодчества, младшие сыновья — в гимназии. Верный друг и помощник отца, младшая дочь Мария мечтала о медицинском образовании, но по тогдашним условиям осуществить эту мечту не смогла... А всего к переезду в Москву у Толстых было восемь детей (здесь, уже в 1888-м, родился их последний сын — Иван).
Не сразу удалось Льву Николаевичу подыскать подходящее жилье для такой большой семьи! Наконец купил он в рассрочку дом со службами и садом в Долгохамовническом переулке, за старинной красивой церковью Николы. Деревянный этот дом с антресолями, построенный за четыре года до наполеоновского нашествия, уцелел в глухом переулке от пожара 1812 года.
Сразу после покупки Толстой перестроил дом: нижний этаж и антресоли остались прежними, а над первым этажом были выстроены «три высокие комнаты с паркетными полами, довольно большой зал, гостиная и за гостиной небольшая комната (диванная) и парадная лестница» (С. Л. Толстой, Очерки былого).
Теперь этот дом с прилегающим садом и дворовыми постройками, к которым сам Толстой еще прибавил домик для кухни, известен как музей-усадьба Л. Н. Толстого на улице, носящей его имя. Кстати говоря, все эти деревянные строения и сад стойко перенесли налеты фашистской авиации в июле 1941 года, когда на небольшую территорию толстовской усадьбы обильно сыпались зажигательные бомбы. Их самоотверженно тушили сотрудники музея...
Здесь, в этом своем московском доме, Толстой написал «Воскресение». Здесь он работал над «Плодами просвещения», «Хаджи Муратом», «Властью тьмы», философскими статьями, очерками о московских трущобах, о переписи в Москве... Сюда приходили Островский и Лесков, Горький и Глеб Успенский, Бунин и Короленко, Репин и Суриков. Здесь художник Н. Н. Ге написал известный портрет Толстого за рабочим столом, и самый стол этот поныне можно видеть в кабинете писателя на антресолях. В этом доме пришлось пережить Толстому тяжелейшую из утрат — смерть младшего сына Ванечки, отцовой надежды. Ведь уж напечатан был рассказ шестилетнего мальчика в записи матери...
В 1901 году Толстые вернулись в Ясную Поляну. Лишь за год до смерти писатель опять навестил усадьбу в Хамовниках. Покидая Москву 19 сентября 1909 года, он через Кремль проехал на Курский вокзал. Москвичи провожали его так, будто чувствовали, что видят в последний раз. Проводы эти глубоко взволновали Толстого.
Чтобы охватить мыслью всю эту жизнь сразу, нужны поистине какие-то космические масштабы.
Толстой появился на свет двумя годами позже казни декабристов и умер за семь лет до Великой Октябрьской революции. Эта почти вековая жизнь пролегла в истории России, как в небе нашем пролег Млечный Путь.
«Два царя у нас, — записывал в своем дневнике А. С. Суворин, — Николай Второй и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой, несомненно, колеблет трон Николая и его династии...»
Толстой — участник решающих событий своего века. На его глазах грибоедовская патриархальная Москва превращалась в ненавистный ему капиталистический, промышленный город. Вот несколько толстовских зарисовок тех лет:
«Здесь высокие неприятно-правильные дома с обеих сторон закрывают горизонт и утомляют зрение однообразием; равномерный городской шум колес не умолкает и нагоняет на душу какую-то неотвязную, несносную тоску...»
«Я живу среди фабрик. Каждое утро в 5 часов слышен один свисток, другой, третий, десятый, дальше и дальше. Это значит, что началась работа женщин, детей, стариков. В 8 часов другой свисток — это полчаса передышки; в 12 третий — это час на обед, и в 8 четвертый — это шабаш.
По странной случайности, кроме ближайшего ко мне пивного завода, все три фабрики, находящиеся около меня, производят только предметы, нужные для балов...
...Первый свисток, в 5 часов утра, значит то, что люди, часто вповалку — мужчины и женщины, спавшие в сыром подвале, поднимаются в темноте и спешат идти в гудящий машинами корпус и размещаются за работой, которой конца и пользы для себя они не видят, и работают так, часто в жару, в духоте, в грязи, с самыми короткими перерывами, час, два, три, двенадцать и больше часов подряд...»
«Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют. Народу нечего больше делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное...»
Эти точные, беспощадные строки — реальные зарисовки той Москвы, наблюдателем и обличителем которой был Толстой после 1880 — 1882 годов, годов тяжелого духовного перелома, начавшегося перед самым его переездом в Москву.
Как же выглядела Москва в те годы?
Один из больших почитателей Толстого, бывавший у него в Хамовниках, искусствовед и критик В. В. Стасов, с горечью восклицает: «Архитектура — самое отсталое и неподвижное из наших искусств!» И это о стране, которую в древности называли страной городов, а позднее — страной зодчих!
Падение архитектурной культуры принес с собою моло* дой капитализм. При капитализме патриотическая забота об архитектурном единстве исчезла, прекрасные памятники древней архитектуры не ценились, подчас грубо уничтожались, а на их месте вырастали новые сооружения, не связанные ни с обстановкой, ни друг с другом. Они были случайны и безвкусны, выбор архитектурных форм диктовался то недолговечной «модой», то капризом владельца, стремлением поразить необычностью отделки; а чаще всего красота постройки приносилась в жертву чисто деляческим, меркантильным целям.
У заказчиков новых зданий было больше спеси и тщеславия, чем художественной культуры и эстетического чутья. Кто строил Москву времен Толстого? Фабриканты и заводчики, коммерсанты-иностранцы, которым никакого дела не было до московских архитектурных ансамблей, владельцы банков и страховых обществ, акционеры железнодорожных компаний — люди, чаще всего не имевшие ни глубоких знаний, ни безошибочного художественного вкуса.
«За каких-то 60 — 70 лет Москва застроилась зданиями, в которых разнообразие архитектурных форм, почерпнутых из прошлого и беззастенчиво смешанных друг с другом (эклектика), чередовалось с удивительной быстротой. Барокко сменяется Ренессансом, чтобы тут же уступить место русско-византийскому стилю. Былое изящество и красота архитектуры... сменялись ничем не прикрытым мещанством аляповатых форм» (М. А. Ильин).
Тогдашние попытки вернуть архитектуру чисто внешними приемами в русло древних народных традиций не могли иметь успеха, хотя В. В. Стасов, например, верил, что современное искусство может вырасти от корней древнего. Говоря об общих законах музыкального и изобразительного искусства, сам Лев Толстой осудил намерение искать спасение в прошлом:
«Люди, желающие показать себя знатоками искусства и для этого восхваляющие прошедшее искусство (классическое) и бранящие современное, этим только показывают, что они совсем не чутки к искусству... Ни в чем так не вредит консерватизм, как в искусстве...»
Действительно, обращение архитекторов к древнерусским и византийским формам, увлечение элементами русского XVII века лишь усиливали эклектизм и разнобой архитектуры, потому что жизнь стала иной, и механическое перенесение древнерусских деталей на современные здания создавало тот «петушиный стиль», над которым вдосталь наострились критические перья. То же относится и к архитектурному «византийству» XIX века.
Уже при жизни Толстого было начато и при нем завершено сооружение самого большого русско-византийского собора Москвы — белокаменного храма Христа Спасителя над Москвой-рекой.
Постройка велась по проекту архитектора К. А. Тона, одобренному Николаем I: он ведь считал себя знатоком зодчества. Высочайшая резолюция, наложенная 10 апреля 1832 года на проекте Тона, звучит как воинская команда: «Быть по сему».
Так и возник на месте древнего Алексеевского монастыря близ Каменного моста огромный пятиглавый храм, чей купол многие десятилетия был виден со всех окраин, даже из пригородов Москвы. В силуэте «толстовской Москвы» он играл вместе с Иваном Великим самую заметную роль.
Убранство собора, его восьмигранный мраморный резной алтарь, росписи, скульптурный пояс с отличными барельефами поражали, как и в Исаакиевском соборе, богатством, пышностью — ведь и этот московский храм был памятником победы в Отечественной войне 1812 года. Стоимость его исчислялась в 15 миллионов золотом.
Тот же академик Тон оформил фасад Большого Кремлевского дворца, оконченного в середине XIX века.
В семидесятых-восьмидесятых годах архитектор В. Шервуд выстроил здание Исторического музея, а архитектор А. Померанцев — Верхние торговые ряды на Красной площади. Оба здания представляют собой образцы стиля, который справедливо называли «ложнорусским». Убранство этих зданий восходит к «превратно истолкованным формам древнерусского узорочья» (М. А. Ильин).
Но это были все-таки лучшие здания той поры, строившиеся в расчете, пусть не вполне удавшемся, на сбережение архитектурной целостности и национального своеобразия главной площади Москвы.
А «рядовые» ее улицы и площади быстро застраивались доходными, часто серыми и невыразительными домами. Город все более становился каменным мешком. Задние дворы походили на трущобы, фасады же сверху донизу покрывались крикливыми вывесками и рекламами, подчас грубо натуралистическими, а то и малограмотными. Все это уродовало, портило улицы, губительно отзывалось на красоте древней Москвы.
На ампирной Театральной площади с фонтаном Витали появилось между Большим и Малым театрами здание универсального магазина Мюра и Мерилиза (ныне ЦУМ) — один из первых провозвестников железобетонного конструктивизма с металлическими переплетами рам и чуть ли не сплошь стеклянными стенами. Построил его русский архитектор Клейн в 1909 году. Тот же архитектор — по заказу владельцев чаеторговой фирмы — оформил в «китайском» стиле чайный магазин на Мясницкой улице (теперь улица Кирова) против почтамта. Чуть ранее появился на Воздвиженке (улица Калинина) вычурный, покрытый раковинами, особняк Морозова, окрещенный москвичами «испанским подворьем».
Тогда же начал входить в моду «стиль модерн», рожденный на Западе и получивший заметный отголосок в России. Образцами московского «модерна» в современной Толстому Москве остались: дом Рябушинского у Никитских ворот, где ныне помещается Музей имени Горького, гостиница «Метрополь», Сандуновские бани. Все эти дома возникли еще при жизни Л. Н. Толстого и хорошо сохранились до наших дней, потому что в инженерном отношении, в выборе материалов были надежны и долговечны.
...Городскими статуями, памятниками монументальной скульптуры старая Москва была много беднее Петербурга, но нужно сказать, что ваятели Москвы сохранили в своем творчестве гораздо больше художественной цельности, чем зодчие.
Изданная в 1896 году Большая Энциклопедия, перечисляя московские достопримечательности, указывает лишь три памятника — Александру II в Кремле (верноподданнический монумент «Царь-освободитель», снесенный Октябрьской революцией), Минину и Пожарскому на Красной площади (открыт в 1818 году, за десятилетие до рождения Толстого) и Пушкину на Тверском бульваре (открыт в июне 1880 года).
Перед своим последним отъездом из Москвы, в 1909 году, Лев Николаевич видел новый тогда, только что установленный на добровольные народные пожертвования памятник Гоголю — работы скульптора Н. А. Андреева. Проезжая через Арбатскую площадь, Толстой остановил экипаж у памятника, долго осматривал его и сказал:
— Мне нравится; очень значительное выражение лица.
Андреевский памятник Гоголю. (впоследствии неудачно замененный памятником работы скульптора Н. В. Томского) был одним из выдающихся произведений московской монументальной скульптуры XX века.
Скульптор Н. А. Андреев воплотил в своем памятнике Гоголю трагедию последних лет жизни писателя, надломленного болезнью, бедностью и одиночеством среди окружавших его святош и ханжей. Автор памятника после долгих поисков глубоко вник в душевный мир великого писателя и создал сильный, трагический образ.
Издали андреевский монумент — неясная, грузная, почти нерасчлененная масса. Силуэт его смутен. Чуть ближе различаешь сгорбленную, задрапированную в плащ фигуру и поникшую голову с длинным заострившимся носом. Точно и правдиво схвачено зябкое движение худой, нервной руки, прихватившей складку плаща, чтобы укутаться теплее (в последние годы жизни Гоголь часто жаловался на озноб, даже в жаркую погоду). Взгляд воспаленных глаз словно кого-то ищет. Кажется, Гоголь высматривает в столичной толпе что-то ведомое ему одному, может быть, просто ищет человеческого сочувствия...
Смелость идеи, свобода от трафарета, сильное, глубоко впечатляющее воплощение идеи, блестящее выполнение барельефов с фигурами гоголевских героев (с Украины скульптор привез много зарисовок для этих барельефов) заставили жюри конкурса принять андреевский проект вопреки резким нападкам реакционной прессы, и монумент торжественно открыли 26 апреля 1909 года.
Андреевский памятник Гоголю находится сейчас во внутреннем дворе дома № 7 по бывшему Никитскому (ныне Суворовскому) бульвару. Двор открыт и с бульвара и с Мерзляковского переулка. На правом флигеле дома видна мемориальная доска с портретным барельефом Гоголя и надписью: «В этом доме с 1848 по 1852 гг. жил и умер Николай Васильевич Гоголь». Именно сюда, к дому, где пылала в камине рукопись «Мертвых душ» и писатель, кутаясь в плащ, смотрел в огонь, перенесена андреевская скульптура.
Окруженный вереницами своих героев, сидит здесь поникший бронзовый Гоголь, так понравившийся Льву Николаевичу Толстому. Выразительна на памятнике надпись из одного слова: Гоголь.
Осенью того же 1909 года Москва получила еще одну превосходную скульптуру — памятник первопечатнику Ивану Федорову у Китайгородской стены. Автор памятника — академик С. М. Волнухин, учитель нескольких выдающихся русских скульпторов, в том числе и Н. А. Андреева.
Скульптор изобразил первопечатника за работой: Иван Федоров стоит во весь рост и рассматривает свежеоттисну-тый лист. Доска с набором литер оперта на печатный станок. Длинные волосы перехвачены ремешком, чтобы не мешали работать.
Передан один из мигов рождения первой русской печатной книги — знаменитого федоровского «Апостола». Архитектор И. Мешков хорошо поставил бронзовую фигуру на простом, лаконичном постаменте из черного лабрадора.
Памятник этот — одно из лучших произведений дореволюционной скульптуры, был последним городским монументом Москвы, открытым при жизни яснополянского мудреца.
Часть четвертая
НОВАЯ ЭРА В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
I. Великий сын великого народа
В деревянной глуши Симбирска
В зимние дни над Волгой кружат метели. Но и в бураны и в мороз идут люди «бесконечным безмолвным потоком», чтобы увидеть дом, где ...в глуши Симбирска родился обыкновенный мальчик Ленин.
Теперь Стрелецкая улица носит имя Ульянова. Дом, где с сентября 1869 года жила семья инспектора народных училищ Симбирской губернии Ильи Николаевича Ульянова, стоял в конце Стрелецкой, перед самым выходом на площадь с казенным зданием — тюрьмой. Перед воротами тюрьмы расхаживали часовые с ружьями. На булыжных мостовых печально позванивали кандалы арестантов. Зимой площадь заносило снегом, и арестантов выводили разметать ее. Летом степные ветры поднимали облака пыли и несли их вдоль улицы, распугивая обывательских кур.
Семья Ульяновых переехала сюда из Нижнего Новгорода. Неизменным остался с той поры лишь деревянный двухэтажный дом № 21 — все его окружение стало неузнаваемо. Улица начинается теперь от одного красивого сада — Карамзинского — и кончается другим. На месте снесенной тюремной крепости — царство студентов: общежития Педагогического института имени И. Н. Ульянова и новый учебный корпус.
Флигелек, где 10(22) апреля 1870 года Владимир Ульянов-Ленин впервые взглянул на свет, до наших дней не сохранился. Но уже осенью того же года семья Ульяновых со старшими детьми — Анной и Александром — и с новорожденным Володей переселилась из флигеля в двухэтажный дом. Фасадом он выходит на Стрелецкую улицу. В нем прошли первые детские годы Владимира Ильича.
Здесь мать Владимира Ильича, Мария Александровна, баюкала сына, пела колыбельные песни. Слова одной песни запомнились Анне Ильиничне, но автора до сих пор не удалось установить:
А тебе на свете белом
Что-то рок пошлет в удел?
Прогремишь ли в мире целом
Блеском подвигов и дел?..
Неподкупен, бескорыстен
И с сознаньем правоты
Непоборной силой истин
Над неправдой грянешь ты...
В наше время здесь, в этом доме ленинского детства, устроена библиотека, одна из лучших детских библиотек в стране. Каждый работник ее — знаток книг, и воспитатель, и лектор, и экскурсовод. И когда присматриваешься здесь к известной мраморной скульптуре Т. Щелкан, изображающей Ленина четырехлетним мальчиком, как-то яснее представляешь себе, каким он был в жизни, как смеялся, бегал по лестничным ступенькам, шалил... И ведь было-то все именно в этих стенах, на этих ступеньках.
С августа 1878 года большая семья Ульяновых надолго поселилась на Московской улице. С 1929 года этот дом — теперь № 58 по улице Ленина — превращен в музей. В его создании участвовали сестры Ленина — Анна Ильинична и Мария Ильинична — и его брат Дмитрий Ильич.
Одноэтажный домик с мезонином, старыми липами перед фасадом и мраморной мемориальной доской... В маленькой проходной экспонирована семейная фотография Ульяновых, сделанная в 1879 году. Трудовая интеллигентная семья, вырастившая целую плеяду выдающихся революционеров, семья, воспитавшая Ленина. У Владимира Ильича заметное сходство с отцом, Ильей Николаевичем; старший сын, Александр, лицом больше напоминает мать.
Толстой заметил, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Счастливые — это вовсе не значит мещански благополучные. Счастливые — это значит такие, где жизнь идет в лад с самыми высокими помыслами, где интересы каждого сознательно и с любовью подчинены интересам общим, где взрослые и дети исполнены друг к другу подлинного уважения, сердечного доверия и самоотверженной, заботливой любви. Счастливые семьи — это такие, где само собой разумеется, что цель жизни — труд на благо людей, и где всякий член семьи рано начинает размышлять, к чему бы приложить свои силы, к чему приучить себя сызмальства, что взять с собой в дорогу жизни, а что отбросить. Дети в семье Ульяновых об этом начали думать рано!
Как же это достигалось? В чем тут педагогический секрет? Вот с этой мыслью и всматриваешься в жизнь семьи Ульяновых, так ясно представленную в маленьком драгоценном музее.
Из прихожей мы вошли в гостиную — уютную, с овальным столом, диваном и старинным роялем. Играла на нем не только Мария Александровна. Музыке в семье Ульяновых учились все дети, до восьми лет занимался и Володя, играл с матерью легкие пьески в четыре руки. Однако потом бросил: впоследствии он ни в чем не любил дилетантства. Впрочем, перестав играть сам, он никогда не переставал любить музыки, пения, оперных спектаклей, концертов. Детские занятия с матерью помогли Владимиру Ильичу рано постичь сложный мир музыкальных образов.
Кабинет Ильи Николаевича дает очень ясное представление о хозяине этой комнаты. Обстановка здесь скорее служебно-деловая, чем домашняя. Много книг, отчеты о состоянии школ Симбирской губернии. У стола два кресла для посетителей. Сюда приходили к Илье Николаевичу за советом народные учителя, товарищи по работе, коллеги-инспектора, а в свободные от работы часы он собирал у себя детвору. Он сам участвовал в детских играх — ив жмурки и в прятки, а когда ребята вволю набегаются и нарезвятся, показывал им картинки, связанные с курсом географии, развертывал карты, доставал альбомы по естествознанию и этнографии.
У каждого члена семьи имелась своя библиотека. Илья Николаевич выписывал журнал «Современник» и «Отечественные записки», постоянно читал Белинского, Некрасова, Добролюбова, приохотил к этому чтению и детей.
Умер он в этом кабинете 12 января 1886 года.
Комната Марии Александровны Ульяновой была проходной: ведь хозяйка, как тогда говорили, «должна слышать весь дом» и всюду поспевать. Мария Александровна получила хорошее домашнее образование, знала три иностранных языка, читала в подлинниках Шиллера, Гёте, Шекспира, Гюго. Она самостоятельно подготовилась к экзамену на звание учительницы начальных школ и получила об этом государственное свидетельство.
Мать Ленина была прирожденным воспитателем, дети горячо любили ее.
В доме Ульяновых многое напоминает о старшем сыне Александре, обаятельном молодом человеке с нежными, еще мягкими, совсем юношескими чертами лица. Но у этого юноши был такой запас воли, смелости и трудолюбия, самодисциплины и выдержки, что они поражали даже близких.
Нет сомнения, что в лице Александра Ильича Ульянова Россия потеряла будущего ученого-естественника. Окончив Симбирскую гимназию с золотой медалью, он, уже студентом III курса Петербургского университета, снова получил золотую медаль — за работу в области зоологии. Увлекался он и химией, устроил дома маленькую лабораторию.
Последнее лето в симбирском родительском доме Александр Ульянов посвятил своей будущей диссертационной работе, ушел в эту диссертацию с головой, и никто из родных не знал, что главной целью жизни Александр избрал все-таки не науку, а революционную борьбу, что он занимается пропагандой против царя среди питерских рабочих и участвует в подпольной организации.
Он скрывал это от близких, чтобы не волновать их. Но беда случилась очень скоро: арестованный за участие в покушении на жизнь царя, Александр Ульянов был казнен в Шлиссельбурге.
Вот тогда семнадцатилетнему Владимиру пришлось быть в семье за старшего, потому что сестра Анна училась в Петербурге на Высших женских курсах, а Мария Александровна ездила в столицу хлопотать о деле сына. Анну Ильиничну в Петербурге вскоре арестовали, а затем сослали в деревню Кокушкино Казанской губернии.
Когда Владимир Ильич оставался в доме с тремя меньшими сестрами и братом — Ольгой, Марией и Дмитрием, он показал себя терпеливым и серьезным педагогом.
На антресолях — скромная комнатка самого Владимира Ильича. Самодельная полка для книг, карта полушарий. Перед окном обыкновенный рабочий стол школьника.
Володя Ульянов научился читать в пять лет. В Симбирской гимназии он учился блестяще. На столе его школьные награды и золотая медаль. А на книжной полке Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Толстой, «Одиссея» Гомера, Салтыков-Щедрин, Грибоедов...
Ленин-гимназист читал в подлинниках Шекспира и Мольера, свободно переводил с латинского и греческого. Книги он не просто читал, он штудировал их, делал выписки и заметки, и по этим заметкам видно, что умение работать с книгой, страсть к познанию были характерны для него смолоду.
При жизни отца и старшего сына вся семья ежедневно сходилась в уютной столовой, обсуждала прочитанные книги, слушала чтение. Из соседней комнаты к чтению прислушивалась няня, Варвара Григорьевна Сарбатова, к которой Ульяновы относились очень тепло, считая ее членом семьи. Она умерла в Самаре, переехав туда вместе с ними.
К симбирскому дому Ульяновых примыкал небольшой сад. Здесь и взрослые и дети работали на свежем воздухе — копали гряды, сажали и выращивали деревца и цветы, сами посыпали песком дорожки. В семье Владимира Ильича много внимания уделяли трудовым навыкам, нужным в жизни. Этому-то и помогали работы в саду. Он был хорошо ухожен трудолюбивыми жителями симбирского дома и в таком же состоянии заботливо сохраняется в наши дни.
В столовой дома Ульяновых и ныне тикают на стене старинные «семейные» часы. Они неутомимо отсчитывают время, будто напоминая, как умели его здесь ценить, как талантливо тратили каждую минуту, каждый миг своей осмысленной, трудовой, такой красивой жизни!
С Финляндского — к Разливу
«Товарищи!
И над головами первых сотен
вперед
ведущую
руку
выставил...
В. Маяковский
К местам ленинского революц ионного подполья — шалашу на озере и укромному сараю в поселке Разлив — ездят теперь электричкой с Финляндского вокзала, где на обновленной привокзальной площади стоит известный памятник Владимиру Ильичу. Памятник этот — одна из первых удач советского искусства в создании монументального образа Ленина-вождя.
Даже самое место, где памятник установлен, священно на земле Ленинграда. Вечером 3 апреля 1917 года питерские пролетарии встречали здесь Владимира Ильича, воротившегося через Белоостров в родную страну. Вместо трибуны Ленин поднялся на крышу бронеавтомобиля и призвал народ России к социалистической революции.
Во всех видах и жанрах советского искусства воплощена эта встреча Ленина с революционным Петроградом, как один из самых значительных эпизодов в подготовке Октября. Этот эпизод нашел свое отражение, в частности, в Двенадцатой симфонии Дм. Шостаковича. Сильно и проникновенно звучит патетическая музыка, и переданы в ней непосредственные впечатления самого композитора от событий 3 апреля: в толпе встречавших Ленина питерцев находился тогда на площади и Дмитрий Шостакович, еще совсем юный.
Силуэт памятника Ильичу у Финляндского вокзала вычеканен на медали «В память 250-летия Ленинграда», он появляется и на экранах телевизоров как символ революционного Ленинграда.
В первые дни блокады бронзовый памятник как бы напутствовал едущих на фронт, до которого и ехать-то было каких-то два-три десятка километров, как раз с Финляндского вокзала. Позднее, когда обстрелы и бомбежки усилились, ленинградцы укрыли памятник защитной засыпкой.
В течение всей осады единственным действующим вокзалом города был именно этот. Тогда ходили по Белоостровской и Сестрорецкой веткам пригородные составы из четырех-пяти вагонов. Под артиллерийским и даже минометным огнем можно было доехать до станции Дибуны (зимой 41/42 года только до Левашова); и это были тогда ближайшие прифронтовые тылы. Передний край обороны проходил под Белоостровом. Стояли здесь части 291-й стрелковой дивизии, моряки-маратовцы и другие войска 23-й армии генерал-майора Черепанова. А в другую сторону от Ленинграда — к Ладожскому озеру — движение шло тоже от Финляндского вокзала, через Борисову Гриву до самой Ледовой трассы.
У Финляндского вокзала ленинградцы встречали 7 февраля 1943 года первый прямой поезд с Большой земли...
После войны решено было реконструировать привокзальную площадь, превратить ее в одну из самых красивых в городе. Этот план осуществлен. Судьба площади и памятника Ильичу у Финляндского вокзала очень характерна для советского градостроительства.
Академик А. В. Щусев рассказывал, что идея увековечить в монументальной скульптуре выступление Ленина с броневика возникла у советских ваятелей еще при жизни Ильича, но никто не отважился бы официально сделать такое предложение. По словам Щусева, автору проекта пришлось бы выслушать резкую отповедь самого Владимира Ильича, ненавидевшего любой вид внешнего почитания его личности.
Когда Ленин умер, перед советским изобразительным искусством стала задача воплотить его образ, передать художественными средствами величие его идей и в то же время сберечь живые черты его облика, исполненные ленинского обаяния. Задача эта необычайно сложна и еще далеко не окончательно решена. Каждое достижение на этом пути давалось ценой долгих и трудных поисков.
Памятник для площади у Финляндского вокзала проектировался, когда, по словам поэта, «резкая тоска стала ясною, осознанною болью» и когда сам поэт вышагивал на московских улицах ритмы своей поэмы, посвященной Российской* Коммунистической партии.
Проектов было несколько, и самым удачным признали работу скульптора С. А. Евсеева в сотрудничестве с архитекторами В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейхом.
В апреле 1924 года, на месте, где стоял на привокзальной площади броневик «Враг капитала», ленинградцы заложили первый камень в основание будущего монумента, а через два с половиной года, в ноябрьскую годовщину 1926-го, монумент навсегда вошел в ансамбль площади у Финляндского вокзала. Стоял он на первоначальном своем месте до 1945 года, когда началась реконструкция площади.
Теперь площадь стала просторной, обдувает ее ветер с Невы, памятник выдвинут в самый центр, ближе к набережной, и рисуется на фоне нового, радостно-оптимистического здания вокзала (прежнее было очень мрачным).
Увенчанное высоким, сверкающим шпилем из полированного алюминия, новое здание Финляндского вокзала возведено в 1960 году, причем архитекторы П. Ашастин, Н. Баранов, Я. Лукин, И. Рыбин сохранили ту часть прежнего вокзального здания с залом, где Ленин некогда обращался с речью к собравшимся. Одно крыло здания служит теперь вестибюлем метро. Вестибюль украшен огромным мозаичным панно на тему «Ленин — вождь революции».
Самый памятник на площади монументален, исполнен пафоса революции. В свое время авторы других проектов пытались поставить фигуру на броневик, и получались высокие сооружения, где в центре внимания была боевая машина, а не образ говорящего с народом Ленина. В осуществленном проекте, по предложению В. Щуко, броневик не был изображен целиком, а лишь символически намечен: в бронзе отлита башня с крылышками нащельников, ограждающих пулеметный ствол. А над башней — динамическая фигура Ленина в распахнутом пальто. Призывно выбросив руку вперед, он весь олицетворение революционной страсти, энергии, уверенности. Голова обнажена, из-под нахмуренных бровей зорко смотрят прищуренные глаза. Они уже высмотрели, видят трудный путь, которым идти стране, путь, становящийся — после речи Ленина — понятным народу.
Динамичности фигуры вождя вторит своеобразный, очень выразительный, удачно решенный архитектором Щу-ко постамент памятника: башня броневика врезана в нагромождение угловатых, слегка наклоненных вперед гранитных глыб, как бы вырастает из них. Ниже, на бронзовом выступе, высечены слова Ленина: «И да здравствует социалистическая революция!»
Отсюда, с Финляндского вокзала, где на запасных путях сохраняется исторический паровоз № 293, идет дорога к Разливу, та самая, по которой некогда ехал Ленин.
Думается мне, что каждый побывавший в Разливе обязательно ощущал странное неспокойствие здешней природы: вечный ветер, гонящий рябь по озеру, дрожь и шелест осиновых и ивовых листьев, торопливые облака в светлом северном небе.
Так было и в 1917 году, в то грозное и неспокойное лето, когда судьбу огромной страны готовился взять в свои руки российский рабочий класс, обученный Лениным науке революции. Почувствовав, как глубоко усвоили питерские пролетарии эту науку, буржуазное правительство Керенского перешло летом 1917 года в наступление на Ленина и его партию, чтобы предотвратить социалистическую революцию.
Сейчас для нашей молодежи такие события, как расстрел юнкерами народной демонстрации на Невском в дни 3 — 4 июля 1917 года, — история. Для моих же сверстников — это страницы личных воспоминаний или события из жизни близких. В частности, как происходил этот расстрел демонстрантов, я знаю от той моей ленинградской спутницы, что показывала мне архитектурные ансамбли Росси.
Девочкой-подростком она шла по Невскому в колонне демонстрантов. Люди несли кумачовый плакат «Долой войну!». Слева от девочки шел, почти у тротуара, старый питерский рабочий, справа, ближе к середине мостовой, очень юный студент с красным бантом на груди. Нестройная колонна шагала вразнобой. Когда от головы к хвосту стали передавать, что впереди, у Садовой, войска, рабочий сказал:
— Ты, дочка, шла бы домой! А то, не ровен час, затопчут...
Студент насмешливо возразил:
— Не те времена! Не посмеют!
Через две-три минуты он с простреленной головой лежал на торцах Невского, а старик рабочий успел втолкнуть девочку в дверь какого-то парадного подъезда. Стрельба, крики, топот бегущих ошеломили девочку. Она слышала, как стрельба стихла, и сразу же по мостовой загремели копыта казачьих лошадей: на рысях сотня проскакала по Невскому, потом рассыпалась по соседним улицам и переулкам, раздавая направо и налево удары нагайками. Выглянув из подъезда, девочка увидела черневшие там и сям на мостовой тела...
Так начался террор в Петрограде, когда буржуазия перешла к диктаторским методам, а соглашательские партии — эсеры и меньшевики — открыто стали на ее сторону. Редакции большевистских газет были разгромлены, прокурор Петроградской судебной палаты отдал распоряжение об аресте В. И. Ленина по чудовищному обвинению в государственной измене и шпионаже в пользу императорской Германии!
Меньшевистские газеты потребовали явки Ленина на суд, но Центральный Комитет большевистской партии отверг провокационное требование, имевшее целью расправу с вождем рабочего класса. Партия спрятала Ильича в подполье.
Сперва в течение нескольких дней он тайно жил в городе («прятал нашего брата, конечно, рабочий», — писал впоследствии об этом Владимир Ильич). Однако шпики Временного правительства уже напали на след, и дольше оставаться Ленину в городе стало нельзя. ЦК партии принял решение укрыть Владимира Ильича на станции Разлив, у рабочего Сестрорецкого оружейного завода Н. А. Емельянова.
Владимир Ильич обрил бороду, подстриг усы, надел чужое пальто и кепку. В Разлив он отправился с Финляндского вокзала последним поездом в ночь с 9 на 10 июля, сидя на вагонной подножке, чтобы в случае опасности спрыгнуть на ходу. Около четырех утра 10 июля Ленин пришел в дом Емельянова.
Поселился он на чердаке сарая, где поставили для него рабочий столик, пару стульев и устроили на сене постель. Но оставаться в самом поселке, даже и на окраинной улочке, было опасно. Через несколько дней Ленина укрыли в безлюдном болотистом лесу за озером Разлив, на сенокосном участке, арендованном Н. А. Емельяновым.
Удобнее всего было ездить туда на лодке, через озеро. Ленин жил в шалаше под видом финна-косца, нанятого Емельяновым. Поблизости, в кустарнике, устроили «зеленый кабинет»: два пенька служили Ильичу стулом и столом. Отсюда Ленин руководил партией, здесь он создал несколько важных теоретических работ.
Этот конспиративный период в жизни Ленина теперь известен по кинофильмам, произведениям живописцев, скульпторов, писателей, по документам, сохраняемым в музеях и архивах. К ленинскому шалашу проложена от станции Тарховка шоссейная лесная дорога, а на самом озере, на том месте, где впервые пристала лодка с Ильичем и его спутниками, теперь устроена небольшая пристань для моторных экскурсионных катеров.
А было время, когда посещение этих мест легко могло стоить жизни. Солдаты воинских частей, морская пехота и сестрорецкие рабочие-дружинники сдерживали здесь противника, рвавшегося к Ленинграду. Участники его обороны теперь не могут.вспоминать о ленинском шалаше вне связи с Великой Отечественной войной. Она словно оставила отблеск на каждой уцелевшей сосне, на каждом квадратном метре каменистой, болотистой земли, где брусника и морошка алели тогда среди пяти-шестислойной минной начинки, нашей и вражеской. В те дни многие из нас, в том числе и автор этих строк, впервые увидели ленинский шалаш.
Зимой 1942 года возвращался я в полк, на передний край, предварительно получив разрешение сделать небольшой крюк, чтобы посетить шалаш Ленина. За Новоселками, в чужом артиллерийском дивизионе, дали мне провожатого по заминированному лесу. Глухой тропой, петлявшей среди голого мелколесья, дошли мы до цели уже в сумерках.
На полянке, невдалеке от занесенного снегом озера, стоял скромный деревянный павильон. Его охранял часо-356
вой-моряк, укрытый в окопчике. В мирные дни в павильоне была небольшая выставка, посвященная работе Ленина в подполье. В дни войны здесь устроили выставку документов о гитлеровских зверствах, на стене павильона висел портрет нашего однополчанина, героя-москвича Ивана Петровича Лобачика, замученного фашистами. В морозном воздухе отчетливо слышались пулеметные очереди, орудийная стрельба. Над кромкой дальнего леса возникали белесые немецкие осветительные ракеты.
Впереди павильона темнел каменный монумент, сложенный из красноватых гранитных плит и прикрытый сверху, для маскировки, хвойными лапами. На граните было высечено изображение шалаша. Недалеко находилась огневая позиция зенитчиков и запасные позиции артиллерийских батарей. Вновь прибывавшие на передний край солдаты приносили здесь, у ленинского каменного шалаша, воинскую присягу. Здесь торжественно вручали награды, а одна часть приняла гвардейское знамя. Шалаш из ветвей и стог сена были в те дни разобраны — они неминуемо сгорели бы от мин и снарядов.
Так в ряду бетонных дотов и капониров сражалась здесь, на Ленинградском фронте Великой Отечественной войны, еще одна крепость обороны — гранитный ленинский монумент, воздвигнутый на берегу Разлива в 1927 — 1928 годах рабочими Ленинграда по проекту архитектора А. Гегелло.
Ныне там все восстановлено в том виде, в каком было в дни ленинского подполья: стог сена, кострище, грабли, чугунок, шалаш из ветвей, чуть в стороне от каменного монумента. Поодаль от шалаша построено новое здание музея из гранита и стекла, но уцелел и старый, памятный многим по дням войны деревянный павильон.
А там, где в 1917 году приставала к берегу лодка, доставлявшая сюда то самого Ленина, то кого-нибудь из его соратников — Ф. Дзержинского, Серго Орджоникидзе, В. Бонч-Бруевича, — ныне причаливают к пристани небольшие катера. И если бы не новое здание музея, можно было бы увидеть с озера эти места почти такими, какими они были в дни ленинского подполья.
В поселке Разлив сбережен сарай, служивший Ильичу убежищем. В годы войны в опустелом полуразрушенном поселке не так-то просто было сохранить это легкое деревянное строение от обстрелов, пожаров, зажигательных бомб и снарядов. Зажигательные фосфорные снаряды бывали, кстати, на этом участке не редкостью. Охраняли ленинский сарай рабочие-дружинники сестрорецкого завода, солдаты и офицеры воинских частей, моряки и пехотинцы, гражданские люди — жители поселка.
Теперь ветераны дивизий и полков водят здесь подшефных пионеров тропами великой войны и обязательно заканчивают свои маршруты у ленинского шалаша в Разливе, где ребята читают золотые буквы надписи на красноватой плите:
«На месте, где в июле и августе 1917 года в шалаше из ветвей скрывался от преследования буржуазии вождь мирового Октября и писал свою книгу «Государство и революция», — на память об этом поставили мы шалаш из гранита. Рабочие города Ленина. 1927 год».
И по-прежнему гонит рябь по озеру порывистый ветер, шепчутся тростники, раскачиваются ветлы, будто самой природе передался здесь великий дух вечного ленинского непокоя!
Кремлёвский штурман
И плавно в мир,
строительству в доки, —
вошла советских республик громадина.
В. Маяковский
Не одним поэтам приходит в голову сравнение с корабельной штурманской рубкой, когда экскурсовод вводит нас в кремлевский кабинет Владимира Ильича.
С 12 марта 1918 года эта небольшая поистине комната стала штурманской рубкой истории и служила Ленину до того дня, когда смертельная болезнь отняла у него силы: по записям дежурных секретарей Совнаркома Владимир Ильич последний раз работал здесь 12 декабря 1922 года и ушел в 8 часов 15 минут вечера...
На этой дате открыт календарь на столе, на этой минуте остановлены стенные часы. С того времени все чаще приходилось увозить больного Ильича в Горки, а с весны 1923 года Ленин уже почти не выезжал оттуда.
Рабочий кабинет Ленина в Кремле и соседняя с кабинетом небольшая квартира Владимира Ильича, Надежды Константиновны и Марии Ильиничны стали музейным достоянием, но, к великой чести здешних работников, надо сказать: здесь мы почти забываем, что это музей! Такие слова, как «экспонат», «показ», в кабинете Ленина как-то неуместны, потому что каждый вошедший сюда попадает в подлинную рабочую обстановку председателя Совнаркома. Здесь на всем, до последней мелочи, лежит отпечаток ленинского стиля. И тот, кто хочет учиться этому стилю в любой области человеческой деятельности, непременно должен здесь побывать.
Нетрудно описать обстановку кабинета, каждую вещь в отдельности, потому что их немного, и любая по-своему необходима. Можно рассказать, что видно из окон, куда ведут двери, как расставлены вещи, но такое внешнее описание не передаст значительности этого места. Когда сюда входишь, появляется ощущение захватывающей дух высоты — высоты мысли, огромного ума, сочетающего теорию с практической жизнью, с государственной деятельностью.
Книги, книги, книги! В стенных шкафах, на вертящейся этажерке под рукой — справочники, энциклопедии, Толковый словарь Даля, сочинения классиков. Пушкин, Лермонтов, Крылов, Некрасов, Гоголь, Толстой, Тургенев, Чехов, Горький, Фет, Майков, Аксаков, Апухтин, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Салтыков-Щедрин... Их сочинения были у Владимира Ильича в кабинете, значит каждодневно служили ему для работы, для справок, просто для души.
Рядом, в одной из комнат Совнаркома, собрано еще дополнительно около пяти тысяч книг. Ими тоже часто пользовался Ленин. Он читал на девяти иностранных языках, владел в совершенстве немецким, французским и английским, читал и переводил с польского и итальянского, понимал шведский и чешский, знал латынь и греческий. Владимир Ильич, как свойственно ученым, умел очень быстро прочитывать книгу, оценивать ее, резюмировать суть. Пометки Ленина на полях книг — большой материал для науки.
В кабинете Ленина хранится первое издание книги английского писателя-фантаста Герберта Уэллса «Россия во мгле» на английском языке. Владимир Ильич подчеркнул много удачных, справедливых замечаний Уэллса о причинах разрухи в России, о виновниках мировой войны.
Как известно, Уэллс дружески относился к Советской республике, приезжал к нам, беседовал в 1920 году с Владимиром Ильичем о плане ГОЭЛРО, но даже профессиональной фантазии Уэллса не хватило, чтобы представить себе реальность ленинского замысла электрифицировать страну. Уэллс назвал тогда Ильича «кремлевским мечтателем» и лишь впоследствии, еще дважды посетив нашу страну, признал свою неправоту, понял, насколько зорче Ленин глядел в будущее советских республик.
По стенам и даже на челе кафельной печи развешаны в кабинете карты, много карт. Ленин любил карты и читал их так же легко и быстро, как и книги: этот навык остался с детства, от занятий с отцом. Карта висела и в симбирской комнатке Володи Ульянова.
Большинство карт в кремлевском кабинете — стратегические, удобные для планирования военных операций. Возглавляя оборону страны, Ленин всегда был точно информирован о положении на фронтах, руководил фронтами именно из этого кабинета.
Из соседней аппаратной, куда ведет одна из дверей, Ильич разговаривал с командующими. Создатель Красной Армии, Ленин обладал военно-теоретической подготовкой, изучал, в частности, специальные работы буржуазных военных теоретиков: Клаузевица, Людендорфа, русских тактиков. В кремлевской библиотеке Ленина было около двухсот книг по военным вопросам. Характерно для Ленина, что при его серьезнейших военных знаниях он на анкетный вопрос о военной подготовке скромно отвечал: «Никакой».
Но есть в этом строгом кабинете и такие предметы, что непосредственно не служат для дела — их назначение иное, но тоже очень важное. Это две настольные статуэтки, две картины, два чернильных прибора, кроме рабочего. Предметы эти не просто оживляют и украшают обстановку: они были подарены Ленину рабочими из отдаленных краев или друзьями и напоминали Ильичу об определенных событиях и людях, давали ощущение связи с ними.
Портрет Маркса привезли раненому Владимиру Ильичу рабочие Петрограда, чернильный прибор, инкрустированный серебряной нитью, — трудящиеся Дагестана, настольную лампу-статуэтку — рабочие-уральцы. А на этажерке-вертушке лежит болгаро-французский словарь, подарок болгарских коммунистов. На титульном листе словаря рукою Георгия Димитрова сделана надпись: «Нашему любимому учителю и незаменимому вождю всемирной пролетарской революции товарищу Ленину».
«Товарищ Ленин — величайший оратор, которого я когда-либо слышал в моей жизни», — пишет старейший коммунист Японии Сен Катаяма, один из организаторов Японской компартии и Коммунистического Интернационала. Товарищ Сен Катаяма сделал и первое описание ленинского рабочего кабинета, побывав на приеме у Ильича во время одного из конгрессов Коминтерна.
...Последний раз я осматривал кремлевский кабинет и квартиру Ленина летом 1965 года с экскурсией московских литераторов. Впереди нас двигалась большая группа смуглых и темнокожих людей, звучала английская речь вперемежку с языком суахили и наречиями банту. За нами шла экскурсия кубинцев, за ней — рабочие одного из московских заводов... За день кабинет и квартиру могут осмотреть десятки экскурсий — каждая проводит в этих стенах около часу. И это такой насыщенный час, что остается в памяти навсегда.
В кремлевской квартире Ленина мы видим обстановку истинно культурных, интеллигентных, нетребовательных к быту людей — четыре небольшие комнатки. Одна из них служила Ленину, одна — Надежде Константиновне, одна — Марии Ильиничне, а столовая была общей. Здесь собирались все члены семьи — отдохнуть, почитать.
Ничего лишнего, строгая простота, скромность. Как сказал об этом жилище писатель Серафимович: «Все для работы и очень мало для отдыха». Здесь очень ясно понимаешь, как интересовало и волновало Ленина все, что интересовало и волновало страну, умы и сердца сограждан. Владимир Ильич всегда был осведомлен о новейших достижениях точных наук, следил за развитием физики, химии, электротехники, инженерного, строительного искусства. Очень обстоятельно изучал он вопросы сельскохозяйственной экономики, животноводства, полеводства, селекции.
Ленин придавал огромное значение науке о богатствах земных недр, непосредственно руководил работами по проектированию и сооружению первых крупных советских электростанций. Помимо всего этого, он вникал в тонкости газетного и книжного дела, оставил нам в наследство важные мысли о русском языке, о работе печати, театра, об изобразительных искусствах.
Когда я сказал экскурсоводу, что работаю над книгой о памятниках искусства и некоторых мемориальных музеях, отражающих «образы России», мне тут же привели множество примеров заботы Владимира Ильича о сбережении и популяризации памятников культуры.
— Только здесь, работая в этом кабинете, — рассказывала сотрудница музея, — Ленин подготовил и провел через Совнарком много важных мер по охране ценных памятников культуры. Вот вам всего несколько примеров. В начале 1920 года Ленин побывал в пустовавшем тогда доме Льва Николаевича Толстого в Долго-Хамовническом переулке. Владимир Ильич сам предложил превратить этот дом в музей, полностью восстановив его прежнюю обстановку. 20 апреля 1920 года Ленин подписал декрет об основании в стенах Троице-Сергиевской лавры Государственного историко-художественного музея-заповедника. В 1922 году Совнарком, исполняя волю Ленина, постановил организовать Пушкинский заповедник в селе Михайловском. Надо помнить, что все это происходило в годы небывалой разрухи и кровопролитной гражданской войны!
Владимир Ильич очень любил Московский Кремль, внимательно прочел несколько книг по истории Кремля, осмотрел все дворцы, Грановитую палату, терема, соборы. Он отдал распоряжение о реставрации пострадавших памятников Кремля, например Никольской башни. Ленин не мирился с порчей первоначального облика памятников, с теми грубыми искажениями, которые допускались при неквалифицированных реставрациях дореволюционного времени, как, например, в соборе Двенадцати апостолов. Поэтому и ныне реставраторы кремлевских памятников, проделавшие с 1918 года огромную работу, гордятся тем, что инициатором реставрационных работ здесь был сам Владимир Ильич.
Дом с колоннами
Предполагалось, что усадьба Горки близ станции Герасимовская Павелецкой железной дороги будет служить Ленину только местом лечебного покоя. На этом настаивали врачи. Они потребовали подыскать для Ленина место загородного отдыха, как только он стал поправляться после ранений 30 августа 1918 года. Но Владимир Ильич отвергал все попытки создать ему какие-то «особенные» условия, отличные от тех, в каких живут его сотрудники.
Было ясно, что в какой-нибудь дворец, вроде юсуповского дворца в Архангельском, Ленин не поедет. Тогда и выбраны были сравнительно скромные Горки, где к тому же хорошо сохранились жилые и служебные помещения, была маленькая электростанция, отопление, свет и телефонная связь с Москвой.
Членам ЦК партии стоило большого труда уговорить Ленина осмотреть помещение, которое заранее, втайне от самого Ильича, готовили в Горках для его отдыха. Руководил подготовкой комендант Кремля П. Мальков по указаниям Ф. Дзержинского и Я. Свердлова.
Впервые Ленин приехал сюда в погожий день золотой осени, 25 сентября 1918 года.
Среди волнистой равнины, березовых перелесков и дальних сосновых лесов, в соседстве с обыкновенными деревеньками, один холм у реки Пахры выдался повыше окрестных, и там, на юру, уцелел двухэтажный помещичий дом с колоннами и еще два боковых флигеля. Старый тенистый парк окружал строения. Под горой, в пруду, по-осеннему ясно голубела вода, плавали опавшие листья, отражались облака и белые колонны фасада. Кругом было тихо, а живописный ландшафт, прозрачность и чистота воздуха чем-то напомнили Ильичу Швейцарию.
Здешний парк, видимо, возник постепенно, из природного леса, где некогда прорубили аллеи-дороги, подсадили к местным породам деревьев привозные — крымскую сосну, сибирскую лиственницу, серебристую ель, клен, дубы, вязы, — и предоставили им расти в окружении берез, сосен и елей. Здесь, у самых дорожек, попадались грибы и ягоды, густо разрослись кусты, молодой подлесок.
Но большой дом оттолкнул Владимира Ильича пышностью убранства, мебелью из карельской березы, коврами, хрустальными люстрами. Уговорить Ленина поселиться в этих хоромах сразу не удалось. Пришлось устроить ему скромное жилье в левом, северном флигеле, где в прежние времена жила прислуга.
Ильич и мысли не допускал, что он будет жить в Горках один. Всегда озабоченный здоровьем своих товарищей, старых бойцов большевистской гвардии, здоровьем, подорванным годами подполья, тюрьмами, гражданской войной, Ленин, поселившись в Горках, дал задание — устроить здесь дом отдыха для работников МК партии. Это было сделано: в коттеджах, неподалеку от большого дома, поселили старых большевиков, а в южном флигеле устроили столовую, где брали еду и для семьи Ленина. Вместе с ним жили в Горках Надежда Константиновна, сестры Мария и Анна, брат Дмитрий с семьей и старый революционер А. А. Преображенский.
Штат, обслуживающий Горки, состоял всего из нескольких человек, тут же размещалась и малочисленная охрана из латышских стрелков-коммунистов. Владимир Ильич долго не мог примириться с тем, что его жизнь охраняют, и шутливо упрекал Ф. Дзержинского.
В северном флигеле Владимир Ильич Ленин жил осенью 1918 года, потом в зимние месяцы 1919, 1920 и 1921 годов. Когда, наконец, из темных и тесных комнат флигеля больной Ильич перешел в большой дом, в северном флигеле поселились семьи Д. И. Ульянова и А. А. Преображенского.
Именно с этого флигеля обычно и начинается осмотр Горок Ленинских, одного из самых важных мемориальных музеев нашей страны. Последнее жилище Ленина так и не стало местом «загородного покоя» — Ильич и здесь работал, беседовал с друзьями и соратниками, принимал делегации.
Ходишь теперь по комнатам в Горках, исписываешь блокнот и с огорчением чувствуешь, как трудно передать в кратком очерке все виденное и слышанное.
Надо признать, что «путеводительское» описание дома в Горках не может дать представления о ленинских привычках, ленинском образе жизни. Судить об этом можно лишь по некоторым характерным деталям и штрихам, которые Владимир Ильич и близкие ему люди внесли в прежнюю обстановку помещичьего имения.
Первое, что поразило здесь Ленина, — отсутствие в столь благоустроенном и богато обставленном доме библиотеки! Ее пришлось создавать заново, и книги выбирал сам Владимир Ильич.
Среди прежних владельцев имения Горки была одна любопытная и незаурядная фигура: потомок крепостных крестьян, богач-фабрикант Савва Тимофеевич Морозов, который, по-видимому, покончил с собою в 1906 году. Его вдова вышла замуж за генерала Рейнбота — московского градоначальника и злейшего врага революции. Рейнбот эмигрировал за границу, прихватив с собой крупные ценности из капиталов морозовской семьи. Этот последний владелец Горок внес мало изменений в обстановку, созданную еще Саввой Морозовым, у которого было художественное чутье (Станиславский доверял ему, например, расписывать декорации в Художественном театре).
Купив в свое время Горки, Савва Морозов велел перестроить большой дом в духе более строгого классического стиля, перекликавшегося с московским ампиром начала XIX века. Над окнами второго этажа появился античный фриз, к дому пристроили балконы, зимний сад.
В 1910 году новые владельцы устроили здесь водокачку, электростанцию, два пруда. Интерьеры дома, в особенности мебель «под ампир», отличаются некоторой вычурностью рисунка и отделки, несколько модернизированы, но в целом создают приятный для глаза, очень нарядный ансамбль.
Надежда Константиновна Крупская писала в своих воспоминаниях:
«Обстановка была непривычная. Мы привыкли жить в скромных квартирках, в дешевеньких комнатах и дешевых заграничных пансионах и не знали, куда сунуться в покоях Рейнбота. Выбрали самую маленькую комнату... Но и маленькая комната имела три больших зеркальных окна и три трюмо. Лишь постепенно привыкли мы к этому дому».
В том-то и заключается труднопередаваемое своеобразие музея «Горки Ленинские», что этот «дом с колоннами», созданный и обставленный по прихоти богача фабриканта и его родственников, затем в течение пяти с половиной лет служил местом труда и отдыха величайшему революционеру — Ленину.
Среди морозовско-рейнботовских «ампиров» глубоко трогает чисто ленинская простота, внесенная им в эту обстановку: висят под стеклом его скромные личные вещи — простенькая, сильно поношенная меховая куртка, летний френч, кепка, стоят болотные сапоги и ботинки.
На столике пенсне в потертом футляре, календарь, нож для разрезания книг (в те времена книги обычно попадали к читателю неразрезанными, и такой нож был предметом первой необходимости для человека, читавшего много). Тут же стоит и простая палка — Ильич пользовался ею в дни болезни. Свой рабочий стол Ленин держал в строгом порядке, был образцом аккуратности, не терпел разгильдяйства.
Трудно перечислить вкратце все то, что Ленин успел сделать за годы, связанные с частым пребыванием в Горках. Собственно, нет таких важных проблем, стоявших тогда перед молодым Советским государством, в которые не вникал бы Ленин.
Переход от военного коммунизма к новой экономической политике, возрождение промышленности, электрификация, кооперирование сельского хозяйства — все это осуществлялось в стране под руководством Ленина. Здесь, в Горках, за своим рабочим столом, он разрабатывал важнейшие государственные и партийные документы, которые легли в основу решений Восьмого, Девятого, Десятого, Одиннадцатого и Двенадцатого съездов партии, Восьмого и Девятого съездов Советов, Третьего и Четвертого конгрессов Коммунистического Интернационала.
И сейчас экспозиция нижних комнат в «доме с колоннами» посвящена преимущественно этой теоретической и организаторской деятельности Ленина — вождя партии и главы Советского государства. Фотокопии рукописей, первые оттиски статей, служебные записки, письма дают представление, как напряженно работал Ленин, всегда умея выбрать из множества волновавших его проблем самую животрепещущую, самую острую и существенную.
Большинство фотографических портретов, фотоснимков Ильича и близких ему людей широко известны, но здесь глядишь на них по-иному, потому что видишь воочию то окружение, что изображено на снимках.
Висит на стене снимок смеющегося Ильича — он идет по аллее навстречу фотографу. И тут же, из окна, можно увидеть эту аллею и скамью, тоже знакомую по многим снимкам и работам художников.
Но особенно запоминается один большой, почти в натуральную величину, снимок на стекле, вставленном в овальную оправу. Поворот выключателя — фотография изнутри освещается скрытой лампой, будто вспыхнул голубоватый экран телевизора. Экскурсовод поясняет, что именно этот снимок люди, близко знавшие Ленина, в том числе и Н. К. Крупская, считали самым удачным, лучше всего передающим лицо Ленина во время оживленной беседы с друзьями. Фотография с таким мастерством перенесена на стекло, освещена и вмонтирована в стенную оправу, что действительно кажется: перед нами на экране телевизора живой Ленин.
Тут вспоминаешь замечательный документ, опубликованный в «Известиях» 6 апреля 1963 года: Н. К. Крупская отвечает ученым-медикам на их вопросы о Ленине — о чертах его характера, привычках, особенностях его натуры.
Вот что, например, Надежда Константиновна считала наиболее существенным:
«Всегда органическая какая-то связь с жизнью.
Колоссальная сосредоточенность.
Самокритичен — очень строго относился к себе. Но копанье и мучительнейший самоанализ в душе — ненавидел ».
«Был боевой человек».
«Беспорядочности и суетливости в движениях не было».
«Обычное, преобладающее настроение — напряженная сосредоточенность.
Веселый и шутливый».
«Очень хорошо владел собой».
«В беседах с людьми, которых растил, был очень тактичен.
Впечатлителен. Реагировал очень сильно».
«Бледнел, когда волновался.
Страстность захватывающей речи — она чувствовалась даже, когда говорил внешне спокойно».
«Писал ужасно быстро, с сокращениями...
Под разговор писать не мог (не любил), нужна была тишина абсолютная».
«Перед всяким выступлением очень волновался — сосредоточен, неразговорчив, уклонялся от разговоров на другие темы, по лицу видно, что волнуется, продумывает. Обязательно писал план речи».
«Говорил быстро...»
«Речь простая была, не вычурная и не театральная, не было ни «естественной искусственности», «пения» типа французской речи (как у Луначарского, например), не было и сухости, деревянности, монотонности типа английской — русская речь посредине между этими крайностями. И она была у Ильича такая... типично русская речь. Она была эмоционально насыщена, но не театральна, не надумана; естественно эмоциональна».
«Говорил всегда с увлечением — было то выступление или беседа».
«...Улыбался очень часто. Улыбка хорошая — ехидной и «вежливой» она не была.
Ух, как умел хохотать. До слез. Отбрасывался назад при хохоте...»
«Очень бодрый, настойчивый и выдержанный человек был. Оптимист».
«...Зряшного риска — ради риска — нет... Ни пугливости, ни боязливости.
Смел и отважен».
Таким и глядит на нас Ленин со своих фотопортретов в Горках.
Мавзолей на Красной площади
Одно из лучших творений советского монументального искусства — торжественно - траурный Мавзолей Ленина на Красной площади. Создание Мавзолея было подлинно творческим свершением большого зодчего, потрясенного смертью величайшего революционного вождя.
В тот январский день 1924 года, когда началось всенародное прощание с Лениным, когда, казалось, вся страна двигалась в одной медлительной черной колонне, исчезающей в дверях Дома союзов, архитектор Алексей Викторович Щусев получил правительственное задание: в самый короткий срок спроектировать склеп и надгробие.
— После разговора с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, — рассказывал Щусев, — я долго ходил по своей рабочей комнате в глубоком волнении. В тот момент я даже не в силах был испытывать чувства гордости за оказанное мне доверие: все помыслы устремились только на то, чтобы надгробие со склепом оказались достойны того, кто будет покоиться в этой могиле.
Сначала, ко дню похорон, от Щусева требовалось оформить лишь подземный склеп с наружными входами, выходами и лестницами, ведущими вниз и вверх. Еще проект не был окончен, когда на площади, у кремлевской стены, стали громыхать глухие взрывы: это в морозных ночах рвали глубоко промерзший грунт и рыли котлован для склепа.
26 января состоялось траурное заседание II съезда Советов СССР, на котором Надежда Константиновна Крупская произнесла свою проникновенную речь о Ленине. Съезд принял решение переименовать Петроград в город Ленина — Ленинград и соорудить в Москве, на Красной площади, Мавзолей Ленина.
Проект Мавзолея создан был Щусевым буквально в одну ночь, вместе с проектом склепа. Дальше потребовались лишь доработка, расчеты, изготовление модели. Над устройством склепа работали еще и в самый день похорон, 27 января, когда гроб с телом Ленина был уже установлен у заиндевелой стены Кремля, на высоком постаменте.
В 4 часа дня, 27 января, под гром траурного салюта, под гудки фабрик, паровозов, заводов, кораблей, электростанций, рудничных сирен гроб с телом Ленина опустили в приготовленный склеп. А к началу весны временный деревянный Мавзолей уже стоял на площади, и каждые полчаса менялся перед входом почетный караул, как меняется и поныне, сорок восемь раз в сутки.
Архитектура Мавзолея, его внешнее и внутреннее решение, подсказывались тем, что выражение траура должно было сливаться в этом здании с идеей непобедимости, бессмертия ленинского дела. Было решено соединить Мавзолей с правительственной трибуной, как бы в память того, что сам Владимир Ильич обращался к народу на Красной площади и в дни советских праздников всегда встречал здесь демонстрации и шествия, которые стали нашей традицией с первых дней Октября.
— В памятную ночь работы над проектом Мавзолея, когда, собственно, и найдено было решение, я мысленно обратился к опыту всего человечества, — рассказывал Алексей Викторович Щусев, — и перебирал в уме все сооружения, оказавшиеся наиболее долговременными и торжественными. Невольно память подсказала древнеегипетскую поговорку: «Все боится времени, а время боится пирамид». Ступенчатые пирамидальные формы некоторых кремлевских башен углубили эту мысль, заставили карандаш чертить эскиз за эскизом — так пришло окончательное решение...
Оно действительно оказалось жизненным и успешным. Простота и монументальность здания так полюбились народу, что проект постоянного Мавзолея поручили снова А, В. Щусеву. Архитектор устранил при этом некоторую дробность деталей, добился еще большего лаконизма и обобщения. В 1929—1930 годах деревянный Мавзолей уступил место каменному.
Над входом в Мавзолей врезано в могучую каменную глыбу одно слово: «Ленин». Красные гранитные плиты как бы оторочены траурным поясом из черного лабрадора. Величавы красные и черные тона внутренней каменной облицовки траурного зала, где стоит стеклянный саркофаг.
Мавзолей красиво выделен на площади светлым тоном гостевых трибун, создающих выразительный, хорошо подчеркнутый контраст с темным цветом гранита и лабрадора. Темно-зеленая шеренга остроконечных серебристых елей, купол казаковского здания с летящим пламенным флагом, Сенатская башня Кремля, светлый гранит трибун, башенные шатры, увенчанные краснозолотыми звездами, — на таком фоне предстает перед нами ленинский Мавзолей.
Имя автора Мавзолея академика Щусева присвоено Музею архитектуры в Москве.
Алексей Викторович Щусев — один из создателей новой Москвы. Он построил гостиницу «Москва», Казанский вокзал, здание Наркомзема в Орликовом переулке, Москворецкий мост у Красной площади и много жилых домов... Но лучшее произведение талантливого зодчего, бесспорно, Мавзолей Ленина.
Сооружение Мавзолея определило и главные черты планировки самой Красной площади. Щусеву не раз предлагали «открыть» ее с торцов. Автору этих строк довелось быть в тридцатых годах на совещании архитекторов и планировщиков, где теоретически обсуждалась возможность передвинуть храм Василия Блаженного за пределы площади. На другом ее торце предлагался снос здания Исторического музея. К счастью, предложения эти были отвергнуты, иначе Красная площадь превратилась бы в обыкновенный проезд, и это лишило бы ее композиционной законченности. Щусев это ясно понимал и мудро сберег исторически сложившуюся планировку главной в Москве площади, вписав в нее трибуны и величавый Мавзолей.
Когда подходишь к нему близко, кажется, что в поли рованных гранях черного лабрадора, играя, вспыхивают и гаснут живые искры. Будто сам камень напоминает об искрах ленинской мысли, из которых разгорелось великое пламя...
II. О подвигах, о славе
«Безумству храбрых...»
Девятьсот пятый — окровавленный, геройский, святой год первой русской революции!
Прелюдией к нему были Мукден и Цусима, начался он у Зимнего дворца в Петербурге трагедией 9 января и окончился московским пожаром Пресни, расстрелянной пушками карательного Семеновского полка, прибывшего из Петербурга. В истории освободительного пролетарского движения не было до тех пор таких массовых подвигов самоотречения, поистине революционной страсти, рыцарского благородства, какими поразили тогда весь мир герои пресненских баррикад под кумачовым флагом восстания.
Вслушаемся в слова «Обращения к обществу». Листовки с этим текстом нес москвичам с крыш декабрьский ветер, проникнутый гарью:
«Шайка грабителей еще раз подавила «мятеж». Но подавила так, что даже для слепых стало ясно, что это — действительно шайка убийц, имеющих главную квартиру в Петербурге... Борьба против пролетариев, которых неудачно хотели оклеветать как «разрушителей», оказалась самым варварским разрушением... Шайка, за которой, по ее уверениям, стоят массы, окончательно разоблачена; за ней по бессознательности стоит лишь часть армии и прежде всего гвардейские полки, из которых шайка специальной дрессировкой вытравляет все человеческое... И глубокое символическое значение приобретает тот факт, что верные шайке войска, стремясь расстрелять революционеров, расстреливали всякого попадавшегося им обывателя. А на другой стороне — «разрушители», пролетарии. При всем желании очернить их... даже в черносотенных газетах прорывается невольное признание рыцарства пролетариев, которые не допустили ни одного нарушения личной и имущественной неприкосновенности граждан и настолько сохранили самообладание, что даже врагам не отвечали жестокостью на жестокость. Вот почему даже буржуазные газеты признают, что хотя восстание временно и задушено, но в Москве нет победителя... Да здравствует победоносная революция!
Московский Комитет Российской Социал-Демократической Рабочей Партии».
Да, так боролись в девятьсот пятом дружинники Москвы, ивановские ткачи, матросы Севастополя и Одессы. Какое шествие светлых имен, какое множество высоких, совсем разных жизней, схожих между собою только общностью жертвенной конечной судьбы!
Николай Бауман, соратник Ленина, агент «Искры», убитый из-за угла царским охранником-черносотенцем.
Иван Бабушкин, талантливый вожак рабочих, и машинист с «Казанки» Алексей Ухтомский, создатель боевой дружины на вооруженном поезде. Оба без суда расстреляны карателями — один в Сибири, другой в Люберцах, под Москвой.
Моряк-лейтенант Петр Шмидт и его товарищи-матросы, участники Севастопольского восстания в Черноморском флоте, казненные на Березани.
Фабрикант по рождению, революционер по делам и духу, большевик по партийной принадлежности Николай Шмит, организатор пресненских дружинников, тайком зарезанный в царском застенке...
Вот они, пробившие в царской монархии первую брешь, которая, по словам В. И. Ленина, «медленно, но неуклонно расширялась и ослабляла старый, средневековый порядок».
Теперь мы работаем на заводах, ходим по площадям и мостам, живем на улицах, учимся в институтах, садимся в электропоезда на станциях, носящих имена борцов девятьсот пятого года. Их дела, их призывы, их предсмертные письма стали для нас учебниками жизни, реликвиями музеев, нашим достоянием и всенародной нашей гордостью.
А в искусстве? Что совершено ваятелями и зодчими в честь и память борцов первой русской революции?
Сделано, конечно, немало. Воздвигнуты статуи-памятники и мемориальные бюсты. Заботливо оберегаются дорогие и священные могилы. И все-таки, если мерить сделанное по большому счету (а в искусстве только этот счет и возможен!), то глубокого удовлетворения свершенным еще нет.
Еще нет у нас скульптуры, посвященной герою или событию 1905 года, которая по исполнению, глубине замысла, идейной проникновенности могла бы стать наравне, скажем, с Медным всадником или «Мининым и Пожарским». Не отлилась еще в бронзе горьковская «Песнь о Буревестнике»...
Правда, сама задача здесь сложнее, чем у Мартоса и Фальконе. Нужно более глубокое обобщение, более смелая символика. Горькому удалось найти прекрасную словесную форму, мастера пространственных искусств еще в поисках... Пожелаем им скорой удачи!
А пока — о достигнутом.
Я живу на Пресне, которую знаю с детства. Но теперь мне, как и всем моим сверстникам, становится все труднее сопоставлять сегодняшнюю Красную Пресню с прошлой, о которой сохранилось столько интереснейших воспоминаний участников революции.
Есть на Красной Пресне, на Большевистской улице, небольшой исторический музей. Я хожу к нему от некогда «нелегального района Грузин» по улице, которую хорошо назвали: Дружинниковской. Все здесь теперь обновляется, перестраивается. Лишь кое-где еще доживают свой век последние пресненские хибарки и домишки.
Кругом высотные дома: одно на площади Восстания, другое почти рядом с ним — похожее на раскрытую книгу здание СЭВ, еще одно за Москвой-рекой (гостиница «Украина»). Совсем исчезли корпуса Новинской тюрьмы на берегу, из которой с помощью Владимира Маяковского совершили побег политические узницы. На Красной Пресне, у зоопарка, нет прежнего моста, и лишь поодаль, на скрещении Большого Девятинского, Конюшковской и Дружинниковской можно еще увидеть остатки знаменитого Горбатого моста через речку Пресню, давно взятую в трубу.
Это самый центр декабрьских боев, главный опорный пункт рабочей обороны. Здесь, у Горбатого моста, на месте нынешнего детского парка, находилась мебельная фабрика Николая Шмита, прозванная полицией «чертовым гнездом».
О ее владельце уже написаны очерки и газетные статьи, а когда-нибудь, я верю, будут написаны увлекательные, и притом правдивые, романы, авторам которых достаточно, ничего не прибавляя, лишь добросовестно следовать канве этой удивительной двадцатитрехлетней жизни.
Судите сами: совсем юный студент-естественник получает в наследство мебельную фабрику и крупный капитал. Этот студент — родственник Саввы Тимофеевича Морозова, родной племянник богача-мецената Алексея Викуловича Морозова — вхож в самые богатые дома Москвы, близко знаком с Горьким, встречается с такими людьми, как Шаляпин, художник Валентин Серов, революционер Бауман... Молодой человек проникается идеями революции, становится большевиком-конспиратором, вооружает «своих» рабочих, вводит на фабрике самые льготные условия труда, организует профсоюз столяров и плотников, посвящает в революционные дела свою сестру, Екатерину Шмит, вступает
376
(как и она) в РСДРП, отдает свои средства партии большевиков, преданно служит революции всем, что имеет: блестящим и трезвым умом, организаторским талантом, всем своим наследственным достоянием.
Фабриканты-соседи ненавидели и проклинали Шмита, его фабрика была сожжена и расстреляна из орудий, сам он арестован.
Рабочие дважды пытались вырвать его из тюрьмы, Горький из-за рубежа писал о деле Шмита, надеясь спасти его жизнь, сестра Екатерина сделала для этого нечеловеческие усилия. Но выпустить Шмита охранники не отважились. Он погиб в тюрьме от руки убийцы.
Проводы гроба Николая Шмита на Преображенское кладбище вылились в народное шествие, но было это уже в 1907 году, когда победила реакция, и превратить похороны Шмита в общемосковскую демонстрацию (как до того — похороны Баумана) полиция не дала. Могилу Шмита черносотенцы впоследствии даже разрушили, и только при Советской власти она была восстановлена вновь. В 1941 году рядом со Шмитом похоронили его сестру и соратницу Екатерину Шмит, отдавшую Коммунистической партии всю свою жизнь. В последний путь провожали ее ветераны 1905 года...
На месте самой шмитовской фабрики, где ныне детский парк, в дни боев рабочие похоронили нескольких дружинников. Другие погибли здесь в перестрелках, под развалинами горящих зданий фабрики и особняка Шмита. На огромном пожарище долго оставался голый пустырь с развалинами, теперь здесь шумят парковые деревья. По сути, здесь остатки революционной крепости 1905 года и братская могила рабочих-шмитовцев. Подвиг этих людей воспет в песнях. Вот слова одной из них, сложенной ветеранами революции:
Мы шли вперед, неся порыв и песню,
Порыв, каких не видела земля,
Вписав геройский Пятый год и Пресню
В бои за Смольный и у стен Кремля.
Эти строки — правда, ставшая песнью!
Какими же произведениями монументальной скульптуры почтила страна память солдат первой революции?
Это памятник Николаю Бауману (скульптор Б. Королев), установленный в 1931 году на площади, носящей имя Баумана, статуя рабочего дружинника у станции метро «Краснопресненская» (скульптор А. Зеленский), памятник рабочим-железнодорожникам Московского узла, воздвигнутый в 1966 году на Ваганьковском кладбище (скульпторы В. А. Павлов и Е. Е. Шебуева), мемориальный камень-обелиск на Краснопресненском сквере против Большевистской улицы — таковы главные московские памятники в честь 1905 года.
У Краснопресненской заставы будет установлен бронзовый памятник в честь борцов первой русской революции. Основа проекта — скульптура Шадра «Булыжник — оружие пролетариата».
Значительные произведения монументальной скульптуры в память девятьсот пятого года уже созданы в городах-героях Севастополе и Одессе.
На Севастопольском кладбище коммунаров очень запоминается мемориальный монумент революционным морякам.
...Черная скала, обвитая чугунной цепью. Красное знамя, взлетевшее над вершиной гранитного утеса. Бронзовый барельеф с изображением морского залива и русских крейсеров. На мраморной плите — надпись:
«Активным участникам революционного восстания моряков Черноморского флота в ноябрьские дни 1905 года лейтенанту П. Шмидту, машинисту А. Гладкову, комендору Н. Антоненко, кондуктору С. Частнику, расстрелянным царским правительством на острове Березань 19 марта 1906 года».
Если смотришь издали, памятник приходится как раз на черту слияния неба и моря — оно поднялось позади кладбищенских кипарисов как безмолвная темно-голубая стена.
Пределен лаконизм выразительных средств: камень, цепь, знамя, будто пропитанное кровью. Мы словно переносимся на каменистый остров, где та же темно-голубая стена безмолвствовала за спинами четырех, когда солдаты наводили ружейные дула.
В 1965 году, в связи с 50-летием восстания на броненосце «Потемкин», большой монумент героям этих июньских событий девятьсот пятого года был воздвигнут в Одессе.
Стоит он на Приморском бульваре (где, помнится, некогда был памятник Екатерине II), невдалеке от знаменитой Потемкинской лестницы и классической статуи дюка де Ришелье, на редкость удачно водруженной здесь в прошлом веке скульптором Иваном Мартосом.
Сама форма площади и ее сравнительно небольшие размеры определили положение и размеры монумента потем-кинцам.
Посреди площади устроено возвышение — подиум из каменных плит. Это, как выражаются ваятели, «организация пространства» вокруг скульптуры. Гранитная лестница в несколько ступеней подводит к самому постаменту. Сложенный из мощных брусков тесаного камня, он своей формой напоминает корабельный нос, вернее, вызывает ассоциацию с кораблем, не подчеркивая этой аналогии никакими лишними деталями.
На хорошо отполированных гранях постамента выделяется силуэт броненосца и краткая надпись: «Потемкин-цам — потомки». На другой стороне высечены памятные даты «1905 — 1965» и слова В. И. Ленина:
«Броненосец «Потемкин» остался непобежденной территорией революции».
Сама многофигурная бронзовая статуя сложна по композиции и изображает тот момент, когда от пассивного сопротивления офицерам матросы переходят к вооруженному мятежу.
Историческая значимость, революционный накал этих событий отлично характеризуются ленинской инструкцией, которую получил в те дни непосредственно от Владимира Ильича один из боевых организаторов революции пятого года, большевик-ленинец М. И. Васильев-Южин.
«Броненосец «Потемкин» находится в Одессе. Есть опасения, что одесские товарищи не сумеют, как следует, использовать вспыхнувшее на нем восстание. Постарайтесь, во что бы то ни стало, попасть на броненосец, убедите матросов действовать решительно и быстро. Добейтесь, чтобы немедленно был сделан десант. В крайнем случае не останавливайтесь перед бомбардировкой правительственных учреждений. Город нужно захватить в наши руки... Дальше необходимо сделать все, чтобы захватить в наши руки остальной флот. Я уверен, что большинство судов примкнут к «Потемкину». Нужно только действовать решительно, смело и быстро. Тогда немедленно присылайте за мной миноносец. Я выеду в Румынию».
Как известно, опасения Владимира Ильича оправдались: ослабленная арестами одесская организация не смогла противостоять соглашателям. Не было полного единства и среди самих восставших потемкинцев. Черноморская эскадра не присоединилась к восставшим, «Потемкин» прошел под красным знаменем мимо настороженных кораблей эскадры, взяв курс на Румынию, — этой сценой оканчивается эйзенштейновский фильм, непревзойденный пока в нашем искусстве памятник «Потемкину», революционному подвигу его команды.
Автор нового одесского монумента потемкинцам, московский ваятель В. А. Богданов решил воплотить в памятнике известный эпизод с брезентом: «зачинщики бунта», накрытые по команде офицера-усмирителя корабельным брезентом, сбрасывают это тяжелое покрывало...
...Шибко бились сердца.
И одно,
Не стерпевшее боли,
Взвыло:
— Братцы!
Да что ж это! —
И, волоса шевеля,
— Бей их, братцы, мерзавцев!
За ружья!
Да здравствует воля! —
Лязгом стали и ног
Откатилось К ластам корабля...
Фигуры одесского монумента (их всего шесть на памятнике) динамичны, исполнены драматизма, трагического пафоса. Они символизируют революционный порыв, высокое мужество потемкинцев, готовность к бою и жертвам. Главная заслуга скульптора — сам выбор ключевого момента боевых событий на броненосце: характерный именно для потемкинского восстания эпизод освобождения из-под брезента, эпизод неповторимый, какой не спутаешь ни с одним другим.
Как же удалось скульптору осуществить этот замысел, воплотить его в бронзе?
Тут, быть может, сказалась и неизбежная спешка с выполнением работы «к сроку», и технические трудности, связанные с недостаточно большими размерами московской мастерской, но практическое осуществление уступает великолепно найденному замыслу.
Дело не только в несколько грубоватом схематизме фигур — это дань современной манере, но и в чересчур условной передаче самой фактуры. Если не знать истории мятежного броненосца, группу на монументе можно истолковать произвольно. Ткань брезента многим кажется символическим изображением волны, красного знамени, даже нависающей скалы. Группа фигур вызывает ассоциации и с гибелью «Варяга», и с тонущими матросами «Стерегущего», и с эпизодом расстрела в картине «Мы из Кронштадта».
По-разному трактуют зрители эту сложную композицию и все же сходятся на том, что эта скульптура — крупное монументальное произведение нашего изобразительного искусства о Пятом годе. Отлично найденное Всеволодом Вишневским выражение Оптимистическая трагедия подходит и к этому новому монументу.
...Когда глядишь от памятника потемкинцам в сторону моря, глаз еле охватывает простор одесского порта, множество пароходных труб, лебедок, мачт. Там и стоял в 1905-м мятежный «Потемкин».
Недавно у подножия одесского монумента старый военный моряк Константин Георгиевич Шаталов рассказывал мне о судьбе самого корабля, изображенного на памятнике:
— О броненосце «Потемкин» пишут разное. Ошиблась даже сама Большая Советская Энциклопедия, сообщив, будто броненосец был потоплен в Новороссийске во время известной операции, выполненной миноносцем «Керчь»... На самом деле судьба броненосца иная. Я сам служил в Севастополе, и многие старослужащие моего экипажа помнили броненосец еще на плаву. Я дружил с участником последнего боевого похода эскадры, в составе которой был «Потемкин», уже получивший после революции новое имя — «Борец революции»...
Собеседник рассказал мне далее, как эскадра советских кораблей действовала против немецких броненосцев «Гебен» и «Бреслау» в конце 1917 — начале 1918 года. Эти корабли пиратствовали почти не таясь: били из орудий по торговым судам, расстреливали наши портовые сооружения, дома... Но однажды у Феодосии беспечность подвела пиратов, — эскадра наших кораблей, подкравшись к «Гебену», накрыла его точными залпами, причинив повреждения. С тех пор «Гебен» держался осторожнее. В этом бою участвовал и бывший «Потемкин».
А в 1919 году, в дни интервенции, некий капитан британского крейсера приказал торпедировать в Севастополе старый корабль. Несколько лет разбитый взрывом броненосец пролежал на боку в Севастопольской бухте — при тогдашней разрухе восстановить его было невозможно, а металл ценился в те времена дорого! В 1923-м севастопольцы разобрали ржавые остатки броненосца на металл для Республики Советов. Вот какова судьба исторического броненосца.
Крейсер революции
В двадцатых годах знавал я одного паровозного машиниста, Сергея Никифоровича Григорьева. Я ездил с ним кочегаром на подмосковной узкоколейной линии, а паровоз наш был не то экспонатом, не то дубликатом экспоната с первой Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, что была развернута в Нескучном саду над Москвой-рекой осенью 1923 года.
Получили мы наш паровоз новеньким, и по поводу этого локомотива Григорьев развивал свои философские взгляды на художество. Он считал, что не следует выделять искусство в особую категорию понятий, потому что нет, мол, четкой грани, отделяющей мир статуй и храмов от мира паровозов, доменных печей, винтовок или микроскопов. Дескать, попросту в статую обычно вкладывается больше умения, мастерства и вдохновения, чем в электромотор, а будет время, когда любое изделие человеческих рук станет образцом совершенства и красоты.
— Помнишь ты этот паровоз на выставочном стенде? — наступал на меня Сергей Никифорович. — Почему около него народ толпился? Мало, что ли, кругом и статуй и фонтанов было? Выходит, есть в нем художество, иначе кто глядеть бы стал? А был бы он еще, скажем, по скорости первый, или же, допустим, от бронепоезда боевого, — тут и вовсе бы толчея около него получилась. Каким бы статуям с ним тогда тягаться!
Рассказал я здесь об этом не ради курьеза, а потому, что в основе своеобразной философии С. Н. Григорьева была известная доля рабочей гордости: ведь мы тогда только начинали сами выпускать промышленные изделия, дотоле почти не изготовлявшиеся в России, и казались нам эти предметы прекрасными, волнующе красивыми, и хотелось действительно любоваться ими не просто так, а видеть их на пьедестале.
Помню, каким красавцем смотрел трактор «фордзон», когда пришел он в самом начале тридцатых годов в один колхоз под Шатурой, и люди радостно шагали за ним с флагом в руках. А прославленный самолет АНТ-25, или, как его называли еще, РД, тот самый, на котором сначала Чкалов, затем Громов совершили перелеты через полюс в Америку?..
Все это я говорю к тому, что «старое, но грозное оружие» мы не только бережем и осматриваем с уважением, но еще непременно получаем при этом эстетическое впечатление, и оно тем сильнее, чем значительнее историческое событие, связанное со славой этого оружия.
Такие памятные предметы, как оба ленинских паровоза — у Финляндского вокзала в Ленинграде и у Павелецкого в Москве, броневик «Враг капитала» у Музея имени Ленина в Мраморном дворце над Невой, славные танки-герои, поставленные на каменные пьедесталы в Ленинграде, Симферополе и на поле Курской битвы, производят сильнейшее эстетическое воздействие, хотя не могут быть причислены к произведениям искусства. Секрет тут в том, что сам зритель становится художником, дает простор фантазии и, быть может, бессознательно, но непременно творит сам, воскрешает, как бы воочию видит событие, связанное с предметом-памятником. А если этот предмет еще к тому же старый корабль, сам по себе красивый, романтичный и величественный, то он действительно становится не просто памятником истории, но даже своего рода памятником искусства, даже без словечка «прикладное». В этом нет никакой натяжки, это истинная правда! Здесь я всецело разделяю взгляды своего старого товарища — машиниста С. Н. Григорьева.
Все знают, что легендарный крейсер «Аврора» стоит в Ленинграде на «мертвых» якорях, как бы в вечном почетном карауле — на Неве, поблизости от исторических мест, где старый, капиталистический мир получил первый смертельный удар от русских рабочих, солдат и матросов.
Но не каждый знает биографию этого кораблй, ставшего творцом и памятником истории.
Между тем в этой биографии с поразительной наглядностью отражено наше время, век двадцатый с его безжалостными войнами и грандиозными революционными событиями, потрясшими весь мир.
«Аврора» — целиком детище России. Проект крейсера создан петербургским инженером Токаревским. Металл для бронированного корпуса лился из мартенов Ижорского завода, машины для корабля тоже сделаны в Питере, на Франко-Русском заводе. Заложенный в 1897 году крейсер спустили на воду со стапелей «Нового адмиралтейства» в невском устье 11 мая 1900 года. Название «Аврора» дали ему в память славного фрегата, что в годы Крымской войны отличился на Дальнем Востоке, обороняя Петропавловск-Камчатский.
Крейсер «Аврора», созданный по последнему слову техники, предназначался для Тихоокеанского флота. Его боевые качества считались отличными: водоизмещение — 6731 тонна, мощность машин — 11610 лошадиных сил, а три винта сообщали кораблю скорость в 20 узлов (около 37 километров в час). С полным запасом топлива «Аврора» могла пройти без захода в порты до 4000 миль (7400 километров). Команда корабля составляла 570 человек.
В составе 2-й Тихоокеанской эскадры двинулась в октябре 1904 года из Балтики на Дальний Восток и «Аврора». В бою под Цусимой крейсер «Аврора», сражавшийся с подлинным героизмом и получивший тяжелые повреждения, отбился от наседавших японских миноносцев и вместе с двумя другими кораблями взял курс на Манилу. Лишь в начале 1906 года корабли вернулись на Балтику.
Когда началась мировая война, крейсер «Аврора» нес боевой дозор, охранял подступы к Финскому заливу. Уже в 1916 году на корабле действовала группа большевиков, сплотившаяся вокруг матроса Ф. С. Кассихина. В ноябре 1916-го корабль стал на капитальный ремонт у нынешнего Адмиралтейского (тогда Франко-Русского) завода. Общение с рабочими стало для матросов-авроровцев школой политического воспитания.
27 февраля 1917 года на крейсере вспыхнуло восстание. Командир крейсера Никольский, ненавистный команде, выстрелом из револьвера смертельно ранил матроса Осипенко. На следующее утро на мачте «Авроры» был поднят флаг революции, авроровцы расправились с Никольским и вышли на берег — драться с жандармами и юнкерами.
12 мая 1917 года приехал Владимир Ильич Ленин на митинг к рабочим Франко-Русского завода, и речь его слушали вместе с рабочими и авроровцы. Вторично они увидели и услышали Ленина во время демонстрации 4 июля, когда Владимир Ильич приветствовал колонну моряков Балтики с балкона дворца Кшесинской, где помещался тогда Центральный Комитет большевиков.
...Временное правительство распорядилось в октябрьские дни развести мосты на Неве, чтобы разобщить городские районы и лишить их связи со Смольным. Но развести удалось лишь Дворцовый и Николаевский мосты, — остальные были взяты под охрану красногвардейцами. Военно-революционный комитет приказал экипажу «Авроры» во что бы то ни стало восстановить движение по Николаевскому мосту (ныне мост имени лейтенанта Шмидта).
Крейсер уже взял на борт партию снарядов, присланных из Кронштадта, и готовился выйти к Николаевскому мосту, когда Н. А. Эриксон, принявший командование в сентябре, отказался вести корабль, говоря, что невский фарватер ему неизвестен и судно, слишком тяжелое для реки, может сесть на мель.
И вот глубокой ночью с 24 на 25 октября 1917 года от борта крейсера выходит на Неву шлюпка: старшина сигнальщиков С. Захаров с четырьмя матросами вышли промерять фарватер Невы. Корабль стоял на якоре. Вся команда находилась в томительном ожидании. Через полтора часа промерщики вернулись и доложили первому комиссару «Авроры» Белышеву, что корабль может пройти вверх по Неве. В последнюю минуту Эриксон все-таки взошел на мостик и принял команду.
В 3 часа 30 минут 25 октября «Аврора» отдала якорь у Николаевского моста и высадила десант. Матросы овладели мостом, пустили в ход механизмы разводки и соединили мостовые пролеты. Отряды Красной гвардии устремились по мосту с Васильевского острова к Дворцовой площади.
Штаб восстания, как известно, находился в Смольном. Туда — поздно вечером 24 октября — прибыл Ленин. По его указанию утром 25 октября силы революции заняли телефонную станцию, телеграф, вокзалы, электростанции, многие учреждения.
В Зимнем дворце под охраной юнкеров, казаков и женского батальона укрылись министры Временного правительства. Военные руководители контрреволюции затаились в Михайловском инженерном замке, чтобы нанести восстанию удар в спину.
Уже днем 25 октября радиотелеграфист «Авроры» Ф. Н. Алонцев передавал в эфир («Всем! Всем! Всем!») текст написанного Лениным обращения «К гражданам России» — о переходе власти в руки Петроградского Совета и Военнореволюционного комитета. Радиорубка «Авроры» оказалась первой радиостанцией молодого Советского правительства!
Между тем министры правительства Керенского, надеявшиеся выиграть время и подтянуть к столице военные силы контрреволюции, не сдались, несмотря на предъявленный им ультиматум.
План штурма Зимнего был заранее разработан Лениным. Момент наступил...
Петропавловская крепость дала сигнал, по которому в 21 час 45 минут грянул исторический выстрел из носового шестидюймового орудия «Авроры». Стрелял комендор В. Огнев. Багровая вспышка подсветила низкие осенние тучи и на миг повторилась в Неве. Не успел еще рассеяться дым над рекой, как штурм дворца начался. Революция победила. Ленин возглавил правительство.
В первые же часы новой эры авроровцы штурмовали Михайловский замок (штаб контрреволюционного мятежа юнкеров), дрались под Пулковом с казаками генерала Краснова; даже в Москву с корабля посылали группу матросов воевать с белогвардейцами.
...В наши дни трудно представить себе те неимоверные жертвы, с какими восстанавливался Советский Военно-Морской Флот на Балтике. Медленно, с огромным риском чистили Финский залив от мин. Со всех фронтов гражданской войны моряки возвращались к своим судам, стоявшим до времени на приколе.
В октябре 1922 года V съезд комсомола постановил взять шефство над флотом, и на Балтику пошла молодежь — босая, в рваной одежде, встречая у пирсов оледеневшие корпуса кораблей. Вступавшие на вахту брали обувь у товарищей. Жидкая пшенная кашица с кусочками разваренной воблы — таково было судовое меню в хорошие дни.
И все-таки один за другим возникали корабельные дымки у кронштадтских причалов и грохотали в клюзах железные змеи выбираемых якорных цепей! Через несколько месяцев молодые авроровцы совершили подвиг, навсегда вошедший в морскую историю.
Это случилось в ночь на 20 июля 1923 года. Крейсер «Аврора» стоял на кронштадтском рейде, когда вахтенные курсанты заметили пожар рядом с фортом «Павел». А курсанты знали, что там находится большой запас мин. Мгновенно была приготовлена шлюпка, и группа смельчаков пустилась к месту пожара.
Авроровцы увидели грозное зрелище: горела морская мина, одна из множества тех, что были извлечены тральщиками из залива. Если бы она взорвалась — неминуема была бы катастрофа.
И вот молодые советские моряки выскочили из шлюпки и бросились к мине. Потушить не удалось — слишком сильный бил огонь. И ребята потащили пылающую громадину к морю. Уже близко была вода, уже уменьшилась угроза детонации остальных мин, когда эта — взорвалась. Герои-авроровцы посмертно были награждены орденами Красного Знамени.
Жители Ораниенбаума (Ломоносова) помнят «Аврору» в дни Великой Отечественной войны. Крейсер огнем зенитной артиллерии оборонял подступы к Ленинграду. Орудия главного калибра с корабля были сняты: артиллеристы крейсера вели из этих орудий огонь по фашистам в районе Дудергофа. Множество тяжелых ран, повреждений, пробоин получил крейсер революции в последних своих боях, из которых вышел победителем — вместе со всей Советской Армией, со всей страной.
После войны рабочие-судостроители считали делом чести восстановление знаменитого корабля. Главные ремонтно-восстановительные работы были произведены на субботниках и воскресниках. В 1947 году «Аврора» заняла свой вечный почетный пост у здания Нахимовского училища на Петроградской набережной Большой Невки, между Кировским и Литейным мостами.
Однако «Аврора» и поныне не только исторический памятник, но и военно-морское судно Балтийского флота! У крейсера есть командир и штатная команда. Каждое утро личный состав корабля — матросы, старшины, офицеры флота — выстраивается на палубе: происходит волнующе-торжественная церемония подъема флага и гюйса, с которой начинается для советских моряков всякий новый день службы и учебы.
Я был на «Авроре» в метельный, пасмурный день ранней весны. Вахтенный начальник показал мне корабль, улыбнулся на мой вопрос, что же представляет собой бетонная «подушка», о которой так часто приходится читать в книгах. «Корабль-то на плаву, на обыкновенных якорях...» Оказалось, что бетонная подушка создана внутри корпуса — для укрепления днища, а под днищем плещется невская вода.
Изредка «Аврора» совершает путешествия в Кронштадт, на ремонт, но, конечно, не своим ходом, так как винты и машина сняты. Знаменитая носовая шестидюймовка «Авроры» по-прежнему блистает щегольской Корабельной чистотой, будто и не коснулись этой пушки десятилетия начатой ею истории Советского Союза!
Было около трех часов дня, когда я сошел с трапа «Авроры» и увидел на набережной марш юных нахимовцев. Два барабана давали темп и ритм. Стройные маленькие фигуры в черных шинелях возникали из метели и уходили в метель Ленинграда четкой, поразительно гордой поступью. И как символ победы рисовался за этими шеренгами силуэт трехтрубного корабля.
Победителям — посмертно
(Монументы героям Севастополя)
Севастополь на восемьдесят лет моложе Ленинграда, но их первоначальные судьбы схожи...
Петр задумывал невскую столицу как опору русского флота на Балтике в такие времена, когда о выходе в Черное море Россия могла еще только мечтать. Но уже в конце XVIII века, после румянцевских и суворовских побед, возник на берегу Ахтиарской (ныне Севастопольской) бухты город-крепость, вскоре ставший флотской столицей русского Черно-морья.
Основание Севастополя связывают с приходом в пустынную, почти безлюдную бухту русской эскадры из тринадцати кораблей под командованием адмирала Клокачева. Моряки увидели среди леса развалины средневековой Инкерманской крепости, величавые руины древнегреческого города Херсонеса (Корсуня), возникшего задолго до нашей эры и окончательно разрушенного татарами в XIII — XIV веках. Встретилось русским морякам и несколько татарских мазанок, покинутых жителями. Было это 2 мая 1783 года. Тогда и началось сооружение крепости и поселка.
Но еще пятью годами ранее возводил здесь временные укрепления против турецкого флота сам Суворов. Он первым оценил стратегическое значение Ахтиарской бухты. Войска его стали лагерем на этом побережье. И существует мнение, что именно суворовскую блестящую операцию в июле 1778 года, вынудившую десять турецких кораблей без боя уйти из бухты, и следовало бы считать временем рождения Севастополя.
Слово «Севастополь» означает «Город славы», и город оправдывал это название много раз за свою недолгую, но яркую и действительно славную историю. На протяжении последних девяноста лет Севастополь был дважды снесен с лица земли, держал две поистине исторические обороны — против союзных армий европейских держав в 1854 — 1855 годах и в наше время, в годы Великой Отечественной войны.
От обеих своих оборон Севастополь сберег памятники славы и мемориальные места, реликвии подвигов, могилы героев, украшенные изваяниями, — они напоминают людям, какой дорогой ценой доставались боевые победы, сколько народной крови впитала каменистая земля Севастополя, Инкермана, Херсонеса, Балаклавы, Сапун-горы...
И перекликается теперь старая панорама «Оборона Севастополя», восстановленная на Историческом бульваре советскими баталистами, с новой диорамой «Штурм Сапун-горы», воссоздающей подробности этого решающего сражения за Севастополь 7 мая 1944 года. Здание диорамы и мемориальная игла-обелиск воздвигнуты в семи километрах от городского центра, на самой вершине Сапун-горы, рядом с могилами павших, пулеметными дотами и выставленным для осмотра тяжелым оружием, трофейным и нашим.
Сбережены на Историческом бульваре, в соседстве с панорамой Рубо, укрепления 4-го бастиона, где Л. Н. Толстой участвовал в оборонительных боях. Воскрешен нашими скульпторами и памятник Тотлебену — фашистская артиллерия сильно его покалечила, обезглавив и центральную статую, то есть самого генерала. Ныне бронзовые тотлебен-ские саперы, сгруппированные вокруг гранитного постамента, по-прежнему заняты своим тяжким солдатским трудом: подносят ядра, роют траншеи, контратакуют штыком, и по-прежнему невозмутимо смотрит вдаль их командир с высоты каменного пьедестала.
Около Графской пристани поставлен новый памятник адмиралу Нахимову — рядом со сквером, где сбережен и реставрирован увенчанный старинной галерой памятник капитану Казарскому, командиру русского брига «Меркурий». Недавно я был свидетелем, как увлеченно севастопольские пионеры разыгрывали победоносное сражение брига «Меркурий» с двумя линейными кораблями турецкой эскадры (это событие произошло в 1829 году).
А Малахов курган стал теперь огромным торжественным памятником двух войн. Сохранилась там от старых укреплений «башня Корнилова», отмечено траурным крестом место смертельного ранения Нахимова, стоят у редутов старинные пушки на своих огневых позициях. А по соседству — морское орудие, метко стрелявшее по фашистам.
Рядом с братской могилой 1855 года появился над откосом и лестницей Малахова кургана еще в дни войны памятник летчикам, погибшим за Севастополь, — утес-монумент со взлетающим истребителем. Сама история овеществилась, окаменев в этом памятнике 1944 года!
...Растущий город быстро обступает, окружает два своих главных некрополя: Братское кладбище с руинами старинной церкви на Северной стороне и кладбище Коммунаров — по дороге в Херсонес. Севастопольцев не смущает и не тревожит эта близость исторических могил, как не смущает и не тревожит вечный сон солдат городской шум, идущий сюда с площадей и улиц, бухт и гаваней Севастополя. Возрождением жизни и славен подвиг павших! Всегда они останутся в строю с защитниками и строителями города.
После войны я узнал с моря в новом Севастополе только Графскую пристань, здание аквариума и старый памятник погибшим военно-морским кораблям: их затопили перед входом в Севастопольскую бухту в начале обороны 1854 — 1855 годов, а впоследствии, в честь этого события, воздвигли в море, на искусственном утесе, строгую колонну, украшенную орлом. Знакомыми оказались, разумеется, бухты и высоты. Сам же город по берегам этих бухт стал неузнаваемо иным...
Изменился не только облик, иным стал весь дух и колорит города. Новый Севастополь гораздо больше и многолюднее старого. Исчезли улицы, застроенные красивыми особняками и дворцами, где жила флотская знать после первой обороны и где после революции и войны гражданской размещались государственные и общественные учреждения. В том, старом, Севастополе было больше строгости, сдержанности, почти чопорности, больше флотской военной выправки. Облик и стиль города заметно изменились.
Быстрый рост нового Севастополя потребовал, разумеется, стандартизации и механизации строительства. Хотя жилья построено много, его все равно еще не хватает. В домах по Большой Морской и главным площадям заметно стремление севастопольцев принарядить город, придать ему черты архитектурного своеобразия, в частности включить в застройку кое-что из севастопольской старины, реставрированной и переделанной. Ближе к окраинам в городском пейзаже, к сожалению, господствует архитектурный стандарт: одинаковые, стереотипные дома, какие стоят в московских Черемушках, в Киеве, Воронеже...
Кстати, севастопольцы жалуются, что к местным особенностям типовые проекты этих домов не очень хорошо приспособлены: летом в квартирах некуда деться от жары. Тут-то и выручили бы лоджии, крытые террасы и прочие элементы, разнообразящие и внешний вид домов, — в условиях юга нельзя все это причислять к излишествам!
Вдобавок, что обиднее всего, складываются эти блочные дома-близнецы не из сборного бетона, что в какой-то мере оправдывало бы их скучное единообразие, а из прекраснейшего белого инкерманского камня, необычайно пластичного и благородного по фактуре. Белокаменный современный город! Казалось бы, какой простор для зодчих-энтузиастов, для архитектурного творчества, для вдохновения! Буквально под рукой материал, будто самой природой Чер-номорья созданный для дворцов и статуй, резных украшений и скульптур. А идет он — аккуратно нарезанный на плиты, кубики и бруски-блоки — на строительство безликих и вдобавок не до конца продуманных стандартных домов.
Разумеется, стандартизация в строительстве необходима, с этим никто и не спорит, но при наших масштабах сами эти стандарты надо разнообразить, обогащать, приспосабливать и к месту и к условиям, чередовать на улицах дома-близнецы с индивидуальными зданиями.
...Шел у нас об этом большой разговор с молодыми севастопольскими зодчими и ваятелями в мастерской молодого скульптора Станислава Чижа, автора интересных композиций, воздвигнутых в городе или — пока еще! — на листах ватманской бумаги. Раньше я не знал об этом даровитом художнике и лишь в самом Севастополе воочию увидел монумент его работы, посвященный комсомольцам — защитникам города.
Станислав Чиж рассказал мне о долгих поисках решения этой темы.
Март 1958. Из девяти конкурсных проектов общественность и жюри одобрили эскизный проект Станислава Чижа, тогда еще флотского матроса-комсомольца, служившего в Севастополе.
Первоначально композиция памятника состояла лишь из мужских фигур — трех матросов. Один из них — ослепший — был с повязкой на глазах. Потребовалось несколько лет и тринадцать вариантов, чтобы выработать окончательный. Теперешние три фигуры — солдат-пехотинец, раненый матрос (повязка в конце концов «упала» с его глаз) со связкой гранат и санитарка, повернувшаяся в сторону близкого разрыва («не там ли нужней ее помощь?») — очень убедительны, жизненны, правдивы.
Я спросил скульптора, имел ли он в виду определенный эпизод и конкретных героев.
— О нет, нет! Это обобщение. Каждый комсомолец, дравшийся на севастопольской земле, отдавший ей свою кровь или жизнь, символизирован в этой скульптуре. Это память о всех живых и мертвых комсомольцах нашей обороны и штурма...
Архитектор памятника В. Фомин. Постамент по его проекту построен из здешнего камня. А отливка самой скульптурной группы сделана (в Киеве) не из бронзы, а из новой пластической массы, имитирующей бронзу так хорошо, что подчас ошибаются даже специалисты.
Открыли памятник в день 45-летия комсомола — 29 октября 1963 года. В основании памятника, в особой нише, замуровано письмо от комсомольцев сегодняшнего Севастополя комсомольцам будущего. Вскрыть и прочесть через сотню лет!
Показал мне скульптор на кладбище Коммунаров, в соседстве с памятником лейтенанту Шмидту, еще одну свою интересную работу: надгробие коммунистам-подпольщикам. Погребены здесь те, кто погиб в неравной борьбе с врагом в дни оккупации города.
Вот где нашлось достойное применение белому камню-известняку, добытому из местных каменоломен! Высечена из этого камня выразительная фигура — коммунист-подпольщик прижался к стене, глядит из-за угла, готовясь бросить пачку листовок. Ради свободы своего народа, ради возрождения любимого города человек жертвует собой, идет на смертельный риск... Таким запечатлен этот подвиг.
— Здесь конкурса не было, — рассказывал скульптор. — Не было ни длительных обсуждений, ни многочисленных вариантов, ни авторитетных рецензентов. Достали с ребятами-комсомольцами большой камень... И сразу взялся я за дело. Получилось... вот — все перед вами! Сам я эту скульптуру люблю, пожалуй, больше «Комсомольцев»...
— А над чем работаете сейчас?
— Памятник Неизвестному матросу. Очень нужен Севастополю!
Эскизный проект памятника был как раз в эти дни выставлен в фойе театра имени Луначарского, и я смог его посмотреть.
Атлетическая фигура припавшего к камню матроса выражает скорбь и мужество, она очень пластична, так и просится в здешний камень. Авторы монумента — скульптор Станислав Чиж, архитектор В. Шеффер и художник И. Белицкий — задумали поставить его на Малаховом кургане.
Хочется рассказать здесь еще о двух талантливых работах, посвященных бойцам за освобождение Севастополя. Находятся эти два памятника по дороге в Балаклаву, километрах в двенадцати от Севастополя. Посещают их поэтому далеко не все туристы и экскурсанты. А впечатление эти памятники оставляют глубокое!
Среди цветочных клумб и газонов возвышаются на фоне гор два обелиска, установленные в честь похороненных здесь солдат армянской и грузинской дивизий. В архитектуре этих сооружений выражены национальные черты. Оба памятника — подлинные произведения искусства, работы хороших монументалистов Грузии и Армении.
Памятник павшим солдатам 414-й Грузинской стрелковой дивизии — это высокий обелиск, водруженный на серых каменных плитах. Навечно стал здесь на часы воин-грузин со склоненной головой, с краснозвездной каской в руке. Автомат, плащ-палатка, гимнастерка, ремень, кирзовые сапоги...
Когда-нибудь, наверное, полевая форма наших солдат совершенно изменится, а наступит время, когда молодежь всего мира перестанет носить воинскую одежду. И тогда воскресит далекое прошлое этот часовой на могиле, этот советский солдат-грузин, поставленный здесь сторожить вечность! И снимут перед ним свои шапки молодые туристы будущего.
А потом они, посерьезневшие и замолчавшие, подойдут следом за гидом ко второму монументу — армянскому.
Есть у сынов Армении выражение «хачкар», буквально: «крестный памятник», но с более широким смыслом. Это слово поминальное, в нем скорбь об ушедшем земляке, человеке близком или незнакомом, но брате по народу. Есть и своя символика для «хачкара», например форма обелиска, сужающаяся не кверху, а книзу.
Барельеф чеканной меди, наложенный на розоватый темный камень обелиска, изображает женскую фигуру со светильником в протянутой руке — символ вечного огня, принесенного сюда матерью Родиной. Рисунок барельефа смел, нежен и лаконичен, фигура прекрасна и необычна. Отсюда не хочется уходить — очень талантливо и по-своему передано величие человеческого подвига.
Автор этого памятника — армянский скульптор А. Арутюнян (архитектор — Д. Торосян).
...На Северной стороне, прямо над морем, у переправы через бухту, издали виднеется огромное мемориальное сооружение. Оно несколько напоминает шатровые композиции русского Севера: центральная высокая пирамида-шпиль и четыре узких шатра по четырем сторонам света. Только не северные ели окружают здесь эту композицию шатров, а темно-зеленые кипарисы.
Это памятник павшим гвардейцам 2-й армии. И лежат они не в сырой земле, а в скальном грунте, в могиле, вырытой аммоналом.
На гранях монумента высечен полный текст приказа Верховного Главнокомандования о взятии нашими войсками Севастополя в мае 1944 года. Читаешь — замирает дух. Слова звучат торжественно и грозно, будто памятный нам голос диктора «поет на плитах, как труба»... Голос истории! Песнь, откуда слова не выкинешь!
Здесь, на этой же Северной стороне, находится и торжественно-тихое Братское кладбище — по сути, огромный мемориальный музей, где сохранились великолепные памятники героям 1855 года. Они сгруппированы на отлогих склонах, поросших старыми кипарисами и буками, близ живописной руины церкви, сильно пострадавшей в боях за город.
Отсюда виден весь Севастополь с его высокой центральной горой, где в городском соборе, изрешеченном фашистскими снарядами, погребены военачальники севастопольской обороны, описанной Толстым. Хорошо виден отсюда и славный Малахов курган.
Скоро там, на кургане, разрастется новый парк Дружбы. Каждое дерево там посажено гостями Севастополя: клен — от ленинградцев, каштан — от киевлян, платан — от матросов крейсера «Красный Кавказ». Есть совсем незнакомые названия деревьев — очень редкостных, посаженных матросами далеких стран.
Деревья эти будут шуметь и цвести; может быть, и птицы совьют гнезда в высоких кронах, под солнцем юга. Их голоса не оскорбят здешней тишины. Все это — и деревья, и птицы, и приходящие сюда со всех концов страны дети — нужно здесь, все это — к месту! Месту святому, политому великой кровью — ради того, чтобы множились на Земле мудрость, радость и красота.
На подмосковных рубежах
Звание города-героя присвоено Москве сравнительно недавно, в дни празднования 20-й годовщины нашей победы над фашистской Германией.
...Грандиозная битва за Москву велась на фронте шириной в 600 — 700, глубиной в 300 — 400 километров. С конца октября
бои были для наших войск оборонительными, пока — это произошло 5 — 6 декабря 41-го, — Советская Армия не
перешла в наступление. В начале следующего года враг был отброшен далеко от столицы.
Рухнул тогда «план Барбаросса» — немцы проиграли блицкриг. Не удалось взять столицу, посадить там марионетку, заключить с ней мир. Москва стала первой вехой на нашем пути к рейхстагу...
Могила Неизвестного солдата у кремлевской стены — знак всенародной благодарности защитникам Москвы. Да и самые поля великой битвы отмечены уже многими памятниками, не говоря о реальных следах боев. Там часто увидишь людей с цветами в руках — сюда приходят целыми семьями, летом — с рюкзаками, зимой — на лыжах. Взрослые показывают молодежи и детям места, где был ранен отец или дед, где ополченцы схоронили товарища, откуда «мы пошли наступать, а он, фашист, побежал...».
Природа на подмосковных рубежах Великой Отечественной войны прекрасна и задушевна. Леса щедры; холмы, луга и поля, что некогда были полями смерти, величаво спокойны. Сами эти пейзажи символизируют Россию, ее красоту, ее душу.
...Как сойдешь с электрички на тихом разъезде Дубосеково, километров шесть не доезжая Волоколамска, так сразу и очутишься в поле, у отлогой высотки с мемориальной доской. Идешь к ней мимо двадцати восьми молодых березок — пионеры посадили эти деревца в память двадцати восьми героев-панфиловцев, оборонявших вот эту самую «высоту 251».
Умело выбрал командир место для огневой позиции — отсюда простреливаются ближние лощины, дальние взгорки, можно держать на прицеле выходы из окрестных лесов. Смотришь сейчас «их глазами» и уж видишь не кудрявую сосну вдали, а «ориентир №4 — отдельное дерево», не холмик с пролысиной, а «ориентир № 5 — высотку Песчаную». В пору достать планшетку и вычертить стрелковую карточку — «усиленный взвод в обороне»...
С точки зрения тактики был здесь у противника «классический» перевес сил: три пехотные, одна мотострелковая, одна танковая дивизии против одной пехотной дивизии генерал-майора И. В. Панфилова. До Москвы — сто километров. Там «зимние квартиры и скорое завершение кампании, еще до настоящих морозов», — так сказал «фюрер» в своем обращении к войскам. Немецкий генерал выбрал для танковой атаки спокойный рельеф, в промежутке между двумя дорогами к Москве, шоссейной и железной, полагая, что защитникам долго не продержаться на этих отлогих высотках: немцы легко выбьют их огнем и гусеницами.
Потом (это было утром 16 ноября) гитлеровскому генералу доложили, что вопреки расчетам русские будто вросли в свою землю. Против высотки пошло двадцать танков, но защитники хорошо окопались и за четыре часа боя подбили четырнадцать машин. Наступление приостановлено.
Наверное, генерал, подражая Наполеону, сказал что-нибудь вроде: «Они хотят еще? Так дайте им еще!»
Не успели панфиловцы перевязать раненых, ударили с неба самолеты, и снова поползли к «высоте 251» зеленые стальные громадины, ощерившись пушками и пулеметами. Тридцать машин! Танки средние, танки тяжелые... За ними — пехота.
«Высота 251» отвечала гранатами, бутылками с горючей смесью, бронебойными пулями. Сама земля словно горела и перемалывалась вокруг своих защитников. Весь израненный, ©паленный дымом, командовал обороной политрук Василий Клочков. Слова его — «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!» — стали потом боевым лозунгом для всех защитников Москвы.
С последней связкой гранат Василий Клочков бросился под тяжелый немецкий танк и взорвал его.
Сперва считалось, что все защитники высоты полегли убитыми или смертельно раненными, и лишь много позднее стали поступать известия, что осталось в живых несколько участников этой обороны, — их, оказывается, подобрали замертво и в конце концов спасли наши медики в санбатах.
Историки еще долго будут изучать не только самый бой, но и судьбы его героев. Были среди них и русские, и украинцы, и казахи, и всех их объединяет одно слово «панфиловцы», ставшее вместе с числом «28» синонимом неслыханной боевой выдержки. Нигде не дрогнула оборона дивизии. Прорыв так и не удался немцам — панфиловцы заставили их самих перейти к обороне.
На другой день хоронили убитых. На крестьянской подводе перевезли тела с «высоты 251» в соседнее Нелидово. Вырыли на окраине деревни братскую могилу. Отсалютовали товарищам ружейным залпом и вернулись закреплять удержанные позиции.
Позже поставили на могиле панфиловцев обелиск под золотой звездочкой, с мраморными досками-надписями. Разросся в ограде маленький сад. Прочитать тексты на мраморе, постоять в раздумье, подумать о подвиге стойкости приходят люди со всех концов Земли. Два русских бородача, лет по двадцати возрастом, постояв здесь, вышли за околицу и стали читать стихи Блока о России: «Ну что ж? Одной заботой боле — одной слезой река шумней, а ты все та же — лес да поле, да плат узорный до бровей...»
Неподалеку отсюда, в самом Волоколамске, есть еще один памятник высокой воинской доблести — памятник восьми комсомольцам.
Немцы схватили на подступах к городу восьмерых разведчиков-партизан, московских комсомольцев. Старшим в группе был молодой инженер с завода «Серп и молот» Константин Пахомов. Ни один из них не послужил врагу «языком», не признался, где штаб, кто послал, каковы задачи. Устояли ребята и против пытки и против приговора «эршиссен» (расстрелять). Их расстреляли всех вместе — юношей и девушек, потом на виселице выставили окровавленные тела посреди города, чтобы устрашить «этих русских».
Правительство наградило всех восьмерых посмертно орденом Ленина. Хоронили их, после освобождения Волоколамска, всенародно. Где была виселица с телами казненных, там воздвигли ребятам памятник, а в городском саду, неподалеку, лежат под обелиском те, кто пал за освобождение города — 19 декабря 41-го.
...О подвиге московской школьницы Зои Космодемьянской написаны поэмы, образ ее живет в статуях и портретах, имя знает вся Земля. Памятник Зое, установленный на Минском шоссе, стал местом такого массового паломничества, что в иные дни постамент бывает буквально завален цветами. Там задерживают свой бег машины, пионеры в галстуках салютуют бронзовой, недосягаемо-высокой Зое — они ездят к ней из ближних и дальних пионерских лагерей.
Кажется, подвиг Зои Космодемьянской изучен, и можно получить полное представление о нем, прочитав книгу или выслушав чей-нибудь рассказ. И все-таки...
Все-таки невозможно прочувствовать всю душевную силу этой девочки, не побывав на месте самих событий, — не у высокого придорожного памятника, а в пяти километрах от него, в селе Петрищеве.
От шоссейной дороги на Верею отходит к Петрищеву бывший проселок, теперь залитый асфальтом. Я свернул с дороги в лес, болотистый, темный, жутковатый. Если кто почему-либо не задумывался над подвигом Зои, пусть придет в этот лес хотя бы за грибами (их здесь много!) и, добравшись до опушки, поглядит сквозь кусты и заросли на деревню... Пусть представит себе, что там не совхоз, а чужие солдаты, штабная канцелярия, перепуганные старики и старухи в избах, кругом немецкая речь. Даже собаки-овчарки и те чужие!
Стояли там, в Петрищеве, части кадровой немецкой 196-й пехотной дивизии, шныряли кругом связисты, патрули, таились посты-секреты, оберегавшие свои припасы, канцелярии, временное жилье. Бывалые, обученные солдаты-оккупанты.
А против них девочка-старшеклассница.
Она перешла линию фронта под Наро-Фоминском, у деревни Обухово, вместе с маленьким отрядом комсомольцев-партизан. Это было примерно через пять суток после боя панфиловцев за свою высоту. Были в отряде ребята постарше, поопытнее, были и вовсе необстрелянные новички, в том числе и восемнадцатилетняя Зоя Космодемьянская, ученица 10-го класса 201-й школы Москвы.
Угодив под сильный прицельный обстрел, отряд рассеялся, разделился на группы, вскоре потерявшие друг друга из виду. Но каждая продолжала действовать, выполняя приказ. Задание Зои было — посеять панику в Петрищеве, поджечь воинский склад, конюшню, расстроить телефонную связь.
Девочка-школьница понимала обстановку очень ясно. Ей сказали в комсомольском штабе, что решается судьба столицы, что надо выиграть время: тогда успеют подойти резервы — прикрыть Москву, перехватить инициативу. Значит, врага надо остановить любой ценой!
И вот Зоя крадется по этому лесу к Петрищеву, где никогда прежде не бывала. До своих отсюда километров пятнадцать.
Отыскав немецкий телефонный провод, Зоя перерезала его. До хрипоты орал, наверное, в трубку, немецкий телефонист, требуя сводки или оборвав на полуслове важное донесение.
Кое-как ориентируясь в ноябрьском лесном мраке, Зоя подобралась к строению конюшни. Разожгла, запалила огонек. Но было сыро, а может, не хватило горючего. Зоя замешкалась. А немецкие охранники не дремали. Ее схватили. Привели в деревню, набитую солдатами, — они стояли в каждой избе.
Потом началось самое тяжкое, о чем нельзя думать спокойно. Издевались перед допросом, грозили и терзали на допросе, но даже имени своего она не сказала, назвалась Татьяной... Уже по собственной инициативе часовой гонял приговоренную из избы в избу, по морозу, чуть не в одной рубашке, босую... Будто воочию видишь все это здесь, в Петрищеве, как видишь эти дома-свидетели, а среди них тот, откуда утром 29 ноября Зою повели на казнь.
Немецкие солдаты сладили виселицу добротно и, окончив работу, сфотографировались на фоне пустой еще петли. Потом фотографировали и самоё казнь. Офицер щелкал цейсовской «лейкой» или «контаксом», когда девушка, уже с петлей на шее, что-то крикнула колхозникам, которых согнали сюда, к эшафоту. Верно, кто-нибудь перевел фашисту-фотографу ее слова, известные теперь всему миру: «Мне не страшно умирать, товарищи! Это счастье — умереть за свой народ!»
Офицер велел повернуть казненную к себе лицом, запечатлел и это лицо и на груди доску с надписью по-русски и по-немецки: «Поджигатель». Пять снимков сделал фашист, и все они потом попали в нашу печать, когда настигла палача русская пуля.
Виселица с мертвой девушкой долго, месяца полтора чернела средь села. На рождестве немцы перепились, высыпали на улицу, долго глумились над оледенелым, уже полуобнаженным телом, искололи его штыками, изрезали. Через несколько дней после этого офицер велел убрать тело: русские близко, наступают, зачем оставлять им такое свидетельство вины? Под охраной солдата тело оттащили к лесной опушке, зарыли наспех, даже не сняв веревки с девичьего горла.
Такой и увидели ее военный корреспондент «Правды» П. Лидов и фотограф С. Струнников, когда наши выбили немцев из Петрищева, узнали о свежей могиле и открыли ее. И появилась в «Правде» 27 января 42-го статья П. Лидова «Таня» и снимок мертвой девушки на снегу, с веревкой на шее и незабываемым лицом. В ту зиму не было оттепелей, лицо Зои не изменилось...
13 февраля вышла «Правда» с новой статьей Лидова «Кто была Таня?». Вот тогда-то весь мир и узнал, что фашисты замучили московскую школьницу Зою Космодемьянскую — друзья опознали ее по опубликованной фотографии.
Должен сказать, что для нас, людей, не раз встречавших и Лидова и Струнникова, двух боевых и самоотверженных летописцев нашего времени, память о них неразрывно связана с памятью о самой Зое, потому что от них мир впервые узнал о подвиге народной героини. Авторы же этих сообщений, корреспонденты «Правды» П. Лидов и С. Струнников погибли смертью храбрых на фронте Великой Отечественной войны...
16 февраля Верховный Совет присвоил Зое Космодемьянской посмертно звание Героя Советского Союза. В марте ее останки перевезли с почестями в Москву, на Ново-Девичье кладбище.
В дни Московского фестиваля молодежи, в 1957 году, на Минском шоссе открыли временный памятник советской героине. Сейчас он перенесен в петрищевский музей Зои Космодемьянской.
А спустя два года, в 1959-м, на месте первого памятника воздвигли новый, исполненный с подлинным вдохновением. Создали его скульптор О. Иконников, его помощник В. Федоров и архитектор А. Каминский.
Статуя Зои на Минском шоссе, у развилки дорог на Верею и Рузу, — одно из серьезных достижений советского изобразительного искусства. Конечно, потрясает душу сама трагическая гибель Зои. И авторы проникновенно выразили в бронзе подвиг юной защитницы России. Люди снимают шапки перед этой легкой, гордой и непокорной девичьей фигурой на высоком черном постаменте. Ваятель не только воплотил здесь конкретный образ Зои, достигнув замечательного портретного сходства, но и дал в этом образе общечеловеческий эталон благородного самоотречения, духовного героизма и неумирающей вечной женственности.
Никто не забыт
(Пискаревский некрополь в Ленинграде)
Пригородную деревушку Пискаревку знали перед войной разве что жители северной окраины Ленинграда. Было там небольшое кладбище, а рядом зеленело поле, поросшее чахлыми кустиками, где играли дети. По соседству дымили фабричные трубы, строились новые жилые дома, окраина постепенно превращалась в город. А с тех пор как началась блокада, дорогу на Пискаревку узнал почти весь Ленинград: именно там, на более спокойной северной стороне, хоронили погибших. Отвозили и на другие кладбища, но больше всего на Пискаревское. Экскаватор рыл траншею в грунте, рядком укладывали в траншее тела, присыпали землей, клали следующий ряд, опять присыпали...
Так погребено было на Пискаревском и остальных кладбищах только умерших от голода 632 253 человека. Это подсчитали после победы ленинградские статистики. Значит, почти нет во всем городе старожила, у которого не лежал бы близкий на Пискаревском кладбище...
Говорить о блокаде трудно. Великое горе не терпит лишних слов. Чем точнее и деловитее говорить, тем лучше тебя поймут, в особенности ленинградцы. Расскажу всего
два эпизода...
Меня послали с переднего края в город за воинским пополнением. Идти пришлось пешком от Дибунов. Был февраль 42-го. С ледовой трассы новые бойцы должны были прибыть в казармы на улице Карла Маркса.
В моем тощем рюкзаке, кроме собственного сухого пайка, лежали сухари и пачка концентрированной гороховой каши. Наш полковой начхим просил при возможности занести это его семье, на проспект Маклина.
Уладив дела в казармах, я пошел к семье товарища. Город я знал плохо, а спрашивать патрульных было неловко — в документе значились казармы, пришлось бы объяснять.
Путь казался бесконечным, да и пройденные уже тридцать два километра давали себя знать. Но замерзший, страдающий, грозный Ленинград потрясал все новыми и новыми величественными картинами своего небывалого бедствия.
Зияли открытые раны домов. Снегом припорошило рояль, книжная полка, наполовину сорванная, скривилась, книги рассыпались. Одну я поднял — она висела на проводе, оседлав его. Это был Шекспир, изданный Венгеровым. Я нес тяжелую книгу несколько кварталов и отдал мужчине, у которого под мышкой был обломок доски для печурки.
За весь день я не встретил ни одного ребенка. Женщина в черном меховом пальто спросила, не возьму ли я это пальто за кусок хлеба для больного мальчика. Я достал из кармана сухарь, она поцеловала его и заплакала.
Уж не помня себя от этих и многих других встреч, я миновал заснеженную площадь и увидел странный дом морской голубизны и фантастических очертаний. Потом я узнал, что это был оперный театр, замаскированный от воздушных налетов декорациями к «Садко».
Дальше я шел пустынной улицей Декабристов, и в дальнем ее конце освещал мне путь пожар, полыхавший, как потом оказалось, как раз на углу проспекта Маклина.
Когда я подошел к горящему зданию, возле него не было ни души. Дом в семь-восемь этажей, красиво облицованный, ярко горел, начиная с верхнего этажа. Пламя спускалось все ниже, а вокруг были снежные сугробы, как в сказке. На проспекте Маклина тропинка по-деревенски шла посреди улицы, и по этой тропинке я добрался до нужного мне дома. Там, на третьем этаже при свете спички нашел я номер квартиры.
Открыв дверь, за которой почудилось мне движение, я увидел отблеск того пожара, что освещал мне путь сюда. Отблеск огня свободно играл на полу и стенах большой комнаты, где не было не только окон, но и рам — их, видимо, вымахнуло взрывной волной.
На полу лежали тела. Начиная от стены — накрытые, со сложенными руками, ближе к середине — одетые, в разных позах, как застигал конец. И в простенке между окнами лежало на скамеечке из-под фикуса белое, как мрамор, тело мальчика лет десяти-двенадцати, будто прикорнувшего на этой скамье. Он, как спящий, держал руку под ледяной щекой.
Отступив от этого временного домашнего кладбища я все-таки нашел неподалеку от него теплившуюся жизнь. Несколько женщин — остаток населения двух больших домов — сгрудились в самой маленькой комнатушке, почти целиком занятой двумя постелями. В них и лежали живые — было их, помнится, восемь: взрослых и подростков.
Меня спросили: «Силы у вас есть?»
Оказалось, из-за аварии с водоснабжением остановился единственный хлебозавод, и люди несколько дней не получали даже обычной 125-граммовой нормы. Помню, я рубил на каком-то этаже письменный стол, носил воду из канала Грибоедова, топил железную печь. Ее труба выходила прямо в окно, заделанное ветошью и железками.
Семья моего фронтового товарища, как мне сообщили женщины, погибла вся. Кладбище в большой комнате возникло еще в декабре — нет сил вывозить, а подъехать к дому трудно. Скоро начнут расчистку улицы и будут эвакуировать умерших.
Все это говорилось ровным, бесстрастным, тихим голосом. Но страшнее всего было, когда эти люди увидели маленькую начхимову посылку, вынутую из рюкзака. Ни одна рука не протянулась первой, полуживые держали себя изумительно, но глаза!.. Мерцание в них погасло, только когда была съедена последняя пыльца от крошек. Потом тем же ровным, глухим, бесстрастным голосом меня напутствовали.
Уже в следующую ночь вместе со снайперами караулили в засаде, впереди полковой полосы предполья, и мы с начхимом. Была просто физическая потребность целиться и стрелять...
В апреле мне опять случилось сутки быть в городе. Давно тревожила меня судьба одной небольшой семьи, с которой накануне войны завязалась у меня переписка. Адрес я помнил смутно — набережная канала Грибоедова, кажется, 9. Мимоходом забежал проведать. И узнал, что семьи уже нет.
Сперва погиб отец. Мать держалась до января — февраля. Вышла по воду и не вернулась. В пустой квартире оставался восьмилетний мальчик. Двери обычно не запирали, а тут почему-то замок запал. И никто не знал, что там остался мальчик... Вскрыли квартиру уже перед самой весной. На пороге нашли стылое тело, пальцы мальчика были ободраны о железку замка. Невесомое тело положили в грузовик и отвезли на Пискаревку. В числе 632 253 других.
Город-герой Ленинград создал в честь погибших величавый и прекрасный гранитный реквием — памятник на Пискаревском кладбище. Его торжественно открыли в день 15-летия Великой Победы — 9 мая 1960 года.
В тот день ленинградцы совершили траурное шествие от одного монумента славы и скорби к другому: через весь город люди пронесли факел, зажженный от вечного огня, что пылает на Марсовом поле у могил героев 1917 года. Негасимый огонь вспыхнул от этого факела и на Пискаревском некрополе.
Семь лет спустя, 8 мая 1967 года, от факела, доставленного с Пискаревского некрополя, загорелся вечный огонь у стены Московского Кремля, перед могилой Неизвестного солдата.
Пискаревский некрополь очень велик, занимает около двадцати шести гектаров. Талант архитекторов (Е. А. Левинсона, А. В. Васильева) сочетался здесь с талантом скульпторов В. В. Исаевой, Р. К. Таурита, Б. Е. Каплян-ского, М. А. Ваймана, А. Л. Малахина, М. М. Харламовой.
У входа — два гранитных павильона. На фризах высечены выразительные и краткие надписи — сочинил их поэт Михаил Дудин. В обоих павильонах устроена выставка фотодокументов, напоминающих историю битвы за Ленинград и подвиг ленинградцев. Есть среди этих документов фотокопия секретной директивы фашистского командования от 22 сентября 1941 года. Второй параграф этой директивы (за № 1-а 1601/41) гласит:
«Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пункта... Предложено тесно блокировать город и путем обстрелов из артиллерии всех калибров и беспрерывного бомбардирования с воздуха сровнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты».
Нет, просьб о сдаче не было, даже «вследствие создавшегося в городе положения». Те, что ныне покрыты Пискаревскими плитами, легли непокоренными в свою землю и сами стали ею. На могилах есть серпы с молотами — это лежат горожане. Под пятиконечными звездами — воины.
Миновав павильоны и вечный огонь, спускаемся к бассейну с выложенным на дне мозаичным факелом, идем по гранитным плитам траурных аллей — вдоль братских могил. Памятные надписи коротки: 1942, 1943... Все остальное — имена, лица — в сердцах тех, кто сюда приходит. Но гранит Пискаревского некрополя не молчанием встречает пришельца, а торжественным гимном. Сам камень поет реквием, и люди внимают ему затаив дыхание.
И нельзя передать на бумаге то, чему предназначено звучать с гранитных плит. Эту надпись на Пискаревском граните, созданную участницей обороны Ольгой Берггольц, надо читать там, стоя с непокрытой головой, внимая камню и глядя на барельефы, высеченные на той же стене.
На высоком постаменте вознесена там статуя женщины с лицом скорбным и прекрасным. Это Родина-мать держит в руках гирлянду из листьев дуба и лавра, чтобы положить на могилы. Глядя на эту бронзовую статую, вспоминаешь всех героинь осажденного Ленинграда, ежедневно творивших свой подвиг. Одна из них, поэтесса Ольга Федоровна Берггольц, автор мужественных, всем нам памятных стихов, поддерживала ими в людских сердцах, даже в самые темные блокадные ночи, вечный священный огонь!..
III. Москва краснозвездная
Они были первыми
(Ленинский план монументальной пропаганды)
...Вы помните, что Кампанелла в своем «Солнечном городе» говорит о том, что на стенах его фантастического социалистического города нарисованы фрески, которые служат для молодежи наглядным уроком по естествознанию, истории, возбуждают гражданское чувство — словом, участвуют в деле образования, воспитания новых поколений. Мне кажется, что это далеко не наивно и с известным изменением могло бы быть усвоено и осуществлено теперь же. Я назвал бы то, о чем я думаю, монументальной пропагандой.
В. И. Ленин
Когда Советское правительство, во главе с Лениным, переехало из Петрограда в Москву, стоял еще на Красной площади верноподданнический монумент на том месте, где был убит великий князь Сергей Александрович. Первый комендант Кремля П. Мальков в своих воспоминаниях рассказывает, что сам Владимир Ильич участвовал в низвержении «этого безобразия». В том же бурном 1918 году началось осуществление ленинского плана монументальной пропаганды.
Старым москвичам памятно, как из скульптурных мастерских, из «мансард» художников понесли тогда на улицы и площади гипсовые статуи, глиняные бюсты, а то и просто геометрические фигуры — кубы, цилиндры, параллелепипеды. Их ставили в сквериках, на бульварах, перед фасадами зданий.
Глухие торцовые стены зданий живописцы покрывали цветными надписями — лозунгами, именами, изречениями. Например, в Садовниках, на стене складов, выходивших обратной стороной к реке, синей краской художники написали имена «всех революционеров в искусстве». Среди десятков имен я помню Шопена, Комиссаржевскую, Горького, Лермонтова, Родена, Метерлинка, Вагнера... Все это писалось вперемежку, громадными буквами, по выбору и усмотрению самих пишущих.
Тогда же вынесена была на Цветной бульвар скульптура Меркурова «Мысль», а на Красной площади некоторое время смущал обывателей коненковский Степан Разин, выполненный из дерева и ярко раскрашенный в манере народных искусников.
Владимир Ильич поставил перед советскими ваятелями задачу увековечить в скульптурных памятниках образы великих гуманистов, поборников свободы. 12 апреля 1918 года Совет Народных Комиссаров издал декрет «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической Революции».
Исключения были сделаны для таких монументов из царского наследия, которые представляли собой большую художественную ценность и принадлежали к числу культурных «богатств, которые выработало человечество» (Лени н). Они были взяты революционными властями под охрану и поныне оберегаются как важнейшее всенародное достояние.
Ленинский план монументальной пропаганды был горячо воспринят огромным большинством талантливой молодежи буквально во всех городах России. Разумеется, дело в те времена не могло обойтись без формалистических крайностей, уродливых явлений футуризма, кубизма, супрематизма и прочих изобразительных «измов».
Помню, однажды в городе Кинешме я оробело глядел, как на бульваре скульптор покрывает красной охрой некую безглазую глыбу. Когда же я отважился спросить, почему скульптура такая странная, художник отвечал категорически и безапелляционно:
— Мальчик, искусство должно пугать!
Ленин отзывался об экспериментах подобного рода резко отрицательно. Его отношение к таким произведениям убедительно и с большой исторической достоверностью раскрыто драматургом Погодиным в драме «Третья патетическая».
И конечно, не эти, быстро канувшие в реку забвения, опыты характеризуют главное направление работы советских мастеров, а большие искания новых форм для выражения новых явлений, новых ритмов, пластических образов, созвучных революции.
Только в 1918 — 1919 годах в Петрограде и Москве было открыто двадцать восемь памятников — Марксу, Герцену, Марату, Радищеву, Некрасову, Тарасу Шевченко... Эти скульптуры, выполненные главным образом из бетона или гипса, поэтому очень недолговечные, являлись как бы мемориальными вехами революции, художественными бакенами на ее стремительном фарватере.
Начата была и установка постоянных монументов. Первым памятником революции стал обелиск в Александровском саду, у кремлевской стены.
История его такова: до революции, в ознаменование 300-летия дома Романовых, архитектору С. И. Власьеву было поручено установить в Александровском саду торжественный памятник-обелиск, увенчанный царским двуглавым орлом и всевозможными регалиями. Имена всех монархов царствующей династии сверкали золотом на четырех гранях обелиска. Открыли его в 1913 году.
После Октября Владимир Ильич Ленин посоветовал не уничтожать дорогостоящее и нарядное сооружение, а лишь снять монархические атрибуты и превратить обелиск в монумент революции. По предложению Ленина Моссовет обратился к архитектору Н. А. Всеволожскому, и под его руководством памятник был реконструирован. Исчезли царские имена, гербы, военные доспехи. Резец скульптора высек на сером граните имена девятнадцати революционеров-мыслителей. Список их утвердил Ленин. Вот эти имена:
Маркс, Энгельс, Либкнехт, Лассаль, Бебель, Кампанелла, Мелье, Уинстлей, Т. Мор, Сен-Симон, А. Вальян, Фурье, Жорес, Прудон, Бакунин, Чернышевский, Лавров, Михайловский, Плеханов.
7 ноября 1918 года, в первую годовщину Советской власти, на месте снесенного памятника генералу Скобелеву против дома, служившего прежде резиденцией генерал-губернатору (ныне — здание Моссовета), был торжественно заложен второй памятник-обелиск, получивший потом известность под названием «Обелиска Свободы». Его эскиз создал архитектор Д. П. Осипов; женскую фигуру, символ свободы, изваял скульптор Н. А. Андреев. На трех гранях постамента укреплены были бронзовые доски с текстом Конституции РСФСР, а у подножия статуи устроили трибуну для ораторов. Эскиз памятника был одобрен Лениным.
Впоследствии с этим обелиском удачно сочетался строгий фасад здания Института марксизма-ленинизма, построенного С. Чернышевым в 1927 году. Однако обелиск был разобран в 1940 году, а на его месте поставили — в честь 800-летия Москвы — конный памятник Юрию Долгорукому по проекту С. М. Орлова, А. П. Антропова и Н. Л. Штамма.
Выразительный траурный монумент создан был в первые годы Советской власти в память о трагически погибших участниках совещания в Московском комитете партии.
Злодеяние совершено было террористами-эсерами 25 сентября 1919 года. Тайно подкравшись к зданию (в бывшем Леонтьевском переулке), они бросили в окно бомбу большой разрушительной силы. Собрание вел В. М. Загорский. Когда бомба влетела в зал, Загорский с поразительным самообладанием скомандовал «Спокойно!» и сам пошел к ней. Он поднял бомбу, чтобы выбросить в разбитое окно, но в тот же миг грянул взрыв.
Имена погибших высечены на большой мраморной доске, укрепленной на памятном монументе. Памятник увенчан красивой траурной урной; с нее каменными складками ниспадает покрывало. Дата сооружения — 1922 год, автор памятника — архитектор В. М. Маят. Ныне улица носит имя Станиславского, а в историческом здании, у которого установлен скорбный монумент, помещается представительство Украинской ССР.
Сохранились от самой первой поры советского монументального искусства памятники Герцену и Огареву перед старым зданием Московского университета (скульптор Н. А. Андреев, архитектор — брат его, В. А. Андреев). Оба памятника, выполненные из бетона и мраморной крошки, удачно сочетаются с фасадом университета.
В ноябре 1923 года у Никитских ворот был открыт памятник Тимирязеву работы С. Д. Меркурова. Несколько ранее, еще в 1918 году, на Цветном бульваре установили другую скульптурную фигуру, сработанную тем же ваятелем, — статую Ф. М. Достоевского. Меркуров работал над ней еще в предреволюционные годы, во времена поисков новых формальных приемов. В тридцатые годы этот интересный, хотя и грешивший некоторым схематизмом, памятник перенесли во двор бывшей Мариинской больницы на Божедомке (ныне — улица Достоевского), где в правом флигеле больничного здания жила семья врача Достоевского (там теперь находится музей Ф. М. Достоевского).
Меркуров изобразил его в арестантском халате, с опущенной головой и судорожно стиснутыми кистями рук: перед нами — Достоевский-петрашевец, осужденный на каторгу, Достоевский — автор «Записок из Мертвого дома»...
Это сохранившиеся скульптуры. Об остальных мы вспоминаем, глядя на старые фотографии времен гражданской войны или на уцелевшие макеты (например, макет памятника Лассалю в Ленинграде). Но даже эти фотографии и макеты воскрешают грозовой отблеск «древнего пламени», по выражению Данте.
...Однажды, на выставке раннего советского плаката в Третьяковской галерее, академик Игорь Грабарь сказал художнику Черемныху: «Как удивительно сохранили свою свежесть и силу эти первые цветы революционного искусства!»
Мне кажется, что в ранней советской скульптуре, рожденной в дни гражданской войны, тоже сохранились и свежесть и сила революционной романтики.
Горы Воробьевские...
Горы Ленинские....
(Панорама Москвы)
Сегодняшняя Москва... Город Доброй Надежды — многомиллионный, стремительно обновляющийся. Центр советской науки и промышленн ости. Главный город студенчества. Университет строителей. Театральная и музыкальная столица... Все это лишь разные стороны того единства, имя которому — Москва!
Из добрых традиций прошлого она сберегла характерные для нее радушие и гостеприимство. В дни всенародных праздников собирает она своих жителей и своих гостей в одну огромную дружную семью, стирает грани между профессиями и возрастами, водит всех по ярко иллюминованным улицам, веселит огненными фонтанами салютов и праздничной радиомузыкой. Хорошо тогда взглянуть на город с такого места, откуда он предстает в самом блистательном своем развороте — с высоты крутых приречных гор, названных именем Ленина. Много событий связано с
этим историческим местом.
В селе Воробьеве спасался от страшного московского пожара семнадцатилетний Иван Грозный. В 1591 году москвичи здесь обратили в бегство крымскую рать Казы-Гирея, а в 1612-м ополченцы Минина и Пожарского разбили войска гетмана Хоткевича. Император французов отсюда смотрел с тревогой на покинутый жителями город, на дома и церкви, превратившиеся в огненную могилу для наполеоновского плана войны 1812 года. Двое пылких юношей, Герцен и Огарев, дали здесь «ганнибалову клятву» посвятить себя борьбе за народную свободу.
В дни Октябрьских боев 1917 года на этих высотах стояли пушки, бившие по укреплениям юнкеров и офицеров. Потом, после победы революции, молодые рабочие заложили на Воробьевых горах свой «красный стадион», а в ближнем селе Потылихе была создана школьная коммуна. Неподалеку, на бывшем пустыре у Нескучного сада, открылась в 1923 году первая Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.
Со склонов Ленинских гор, еще не огражденных тогда балюстрадой, гости Москвы двадцатых и тридцатых годов нашего века глядели, как началось преображение города, как он пошел в наступление на извечных врагов Москвы прежней — скученность жилья, хаотичность и тесноту застройки, маловодье, грязь, убожество окраин, деревянное царство полунищеты.
Реконструкцию начали с малого — надстроили дома везде, где только позволяли фундаменты. Так стала повышаться в Москве этажность зданий. Как ростки нового, то тут, то там появлялись не только отдельные сооружения, такие, как Центральный телеграф, здание «Известий», дом Центросоюза, планетарий, рабочие клубы, но и целые шеренги новых жилых кварталов. По архитектуре они были предельно скромны, но сразу завоевали симпатии москвичей своей удобной планировкой. Самые первые появились на Усачевке, в 1925 — 1927 годах и очень походили на роты и взводы, взявшие штурмом головные рубежи, чтобы обеспечить наступление всей армии строителей.
После первой пятилетки строительство Москвы пошло быстрее, размашистее. На месте прежних искривленных улочек возникали современные магистрали; расширялись столичные площади; волжская вода пошла в Москву-реку по красивому каналу; новые мосты соединили берега реки; подземные дворцы метро встретили первых пассажиров, а 1 августа 1939 года в Останкине открылась вторая по счету Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, много богаче первой, деревянной. Вторая выставка — это целый город нарядных зданий, правда, разномасштабных и разностильных по архитектуре, но служащих и поныне для показа высших достижений в народном хозяйстве.
После войны, в 1947 году, Совет Министров утвердил план сооружения высотных зданий, и в очень короткий срок они выросли, совершенно преобразив силуэт города.
Тогда же принялись застраивать новыми, индустриальными методами район Песчаных улиц, осваивать пустыри дальних московских окраин и более всего — на Юго-Западе, в окрестностях Ленинских гор.
...Под нами, в Лужниках, на левом берегу Москвы-реки вознесена овальная чаша самого большого в стране стадиона — Центрального стадиона имени Ленина. Вокруг спортивных сооружений успел подняться хорошо ухоженный парк с газонами и .цветниками. Дальше, за ниточкой железнодорожного полотна Окружной дороги, по всему горизонту вздымаются уступчатые силуэты высотных зданий.
Своими очертаниями эти здания напоминают кремлевские башни. Их градостроительная роль особенно понятна отсюда, с возвышенной видовой площадки Ленинских гор. Высотные здания выделяют, поднимают опоясанный ими городской центр, как некогда главы и шатры Кремля выделяли и подчеркивали центр древней Москвы.
Глаз не сразу отыскивает среди новой застройки привычные «опоры»: прямо — златоглавый Кремль, слева — нарядный Ново-Девичий монастырь, справа — двухъярусный мост метрополитена. Когда ориентиры найдены, становится ясен и весь величественный замысел планировки новых проспектов, что устремлены от Юго-Запада прямо к центру города.
Главная планировочная ось — это воображаемая линия от университета к Кремлю. Чаша стадиона как раз и лежит на этой оси. Правый, или Восточный, проспект намечен мостом метрополитена. Мост соединяет проспект Вернадского на Юго-Западе с Комсомольским проспектом, в главных чертах уже проложенным к Крымской площади и Метростроевской улице (старой Остоженке).
В будущем еще один мост перекроет Москву-реку слева, к западу от планировочной оси, соединяя Мичуринский проспект с Большой Пироговской улицей.
Так осуществляется ленинский завет, данный московским строителям еще на заре реконструкции столицы. Не кто иной, как сам Владимир Ильич, поддержал идею переустройства города, доложенную ему академиком И. В. Жолтовским. Ленин одобрил предложение развивать жилищное строительство в юго-западном направлении и посоветовал архитекторам особенно позаботиться о создании для москвичей постоянных источников свежего, насыщенного кислородом воздуха.
Эти ленинские советы и легли в основу строительства новой Москвы, всего плана реконструкции столицы, застройки ее юго-западного района, самого здорового, сухого и высокого.
В наши дни строительство Москвы получило благодаря новой строительной индустрии размах, не идущий в сравнение с прошлым. Самый большой проспект новой Москвы, созданный из прежней захолустной Большой Калужской улицы и придорожных пустырей вдоль загородного шоссе, носит теперь имя Ленина. Здесь же, на Юго-Западе, над крутым спуском к Москве-реке, задумано поставить монументальную статую Ленина.
Проекты этого монумента обсуждались общественностью, они должны быть еще доработаны. Но основная идея памятника — не просто повторить в бронзе образ Ленина-вождя, а выразить идею братства народов, завещанную Лениным всем людям труда на Земле.
Дворец пионеров на Ленинских горах
В детстве мои сверстники часто мечтали побывать в настоящем дворце. Само слово «дворец» казалось заманчивым и чисто сказочным, потому что мальчик с пальчик или Золушка только по волшебству фей могли попасть на сияющий дворцовый паркет. Именно этот сияющий паркет особенно тревожил мое воображение, когда отец пересказывал мне сказки.
А юным московским гражданам шестидесятых годов слово «дворец» совсем не кажется сказочным. И не мудрено — у нас давно в ходу такие понятия, как Дворец культуры, Дворец спорта, Дворец труда. Есть в Москве и центральный Дворец пионеров. Приглашаю вас отправиться со мною в этот дворец, вместе открывать новую, незнакомую многим взрослым пионерскую страну на Ленинских горах столицы!
Романтична даже станция метро «Ленинские горы», ближайшая к Дворцу пионеров. Ее просторный перрон расположен внутри огромного арочного моста метрополитена. Верхний ярус моста врезан одним концом в высоты Ленин
ских гор, а другим, слегка понижаясь, вдается далеко в пределы Лужников. Наверху мчатся автомобили, а нижний застекленный ярус служит станцией метро. Придумано великолепно, со вкусом, с размахом и — душой!
Строители этого моста (главный инженер проекта В. Г. Андреев, архитектор К. Н. Яковлев) сделали красоту Москвы как бы составной частью сооружения. Выходишь из вагона метро, идешь по перрону, и по обе стороны сквозь стеклянные стены видна освещенная солнцем река, парк на берегу или, ночью, синее небо в звездах, огни Москвы и отсветы на черной воде. Шагаешь к выходу, и широкий коридор — белый, с голубовато-зелеными полосами и круглыми иллюминаторами — напоминает интерьер теплохода.
Потом вы идете уже по свежему воздуху, под защитой верхней эстакады. Здесь изумительное место для встреч! Кругом парковые деревья, над головой крыша от дождя, пахнет рекой... Она рядом, с пароходными гудками, блеском сигнальных огней.
Нам предстоит подняться на крутой склон коренного берега. Он здесь чуть-чуть сродни киевскому Печернему городу! Только ждет нас не фуникулер, а эскалатор — сооружение не столь заманчивое, как фуникулер, но с гораздо большей пропускной способностью. Для него тут построено отдельное помещение ступенчатой формы, тоже сплошь застекленное. Пока поднимаешься, сердце радуется зеленым крутым склонам гор или, зимой, заиндевелым старым вязам и липам.
Наверху переходим Воробьевское шоссе. Я это место хорошо помню. Шла здесь еще в 1930 году от села Воробьева к деревне Потылихе немощеная проселочная дорога. На той стороне проселка — на обратных склонах Воробьевых гор — простирались пустыри, рос кустарник, беспорядочно теснились невзрачные домики. Почва здесь глинистая, люди жаловались на бездорожье и чувствовали себя на этой городской окраине более заброшенными и неустроенными, чем жители дальних пригородов Москвы и дачных подмосковных поселков.
Потом продлили сюда Воробьевское шоссе, пустили — незадолго до войны — троллейбус, и началось наступление на пустыри и овраги. А в 1962 году возник на бывшем пустыре главный корпус Дворца пионеров.
С Воробьевского шоссе открывается панорама дворца, просторной Площади пионерских парадов с трибунами для зрителей, бетонной площадкой для пионерского костра и стальным обелиском-флагштоком против главного входа во дворец.
Сухой деловитостью внешних форм, строгой стереомет-ричностью, голыми плоскостями основных объемов Дворец пионеров издали напоминает индустриальные постройки. Но красивый флагшток в виде стройного обелиска, похожий на клинок стальной рапиры, служит здесь важной архитектурной вертикалью и вносит в композицию романтическую струю. Зрительно эта вертикаль как бы приподнимает главное здание, расположенное в низине.
Когда подходишь ближе, индустриальные ассоциации исчезают вовсе, но все-таки общий композиционный замысел постигаешь не сразу: в городской перспективе корпуса дворца сливаются с застройкой проспекта Вернадского, и трудно сразу зрительно выделить комплекс Дворца пионеров.
Принцип композиции таков: двухэтажная застекленная часть служит оригинальной соединительной галереей для четырех корпусов, в четыре этажа каждый. Все эти корпуса обращены к Площади парадов торцами, и на уровне примерно двух третей высоты они объединены галереей. Главный вход интересно декорирован стенным панно. Глухие торцы оживлены цветной керамикой. Прямые линии корпусов и стеклянной галереи сочетаются с купольными формами планетария и оранжереи. Все это разнообразит композицию, делает ее нескучной.
И приходят тут кое-какие педагогические соображения общего порядка, немаловажные в наше время индустриального, скоростного строительства городов.
Дело в том, что в нашем стандартном строительстве остаются как бы вне поля зрения архитектора специфические интересы жителя-подростка. Прошу понять меня правильно: разумеется, социалистический поселок или город обеспечивает поколение юных и дворовыми спортплощадками и (если говорить о малышах) каруселями, песочницами, горками для катания.
Все это в нашей стране разумеется само собой. Но для развития детского характера, творчества, фантазии потребно больше. А где двенадцатилетнему жителю стандартного микрорайона развивать эту самую фантазию?
Могут ли приглаженные дорожки, подстриженные газоны подсказать подростку, например, в новых Черемушках те интересные творческие игры, какие у нас сами собой получались невдалеке от Яузы-реки, там, где были дощатые заборы с дырами, стоял на ржавых рельсах старый паровоз, лезла трава из-под шпал или (верх мечты!) валялся на боку списанный еще в прошлом веке железный баркас?! Сколько тысяч миль пролетели ребята «с моего двора» на таком вот жюль-верновском транспорте, возбуждая острую зависть наших ровесников из куда более благоустроенных районов!
Разумеется, я не ратую здесь за устройство в новых дворах некой полосы предполья, которую смогли бы преодолевать лишь ребята школьного возраста! Но кому-то в архитектурных мастерских надо всерьез подумать о жителе-подростке, о его особенных интересах, о «его дворе».
Все это я веду к тому, что как раз во Дворце пионеров об этом подумали.
В этом дворце множество находок, сделанных людьми, понимающими психологию подростка. Дело не только в том, что здесь четыреста с лишним помещений общей площадью в 50 тысяч квадратных метров. Кстати, такой «метраж» позволяет заниматься практически 600 — 700 кружкам одновременно. Помнится, в переулке Стопани, в старом общемосковском Дворце пионеров, на открытии которого мне довелось присутствовать в середине тридцатых годов, едва хватало места для одновременной работы двух-трех десятков кружков.
Повторяю, дело не только в масштабах, но и в том поиске романтической струи, который ознаменован здесь, на Ленинских горах, явными успехами.
Входишь в вестибюль — и сразу попадаешь в тропический пояс Земли: тут под тремя стеклянными фонарями-куполами устроена оранжерея вокруг плоского бассейна, облицованного голубой смальтой. В воде красиво отражаются листья больших пальм, бамбук, диковинные тропические цветы...
За два часа я обошел только технические и научные лаборатории, киностудию, планетарий, замечательный концертный зал, слушал молодого пианиста, игравшего Сен-Санса, видел несколько десятков совсем юных Золушек в пачках и балетной обуви, заглянул в обширную библиотеку, просмотрел выставку юных художников и... не успел оглядеть даже половины помещений!
Авторы проекта Дворца пионеров — архитекторы В. Егерев, И. Покровский, Ф. Новиков, Б. Палуй, В. Кубасов, конструктор Ю. Ионов — интересно использовали химию пластмасс, сделали цветные пластиковые полы, стеклянные лестницы, применили для отделки алюминий и керамику. Весело-ироничны металлические знаки зодиака на черном фоне цилиндра в планетарии. Остроумно найдены «каннелюры» колонн — наклеенные жгутики пластика.
Есть и нарочно запутанные переходы, есть очень «мобильные» выставочные помещения, где удобно размещать любые экспонаты, от планеров до... коллекции жуков. Здесь на каждом шагу — неожиданности, в каждом корпусе — разная планировка, разная отделка помещений, нет скучной одинаковости.
Вот отсюда и получается обстановка этакой архитектурной феерии, где ребятам интересно, где не возникает желания что-то разрушить, испортить (а в «скучных» домах и дворах разрушительные наклонности превращаются в страсть!), а наоборот: хочется играть, заниматься искусством, науками...
В будущем здесь появятся еще спортивные сооружения, плавательный бассейн, лодочная станция и пляж на озере, а может быть, и маяк и даже морской корабль! Задуманы еще и сельскохозяйственные фермы для юннатов, целый опытный участок леса, кормовые кухни, свое рыбоводческое хозяйство, свой зоопарк. Будут, говорят проектанты, водопады. Будут искусственные горные склоны для разведения альпийской флоры — альпинарий, почти как в университете или Главном ботаническом саду.
Одного не хватает замечательному дворцу детей столицы: каких-то специфически московских черточек, национального архитектурного своеобразия. Этого пока еще здесь маловато! Здание с такой внешностью могло бы, пожалуй, стоять и в Токио или Сан-Франциско, на склонах Карпат или на берегу Дуная... Нет, нет, не «петушиный стиль» отделки нужен, не самовары и не тройки... А все-таки прививать детям любовь к сокровищам отечественной культуры, учить их любви к России, пониманию ее красоты, а значит, и нести сюда эту красоту в каких-то образцах — все это, конечно, большая и неотложная задача создателей московского Дворца пионеров.
Имени Ломоносова
(Новое здание Университета)
Всего несколько минут — одна остановка! — на троллейбусе, и от Дворца пионеров попадаешь к Московскому государе твенном у университету имени Ломоносова — здесь же, на Ленинских горах. Минуешь лыжный трамплин, и взору предстает самое крупное сооружение Москвы. Теперь уже нельзя представить себе силуэта столицы без нового университета. Если приближаться к Москве на теплоходе по каналу, белая, озаренная солнцем громада с шатровым завершением ясно видна над зеленью лугов и деревьев, хотя сам город еще и не показался на горизонте. Летчики и пассажиры самолетов видят университет порой километров за сто, если даль ясна.
Читаешь стихи разных поэтов о Ленинских горах и ловишь себя на мысли: почему же молчат они о главном, о таком великане? И сообразишь-то не сразу, что исполину всего полтора десятка лет: строительство начато было в 1949 году, закончено к 1953-му. Но так прочно вошел новый университет в наше, представление о Москве, будто веками высится на гребне приречных высот.
Из окна моей рабочей комнаты хорошо видны эти высоты. В ясные ночи все здание университета насквозь просвечивается изнутри тысячами лампочек, и за каждым таким светлячком угадываются склоненные молодые головы, шелест страниц, споры вполголоса... Увенчанный звездой шпиль и верхушки боковых башен усеяны красными огнями, и кажется, что это ударил из земли могучий фонтан разноцветных искр. Ударил, вымахнул к звездному небу и... окаменел на века.
Здание таких размеров — объем его более двух с половиной миллионов кубических метров! — могло бы «придавить» Москву. Но проектировщики так удачно его поставили, что оно не придавило, а напротив, возвысило, как бы приподняло и украсило город.
В отличие от только что виденного нами Дворца пионеров исполин-университет — типичный москвич. Он хорошо гармонирует с башнями Кремля и другими высотными ориентирами столицы. Древние идеи ступенчатого нарастания ритмов, композиция четырех башен вокруг основного, пятого, шатра здесь нашли современное воплощение.
Авторы этого Дворца науки доказали, что национальный колорит, народные мотивы вовсе не должны уводить зодчего обязательно в архаику, к устаревшим формам и приемам. Весь комплекс университета современен, в нем отчетливо выявлены приметы века — нынешнего, двадцатого, и вместе с тем ясно, что «прописан» он в Советском Союзе, в Москве.
И в цветовой его гамме, в спокойной, традиционной для Москвы белокаменной облицовке основных плоскостей и коричневатой полосе фризов, оттеняющей переходы от основных объемов к башням, ощущается знание русского зодчества, умение сделать вековые традиции сегодняшними, но по-прежнему близкими народной душе, как близка народной душе, например, музыка Сергея Прокофьева — современная по темам и формам, национальная по краскам и всему ладу.
Главный корпус университета возвышается над Москвой на 240 метров. В нем 32 этажа. Там, на высоте этих 32 этажей, смонтирован Государственный герб.
Выше идут цилиндрические объемы ступенчатой башни, расчлененные лопатками, — тоже удачное применение одного из древнейших приемов русского зодчества. В этой круглой части еще пять этажей, и самый верхний поясок ее прорезан круглыми оконцами — слухами.
Еще выше — 60-метровый шпиль, увенчанный звездой в венке из колосьев. Кстати, каждое «зернышко» в этом венке равно целому метру!
Двадцать семь основных корпусов, десять вспомогательных. Вместе со своими зелеными зонами комплекс университета имени Ломоносова занимает площадь в 320 гектаров — это средней руки город.
Цифры, какими любят щегольнуть экскурсоводы, действительно изумляют: 45 тысяч помещений... 35 километров коридоров... 33 читальных зала... почти 6 тысяч жилых комнат для студентов и аспирантов... Собственный Дворец культуры и спорта, свой лесопарк, свой ботанический сад...
В этом саду поражает огромный и красивый альпинарий — из гранитных, базальтовых и бетонных блоков созданы искусственные скалистые горы. Говорят, в эти горы ушло много противотанковых надолб и заграждений времен Великой Отечественной войны. Ныне там можно наблюдать за ростом всех разновидностей горной флоры Кавказа, Крыма, Средней Азии. Один только «зеленый пояс» университета занимает больше сотни гектаров.
Новички, впервые входящие в главный вестибюль, расположенный за северным входом в здание, теряются на «вокзале лифтов» — их в университете более трехсот. Есть лифты-экспрессы, есть тихоходы с «остановками по всем пунктам».
Там же, рядом с вестибюлем, находится торжественный Актовый зал, самый парадный в университете. Его мозаичный убор создан народным художником СССР Павлом Дмитриевичем Кориным.
Верхние этажи главного здания заняты научными музеями — землеведения, геологии, биологии. И там нужно привыкнуть, чтобы не тянуло от экспонатов... к окнам! Вид оттуда, из этих окон, такой, что легко отвлечься от самой интересной музейной экспозиции. Между тем здесь собраны — и отлично, изобретательно выставлены — природные сокровища Земли, напоминающие о ее геологическом прошлом, о вулканической деятельности.
Перед монументальным южным портиком главного корпуса воздвигнут на круглом пьедестале памятник создателю первого русского университета — Ломоносову. Автор памятника — народный художник СССР, скульптор Николай Васильевич Томский.
Целая галерея памятников-бюстов ведет к северному фасаду главного корпуса, вдоль водоема с фонтанами и аллеей из подстриженных кустов. Изображены здесь выпускники или преподаватели Московского университета, которыми он вправе гордиться. Это Герцен, Чернышевский, Лобачевский, Докучаев, Тимирязев, Н. Е. Жуковский, И. Павлов...
Проект университета разрабатывали академики архитектуры Л. Руднев и С. Чернышев, архитекторы П. Абросимов и А. Хряков, инженер-конструктор В. Насонов. Они возглавляли огромный коллектив проектировщиков.
Строители вложили в сооружение университета, что называется, всю душу. Они удачно решили много сложных производственных проблем, доказали техническую зрелость нашего жизнеутверждающего строительного искусства, обогатили опыт сооружения высотных зданий.
Вызывают возражение перегруженность здания скульптурными украшениями, эклектизм в выборе дорогостоящих декоративных элементов. И — обилие вспомогательных, недостаточно хорошо освещенных помещений. Но как раз в университете этот недостаток менее ощутим, чем в других высотных зданиях Москвы, так как «глухие» пространства использованы здесь под фундаментальные книгохранилища.
К тому же недостатки планировки и отделки здания несколько искупаются здесь грандиозностью общего решения, стройностью основных объемов, красотой и ритмичностью взнесенных башенных элементов. Все это не может не вызвать в учащейся молодежи чувства признательности за ту заботу, широту и щедрость, с какими столица возвела этот высотный Дворец науки — alma mater нашего студенчества.
Бронзы звон или гранита грань
Давно, еще в 1880 году, Москва поставила первый в России памятник во славу писателя — статую Пушкина, талантливо исполненную скульптором Опекушиным. Еще через двадцать девять лет появился превосходный андреевский монумент Гоголю. Оба памятника воздвигнуты были на народные пожертвования. О других литераторах москвичам зримо напоминали лишь могильные камни, которые ставились, как правило, на средства друзей и родных.
Деятели советской культуры, поддержанные Наркомпро-сом и Академией художеств, с первых лет революции стали готовиться к сооружению в Москве постоянных монументов в честь творцов великой русской литературы. Первым осуществленным проектом был памятник А. Н. Островскому. В 1928 году его поставили перед зданием Малого театра (скульптор Н. А. Андреев). В 1959 году воздвигли статую А. С. Грибоедову у Кировских ворот (скульптор А. А. Мануйлов). В 1964-м открыли памятник Тарасу Шевченко у гостиницы «Украина» (скульпторы М. А. Грицюк, Ю. Л. Синькевич, А. С. Фущенко, архитекторы А. А. Сица-рев, Ю. А. Чеканюк).
Известны также московские памятники Достоевскому, А. Н. Толстому, несколько скульптурных изображений Льва Толстого, Горького, Маяковского...
Не все эти памятники получили одинаковое народное признание. Мимо одних прохожие спешат, почти не оглядываясь, и задерживаются редко. Другие будто облучены незримо струящимся человеческим теплом, даже когда вечно спешащая московская толпа чуть ли не бегом обтекает памятник... Таким теплом, кстати говоря, всегда облучен опекушинский Пушкин.
Есть монументы, о которых не прекращаются споры, хотя целые годы прошли со дня их открытия и сами они обжиты, вошли в ансамбли улиц, площадей и скверов, стали привычными. Мне кажется, больше всего спорят у нас о таких выдающихся скульптурных произведениях, как памятники Горькому, Маяковскому и Лермонтову. Об этих работах советских ваятелей и хочется потолковать в заключительной главе «Образов России».
Сначала о важнейших общих принципах монументальной городской скульптуры.
Требования к городскому памятнику высоки и сложны. Если он предназначен для того, чтобы, по выражению Игоря Северянина, «центрить» на площади, то все архитектурные элементы, составляющие ансамбль площади, должны быть собраны, сгруппированы вокруг памятника. Задача его в этом случае как бы командовать площадью, зрительно организовывать ее. Силуэту памятника надлежит быть при этом красивым и выразительным с любой точки площади, в любом освещении, в любое время суток. Фигура и постамент, соразмерные друг другу, должны быть строго пропорциональны окружающим зданиям. Найти эти пропорции — одна из труднейших задач ваятеля, ибо тут главный помощник — вкус и глазомер. Надо, помимо всего этого, добиться предельного обобщения деталей, одежды, аксессуаров, иначе взгляд раздробится, и впечатления слитности, единства не получится.
Это все лишь самые общие, чисто градостроительные задачи монументальной скульптуры. И даже на них нет у скульпторов одинаковых воззрений.
Так, ваятель высокой культуры, автор памятника Грибоедову А. А. Мануйлов вообще считает центральное положение статуи на площади невыгодным. По его мнению, нельзя сделать одинаково выигрышными фасад и тыл скульптуры. Мануйлов рекомендует помещать статую ближе к зданию, чтобы пространство между тыльной ее стороной и стеной-фоном было минимальным.
Надо сказать, что поставленная Мануйловым на фоне бульварной зелени статуя Грибоедова действительно лучше всего смотрится со стороны открытой площади и вестибюля метро «Кировская» — здесь скульптор смог убедительно подкрепить практически свои суждения насчет позиции памятника на площади.
Еще больше споров вызывают задачи частные, связанные уже непосредственно с трактовкой самого образа, его идейной и психологической характеристикой. Каким представить народу великого писателя — Лермонтова, Горького, Маяковского?
Может, в минуту творческой сосредоточенности за столом? Или во время выступления перед слушателями? Известно, как мастерски умел Маяковский работать с аудиторией. А может, лучше показать писателя в окружении соратников и друзей? Или среди природы, «созвучной» поэту? Для Лермонтова это может быть деталь горного пейзажа, для Горького — некий символ «седой равнины моря».
Итак, памятник Горькому...
Молодой Горький принес в литературу «Песнь о Буревестнике», а в конце этого огромного творческого пути мир узнал Горького-публициста, драматурга, наставника («прозаики сели пред вами на парте б»). Какого же Горького надлежало показать в скульптуре — юного или зрелого?
Лучшими скульптурными воплощениями Горького оказались две как бы дополняющие друг друга работы: юношески-романтический образ молодого Горького — «Буревестник» — на родине писателя, в Горьком, и строгий монумент на площади Белорусского вокзала в Москве. Первый образ создала В. И. Мухина (1889 — 1953), второй — результат долгих творческих поисков Ивана Шадра (1887 — 1941), завершенных и воплощенных в бронзе той же Мухиной.
Памятник в Горьком установлен на просторной площади, завершает перспективу главной улицы, виден от самого кремля. Юная фигура в развевающемся плаще стала как бы художественным символом города.
И в Москве, перед фасадом Института мировой литературы на улице Воровского, установлена та же фигура Горького, но в меньшем масштабе: это первый вариант мухинской скульптуры.
Вере Игнатьевне Мухиной выпала нелегкая задача завершить и главный памятник Горькому в Москве. Над про-430
ектом этого монумента много лет трудился выдающийся мастер советской скульптуры Иван Дмитриевич Шадр.
Он родился в семье плотника-сибиряка вблизи города Шадринска и по названию родного города избрал себе псевдоним (настоящая фамилия его — Иванов). Широко известны его «Рабочий», «Крестьянка», «Сеятель» — эти бюсты воспроизведены даже на наших почтовых марках. Мраморная статуя «Сезонник» (1929), временно установленная на Лермонтовском сквере, изображает каменотеса, присевшего на гранитной глыбе, чтобы примериться, как сподручнее взяться за обработку неподатливого камня. Мировую славу получила скульптура Шадра «Булыжник — оружие пролетариата» (1927). Именно ее намечено взять за основу будущего монумента в честь героев 1905 года на Красной Пресне.
Ваятель близко знал Горького, давно работал над скульптурным воплощением его облика. Вот что рассказывал он сам:
«...Я представляю Горького таким, каким знали его в последние годы... Спокойная, ясная... фигура Великого Мудреца. Он слегка опирается на трость, как будто шел и остановился на мгновение, вопрошающе и с радостной уверенностью смотрит вдаль, в будущее. Зрелые годы гения, прожившего огромную жизнь, отдавшего все свои силы, весь свой талант народу, людям, которых только он так умел любить. В этом старце угадываешь внутренний огонь, способность зажечь сердца миллионов. Великое богатство мыслей и чувств в этом человеке, но нет в нем ни усталости, ни равнодушия. Голова Горького: сжатые губы, грубовато и резко вылепленные скулы, глубокие морщины. Лицо много страдавшего и сумевшего подняться над страданиями человека. Лицо мыслителя и борца».
Ивану Дмитриевичу Шадру не суждено было увидеть воплощение этого замысла в бронзе: смерть скульптора в 1941 году оборвала работу над монументом. И закончила эту работу Вера Игнатьевна Мухина, народный художник СССР, член Академии художеств и автор многих вещей, ставших классическими в нашем искусстве, в том числе знаменитой металлической статуи «Рабочий и колхозница», ныне украшающей Северный вход на ВДНХ.
В. И. Мухина работала над памятником Горькому вместе со скульпторами Н. Г. Зеленской и 3. Г. Ивановой, в содружестве с архитектором 3. М. Розенфельдом. Местом установки избрали площадь перед Белорусским вокзалом — там 28 мая 1928 года москвичи приветствовали Горького, приехавшего из-за границы. Открыли памятник в 1951 году.
Он возвышается среди красивого сквера. И хотя монумент сравнительно невелик — десять с половиной метров, — он удачно «держит» площадь. Зеленое окружение подчеркивает, усиливает центральную роль памятника.
Знатоки по достоинству оценили эту статую, но все же поза Горького на памятнике многим кажется слишком скованной, далекой от порывистой страстности молодого «Буревестника». Пожалуй, у мухинской статуи больше приверженцев, чем у скульптуры Шадра.
Надо ясно представлять себе живого Горького, чтобы в полной мере охватить и портретное сходство шадровской статуи, и глубину идеи этого монумента. Выражение лица Горького здесь не только верно схвачено и точно воспроизведено, но именно в этих характерных чертах большого писателя, человека, «прожившего огромную жизнь, отдавшего все свои силы, весь свой талант народу», и заключена идейная сила этого произведения, сосредоточен его патетический накал.
Есть нечто общее в трактовке Горького у Ивана Шадра и в известном портрете работы Павла Корина. И в статуе и в картине отразилась большая любовь авторов к Горькому, писателю и человеку.
В чуть сутуловатой фигуре писателя на памятнике сохраняется что-то и от юношеского изящества Горького — он по-прежнему высок и легок, по-молодому пытлив, полон жадного любопытства ко всему новому, растущему. Таким он и глядит с постамента вдаль, в будущее.
По времени Лермонтов от нас гораздо дальше Горького, но творчески он всегда с нами, всегда наш, пафос полуторастолетнего расстояния стал не отдаляющим экраном, а как бы увеличительным стеклом, через которое нам даже лучше, чем современникам Лермонтова, видны глубина его трагедии, масштаб его личности.
Может, поэтому мы умеем сильнее и больнее любить его, чем любили его люди «страны рабов, страны господ». И размеры утраты, понесенной Россией, мы тоже видим яснее: труды исследователей, анализ планов и набросков позволяют нам судить об этом с горькой объективностью. Смерть Лермонтова, как и смерть Пушкина, до сих пор не зажившая наша сердечная рана, всякое прикосновение к ней болезненно.
Это особенно ощущаешь в родных местах поэта, в заповеднике и у ранней лермонтовской могилы в его родных Тарханах, где и сегодня
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями...
Сейчас там, кстати сказать, многое делается, чтобы возродить эти заветные места во всей их красе, так полно отраженной в самых задушевных лермонтовских строчках.
Там, в доме бабушки поэта Е. А. Арсеньевой, собраны многие интересные изображения Лермонтова, портреты и скульптурные бюсты, в частности работы Голубкиной и Коненкова. Несмотря на художественную неравноценность всего этого портретного изобилия, все же синтезируется у нас некий собирательный образ, пусть не до конца явный, подчас мучительно ускользающий и зыбкий, но, может быть, поэтому живой и правдивый. Мне кажется, что именно этот образ, в большем или меньшем приближении, уловил и передал молодой московский скульптор И. Д. Бродский одержавший вместе с архитектором Н. Н. Миловидовым победу на конкурсе проектов памятника Лермонтову.
Поставлен памятник у бывших Красных ворот, где в маленьком барском домике родился в 1814 году Михаил Юрьевич Лермонтов.
Теперь на месте домика стоит высотное здание МПС, напротив, через сквер — прежнее здание того же ведомства. Крошечный скверик с памятником Лермонтову оказался между этими многоэтажными громадами как бы «в глубокой теснине Дарьяла», и, чтобы довершить аналогию, сквер и памятник всегда омыты бушующим Тереком привокзального транспорта.
Место как будто не очень приспособленное для лирических раздумий бронзового поэта, но москвичи уже начинают привыкать здесь и к этой фигуре со сложенными за спиной руками и чуть склоненным лицом, и к прорезному, красивому барельефу из бронзы, воплотившему образы «Мцыри», «Паруса» и «Демона».
Постепенно мы присматриваемся к монументу все доброжелательней, и любовь наша к Лермонтову исподволь переходит уже и на скульптуру. Это ощущаешь и во взглядах прохожих, и в сочувственном словце, брошенном невзначай, а то и в реальном пучке незабудок либо подснежников, пролетевшем к постаменту.
Часто возникают споры. Обычно более пожилые участники такой дискуссии противопоставляют этот памятник пушкинскому. Дескать, тот отовсюду хорош, откуда ни погляди, а этот — в иных поворотах вроде бы и нравится, в других — что-то не то... Притом вид слишком скромен, блеску воинского нет, а ведь изображен как-никак гвардейский поручик!
— Он не на смотру, — возражают более молодые участники спора, — он, может, вышел один на дорогу, посмотреть и послушать, как звезда с звездою говорит... Задумчивый он, лирический, это-то и хорошо! Это как раз сближает его с памятником Пушкину.
— Ну, хорошо, пусть он не на смотру, — вмешивается кто-то третий. — Но где же образ поэтического трибуна, поэта-пророка? Почему скульптор не показал нам автора «Смерти поэта», самых пламенных и гневных стихов в нашей поэзии?
— Нет, нет и нет! — горячатся защитники памятника. — «Патетика» была бы здесь ходульной и лживой! Печаль Лермонтова темна и горька, пророческий стих отточен, как стальной клинок, но и сумрачен, тяжел. Он угрюм, он не понят и отвержен теми, кому бросал он в лицо горькую правду, в чьих очах читал страницы злобы и порока... И при всем этом он же молод, ему — двадцать шесть, он творил и жил на каких-то сверхскоростях, ведомых только гениям. Потому так страшно рано, по словам поэта Владимира Корнилова,
засыпает утомленный Лермонтов,
как мальчик,
не убрав со лба волос...
Что ж, с этим мнением можно согласиться, принять его. Лермонтов изображен здесь как символ поэтического мужества, а вместе с тем и нашей любви к обреченному поэту. Образ Лермонтова, его характер выражены верно, лишены холодности, и это самое главное! Памятник постепенно входит в душевный обиход и москвичей и гостей столицы...
Недавно я сидел у подножия, рассматривая узорный барельеф и прислушался к беседе двух старшеклассниц. Они не «обсуждали» памятник, принимая его уже как данность. Но одна достала тетрадку и прочла стихи. Это были знакомые лермонтовские стихи, но каким же скорбным пророчеством могли они прозвучать для современников Лермонтова и как удивительно верно пришлись они своего рода эпиграфом лермонтовскому монументу:
...Он был рожден для них, для тех надежд,
Поэзии и счастья... но, безумный —
Из детских рано вырвался одежд
И сердце бросил в море жизни шумной.
И свет не пощадил — и бог не спас!..
Не нова мысль, что поэтический бунт, стоивший жизни Лермонтову, его железный стих, облитый горечью и злостью, глубоко сродни творчеству непримиримейшего революционера в современной поэзии — Владимира Маяковского. Роднит их одинаковое понимание общественной роли поэта, «чей стих, как божий дух, носился над толпой, и, отзыв мыслей благородных, звучал, как колокол на башне вечевой, во дни торжеств и бед народных». Это строки Лермонтова.
А у Маяковского:
Стихи стоят
свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
и к бессмертной славе.
Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных
зияющих заглавий...
Так перекликаются через столетие два великих русских лирика, два поэтических трибуна, кому «стоять почти что рядом» и в веках и на двух площадях Садового кольца — Лермонтовской и Маяковской.
Многих из нас, видевших живого Маяковского, слышавших его, знавших его рабочую обстановку (рабочей обстановкой бывала для него и любая массовая аудитория — Маяковский не «выступал» перед людьми, он в поте лица работал с ними), очень смущала мысль о скульптурном памятнике поэту.
Сам он относился к этой мысли едко иронически.
«Заложил бы динамиту — ну-ка, дрызнь!» — насмешливо грозит он будущему своему памятнику, «полагающемуся по чину».
Да и сама задача убедительно передать облик Маяковского в скульптуре казалась чересчур трудной: слишком монументален, огромен среди окружающих, именно скульптурен был поэт в жизни. А можно ли ставить памятник скульптуре? Например, Медному всаднику?..
Но памятник на площади Маяковского возник. На конкурсе проектов работа скульптора Кибальникова оказалась лучшей — это мнение жюри разделяют и те, кто лично знал Маяковского.
Молодежь полюбила этот памятник — здесь, в традиционный День поэзии, вся площадь гудит от стихов. Цветы всегда лежат у гранитного постамента, к памятнику идет из толпы человеческое тепло.
Работа скульптора Кибальникова над монументом Маяковскому была длительна. Волжанин родом, Александр Павлович Кибальников получил известность, когда победил своих соперников по конкурсу на памятник Чернышевскому в Саратове. В 1953 году в этом городе, близ дома, где родился и прожил свои последние годы Чернышевский, был воздвигнут хороший памятник ему по проекту Кибальникова. Скульптору был тогда сорок один год.
Примерно в то же время он начинал и работу над фигурой Маяковского. Первый вариант не удовлетворил ни жюри, ни самого ваятеля. Он продолжал работать, углубляясь в стихи, проникая во внутренний мир поэта.
Как же понял Кибальников Маяковского? Какие черты его личности и его поэзии он счел главными?
Воля и мужество. Единство и цельность восприятия мира, событий современности и событий прошлого. Органическая слитность с жизнью. Страстная устремленность в будущее. Непримиримая ненависть ко всем, кто мешает строить. Абсолютная преданность делу коммунизма, — «потому что нет мне без него любви»...
В 1955 году расширенное специальное жюри одобрило эскизный проект, представленный Кибальниковым. Ему поручили лепить модель для перевода в металл.
Прошло еще года три. Несколько уточнений, последние штрихи, и вот в 1958 году памятник, который теперь уже привычен нам, торжественно открыт. Он стал с тех пор одним из притягательных полюсов новой Москвы. «Как живой с живыми говоря», шагает Маяковский на своем возвышении.
Кстати, проект постамента вызвал немалые затруднения. Полированный нарядный камень не отвечал характеру памятника, и скульптор остановил свой выбор на гранитном блоке, обработанном лишь в лицевой плоскости. Остальная часть оставлена в «диком» виде, чтобы усилить впечатление стихийной мощи. Постамент низковат, бронзовая фигура лишь немного поднята над головами людей, приближена к ним, но это вызывает ощущение некоторой диспропорции между постаментом и фигурой.
Хорошо решена голова. Общий очерк этой чуть повернутой вбок головы характерен для живого Маяковского. Динамический разворот сильных плеч (в другой плоскости, чем линия ног) придает фигуре большую жизненность: она не «стоит», она движется, вырастает и даже будто приподнимается. Сжатая в кулак правая рука опущена, вытянута вдоль тела — такой жест был присущ поэту в минуты чтения. Левая рука, отогнув полу пиджака, держит записную книжку — жест тоже характерный. Может быть, это тот самый блокнот, о котором Маяковский сказал: «Хорошая записная книжка и умение обращаться с нею важнее умения писать без ошибок подохшими размерами...»
А поза поэта? Он смотрит вокруг, узнавая и не узнавая свою «страну Москву», ради которой он без сожаления покидал любые прекраснейшие города мира. Можно даже представить себе, что пришел бронзовый поэт на свою площадь в День поэзии, чтобы и самому почитать новые стихи... Или же просто шел в раздумье, махая рукой в такт рождающемуся ритму, поймал, наконец, этот ритм, остановился, обрадованный, и готов записать две-три строчки. А попалось бы под ноги ему, шагающему, что-нибудь мелкое, чужое, враждебное — видно по энергичному жесту, что несдобровать противнику. Перед взглядом врага поэт может стать и заносчивым, и грубым, и резким.
Обобщенность художественного решения, когда мы имеем дело с монументальной скульптурой, позволяет зрителям по-разному истолковывать воплощенный скульптором образ.
Сама площадь связана с творчеством Маяковского-драматурга. Здесь (в здании, переоборудованном потом под концертный зал филармонии) находился театр, руководимый режиссером В. Э. Мейерхольдом, другом поэта, первым постановщиком его пьес — «Клопа» и «Бани».
...С недавних пор площадка у памятника Маяковскому сделалась пешеходной — автомобили идут подземным тоннелем и уже не обтекают памятник. Теперь удобно подойти к нему, вглядеться в черты Маяковского, постоять перед ним. И часто здесь, в исполнении молодых чтецов,
из зева
до звезд
взвивается слово
золоторожденной кометой!
Как близка эта метафора Маяковского нашим дням космической эры! И будто впрямь по исполнившемуся волшебству — взвился возле станции метро «ВДНХ» сверкающий титановый шлейф нашей рукотворной кометы, монумента в честь советских космических кораблей и пилотов, взлетевших к звездам первыми в мире, вослед пророческому, золоторожденному слову поэта!
Раскрыта последняя страница...
С книгой сживаешься, как с человеком, — расставанье нелегко.
Следовать дорогой русского искусства — все равно что идти берегом Волги, открывать, по выражению Брюсова, «за снежной ширью — снежную ширь», за красотой — красоту. То эта красота горделивая, то скромная и неброская, то чуть грустная, всегда берущая за сердце. Идешь и выбираешь: где приглядеться пристальнее, постоять в раздумье, полюбоваться подольше. Эта необходимость выбрать немногое из тысяч замечательных памятников — самая главная, самая большая трудность, какую испытал автор.
Но есть в многочисленных, многообразных памятниках нашей культуры то общее, что позволило объединить их в рамках одной книги.
Произведения большого искусства, будь это статуи, здания или фрески, всегда отмечены силой духа своих создателей. Она помогала им зримо воплощать в каждой вещи не только единичный образ, но и частицу всенародной судьбы.
Это, думается, и дало автору право назвать книгу «Образы России».
_____________________
Распознавание текста — БК-МТГК.
|