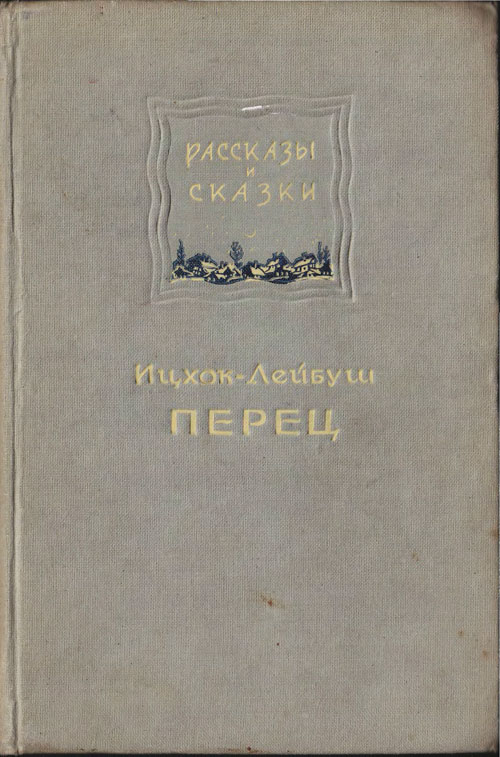|
Ицхок-Лейбуш Перец — великий классик еврейской литературы.
Исключительно яркая личность, крупный писатель-мыслитель, активный общественный деятель, Перец оказал огромное влияние на развитие еврейской литературы и всей еврейской культуры дооктябрьского периода.
Перец родился 25 мая 1851 года в городе Замостъе, Люблинской губернии. Он получил традиционное религиозное воспитание, но обучался также русскому, польскому и немецкому языкам. В юношеские годы, наравне с талмудом и средневековой еврейской философией, он без посторонней помощи - изучал западноевропейскую литературу и новейшую философию. Особенно сильное впечатление на него произвели немецкие писателя Генрих Гейне и Людвиг Берне. Влияние Гейне сказалось на его лирике, а Берне — на его публицистике. Одновременно Перец увлекался русской и польской литературами и проникся революционными народническими, демократическими настроениями.
Бунтарь по натуре, с пламенным темпераментом, Перец не мог ужиться в косной еврейской торгашеской среде, с её устарелым бытовым укладом. Его первые произведения написаны на польском языке, но напечатаны они не были. Отдавая дань еврейскому просветительству («Гаскала»), борьбе с пережитками еврейского средневековья, он начал писать на гебраистском (древнееврейском) языке.
Но уже в первых своих произведениях Перец резко критиковал просветителей за то, что они видели в мелких реформах панацею от всех бед для обездоленных и тёмных масс еврейского народа. Он высмеивал просветительскую литературу за её напыщенность и пустозвонную витиеватость. В поэме «Современные мотивы» (на гебраистском языке) он выступил горячим поборникам живого еврейского языка, языка народа, в со всей страстностью отразил нападки Шовинистической и ассимиляторской интеллигенция, считавшей еврейский язык «жаргоном», «презренным наречием служанок». Убедившись, что гебраистский .язык недоступен массам, Перец, хотя и продолжал писать на нём, всё же отдавал предпочтение еврейскому языку. Он посвятил себя целиком созданию еврейской народной литературы и обрёл бессмертие, наравне с Менделе Мойхер-Сфоримом и Шодом-Алейхемом, как величайший мастер еврейского художественного слова.
Несколько лет Перец занимался в своём родном городке адвокатурой в качестве «частного поверенного», уделяя при этом много времени литературному творчеству и общественной деятельности. Он читал для местной интеллигенции лекции по еврейской и всеобщей истории, по естествознанию, организовал курсы грамоты для рабочих. По доносу мракобесов курсы для рабочих были запрещены. По подозрению в «крамоле» Перец выл лишён права заниматься адвокатурой. К этому времени относятся его слова:
«С талмудистами и буржуазией нечего делать, нечеш возлагать на них надежды. Рабочая масса — вот поле для деятельности. Это несчастный, но способный народ Здесь много идеализма. Нужно массу просвещать, говорить с ней на её родном языке, будить её мысль. Материал обильный, но не обработанный. Поэтому я и пишу по-еврейски. Я создам еврейскую литературу. Буду говорить и писать для народа на его языке»
В 1888 году в сборнике «Еврейская библиотека», издаваемом Шо-лом-Алейхемом, была напечатана первая большая поэма-баллада Переца на еврейском языке — «Мониш», которая привлекла всеобщее внимание новизной содержания и формы. В этой поэме своеобразно переплетается реалистический элемент с романтическим, в ней ярко показано, как еврейский юноша преодолевает синагогально-религвоз-ное мироощущение и приобщается к реальной земной жизни.
В 1889 году Перец переселился в Варшаву. Там ему вскоре представилась возможность участвовать в статистической экспедиции по изучению экономического положения евреев в разорённых и нищенствующих местечках. Результатом этой поездки явились замечательные «Очерки путешествия по провинции», в которых Перец показал себя тонким бытописателем-гуманистом.
Чтобы не быть материально зависимым от литературной работы, Перец служил в Варшавской еврейской общине, вначале счетоводом, а потом секретарём, так до конца своей жизни.
В Польше, где Перец прожил всю свою жизнь, развитие капитализма, в силу близости к Западной Европе, шло более быстрым темпом, чем в других частях бывшей Российской империи, например, на Украине, где сформировались как писатели Менделе Мойхер-Сфорим и Шолом-Алейхем.
Натиск капитализма на еврейское гетто не отпугнул и не привёл в уныние Переца. Поняв неизбежность этого натиска, Перец в своих произведениях отображал отрицательные и положительные стороны влияния капиталистического развития на старый еврейский быт.
Для Переца еврейский мир не является, по его выражению, «миром в себе». Подчёркивая всю национальную специфику еврейского быта, Перец показывает в своём творчестве, что законы общественного развития видоизменяют внешне и внутренне жизнь еврейского народа так же, как т жизнь других народов. В своей первой публицистической статье на еврейском языке («Просвещение») Перец заявил:
«Ни один язык сам по себе не священен, не хорош и не плох. Язык лишь средство, чтобы один понимал другого, чтобы люди просвещённые влияли ка непросвещённых. Язык только форма, содержанием должна быть идея». Он яазывает «фанатичным шовинизмом» возвышение одного языка над другим, разделение наций на «избранные» и «простые».
Во второй статье «Чего мы хотим?» Перец писал:
«Мы не хотам выпускать из рук общечеловеческое знамя и не хотим сеять ни шовинистическую дикую полынь, ни фанатический терновник тунеядной философии. Мы хотим, чтобы еврей чувствовал себя человеком, чтобы он участвовал во всем человеческом, чтобы он жил по-человечески, имел человеческие стремления и, будучи обижен, чувствовал бы себя обиженным как человек».
Перец заглядывал в будущее, и оно рисовалось ему «домной, в которой все металлы растворятся, и тогда наступит золотой век, не невежественный век первобытного рая, о котором мечтал Руссо, но золотое время, предсказанное пророком Исайей: когда один народ не поднимет меча против другого». Перец надеялся, как он писал в статье «Чего мы хотим?», что «будущее станет общечеловеческим амбаром, в который поступит вся пшеница, вся рожь, амбаром, который будет кормить всех равным образом, кормить каждого, не спрашивая, кто был его дед, и не обращая внимания, какого цвета у него кожа».
Эти мысли Перец высказывал в конце восьмидесятых и в начале девяностых годов прошлого столетия.
Перец преклонялся перед «неистовым Виссарионом» — Белинским, был полой и сам смелых дерзаний. Он громил обывательщину, которая мирится со всякой пошлостью и подлостью, мечтает о тёпленьком местечке, дающем возможность жить припеваючи, в своё удовольствие.
Прибегая часто, из-за цензурных условий, к иносказаниям и многоточиям, Перец в своём фельетоне «Чего мне хотеть?» писал:
«Мира, покоя боюсь я. Боюсь смертельно тишины
Мир царит среди воров, когда они готовятся к своему «делу». Они мирятся с тёмной ночью и ,не зажигают спички. Они мирятся с каждым облаком, которое закрывает луну
Тихо и спокойно на кладбище. Черви безмолвно вгрызаются в тела мертвецов. Тихо, незаметно покрывается мхом старый надгробный памятник, тихо врастает в землю.
Тишина — это ночь и смерть
Покой, мир Это тёплый дом, мягкое кресло, просторные домашние туфли, шёлковый ночной колпак Чтобы добиться всего этого, нельзя ходить прямым путём Сначала: обязан ли я говорить правду?.. Потом: что мешает ради мира и покоя сказать ложь? Одну, другую невозмутимо, скромно. Люди это так любят, бедные, несчастные люди!.. И так падают всё ниже и ииже, до того, что пожимают окровавленную руку, целуют самый порочный рот и заклю чают союз с наихудшим бандитом
О, нет! Мир, покой — это ужасная вещь!»
Таким образом Перец внёс в еврейскую литературу общечеловеческие мотивы, радикальные идеи и веяния. В условиях старого, распадающегося еврейского быта, на фоне воинствующего мракобесия верхов и нарастающего сопротивления низов, в узких национальных рамках Перец ставим интернациональные вопросы.
Перец неустанно искал новые изобразительные формы. Отсюда разнообразие его жанров — от реалистического рассказа и публицистического очерка до лирического стихотворения; от романтических рассказов и народных сказаний до эпических поам и импрессионистски-символических драм.
В первый период своего творчества Перец был тесно связан с еврейским революционным рабочим движением. Его сборники «Праздничные листки» служили делу революционной агитации и пропаганды среди еврейских трудящихся масс. Против «Праздничных листков» ополчились с бешеной яростью клерикалы и гебраисты как против ереси, сбивающей еврейскую молодёжь с пути истины. Еврей-
ское духовенство призывало к сожжению «Праздничных листков» иа костре и преданию Переца анафеме.
Произведения Переца тош времени дышали революционным протестом.
Аллегорическая сказка «Благочестивый кот», которая явилась едкой сатирой не только на царское самодержавие, но и на капиталистическое общество, вызвала восхищение рабочих. Его стихотворение «Три швеи», некоторые строфы из поэмы «За шитьём чужого подвенечного платья» стали популярными песнями еврейских рабочих. Заключительную часть этой поэмы — легенду о двух братьях, где аллегорически показана жестокость эксплоатации человека человеком в капиталистическом обществе, до сих пор любят и перечиты-нают еврейские революционные рабочие в буржуазных странах. Переложенная на музыку, в виде оратории, покойным талантливым ев-рейско-америкаяоким композитором, коммунистом Яковом Шейфером, эта легенда не сходит с программ рабочих концертов в США и в других странах.
И библейские мотивы Переца, как, например, стихи «Из Иезекии-ля», бичующие рабство и восхваляющие свободу, и колыбельный напев матери Моисея, Иехевод, мечтающей, чтобы её сыи стал освободителем еврейского народа из-под" ига египетского фараона, воспринимались еврейскими рабочими как песни, призывающие к борьбе за лучшую жизнь.
Огромным успехом пользовались у еврейских рабочих социально заострённые реалистические рассказы Переца («Посыльный», «Утром», «Семейное счастье», «Пост», «Смерть музыканта» и многие другие). В этих рассказах мастерски показана жизнь людей, «лежащих на дне», ик душевная чистота и мудрый скептицизм, стремление! вырваться из оков вшцеты и невежества, затаённое бунтарство. К реалистическим произведениям должна быть отнесена -и поэма «Возница». Просто, но рельефно, в монологе героя, человека из народа, развёртывается картина разрушения наступающим капитализмом старых хозяйственных отношений; железная дорога, лишив еврейские местечки старых источников дохода, тем самым взорвала и старый быт.
Особое внимание Перец уделял безотрадной доле и подчинённому положению еврейской женщины в патриархальной семье. В ряде ярких новелл («Мать», «Гнев женщины», «Мендл — муж Брайны», «Свёрток писем», «Как я вышла замуж» и др.), проникнутых тонким сарказмом, Перец заклеймил консерватизм семейных отношений в еврейском быту. Он показал пробуждение в забитой еврейской женщине чувства человеческого достоинства и своеобразного протеста против «божьих» порядков на земле..
В галлерее женских типов Переца большое место занимает молодое поколение. Трагична участь этого поколения: оно растёт без света и воздуха. Молодые девушки чахнут от непосильного труда в мастерской. или иа фабрике. Если у них красивые личики, — им грозит опасность стать жертвами прихоти богатеев (рассказы «Утром», «Радость родителей», «Сёстры» и др.).
Показывая тернистый путь молодых еврейских тружениц, Перец намечает и выход. Осознав своё человеческое достоинство, еврейские работницы, в лице модисток из поэмы «За шитьём чужого подвенечного платья», начинают понимать причины своей несчастной жизни. Они вступают на путь решительной борьбы, — как одна из сестёр в рассказе «Радость родителей», — за что подвергаются тюремному заключению и ссылке в далёкую Сибирь.
Бурю негодования вызвал у еврейских буржуазных заправил всех толков антиклерикальный рассказ «Штраймл». В этом рассказе в лице шапочника-портного Берла-Колбасы выведен тип безбожника, чело века из народа, умного, жизнерадостного, врождённого оптимиста, несмотря на давящую его нищету. Честный и гордый труженик, наблюдатель-рационалист, он возмущается фальшью, продажностью и ничтожеством представителей религиозного культа. Его бесхитростные разоблачения попадают в самую точку. Правда, Берл ещё не осознаёт своей классовой силы, но в потенции он борец за другие общественные порядки, за другие человеческие нравы. Недаром этот рассказ был встречен еврейскими рабочими с энтузиазмом.
Такой же приём имело сатирическое антирелигиозное стихотворение «Ночные сторожа», на мотив «Иезуитов» немецкого поэта А. Шампссо.
При всей своей любви к рабочему люду Перец обрушивается на тех тружеников, которым недостаёт чувства собственного достоинства. Он жалеет их, но относится с глубокой иронией к их рабской покорности, к крайней ограниченности их стремлений. Вывод напрашивается сам собой: так не может быть, так не должно быть. Этот мотив, навеянный рассказом «Сон Макара» Владимира Короленко, ярко запечатлён в рассказе Переца «Бонче-молчальник», притом не в духе примиренчества, как у Короленко, а в бунтарском, в духе возмущения.
Реалистические рассказы Переца сыграли большую роль в революционизировании еврейского мелкого люда, именно своей социальной заострённостью.
Такую же роль сыграли и аллегорические сказки Переца («Стекляшка», «Многоликий», «В болоте», «Времена Мессии», «Вечный мир в стране Гдето» и другие) своей острой критикой капи-
талистичеекого строя. Открыто н царской России писатель не мог рыстущать со своей критикой, он это делал замаскированно, но массы его прекрасно понимали.
Насколько Перец был связан с еврейским революционным рабочим движением, показывает его повесть «Любовь ткача», наппсад-ндя в 1897 году. Эта повесть является как бы художественной иллюстрацией к известной в своё время брошюре Ш. Дик-штейна «Кто чем живёт», в которой весьма популярно изложено экономическое учение Карла Маркса. По цензурным условиям повесть не могла быть напечатана в царской России. Перец поместил её под псевдонимом в американской еврейской социалистической прессе; оттуда она контрабандой проникла в Россию и произвела огромное впечатление на рабочих.. Такое странствование проделали и другие его произведения агитационного порядка, в частности его едкая стихотворная сатира на царское самодержавие «Что ,в земном, то и в небесном царстве».
Перец служил еврейским революционным рабочим не только пером. Он выступал с докладами и лекциями, с чтением своих произведений и речами на нелегальных собраниях и сходках. В 1899 году на одном собрании, организованном род предлогом помолвки, когда Перец читал и комментировал перед восторженной рабочей аудиторией свою сказку «Благочестивый кот» и рассказ «Бонче-молчаль-нак», он был арестован. Перец просидел тогда несколько месяцев в Варшавской крепости, в знаменитом «Десятом павильоне», где в суровом одиночном заключении были заточены самые опасные политические преступники. Из крепости Перец вышел ещё более революционно закалённым.
Весной 1901 года был отпразднован двойной юбилей Переца: двадцатипятилетие его литературной деятельности и пятидесятилетие со дня рождения. Юбилей вылился в грандиозную демонстрацию любви широких еврейских народных масс к Перецу не только в России, но и за границей. Юбиляру было поднесено, как подарок, первое полное собрание его сочинений в одном большом томе. В осуществлении этого издания принимали активное участие еврейские рабочие своими- денежными взносами.
В годы лютой реакции, после поражения революции 1905 года, в публицистике Переца зазвучали упадочнические нотки. Еврейские погромы, которыми царское самодержавие ответило на революционные выступления рабочих и крестьян, вызвали у Переца и националистические настроения. Это дало повод противникам Переца из шовинистического лагеря, главным образом из лагеря сионизма, к которому он относился отрицательно и даже враждебно, как к реакционному движению, объявить писателя «кающимся». Стали распространяться слухи, что Перец отказался от своих социалистических воззрений и стучится в «священные врата» синагоги, возвращается в «лоно Израиля».
Перец возмущался этими слухами. Он неоднократно подчёркивал, что его симпатии к рабочему движению и социализму остаются неизменными. Он продолжал читать лекции для рабочих, принимал деятельное участие в создании еврейского рабочего университета. На вопросы рабочих, чем объяснить его колебания по отношению к. революции, выраженные в некоторых его фельетонах, в особенности в фельетоне «Моя надежда и мой страк», Перец ответил:
«Это мимолётные настроения, повальный недуг, влияние окружающего хныканья, отрыжка интеллигентской расхлябанности. Бывают такие слабости у нашего брата. Но вы, друзья мои, не обращайте на это внимания. Пройдёт, как всякая эпидемия. Судите меня не по моим случайным капризным фельетонам под влиянием момента, а по моему художественному творчеству. Вот где моё «я», вот где всё моё существо»
Действительно, Перец боролся сам с собой; он старался преодолеть в себе упадочнические и националистические настроения. Мощный призыв Максима Горького к жизни и борьбе помог Переду взять себя в руки и вернуться к здоровому оптимизму.
Появление Горького в русской литературе Перец приветствовал как величайшее явление мировой литературы. Он был весьма польщён, когда в русской либеральной прессе его назвали «еврейским Горьким». Собиравшимся у него по пятницам молодым еврейским писателям Перец неоднократно перечитывал произведения Горького. «Вот у кого нужно учиться писать, любить жизнь и борьбу», — говорил он.
Помнится, как на одном нелегальном собрании в Варшаве, устроенном в частной женской школе, Перец свой доклад о революционных мотивах в русской литературе закончил мастерским чтением «Песни о буревестнике» Горького. «Песню о буревестнике» в своём переводе на еврейский язык он много раз читал и комментировал на нелегальных рабочих собраниях. Когда пьеса Горького «На дне» была поставлена в 1906 году в Варшавском еврейском театре, Перец в восторженной статье дал глубокий анализ её.
Гениальное произведение Горького «Мать» произвело на Переца огромнейшее впечатление. На лекции для рабочих о Горьком он говорил, что при чтении этого произведения ему стыдно стало за свои мрачные, упадочнические настроения:
В одном из сборников, издававшихся еврейским новеллистом и поэтом Авраамом Рейзеном, Перец опубликовал в то время статью «Материализм и идеализм». В этой статье он подчеркнул, что его произведения проникнуты социалистическим духом.
«Только тогда, когда мир будет свободен экономически и духовно, — писал он, — человек не встанет против человека, народ против народа. К этому ведут все коммуникационные реформы, съезды, конгрессы, обмен национальными культурными ценностями посредством переводов, также всеобщее стремление к осуществлению международного языка, а главное, международная классовая борьба» (курсив Переца).
Таким образом, Перец считал классовую борьбу главной силой, которая двигает человечество вперёд.
Своё отношение к отщепенцам революции, которые затосковали по уюту и покою. Перец выразил в стихотворении в прозе «Письмо», переведённом им самим на еврейский язык с гебраистского оригинала и напечатанном в сборнике для рабочих «Новое время». В этом стихотворении Перец издевается иад теми, которые «слышат в жизни только шопот трав и пение соловья, которые видят вокруг себя только розы».
Несчастны те «счастливцы», которые «не замечают калек, голых детей нищеты, протягивающих руку за грошом, чтобы поддерживать жизнь, заплатить за ночлег не замечают «борьбы корней под землёй».
«Тюрьма не для этих «счастливцев», о, нет, они в тюрьму никогда не попадут, ибо «нюхать розы не грех, слышать соловьиное пение — не преступление». Этим «счастливцам» нечего завидовать: «они видят светлый день, но не видят бурь». Это живые мертвецы.
Все эти мысли Перец высказывал в те годы, когда большая часть еврейской интеллигенции прониклась религиозно-мистическими настроениями и бывшие революционеры устремились к личному благополучию под девизом арцыбашевокого «Санина»: «Лови момент и наслаждайся».
Позже, в 1912 году, Перец в одном «з своих фельетонов писал:
«Я стоял, стою и буду стоять до последнего вздоха в первых рядах борцов за радикально-передовую мысль».
Переца волновали многочисленные радикальные философские проблемы. Он всё чаще начинает прибегать к романтике и символике, тем более, что в условиях царской цензуры в завуалированной форме легче трактовать такие проблемы. На фоне романтики и символики Перец пытается выразить передовые идеи о роли личности р массы в развитии общества.
Перец всё время стремится создать -образ цельной, свободной личности, стоящей выше народной массы, но черпающей все силы из массы и слитой с ней. Для этого он обращается к историческому прошлому и к старинному фольклору. Но прошлое ничуть не является для Переца идеалом. Сквозь призму прошлого он пытается изобразить действительность, какой она должна быть, и будущее, каким оно станет. В этом отношении у Переца много общего с Горьким, который также прибегал к романтике и символике в трактовке проблемы личности и народности. Вероятнее всего, что и тут сказалось влияние Горького.
Зная, откуда его герои приходят, Перец, подобно Горькому, знал, и куда они идут. Его положительные типы имеют корни в прошлом, но тянутся к будущему. Настоящее для него — мост между прошлым и будущим. Перец подчёркивает, что истинный национальный писатель тот, который в своём творчестве воплощает цельно и монолитно прошлое, настоящее и будущее своего народа.
Некоторые горе-критики, подвизавшиеся в еврейской советской литературе, пытаясь скрыть свой национал-оппортунизм и показаться правоверными марксистами, объявляли Переца реакционером.
Эти псевдомарксиеты мотивировали свои толкования так: Перец был романтиком н символистам, а так как романтика и символика независимо от содержания являются реакционными течениями, то, следовательно, Перец — реакционер, тем более, что его образы .имеют религиозную окраску.
Такую «оценку» Переца нельзя назвать иначе, как фальсификацией, как поклёпом на самого прогрессивного еврейского классика
Рпсуя старый езрейскяй быт, Перец, понятно, не ;мог обойти религиозной окраски этого быта. Вопрос лишь в том, какие мысли и идеи проводит Перец в его романтике и символике под религиозным орнаментом исторического прошлого и старинного фольклора.
Перец в первый период своего творчества относился весьма отрп-
цательно к религиозно-сектантскому движению среди евреев, известному под названием «хасидизм» (буквально «учение благочестия», от слова «хасид» — благочестивый). Впоследствии, углубившись в проблемы еврейской истории, Перец использовал имевшийся в хасидизме элемент народности и народного оптимизма.
В лирической пьесе «Золотая цепь» (из хасидского быта) показана в символических образах борьба между существующим и желанным. Трагедия семьи цадика Шлейме — это трагедия дерзновенных личностей в их устремлении в условиях старого быта к возвышенно-прекрасному.
В рассказе «Меж двух гор» противник хасидизма, сухой «мис-нагид», брестский раввин, прекращает свои гонения на бяльского цадика, когда он видит, что сила цадика состоит не в каких-то чудесах, а в единении с народом.
В рассказе «Если не выше ещё» пемировский рабби покоряет литовского маснагида своим служением шизам. Чтобы остаться неузнанным, рабби одевается в «мужицкую» одежду и выдаёт себя за дровосека. Именно в земной деятельности для блага других личность поднимается, по фигуральному выражению Переца, «ещё выше небес»
Всякая отреченность от земной жизни и деятельности приводит лишь к вырождению личности. Этот мотив заложен в эскизе «Кабба-ласты». Старик рабби Иекл и его молодой ученик Лемех — жертвы крайней нищеты и закоснелости. Вышибленные за борт жизни, они не в состоянии даже задуматься над причинами своей обездоленности. «От отсутствия пищи — отсутствие сна, а от бессонных ночей и голодных дней у них страсть к каббале». Они ищут оправдания своему бессмысленному существованию в отречении от всего земного во имя бестелесного и находят это оправдание в упоении религиозно-мистической бредью. «Каббалисты» пробуждают к себе сострадание, а их незатейливая казуистика вызывает ироническую улыбку.
Перец ни в воем случае не стал апологетом хасидизма как определённой религиозной системы, тем более хасидской мистики. Он лишь использовал начало народности, имевшееся в хасидизме, как канву для своих художественных замыслов. И в этих своих произ ведениях он ~проводил гуманистические идеи, идеи свободолюбия.
К хасидизму, выродившемуся в чисто религиозный дурман, Перец не переменил своего враждебного отношения. Ярким доказательством этому служит следующий факт: уже после того, как он опубликовал том своих хасидских рассказов, Перец написал резкую аитихасид-скую драму «Испытание». В этой драме он разоблачает хасидизм с особенной беспощадностью; показывает полнейшую его деградацию. Вывод: новое поколение отказывается, отворачивается от хасидизма с омерзением. Хасидский двор рисуется в этой драме гнездом интриг в преступных тайн. Первый цадик, рабби Исроэл, изображён деспотом, извергом. Сноха его — жена престолонаследника рабби Мойше — тёмная интриганка. Этой драмой Перец дал отповедь тем, которые всячески старались зачислить его в апологеты хасидизма.
В символической драме «На покаянной цепи», перекликающейся с первой поэмой Переца «Мониш», речь идёт уже не о процессе преодоления еврейским юношей синагогально-релириозного мироощущения и приобщения к реальной и земной жизни. Грешник, главный герой драмы, уже прозревшая личность, которая восстаёт против пережитков феодально-религиозного средневековья. Поэтому-то и держат его прикованным на цепи в притворе синагоги.
«Народные сказания» Переца являются как бы продолжением хасидских рассказов. В этих сказаниях, на том же фоне исторического прошлого, на канве старинного фольклора, показаны благородство и глубокая мудрость народа, преимущественно народных низов как первоисточник, из которого личность черпает свои творческие силы.
Несмотря на крайнюю нищету, на всяческие суеверия и предрассудки, порождённые угнетением и религией, в народных низах бьёт ключом здравый смысл, берёт верх рассудок над предрассудком, живёт необыкновенный оптимизм.
Вследствие забитости и отсталости угнетённые народные низы не в состоянии полностью осознать, но инстинктом они чувствуют, что богатства единиц созданы «потом и кровью» миллионов. Отсюда их неприязнь, переходящая часто в ненависть к сильным мира сего. Отсюда их постоянное стремление жить и работать по-честному, без обмана и хитростей. Они любят свой труд и не соблазняются лёгкой наживой («Семь лет изобилия»).
Придавленные ярмом жизни, эти незаметные люди, при всей их покорности, таят в глубине души протест не только против сильных мира сего, во и против своего доброго и милосердного бога за то, что он не. заступается за них. Они доходят до «стачек» против восседающего на небе («Берл-портной») и переносят свой «бунт» на землю (Мейше-портной в рассказе «Не засудили»).
Народные низы никогда не падают духом. Шутки, прибаутки, жизнерадостный смех скрашивают безотрадный быт бедных тружеников («Проклятие»), Они жаждут радости и счастья. Действительность им этого не даёт, поэтому многие из них грезят о блаженной «грешной» земиой жизни во сие («Нехорошо»), даже дерзают, вопреки религиозным запретам и ограничениям, обнаружить наяву стремление к земному счастью, выразить вслух недовольство своим безрадостным существованием («Не засудили»),
Перед не создаёт, однако, фетиша, не возводит в добродетель народные суеверия и предрассудки; наоборот, он тонко и мягко высмеивает легковерие бедного, угнетённого «простолюдина».
В хасидских рассказах и в «Народных сказаниях» бурный, беспокойный, вечно ищущий Перец достигает эпического спокойствия. В этих произведениях наиболее рельефно выступают особенности изобразительных средств писателя: стиль сжатый, динамичный, то заострённый, как бритва, то тихо ласкающий, как шелест листвы. Фраза лаконична, без нагромождения эпитетов. Композиция стройна и цельна, глубоко продумана, без лишних деталей и отличается строгой архитектоникой.
Характерно, что у Переца преобладают положительные типы над отрицательными. При этом положительные типы всегда люди из народа, большей частью труженики. Выводя же отрицательные типы, Перец вместе с тем вскрывает трагичность быта, порождающего их. В пьесе «Ночью на старом рынке» он показывает, что этот быт обречён на гибель.
В эгой пьесе, написанной под некоторым влиянием мистической поэмы «Свадьба» польского писателя Станислава Выспянского, старый мир изображён в виде мертвецов, выходящих из могил. Проходят шеренгой представители всех классов и слоёв со всеми их стремлениями и чаяниями, радостями и страданиями. Но в общем хоре мертвецов, полном скорби, отчаяния, разноголосицы, звучат диссонансом слова рабочих — калеки, слепого, повешенного и обезглавленного, — погибших на этом свете в тяжёлой борьбе за существование или в боях за свободу.
Замечательна здесь сцена встречи казнённого со своим палачом, солдатом, который его расстрелял. Солдат оправдывает свои действия тем, что он был тогда тёмным, несознательным, когда же он прозрел, его самого расстреляли. Оба уходят обнявшись. Теперь они братья, боровшиеся и погибшие за одно и то же дело. Все рабочие тёмной ночью на старом рынке среди развалин возвещают приход нового человека — героя, наступающего на бога и мир, на тюрьмы и цепи.
Перец питает глубокое отвращение к старому быту, который обесценивает и обесцвечивает личность. Этот быт представляется ему «Болотом», кишащим червями, или «Мёртвым городом», где люди ие умирают, так как они никогда и ие жили. Но и в старом быту писатель находит живые ростки нового. Это искатели новых путей,
смелые в свойх помыслах и гордые в сознании своей правоты. Их не понимают, их считают безумными, держат даже «Во флигеле для сумасшедших». Но они не сдаются.
В аллегории «Времена Мессии» провидец, которого все считают сумасшедшим, говорит о пришествии Мессии. Образ Мессии и здесь лишь символ борьбы за освобождение человечества. Говорит провидец языком пророка:
«Спаситель мира должен притти. Он придёт! Все ждут его, даже небо и земля чают его пришествия
Раньше произойдут кровавые войны из-за лжемессив. Люди будут душить друг друга, как дикие звери. Вся земля насытится кровью. Кровавые реки потекут с востока на запад « с юга на север. Звери и птицы будут утолять свою жажду человеческой кровью. Все пути и дороги, все поля и луга будут залиты потоками человеческой крови Не будет рати вокруг него, и не на коне он предстанет, и меча не будет в руке его.
Крылья будут у него. И все тогда обретут крылья. Вот как это случится: вдруг родится дитя с крыльями, за ним другое, третье, и так дальше и дальше. Сначала люди испугаются крылатых детей, потом привыкнут, и встанет поколение крылатых людей, которое не пожелает больше валяться в грязи и драться из-за земляного червя».
Так писал Перец больше сорока лет назад. Смело и гордо шёл он своей славной дорогой великого художника-мыслителя, неразрывно связанного с еврейскими народными массами. И он стал любимцем этих масс.
Первая мировая империалистическая война застала Переца в расцвете таланта, но она потрясла его своими ужасами, усилившимися нечеловеческими преследованиями евреев в царской России. Тогда в его публицистике прозвучали ноты отчаяния. Гнетущее впечатление произвело на него предательство II Интернационала. Но и в этот период Перец остался верен себе. Насколько это было возможно в царских условиях, он выступал против поджигателей войны. Перец тогда посвятил себя помощи еврейским жертвам войны. Он был инициатором создания школ для детей беженцев-евреев.
В это время Перец стал писать детские стихи. Удивительно тонко вшясает Перец в детскую душу, перевоплощается в ребёнка и говорит с ребятами на их языке обо всём, что их волнует. Он будит в них любовь к труду, к природе, внедряет чувство достоинства, ненавйсть к угнетению и стремление к свободе. Детские сти»и Переда могут быть отнесены к лучшим страницам не только еврейской детской литературы.
3 апреля 1915 года Перец умер от разрыва сердца в Варшаве, за работой у своего письменного стала. Смерть великого писателя вызвала глубочайшую скорбь в еврейских народных массах во всех странах. Похороны его превратились в грандиозную манифестацию. Несмотря на все препятствия полиции и выпады польских хулиганов, в похоронах принимало участие около ста тысяч человек.
После смерти Переца еврейская буржуазия всячески пыталась и пытается присвоить себе великого писателя, но это ей не удалось и не удастся. Перец ничего общего не имел с еврейской буржуазией: он её презирал. Он всю свою жизнь боролся, работал и писал для еврейских народных масс.
Из недр народной жизни он вынес несокрушимую веру в лучшие идеалы человечества, создавал образы цельных личностей, воплощающих в себе качества смелых новаторов и борцов. Поэтому еврейские народные массы, в особенности революционные рабочие, свято чтут память Переца и высоко ценят его богатое наследие.
Ещё при жизни Переца многие его произведения были переведены на русский и другие язык» и оценены по достоивству. У нас в СССР Перец хорошо знаком еврейским массам, но, к сожалению, мало знаком другим народам. Перец заслуживает того, чтобы его творчество стало достоянием нашей великой многонациональной социалистической литературы, предметом внимательного изучения.
Шахно Эпштейн
I
БОНЧЕ-МОЛЧАЛЬНИК
Здесь, на этом свете, смерть Бонче-молчальшка прошла совершенно незамеченной. Попробуйте спросить, знал ли здесь кто-нибудь, кто такой Бойче, как он жил, отчего он умер: от разрыва ли сердца, от истощения, или, может быть, у него позвоночник переломился от непомерной ноши... Кто его знает? А может быть, ои и вовсе с голоду умер.
Если бы пала одна из лошадей, везущих конку, это скорее привлекло бы внимание. Об этом было бы написано в газетах, сотни людей сбежались бы с разных улиц, чтобы посмотреть на несчастное животное и даже на то место, где произошла катастрофа.
Но и лошадь в конке не удостоилась бы, конечно, такого внимания, если бы на земле было столько лошадей, сколько людей, — тысячи миллионов!..
Тихо прожил Бояче свой век, тихо и умер. Как тень, прошёл он по миру, по нашему миру.
При обряде обрезания Бойче не звенели рюмки, не пили вина; при бар-мицво он не произнёс блестящей речи... Он был, как незаметная песчинка на морском берегу, среди миллионов себе подобных. Когда же ветер поднял эту песчинку в воздух и перенёс на другой берег, никто этого и не заметил.
След от его ноги не оставался при жизни даже на размокшей земле, после смерти же ветер сбросил и маленькую дощечку, поставленную на его могиле. Жена могильщика нашла эту дощечку и сожгла её, — сварила горшок картошки... Прошло всего три дня, а могильщику уже ни за что не вспомнить, где похоронен Бонче. .2* 19
Будь у Бонче надгробный памятник, какой-нибудь археолог, возможно через сотню лет, нашёл бы его, и имя «Бонче-молчальник» ещё раз прозвучало бы в этом мире.
Но Бонче прошёл здесь, как тень. Образ его не запечатлелся ни в уме, ни в сердце ни у одного человека. Никакой памяти о нём не сохранилось.
«Ни кола, ни двора», — — одиноким жил, одиноким и помер.
Если бы не людская суета, кто-нибудь, пожалуй, и услыхал бы иной раз, как трещит позвоночник Бонче под тяжёлой ношей. Если бы у людей было больше времени, кто-нибудь, может быть, и заметил бы, что у Бонче (тоже человек!) уже при жизни были потухшие глаза и страшно впалые щёки; заметил бы, что, и не навьюченный ношей, он ходит, наклонив голову, как будто ещё при жизни высматривает себе могилу. Если бы людей было так же мало, как лошадей, везущих конку, кто-нибудь, может быть, и спросил бы: «А куда это делся Бонче?»
Когда Бонче увезли в больницу, угол, занимаемый им раньше в подвале, не остался незанятым: его уже ждали человек десять таких же, как Бонче, и разыграли угол между собою по жребию. Перенесли Бойче с больничной койки в мертвецкую, — и оказалось, что койки уже дожидаются десятка два больных бедняков. Когда его вынесли из мертвецкой, туда внесли двадцать убитых, отрытых из-под обвалившегося дома. А кто знает, сколько времени он будет спокойно лежать в могиле, сколько человек уже ждёт этого клочка земли?
Тихо родился, тихо жил, тихо умер и ещё более тихо похоронен.
Не то было на том свете. Там смерть Бонче произвела огромное впечатление!
Большой рог «времён Мессии» затрубил на все семь небес: «Умер Бонче!»
Величайшие архангелы с самыми широкими крыльями перелетали с места на место и сообщали друг другу: «Бонче призван на заседание небесного судилища!» А в раю — радость, ликование, тревога: «Бонче-молчальник! Шутка сказать — Бонче-молчальник!..»
Юные ангелочки с брильянтовыми глазками, золотыми тонкими крылышками и в серебряных башмачках с востор-
том полетели навстречу Бонче. Шум крыльев, стук башмачков и весёлый смех, срывавшийся с молодых, свежих, розовых губок, наполнили небеса, донеслись до престола Предвечного, и сам Предвечный уже знал, что это идёт Бонче-молчальник.
Праотец Авраам стал у врат небесных, протянул руку, чтобы встретить гостя радушным «Мир вам», и мягкая, светлая улыбка разлилась по его старческому лицу.
Что за грохот идёт по небу?
То два ангела катят в рай золотое кресло на колёсиках для Бонче.
Что это засверкало?
То пронесли золотой венец, украшенный драгоценными камнями, — всё для Бонче.
— Как, ещё до приговора небесного судилища? — изумлённо и не без некоторой зависти спрашивали праведники.
— — Вот ещё! — отвечали ангелы. — Это ведь будут простые формальности! Против Бонче даже у небесного фискала язык не повернётся. «Дело» продолжится не более пяти минут.
Шутка сказать — Бонче-молчальник!..
Когда ангелочки подхватили Бонче в воздухе и спели в честь его гимн, а праотец Авраам потряс ему руку как старому приятелю; когда он услышал, что для него в раю уготовано кресло, что его там ждёт венец и что на суде о нём дурного слова не скажут, — Бонче, как и на этом свете, промолчал. Сердце у него сжалось от страха. Он был уверен, что это сон или просто недоразумение.
Он привык и к тому и к другому. Не раз снилось ему при жизни, что он собирает деньги с пола, на котором рассыпаны сокровища, а просыпался ещё большим бедняком, чем лёг... Не раз люди по ошибке приветливо улыбались ему, говорили ему ласковое слово, а потом, плюнув, уходили.
«Такова уж моя судьба!» — думает он.
И он боится глаза поднять, чтобы сон не исчез, чтобы не проснуться где-нибудь в пещере среди змей и скорпионов. Он боится рот открыть, пошевелиться, чтобы его не узнали и не бросили в преисподнюю.
Он дрожит и нё слышит похвал, "расточаемых ему ангелами, не видит, как они весело кружатся вокруг него; праотцу Аврааму, ведущему его на суд, не отвечает на его сердечное «Мир вам», а представ перед судилищем, стоит без поклона и приветствия.
Он вне себя от испуга.
И страх его ещё больше усилился, когда он нечаянно взглянул на пол в небесном судилище. Настоящий алебастр, выложенный бриллиантами! «И я стою на таком полу?!» Он совсем теряет голову. «Кто знает, за какого раввина, за какого богача или цадика меня принимают?.. Придёт тот — и тогда мне худой конец!»
От страха он даже не расслышал, как первоприсутствующий отчётливо произнёс: «Дело Бонче-молчальника!» — и, подавая акты ангелу-заступнику, сказал:
— Читай, но вкратце!
Всеобщее внимание сосредоточено на Бонче. У него звенит в ушах, и среди этого звона всё яснее слышится ему сладкий голос ангела-заступника, льющийся, как звуки скрипки.
Он слышит:
— Имя это шло к нему, как платье, сшитое на стройную фигуру рукой искусного мастера...
«Что он такое говорит?» — спрашивает себя Бонче и вдруг слышит нетерпеливый голос:
— Только без сравнений!
И ангел-заступник продолжает:
— Ни разу ни на кого не возроптал он, ни на бога, ни на людей. Ни разу в его глазах не вспыхивал огонёк ненависти, никогда взор его не обращался с жалобой к небу...
Бонче опять не понял ни слова, а жёсткий голос снова прерывает речь:
— Без риторики!
— Иов не выдержал и возроптал, а ведь Бонче был несчастнее...
— Фактов, одних сухих фактов! — ещё нетерпеливее кричит председатель.
— На восьмой день над ним совершили обряд обрезания...
— Только без реализма!
— Обрезала-неуч не остановил кровотечения...
— Дальше!
— А он всё молчал, — продолжает защитник. — Молчал и тогда, когда в тринадцать лет потерял мать и приобрёл мачеху... мачеху — змею злейшую...
«Так это же действительно говорят обо мне?» — думает Бонче.
— Прошу без инсинуаций по адресу третьих лиц, — сердито говорит председатель.
— Она дрожала над каждым куском... давала ему чёрствый, заплесневелый хлеб... мочалу вместо мяса... а сама пила кофе со сливками.
— К делу! — кричит председатель.
— Зато пинков она ему не жалела, а его покрытое синяками тело сквозило в прорехах старой, сгнившей одежды... Зимою она, в самые сильные морозы, заставляла его, босого, дрова рубить на дворе. Руки его были ещё малы и слабы, поленья слишком толсты, топор слишком туп... Не раз случалось ему вывихнуть себе руку или отморозить ноги... но он всё молчал, скрывая всё даже от отца...
— От отца-пьяницы! — вставляет со смехом фискаль
Бонче весь холодеет.
— И не жаловался, — заканчивает защитник.
— Всегда он был одинок, — продолжает он, — не знал ни друга, ни товарища, ни хедера... ни целого платья... ни свободной минуты...
— Фактов! — ещё раз восклицает председатель.
— Он молчал даже тогда, когда однажды пьяный отец схватил его за волосы и в трескучий мороз вышвырнул из дому. Он молча поднялся со снега и убежал, куда глаза глядят...
Всю дорогу он непрерывно молчал. Во время самого лютого голода просил одними глазами...
Туманной, влажной весенней ночью попал он в большой город. Он был там лишь каплей в море. И первую же ночь он провёл в полицейском участке... Он молчал, не спрашивал — за что? По выходе оттуда стал искать самой трудной работы, — и всё молчал...
Он молчал, хотя найти работу было ещё труднее, чем выполнить её...
Обливаясь холодным потом, согнувшись под самой тяжёлой ношей, с судорогами в пустом желудке, — он молчал...
Он молчал, обрызганный чужой грязью, оплёванный чужаками, с ношей на спине, гонимый с тротуаров на мосто-
вую — к лошадям, экипажам и трамваям, глядя поминутно смерти в глаза...
Он никогда не считал, сколько пудов носит он на себе за один грош, сколько раз он падал, напрягая вое силы за копейку, сколько раз он чуть ли не выплёвывал душу в ожидании своего заработка.
Он не проводил сравнения между своей и чужой долей — он всё молчал...
Даже своего собственного заработка он никогда не требовал громко. Как нищий, становился он у дверей, и в глазах его светилась мольба голодной собаки. «Приходи потом», и он исчезал тихо, как тень, чтобы потом ещё тише выклянчивать свой заработок...
Молчал он и тогда, когда урывали, сколько хотели, от его заработка или при уплате сбывали ему фальшивую монету. Он всё молчал...
«Так это же действительно говорят обо мне!» — утешает себя Бонче.
Глотнув воды, защитник продолжает:
— Однажды в его жизни произошла перемена. Разгорячённые лошади несли по улице карету на резиновых шинах. Кучер уже давно лежал на мостовой с раздроблённым черепом. С губ испуганных лошадей била пена, из-под копыт искры сыпались, глаза у них сверкали, как пылающие факелы в тёмную ночь, — а в коляске сидел человек ни жив, ни мёртв.
И Бонче удержал лошадей.
Спасённый оказался щедрым благотворителем и не забыл благодеяния Бонче.
Он передал ему кнут убитого кучера, и Бонче стал кучером. Больше того — он женил его. Ещё больше — он же его и ребёнком наградил.
А Бонче всё молчал...
«Обо мне говорят, обо мне», — окончательно убеждается Бонче, но вое же не осмеливается взглянуть на судей.
И он продолжает слушать речь защитника:
— Он молчал и тогда, когда благодетель обанкротился и не уплатил ему жалованья.
Молчал тогда, когда жена ушла от него, оставив ему грудного ребёнка.
Молчал и пятнадцать лет спустя, когда ребёнок вырос и достаточно окреп, чтобы выгнать его, Бонче, из дому...
«Обо мне говорят, обо мне!» — радуется Бонче.
— Он и тогда молчал, — продолжает кротким, печальным голосом защитник, — когда его благодетель уплатил всем, а ему не дал ни гроша; и даже тогда, когда этот самый благодетель, снова разъезжая в карете на резиновых шинах, запряжённой кровными рысаками, переехал, раздавил его.
Он молчал. Он даже не назвал полицейскому имени того, кто его искалечил.
Он молчал и в больнице, где кричать разрешается.
Молчал, когда доктор не соглашался без пятиалтынного подойти к нему, а сторож — без пятака переменить на нём бельё.
Он молчал во время агонии — умирал молча...
Ни слова протеста против бога, ни слова — против людей!.. Я кончил.
Бонче снова дрожит, как в лихорадке. Он знает, что после защитника говорит обвинитель. Как знать, что тот скажет?! Бойче сам не помнил всех событий в своей жизни, — ещё на том свете он сейчас же забывал всё, что с ним случалось. Вспомнил ведь защитник всё, а кто знает, что может вспомнить обвинитель!
— Господа! — начинает обвинитель сухим, язвительным голосом — и обрывает.
— Господа! — начинает он опять, но уже более мягким голосом — и снова останавливается.
Наконец он говорит совсем мягким, идущим от сердца голосом:
— Господа! Он молчал, буду и я молчать!..
И вдруг среди наступившей тишины раздаётся новый голос, мягкий и дрожащий:
— Бонче, сын мой, Бонче! — звенит голос, как арфа. — Дорогое дитя моё!
К сердцу Бонче подступают рыдания. Теперь он уж хотел бы раскрыть глаза, но слёзы мешают ему.
Никогда ещё не испытывал он такого нежного и грустного чувства... «Сын мой», «Бонче мой»... Не слыхивал он этих слов с тех пор, как умерла его мать,
— — Сын мой! — продолжает верховный судия, — ты всё время терпел и молчал. На твоём теле нет живого места, везде раны, везде кровь, — в душе нет уголка, где не сочилась бы кровь... а ты молчал.
Там этого не понимали. Ты и сам, быть может, не знал, что можешь кричать и что от твоего крика стены Иерихона могут поколебаться и обрушиться! Ты сам не знал дремавшей в тебе силы.
На том свете тебя не вознаградили за молчание, на то и земной мир, лживый и неправедный. Здесь же, в царстве справедливости, тебе воздадут должное.
Судьи не будут судить тебя, не изрекут определённого решения. Скажи сам, чего ты хочешь. Тебе принадлежит всё!
Бонче впервые поднимает глаза. Он поражён ослепительным блеском, разлитым кругом. Тут всё искрится, сверкает, отовсюду бьют потоки света, — от стен, от предметов, от ангелов, от судей... Сплошь ангелы-архангелы!
"И он опускает усталые глаза долу.
— Это... серьёзно?.. — спрашивает он растерянно.
— Разумеется! — убеждает его верховный судия. — Повторяю: всё — твоё, всё в небе принадлежит тебе! Выбирай и бери всё, что пожелаешь. Ты берёшь у самого себя!
— Действительно?.. — спрашивает Бонче уж несколько более твёрдым голосом.
— Разумеется! Разумеется! — отвечают ему со всех сторон.
— Ну, если так, — заявляет, улыбаясь, Бонче, — то я хочу иметь ежедневно утром горячую булку со свежим маслом!..
Судьи и ангелы в смущении опускают глаза. Фискал хохочет.
ШТРАЙМЛ
По ремеслу я шапочник, но специальность моя — штраймл. Главный же мой заработок — от мужицких сермяг и рабочих полушубков. Иной раз ко мне заглядывает и мельник Лейб со своей енотовой шубой.
Правда, шить штраймл случается редко, очень редко. Ибо кто же носит теперь штраймл? Раввин разве. И штраймл эта всегда переживает раввина...
Правда и то, что если и случается шить штраймл, то либо совсем даром, либо за полцены. В лучшем случае труд мой не оплачивается. Всё это верно, и тем не менее специальность моя — штраймл, ибо шить штраймл я люблю.
Когда она попадает мне в руки, я молодею — лишь тогда я чувствую, кто я такой и на что я способен!
И то сказать, какие ещё у меня радости в жизни?
Когда-то мне доставляла удовольствие мужицкая сермяга...
Во-первых, почему бы и нет?
Во-вторых, я так думал: «Мужичок даёт нам хлеб, работает летом до изнурения, — и я не могу защитить его от зноя. Буду же я его хоть во время зимнего отдыха защищать от холода».
А в-третьих, была у меня на этот случай прекрасная песенка. Был я молод, голос у меня был, что твой колокол, бывало, шью и распеваю:
Крой да стегай, Жёсткий малахай, Колкий кожушок! В твёрдой шкуре наголо Будет мужичку тепло... Эх, винца 6 глоток!..
* Перев. В. Элинг,
И в том же роде ещё несколько куплетов. И вся эта песня была, разумеется, сочинена мной ради последних слов: «Эх, винца б глоток!»
Ибо, надо вам знать, нынешняя смиренномудрая раба божия Мирьям-Двоше тогда ещё не была богомольной святошей. Она не звала меня, как теперь, «Берл-Колбаса», а только «Береле», а я её — «Миреле». И любились же мы, грешным делом! Чуть, бывало, услышит заключительный куплет моей песенки, тотчас же подаёт мне вишнёвки. Вишнёвка сильно действует на — кровь, и я, бывало, тут же ухвачу её за платье, горячо поцелую в алые, как черешни, губки и, вдвойне освежённый, принимаюсь опять за сермягу...
Теперь — прощай, черешенки!..
Я — Берл-Колбаса, а она — Мирьям-Двоше...
Узнал я также, что земли мало, а мужиков много, говорят даже, слишком много; что «лишние» мужики терпят голод, что даже с шести моргов земли жить невозможно; что поэтому мужику и зимою не до отдыха. Тогда начинается извоз. Да, хорош у него отдых зимою! По целым дням и ночам возит он пшеницу к Лейбе на мельницу. Как вы думаете, могу я радоваться, когда сермяга моя, плод работы моей, мокнет всю зиму, волочась в хвосте у пары дохлых кляч, которые везут хлеб мельника Лейба за тринадцать грошей с мешка на расстоянии пяти миль!
А велика ли, подумаешь, радость от полушубка рабочего?
Всю зиму этот полушубок волочит муку на мельницу Лейба, а лето всё заложен в шинке за гроши. Осенью, когда он попадает ко мне в починку, я хмелею от сивушного запаха.
А когда уж попадает ко мне во всём своём великолепии «сама» енотовая шуба мельника Лейба, думаете — много радостей доставляет она мне?
Она-таки енотовая шуба, вещь важная, и в местечке ей большой почёт, но мне-то от этого пользы мало.
Скверную привычку приобрёл я — что бы я ни увидел, над всем задумываюсь: отчего? почему? и не может ли быть иначе? И потому, как только в мои руки попадает шуба Лейба-мельника, я начинаю думать:
«Владыка мира! Зачем это ты создал столько родов шуб? Почему у одного енотовая шуба, у другого — полу-
шубок, у третьего — сермяга, а у четвёртого и совсем ничего нет?
И лишь только начинаю думать, я весь ухожу в свои мысли, и игла падает из рук. А смиренномудрая Мирьям-Двоше швыряет мне в голову, что под руку попадётся... Она желает, чтобы «Берл-Колбаса» меньше думал и больше работал.
Но что же мне делать, когда я должен думать? Когда я всё-таки знаю, что Лейб-мельник лишь тогда даёт делать новый верх для своей енотовой шубы, когда ему .удаётся сорвать по грошу с мешка у сермяги и по грошу с пуда у каждого полушубка?
Ну, этому ли мне радоваться?
Ах, чуть было не забыл!
Подвернулся мне как-то осенью совсем особенный заказец, и чего только не придумают женщины! Входит это Фрейдл, староста у женщин, в каких-то чудовищно громадных рукавицах; вглядываюсь — да ведь это пара мужицких сапог. Я думал, лопну со смеху.
— Доброго утра! — говорит она своим сладеньким голоском. — Доброго утра, Береле!
Она подруга моей жены. Подобно всем, она называет меня обыкновенно «Берл-Колбаса». И вдруг — «Береле»! И так это1 сладенько, хоть варенье вари. Догадываюсь, что у неё какая-нибудь просьба ко мне...
Я думал, что она стащила эти сапоги с крестьянской телеги (ведь это не хуже, чем мелочь из кружки) и хочет их спрятать у меня, и поэтому спрашиваю её строго:
— Чего вам?
— Сразу серчать! — отвечает она ещё слаще (просто мёд изо рта старуха точит). — Сразу «Чего вам?» А где твоё «Здравствуйте»?
1 — Пусть будет «Здравствуйте»! Пожалуйста, короче!
— Чего ты торопишься, Береле? — улыбается она ещё умильнее. — Я пришла спросить, не найдётся ли у тебя несколько кусочков кожи?..
— Ну, а если есть?
— Я бы тебе предложила кое-что.
— Ну? Что там? Говорите!
— Если б. ты был добрым!, Береле, ты подшил бы мае
Вот эти сапоги. У меня было бы в чём пойти к слихос, й ты без большого труда сделал бы богоугодное дело.
Вы понимаете — дело! Почти задаром богоугодное дело!
— Вы ведь знаете, — говорю я ей, — что «Берл-Колбаса» не занимается богоугодными делами...
— Что ж, ты с бедной женщины возьмёшь деньги?..
— Нет, не деньги! Вам это будет стоить совсем пустяк: я вам подошью сапоги, а вы мне расскажите грехи своей молодости...
Не согласна... что ж, отослал её к переплётчику.
Сапоги подшивать! Мне уж и так жизнь опротивела. Вам смешно? Право же, когда у меня нет заказа на штраймл, мне всё противно. И то сказать, зачем я работаю? Чтобы только набить свою грешную утробу? И чем? Хлебом с картошкой, хлебом без картошки, а часто и картошкой без хлеба. Стоит того!
Верьте мне, когда человек работает пятьдесят лет и изо дня в день пятьдесят лет ест картошку, — жизнь обязательно должна ему опротиветь; ему должна, наконец, притти мысль: или себе конец, или Лейбу-мельнику! И если я всё же продолжаю спокойно есть свою картошку и работать, то этим я опять-таки обязан штраймл!
Попадётся мне штраймл в руки, и кровь с новой силой начинает течь в моих жилах, тогда я знаю, для чего я живу!
Сидя над штраймл, я как бы чувствую, что держу в руках своих птицу, и вот раскрою руку — и птица взлетит высоко-высоко, чуть глаз видит!
А я буду стоять и наслаждаться: «Это моя птица! Я её создал, я её ввысь пустил!»
В городе я, милостию божией, никаким влиянием не пользуюсь: на общинные заседания меня не приглашают, а самому лезть — так я ведь не портняжка какой-нибудь! И на улицу я почти не показываюсь. У меня нет определённого места ни в синагоге, ни в молитвенном доме, ни даже в частной молельне. Словом, круглое ничтожество...
Дома царство моей благоверной. Не успею рот раскрыть, как она уже осыпает меня проклятьями. Она, видите ли, заранее знает всё, что «Берл-Колбаса» намеревается сказать, что он думает, — и пошло кипеть. SO
Ну, что я? Ничто! А вот выйдет из рук моих новая штраймл — и вся община предо мною преклоняется! Я сижу дома и молчу, а моя штраймл раскачивается на почётном месте, где-нибудь на свадьбе, при обряде обрезания, или на каком-нибудь другом благочестивом празднестве. Она возвышается над всей толпой на общественных выборах, на судебном заседании раввината.
И когда я вспоминаю о всём этом почёте, сердце моё преисполняется радости!
Напротив меня живёт позументщик. Я, право, не завидую ему...
Пусть его эполета или погон осмелятся заявить: «Этот бык — трефной, тот — кошерный». Хотел бы я это посмотреть! А захочет мюя штраймл, так и целых четыре быка подряд объявит трефными: мяснику тогда крышка, служащим его — хоть с голоду помирай, для евреев в городишке — новый пост, а сотня казаков в эти дни получит мясо по шести грошей за фунт. И всё тут! Никто и слова не скажет.
Вот это — сила!
Не помню я разве? В прошлом году был падёж овец. Рассказывали, будто овца начнёт эдак странно кружиться, кружиться, затем голову закинет и падает замертво. Сам я этого не видел. Кружились ли там овцы, нет ли, но Ян-келю-мяснику наверно уж досталась дешёвая баранина.
Ветеринарный врач приехал тогда и заявил: «Треф!»
Но кто его там слушает?.. Привёл он с собой эполеты четырёх родов и двух родов погоны, и вот у них из-под носу стащили мясо, и ещё на третий день всё местечко имело к ужину дешёвую баранину.
У моей штраймл не крадут. Не нужно эполет, не нужно погонов. Сама она даже с места не стронется. Но пока она не скажет: «Ешь!» — ни один рот не откроется во всём местечке.
Вы, может, думаете, что вся сила в том, что находится под штраймл? Ничего подобного.
Вы-то, пожалуй, не знаете, что под нею, а я, слава богу, хорошо знаю.
Особа эта была, благодарение господу, меламедом в ещё меньшем местечке, чем наше, и мой отец, мир праху его, прежде чем убедиться, что из меня никакого толку не выйдет, посылал меня учиться к этому меламеду. Подобной бездарности ещё свет не видывал. Настоящий ме-ламед!
Обыватели, заметив, что в денежных делах он ничего не смыслит, тотчас же сократили ему плату наполовину, а оставшееся платили ему стёртыми двухкопеечными монетами, которые принимались им за трёхкопеечные, или фальшивыми двугривенными. Благоверная его, видя, что добром она ничего с ним не поделает, принялась выщипывать ему бородку.
И винить её тут нельзя. Во-первых, хлеба недоставало; во-вторых, женщина вообще любит пощипывать; в-третьих, бородёнка уж у него была такая, так и просилась, чтоб её пощипывали; до того просилась, что даже мы, ученики его, едва удерживались, чтобы не пощипать её; а иной раз не утерпишь, залезешь это под стол и вырвешь волосок из бородёнки.
Ну может ли эдакое создание иметь вес?
Может, вы думаете, он со временем изменился?
Куда там! В нём не произошло ни малейшей перемены. Те же маленькие, потухшие, гноящиеся глазки, вечно блуждающие, испуганные.
Правда, нужда свела в могилу его первую жену. Ну и что же, разница-то какая! Дерёт его теперь за бородку другая, — и только. Ведь бородка-то сама просится, умоляет, чтоб её пощипывали. И, npaeoi, удержаться от этого трудно! Даже мне, чуть увижу её, стоит большого труда не ущипнуть.
Но что же произошло? Только-то всего: я сшил ему штраймл!
Должен чистосердечно признаться: почин тут был не мой. Мне это и в голову не пришло бы. Заказала община, я и сшил. Но чуть община узнала, что штраймл, которую мне заказали, которую я, «Берл-Колбаса», сшил, приезжает, что она — за версту отсюда — как вся община кинулась за город в великом! весельи и с парадом. Бежал стар и млад, больные повыскочили из кроватей. Выпрягли лошадей, и все разом захотели запрячься и повезти мою штраймл. Бог знает, какие стычки произошли бы из-за этого, какие бы
тут были оплеухи, какие доносы! Нашлась, однако, умная голова, которая посоветовала устроить аукцион. И Лейб-мельник дал восемнадцать раз по восемнадцать злотых, за что получил почётное право впрячься первой лошадью!
Ну, видите, какова сила моей штраймл!
Моя смиренномудрая обзывает меня не только «Берл-Колбаса», но ещё и сластолюбцем, и наглецом, и похабником, и всем, что только на язык придёт ей.
Конечно, человек не свинья — люблю красное словцо, люблю шпильку подпустить Лейбу-мельнику в глаза и за глаза... Люблю также, нечего греха таить, поглядеть на служаночек, что берут воду из колодца напротив, — они ведь не коген пред аналоем.
Но, верьте мне, не это поддерживает во мне желание жить. Меня только одно утешает: выйдет иногда из рук моих новый идол на свет божий, и все перед ним, перед «делом рук моих» преклоняются!..
Я знаю, что когда моя смиренномудрая бросает мне ключи через стол, то она это делает по приказанию моей штраймл1. Меня она и слышать не хочет, но штраймл моей она должна слушаться!
Возвращается она из мясных рядов накануне праздника или субботы без мяса и проклинает мясника, — я знаю, что мясник ничуть не виноват: то штраймл моя не даёт ей сегодня делать кугл.
Берёт она совсем ещё хороший горшок и выбрасывает его на двор, и я знаю, что это штраймл моя вышвырнула горшок. Берёт она кусок теста, бросает его в печь, поднимает руки и закатывает глаза к потолку, — я прекрасно знаю, что потолок ровно ничего из всего этого не понимает, и этот кусок теста сожгла моя штраймл!
И при этом я знаю, что моя смиренномудрая супруга не единственная в общине, а община — не единственная у бога; в общине много таких правоверных жён, а у бога много, очень много таких общин. И моя штраймл повелевает всеми миллионами миллионов правоверных жён!
1 В определённые периоды к женщине запрещено прикасаться; в это время ей запрещено даже передавать что-либо мужу из рук в руки.
Миллионы ключей бросают через стол, миллионы женщин не делают кугла, миллионы горшков разбиваются вдребезги на мостовых, а сжигаемыми кусками теста я взялся бы прокормить полки, легионы нищих!
И кто всё это делает? Всё моя штраймл, — дело рук моих!
Перейдём опять к позументщику. Вот он сидит напротив моего окна. Лицо его лоснится, точно его салом смазали.
Чего он сияет? Чего так искрятся его глазки?
Он скрутил пару золотых погонов.
Во-первых, мы прекрасно знаем, что такое золото и что мишура. Во-вторых, мне известно, что пара погонов имеет под своим началом в десять раз больше солдат, чем енотовая шуба Лейба — сермяг и полушубков. И всё же пусть вот попробует самый крупный золотой погон издать приказ: «Десять быков зарежь и только — полбыка вари!» «Помирай с голоду, имей посуду четырёх родов, а вымя ешь на опрокинутой тарелке!» «От каждого куска пищи брось часть в огонь и в воду!» Или: «Каждый жених обязан предварительно показать мне свою невесту, а каждая невеста — своего жениха!» «Со мною — всё, без меня, хоть тресни, — ничего!»
Крупнейшая генеральская эполета не отважилась бы и мечтать о чем-либо подобном. А если бы и решилась, то всю страну пришлось бы наводнить солдатами: у каждой кровати — хотя бы по паре казаков, чтобы караулили друг друга, а оба вместе — кровать. И сколько было бы при этом обмана, краж, контрабанды! Господи, если бы мне столько добра иметь!..
А моя штраймл делает всё это тихо и благопристойно, без нагаек, без казаков.
Я себе спокойно сижу дома и знаю, что без разрешения моей штраймл ни один Мейшеле не дотронется ни до какой Ханеле, даже взглянуть не посмеет — боже упаси!
И, наоборот, пусть моя штраймл навяжет Мейшеле или Ханеле бог весть какую несуразность, — тут хоть ложись и помирай! Не отделаться им друг от друга, разве вместе с жизнью. А если не хочешь так долго ждать, ходи, проси, кланяйся той же самой штраймл: «Штраймеле, спаси! Штраймеле, разбей мои оковы, выпусти меня из темницы!»
В конце улицы находится шинок.
С тех пор как моя благоверная сделалась «старостой у женщин» и перестала приготовлять для меня вишнёвку, я время от времени заглядываю туда, чтобы подкрепиться, особенно в посты. Не обязан же я, в самом деле, поститься: ведь штраймл всё-таки моей работы!..
Шинкаря я уже давно знаю. И он одними заповедями божьими да добрыми делами не живёт... Но не в этом дело.
Были у шинкаря две дочки. Две сестры от одного отца и матери. Что я говорю — блмзнецы, ей-богу, — не отличишь одну от другой. А парочка была милая — хоть молись на них!
Личики — что яблочко на детских флагах в симхас-тору; благоуханны — что сосуд с ароматами; стройны — что пальма; а глаза — спаси меня бог и помилуй! Взглянут, — точно алмаз сверкнёт! И благонравные! В шинке, кажется, и всё же далеко от шинка. В ковчеге Завета их не воспитали бы лучше.
В шинке родились, а настоящие королевы. Ни один пьяница не осмеливался произнести при них непристойное слово, — ни один стражник, ни один акцизный. Попади в шинок даже самая важная персона, и то бы, кажется, не осмелилась ущипнуть которую-нибудь из них в щёчку, не дерзнула бы дать вталю не только рукам, но и глазам, даже помыслам своим. Я готов был сказать, в них таилось больше силы, чем в моей штраймл. Но это было бы грубой ошибкой. Моя штраймл оказалась сильнее их, в тысячу раз сильнее!
Близнецы — они не показывались одна без другой. Если у одной что-нибудь болело, то и другая страдала вместе с ней. И всё же как быстро разошлись их дороги...
Совершили они одно и то же, чуть-чуть различно, а вот поди же..
Обе они как-то переменились сразу: и веселье и печаль — всё не попрежнему. Я не могу вам объяснить, что с ними стало. Слова как будто на кончике языка, а не могу их выговорить... Куда мне, неучу!.. Они стали как-то более сосредоточены, ушли в себя, и в то же время — и печальней, и обаятельней прежнего...
Известно было, кто был причиной тому: указывали пальцами на двух Мейшеле, благодаря которым обе Ха-неле стали ещё милее, добрее, обаятельней и даже выросли как-то...
Э, да ведь я другим языком заговорил, совсем не подобающим шапочнику! Даже слеза прошибла, совсем это мне не по летам. Смиренномудрая моя опять скажет: «сластолюбец!»
Но я не долго буду распространяться.
Обе сестры совершили одно и то же, точь-в-точь: недаром же они были близнецами...
У каждой завелось по Мейшеле. И обе они через короткое время вынуждены были в юбочки клинья вставлять...
Стыдиться нечего, дело обычное. На то воля божья, — какой же тут стыд?
И всё-таки различно кончилось это у каждой из них!
Одна сестра не скрывала своей беременности ни перед кем: ни в синагоге, ни на улице перед людьми, ни перед стражником, ни перед акцизным, ни перед всеми посетителями шинка. А потом она же, вдали от пьяниц, в тихой, тёплой комнате, легла на чистую постель. Окна завесили, улицу покрыли соломой, бабка пришла, доктора пригласили... А потом торжество было — стал расти новый маленький Мейшеле...
Это ей понравилось, и она стала сыпать маленькими Мейшеле из года в год. И она пользуется общим уважением по сей день.
Другая же свою беременность скрывала, родила в каком-то погребе... Чёрная кошка повитухой была...
Её маленький Мейшеле давно уже покоится где-то под забором, а других Мейшеле у неё уж не будет! И один бог знает, куда она сама делась... Исчезла.
Говорят, где-то в далёких краях живёт в прислугах, питается чужими объедками... Другие говорят, что её и в живых уже нет...
Плохо кончила она.
И вся разница в том, что с первой свершилось это на синагогальном дворе, на старой куче мусора, под грязным куском сукна, вышитым серебряными буквами и рядом со... штраймл. А с другой это случилось где-то в певучем лесу, на свежей траве, среди сочных цветов, под 3S
голубым божьим небом, усеянным божьими звёздочками, но — без штраймл.
Не помогают ни певучий лес, ни душистые цветы, ни божье небо, ни божьи звёзды, ни сам бог.
Сила не в них, а в штраймл! Не в погонах, не в эполетах, не в прелестнейших на свете Ханеле, а в одних только штраймл — штраймл, которые шью я, «Берл-Колбаса»!
Вот что заставляет меня цепляться ещё за эту глупую картофельную жизнь!
НЕ ЗАСУДИЛИ
У ПРЕДДВЕРИЯ ПОТУСТОРОННЕГО МИРА
Закончится эта история, мои дорогие читатели, в высоком присутствии, в чрезвычайном присутствии, где жизнь и смерть, как на чашках весов, — в окружном суде; за красно крытым столом с золотыми кистями да бахромой по бокам.
Зато зачалось всё это в убогом и низменном — в богадельне.
Всего лишь одна комната, разгороженная надвое лёгкой перегородкой, — для стариков отдельно, для старух отдельно. (В нашем благочестивом городке даже погребают отдельно!) В каждой половине — окно на улицу и дверь во двор.
И вот сидят они (только Лейбл-шадхн, у которого нога парализована, лежит), сидят в полном сборе, старики да старухи, у преддверия потустороннего мира; всем светом забытые, лишь благочестивыми благотворителями не оставленные; считают свои последние, глухие, беспросветные, подслеповатые, ковыляющие дни и готовятся...
Однажды пала ночь.
Служитель, что принёс трапезу, ставни прикрыл и наказал, чтобы во-время свечи тушили и двери припёрли бы за собой.
Старики да старушки дохлебали белёсыми губами юшку из-под рыбы, пожамкали беззубыми ртами размягчённые кусочки хлеба, плававшие в горшках (пожелтевшая «зелёная» Двоша, бывшая торговка зеленью, только ртом водит; она ничего не помнит, не видит, даже самые большие буквы в молитвеннике; не слышит, даже когда другой читает молитву), и сразу же принялись за долгую молитву покаяния на сон грядущий,
А
Помолившись, отстукав при этом, как полагается, дрожащими кулаками в усталые груди, улеглись они (за исключением Лейбл-шадхена, который уже лежит) кряхтеть... затем понемногу похрапывать и погружаться в сны.
Частенько снятся им дни прошлого; отзовутся старые недуги — застонут; не то забредёт в усталый мозг картина давнего — летнего — дня — и скользнёт светлый лучик по морщинистому пергаментному лицу. Большей частью, однако-, привидится им тот свет, и ходят на их лицах тени ужаса и страха; видится им во сне тысячеглазый ангел смерти; железные прутья в руках ангела-экзекутора; чаши весов в верховном судилище качаются перед их глазами.
Да мало ли чего ещё пугаются у преддверия потустороннего мира.
А в улице вдруг:
Трах!
И звенят разбитые стёкла.
— Ой-ой! — просыпается старик.
А в улице опять — бег, свист, песня.
— Хлеба всем!..
— Пекарей разогнали!..
И — трах! — стёкла звенят.
— Света всем!..
— Фонари разбили!..
— Целого не осталось!..
И снова:
Трах!
Опять разбитые окна.
И ещё раз, и ещё раз. Так по всей улице.
Тут уж все пробудились. Сидят, свесив ноги с постели, трепещут.
Только «зелёная» Двоша не слышит ничего.
Сидят мужчины, охваченные смертельным страхом, ворочают белками в темноте.
А женщины, которые тут же за загородкой, стучат мужчинам:
— Мужчины, что такое на улице?
Не отвечают мужчины, у них зуб на зуб не попадает.
Тогда женщины зовут:
— Мужчины, да ведь вы мужчины! Вышел бы кто-нибудь, открыл бы ставень, выглянул бы!
— Поглядел бы кто-нибудь, что там творится на улице!
— Ведь всё вверх дном идёт!..
Но мужчины молчат.
Лейбл — «всеизвестный» шадхн, который не в состоянии присесть, дрожащей рукой нащупывает спички, чтобы зажечь свечу, постоянно стоящую у его постели, и не находит её; долго шарит он и вдруг сбрасывает со столика свечу вместе с медным подсвечником.
Раздаётся звон, старики и старушки вздрагивают; пробудилась последняя — глухая и слепая «зелёная» Двоша, пробудилась и принялась неожиданно читать молитву «Бог Авраама...» — единственное, что она помнит.
За нею — другие женщины. А там уже все плаксиво, испуганно, с надрывом читают «Бог Авраама»...
Слёзы текут даже у мужчин.
А в улице с песнями бьют фонари.
Внезапно1 оттуда донёсся звук трубы.
Низвергатели фонарей несутся кто куда, врассыпную. Труба всё ближе, ближе. С улицы уже слышен тяжёлый топот. Идут, ступают.
— Солдаты! — вскрикивает Лейбл-шадхн почти обрадованное
Старики да старушки начинают успокаиваться.
А в улице уже команда:
— На-а пле-чо!
Звенит перекладываемое из руки в руку оружие. Шаги удаляются всё дальше, дальше и пропадают где-то в соседней, в третьей улочке.
В богадельне становится тихо и зябко.
Престарелые забираются снова с ногами в постель, натягивают одеяла на голову и тихонько дрожат.
Дрожат вот так в темноте и раздумывают:
«Что бы это могло быть? Что это такое? И что ещё будет?»
Так поодиночке и засыпают без ответа.
Лишь утром приходит ответ на их вопросы.
Пробудил их далёкий выстрел. И тотчас же заявился служитель с завтраком и сказал:
— Революция!
РЕВОЛЮЦИЯ И ГУСИНЫЕ ПУПКИ
В один прекрасный тёплый день все высыпали на двор. Служитель помог вынести «воеизвестного» шадхена с постелью, и все уселись вокруг него.
Лейбл, бывший служка в братстве погребальщиков, важная персона на костыле, уселся подальше от иеучей. Но уселись всё же все. Иной раз кто-нибудь и выползет на улицу, чтобы протянуть руку. Но сегодня — ни за что! Опасно.
Служитель перед уходом предупредил: — Лавки будут закрыты, трамваи ходить не будут, извозчики не выедут. Будут демонстрации с красными флагами. И патрули будут ходить с заряженными ружьями и стрелять.
Тут одна старушка побледнела.
— Почему это? Почему бы им стрелять?
Шадхн прикусил белёсые тонкие губы:
— Так следует!
— А люди, — сказал Мейше-портной гордо, — рискуют жизнью!
Мейше-портной здесь самый молодой и здоровый. У него лишь дочь убежала, жена умерла и праЕая рука сохнет. С иголкой ему уже ие совладать, а так — совсем ещё крепкий человек.
— И чего же они хотят, твои люди? — ехидно спросил шадхн.
— Я-то знаю, чего они хотят, — ответил Мейше-портной и, подмигнув красноватыми глазками, усмехнулся в козлиную бородку.
Говорить он не станет: дохлятина, можно сказать, покойники всё. Тогда шадхн произнёс:
— У-гу...
Это означало: он сомневается, знают ли остальные, а тем более Мейше-портной.
«Отсохни моя левая рука, — сказал про себя Мейше-портной, — если я не знаю! Это идут на хозяев».
И он уже не может сдержаться:
— Разбойники, весь мир захватили!
— Вот как! — сказал шадхн.
— Мира ему уже нехватает, портняге этому, — скривилась старушка.
— А почему бы и нет? — вскочил Мейше-портной. — Что, у меня заместо души луковица! Не по вкусу он мне, что ли, придётся! Да пусть моя левая рука отсохнет...
И он сел, всё ещё продолжая ворчать:
— Всё забрали эти убийцы! Юшкой из-под рыбы кормят они нас! Им всё — дома, деньги, украшения, платья! Кто возводит дома? — каменщики. Кто создаёт украшения? — золотых дел мастер. А кто платья шьёт? — я.
И он стукнул себя в худую грудь так, что зазвенело.
А шадхн спросил его:
— Ну, а деньги кто делает?
Мейше-портной запнулся. Ответил, заикаясь, Лейбл, бывший служка погребального братства:
— В-власть.
Тогда вновь вскочил Мейше-портной:
— Вот это-то как раз и не годится!
Поднялся страшный шум.
— О-о, разошёлся...
— Скривило бы ему набок рот...
— Да хватит!..
Но у шадхена совсем нет охоты спорить!
— Вот власть-то, — сказал он, — и стреляет!
Портняжка ему зло в ответ:
— Пока подчиняется солдат...
— Но он обязан, — вырвалось сразу у всех, — на то он и солдат.
А портной всё не поддаётся.
— Вы что же думаете, эти злодеи, хозяева, служат в солдатах? Они, негодяи, мерзавцы, откупаются... — И он опять ударил себя в грудь. — Мы служим! Ну, уж посмотрим!
И глаза у него запылали ещё ярче, бородка затряслась.
— Заберут у них всё добро...
А ядовитый шадхн вновь с вопросом:
— И ты тоже? А какого добра тебе, сухорукий, нехватает?
Мейше-портной задумался на мгновение и рассмеялся:
— Сейчас? Сосёт что-то под ложечкой. — И вновь задумался, а затем объявил, чего бы ему хотелось:
— Гусиный пупочек...
— Не глуп! — сказал шадхн.
Тут у всех изо рта слюнки потекли. Каждый стал повторять про себя: «гусиный пупок!»
Даже глухая услышала и зашлёпала мокрыми губами:
— Гусиный пупочек...
И Лейбл, бывший служка погребального братства, повторил:
— Гусиный пупочек...
Вновь поднялся шум:
— В кишках так и играет...
— Им бы такую жизнь, хозяевам! Ну, можно ли протянуть день-денской, поевши рыбной юшки чуть да хлеба кусочек!
— К тому ж половину крадёт служитель...
— Давайте же на самом деле жизнь усладим...
— Кажется, от одного запаха душа возликовала бы...
И у края могилы, у преддверия потустороннего мира,
является дьявол искуситель. Разгорелись страсти — вкусного бы им чего-нибудь! Зажглись белёсые глаза, вздрогнули обвисшие губы; а раскоряченные рты хрипловато перекликаются:
— Пупочек!.. Ах, пупочек!.. Ох, гусиный пупочек! Ах, жирный гусиный пупок!.. Благоухающий...
И руки сами вытаскивают из карманов, из пазух двух* трёхгрошовые монеты".
— Но кто же пойдёт? Кто пойдёт?
— Я — нет! — вздохнул шадхн.
— Я! — выкрикнула «зелёная».
Но её не хотят.
— Боже сохрани! Она не дойдёт, недоскажет. Как раз посерёдке забудет обо всём — беспамятная ведь, корова.
Хотел было пойти Мейше-портной, но и против него возражают:
— С одной рукой, да ещё левая. Он потеряет. У него выбьют из рук.
Тогда отозвался Лейбл-служка:
— Я-а...
Так говорит он.
Он здесь самый старый, самый слабый, ходит на костылях.
И пошли выкрики:
— Да! Да! Он! Он знаток!
— Заведующий столовой знает его и не обманет.
— Но ведь он почти слепой! — попытался кто-то возразить.
— Он знает город на память.;?
— Ведь он на костыле...
— Пусть на костыле, лишь бы понимал...
И ему помогли встать, дали костыль в руки, и он пошёл; голову, насколько это возможно, поднял; пошёл, постукивая костылём, и не без величия. А народ вслед:
— Смотрите, смотрите, пошёл!..
— Выбери только, Лейбл!..
— Проси его, порядочный пупок!..
— И чтоб упаковал в бумагу!..-Побольше бумаги!..
— И чтобы верёвочкой перевязал!..
— Обязательно!..
— Да не потеряй!..
КОСТРОМСКИЕ БОГАТЫРИ И ЛЕЙБЛ-СЛУЖКА
Высоким, широкоплечим костромским солдатам приказано перевести арестантов в острог.
И вот стоят они, выстроившись, с ружьями наперевес, перед юным офицериком с остренькими усиками, быстрыми глазками; он поучает, как им обходиться в дороге с «врагом внутренним».
«Внутренний враг» — это поляк и еврей-
Еврей ещё опаснее.
У костромских великанов в усах чуть заметный сме шок: «еврейчики, и вдруг опасны! Эх, мошки этакие!»
Но офицерик поясняет:
— Дьявол в них сидит! На демонстрацию выползают дети из люлек, старцы с постелей встают, из больниц выходят.
Такая уж у них ненависть к государству российскому, такая уж затаённая вражда к святой церкви-
Мухи, а когда нужно львами, тиграми становятся. Они притворяются лишь слабыми, как на призыве, маскируются. Хитрый народ эти антихристы.
И с бомбами они идут!
Тут уж лица у великанов тускнеют. На них ложатся суровые тени. Детские глаза загораются зловещим огоньком. Ручищи крепче сжимают винтовку.
Затем команда:
— Марш!
И они направляются твёрдым, уверенным шагом, уверенные в том, как им нужно поступать.
Забравши из участка арестованных, старых да малых, женщин да юнцов, ведут они их, серьёзные, молчаливые, не без боязни, по улицам в острог.
Вдруг навстречу еврей. Таращат глаза:
«Как тихо он шагает!.. Ногами точно щупает, как рукой... крадётся... Что-то держит обеими руками... И так осторожно... подальше от себя...»
Окружили тут лее.
Старшой сразу:
— Дай-ка сюда!
Лейбл не подчиняется.
Пытаются отобрать — не даёт; хотят вырвать — обороняется.
— Моё, моё! — кричит он. — Разбойники!
Еле рассмотрел подслеповатыми глазами: солдаты. Он уже готов бросить свой пакет, но его настигает грозный окрик:
— Не бросать!
Вскинулся было, и получил штыком в самый нос.
И повели его с разодранной ноздрей обратно в участок вместе со всеми арестованными.
Пакет положили на зелёный стол, послали за сапёрами.
Пришли сапёры, все отступили. Сапёры осторожно развязали верёвочку, дрожащими руками раскрыли пакет и нашли там... Вы уже знаете, что.
НЕ ЗАСУДИЛИ
Составили протокол:
«Не подчинился патрулю... Сопротивлялся... Оскорбил патруль... Обозвал разбойниками...»
О пупке ни слова — проглотили, нет сто.
Написали, припечатали и направили куда следует. Лейбла, которому доктор зашил ноздрю, тоже направили куда следует.
Через несколько месяцев всё это повстречалось в суде: Лейбл, костромичи — двое часовыми, остальные свидетелями — и протокол.
Всё здесь, кроме пупка.
И вот сидят за красным столом строгие господа.
Председатель спрашивает: — 1 Сознаёшься?
Лейбл молчит, ничего не понимает. Бурчит один из судей:
— Он и не ответит... А прокурор:
— Подавился..,
Тогда выслушивают свидетелей. Они отвечают:
— Так точно!.. Нёс какой-то пакет... Не подчинился... Боролся... Обозвал разбойниками... Спрашивает защитник:
— Какой пакет? Один из свидетелей:
— Не знаю... Отдали в участок...
— Куда же он девался? Судья бурчит:
— Известно, еврейчики... выкрали...-А прокурор:
— На это уж они мастера...
Защитник собрался было вновь спросить, но председатель перемигнулся с заседателями и строго заявил:
— Это к делу не относится. Здесь не участок судят. Опустил тогда защитник голову и принялся взывать о
милосердии:
— Господа, вы ведь видите, старик... В ответ бурчат:
— У-гу... Ненависть растёт с годами.
И пошла тут перепалка у защитника с прокурором.
— На костылях, — говорит адвокат.
— Так являются они и на призыв, — усмехается прокурор.
— Глух и слеп...
— Сработано совсем по-еврейски...
— Полумёртвый... Тут уж все смеются.
Тогда защитник приходит в негодование; как-ни как, ведь и он человек с Бесом, и он кричит Лейблу по русски:
— Эй, жид, подними-ка свои палки!
Но Лейбл ни слова не понимает. Зовут знающего по еврейски, и он переводит:
— Лейбл, приказано поднять костыль... Приходится подчиниться.
Но сил-то у него нет, руки дрожат, а костыль тяжёлый. Все ж тянет, раз приказано.
Тянет, рвёт, подымает, и вдруг как култыхнется...
Короче говоря: Не засудили!
КАК Я ВЫШЛА ЗАМУЖ
Помню я себя ещё с той поры, когда я в камешки иг-рала да хлебцы из глины летом на дворе пекла. Зимою я по целым дням сидела дома — братишку меньшого укачивала. Родился он хилым, поболел до семи лет и помер от какого-то повального недуга.
Летом, пока солнце, несчастное существо сидело "на дворе, на солнышке грелось и всё поглядывало, как я в камешки играю. Зимою же он из люльки не вылезал. А я ему всё, бывало, сказки рассказываю да песенки пою. Остальные мои братья ходили тогда в хедер.
Мать была вечно занята. У неё, у бедняжки, было около десятка заработков: она — и торговка, и пряники печёт, и стряпать помогает на свадьбах да обрядах обрезания; она и плакальщица, и чтица в синагоге, и прислужница при ритуальных омовениях, а, кроме всего прочего, ещё выполняет поручения по закупкам для некоторых состоятельных домов.
Отец за три рубля в неделю служил писцом в лесу у реб Зайнвела Теркельбойма.
И тогда ещё, можно сказать, были хорошие времена. Учителям мы платили; квартирную плату вносили почти в срок; в чём, в чём — но в хлебе у нас нужды не было. Порой мама даже кулеш готовила на ужин, и тогда уж у нас бывал настоящий праздник. Впрочем, случалось это довольно редко.
Возвращалась мама домой, по большей части, поздно, усталая, частенько заплаканная и удручённая. Она жаловалась на то, что за «хозяйками» долги пропадают. Велят вот ей закупить на свои деньги. Проходит день, другой. Тем временем делаются новые закупки. Когда же наконец дело доходит до расчёта — хозяйка никак не припомнит: а не заплатила ли она за позавчерашнюю осьмушку мае ла?.. На время расчёт откладывают: «надо будет спросить 48
мужа, который был при этом; у него железная память — : он-то, наверное, помнит, как обстояло со счётом!..» Но назавтра оказывалось, что муж вернулся домой из синагоги очень поздно, и она забыла спросить его об этом. На третий день хозяйка самодовольно рассказывала, что она даже спросила мужа, но он её выругал за то, что она пристаёт к нему с подобными пустяками: «Больше у него дела нет, как выслушивать бабьи счёты...» И кончалось всё тем, что «самой ей придётся как-нибудь вспомнить...»
Потом хозяйке начинало казаться, и даже наверняка, что она эту осьмушку масла уже засчитала. А спустя некоторое время она готова была даже поклясться в этом. И когда бедная мама всё же позволяла себе ещё раз напомнить об этом масле, она уже сразу — и «нахалка», и «возводит напраслину», и «норовит выманить лишний пятак»... И мать предупреждали, что если она ещё хоть раз заикнётся об этом масле, то пусть лучше на глаза больше не показывается...
Мать, которая сама была когда-то дочерью богатых родителей и, если бы не помещик, присвоивший себе её приданое, стала бы сама «хозяйкой», не могла всего этого снести. Нередко приходила она домой с опухшими глазами и, со стоном бросившись на кровать, долго лежала так и плакала, пока, бывало, не выплачет всё своё горе; затем уж встанет и сварит для нас каких-нибудь клецок с бобами.
Частенько мать вымещала свою досаду на нас, собственно, главным образом на мне. Больного Береле она не трогала, остальных братьев, что ходили в хедер, — тоже очень редко: они, бедняжки, и без того приходили домой с синяками на щеках и с подбитыми глазами. Зато мне уж частенько попадало — то она беспричинно дёрнет меня за волосы, то тумаков надаёт...
— Хворая ты, что ли?.. Не могла до сих пор огонь развести да горшок с водой поставить?
Но когда я однажды сделала, как она хотела, оказалось ещё хуже:
— Поглядите-ка на мою хозяйку! Ни с того, ни с сего огонь развела, зря дрова палит!.. Что ей до моего каторжного труда? Она разорит меня!
Иногда заглазно от неё доставалось и отцу. Усядется вот так, бывало-, на кровать и, уставившись куда1то в окно, начнёт ныть:
— Разве его что-нибудь трогает? Сидит себе там в лесу графом, полёживает на травке, дышит свежим воздухом и жрёт простоквашу, а может, и сметану — я знаю? А тут кишки сводит!
При всём этом было ещё нам тогда хорошо-. Голода мы не испытывали, а после недели всяких мелких забот и огорчений наступала радостная и, как-никак, спокойная суббота. Отец частенько наезжал домой, а мать тогда, хлопотливо суетясь, то и дело украдкой улыбалась...
В пятницу вечером, перед благословением свечей, мать, бывало, часто целует меня в голову. Я знала, что это означает: ведь если случалось, что отец не приезжал домой на субботу, я становилась «ведьмой»! Тогда мать, вычёсывая мне голову, вырывала гребнем половину моих волос да вдобавок награждала ещё тумаками в спину. Я не плакала; моё детское сердце чуяло, что дело тут не во мне, а в её горькой доле!
Потом, когда лес вырубили, отец остался дома, — и у нас начались лишения. Собственно, испытывали эти лишения только отец, мать да я; остальных детей это мало касалось. Больному братишке почти ничего не нужно было: похлебает овсянку, если её подадут ему, и снова уставится глазками в потолок... Остальные, бедняжки, «ходят в хедер — им-то ведь необходимо хоть ложку варева дать»... Ну, а я частенько оставалась голодной.
Отец и мать про прежние времена вспоминали всегда со слезами на глазах, я же наоборот. В плохие времена я себя лучше чувствовала. С тех пор как мы стали нуждаться в хлебе, мать полюбила меня вдвойне. Вычёсывая голову, она уж больше не рвала мне волос, не колотила по — ху дым плечам. Отец во время обеда погладит меня, бывало, по голове и займёт какой-нибудь игрой, чтобы я не заметила, как меня там обделяют. И я ещё гордилась тем, что в пост пощусь наравне с отцом и матерью, что я уже большая...
В это время больной братишка помер. Произошло это так. Однажды мать, проснувшись, говорит отцу:
— Знаешь, Береле, должно быть, лучше. Он спал всю ночь, ни разу не будил меня.
Услыхав это (у меня всегда был чуткий сон), я, обрадованная, соскочила с сундука, где спала, чтобы посмотреть на моего «единственного брахца» (так Называла я его — 50
я его сильно любила). Я надеялась увидеть на его пергаментном личике улыбку, которая раз в год появлялась... но я увидела мёртвое лицо!
И наступила скорбная седьмица...
Через некоторое время заболел отец, и фельдшер сделался частым гостем в нашем доме.
Пока было чем платить, хоть как-нибудь, старый фельдшер приходил сам. Но после того как все подушки, висячая лампа, отцовский книжный шкаф, с которым мама долго не хотела расставаться, — пошли на лекарства, фельдшер вместо себя стал присылать к нам своего помощника — молодого фельдшера.
«Помощник» этот маме страшно не нравился: у него какие-то острые усики, одет не по-нашему, к тому ж он нет-нет, да и вставит польское словцо.
Я ж его даже боялась, — по ссй день не знаю, почему. Но когда он должен был притти, я выбегала во двор и там пережидал, пока он не уйдёт.
Раз как-то заболел наш сосед — тоже бедняк, и было это у него тоже, как видно, после того, как все вещи уплыли из дому. Молодой фельдшер (по сей день не знаю, как его звали) от нас направился к соседу. Проходя через двор, он наткнулся на меня, сидевшую на бревне.
Я опустила глаза. Холод прошёл по коленям, сердце стало сильней стучдть, когда я почувствовала, что он приближается ко мне. Он взял меня за подбородок и, подняв мне голову, сказал совсем просто, по-еврейски:
— Такая красивая девушка, как ты, не должна ходить растрёпанной, не должна стесняться молодых людей...
Он оставил меня, и я кинулась обратно домой. Я чувствовала, что вся кровь бросилась мне в лицо. Я забилась в самый тёмный угол за печкой, делая вид, что перебираю грязное бельё... Было это в среду.
А в пятницу я впервые сама напомнила матери), что нужно бы мне голову помыть, что хожу я растрёпанной.
— Горе мне! — заломила мама руки. — Ведь я её три недели не чесала!
И вдруг, сделавшись злой, она стала кричать:
— Ведьма! Такая большая дылда и не может сама себе голову вымыть! Другая на твоём месте ещё и детей помыла бы!
— Сореле, не кричи! — стал умолять отец.
Но ярость мамы всё разрасталась:
— Слышишь, ведьма! Сейчас же мой голову! Слышишь — сию же минуту! Слышишь!
Но мне боязно подойти к печке, где стоит горячая вода. Проходя мимо матери, мне не миновать подзатыльника. Выручил меня, как обычно, отец.
— Сореле, — застонал он, — не кричи, у меня и так голова болит!..
Этого было достаточно. Гнев матери как рукой сняло, и я свободно прошла к горшку с горячей водой.
Мою неумело голову и вижу, как мать подходит к отцу и с тяжёлым вздохом указывает на меня.
— Создатель! Растёт, бедная, как на дрожжах, — говорит она тихо отцу, но моё ухо улавливает каждое слово. — Красива, сияет, как золото... А что из того?..
Отец отвечает ещё более глубоким вздохом.
Фельдшер не раз уверял, что у отца, собственно, ничего нет. Досада лишь легла на печень, от этого печень распухла и подпирает к сердцу. И только! Главное, пусть пьёт молоко и не подпускает к себе досады, пусть по улице походит... поговорит, потолкует, поищем себе дела.
Но отец стоит на своём: ноги, говорит, у него не ходят.
Отчего не ходят, — об этом я узнала позже.
Как-то летом на рассвете проснулася я и слышу — отец и мать разговаривают.
— Видимо, много пришлось тебе, бедняге, по лесу походить! — говорит мать.
— Что за вопрос! — отвечает отец. — В лесу рубили сразу в двадцати местах. Понимаешь, лес — помещичий, но крестьяне имели право на валежник и бурелом... Ну, а когда лес вырубят — пропало их право, тогда дрова, лес для стройки придётся им покупать за деньги. Понятно, они очень хотели наложить арест и пригласили судебного пристава... Слишком поздно, однако1, додумались до этого крестьяне. Реб Зайнвел, как только заметил, что крестьяне почёсывают затылки, тут же распорядился поставить ещё сорок рубщиков. Настоящий тогда ад был там! Может, в двадцати местах рубили. А бывать надо повсюду... Что ж ты думаешь: ноги у меня распухали, как колоды...
— Как грешен человек! — вздыхает мать. — А я-то представляла, что тебе там делать нечего...
— — Конечно! — улыбается грустно отец. — Только и всего, что с рассвета до поздней ночи быть на ногах!
— И всё это за три рубля в неделю? — возмущается мать.
— Обещал прибавить. А в это время, ты ведь знаешь, плот у него затонул... сказал мне, что это вконец его разорило.
— И ты веришь?
— Всё может быть...
— Вечно он разоряется, — едко замечает мать, — а состояние всё растёт и растёт.
— Когда бог помогает, — вздыхает отец.
Наступило короткое молчание.
— Не знаешь, как он теперь? — спрашивает отец, не выходивший почти год из дому.
— Что ему сделается? Торгует льном, яйцами; шинок у него.
— А она как?
— Она, бедная, всё хворает...
— Жаль, хороший человек...
— Бриллиант! Единственная хозяйка, которая и гроша не зажилит. Она и платила бы в срок, да у него мало чего добьёшься...
— Кажется, она у него уже третья, — замечает отец.
— Ну да! — подтверждает мать.
— Вот видишь, Соре, — говорит отец, — как будто богач, а не везёт ему с жёнами... У каждого своя ноша.
— И такая молоденькая! — добавляет мять. — Всего-то ей околю двадцати с лишком.
— Вот, и знай! А ему, наверное, уже за седьмой десяток — и крепок, как железо.
— И без очков!..
— А походка — пол дрожит!.. А я, вот видишь, лежу в постели.
Какой-то комок подкатил у меня к горлу.
— Ничего, бог поможет! — утешает мать.
— Но она, она... — продолжает отец со вздохом, бросая взгляд в мою сторону, — растёт, не сглазить бы, как на дрожжах... Спереди... ты заметила?..
— Ещё спрашиваешь?
— А. лицом — ясная, как солнышко...
Снова наступило короткое молчание,
— — Знаешь, Сореле, — продолжает отец, — мы повинны перед богом.
— Чем?
— Ею! Сколько тебе было, когда ты вышла замуж?
— Меньше её...
— Ну?..
— Вот и ну...
Точно в этот момент раздался стук в ставни.
Мать соскочила с кровати, в одно мгновенье оборвала верёвку, на которой держался ставень, и распахнула окно, давно уже не открывавшееся у нас.
— Что случилось? — крикнула, высунувшись, мать,
— Ривеле, жена Зайнвела, умерла.
Мать отскочила назад.
— Да будет благословен судья праведный! — произнёс отец. — Умереть — ничего не стоит...
— Да будет благословен судья праведный! — повторила мать. — Только что про неё говорили!
Очень неспокойное время наступило тогда для меня. Сама не знаю, что творилось со мной.
Я целыми ночами не спала. В висках точно молотками стучало, а сердце щемило, будто боялось чего-то или сильно тосковало; а порой на душе становилось так тепло, так радостно-, что хотелось броситься на шею, обнимать, целовать всех...
Но кого? Братья не давались; даже пятилетний Иоха-нан — и тот брыкался и кричал, что не желает играть с девчонкой. Мать, помимо того, что я её боялась, была вечно раздражена и загнана... отец — всё хворал.
За короткое время отец стал седым, как лунь, лицо сморщилось и пожелтело, точно пергамент, а глаза глядели так беспомощно, с такой немой мольбой, что достаточно было мне взглянуть на него, как я уже с плачем кидалась из дому.
Тогда-то вспоминался мне мой Береле... Ему могла бы я обо всём рассказать, могла бы обнять, расцеловать... Но он в сырой земле. И меня ещё сильнее душат слёзы...
Слёзы, собственно, у меня выступали часто и без видимой причины.
Гляжу это иной раз во двор и вижу: плывёт луна, всё ближе, ближе подплывает к выбеленному забору, что против нашего окна, но никак не переплывёт его...
И так мне вдруг становится жалко луны, так сердце защемит. А слёзы из глаз текут, текут.
А то вдруг я делаюсь какой-то усталой. Обессиленная, слоняюсь тогда из угла в угол, бледная, с обведёнными глазами. В ушах шумит, голова тяжёлая, — и кажется тогда, что живётся мне на свете так плохо, так плохо, что лучше всего бы умереть.
И снова я завидую Береле... ему там так спокойно...
Часто снилось мне также, что я умерла, что лежу в могиле или возношусь в небо в рубашонке, с распущенными волосами, гляжу вниз и вижу всё, что делается там, на земле.
Как раз в это время растеряла я всех своих подруг, с которыми когда-то в камешки играла, а других уже не обрела. Одна из них появилась как-то в субботу, в атласном платье, с часами и цепочкой. Скоро должна быть её свадьба. Другие тоже стали невестами. Сваты, кумовья обивают пороги. Всех их, «невест», причёсывали, умывали, одевали. А я всё ещё ходила босиком, в короткой юбчонке, в выцветшей ситцевой блузке, треснувшей спереди на самом видном месте и покрытой заплатами другого цвета... «Невесты» сторонились меня, а с девочками моложе меня мне стыдно было вести дружбу. Да и игра в камешки меня уже не занимала. Поэтому днём я вовсе не показывалась на улице. Мать же меня никуда не посылала, а если мне и хотелось иной раз сходить куда-нибудь — она не пускала. Зато я часто по вечерам ускользала из дому и прогуливалась вдоль амбаров или сидела невдалеке от речки.
Летом я, бывало, сижу так до поздней иочи.
Первое время за мной иногда выходила мать, ко мне она, однако, никогда не подходила. Постоит у ворот, посмотрит кругом и уйдёт обратно, — мне почти слышно было, как она вздыхает, поглядывая на меня издали.
Со временем и это прекратилось.
Часами просиживала я одна, вслушиваясь в шум речушки, как шлёпают лягушки в воду, или следила за каким-нибудь лёгким облачком в небе...
Иногда вот так с открытыми глазами забывалась я в полудрёме.
Как-то раз донеслась до меня издали грустная песенка.
Голос был молодой и свежий, и такая грусть охватила меня!.. Это была еврейская песенка.
«Помощник фельдшера, — подумала я, — другие пели б славословия субботе, а не такие песенки».
Подумала также о том, что надо бы итти домой, что не следует слушать такое пение и встречаться с «помощником», и всё же я не пошла; я почувствовала вдруг какую-то странную усталость. Я была точно во сне и осталась сидеть на месте, хоть сердце было неспокойно.
Песенка — всё ближе, ближе; она летит с того берега, со стороны мостика.
Уже слышны шаги по песку. Снова хочу бежать, но ноги не слушаются, и я продолжаю оставаться.
Наконец, он подходит к месту, где я сижу.
— Это ты, Лия?
Я не отвечаю.
В ушах шумит ещё сильнее, в висках стучит ещё крепче, и мне кажется, что никогда ещё я не слыхала такого доброго и сладостного голоса.
Его нисколько не смущает, что я не отвечаю. Он садится рядом со мной на бревне и смотрит прямо в лицо.
Взгляда его я не вижу, так как не поднимаю глаз, но чувствую, как горит у меня лицо-...
— Ты красивая девушка, Лия! — говорит он мне. Жаль...
Я разрыдалась и убежала.
Назавтра вечером я уже не выходила, и в следующий вечер — тоже. Лишь на четвёртый день, в пятницу вечером, мне до того тяжело на душе стало, что я вынуждена была выйти; мне казалось, дома я задохнусь.
Должно быть, он поджидал меня в тени за углом дома, потому что, лишь только я уселась на обычное место, как он словно из-под земли вырос передо мной...
— Ты убегай от меня, Лия! — просил он мягким, сердечным голосом. — Поверь, я тебе ничего худого не сделаю.
Его искренний, нежный голос успокоил меня.
Он затянул тихую, грустную песенку, — и у меня снова навернулись слёзы на глаза. Я не могла сдержаться и стала тихо плакать.
— Что ты плачешь, Лия? — спрашивает он, прервав песню и взяв меня за руку.
— Ты так грустно поёшь! — ответила я и высвободила РУКУ-
— Я сирота, — сказал он, — одинокий... на чужбине.
Кто-то показался на улице, и мы разошлись.
Песенку эту я выучила наизусть и по ночам, лёжа в постели, тихо напевала её. С нею я засыпала, с нею и просыпалась. Всё же я часто раскаивалась и плакала: не следовало мне знакомиться с «помощником», который одевается на немецкий лад и бреется. Вёл бы хоть он себя, как старый фельдшер, был бы набожным... Я знала, что, проведай про всё это отец, он, упаси бог, умер бы с горя; а мать покончила бы с собой! Эта тайна камнем лежала у меня на душе.
Подойду ли я к постели отца подать что-либо, увижу ли мать, входящую с улицы, сразу вспоминаю про мой грех: руки и ноги у меня трясутся, от лица отхлынет последняя капля крови. И всё же я каждый день обещала ему, что я и завтра выйду.
Да у меня и не было повода убегать от него: он уже не брал меня больше за руку, не повторял, что я красивая девушка. Он только разговаривал со мной, обучал меня своим песенкам... Один раз он принёс мне кусок сладкого стручка.
— Кушай, Лия!
— Не хочу.
— Почему? — с грустью спросил он. — Почему не хочешь взять у меня?..
У меня вырвалось вдруг:
— Я охотнее съела бы кусок хлеба.
Как долго продолжались наши свидания и совместное пение, не знаю. Но однажды он пришёл более опечаленный, чем обычно; я это тут же заметила по его лицу и спросила его, что с ним.
— Я должен уехать.
— Куда? — спросила я Ослабевшим голосом.
— На призыв.
Я схватила его за руку.
— Пойдёшь в солдаты?
— Нет! — ответил он, пожимая мою руку. — Я слабый... У меня сердечный недуг... Солдатом я не буду... Но являться обязан...
— Вернёшься?
— Разумеется.
Минутное молчание.
— Пройдёт только несколько недель...
Я молчала, а он умоляюще смотрел на меня.
— Будешь скучать по мне?
— Да... — еле услышала я свой ответ.
Мы снова замолчали.
— Давай попрощаемся!
Моя рука лежала в его руке.
— Счастливого пути! — проговорила я дрожащим голосом. Он нагнулся, поцеловал меня и исчез.
Я долго стояла, точно пьяная.
— Лия! — услыхала я голос мамы, не обычный голос последнего времени, а тот прежний, мягкий, почти певучий, от той поры, когда отец мой был ещё здоров.
— Лиечка!
Так меня уже давно-давно не называли. Я ещё раз вздрогнула и с ещё пылающими губами вбежала в дом. Я не узнала, однако, нашей комнаты. На столе стояли два чужих подсвечника с зажжёнными свечами, графинчик водки и пряники были тут. Отец сидел на стуле, опершись на подушку. Каждая морщинка на его лице как бы излучала улыбку. Вокруг стола стояло ещё несколько табуреток — тоже чужих... кругом какие-то посторонние люди. Мама порывисто обняла меня и горячо поцеловала.
— Поздравляю, дочка моя, дочурочка, Лиечка! Счастливой тебе доли!..
Не понимаю, что тут происходит, но сердце трепещет и стучит, стучит так страшно!
Когда мать выпустила меня из своих объятий, меня подозвал к себе отец. У меня нет сил держаться на ногах, и я, опустившись перед ним на колени, положила голову ему на грудь. Он гладил мне голову, перебирал волосы:
— Дитя моё, ты уж больше не будешь терпеть ни голода, ни нужды; ты уж, дитя, не будешь ходить босой и голой — богачкой ты будешь... богатой будешь... будешь за учение братцев платить... их не будут уж выбрасывать из хедера... И нам будешь помогать... Я поправлюсь, выздоровею...
— А знаешь, кто твой жених? — радостно спросила меня мама. — Сам реб Зайнвел! Сам реб Зайнвел! Он сам к нам свата заслал.
Не знаю, что со мною сталось, но очнулась я днём на постели.
— Слава богу! — воскликнула мать.
— Благословенно имя его святсе! — ответил отец.
И снова меня обнимали и целовали. Больше того — мне подали варенье!.. Может, мне хочется воды с сиропом? Может, немного вина?
Я вновь закрыла глаза, стараясь подавить в себе глухое рыданье.
— Хорошо, хорошо, — радостно сказала мать, — пусть поплачет, моё бедное дитя! Мы сами виноваты: сразу сообщили такую радость! Так внезапно! От этого, не дай бог, может жила лопнуть! Но теперь слава богу! Поплачь, облегчи душу! Пусть горести твои уплывут со слезами, пусть новая жизнь начнётся, новая жизнь!..
У человека два ангела: добрый и злой. Я верила, что добрый ангел велит мне забыть молодого фельдшера, кушать варенье реб Зайнвела, пить его сироп с водой и за его счёт одеваться; зато злой ангел уговаривал меня, чтобы я раз и навсегда заявила отцу и матери, что я не хочу, ни за что не хочу...
Реб Зайнвела я ещё не знала. Возможно, я его и видала, но либо забыла, либо не знала, что это он... но, и не зная его, я его ненавидела.
В следующую же ночь мне приснилось, что я стою под венцом. Жених — реб Зайнвел, и меня обводят семь раз вокруг него. Но ноги мои онемели, и шафера несут меня по воздуху...
Потом меня повели домой.
Мама, приплясывая, вышла навстречу с пирогом в руках. А вот уже и свадебная трапеза.
Боюсь поднять глаза. Я уверена, что увижу подслеповатого, кривого на один глаз, с длинным!, ужасно длинным
HOCOM!..
Я вся в холодном поту, — но вдруг, слышу, он шепчет мне на ухо:
— Лиечка, ты красивая девушка!
И голос вовсе не старика — это голос того... Я чуть приоткрываю глаза — и лицо того...
— Тсс! — шепчет он мне, — никому не говори. Я заманил реб Зайнвела в лес, сунул его в мешок, привязал камень — ив реку (такую историю мне как-то рассказывала мама), а я тут, вместо него!
Проснулась я, вся дрожа.
Сквозь щель в ставне пробивался бледный свет луны, освещавший всю комнату. Только сейчас я заметила, что над столом вновь висит наша лампа, что отец и мать, как когда-то, спят на подушках — отец улыбается во сне, мать дышит ровно...
И добрый ангел говорит мне:
«Будешь доброй и послушной — отец выздоровеет, матери не придётся на старости лет так горько и тяжко работать, а братцы вырастут учёными, раввинами, — великими они станут во Израиле. Теперь вы сможете платить за их учение...»
«Но целовать тебя будет реб Зайнвел... — нашёптывает злой ангел. — Он будет касаться тебя своими мокрыми усами... Он будет тебя обнимать костлявыми руками... Он и тебя будет мучить, как тех жён, и молодой вгонит в гроб... А «тот» вернётся и будет страдать; он больше уж не будет обучать тебя своим песенкам; ты уж не будешь по вечерам сидеть с ним вместе... С реб Зайнвелом ты будешь сидеть...»
«Нет! Пусть небо на землю падёт, а помолвку надо расторгнуть!»
Я уж не спала до самого утра.
Первой проснулась мать. Поговорить бы с ней, но я привыкла при всех затруднениях обращаться за помощью к отцу.
Но вот просыпается и отец.
— Знаешь, Сореле, — были первые его слова, — я уже чувствую себя совсем, совсем хорошо; вот увидишь, я ещё сегодня выйду на улицу.
— Благословенно его святое имя! Всё это благодаря счастливой доле нашей дочери, всё благодаря ей, дочери нашей — праведницы...
— А фельдшер действительно прав — молоко мне очень помогает...
Оба молчат, а добрый ангел снова говорит мне:
«Если будешь доброй и послушной, отец выздоровеет, но стоит сорваться с твоих уст хоть одному грешному слову — он не выдержит и тотчас же умрёт».
— Слышишь, Сореле? — продолжает отец, — довольно уж тебе быть торговкой...
— Ну, что ты говоришь?
— Что слышишь! Я ещё сегодня хочу побывать у реб Зайивела... Он устроит меня в каком-нибудь деле или одолжит немного денег — и мы откроем лавочку: немного я буду там сидеть, немного — ты. Потом я начну торговать хлебом...
— Дай бог!
— Конечно, бог даст. Когда ты будешь сегодня покупать материю на свадебные платья, купи для себя... хотя бы и на два платья. А почему бы и нет? Он велел брать всё, что надо. Не пойдёшь же ты на свадьбу в своих лохмотьях!
— Да ну! — отмахивается мать, — главное, детям надо кое-что справить. Рувим совсем босой, на той неделе он занозил себе ногу, ещё и теперь хромает... Да к тому же к зиме дело идёт — нужны фуфаечки, рубашонки, ватные курточки...
— Покупай, покупай!..
«Слышишь, — говорит добрый аигел, — как только ты произнесёшь дурное, мать твоя не будет иметь платья, а ты ведь знаешь, старое совсем расползлось; братья твои будут в зимнюю стужу ходить в хедер раздетыми и разутыми, а летом — занозят себе ноги...»
— Правду сказать, — говорит мать, — следовало бы обо всем твёрдо договориться, так как очень добрым человеком его считать нельзя... Надо оговорить, сколько он ей завещает — потому что наследников у него потом окажется, как песчинок... Если не завещание, то пусть хоть расписку даст. Потому что сколько, в самом деле, может такой прожить, ещё год, ещё два...
— В довольстве, — вздыхает отец, — живут долго.
— Долго! Не забудь — семьдесят лет... Частенько кожа у ушей делается у него мертвенно-бледной.
И злой ангел говорит:
«Будешь молчать — под венец пойдёшь с мертвецом; с покойником будешь жить. Ложе делить будешь с трупом...»
Мать вздыхает.
— Всё в руках божьих, — замечает отец.
Мать снова вздыхает, а отец говорит:
— Что же делать? Разве у нас есть лучший выход? Понятно, будь я здоров, зарабатывай я, было бы хоть хлеба вдоволь.
Он не договорил. Мне показалось, что в сердце у отца что-то плачет.
— Будь она хоть моложе на год-другой, я бы на крайность пошёл... Разве я знаю? Лотерейный билет купил бы, что ли...
И я молчала...
Мой семидесятилетний жених дал на свадебный гардероб отцу несколько сот злотых, а мне свадебную расписку на полтораста злотых.
Люди говорили: «Прекрасная партия!»
У меня появились подруги. Та, что в атласном платье, с часами и цепочкой, заходила ко мне раза два-три на день. Зовут её Ривке. Она была необыкновенно счастлива, что я догнала её, что наши свадьбы будут в один и тот же месяц. Были у меня ещё подруги, но Ривке просто липла ко мне.
— Те ведь ещё сопливые девчонки. Кто знает, сколько они ещё проваландаются!
Ривке выходит замуж на сторону, в другой город, но первые два-три года после свадьбы она с мужем будет на хлебах у своих родителей. И всё это время мы будем вместе: то она забежит ко мне на чашку цикория, то я к ней на цикорий или в субботу после обеденного сна — испробовать варёные бобы.
— А после моих родов, — говорит мне однажды Ривке, и лицо у неё сияет при этом, — ты будешь около меня сидеть, не правда ли?
Я молчу.
— Ой, — говорит Ривке, — отчего ты такая грустная? Случается такое и в семьдесят лет...
— Ты не думай! — продолжает она меня утешать, — когда бог захочет — и метла стреляет! А если б и нет, как долго, думаешь, это может продолжаться? Человек ведь не живёт вечно! А вдовушка молодая ты будешь — просто пальчики оближешь!
Ривке не желает реб Зайнвелу зла:
— Он-таки из собак собака! Ту жену он замучил... Но та жена была больная, а ты здорова, как орешек... С тобой он будет обращаться хорошо, ещё как хорошо!
«Он» вернулся.
Отцу действительно стало легче, но ему вздумалось вдруг поставить сухие банки, — без этого он не рискнёт выйти на улицу. Он чувствует, что от лежанья, затем от сидения — от всего вместе — у него кровь застоялась, — её надо разогнать! Да к тому же и спину ломит. Тут вернейшее средство — сухие банки.
Я дрожала, как в лихорадке: с сухими банками приходит обычно «помощник», а не сам фельдшер.
— Сходишь за фельдшером? — обратился ко мне отец.
— Что ты, — перебила его мать, — девушка — невеста!..
Мать сама отправилась к нему.
— Отчего ты так побледнела? — с тревогой спросил меня отец.
— Ничего...
— Вот уже несколько дней, — допытывался он.
— Тебе кажется, папа.
— И мама то же сказала...
— Полно!
— Сегодня, — хочет меня обрадовать отец, — тебе уже будут примерять свадебные платья.
Я молчу.
— Тебя это совсем не радует? — спрашивает отец.
— Почему не радует?
— Ведь ты не знаешь даже, что тебе шьют?
— Да ведь с меня снимали мерку!
Тут пришла мама с самим фельдшером.
У меня от сердца отлегло. Но в то же время во мне что-то тревожно заныло: «а его» ты, должно быть, больше не увидишь...
— Ну, и свет теперь, — говорит фельдшер, сопя и отдуваясь. — Реб Зайнвел женится на молодой девушке, а Лей-зер, сын синагогального старосты, сделался отшельником, сбежал от жены!
— Лейзер, — удивляется мать, — что вы говорите?
— — Что слышите! А вот ещё — я, в шестьдесят лет, с утра до ночи на ногах, а мой молодой помощник слёг в постель...
Меня снова начинает лихорадить.
— Не держите у себя такого неверу! — бросает мама.
— Неверу, — говорит фельдшер, — почему неверу?
— К чему мне все эти истории? — нетерпеливо перебивает отец. — Займитесь-ка лучше своим делом!
Отец мой по натуре добрый. Мне всегда казалось, что он и мухи на стене не тронет. И всё же, сколько обидного для фельдшера было в его словах!..
Как больной, прикованный к постели, он бывал счастлив, когда кто-нибудь заходил к нему покалякать. Но с фельдшером он почему-то никогда не мог спокойно говорить, всегда перебивал его и предлагал «заняться своим делом». Но только теперь я это впервые так крепко почувствовала. У меня сердце защемило от боли... Как бы это он оскорбил «того», того, который сейчас лежит больным!..
— Чем он болен?
— Он говорил, что у него сердечный недуг.
Я хорошо не знала, что это означает. Но, несомненно, это нечто такое, что может иногда уложить человека в постель. И тем не менее сердце мне подсказывало, что в чем-то здесь и моя вина.
Ночью я плакала во сне. Мать разбудила меня и подсела на кровать.
— Тише, дитя моё! — сказала она. — Не станем отца будить!
И наша беседа велась шопотом.
Мама заметила, что я сильно расстроена, она смотрела на меня испытующе, собираясь, видно, что-то выведать, — а я решила ничего не говорить, по крайней мере теперь, когда отец спит.
— Дитя моё, отчего ты плакала?
— Не знаю, мама.
— Ты здорова?
— Да, мама. Иногда лишь голова болит.
Она сидела, опершись, на моей постели, и я, пододвинувшись, положила ей голову на грудь.
— Мама, — спросила я, — отчего у тебя так сердце бьётся?
— От страха, доченька.
— Тебе тоже страшно ночью?
— И ночью, и днём — я постоянно боюсь.
— Чего же ты боишься?
— За тебя боюсь...
— За меня?,
Мать не ответила, но я почувствовала, как слеза, горячая слеза, упала мне на лицо.
— Ты плачешь, мамочка?
Слёзы стали падать чаще.
«Ничего не скажу», — решаю я про себя окончательно.
Немного спустя мать вдруг спросила меня:
— Не рассказала ли тебе Ривке чего-нибудь?
— О чём, мама?
— Про твоего жениха.
— Откуда она знает моего жениха?..
— Если б она его знала, она бы не говорила. Но в городе... не знаешь разве... из зависти... богач... осмеливается на старости лет жениться на девушке... ну и болтают, разумеется... Разве я знаю?.. Не говорили ли тебе, что его последняя жена умерла оттого, что он её истязал?
Я совершенно равнодушно ответила ей, что слыхала что-то об этом, но от кого именно — не знаю.
— Наверное, от Ривке, чтоб ей набок рот скривило! — рассердилась мать.
— Отчего ж она тогда так внезапно умерла?
— Отчего? У неё был сердечный недуг...
— Ну, и что же? Разве от сердечного недуга умирают?
— Конечно...
Мне словно что-то ударило в голову.
Я стала «шёлковой»... Меня хвалили везде. Отец и мама никак этого не могли понять, а мой портной — и того меньше. Я была ко — всему равнодушна: мать делала всё, что ей хотелось, она сама и материю выбирала, и покрой, и фасон... всё, как ей самой нравилось.
Бывало, зайдёт Ривке ко мне и за голову хватается:
— Ну как это в модах полагаться на мать — на старосветскую женщину?! Ведь по субботам тебе ни в синагоге, ни на улице показаться нельзя будет! Ты сама себя режешь! — кончала она.
Я же при этом думала: «Меня уж давно зарезали...» И я спокойно ждала наступления условленной субботы, когда жениха предполагали пригласить на обед.
Потом состоится «оглашение», а затем — и свадьба.
Отцу действительно стало легче. Он нередко выходит теперь на улицу, его начинает занимать торговля хлебом.
5 — 2394 рассказы а сказки 6&.
Говорить с женихом о ссуде, как предполагал, он находит преждевременным. Отец думает пригласить его в ту же субботу и на ужин и вот там уж после ужина закинуть словцо.
А раз уж дела пошли к лучшему, то пора расплатиться и с фельдшером. Правда, теперь мы уже пользуемся кредитом — фельдшер и не требует долга, не посылает он также своего помощника кнам, сам приходит, — но пора этому положить конец!
Сколько ему денег отослали — я не знаю, но посланцом был Авремл, братец мой, который, по дороге в хедер, должен был передать эти несколько злотых.
И вдруг несколько спустя к нам зашёл «помощник».
— Что, мало прислали? — встретил его отец.
— Нет, реб Иуда! я зашёл попрощаться.
— Со мной? — удивился отец.
Лишь только он вошёл, я, обессиленная, опустилась на первый попавшийся стул. Но при последних его словах я сразу же вскочила, и у меня мелькнуло в голове, что я должна его защитить, не допустить, чтоб его оскорбили. Однако до этого не дошло.
— Я ведь заходил иногда к вам, — проговорил он своим мягким, сладостным и печальным голосом, который, точно елей, проникал в самое сердце, — теперь я уезжаю отсюда, навсегда... Я и думал...
— Ну, ну, что ж, — уже спокойней сказал отец, — садись, молодой человек! Это даже похвально с твоей стороны, что не забываешь хозяев... Что ж, пожалуйста...
— Доченька, — обратился ко мне отец, — надо б ему что-нибудь дать!
Побледневший «помощник», у которого дрожали губы, горели глаза, привскочил даже, hoi затем тут же лицо его вновь приняло прежнее печальное выражение.
— Нет, реб Иуда, ничего мне не надо, спасибо, будьте здоровы!
Он никому не подал руки, а на меня едва взглянул.
В этом взгляде я всё же почувствовала укор. Мне казалось, что он меня в чем-то обвиняет, что он никогда м^е не простит; но чего именно — я и сама хорошо не знаю.
И я снова лишилась чувств.
— Уже третий раз, — слышу я, как мама говорит отцу
— Ничего, в таком возрасте это случается... Но, упаси
бог, узнает реб Зайнвел, расторгнет помолвку! Хватит с него больных жён...
Но я не была больной.
В обморок я упала всего лишь ещё один-единственный раз, и то уже потом — на свадебной трапезе, когда я впервые хорошо рассмотрела реб Зайнвела.
Нет, я не больна!
Даже вчера, когда фельдшер, обрезавший раз в месяц моему реб Зайнвелу ногти, которые у него врастают в пальцы, уходя спросил, помню ли я его помощника, и сообщил при этом, что тот недавно умер в одной из варшавских больниц, — даже тогда я не упала в обморок, а едва уронила слезу. Я даже сама её не почувствовала, но фельдшеру слеза моя понравилась.
— Вы добрая, — сказал он.
И только тогда я её почувствовала на щеке.
И всего только!
Я здорова! Я уже пять лет живу с реб Зайнвелом!..
Как я живу — об этом я, быть может, расскажу вам в другой раз.
ИОНА БАЦ
БОГАЧ ВОСКРЕСАЕТ, МЕЛАМЕД ВНЕЗАПНО УМИРАЕТ
Двадцать лет учительствовал в местечке меламед Авигдор; учились у него дети самых богатых родителей. И вдруг заболел — пошла горлом кровь; потерял сразу голос, страшно похудел.
— Жаль беднягу, — вздыхали в местечке, — прекрасный талмудист и хороший меламед!
Авигдор одинок, как былинка в поле. Сюда приехал он откуда-то из чужих краёв, нет у него ни близких, ни родных... К тому же он недавно овдовел и остался с четырёхлетним мальчуганом на руках. Дети у него никак не выживали; а в последний раз «сама» умерла от родов. Богу ведь иска не предъявишь...
Община, однако, не забыла Авигдора.
Во-первых — порешили в синагоге: несправедливо будет лишить его заработка. Ведь он, бедняга, изойдёт, как свеча. Говорят, правда, что чахотка заразительна; но мало ли что там говорят! Мы-то знаем: жизнь и смерть в руках божьих, да будет благословенно имя его! Без его соизволения ангел смерти ничего делать не смеет; без его ведома и волос с головы человека не упадёт.
Так и порешили в синагоге в часы утренней, потом и в часы предвечерней и вечерней молитв.
И всё же Авигдор остался без заработка. -
Нарушил сговор выскочка, новоиспечённый богач — " двоюродный брат местечкового фельдшера. Ну, а за ним уж забрали ребят и остальные родители.
Община, однако, не может равнодушно наблюдать, как помирает с голоду еврей и хороший талмудист.
Необходимо что-то сделать! Этого требуют и божеские законы и человеческая справедливость.
Но возникает вопрос: кто же должен это сделать? Вся синагога того мнения, что обязанность эта падает, в первую голову, на тех лиц, которые лишили его хедера. А эти, в свою очередь, заявляют, что все евреи отвечают друг за друга и содержать еврея-талмудиста обязана вся община в целом. Они-то рук не умоют, от посильного участия не откажутся, но всю тяжесть брать на себя — это нет!
Тогда возник другой вопрос: откуда общине взять денег? Старост в общине трое, но настоящим главой общины, хозяином в ней — реб Шмерл, человек благочестивый, тихий, осторожный... А реб Шмерл говорит, что, при нынешних доходах общины, никак концы с концами не сведёшь. Чуть раздобудешь грош, — глядишь, касса снова пуста. Да и вообще это дырявый мешок, и ему, реб Шмерлу, постоянно приходится тратить на общинные дела из собственного кармана. И одно из двух: либо ему придётся развестись с женой, которая из себя выходит, либо бросить общинные дела. Пусть кто-либо другой возьмёт на себя эту честь. Ну, что ж! Это-, говорят, ещё полбеды. Ответ на это есть: либо изберут другого председателя общины, либо ещё по-иному устроятся: проведут целевое обложение! Далеко тут ходить нечего: можно на субботние свечи, на какие-нибудь продукты. Жидкие дрожжи уже сданы на откуп, можно ввести налог на сухие, а не то ещё на три года баню сдать. А может быть, лучше всего взять четвёртого резника? Ведь эти три лопатами золото загребают. Пусть ещё один, и не обязательно родственник реб Шмерла, получит заработок, а община лишних несколько грошей. Собственно говоря, обложение всё равно нужно: крыша у синагоги лупится, микве обязательно нужен ремонт — не то жизнь женщин в опасности. А здание талмудторы, слава богу, вот уже несколько лет совершенно непригодно1, и пора, чтобы уже и для неё настал час возрождения.
Если же общество не согласится на все эти проекты, придётся собирать пожертвования. Придётся пойти по местечку, из дома в дом. Молодых людей, сидящих на хлебах у тестя, располагающих свободным временем, со здоровыми ногами в местечке достаточно, не сглазить бы их!
А тем временем, пока тут судили да рядили, Авигдора выбросили из квартиры.
День провёл он где пришлось. Немного побыл в синагоге, немного — у знакомых горожан. Куда бы он с маль-
чиком ни пришёл, всюду их чем-нибудь угощали: рюмочку водки (для ребёнка — сладкой водки), кусочек медового пряника... На ночлег, однако, никто не пригласил. После вечерней молитвы Авигдор остался с ребёнком в синагоге один. Даже те, которые обычно засиживались после молитвы над талмудом — и те заторопились домой.
Через несколько часов, проведённых в большой пустой синагоге, Авигдору стало холодно. Он оставил ребёнка, прикорнувшего на скамье, и пошёл греться к пекарю, где работают всю ночь. Ему разрешили, и он уселся у стены, неподалёку от горящей печи.
Сладостное тепло охватило его, и он уснул. Никто не будил его, и он проспал так до позднего утра.
На следующую ночь он уже пришёл сюда греться вместе с мальчиком. Уселся на том же месте, мальчик сел около, склонив голову отцу на колени. И оба проспали так до утра.
Так продолжалось несколько дней, пока не дошло это до ведома полиции. Что творилось! Пекаря чуть в тюрьму не засадили. Еле откупился, пришлось дать подписку, что больше он Авигдора в дом пускать не станет. Что за дело полиции до того, что Авигдор прекрасный талмудист! Несколько видных граждан ходили куда следует, просили, но чего стоит по нынешним временам просьба еврея!
Направился тогда Авигдор в баню... И опять та же история: вмешалась полиция, угрожала закрыть баню и мик-ву. Спорить не приходится: здание действительно вот-вот обвалится. Попробуй слово сказать — наложат печать, а там и тысячей не откупишься! До сих пор не знают, кто же доносчиком был. А донос несомненен. Полиция сама не стала бы вмешиваться.
Но как бы там ни было, Авигдору с ребёнком деваться некуда. И остались они в холодной синагоге.
Чувство жалости к отцу и к ребёнку ещё больше возросло. Увидели, что у обеих и рубашки целой на теле нет.
Теперь уже вся синагога признала, что за судьбу Авигдора отвечает община. Но что община поделает? Судили, толковали, выходит, что баню сдать ещё на три года никак нельзя — — она может каждую минуту обрушиться. За неё и ломаного гроша не дадут, пока она не отремонтирована.
Взять ещё одного резника — опасное дело. Распри тут не миновать. А у всех ещё в памяти недавняя распря из-за резников, вслед за которой посыпались доносы, и половине 70
лавочников пришлось платить штраф за патенты. На то уж евреи в изгнании!
Прессованными дрожжами, оказалось, торгуют больше христиане, нежели евреи... Налога на какие-нибудь продукты не допустят ремесленники. Ремесленники да братство погребальных носильщиков — одна компания; и пойдёт тут история с погребальным братством!
Налога на птицу не желают состоятельные. Они говорят, что, если введут налог, они перестанут есть птицу... Тут есть и другая опасность: могут начать ввозить битую птицу извне! А рыба и без того ужасно дорога...
Но откладывать в долгий ящик всё же нельзя. Остаётся собирать пожертвования. Стали уже думать: кто пойдёт? кто с кем пойдёт?
Но человек предполагает, а бог располагает.
Было это в обычнейший вторник. Будничную тишину рынка внезапно разорвал отчаянный грохот: по рынку на бричке, запряжённой парою коняг, мчал возница Ореле; он носился туда и обратно, по пригоркам да рытвинам, по камням да ухабам, так что уши заложило. В бричке сидел реб Гавриель. С правой стороны его поддерживала жена — не то вторая, не то третья; с левой — городской фельдшер. Оба беспрерывно колотили возницу в спину: езжай, езжай! езжай, разбойник! Десятка лошадей не жаль за одного человека!
У реб Гавриеля заворот кишок, упаси нас господи! Он уже и ртуть принимал, некоторые говорят: даже мускус пил. А теперь только бог да Ореле и его «львы» могут спасти. Пока нехорошо. Старый служка погребального братства, который видел на своём веку больше покойников, чем иной живых, говорит, что если кишка не выравняется после этой гонки, то дело дрянь. Стало быть, там такой узел, что лишь великое милосердие спасёт. Привезли откуда-то доктора, он тоже сказал, что осталось только на бога уповать.
О сборе пожертвований в пользу Авигдора сразу перестали говорить. Почему? Никто не говорит вслух, но все это знают. Староста погребального братства уже стал нос задирать, пожилым людям говорит «ты», никому понюшки табаку не даёт. Говоришь ему: «Доброе утро», а он будто и не слышит. Знает, скоро его власть будет!
А счёт у общества с реб Габриелем огромный. Не только Авигдор будет спасён. Богатый, слава богу, еврей — три дома, два амбара, наличными целое состояние, а детей нет! И чтобы человек настолько был во власти своих денег! Ни тебе пожертвования перед судным днём, ни тебе на мацу для бедноты; никогда приезжего не пригласит на субботнюю или праздничную трапезу. А в пурим притворится больным, запрет двери, окна. С тех пор, как в последний раз женился, тому уже лет двадцать, он никого даже водкой да пряником медовым не угостил...
Зла ему, упаси господи, никто не желает. Всё же еврей. Господу-богу никто советов давать не станет. Но правда всё же остаётся правдой.
У Ореле одна лошадь уже пала, а проку никакого. Староста погребального братства даже к собственной жене уже уважение потерял!..
Однако и в нынешние времена случаются чудеса. Редко, но всё же случаются! Реб Гавриель пожертвовал несколько фунтов свечей в синагогу, и это возымело своё действие. Реб Гавриель воскрес! Зато Авигдор, бедняга, — отдели, господи, живых от мёртвых, — внезапно скончался.
СУХИЕ ПОХОРОНЫ
Похороны Авигдора были необыкновенные: явились все — от мала до велика.
И всё же это были — иначе не могу выразиться — сухие похороны. Не осталось у него ни вдовы, ни дочерей.
Женщинам никак не удавалось найти повода для рыданий: никто нб падает в обморок, никто не плачет как следует. Бедный мальчик-сиротка даже не знает, что такое могила, что означает «умер». Он больше испуган, чем! огорчён. И женщинам, на самом деле, тут не за что ухватиться. Одна из них вспомнила, было, собственное горе и попыталась заголосить, но плач её так и повис в воздухе, никто его не подхватил, не продолжил, — замер, словно задохся.
Женщины поэтому сразу же отстали.
Иона Бац, очередной староста братства носильщиков на этот месяц, сразу заметил их уход и закричал им вслед:
— Домой, бабы, домой! Похороны без плача — что свадьба без музыки, упаси вас бог!
Бабы обругали «долговязого Иону», но всё же ушли.
И мужчины не долго задерживались.
Люди занятые, лавочники и вообще люди пожилые, слабые здоровьем дошли каждый до угла своей улицы. Иные проводили носилки с покойником до — городской окраины. Остановившись там, стучали в ближайшее окошко, а в доме уже знали, что этот стук означает. Тут же появлялся кто-нибудь с водой, необходимой для омовения рук. Прохожий обливал кончики пальцев, вздыхал и, пробормотав слова молитвы, уходил своей дорогой — домой, в лавку.
Молодые люди, сидящие на хлебах, изучающие священное писание, учившиеся когда-то у Авигдора или беседовавшие когда-либо с ним по — вопросам талмуда, проводили носилки с покойником за город. До кладбища, однако, они не дошли. День такой пригожий, ясный. Молодые люди свернули сразу же направо, к реке, — руки помыть. Часть решила вообще немного погулять за городом. Специально гулять сюда не пойдёшь, но раз уж пришли!.. Некоторые решили заодно искупаться.
Засыпали могилу, слова заупокойной молитвы подсказывали сиротке лишь несколько оставшихся меламедов; но и они спешат домой, в хедер: ученики их там, наверное, уже всё вверх дном перевернули.
Дощечку с надписью: «Здесь погребён...» — временный памятник, который, наверное, так и останется здесь навсегда, — ставит над могилой Иона Бац, посылая тяжкие проклятия по адресу почтенных граждан города... Силы у человека истощились, все соки высосали и выбросили, как кожуру выжатого лимона.
Носильщики запирают кладбище.
До города с версту пути. Солнце уже близится к закату. В город вернутся как раз к предвечерней молитве. Может быть, удастся ещё водки глотнуть. За работу сесть уж не придётся. Идут поэтому медленно, словно — отсчитывая каждый шаг, и проклинают почтенных граждан города за их жестокосердие.
Не только в отношении меламедов ведут они себя так отвратительно... А как обращаются они с беднотой вообще, а в особенности с ремесленниками!
И тут они сразу же забывают о покойнике, переходят к делам житейским: бедняки состоят членами братства носильщиков, а над ними — почтенные граждане из погребального братства. «Носильщики» работают до изнеможения,
а деньги забирают члены погребального братства и раздают их родственникам старосты, нескольким бездельникам, подхалимам... Разве с мнением ремесленников когда-либо считаются в городских делах! Кто принимает кантора? Именитые граждане! Ничего они в пении не смыслят: не разберутся, где настоящая трель, а где крик петуха; понятия не имеют, что такое «волах». И всё же именно они, эти толстопузые, принимают кантора! Кто назначает резника? Они же: глава общины Шмерл (да сгинет имя его!). Все три резника — его родственники! Пора бы уже взбунтоваться против всего этого, но вот беда: как раз сейчас дороговизна... Иона Бац хотел было приступить к закупке провизии для пирушки, устраиваемой ежегодно братством, но цены оказались такими, что не приступись! А когда жизнь дорога, тут у ремесленника смелости нехватает...
От разговора о пирушке перешли к прошлогодним и нынешним выборам должностных лиц общины. Выборы эти проведены были далеко не честно — никак они не могут не смошенничать...
А бедняжка-сирота плетётся там позади, забытый, испуганный... Глаза расширены, бледное личико в подтёках от слёз, которые текут по грязным щёчкам... Губы ещё дрожат от притихшего только что плача... Он даже голода не чувствует, хотя решительно ничего не ел сегодня.
Но у детей печаль долго не длится. Внимание мальчика привлекли камни по краям шоссе, — пройдёшь немного, и вот тебе камень на маленькой кучке земли, обложенной травой. Издали чудится, будто каждый камень глядит на тебя огромным глазом. Подойдёшь поближе — оказывается, на камне большой круг с цифрой посредине. Зачем и кому нужны эти камни, — мальчика не интересует. Но вот перепрыгнуть через такой камень надо попробовать. Он пробует, и ему это удаётся. И вот он уже бежит навстречу второму камню, прыгает через него ещё ловчей, несётся дальше, пока не забегает вперёд, обгоняет «носильщиков».
— Гляди, гляди, сиротка-то!
— Босой, бедняжка, — замечает Иона Бац со вздохом.
— И у моих сапожек нет, — отвечает шапочник Гешель.
— Зато отец-мать есть, — говорит Иона Бац.
— Фьюить! — свистит Берл-кондитер, что должно означать: много могут отец с матерью помочь, если заработка нет.
Смеркается. В поднебесьи появляется целая туча ласточек. Воздух наполняется птичьим гомоном, шумом крыльев; там кувыркаются, щебечут, гоняются друг за дружкой. Несколько ласточек снижается, играя; вот оторвалось от стаи ещё несколько — кружатся, и с каждым кругом они всё ниже, ниже... Мальчик останавливается и, раскрыв рот, смотрит на ласточек, из горла у него вырывается какой-то странный звук. Ему хочется закричать по-птичьи. Ножки у него топочут, приплясывают, точно он собрался полететь за ними. Поглядывая на весёлую птичью ораву туда, наверх, он в радости хлопает ручонками. Вдруг он хватает несколько камешков и целится в ласточек, которые опустились совсем низко.
— Ведь только что читал заупокойную молитву! — с горечью говорит Гешель-шапочник. — Стоит рожать и воспитывать...
— Да что тебе ребёнок понимает! — возражает Иона Бац.
— Телёнок, — замечает Гешель, — и тот мычит, когда корову забирают...
— Корова, — говорит кондитер, — мать, а не отец. А мальчик не телёнок.
Иона Бац подзывает мальчика:
— Иди-ка сюда, парнишка!
Как ни ласков голос у Ионы Баца, сиротка всё же затрепетал весь. Радость, улыбка исчезли с его личика. Вместо этого на лице появилось выражение тупого страха. Он неохотно приблизился. Иона Бац взял его за руку.
— Идём, мальчик... Я отведу тебя домой.
— Откуда у пса бездомного конура? — пошутил кондитер.
Иона Бац задумался. Ручки мальчика он, однако, из своей не выпускал.
В молчании приблизились к городу.
Они и не заметили, что мальчик ударился о камень и подпрыгивает сейчас на одной ножке.
Со страху он даже не охнул.
ИОНА БАЦ И ЕГО ПРИЯТЕЛИ
На самом краю города, где улочки разветвляются: направо — к синагоге, налево — к маленькой молельне братства носильщиков, Иона останавливает своих приятелей и озабоченно спрашивает;
Что же делать с сиротой?..
— Женить его, — шутит, по своему обыкновению, кон-Дитер.
— Поведи его в синагогу! — говорит шапочник Гешель.
— И всё?
— Тебе мало своих ребят? — спрашивает кондитер.
— Пусть наши почтенные граждане позаботятся о нём, — говорит шапочник.
— Ай! — свистит Иона Бац, — вы помните мальчика сумасшедшей Ханы... Где он теперь?
— В тюрьме, — равнодушно отвечает кондитер.
— Ему там лучше, чем моим дома, — вздыхает Гешель.
— Эх, вы! — серьёзно говорит Иона. — Грешно вам так говорить!
— Так что же? — спрашивают оба.
— Послушайте, — говорит Иона изменившимся голо^-comi. — Сиротка остался с нами... Это неспроста... Видно, так суждено.
— Ещё чего?
— Нет, вовсе не «ещё чего»! Почему он ни с кем не пошёл домой, а остался с нами?
— Мы остались последними...
— Это всё по воле божьей. За сиротами там, в небесах, следят... Нельзя нам его оставлять...
Оба приятеля пожимают плечами... Что это сталось с Ионой? Что-то он чересчур серьёзен нынче, чересчур благочестив. Совсем непохож на обычного Иону. Всё же они мельком бросают взгляд на ребёнка и содрогаются: запуганный, дрожащий птенец; душа болит.
— Как тебя звать, мальчик? — мягко спрашивает кондитер.
— Дбвидка, — еле произносит ребёнок.
— Так что же? — снова спрашивает Иона.
Они молчат.
— Посоветуйте что-нибудь! — умоляет их Иона.
Но приятели уже отвернулись и не глядят на сироту.
— Возьми его к себе, — говорят оба, не подымая опущенных в землю глаз.
— А моя жена?
Они молчат. Всем известно, что дома у Ионы власть у Сореле в руках. Стоит только долговязому Ионе вспомнить, что надо итти домой, как он сразу становится пе-
чальным, опускает голову. Подойдёт к двери и, раньше чем взяться за ручку, стоит некоторое время в раздумьи — нельзя ли куда-нибудь уйти хоть ещё на миг. А если уж некуда, опустит голову ещё ниже и войдёт. Дома ходит он согнувшись в три погибели... Речистый Иона, первый весельчак на любой пирушке, вожак в любой молельне, мастер выпить и в морду дать; Иона, которого боится раввин, вся община, — дома тише воды, ниже травы... Там он совершенно неузнаваем!
— Она бы мне всю жизнь отравила! — говорит Иона. — Она и своим дышать не даёт, — заканчивает он со вздохом.
— Где же тй, шут бы тебя побрал?..
— Ну, что поделаешь с бабой?..
Приятели молчат. Действительно: что поделаешь с бабой? Какому-нибудь почтенному гражданину, если чересчур надоест, можно и морду набить; раввину — ответишь грубо, он уползёт, как в мышиную нору... А баба с её воем да с ноготками... Нет, тут ничем не поможешь!
— Знаешь что, Гешель, — точно пробудившись ото сна, говорит Иона, — возьми ты его к себе!
— Ты с ума спятил! У меня для своих хлеба нет... Знаешь ведь, какие нынче заработки!
— Я полагаю — за плату...
— А кто платить будет?
— Сколько ты хочешь в неделю?
— Ну хоть бы рубль в неделю, — отвечает Гешель. — Но кто же будет платить? — продолжает он.
Всем известно, что узелок с деньгами находится у Go-реле, а не у Ионы, она ему подчас и на рюмку водки не даст. Хоть зарабатывает он, слава богу, неплохо: плотник хороший.
— А если наши именитые будут платить? — спрашивает Иона.
— Ого, так и жди их!
— Они обязаны платить! — топает Иона ногой.
— Иона! — говорит кондитер, — брось ты это! Зачем тебе ввязываться в общественные дела? Давно в городе распри не было? Хочешь снова огонь разжечь?
Гешель советует то же самое:
— Давай сиротку, я отведу его в синагогу.
— Я его сам отведу, — твёрдо заявляет Иона.
— Ах, ты уже привязался?,
Оба приятеля пожимают плечами и уходят.
Иона стоит некоторое время в раздумьи, потом кричит им вслед:
— Гешель, так помни: рубль в неделю!
— Я помню! — отвечает Гешель уже издали.
— Бес какой-то вселился в него, упаси господи, — говорит кондитер.
— Ну, знаешь, жаль всё-таки, — отвечает Гешель.
— Конечно, жаль, — повторяет кондитер, — но я тебе вот что скажу: жалость — дорогое удовольствие для бедняка!
Они сворачивают в переулок и заходят в первый попавшийся шинок хватить по рюмке.
А Иона всё ещё стоит на том же месте и держит сироту за руку. Он всё ещё раздумывает.
В СИНАГОГЕ МЕЖДУ ПРЕДВЕЧЕРНЕЙ И ВЕЧЕРНЕЙ МОЛИТВАМИ
— Что ты тут делаешь, Ионочка? — спрашивают у Ионы, завидя его в синагоге между предвечерней и вечерней молитвами.
Но в городе, слава тебе господи, тихо. Поэтому люди, успокоенные, проходят мимо, не выпуская изо рта чубука; или же соберутся в кружок, толкуют. Потолковали тут уже
06 Авигдоре, наговорили всякого добра, что только возможно было. Потом! перешли к базарным ценам, к распродажам, к политике. Об эмиграции люди тогда ещё не знали.
К сиротке отнеслись сегодня несколько лучше. Заметят его, остановятся на секунду, вздохнут, а иной и по шапчонке погладит.
Но вот вдруг поднялся шум. Все взоры обратились к столу посреди синагоги. Иона там. Мальчика он поставил на стол. Ребёнок заплакал, ему хочется слезть со стола или хотя бы сесть. Ему боязно стоять так высоко над всеми. Но Иона не пускает его. Удерживая его за воротник ка-потки, он старается его успокоить.
— Тише, Дбвидка, — шепчет он ему, — тише, я стараюсь ради твоего блага!
Мальчик всхлипывает, но уже несколько! тише.
Со скамей у восточной стены, у которой сидят именитые горожане, доносится голос:
— Ногами на стол! Сойди сию же минуту, балбес!
Иона узнаёт голос говорящего и отвечает спокойно, но твёрдо:
— Не бойся, Рувимка, не бойся, благочестивая душа! Сиротка босиком стоит. Сапожек у него давно уже нет.
И, возбуждённый своими же словами, добавляет сердито:
— И он будет тут стоять, пока его не обеспечат всём!
Прихожане, заинтересованные, молчат.
— Ему, правда, трудно стоять, — продолжает Иона, — он босиком был на кладбище, поранил себе ножку. Но стоять он всё же должен, уважаемые! Должен, потому что он сирота и нуждается в том, чтоб о нём позаботились.
— Погляди-ка на этого благодетеля, — отзывается кто-то сбоку.
— Приступайте к молитве! — кричит другой.
— Кантор, к аналою! — командует староста.
Иона ударяет кулаком по столу так, что по всей синагоге гул идёт. Близко стоящие отскакивают в сторону. Да-ян, реб Клонимус, который стоит тут же у стола, прикрыв руками худое, измученное от частого недоедания лицо (он тем временем успел уже повторить свой ежедневный урок из талмуда), открывает его. В его серых выцветших глазах глубокая немая печаль.
— Иона, — шепчет он, — не надо насилия!
— Молиться не будут! — кричит Иона и хватает подсвечник со стола.
Староста снова садится на своё место, кантор останавливается, не дойдя до аналоя, а Иона говорит, повернувшись к реб Клонимусу:
— Ребе, — говорит он ядовито, — вы думаете — они молиться хотят! Ничего подобного! Они об ужине заботятся. Жёны уже готовят им там ужин! Будет горячий бульон со свежими бубликами, жирный кусок мяса с вкусным красным хреном, а может быть, ещё и сладкая морковь! А сиротке есть нечего!
— Не твоё дело! — кричит кто-то, спрятавшись за кучкой прихожан. Реб Клонимус снова закрывает лицо костлявыми руками, а Иона отвечает:
— Нет, это моё дело! Вы, как крысы, разбежались с похорон, а мне вы оставили сироту! Это не ваша воля была,
это воля божья. Господь неспроста так сделал. Ему известно, что чувство — справедливости есть только у бедняка, что Иона Бац не бросит сироту на произвол судьбы!
Мальчик начинает понимать, о чём идёт речь. Он подымает голову, кладёт правую ручку Ионе на плечо и стоит, опираясь о него и поддерживая левой рукой раненую ножку.
Единственная пуговка на капотке у него расстегнулась. Из-под рваной рубашонки видно грязное, истощённое тельце. На лице у него — какая-то необыкновенная, печальная улыбка. Он уже не боится людей; он чувствует, что Иона Бац здесь сейчас главный над всеми, а он ведь опирается на Иону Баца!
— Смотрите, почтенные! Смотрите, евреи милосердые, — взывает Иона Бац задушевно, — ножка раненая, босой...
— У меня есть пара сапожек. Старые, но целы ещё.
Иона узнаёт голос.
— Хорошо! — говорит он. — Итак, реб Иосл жертвует; хорошее начало... Но на нём и рубашонки нет!
Ещё кто-то заявляет, что жена его, наверно, не пожалеет нескольких рубашек для сиротки.
Очень хорошо, — говорит Иона, — я знаю, Генечка не откажет! А одежонку?..
Кто-то жертвует и одежонку. Иона всё принимает с радостью.
— А кормить, — продолжает он, — кормить кто его будет? Почему молчит реб Шмерл? Почему глава общины ничего не скажет?
Реб Шмерл, толстенький человечек с длинными бровями, заслюнившими глаза на его обрюзгшем лице, сидит над фолиантом и не двигается с места.
— Тут не общинная канцелярия, — говорит он тихо и спокойно, обращаясь к прихожанам, стоящим вокруг него. Ответ его передаётся из уст в уста. В одно мгновение он облетает всю синагогу: реб Шмерл говорит, что тут не общинная канцелярия.
— Вот хитрец! — замечает кто-то.
— Бисмарк!
— Мошенник! — поправляет потихоньку другой.
И в то же время со скамей у восточной стены, с левой стороны ковчега, доносится другой голос.
— Иона, — говорит он, — выслушай меня, Иона! Оставь
ты это сейчас... Нынче четверг, уже вечер... Что это за манера такая? Нет такого обычая, и закона такого нет, чтоб в обычнейший четверг не давать людям молиться... Поди ты домой, а в субботу приходи с утра, — тогда вот не дашь приступить к чтению торы. Это вот пожалуйста...
— А в субботу, — обрезал его Иона, — реб Рахмиел будет молиться дома, поест и ляжет под перину? Да?
Слышен смех: умница Иона!
— Ну, так что ж, Иона, чего ты хочешь?
— Я хочу, чтоб обеспечили сиротку. Для себя мне ничего не нужно! Питание, господа, питание для сиротки! — взывает снова Иона. И, помимо своей воли, он впадает в благочестивый тон синагогальных возгласов: «Два злотых... зачтётся вам за благодеяние! три злотых... зачтётся вам за благодеяние!» В синагоге становится весело.
— Я возьму его к себе ужинать, — слышен голос.
— Хорошо! — снова говорит Иона, — и это пожертвование! Слышишь, сиротина, — оборачивается он к ребёнку, — хорошее начало уже есть! Ужинай на здоровье! А завтра, — оборачивается он снова к говорившему, — завтра что будет?
- — Пускай и завтракать приходит, — отвечает тот же голос.
— А обед?
— Неуч! — кричат сбоку, — завтра ведь пятница!1
1 В ожидании торжественной вечерней трапезы религиозные евреи по пятницам не обедают.
— А в субботу? — не отстаёт Иона.
— В субботу он тоже может ко мне притти.
— А что будет в воскресенье? — снова спрашивает Иона, — а в понедельник, во вторник, во все остальные дни недели? А там опять суббота, новая неделя пойдёт.
— Чего ты пристал ко мне! Что, я тут один?
— Упаси боже! Я обращаюсь ко всем прихожанам. Будь у всех такое доброе сердце, как у вас, сиротке уже не к чему было бы стоять на столе.
Прихожане молчат.
— Молиться! — снова подымается крик.
— Пошлите за его женой, он сейчас же сбежит! — слышится чей-то голос в общем гуле.
Иону точно громом сразило. В одну минуту высокий, огромный Иона сник, растерялся. Брошенные кем-то в шутку Слова угодили в него, как маленький камешек Давида в великана Голиафа — прямо в висок!
— Молиться, молиться! — кричат уже громче. Иона мол чит. Он уже не подымает руки с подсвечником. Куда девалась вся его дерзость?..
НЕОЖИДАННАЯ ПОМОЩЬ
И кто знает, что сталось бы с сиротой, если б не помощь, неожиданно пришедшая со стороны.
На амвон, около ковчега, вскочил чернявый молодой человек в маленькой шапчонке на самой макушке; пейсы разлетелись у него в разные стороны, из-под расстёгнутого халата вырвались нити арбаканфеса; горящие глаза его под широким лбом беспокойно бегают.
— Глядите, глядите! — поднялся шум. — Хаим-Шмуэл!
В одно мгновенье все взоры устремились к ковчегу.
Даже реб Шмерл, спокойно сидевший до сих пор над
своим талмудом, забеспокоился чего-то, поднял брови.
— Кто? кто? — спросил он сладеньким, но испуганным голосом.
— Хаим-Шмуэл, Хаим-Шмуэл! — повторили кругом.
— Господа! — кричал тем временем молодой человек с амвона, — помните, что я вам говорю! Господь-бог, как сказано в священных книгах, отец всех сирот! Вы не имеете права оставить сироту на произвол судьбы — не то вы сами, не дай господи, оставите сирот...
— Вон, наглец, сойди с амвона!..
— Не кричите, господа, я хочу правдивое слово сказать, доброе слово...
Доброе слово народ готов слушать.
— Тише, господа... Вы ведь евреи, люди милосердые, сердца у вас еврейские, почему же вы молчите? У вас, говорите вы, карман дырявый?..
Поднялся хохот.
— Не смейтесь, я серьёзно говорю. Денег у вас нет, община бедная! У вас нет, у реб Шмерла нет... Ну, что ж... тогда я вам деньги дам...
При этих словах реб Шмерл ещё больше забеспокоился. Osn закрыл фолиант, поднялся с места и поглядел на амвон.
— Иона! — обратился молодой человек с амвона к стоявшему у стола Ионе, — у тебя есть, кому передать сиротку? $2
— Конечно! — ответил Иона, который успел уже приттй в себя.
— Сколько это должно стоить?
— Рубль в неделю!
— Очень хорошо! Господа, я даю деньги! Я плачу-рубль в неделю за сиротку.
— Ты? ты? — закричали со всех сторон. Всем известно, что у молодого человека нет и ломаного гроша за душой.
— Не свои деньги, господа! Слушайте, я даю не свои деньги, я даю деньги моего шурина Айзика!
— А-а! — зашумели вокруг. Прихожане уже поняли, о чём речь. Шурин его, Айзик, имеет грамоту на право быть резником.
Теперь уже реб Шмерл побледнел. Глаза у него загорелись, он стал пододвигаться поближе к амвону. Но пока он проталкивался, молодой человек успел прокричать:
— Мой шурин даёт обязательство... Он будет платить рубль в неделю... до самой бар-мицво... даже до свадьбы...
Заметив, что реб Шмерл уже совсем близко, что он стоит уже на первой ступеньке амвона, он выпалил остальное одним духом:
— Только за право резать птицу! Только за право резать птицу! Кричите, люди добрые: да!
Народу понравилась эта ьыходка, и все восторженно закричали:
— Да! да! Согласны! Согласны! Все согласны!
Реб Шмерл уже вплотную подошёл к молодому человеку. Он уже схватил его за лацкан с тем, чтобы стащить с амвона. Но от этих криков «Да! да! согласны!» он совершенно растерялся.
— Режь, Айзик! — закричал напоследок молодой человек и соскочил с амвона влево, чтобы не столкнуться с реб Шмерлом.
Возвратившись на своё место, реб Шмерл стал говорить даяну:
— Реб Клонимус! Реб Клонимус! Как это вы допускаете...
Но тот же самый молодой человек уже стал у аналоя и
возгласил начало вечерней молитвы:
— И он милосердый...
Присутствующие, раскачиваясь, весело вторили ему, и голос реб Шмерла потонул в общем гуле молитвы.
Реб Клонимус всё ещё не отнял рук от лица
ПОСЫЛЬНЫЙ
Он идёт, и ветер треплет полы его кафтана и белую бороду.
Ежеминутно хватается он рукой за левый бок, каждый раз чувствует там острую, колющую боль. Но он не хочет себе сознаться в этом, он хочет уговорить себя, что только ощупывает боковой карман.
«Только бы не потерять деньги и контракт!» — лишь этого он Якобы боится.
«А если далее и колет, так что из того... пустяки!
У меня ещё, слава богу, хватит сил для такой дороги. Другой в мои годы не прошёл бы и версты, я же, слава богу, не нуждаюсь в людской помощи, сам зарабатываю себе кусок хлеба.
Хвала всевышнему, люди мне деньги доверяют.
Если бы принадлежало мне всё то, что доверяют мне другие, — продолжает он свои размышления, — я не был бы посыльным в семьдесят лет. Но если так угодно господу-богу, что ж, хорошо и это!»
Снег начинает падать крупными хлопьями. Старик поминутно вытирает лицо.
«Мне осталось пройти, — думает он, — полмили. Тоже конец! Пустяки! Гораздо меньше, чем я уже прошёл».
Он оборачивается. Не видно уже ни городской башни, ни костёла, ни казармы. «Ну, Шмерл, двигай!»
И Шмерл «двигает» по — мокрому снегу. Его старые ноги вязнут в снегу, но он продолжает итти.
«Слава богу, ветер не сильный».
На его языке сильным ветром, должно быть, называется буря. Ветер был довольно сильный и бил прямо в лицо так, Что поминутно захватывало дыхание. Слёзы выступали на его старых глазах и кололи точно иглами. Но ведь глазами он всегда страдает. Si
«На первые же деньги, — думает он, — надо будет купить дорожные очки, большие круглые очки, которые совсем закрывали бы глаза.
Если бы бог захотел, я добился бы этого. Иметь бы только каждый день хоть одно поручение, да подальше! Ходить я, благодарение богу, ещё в силах, мог бы сберечь и на очки».
Собственно говоря, ему нужна и какая-нибудь шубёнка, может быть, тогда не кололо бы так в груди, но пока ведь у него есть тёплый кафтан.
Если бы только кафтан не разлезался по швам, это было бы совсем хорошо. Он самодовольно улыбается. Это не из нынешних кафтанов, сшитых на живую нитку из жидкого, никуда не годного материала, — это старый, хороший ластик, который переживёт, пожалуй, и его самого! Хорошо ещё, что без разреза сзади, — по крайней мере, полы не разлетаются во все стороны. А впереди они запахиваются чуть ли не на целый аршин.
В шубе было бы, конечно, лучше. В шубе так тепло-Очень тепло. Но всё-таки сперва нужно приобрести очки. Шуба годится только зимой, а очки нужны всегда. Летом, когда ветер сыплет песком прямо в глаза, пожалуй, ещё хуже, чем зимой.
Итак, решено: сперва очки, а потом уже шуба.
Если бы он с божьей помощью окончил приёмку пшеницы, то наверняка получил бы за это четыре злотых.
И он плетётся дальше. Мокрый, холодный снег бьёт ему в лицо, ветер становится всё крепче, колотьё в боку — всё сильнее.
«Если бы только переменился ветер! Впрочем, так лучше: на обратном пути я ещё больше устану, и тогда ветер будет дуть мне в спину. О, тогда я совсем иначе зашагаю!»
Всё обдумано, и на душе сразу легко.
Он вынужден остановиться на минуту, чтобы перевести дыхание. Это его немного беспокоит.
«Что бы это со мной могло случиться? Мало ли вьюг и морозов перенёс я, будучи кантонистом?»
И он вспоминает свою военную службу, время, когда он был николаевским солдатом. Двадцать пять лет действительной службы под ружьём, не считая детского возраста, когда он был кантонистом. Он немало походил на своём веку, немало помаршировал по горам и долинам, и в
какие вьюги, в какие морозы! Деревья трещат, птицы замертво падают наземь, а русский солдат, как пи в чём не бывало, бодро шагает вперёд да ещё песенки распевает, камаринского или трепака отплясывает.
Мысль о том, что он выдержал тогдашнюю тридцатипятилетнюю службу с её тяжёлыми испытаниями, перенёс столько вьюг, морозов, столько лишений, голода, жажды и здоровым домой вернулся, вызывает в нём чувство гордости.
Он распрямляет спину, гордо подымает голову и шагает с удвоенной силой.
«Ха-ха! Что для меня такой мороз? В России — там было совсем другое дело».
Он шагает дальше. Ветер чуть стихает. Становится темней. Близится ночь.
«Тоже день, нечего сказать! Оглянуться не успеешь...» И он ускоряет шаг, боясь, чтоб ночь не застигла его на полпути. Недаром же он по субботам изучает тору в синагоге. Он отлично знает, что «надо выходить и возвращаться заблаговременно».
Он начинает чувствовать голод, а когда он голоден, ему почему-то становится весело — так уж у него получается. Он знает, что аппетит — вещь хорошая; купцы, у которых он на посылках, вечно жалуются, что им никогда есть не хочется. У него, слава богу, всегда есть аппетит. Разве только? когда ему становится не по себе, как вчера, например: он чувствовал себя нездоровым, и хлеб показался ему кислым.
«Поди ж ты, чтоб солдатский хлеб был кислый! Может быть, когда-то, в былые времена, но не теперь. Теперь христиане пекут такой хлеб, что еврейских пекарей за пояс заткнут. А хлеб он купил свежеиспечённый. Одно удовольствие резать его. Просто сам он тогда был не совсем здоров, дрожь какая-то по всему телу пробегала.
Но слава тому, чьё имя он недостоин произносить, это случается с ним редко!»
Теперь у него снова появился аппетит, он далее запас на дорогу кусок хлеба с сыром... Сыру ему дала жена купца, дай бог ей здоровья! Она-таки настоящая благотворительница, у неё истинно еврейское сердце.
Если бы она только не бранилась так крепко, то была бы совсем славной женщиной!,. Он вспоминает свою умершую жену. «Точь-в-точь моя Шпринце! У той тоже было доброе сердце и привычка браниться за каждую мелочь. Кого бы из детей я ни отсылал в люди, она плакала навзрыд, несмотря на то, что дома ругала их самыми отборными словами. Что уж там) говорить, когда умирал кто-нибудь из них! Она целыми днями извивалась по полгу, как змея, и колотила себя кулаками в голову. Однажды она дошла даже до того, что хотела швырнуть камень в небо!
Подумаешь! Будто и в самом деле бог обращает внимание на глупую женщину! Но она ни за что! не хотела выпустить из дому носилок с покойником. Она колотила женщин, а носильщикам даже в бороды вцепилась.
И какая сила таилась в этой Шпринце! На вид — муха, а какая сила, какая сила!
Но всё-таки она была доброй женщиной. Даже ко мне она не питала вражды,, даром что не находила никогда доброго слова для меня. Вечно требовала развода, не то, мол, она и так сбежит. Но какой ей там развод!..»
Он о чём-то вспоминает и самодовольно улыбается.
Случилось это много, много лет назад. Ещё во времена откупов. Он был ночным сторожем и по целым ночам расхаживал у склада с железной палкой в руке. Службу он знал отлично, он прошёл хорошую школу, в полку имел превосходных учителей!..
Было это зимой, пред рассветом. Его сменил дневной сторож — Хаим Иона, царствие ему небесное. И Шмерл направился домой, озябший, окоченевший от мороза. Стучится в дверь, а жена кричит ему из постели:
— Провались ты сквозь землю! Я думала, что вернёшься уже не ты, а тень твоя.
Ого! Она сердита ещё со вчерашнего дня. Он не помнит далее, что случилось вчера, но что-то, должно быть, случилось.
— Заткни глотку и открой дверь! — кричит он.
— Череп я тебе раскрою, — слышится короткий ответ.
— Впусти!
— Провались ты сквозь землю!
Подумав немного, он направился в синагогу. Там он расположился за печкой и уснул. К несчастию, там как раз случился угар, и его, еле живого, принесли домой...
Шутка сказать, что тогда вытворяла Шпринце! Позже
немного он стал хорошо слышать всё, что творилось вокруг него.
Ей говорят: ничего опасного, он только угорел.
Так нет же! Непременно ей доктора подавай. Она сейчас упадёт в обморок, бросится в воду!.. И кричит благим матом: «Муж мой! Муж мой, бесценный мой!»
Собравшись с силами, он садится и спокойно спрашивает:
— Ну, что, Шпринце, хочешь развод?
— Прова... — Но она не докончила проклятья и разразилась громким плачем... — Как думаешь, Шмерл, бог накажет меня за проклятья, за мою злость?..
Но едва лишь он выздоровел — снова она прежняя Шпринце: язык удержу не знает, сильна, как чорт, и запускает когти, как настоящая кошка. Э-эх, жалко Шпринце! Не дождалась она радости от своих детей.
«Им, должно быть, хорошо живётся там, на чужбине, — все ремесленники. С ремеслом нигде не пропадёшь с голоду, сил у них, слава богу, достаточно, — в меня пошли; а то, что не пишут, ну что ж, сами они не умеют, а других просить... Да и что за вкус в таком письме? Что рыба без перцу! И, кроме того, — время... дети, молоды, забывчивы... Им, должно быть, очень хорошо живётся...
Только Шпринце, бедная, лежит в земле. Жалко Шпринце.
— Как только прекратились откупа, она стала на себя не похожа. И то сказать, покуда я приучился к своему теперешнему занятию посыльного, покуда научился говорить помещику: «ясновельможный пан» вместо «ваше благородие» и мне стали доверять и деньги и документы, пришлось порядком-таки поголодать...
Ну, я, мужчина, бывший кантонист, мог и не поесть денёк-другой. Ей же, бедняжке, это стоило жизни. Глупая женщина. Чуть что — она теряет силы; под конец она уже и браниться не могла как следует; куда девалась вся её прыть! Она только и умела что плакать.
Это отравляло мне жизнь. Не знаю почему, она стала вдруг бояться меня. Стала бояться, что мне не хватит еды. А раз она меня боится, я начинаю куражиться, — кричу, бранюсь. Кричу ей: «Почему ты жрать не идёшь?» Иногда она доводила меня до бешенства, я чуть ли не с кулаками набрасывался на неё.
Но как бить плачущую женщину, когда она сидит сложа руки и с места не сдвинется? Только подбегу с кулаками, поплюю на них... а она мне: «Поешь ты раньше, а я потом». И я принуждён был сперва сам пожевать хлеба, а ей уже отдавать остатки...
Иногда для отвода глаз она усылала меня куда-нибудь на улицу: иди, я без тебя поем, — может, заработаешь что-нибудь, и при этом старалась улыбнуться и даже приласкать иногда.
А когда я возвращался, то находил хлеб почти нетронутым.
Она старалась меня уверить, будто не может есть сухого хлеба, будто ей нужна каша».
Он опускает голову, точно на него навалили тяжёлую ношу, и грустные мысли, одна другой быстрее, проносятся в его голове.
«И какой рёв подняла она, когда я хотел заложить свой субботний кафтан — тот, что теперь на мне. Ужас, что она вытворяла, и со всех ног кинулась закладывать свои медные субботние подсвечники. И уже до самой своей смерти она молилась над свечами, вставленными в картофель... Перед смертью она призналась мне, что никогда не хотела развода и что говорила это только со злости.
— Язык мой, язык мой! — вопила она, — боже милосердный, прости мне мой язык! — Она так и умерла в страхе, что её на том свете повесят за язык.
— Бог, — говорила она, — не будет милосерд ко мне; чересчур уж я много грешила. Только — когда ты придёшь «туда», — не скоро, более упаси, через сто двадцать лет, — поскорей сними меня с виселицы. Скажи всевышнему, что ты простил меня...
Она уже почти потеряла сознание, как вдруг стала звать детей. Ей казалось, что они здесь, около неё, и она стала просить и у них прощения.
Глупая женщина, как будто ей не простили...
Сколько ей всего-то было? Лет пятьдесят! Умерла такой молодой! Шутка сказать, когда человек все так близко принимает к сердцу... Когда уносили что-нибудь из дому, ей казалось, что уносят часть её собственного тела, половину её самой.
Что ни день, она становилась всё желтее, как-то высохла вся в даже ростом стала меньше.
Она говорила, что чувствует, как высыхает до мозга костей...
Она знала, что умирает.
Как она любила дом со всем, что в нём есть! Что бы ни унесли — табуретку, железную сковороду, что угодно, она обливала всё это горькими слезами. С каждой вещью она прощалась, как мать с ребёнком, чего больше — обнимала и чуть ли не целовала их... «Ох, — говорила она, — когда я умру, вас уже не будет в доме».
Что говорить, женщина всегда останется дурой... То она казак в юбке, а чуть что — настоящим ребёнком станет. Подумаешь, не всё ли равно, когда умираешь, с табуретом или без табурета!»
— Фу! — прерывает он сам себя, — и чего только ни взбредёт в голову... Из-за эдаких пустяков я вон как плетусь. Ну, солдатские ноги, живее ступайте! — командует он.
Он оглядывается. Вокруг сплошной снег. Наверху — серое небо в чёрных заплатах. «Совсем как моя нижняя бе-кета! — думает он. — Неужели, великий боже, и у тебя нет кредита в лавочке?..»
Меж тем мороз усиливается Борода и усы превратились в сосульки. Дышать стало будто легче, но голова горячая, на лбу выступили каплй пота, и ноги — что ни шаг — всё больше устают и зябнут. Ему хочется присесть, но он стыдится самого себя. Первый раз в жизни у него является потребность отдохнуть на таком небольшом пути — в две мили. Он не хочет сознаться, что ему уже за семьдесят и пора бы совсем на отдых.
Но нет, он должен итти. Итти, не останавливаясь... Пока идёшь — ноги несут тебя, но стоит поддаться искушению и присесть, — и ты уже никуда не годен.
«Так и простудиться можно!» — стращает он себя, всячески стараясь побороть в себе желание отдохнуть.
«Недалеко уже и до деревни, успею и там.
Непременно надо будет отдохнуть. Пойду я не прямо к помещику... его приходится целый час ждать на дворе... зайду сперва к еврею.
Хорошо ещё, — думает он, — что я не боюсь помещичьих собак; по ночью, когда спускают Бурого, всё-таки опасно; хотя у меня с собой мой ужин и Бурый любит сыр. но всё ж лучше сначала дать отдых своим костям. Сперва
я зайду к еврею; погреюсь немного, помою руки, перекушу чего-нибудь...»
И у него текут слюнки: он с самого утра ничего не ел. Но это пустяки, его не беспокоит то, что он голоден, это доставляет ему даже удовольствие: человек голоден — это признак, что он живёт... Но ноги!..
Ему осталось пройти всего лишь каких-нибудь две версты; он различает уже в темноте большие сараи помещика...
Но — ноги — они ничего не видят, они всё ж требуют отдыха...
«С другой стороны, — думает он, — что такого, если я отдохну немножко? Одну минутку, полминутки!.. Может быть, и в самом деле отдохнуть? Попробую. Так долго слушались меня мои ноги, послушаюсь и я их хоть раз».
И Шмерл садится в сторонке на снежный сугроб. Теперь только он слышит, как сильно бьётся его сердце, как сильно колет в боку, и ^чувствует, что холодный пот выступил у него на лбу...
Ему становится страшно... Не заболевает ли он? При нём чужие деньги! Он может ещё, упаси боже, потерять сознание... «Слава богу, — утешает он себя, — что никого не видно! Но даже если бы и проходил кто-нибудь, ему и в голову не придёт, что у меня деньги. Курам на смех — кому деньги доверяют!..
Чуточку только посидеть, а потом — валяй дальше!»
Но глаза у него слипаются.
— Ну, вставай, Шмерл, вставай! — командует он. Командовать-то он ещё может, но не так-то легко это выполнить. Он не может и пошевельнуться. А ему кажется, что он идёт, идёт всё быстрее... Он уже видит перед собою деревенские избушки: здесь живёт Антек, там Василий, он всех их знает, нанимает у них подводы... К еврею ещё далеко, но лучше зайти к еврею... там иногда и «мезумен» застать можно. И ему кажется, что он идёт к домику еврея; но домик отодвигается всё дальше, дальше... Должно быть, так и надо,.. В печке горит весёлый огонь, окошко светится красным весёлым светом... Вероятно, у толстой Мирл варится теперь большой горшок картошки — она постоянно угощает его картофелем, горячим, рассыпчатым картофелем... И он двигается дальше, так ему кажется.
Мороз немного спал. Снег пошёл большими, пушистыми хлопьями.
Морозу, по-видимому, тоже стало! теплее S его снежной ризе. И кажется Шмерлу, что он уже в доме еврея. Мирл отцеживает картофель, он слышит, как журчит вода... Вода струится и с его ластикового кафтана... И еврей расхаживает по комнате и тихо напевает какую-то песенку. Привычка у него такая — напевать после поздней вечерней молитвы, потому что тогда он голоден, и он ежеминутно понукает жену: «Ну, Мирл!»
Но Мирл не торопится, — исподволь работается лучше.
«Сплю ли я и мне снится всё это?» Эта мысль сменяется вдруг приятным удивлением: ему кажется, что дверь открылась и вошёл его старший сын... Хоно! Хоно! О, он узнаёт его! Но как он попал сюда? Хоно не узнаёт отца и притворяется, будто ничего не знает... Вот тебе и раз! Он рассказывает Ионе, что едет к отцу... расспрашивает об отце... он не забыл отца! А Иона хитрит и не говорит ему, что отец сидит тут же, на скамье!.. Мирл занята, она суетится у печи, ей не до разговоров, — она растирает картофель большой деревянной ложкой и весело улыбается!
Ого, Хоно, должно быть, разбогател, сильно разбогател! Всё на нём новенькое... И цепочка!.. Может быть, она поддельная? Нет, наверное, из чистого золота. Хоно не станет носить поддельной цепочки, боже упаси...
Ха-ха-ха! — Он бросает взгляд на печку. — Ха-ха-ха! — Он чуть не надрывается со смеху. — Иекл, Берл, За-хариа... Все трое. Ха-ха-ха! Они спрятались на печке... ах, жулики!.. Ха-ха-ха!.. Жалко Шпринце, жалко! Хорошо бы, если бы и она дождалась этой радости... Меж тем Хоно заказывает к ужину гуся... «Хоно, Хоно, ты не узнаёшь меня?.. Ведь это я!..» И ему кажется, будто он целуется со своим сыном.
— Слышишь, Хоно, жаль матери, жаль, что она не видит тебя. Иекл, Берл, Захариа, долой с печки! Я вас сразу же узнал. Слезайте же, я знал, что вы придёте. Доказательство вот — я принёс вам сыр, настоящий овечий сыр!.. Взгляните-ка, ну, детки! Вы, помнится мне, любили солдатский хлеб! Что, не так?..
— Да, жалко мать!..
И кажется ему, что все четыре сына окружили его, целуют, крепко прижимают к себе.
— Вольно, детки! Вольно! Не прижимайте меня так сильно! Я уже не молодой человек. Восьмой десяток по-92
шёл... Вольно!.. Вы душите меня, вольно, детки мои!.. Старые кости! Осторожно! У меня деньги в кармане! Слава богу, мне доверяют деньги!.. Довольно, детки, довольно!.. Довольно...»
Он замёрз, с рукой, прижатой к боковому карману...
БЕРЛ-ПОРТНОЙ
(Из хасидских рассказов)
Бердичевская синагога. Канун судного дня. Под вечер
«...С соизволения божия, с соизволения людского».
Старики произнесли последние слова молитвы и уселись по своим местам.
Рабби Леви-Ицхок у амвона. Он должен произнести «Кол-нидрей» и молчит. Все взоры устремлены на спину Леви-Ицхока. В женском отделении синагоги тишь, как на море перед бурей. Он начнёт и, может быть, как это иногда бывает с ним, с проповеди. Сначала же побеседует с всевышним, как с близким, по душам, па простом языке...
Но рабби Леви-Ицхок, облачённый в белый хитон и талес, неподвижен и молчит.
Что это означает?
Неужели врата молитв ещё закрыты в такой поздний час? Или не в силах рабби Леви-Ицхок постучать, чтобы открыли? Он стоит, склонив голову слегка набок, ухо — кверху, точно оттуда ему что-то доносится. Не прислушивается ли рабби Леви-Ицхок, как будут открывать врата молитв?..
И вдруг рвбби Леви-Ицхок оборачивается лицом к народу и зовёт:
— Шамес!
На зов бежит синагогальный служка. Рабби Леви-Ицхок спрашивает его:
— Берл-портной уже здесь?
Молящиеся поражены. Синагогальный служка дрожа лепечет: «Не знаю», оглядывает всех. Рабби Леви-Ицхок тоже оглядывается и говорит:
— Нет, не пришёл! Остался дома. — И снова обращается к служке: — Ступай к Берлу-портному домой, позови сюда. Скажи, что я, Леви-Ицхок, духовный глава общины, зову его.
Синагогальный служка уходит.
Берл-портной живёт на этой же улице, недалеко от синагоги. Ждать его долго не приходится. Он является без белого хитона и талеса, в будничной одежде, нахмуренный, глаза — не то злые, не то испуганные. Он подходит вплотную к рабби Леви-Ицхоку:
— Вы меня звали, рабби? Вот я пришёл к вам!
«К вам» подчёркивает он.
Рабби Леви-Ицхок улыбается.
— Скажи мне, Береле, почему так много говорят о тебе в небе? Ведь чертоги господа полны тобою! Какой шум ты там поднял! Ничего другого не слыхать, только: «Берл-портной» да «Берл^-портной».
— Да? — торжествует Берл-портной.
— У тебя какая претензия есть?
Отвечает:
— Конечно!
— К кому?
— К всевышнему.
Прихожане готовы разорвать портняжку на части. Рабби Леви-Ицхок ещё шире улыбается:
Может быть, ты нам расскажешь, Берл, в чём дело?
— Отчего же нет? Готов здесь даже тяжбу затеять с богом. Ну как, говорить?
— Говори.
И Берл-портной начал:
— Всё лето, рабби (да не случится это с вами!), я не имел работы. Никто не дал мне заработать... ни еврей, ни — да не будь он помянут рядом! — иноверец. Хоть ложись да помирай.
— Может ли это быть? — не верится рабби Леви-Ицхоку. — Потомки Авраама, Исаака и Якова — милосерднейшие из милосердных. Надо было поверить им свою нужду.
— Нет, рабби, никогда! Я никому не жалуюсь и ни у кого не беру. Подачек от людей Берл не желает. Всевышний обязан пред ним, как и пред другими.
Но вот что сделал Берл: дочь свою в прислуги отдал — куда-то в большой город.
И сидит Берл дома, ждёт: что сотворит его «святое имя».
Наступает праздник кущей. Открывается дверь. Ага, дождался: входит в дом посланец от пана — зовут шубу шить.
Хорошо! Владыка мира позаботился!
И вот Берл отправляется и прибывает в замок к пану. Ему отводят отдельную комнатку, дают сукно и мех.
— Видели бы вы, рабби, какие лисьи шкурки! Лисьи из лисьих...
— Ведь уже время приступить к «Кол-нидрей»! — торопит его рабби Леви-Ицхок. — Словом, ты сделал своё дело как следует. Что же было дальше?
— Пустяки! Три шкурки остались.
— И ты их взял себе?
— Это было не так легко, рабби, как говорится. Когда выходишь из замка, у ограды стоит страж. Если у него явится подозрение, то он обыщет тебя с ног до головы, даже сапоги снимет. И если бы, не дай бог, шкурки у меня нашли, то... у пана и собаки и гонцы есть...
— Ну, и как ты поступил?
— Но ведь я Берльпортной! Пошёл на кухню, попросил хлебец с собой.
Рабби Леви-Ицхок прерывает:
— Как, хлеб иноверцев?
— Не для еды, рабби, боже упаси! Мне дали хлеб, большущий хлеб. Вернулся я обратно в дом, разрезал его и вынул весь мякиш. Мякиш я долго мял руками, пока он не пропитался потом, и бросил псу, который сторожил у порога. Собака любит человеческий пот. А три шкурки я сунул в пустой хлеб. И иду.
У ограды:
— Ты что там, еврейчик, несёшь подмышкой?
Показываю — хлеб.
Прошло благополучно. А чуть подальше, я давай бежать. И не иду дорогой, а всё жнивьём, жнивьём. С поля на поле: полем путь короче. Вот так иду, приплясываю: есть чем праздничек справить! Без подачек от общины, без долгов. Шкурки дорогие...
И вдруг чувствую — земля дрожит. Догадываюсь: всадник мчится. За мной погоня! Стынет кровь в жилах. Наверное, подсчитали шкурки. Бежать — глупо: ведь всадник, панский конь. Бросаю первым делом хлеб свой в жнивьё. Но делаю примету. Хорошую примету. И останавливаюсь. Слышу — окликают:
— Гей, Берко! Берко!
Да, это он — панский казачок. Узнаю его голосок. Внутри, рабби, всё дрожит во мне. Душа — в пятки ушла. Но Верл-портной не теряется, идёт навстречу, будто ни в чём не бывало.
Оказывается, напрасный страх!
Забыл вешалку пришить, вот и послали за мной гонца. И он уж тащит меня на коня. Поворачивает, скачем...
В душе благодарю бога за избавление. Пришиваю вешалку и пускаюсь в обратный путь. Прихожу к примете — нет хлеба.
Жатва давно закончена. Кругом ни живой души. Никакая птица в мире такой тяжести не поднимет. Догадываюсь, кто это сделал...
— Кто?
— Он! — отвечает Берл-портной и указывает пальцем вверх, — владыка мира. Это дело его рук, рабби! И знаю, почему. Он, великий бог, не желает, чтоб его раб, чтобы я, его Берл-портной, брал остатки...
— Ну, конечно, — замечает мягко рабби Леви-Ицхок, — по закону...
— Закон... Какой закон! — возражает Берл, — он знает, что обычай сильней закона. И не я обычай этот создал; он существует испокон века. И опять, — рассуждает Берл, — если он, владыка мира, такой великий, гордый пан и не желает, чтоб беднейший из его слуг, его раб Берл-портной, который служит ему, разрешал себе брать остатки, так пусть даёт заработок. Пусть он, как пан, даёт мне самое насущное.
Ни того, ни другого он, однако, не хочет.
— Раз так, — говорит Берл, — то я не хочу больше служить владыке мира! Я, — говорит, — дал себе зарок. Довольно!
Взревели тут прихожане по-медвежьи. Машут на него руками, надвигаются на него.
Но рабби Леви-Ицхок произносит веско:
— Чтобы тихо стало!
Прихожане утихают. И рабби Леви-Ицхок спрашивает Берла задушевно:
— А дальше что?
— Да ничего.
И рассказывает:
— Прихожу домой, не умываюсь. Ем, не совершая омо-пенья рук. Жена пытается протестовать, — пощёчина! Ложусь спать без молитвы. Уста хотят произносить молитву, — сжимаю их, стискиваю зубы. Утром ни омовенья рук, ни благодарения всевышнему, ни молитвенного облачения! — «Дай есть!» Жена убежала из дому. В деревню убежала, к своему отцу-арендатору. Что ж, пусть без жены! Мне это даже доставляет удовольствие. Я-то ведь, — я! Я Берл-портной. Она слабая женщина, пусть не становится мне на пути. И я делаю своё. Никаких обрядов! Иногда, случается, выпью рюмку, в праздник — не произношу благословенья над вином, нет! В «праздник торы» я, как Мор-духай, когда народу угрожало бедствие, хватаю мешок и одеваю на голову. Назло! Наступают дни покаянья, становится как-то не по себе... Синагогальный служка на рассвете стучит, будит к богослужению. Сердце сильнее бьётся, так и тянет, тянет... Но ведь я — Берл-портной, слово держать умею. Укрываюсь с головой. Выдерживаю! Чтоб глаза не видели... Наступает Новый год — я ни с места. Наступает время трубных звуков — затыкаю уши ватой... Сердце разрывается, жалко себя, рабби... И мне стыдно перед самим собой. Хожу неумытый, в доме грязь. Обломок зеркальца висит, я поворачиваю его к стене, не хочу своей рожи видеть... Слышу, народ идёт к реке, чтоб отряхнуть с себя грехи и утопить их...
Берл на минуту умолкает, но тотчас, подскочив, кричит:
— Но прав я, рабби! Сдаваться так, без ничего, не стану!
Рабби Леви-Ицхок, подумав немного, спрашивает:
— Чего же ты хочешь, Берл-портной? Тебе нужен заработок?
Берл с обидой:
— Заработок — плёвое дело! Позаботился бы он раньше о пропитании. Пропитание полагается всем — и птице в воздухе, и червяку на земле. Пропитание — дело обычное. Теперь Берл требует большего!
— Скажи, Береле, чего же тебе?..
Подумав, Берл говорит:
— Не правда ли, рабби, в судный день прощаются лишь те грехи, которые совершены человеком перед богом?,
— Правда.
— А грехи, совершённые перед людьми, нет?
— Нет.
Тогда Берл-поптной вытягивается во весь рост, как струна, и говорит решительно и во всеуслышание:
— Я, Берл-портной, не подчинюсь и не вернусь к богослуженью до тех пор, пока владыка мира, в угоду мне, не простит и эти грехи! Прав я, рабби?
— Прав! — отвечает рабби Леви-Ицхок. — И стой твёрдо на своём! Придётся тебе уступить...
И рабби Леви-Ицхок оборачивается к амвону, смотрит кверху, прислушивается с минуту и возвещает:
— Ты, Берл, победил! Ступай за молитвенным облаченьем!
ОПУЩЕННЫЕ ГЛАЗА
(Из народных сказаний)
1
Давным-давно это было. В деревне под Прагой жил в старину еврей, некий Ехиел-Михл; держал он здесь корчму в аренде.
А помещик, владевший деревней, был не просто помещик, но знаменитый граф. И жил Ехиел-Михл у этого графа, что называется, припеваючи, чувствовал себя тут «важной персоной» — вёл себя гостеприимным хозяином, держался благотворителем; а когда, бывало, на праздник в Прагу едет, обязательно жертвует там на городские нужды. И так как он не был неучем, то стал захаживать к раввину — главе ешибота; покупал тут «райское яблоко», пальмовую ветвь на праздник кущей, мацу на пасху и тому подобное... Как-то попросил он раввина вымолить ему у бога сыновей. Раввин отказал, пророчески предвидя, что радости этому еврею дети не принесут. А про неудачных сыновей сказано: «Лучше, чтобы они и вовсе не родились». Очень опечалился этим Ехиел-Михл, но ряввин утешил его. «Что ж, Ехиел-Михл, бог поможет тебе, соберёшь достаточно денег на приданое, приезжай, я найду тебе такого зягя, что не пожалеешь».
Ехиел-Михл вернулся домой успокоенный. Две дочери у него, завёл он себе кубышку, сначала копил для старшей, потом и для Младшей дочери. «Учёный зять — это тоже не шуточное делю», — думал он.
Когда с божьей помощью были собраны первые пятьсот талеров, он сказал своей жене Двоше:
— Пришло время выдавать замуж нашу старшую дочь Нехаму. 100
Двоша одобрила его решение. Подсчитали: триста талеров на приданое, двести — на свадебное платье, подарки жениху и всякие расходы по свадьбе. Решили также устроить пир для нищих, да такой, чтобы Прага долго помнила.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Как это часто бывает, встретились тут разные препятствия: помещик давал поручение за поручением, потом снега замели дороги, полили летом дожди, перед праздниками нельзя было оставить корчму без присмотра... Одним словом, всё это не так-то просто. Ну и известно, человек предполагает, а бог располагает.
2
Да, Нехама, старшая дочь корчмаря, действительно была достойна жениха из пражского ешибота. Золото, а не девушка, добрая, тихая. Доброта светилась в её глазах. Была она покорной, слушалась отца и мать и всех добрых, благочестивых людей, останавливавшихся в корчме. Она выполняла все субботние обряды, читала религиозные книги, одним словом, — хоть сейчас под венец.
Это была достойная девушка! А вот с младшей обстояло не очень гладко. Ничего страшного, боже упаси, но было это существо странное: вечно задумчива, мечтательна; бывало, всё валится у неё из рук... Опустит глаза вниз и ходит вот так, сама не своя, бледная, как мел. Окликнут её — задрожит, точно с того света, еле на ногах держится. А иной раз глянет такими глазами, обдаст таким взглядом, что сразу не по себе станет.
Стали замечать в ней дурные наклонности. Не уведёшь её из корчмы, особенно вечерами, когда там музыка и танцы. Она готова ночи напролёт смотреть, как веселятся крестьянские парни с девушками, как кружатся они в вихре хоровода и поют свои песни, от которых корчма дрожит.
А уж когда удавалось увести её в спальню и уложить там в постель рядом с Нехамой, она лежала с закрытыми глазами ровно до тех пор, пока Нехама не уснёт. А как уснёт — вскочит сразу и, будь то зимой или летом, босая прильнёт к замочной скважине или к щели в стене. Застанет её здесь мать, оторвёт от стены, а девушка горит вся, как в огне. Напуганная Двоша рассказывала об этом Ехиел-Михлу.
— Если б можно выдать замуж сначала младшую, — вздыхал Ехиел-Михл.
— Надо посоветоваться с кем-нибудь, — отвечала Двоша.
Но всегда что-нибудь этому да мешало, пока, наконец, не случилось следующее происшествие.
3
Граф, владевший деревней, имел единственного сына, который, по панским обычаям, воспитывался в Париже. Раз в году молодой граф приезжал на каникулы домой. Но его здесь почти не видно было; днями и ночами пропадал он на охоте. Шкурки зайцев и других убитых зверьков Ехиел-Михл получал на графской кухне почти даром.
Как-то раз стояла страшная жара, воздух был раскалён. Молодой граф ехал верхом мимо корчмы, и взбрело ему тут спрыгнуть со своего белого коня, привязать его к изгороди и, зайдя в корчму, попросить стакан мёду.
Дрожащими руками подал ему Ехиел-Михл стакан мёду. Граф хлебнул и скривился. Ясное дело, в погребах отца мёд лучше, да к тому бог весть какой давности. Он наверное швырнул бы стакан в голову Ехиел-Михлу, если бы в эту минуту там, в уголке, не мелькнуло белое личико Малкеле, на котором глаза точно остановились от испуга. Молодой граф спокойно поставил стакан, бросил на стол талер и спросил:
— Мойше (паны всех евреев зовут Мойте), это твоя дочка?
Ехиел-Михл остолбенел. Заикаясь от испуга, он сказал:
— Да, да, моя дочь...
А молодой граф всё смотрел да смотрел, глаз не мог оторвать от девушки... Назавтра он снова приехал сюда пить мёд, приехал на третий, на четвёртый день... Девушку спрятали. Граф сердился; но не говорил ни слова, лишь покручивал свои чёрные усики да гневно сверкал глазами. Как-то ои мимоходом заметил, что платит Ехиел-Михл низкую аренду за кормчу и что пражские евреи предлагают больше... Это было правдой, но старый граф никогда этих евреев на шорог к себе не пускал. Эка важность! Сидит себе еврей, пускай сидит, добывает себе на пропитание. От 102
этих речей Ехиел-Михлу стало не по себе, а тут ещё Мал-келе ходит сама не своя. И решил он отправиться в Прагу, посоветоваться с раввином. Но снова появились тут разные препятствия. А молодой граф всё ездит да ездит. Как-то раз он ни с того, ни с сего заявил:
— Мойше, продай мне дочку.
У Ехиел-Михла в глазах потемнело, борода затряслась.
Молодой граф улыбнулся:
— Зовут её Эсфирь? — спросил он.
— Нет, Малкой зовут её.
— Пусть тебе кажется, — сказал граф, — что зовут её Эсфирь, что ты — Мордухай, а я — Ахашвейрош. Не подумай, однако-, что я надену на неё корону, но ты, во всяком случае, получишь безвозмездно корчму на веки вечные для тебя, детей твоих и внуков твоих.
Сказал так и дал Ехиел-Михлу время па размышление.
4
Видит Ехиел-Михл — дело плохо. Запряг он па рассвете лошадь и покатил в Прагу. Заявился прямо к раввину — главе ешибота, которого застал за талмудом. Поздоровался с ним и тут же, без обиняков, спросил:
— Ребе, можно выдать замуж младшую дочку раньше старшей?
Раввин облокотился на талмуд и ответил:
— Нет, так не делается у нас. Не еврейское это дело. — И напомнил ему историю Иако-иа и Лабана.
— Знаю, — сказал Ехиел-Михл. — Ну, а если необходимо?
— Например?
И тут Ехиел-Михл излил ему всю горечь души своей, рассказал всё самым подробным образом.
Раввин задумался и сказал:-
— Ну, если так, то можно.
Ехиел-Михл сообщил раввину, что он собрал пятьсот талеров, и наполнил ему об обещании выбрать жениха т учеников пражского ешибота.
Раввин задумался, опустил голову на руки, лежавшие на талмуде, поаом поднял её и сказал:
— Нгчт, Ехиел-Михл, этого сделать я не могу.
— Почему, ребе? — с дрожыо в голосе спросил Ехиел-Михл. — Разве моя Малка, упаси боже, грешна? Ова ребёнок, молодое деревцо — куда хочешь, туда и гнётся.
— Боже упаси! — ответил раввин. — Я не говорю, что она грешна, и не подумал даже. Но... не подходит это. Послушай, Ехиел-Михл! Твоя дочь не согрешила, но... но... она уже задета грехом. Понимаешь, она всё же немножко задета! А главное, — продолжал раввин, — я забочусь о твоём благе. Твоя дочь нуждается в надзоре, в надзоре мужа, человека самостоятельного, купца. Она нуждается в над-зоре тестя, свекрови, домашних... Надо у неё как-нибудь выбить это из головы. Ей нужен дом и много глаз и ушей. Дьявол, если он завладеет, воевать с ним нужно крепко. Он, как хрен, — раз посеешь, а растёт вечно. Рви, не рви, а он всё растёт.
Что ж, Ехиел-Михлу осталось лишь кивать головой в знак согласия.
— А теперь, — продолжал раввин, — подумай хорошенько. Представь себе, я буду добр к тебе и сдержу своё слово: спорить нечего, обещанье я тебе дал. Вот я выполню своё обещание и дам тебе зятя из ешибота. Что получится? Парень бедный, одинокий... Ну, будет это хорошо? Что представляет собой такой парень? Это талмудист, он вечно над книгой. Ничего больше не знает, знать не хочет и знать не должен... А где будет жить чета? К себе в деревню ты ведь их не возьмёшь?
— Понятно нет, пока там живёт молодой граф.
— А кто знает, как долго он там останется? Кто знает, чтб у помещика на уме! Уж если такому что-нибудь попадёт на глаза! Разве у него есть другие заботы? Разве ему хлеба нехватает? Короче: к себе ты их взять не можешь, значит, ты их оставишь в Праге, снимешь им квартиру и будешь им посылать на жизнь. Ну, а что — здесь будет делать чета? Он, муж, будет дни и ночи сидеть в синагоге над талмудом, а она? Что будет делать она, молодая женщина? Какие мысли взбредут ей в голову, какие фантазии?
— Правильно, ребе, — сказал Ехиел-Михл хриплым голосом. — Но что же делать?
— Всё, что можно, — ответил раввин. — Я тебе помогу. Я сам пошлю за сватом и скажу ему, что нужно делать. Надо найти знатную семью, где живут в достатке, и ты
увидишь, всё образуется с божьей помощью. Зато, Ехиел-Михл, — утешил его раввин, — когда придёшь ко мне по поводу другой дочери и будет у тебя с божьей помощью достаточно накоплено, ты получишь, говорю тебе, не жениха, а золото. А пока выдай младшую!
5
Так и сделали.
По совету раввина, под большим секретом, сосватали Малку в купеческую семью. Сама Малка до последней минуты не знала, для чего пришёл портной примерять ей платье и зачем её однажды разбудили на рассвете и увезли в Прагу.
А когда она уже поняла, чго всё это означает, она не вымолвила ни слова. Молодая душа её как будто замкнулась.
Что происходило в этой душе — никто не знал, но по виду казалось, что она счастлива... дай бог всем дщерям израильским! Она была всем хороша, правда немного бледна, глаза постоянно опущены. Что ж, бывает! Сначала это объясняли жеманностью невесты, потом говорили, что такой уже она богом создана. Но всё равно, была она красавица на загляденье. А поведение какое! Без свекрови — ни шагу. Для себя ей ничего не нужно. Ела-пила, что подавали. Платья надевала, какие предлагали. И была она аккуратна, тиха, прекрасна. А в субботу, когда она надевала чёрное атласное платье, заколотое золотой брошью, украшала свою белоснежную шею жемчугом, а уши бриллиантами — женщины останавливались, чтобы посмотреть на неё, и, поражённые её красотой, они восклицали: «Принцесса!» А она — точно не о ней речь. Спокойно шествовала она между свекровью # невестками в синагогу, становилась рядом со свекровью у стены, опускала шёлковые ресницы, белой ручкой отстёгивала серебряный затвор молитвенника с золотым обрезом, и губы её начинали тихо шевелиться.
А в будни?
— Куда бы ты хотела пойти, Малка?
Она ничего не говорит, — куда все, туда и она. А когда проходили мимо витрины ювелира и все тут останавливались, она стояла поодаль и смотрела в небо. Тогда говорили: к чему ей украшенья, она сама украшенье.
А муж души в ней не чаял. Он хранил fee, как зеницу ока. Так жили. Снаружи она чиста, прекрасна, как кристалл, а внутри?..
Внутри — постоянные мысли о корчме, о песнях, о танцах, об играх. Сердце заполнил ей образ молодого графа. Едва закроет она глаза, дома ли, в синагоге ли, взыграет в ней кровь, и ей кажется, что она кружится с графом в дикой пляске, мчится с ним на белом коне по — лесам и лугам... И особенно, когда подходил к ней муж, тут она мгновенно закрывала глаза и обнимала и целовала... кого? Она обнимала и целовала молодого графа.
А муж — он так любил её глаза, он умолял её: «Голубка, открой прекрасные глаза твои, раскрой передо мною врата в рай!» Ни за что! А когда он пытался настоять на своём (о, молодость!) и делал вид, что хочет её оставить, она, бывало, уцепится за него, точно клещами.
В испуге он пытался вырваться, а она тогда молила его томно:
— Граф мой, орёл мой...
Он верил, что это она так сильно его любит, что для неё он граф и орёл... «Деревенская наивность, — думал он. — Ладко, пусть не открывает глаз, коли стесняется».
6
И так шли годы. Детей у Малки не было. И жила она... не с мужем.
С чем сравнимо это?
С яблоком спелым и красивым, висящим на зелёной ветке золотистой яблони. Кожица у него румянится, как восток перед утренней зарёй. И свежо оно, яблоко, словно райское дыхание веет над ним. Оно так душисто, так прелестно! Но на самом деле здорова и свежа лишь кожура снаружи, внутри же всё изъедено червями.
Совсем по-иному сложилась судьба Нехамы, старшей дочери Ехиел-Михла. Произошли перемены и в жизни самого Ехиел-Михла: как это бывает, дела его пошли вверх дном.
После свадьбы в Праге Ехиел-Михл вернулся домой; в кармане у него осталось лишь несколько монет. Подъехав к деревне, он увидел, что все пожитки его — кровати, столы, стулья — лежат посреди поля. Мужик из имения графа, поставленный сторожить веши, не разрешил Ехиел-Михлу въехать в деревню. Оказалось, что пока Ехиел-Михл справлял свадьбу дочери, кто-то дал более высокую аренду за корчму, молодой граф уговорил отца, и новый арендатор уже занял своё место.
Жена и дочь заливались слезами, падали в обморок. Ехиел-Михл умолял сторожа пропустить его к старику-помещику, чтобы поговорить с ним. Но сторож тут снял ружьё с плеча и пригрозил, что он выстрелит. Ему приказано стрелять, сказал он.
Сторож был из той же деревни, слёзы стояли у него на глазах, но раз граф приказал — он будет стрелять безо всякого. Ехиел-Михл понял, что тут дело пропащее, а ехать обратно ему было не с чем. Срамить дочь своей нищетой ему тоже не хотелось, и он взял жену и дочь и поехал с ними в деревню другого помещика, подальше от Праги. Помещик разрешил ему открыть здесь мелочную лавочку. Ехиел-Михл оставил лавку на попечение жены и дочери, а сам поехал судиться с графом за нарушение договора на аренду корчмы, срок которого ещё не истёк; привлёк он также к суду раввинов еврея, выторговавшего у него корчму. Однако скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, а тем более с пустыми руками. Дело тянулось несколько лет. Процесс с графом Ехиел-Михл проиграл, а за неуплату судебных издержек отсидел некоторое время в тюрьме. Суд раввинов вынес приговор в его пользу, но новый корчмарь суду не подчинился, а заставить его выполнить приговор было некому. Пражский раввин, который мог бы заставить считаться с его решением, скончался, а пражская община всё искала нового раввина. А пока нет судьи и нет закона! И вот, после нескольких лет скитаний, вернулся Ехиел-Михл домой, измученный, изголодавшийся, заболел сразу, пролежал несколько недель в постели и умер. Жена умерла вскоре же после его смерти. И Нехама осталась сиротой. Была она в деревне одинока, как камень. В лавке дела были плохи, так как торговать было нечем. А крестьянские парни, после того как она осталась одна, не давали ей покоя. Они издевались над ней за то, что она — еврейка-нищенка и такая недотрога.
Она писала сестре в Прагу письмо за письмом, но мы знаем, что сестра её в Праге жила в каком-то мире грёз. Писем она не читала и сестре lie отвечала. Не получив от-
Бета, покинутая сирота встала как-то раз ночью, закрыла лавку и тайком ушла из деревни. С надеждой на бога направилась она пешком в Прагу. Сестра ведь не камень!
7
С куском хлеба в руках вышла она из деревни. Подошла к лесу, но, боясь зверей, взобралась на дерево и решила переждать там до утра. Только было она устроилась, стала читать молитву, вдруг слышит — лай собак. Лай всё ближе, ближе. Нехама поняла, что это помещики выехали на охоту, и спряталась глубже в листву. А охотники всё ближе. Вдруг стая собак подбежала к дереву и давай неистово лаять. Вслед за ними к дереву подскакали два всадника — проверить, отчего рвутся и лают собаки. Это были два молодых помещика. Они влезли на дерево, стащили оттуда Нехаму и при свете костра стали разглядывать её. И они увидели, что это еврейская девушка, очень красивая, но изголодавшаяся. Тогда они сказали ей, что ничего плохого, упаси боже, они ей не сделают, ибо она сияет, как звезда в ночи, что её стоит лишь переодеть — и она будет, как королева, благоуханной, как роза. От этих разговоров у неё сердце замерло. Она услышала, как помещики стали ссориться между собой: каждый из них хотел взять её к себе, каждый доказывал, что она принадлежит ему, так как его собака первая почуяла её. Договорились разрешить спор поединком: она должна была достаться тому, кто останется в живых. Молодые люди стали друг против друга и уже готовы были стрелять, но вдруг передумали — лучше тянуть узелки. И один из них, вытянувший узелок, посадил её на коня и галопом помчал к себе в замок. Она была в обмороке. И когда она проснулась на другое утро у помещика в замке...
8
Когда она очнулась у помещика в замке, она почувствовала, что она в его объятиях, что он целует её... И она поняла, что всё кончено, что спасенья ей нет. Тогда она стала молить его:
— Дорогой господин, я в твоих руках, и ты слишком силён, чтобы я могла сопротивляться, и сопротивляться
не к чему... Об одном лишь молю тебя: сжалься надо мной — ты осквернил моё тело, не оскверняй мою душу... Оставь меня при моей вере, при моих мыслях. Дай мне думать, как я хочу.
Правда, помещик не совсем понял, чего она от него хочет, но он искренне полюбил её, и он ей обещал. Он думал: какое мне до этого дело, жениться на ней я всё равно не собираюсь. Однажды он купил для неё у еврея в Праге молитвенник и подарил ей. Нехама с радостью приняла подарок, но тут же положила его на стол. «Мои руки, — сказала она, — недостойны прикоснуться к святыне».
Помещик удивился, но промолчал.
Нехама жила совсем иной жизнью, не так, как сестра её в Праге. У обеих опущенные глаза, обе ходят, как чужие, точно во сне. Но в то время как Малка грешила душой, не оскверняя тела, Нехама оскверняла тело, сохранив в чистоте душу.
Когда к ней подходил помещик, она закрывала глаза и думала: «Мама целует меня... Это она обнимает, это она целует меня... Это мать обучает меня молитве...»
Он требовал, чтобы она любила его.
Да, она любит, она крепко любит... маму. Вот она обнимает... маму. Она шепчет: «Давай, мамочка, ещё раз повторим молитву: «Благословен господь». Из грешных уст её, однако, эти слова не сходят... В душе витают они, эти слова. Там светят они, глубоко, глубоко внутри.
9
Люди не вечны. Обеим сёстрам не суждено было долго жить. А когда их души отделились от тела, душа младшей сестры, Малки, осквернённая грехом, вылетела из белого тела чёрным вороном и мгновенно канула куда-то в преисподнюю. А душа старшей, Нехамы, белая, чистая, как снег, освободившись от тела, плавно взмыла голубем ввысь, в беспредельное небо... У врат неба она в трепете остановилась, но милосердие господне явилось к ней и открыло врата ей. Оно утешило её и вытерло слёзы на её очах.
Обо всём этом люди на земле не знали... Пражской бо-
гачке были устроены роскошные похороны. Над телом её была произнесена надгробная речь. Похоронили её на почётном месте между знатными покойницами, а в годовщину её смерти воздвигли большой памятник, на котором начертали ей хвалу и славу.
А когда помещик прислал в Прагу тело старшей сестры, кладбищенский служка не захотел прикоснуться к этому грешному телу, и для его омовения были наняты простые носильщики. Завернули покойницу в старый мешок и бросили в яму под забором,
10
Через некоторое время, когда для расширения улицы была отчуждена часть кладбища, стали раскапывать могилы для переноски останков в другое место. Могильщик, отрывший могилу Нехамы у забора, нашёл в ней только череп. От тела и костей и пыжики не осталось. И когда могильщик нечаянно толкнул череп ногой, он куда-то укатился и вновь уже погребён не был. Могильщик же, отрывший могилу. Малки, нашёл её тело нетленным. На её устах как будто играла свежая улыбка.
— Вот это праведница, — говорили люди. — Даже черви не властны над ней.
Ибо так судят люди, которые глазами своими видят только то, что находится снаружи. Они никогда не знают, чем живёт сердце человеческое и что происходит в нём.
НЕХОРОШО
Хотите, расскажу вам одну историю.
Но раньше должен вам объяснить, кто я такой.
Я портной.
Собственно говоря, не портной, и прародители мои портными не были. Вышло, однако, так, что всю премудрость, которой меня обучили в талмудторе, я позабыл; гроши, которые я получил в приданое, проел. Пришлось взяться за иглу.
Почему именно за иглу? Был у меня как раз сосед, который добывал себе пропитание иглой. В одном доме с ним жили.
В третьем углу, правда, жил сапожник. Но сапожное ремесло — дело трудное, да и грязное оно. Всегда чумазым ходишь.
Сосед мой из первого угла был дамским портным. Стал и я дамским портным.
За работу принялся не сразу — всё чего-то выжидал. А вдруг я или жена моя на какую-нибудь находку набредём?! А пока, чтоб без дела не ходить, подсел к портняжному столу, попробовал пуговицу пришить, приметать кое-что, а потом — и сшить. Так понемножку и втянулся.
До того, чтоб сшить целую вещь, я не дошёл и до сих пор этого не умею. Но заплату положить, выутюжить, вычистить, пятно вывести, даже мерку снять, — этому я научился. Это меня кормило и теперь ещё кормит... Пусть кто-нибудь другой закройку делает. Не велика важность!
Жаловаться нечего, ремесло моё не из худших. Первое дело — весело: портной и песенки поёт, и по деревням часто ходит, у панов бывает, — насмотришься всего да и поживёшь в своё удовольствие. Не пропадаешь, как чумазый сапожник.
Ну, ладно! К несчастью, жена у меня тут, упаси гос-» подь вас и всех евреев, богу душу отдала. Беда!..
Но не об этом хотел я рассказать.
Что ж, остался я вдовцом. Живу один, в маленьком домишке, далеко, где-то за городом. Через край не льётся, но жить можно. Встретишься с приятелем, выпьешь рюмочку, одолжишь пятиалтынный и опять живёшь.
А тут приключилась такая история. Знаете поговорку: весь год под хмельком, а на пурим во рту ни капли. В доме ну ни полушки! Глупо, не могу же я всё-таки ходить в пурим, не прополоснув глотки! Как-никак, а такое чудо! Царица Эсфирь, хоть и не была красавицей из красавиц, всё же заслужила, чтобы мы в этот день не были трезвенниками.
Выхожу это я из дому и всё думаю: к кому же мне из портных пойти?
По-настоящему весело у Арона Двосина. Водка там рекой течёт. Он пьёт, она пьёт. Дочь, говорят, тоже непрочь рюмочку опрокинуть! Но вот как раз из-за этой дочери и неохота итти туда! Девице уже лет под тридцать, а может — с гаком, и сватается она ко мне. Стоит ей лишь увидеть меня, как глаза у неё сразу подёрнутся влагой, смотрит на меня, как овца на соль, — а то ещё закатит очи, совсем зрачков не видать, одни белки — два блюдца сметаны, да и только...
Нет, к Арону Двосину я не ходок!.. К другим богачам-портным тем более! Смотрят они на тебя свысока, как оперённая сова на голого цыплёнка... Действительно, скверно: поди угадай, кто из бедняков не ходит сейчас ряженым и у кого дома можно рюмку водки найти.
Голова у меня занята такими мыслями. И вот по ошибке, вместо того чтобы направиться в город, направляюсь в обратную сторону, выхожу за городскую черту... Иду всё дальше, дальше.
Когда опомнился, я был уже далеко за городом. Вижу — лесок, вхожу в него. Зачем? Не знаю! Иду... Сам не знаю, куда иду.
Навстречу дровосек. Спрашиваю: далеко до корчмы? А мысли у меня такие: рюмку водки можно и за городом достать! А то, что у меня денег нет, это неважно. У хозяина корчмы можно работёнку взять, а пока что в счёт работы выпить. Не-еврей поверит!
А он, дровосек-то, говорит: недалеко.
Иду дальше. Передо мной две дороги: одна ведёт направо, другая — налево. Иду направо. Я ведь портной, иглу держу в правой руке, ей предпочтенье!
Оказывается, лучше бы мне пойти налево. А может быть, и наоборот. Пошёл бы налево, и самой истории не было бы.
Ну, значит, иду направо. Иду, иду.
Жажда меня уже давно томит, а тут ещё есть захотелось.
К тому же холодно стало... Да так, что кости пронизывает. И вдруг — стоп! — ограда.
Железная ограда. Чёрные железные прутья с позолоченными верхушками, — прямо страх берёт.
А вот и калитка. У калитки — колокол. Fie поленился — звоню.
Слышу, собаки лают. У меня даже коленки задрожали, хочу бежать. Но там, слышу, кричат на собак, чтоб замолчали. Стою. Я ведь не меламед, чтоб пугаться собак!
Появляется старик в охотничьей куртке с зелёными обшлагами, просовывает сквозь решётку седую голову со слезящимися глазами и спрашивает, кто я такой.
Говорю: портной.
— А что тебе нужно?
— Водки выпить.
Старик смеётся, показывает два ряда старых, кривых зубов. А в глазах искорки.
Значит, свой человек, думаю. У тебя тоже в глотке пересохло.
Надо получше с ним потолковать.
Я стою с этой стороны ограды, он — с той. Разговариваем. Я спрашиваю, он отвечает.
— Что тут такое?
— Зймок.
— А ты кто?
— Привратник.
— А кто живёт в замке?
— Графиня.
— Что за графиня?
— Красавица графиня.
— Красавица?
— И взбалмошная...
— Почему взбалмошная?
— Замуж не хочет! Никто ей не нравится.
Я смеюсь:
— Может быть, меня захочет?
— Попытайся, — говорит, — может быть, она тебе суж деиа.
И с этими словами отпирает калитку; впускает меня. Стоим уже оба по ту сторону.
Целая свора собак с высунутыми языками вертится вокруг нас. А мне чего бояться — ведь он тут, со мной!
— Я вдовец, — говорю я ему.
— Попытайся... многие уже пытались... Немцы, армяне, цыгане... Попытайся и ты... Может быть, тебе удача бу дет...
Смотрю на него и дивлюсь. Я-то шучу, человек я мастеровой, почему не пошутить? — а он принимает всё за чистую монету.
Я опять за своё. Спрашиваю его, как насчёт водки.
— Есть, — говорит, — в замке и водка, есть и мёд, и вино... А женихов принимают прекрасно, кормят, поят... По-царски, — — говорит.
Мне уже немножко не по себе становится.
Не пьян ли старик? Нет, трезв, взгляд ясный.
Говорю:
— Хватит, старик, брось шутить! У меня на самом деле в глотке пересохло! Да так, что голос, как жестяный, стал... И есть хочется, в кишках ветер гуляет!
— Fly, идём, — улыбается он, — идём. В еде да в питье недостатка не будет.
Я думаю, он ведёт меня к себе, а он к замку ведёт!
А замок — разве опишешь его! Да на это и моря чернил не хватит! Всё колонны, колонны, а на колоннах — золотые змеи, орлы, летучие мыши.
И всё это с золотыми коронами на головах... Приводит он меня к крыльцу. Устлано оно всё турецкими коврами. И сдаёт он меня на руки лакею.
— Жених! — говорит.
Лакей улыбается, ведёт меня дальше.
О графине я, конечно, вовсе и не думаю. Но человек ведь я мастеровой, — хочется посмотреть...
Что ж, надо думать, меня тут не повесят! Пускай ведут!
И ведут меня из одного зала в другой: из зелёного в жёлтый, из жёлтого в красный, из красного в синий... Цвета так и мелькают перед глазами.
А мы всё идём. Спешим. Ну, прямо бежим. Я уже и окраску залов перестал различать, некогда на мебель взглянуть, посмотреть на портреты, что на стенах. Всё смешалось. Разноцветные пятна то встанут перед глазами, то исчезнут. Один лакей передаёт меня другому, другой — третьему...
Всему, однако, есть конец. Останавливаемся в одном зале — зал белый-
Справа, говорят, дверь в покои самой графини, а слева — дверь, чтоб выбросить из замка, если жених не понравится!
Гляжу, конечно, на ту дверь, которая ведёт к графине. Вижу — в двери небольшое отверстие.
— А это зачем? — спрашиваю.
Через это отверстие, разъясняют мне, графиня разглядывает женихов...
— Ну, а как женихи видят графиню?
— Вот! — говорит лакей, вся одежда которого так и блестит, так и сверкает золотом, и указывает на портрет, что на стене.
Породистая, видать, баба. Богатырь... И взгляд такой повелительный, хоть и стоит она почему-то на коленях. А у губ её этакое обольстительное что-то, и притягивает, как магнит.
Мне, как портному, немало ведь платьев приходилось примерять. Видал я женщин, видал не одну пани, но — что тут говорить! — такая мне и во сне не спилась.
Сам дьявол во плоти!
А сердце колотится, как у проклятого.
Я уже забыл, кто я такой, что я такое; кто она и что она; мне уже всё равно!
Вытягиваюсь в струнку и жду её, как еврей Мессию, как благочестивая душа царствия небесного.
Раздаётся звонок. Лакей объясняет: графиня идёт. Берёт он меня, ставит лицом против отверстия в двери, с улыбкой отвешивает мне поклон и исчезает.
А я стою, боюсь бровью шевельнуть. Простоял я там всего несколько секунд, но мне они показались годами-Опять звонок, и входит тот же самый лакей.
— ~ Понравился!.. — говорит.
Меня чуть удар не хватил.
— Но... — говорит.
— Что, во?
— Грязен, сказала, велела в баню свести.
Долго вас томить не стану.
Видите ведь, что я и сейчас портняжничаю, — понятно, стало быть, что сватовство ие состоялось... Но это самое «но» да баня все силы у меня вымотали.
Сперва меня мыли, чтоб грязь сошла, чтоб пот сошёл... Что ж делать, — портной, был в пути, шёл пешком. Однако тут скова начинается это «но».
Одежда моя ей не нравится.
Тогда я говорю: пошлю за субботней капотой, — важничаю, значит. Между нами говоря, субботней капоты у меня и ие было.
А она желает, чтобы я одел немецкое платье.
Но вот этого уж мне ие хочется! С какой это стати я вдруг стану наряжаться в немецкое платье?
Но тут лукавый напоминает, что когда-то встретился мне раввин из Франкфурта-на-Майне; разъезжал он по свету, собирал пожертвования на ешибот. Так вот. этот раввин тоже был одет в немецкое платье. Ну, уж если раввину дозволено, то мне и подавно... Что ж, соглашаюсь.
Но мне велят ещё сбросить и арбаканфес. Ну, что ж, подумал я, ведь и женщинам уготовано место в раю, а они обходятся без арбаканфеса. Отдал и его... раз ей этого за,;-хотелось!
Затем меня спрашивают, умею ли я разговаривать на панском языке. Я говорю: конечно! Мне ведь приходилось шить у панов! Шить, гладить, примерки делать... Случалось и петь по-иански, и ссориться, и умолять, и зубр: заговаривать... А мне говорят, нет, этого мало! Надо ещё уметь читать и писать!
Нанимают мне учителя... Учит он меня грамматике, а меня пот прошибает. Ну, ничего! Научиться-то я научусь, голова у меня еврейская... Однако тут-то, видите ли, и собака зарыта — заниматься науками приходится на голодный желудок... буквально на голодный желудок. Потому чтр, — это я забыл вам сказать, — хоть я и портной, но в замке я питаюсь одним лишь чаем — да картошкой. Какие тут могут быть разговоры, трефного ведь я есть не стану!.. Потому мне и трудно... Даже худеть начал... U6
Знаю уже немного из грамматики. Выговариваю уже «р» как следует, не картавлю. Flo худею с каждым днём всё больше.
Графине же хочется, чтоб я выглядел по-настоящему. Вот мне и велят есть.
Тут опять начинается история с лукавым.
Хлеб у иноверцев есть, — говорит он, — не велика беда... Во многих еврейских домах давно уже покупают немецкие булочки... О свинине и речи нет. Паны ведь и сами не едят свинины круглый год... А под пасху? К тому времени ты или привыкнешь, или прикинешься больным, ляжешь в постель и попросишь, чтоб тебе подали варенья! А может быть, ты до тех пор настолько понравишься графине, что она ради тебя тоже начнёт есть кошерное и, тебе в угоду, ещё и кугл сделает!
Сперва я его и слушать не хотел. Трефное есть я немножко побаиваюсь. Графиня — это дело преходящее, а ад ведь неизменен. Это уж навеки!
А он, бестия, ловит меня тогда на икре.
Что касается икры, тут я уж решительно ничего не понимаю. Может быть, она и от кошерной рыбы!
Икру-то ведь едят с луком!
И я чувствую, что больше не выдержу. Вот уже три недели, как я запаху лука и не шохивал. Что же это за жизнь без лука?
Я и подумал: пусть дадут икры! А я буду есть лишь лук... Приличия ради, можно лизнуть чёрную икринку, а, может быть, я её и выплюну...
Выплёвывать, однако, не приходится... Ем икру. Ем ложкой и, действительно, начинаю понемногу поправляться.
Гляжу в зеркало — совсем на человека стал похож! Мало сказать, на человека! Прямо настоящий пан! Глаза ясные, видно, что выспался... Щёки — как яблочко красное! А плечи!
Но куда пейсы девались? Ей-богу, не знаю... Может быть, мне их во сне срезали. Борода тоже куда-то исчезла... Что ж печалиться? Портняжья бородёнка моя и так немногого стоила! А стал я мужчина на загляденье... Обязательно понравлюсь графине.
Всё-таки ангел добра меня ещё не совсем покинул. Вот он и начинает ныть: как? не с еврейкой?
Тут появляется лукавый и зажимает ему рот:
— Что тут особенного? А дочь Итро? Скажешь, это было до того, как евреям дали священное писание? Но законоучитель Моисей — это ведь не портняжка какой-нибудь...
А царица Эсфирь тоже, кажется, была еврейкой. Шуточка сказать — царица Эсфирь! И всё же она вышла замуж за не-еврея Ахашвейроша, м глупца Ахашвейроша... И всё-таки в честь этого события праздник установили.
Так в чём же дело? Она делллл добро евреям — ты тоже будешь делать добро.
У графини есть короны — отдашь какому-нибудь еврею в аренду молочное хозяпстно п небольшую плату. Есть у неё корчмы — посадишь туда евреев арендаторами за бесценок. Есть у неё леса длим, н гут евреям заработать. Будешь им продавать хлеб с ноля! Гы не бойся, праздник установят!
Ангел добра, возможно, и о гве гил бы что-нибудь на это, да тут как раз графиня вошла. Стану я его слушать?..
А графиня сама-то, в жп:шп, в шсячу раз прекраснее портрета! Входит, а за не* лакей несёт большой поднос. Иа подносе золотые кубки и бутылка старого вина.
Она хочет выпить со мной «лехаим»...
— Вино иноверцев? — вопи г ангел добра.
— Дурак! — отвечает лукавый.
И в самом деле, что такое вино иноверцев после того, как я сбрил бороду, оделся и немецкое платье, ем трефное?
Я усаживаюсь у её ног и пыо...
«Лехаим» да «лехаим»!
Она наливает, я пью!
Выпил несколько кубков вина, стал целовать край её платья... Графиня ведь — нель:;я сразу!
Ещё один кубок! Она протягивает мне уже сама кончики пальцев для поцелуя... Пальцы длинные, тонкие, бело-розовые... Словно пряник медовый!..
Спрашивает меня, хочу ли я выпить за её здоровье из её туфельки...
Хочу ли?!
Жаль только, что ножки у нёс такие маленькие — туфельки малюсенькие! Не то что туфельку, — сапог мужицкий, сапожище водовоза выхлебал бы!
Что же я тогда? Пью сразу две туфелъкр, и ещё раз две, и ещё раз две.
Потом она спрашивает меня, умею ли я петь. Ещё бы!
Какой же это портной не умеет петь? Голова .кружится, язык заплетается, но петь нужно. Встаю и начинаю петь. Что я пою?
Старую свою песенку, все её знают:
Чем и кем бы ни был я, Евреем остаюсь. Где и как ни жил бы я, Богу я молюсь.
Услыхала она эту песенку, позвонила... Входят три лакея и, ни слова не говоря, хватают меня и выбрасывают вон в окно.
Падаю...
Хорошо, что упал я на мягкое; не то с этакой высоты — и костей бы не собрал!
Думается мне, упал я на стог сена, па высокую траву, а оказывается — вовсе на перину...
У Арона Двосина на постель упал!
Это был пьяный сон в пурим.
Fly его ко всем чертям!
Эх, не хотелось мне итти к Арону Двосину, а всё-таки пошёл. Но это ещё куда ни шло!
Fie велика беда!
Но говорят, что в пьяном виде я стал женихом дочки Арона Двосина, вот той, что глядит на меня «двумя блюдцами сметаны»... как овца на соль...
Это вот нехорошо!
ГНЕВ ЖЕНЩИНЫ
Маленькая комната мрачна, как царящая в ней нужда, на которую плачется всё в этих четырёх стенах... На ободранном потолке торчит осиротевший крюк; на нём висела когда-то медная люстра. Громадная облупленная печь, «опоясанная в чреслах» грубым мешком, стоит, накренившись набок; она грустно глядит на своего мрачного соседа — на пустой чёрный очаг, где валяется опрокинутый горшок с обгорелыми краями да в стороне поломанная ложка. Эта жестяная героиня обрела честную смерть: она пала в борьбе с затвердевшей, чёрствой, вчерашней кашей!
Комната полна всякой рухляди: здесь красуется высокая кровать, завешенная рваными занавесками; сквозь дыры в них смотрят подушки, без" наволочек", своими красными, мутньши от перьев глазами; стоит колыбель, в которой азиднеется большая рыжеватая головка спящего ребёнка; сундук, обитый жестью, с открытым висячим замком, — богатств больших там видно, уж нет; стоит стол с тремя табуретами. Деревянная мебель некогда была окрашена на-красгао, теперь ома грязновато-серая... Прибавьте еш!е шкаф, бочку с водой, помойный ушат, кочергу с лопатой, — и вы поймёте, что в эту комнату больше и булавки сунуть некуда...
И всё-таки здесь ещё «он» и «она».
Она, женщина средних лет, сидит на сундуке, заполнившем собою всё пространство между кроватью и колыбелькой. Справа от неё единственное маленькое зелёное оконце, слева — стол. Она вяжет чулок, качает ногой колыбель и прислушивается, как он за столом читает талмуд. Он читает жалобно-певучим голосом, читает неспокойно1, прерывисто, нервно. Часть слов он проглатывает, часть растягивает; одни охватывает разом, другие совсем пропускает; местами подчёркивает смысл и читает е любовью, местами сыплет
равнодушно, как горох из мешка. И всё время в движении: то он выхватит из кармана свой бывший некогда целым красный платок, потрёт им нос, сотрёт пот с лица и со лба; то опустит платок на колени и примется крутить свои пейсы, дёргать свою острую с лёгкой проседью бородку. Вот он вырвал волос, положил его на фолиант и принялся хлопать себя по коленям. Тут руки его ощутили платок. Ага! он бросает один конец его в рот и давай жевать; и тут же он беспрерывно перекидывает ногу на ногу.
И всё время бледный лоб его морщится, на переносице ложится глубокая борозда, длинные веки почти исчезают под нависшей кожей лба. Вдруг ему кажется, что его кольнуло в груди, и он ударяет по ней правой рукой; потом хватает понюшку табаку, раскачивается ещё больше, голос звенит, табурет кряхтит, стол поскрипывает!
Ребёнок не просыпается, оя привык к этой музыке.
А она, преждевременно состарившаяся жена, сидит и не нарадуется на мужа. Она не спускает с него глаз, ловит каждый звук его голоса... Время от времени она вздыхает:
«Вот, — думает она, — если бы он так годился для этого света, как для того, то и здесь мне было бы светло и хорошо... и здесь... Ну! — утешает она себя, — кто же это удостаивается вкусить от обеих трапез?..»
Она вслушивается. Её морщинистое лицо также поминутно меняется: она тоже нервна!
Только что на лице её было разлито безмерное удовольствие, она столько наслаждения черпала из его торы... И вдруг она вспоминает, что сегодня уже четверг, что на субботу нет ни гроша, — и райское сияние на её лице всё больше тускнеет, пока улыбка совсем не исчезает с её лица. Потом она бросает взгляд через позеленевшее стекло — как там солнце — должно быть, поздно, а дома и ложки горячей воды нет. Спицы останавливаются в руке, мрачная тень покрывает её лицо. Она бросает взгляд на ребёнка: он спит уже неспокойно, он скоро проснётся; для больного ребёнка нет ни капли молока. Тень уже превратилась в тучу, спицы в её руках начинают дрожать, прыгать...
А когда она ещё вспоминает, что уже близка пасха... что серёжки и подсвечники заложены, сундук пуст, люстра продана, то спицы начинают плясать убийственно скоро; туча становится темиосизой, тяжёлой; в маленьких серых
глазах, чуть видных из-под платка на голове, показываются молнии!
Он всё ещё сидит и читает. Он не видит, что надвигает ся гроза, что опасность всё увеличивается... что она вы пустила чулок из рук, начинает ломать свои исхудавшие пальцы, морщить лоб от боли; один глаз у неё закрывает ся, другой смотрит на мужа так остро, что, заметь он этот взгляд, он весь похолодел бы от ужаса... Он не видит, как дрожат её посиневшие губы, как трясётся челюсть, зуб на зуб у неё не попадает... как она сдерживает себя изо всех сил. Но гром так и рвётся наружу, и достаточно малейшего повода, чтоб он вырвался из её уст...
И этот повод нашёлся...
Он читает: «Шма минейтлос»... и с тягучим припевом переводит: «Из этого, стало быть, вытекает»... Он хочет продолжить: «три», но ей уже достаточно слова «вытекает»... За него ухватилось наболевшее сердце; это слово упало, точно Искра в порох.
Её долготерпение лопается. Несчастное слово раскрывает все закрытые шлюзы, разбивает все затворы... Она вне себя. С пеной на губах подскакивает она к мужу, готовая вцепиться ему в лицо.
— Вытекает, говоришь ты, вытекает? А, чтоб ты вытек, боже мой! — кричит она хриплым от злости голосом. — Да, да, — продолжает она шипя, — скоро пасха... четверг-ребёнок болен... ни капли молока!
У неё захватывает дыхание, впалая грудь высоко подымается, глаза мечут нскры.
Он точно окаменел. Он вскакивает с табурета, бледный, задыхающийся от испуга, и начинает отступать к двери.
Они стоят друг против друга и смотрят: он остеклянев-шими от страха глазами, она — горящими от гнева. Он, однако1, скоро замечает, что от злобы она не владеет ни языком, ни руками. Глаза его становятся всё меньше. Он хватает конец платка в рот, отодвигается ещё чуть и, с трудом переводя дыхание, бормочет:
— Слушай ты, женщина... знаешь ли ты, что значит «битул тойро»? — мешать мужу учить тору, а?... Всё заработки, а?! а кто даёт птице небесной?.. Всё ещё не верить в бога! всё соблазны, всё лишь этот мир... Глупая баба-злая!.. не давать мужу учить тору... за это ведь — ад!..
Она молчит, и он становится смелее. Лицо её делается всё бледнее, она дрожит всё больше, и чем больше она дрожит и бледнеет, тем твёрже и громче звучит его голос:
— Ад!.. Пламя!.. За язык повесят! Все четыре казни верховного судилища!..
Она молчит, лицо её бело, как мел.
Он чувствует, что поступает нехорошо; что не должен так её мучить, что это нечестно, но он уже не в силах сдержаться. Всё злое, что у него было на душе, он теперь высыпает без всякого удержу.
— А ты знаешь, что это значит? — голос его становится громовым. — «Скило» — это значит: бросить в яму и закидать камнями! «Срейфо» — продолжает он и сам удивляется своей дерзости, — «срейфо» — значит: влить в нутро ложку растопленного, кипящего свинца! «Эрег» — отрубить голову мечом... вот так! — и он делает движение вокруг шеи. — А теперь «хенек»... удавить... слышишь? — удавить! Ты понимаешь теперь, что значит «битул тойро»! Всё это за «битул тойро»!
У него у самого сердце сжимается от жалости к своей жертве, но1 он ведь в первый раз одерживает верх... Это его опьяняет. Такая глупая женщина! Он совершенно не знал до сих пор, что её можно напугать...
— Вот что значит «битул тойро»! — выкрикивает он ещё раз и сразу... умолкает — ведь она может притти в себя и схватить метлу! Он бежит назад к столу, захлопывает фолиант и выбегает из комнаты.
— Я иду в синагогу! — кричит он ей уже более мягким голосом и захлопывает за собою дверь.
Крики и стук дверью разбудили больного ребёнка. Он медленно поднимает отяжелевшие веки, жёлтое, как воск, личико у него искривилось, из опухшего носика начинает вырываться свистящее дыхание.
Но она точно окаменела. Она всё ещё вне себя стоит на одном месте и не слышит голоса ребёнка.
— А! — вырьшается, наконец, из её сдавленной груди хриплый голос. — Вот как... ни этого света, ни того... вешать, говорит: он, горячая смола... свинец... говорит он! «Битул тойро!..»
— Ничего, мне ничего!.. — клокочет в её растерзанной груди, — тут голод... ни одежды... ни подсвечников... ничего... ребёнок голоден... ни капли молока... а там... вешать... вешать за язык. «Битул тойро», говорит он...
— Вешать... ха-ха-ха! — вырывается у неё полный отчаяния крик. — Вешать, хоронить же, но здесь, сейчас!.. Всё равно!., зачем ждать?..
Ребёнок начинает плакать всё громче, ко она ничего не слышит.
— Верёвку! верёвку! — кричит она и блуждающими глазами ищет по всем углам.
— Верёвку где достать?.. Пусть он костей моих уж не найдёт! Уйти хоть от здешнего ада!.. Пусть он знает! Пусть он станет матерью... пусть! Пусть я пропаду! Раз помирать!.. Один конец!.. Пусть уж будет конец раз навсегда!.. Верёвку!..
И последнее слово вырывается из её горла, как крик о помощи во время пожара.
Она вспоминает, где лежит верёвка... да, под печкой... думали — на зиму печь перевязать, она, должно быть, ещё там...
Она подбегает и находит верёвку: о, радость — она клад нашла! Она бросает взгляд на потолок — крюк на месте... Нужно лишь вскочить на стол.
Она вскакивает...
Но сверху она вдруг видит, что испуганный, ослабевший ребёнок поднялся, перегибается через колыбельку, хочет вылезть! Вот-вот он упадёт!
— Мама! — едва вырывается из слабого горлышка ребёнка.
Её охватывает новый прилив гнева.
Она бросает верёвку, соскакивает со стола, бежит к ребёнку, кидает его головку назад на подушку и злобно кричит:
— Выродок! даже повеситься не даст! даже повеситься не даст спокойно! Сосать уже ему хочется! сосать!.. О! яд будешь тянуть из моей груди! яд!
— На, обжора, на! — выкрикивает она одним духом и суёт ребёнку в рот свою иссохшую грудь:
— На, тяни... терзай!
«ДИКАЯ ТВАРЬ»
Впервые вздохнула она свободно, впервые выпустили её на свежий воздух... И она бегает по снегу.
Что было летом — она не помнит. Мало простора для хорошей памяти за этим маленьким лобиком с позеленевшей кожей. Самые светлые впечатления делаются сейчас же тусклыми и гаснут. Она сама не знает, сколько ей лет. А по виду её возраст не определишь. Выглядит она, правда, кругленькой, но это из-за вздутого живота. Грудь у неё впалая, головка маленькая, лицо в морщинах. В общем, она слишком мала, чтобы ей можно было дать больше девяти-десяти лет.
Вид её поминутно меняется: после светлой детской улыбки на старческое лицо вдруг ляжет упрямая складка, не то скривятся губы, и глаза под нахмуренными, слабо наметившимися бровями тревожно загорятся. Мысли её бессвязны и путаются.
Родилась она Еовсе не такой. Принимавшая её повитуха сказала: «Красивый ребёнок». Первые год-деэ она хорошо росла. Быстро стала она признавать грудь, потом самую мать, отца и всё в доме. Чёрные глазёнки её с каждым днём становились всё веселей, подвижней. Но это длилось недолго. Через некоторое время всё пошло вспять: живой огонёк в глазёнках появлялся всё реже, память становилась слабей...
Отец ушёл лет пять тому назад, но она хорошо помнит, как он, бывало, держал её на коленях, целовал, а мать вырывала её у него из рук, чтобы он, упаси бог, не зацеловал её до смерти. Иной раз вспоминается ей, как она сидела у матери на руках, а отец, стоя за спиной, всё выглядывал то с одной, то с другой стороны: «Ку-ку! Ку-ку!» Комната, лица были тогда такие светлые, тёплые...
А потом всего этого не стало. Сделалось как-то тихо,
грустно1, мрачно. Комната стала пустой. Отец часто кричал, а мать плакала. Иногда они ссорились так громко, что она убегала и забивалась от страха в уголок. Её стали бить и всё меньше давали кушать... Потом, она помнит, отец стоял посреди комнаты, мрачный, опустив глаза, а мать, спрятав лицо в руках, вздрагивала всем телом. Отец тихо сказал: «Я буду высылать деньги», повернулся и вышел; затем вновь вернулся, но она его уже еле узнала: он был бледен и сгорбился весь. С минуту он смотрел на обеих, снова вышел, и уже навсегда.
Время с той поры обернулось ей беспросветной ночью; какое-то блуждание в пустыне — ни деревца, ни кустика. Голод и холод — горячая картошина и холодная постель. Вот всё!
Но сейчас она улыбается. Впервые, кажется, выпустили её из заточения...
Всю зиму не выпускала её мать из дому. Когда бы она ни проснулась, комната всё пуста. Окна замурованы, дверь заперта, только у кровати на подстилке еда для неё: кусок хлеба, иногда бублик, поджаренная с ночи картошка. Всё это холодное; она согревала в постели и после ела. Так лежала она целые дни. Мать приходила только ночью, наскоро разводила огонь и опять варила, либо жарила картошку. Иногда мать приходила совсем поздно. Поджидая её, она часто металась в корчах от мучившего её голода, спрыгивала с постели и, бегая босиком по комнате, кричала и рвала на себе волосы. Зато мать приносила ей тогда что-нибудь хорошее, вкусное, сладости.
Но лучше всего было ночью, когда мать ложилась к ней в постель. Сначала было жутко холодно, потом становилось всё теплей, и она прижималась к матери всё крепче, крепче... Со временем она привыкла спать днём, а ночью бодрствовать. Начало ночи было всегда нехорошее; перед сном мать плакала, зато потом становилось тихо, тепло, и она, облизывая пальцы, лежала и смотрела в окошко. На стекле она видела разные деревца. Иногда стекло пропускало луч света, и тогда ей казалось, что за окном стоит улыбающимся отец.
Часто она злилась на мать, которая бегает где-то целыми днями, а её держит взаперти. Тогда она отказывалась кушать, не пускала мать в постель и готова была исцарапать, искусать её. Но голод и материнские слёзы делали своё: она глотала принесённое и только сердито переспрашивала: «Чего ты всё бегаешь?» (говорит она плохо, тяжело). Напрасно старалась мать растолковать ей, что беготня эта — не от хорошей жизни, что носится она затем, чтобы заработать, чтобы было что кушать. Но малышка не понимала, что такое «заработать», и, не задерживаясь долго на этом, быстро обо всём забывала. Иногда она будила мать среди ночи и спрашивала: «Как это заработать?» Мать долго не могла раскрыть глаза, а проснувшись, принима» лась упрашивать: «Доченька, дай же поспать!» Однако отделаться от неё было не так-то просто: она упряма и тут же начнёт брыкаться. И мать вынуждена была рассказать ей, что ходит она из дому в дом и всё выспрашивает, нет ли для неё работы: она может вылить помои, помочь на кухне, быть на посылках. Но дочь, не выслушав до конца, внезапно перебивала:
— Ушки или мёд лучше?
Мать безутешно плакала в ответ. «И когда она ела эти ушки, когда она пробовала мёд?» Несомненно, однако, когда-то она пробовала и то и другое, и они теперь внезапно всплыли в её памяти. И мать вздрагивала в постели, как тогда, когда отец уходил из дому.
Но малышка вскоре забывала всё. А успокоившаяся мать обнимала её, ласкала, целовала. Однако утром, когда мать уходила, не спавшая уже малышка говорила ей: «Мама, ушки и мёд принеси!» Мать выбегала из дому.
И вдруг её разбудили днём. Чужие люди открыли дверь, внесли в комнату мать, раздели её и положили к ней в постель. Она сначала испугалась, но вскоре ей стало хорошо: тело у матери было горячее-горячее; никогда ещё не было так тепло, так сухо.
Когда мать клали в постель, «чужие» хотели что-то вынуть у неё из рук, но мать не далась... Наверно, ушки! Она юркнула под одеяло и нашла там руку, рука легко раскрылась; вынырнула оттуда с чем-то белым, тонким и жёстким; сунула в рот — не жуётся. Вынула обратно и давай разглядывать — в углу на белом портрет какой-то, маленький.
— Что это... мама? — будила опа мать.
Но мать не отвечала.
Вошли две женщины. Одна дала ей печеньице и вынула из рук белое. Это — письмо, но женщины не умеют читать.
Вошёл мужчина, приоткрыл мать, оглядел её и взял за руку.
Тут она подняла крик, она боится, как бы у неё не забрали мать. И холодно ей вдруг стало. Но ей сунули что-то в рот, и она умолкла.
— Реб Мордхе! — сказала одна из женщин, — прочтите письмо.
«Чужой» почитал и закачал головой.
— Муж пишет, от тяжёлой работы занемог. Портной он, работает больше восемнадцати часов в сутки. Просит прислать денег, чтобы вернуться домой...
— Ещё сладкого! — перебила его малышка и вытянула РУКУ-
Женщинам, однако, не до неё.
— И чего он туда попёрся!.. — сказала одна.
В постели было жарко, а тут ещё затопили печь.
Какая это была чудесная ночь! Мать греет её, у постели дремлет «чужая»; пробудившись, женщина что-то суёт матери в рот. Ей тоже хочется этого. Она уже готова закричать, но «чужая» боится её крика и суёт ей что-то сладкое, называет она это «лекех», затем она садится обратно и снова дремлет. А чело в печи открыто, там огонь... Ох-ох-ох, какой красный, какой красивый! Он вьётся, он пляшет — цик-цик-цик! — то чёрный, то вновь красный. Ох, какой он багрово-красный!
Однажды ночью её укутали в тёплую шаль и понесли — сначала несли куда-то вдаль, потом по ступенькам вверх, наконец доставили в чужую холодную квартиру. Посредине комнаты сидела маленькая старая женщина и щипала перья. У стен на сенниках спали дети.
Обдирщица пера и с места не сдвинулась, только спросила визгливым, прерывающимся голоском:
— А платить кто будет?..
— Уж заплатят! — ответили женщины, которые принесли её.
— Мама! — заплакала вдруг малышка в страхе.
Никто, однако, не обернулся к ней.
— Сирота? — спросила снова обдирщица пера.
— Нет ещё...
— Мама...
— Не реви, корова, — наставила её одна из женщин, — мама уехала.
Внезапно ей стало весело, и живой огонёк сверкнул у неё в глазах.
— К па-пе?
Никто, однако, ей не ответил.
— А где она будет спать?
— Сегодня со мной.
Женщины уложили её в холодную постель, шаль забрали, она задрогла вся.
— Мама! — расплакалась она ещё сильней.
— Уймите её, Фрейда! — сказали женщины.
— Ладно, идите, — ответила обдирщица пера, — это уж моё дело.
Женщины ушли, а старая поднялась и направилась к ней.
— Молчи! — сказала она жёстко н сухо.
Малышка в испуге примолкла.
Вместе с остальными четырьмя детьми она получала теперь по утрам чай и кусок хлеба. Чаю она уже давно не пила, даже забыла, какой он. Днём давали немного картошки или каши, вечером снова чай и хлеб. Она била почти сыта, и вое же ей тут не по себе. Она не любит детей, боится Фрейды и тоскует.
— Мама...
Но стоит Фрейде взглянуть на неё, и она молчит. Фрейду она ненавидит.
Однажды ночью (у неё всё ещё нет своего сенника, и спит она до сих пор не ночью, а днём) у нёс явилось желание обернуться к «старой», искусать, исцарапать эту злюку. Но Фрейда спит с полуоткрытыми глазами, и малышка тотчас испуганно повёртывается к степе.
— Улежишь ты, наконец? — завизжала Фрейда и бухнула ей в плечи костлявым кулаком.
Со временем она забыла мать, но всё ж она, не переставая, тосковала и вопила беспрерывно: «Отпустите, отпустите!»
С той поры как она обрела собственный сенник, она стала Фрейды меньше бояться; удирая от неё, она сбивала детей с ног, колотила их, ломала горшок, пускала перья по ветру. Фрейда кидалась с веником за ней, но, чтобы нагнать эту «дикую тварь», ей нехватало дыхания. Зато она уж позже отыгрывалась на ней. Сейчас она притворится спокойной и тихой, но вот когда «дикая тварь» уснёт на сеннике, старая кинется на неё и раздерёт ей ногтями всё тело. Малышка не плакала, только прикусывала до крови губу. Остальные детишки сидели, притаившись по уголкам, чуть .дыша от страха.
Сегодня, однако, всё это кончилось. К Фрейде пришла женщина и заявила, что больше за «дикую тварь» платить не будут, «неоткуда взять».
Фрейда сразу же привстала, в глазах у неё загорелся злобный огонёк. Ова ухватила «дикую тварь» и вытолкала за дверь.
«Дикая тварь» сползла на четвереньках по ступенькам (ходить по ступенькам она не может), и вот теперь, го-го! — она на улице. Как бело, как красиво! Гладкая, белая, сверкающая пелена снега! Го-го!
И она бегает босиком по снегу и смеётся...
СУМАСШЕДШИЙ БАТЛЕН
1
Он бегал взад и вперёд, совершенно один в пустой среди дня синагоге, и вдруг остановился.
— Господи, кто я?
Кто я? Зовут меня Берл сын Хапци... Так разве я Берл Ханцин? Я — разве имя? Вывеска — это ещё не лавка. Дом, в котором живёт раввин, называют «Под Карпом», а меня — Берл Ханцин.
В Цяхновке меня знают; знают, кто такой Берл Ханцин. А в Америке? Если бы вот в Америке к го пнбудь произнёс вдруг в синагоге эти два слова: Берл Ханцин... Знал бы разве кто-нибудь, что говорят обо мне?..
Иное дело здесь. Здесь каждый либо усмехнётся, либо головой покачает, либо просто гримасу скорчит... «Знаем, мол, кто такой Берл Ханцин!» Один подумает — вон тот батлен; другой — этот вот сумасшедший, третий — мало ли чего подумает, а четвёртый вспомнит, чго ими мне нарекли по дяде Берл. Тайбеле, правда, вздохнёт при этом, — она знает, что я несчастный сирота. А в Америке, где имя базарной торговки Ханци никому не изпсст ю, где никто и не знает, что жил когда-то на свете Бсрл-философ и что он приходился братом моей матушке; где никому невдомёк, что я тот, про которого говорят: сумасшедший, батлен, сирота, — а быть может, и философ (я, кажется, весь в дядю); ну вот в Америке какое впечатление произвело бы: Берл Ханцин?!
А ведь я как будто всё же знаю, кто я? Вот ведь я сам говорю: сумасшедший, батлен... Вот это я и есть!
Да разве я не сумасшедший? Где это видано, чтоб человек стал вдруг думать о том, кто он такой! Человек это — человек! Я человек, и зовут меня Берл, сын Ханци... Будь я домом, меня, возможно, называли бы: «Под Карпом», будь я арестантом, я носил бы на спине заплату с но-S® 131
мером... Если б отец мой, не мать, был кормильцем семьи, а не батленом, меня звали бы «Берл сын Шмерла». Правда, произнести «Берл сын Шмерла» трудновато, но ничего не поделаешь. И очень возможно, что люди меньше стали бы трепать моё имя, если б оно не так легко слетало с языка...
Однако, как бы меня ни звали, но человек-то я, во всяком случае!..
Человек! Да, но к тому же батлен... Не случается разве, что человек остаётся сиротой? — неужели он из-за этого должен жить в синагоге? Что я, калека безрукий, что ли? работать не могу? Служил бы где-нибудь приказчиком, посыльным, дрова колол бы и ходил бы прилично одетый, а не в каком-то рваном тряпьё; ел бы хлеб, не был бы до тридцати лет ешиботником, которому два дня в неделю негде поесть; не стал бы вот так расхаживать и думать, кто я такой?!
Если бы я хоть знал, кто такая моя капота! А то сейчас, ей-богу, не знаю! Одна полоса в ней — Бендет, другая — Хаим, ещё одна — Иона, а три четверти — просто собраны с мусора! Хорошо ещё, что Тайбеле умеет шить, а то пришлось бы и вовсе голым ходить.
А уж это само по себе разве не признак сумасшествия? Батлен я, батлен!.. Смотри ты! Шмерл, Хаим, Иона... И не счесть, сколько их уже ушло из ешибота за моё время!.. Этот торгует, тот грузчиком стал, а третий кабак содержит. Мало ли что! Один из них успел уже овдоветь, а Шмерл — -тот уже третий раз женат. Но у всех есть дети, есть у них дела, чем(-то они занимаются. Худо ли, хорошо ли, а люди заняты, и им не приходится есть дарёный хлеб. Они не пустомели. Люди! Я тоже хочу быть человеком!
Что значит быть человеком?
Клянусь своим именем еврея, человек-то я совершенно никудышный!
Я клянусь своим именем еврея. Значит, я еврей! Да, это верно: я еврей. Но евреями полна вся Цяхновка,,а это ещё не значит, что они — это я! Вот, например, я мужчина (хотя, что я за мужчина, — горе одно, а не мужчина!), — что ж, всякий человек, если он только не женщина, он — мужчина. Разве из этого следует, что всякий мужчина — это Берл Хан-цин!
Нет, братец Берл, ты себя не обманывай! Ты мужчина, ты еврей, это-то верно, но всё же не ты мужчина, не ты — еврей. Ты нечто другое, а это всё внешнее, дополнительное, а не ты сам...
Я хочу себя убедить, что я батлен, сумасшедший, сирота, несчастный мужчина. Но ведь батленов, сумасшедших, сирот-то много. Мужчин таких, как я, меньше, но всё же они есть. Мало ли где, может быть, в другом городе, может быть, в Америке. Разве эго означает, что все они одно? Боже упаси! Каждый сам по себе!
А кто же я, бес бы меня побрал!
В меня, должно быть, действительно, бес вселился, сидит там, должно быть, кто-то во мне и размышляет за меня, а мне всё кажется, что это я сам думаю. Ведь вот, когда у меня есть силы (в любой день недели, кроме понедельника и вторника), «тот» надо мной не властен, и тогда я меньше думаю! Б том-то и вся философия, что ни один человек на свете не в состоянии самого себя передумать. Что это означает: я хочу себя постигнуть? Я хочу вырвать себя из самого себя, поставить себя или «его» сбоку, чтоб «он» посмотрел на меня! Чтоб я — стал «он», «он» — я!..
Ха-ха-ха! Да разве это возможно! Дай-ка, подумаю!.. Что-то у меня в голове тепло становится!..
Он бежит к рукомойнику, обливает себе голову холодной водой, вытаскивает из-за печки какую-то тряпку и туго-натуго стягивает себе лоб.
— Теперь-то дело пойдёт. Ещё раз!.. Я хочу знать, кто я такой...
Куда мне глядеть, вниз или вверх, направо или налево?.. Если б я залез на ковчег, я был бы весь наверху, внизу ничего бы не оставил. А если б я побежал в подвал, я был бы весь внизу... Как же я тогда могу смотреть на себя?
Как это возможно?
Что же это всё-таки сидит во мне и думает за меня?
А что-то там сидит ведь... а!..
Знаю ведь, что когда у жены синагогального служки лежали несчитанные коржики, а у меня три дня и маковой росинки во рту не было, мне очень хотелось стянуть один коржик... Но я себе сказал: «Нет! нельзя! не моё!..» Потом стал отыскивать тысячи оправданий... «Эта баба достаточно на мне заработала, могла бы и даром дать коржик». «Если б я её попросил, она и сама дала бы». «Бог поможет, я ей когда-нибудь заплачу»... А я всё твердил: «Нет, нельзя»... И не взял... Сначала одно следовало за другим: мне каза-
лось, что я сам спрашиваю и сам же отвечаю. А потом, несколько позже, хотя, собственно, сейчас же всё изменилось, всё смешалось: и да, и нет, и нет, и да, и снова нет. Начался спор, и закончился он тем, что я не взял коржика. Не потому, что мне уже не хотелось, что желание прошло; нет, не потому. Только рука моя не в состоянии была двинуться: она не знала, кому ей повиноваться... Я после этого, действительно, чувствовал сильную усталость, как после долгого спора, после горячего диспута с длинным Ионой, который всё хочет меня убедить, что великий Биленский раввин — да будет благословенна память его! — сидит в раю с заплесневевшей бородой за то, что боролся против хасидизма!.. Бот осёл!.. Но усталость я чувствовал — это я помню наверняка, да, да! И то же самое было на пурим, когда я нёс угощение от нашего богача Переца Файнгольца к раввину. Рот у меня был полон слюны, язык метался во рту, как полоумный, вот точно так же, как я мечусь сейчас по синагоге. Руки дрожали. Кусочек торта, макароны, ещё какиб-то лакомства... Я — лакомка — хотел взять, а я — честный человек — не хотел!..
Говорят: «Ангел добра». Пусть так! Но как бы там ни было, я только квартира, где проживают два жильца; одного зовут ангелом добра, другого — ангелом зла. Не так ли? Снова та же история с именами... Но кто же они, кто я?!
Я квартира, я и добрый жилец, и злой жилец. Всё это — я, и вдобавок я ещё хочу знать, кто я такой? Ха-ха-ха! Тише! Вчера лишь люди смеялись над тем, что я, может быть, битый час простоял на одном месте! Я-то знаю, из-за чего я стоял! Не мог итти. На синагогальном дворе кололи дрова, и вот мне захотелось пойти попробовать, сумею ли я расколоть полено, умею ли я работать. Я было уже пошёл, и вдруг — стоят две скамьи: с одной стороны скамья, и с другой скамья. Те, что сидят на одной, говорят, что затопили баню. У меня всё тело так и зачесалось, так и потянуло подойти к сундучку, вытащить оттуда веник и отправиться в баню. А на другой скамье меламед Зорах рассказывает Янкелю Котику, что у какого-то автора он нашёл чудесное толкование той главы библии, которую читают на этой неделе! Мне и захотелось узнать, что это так понравилось Зораху, захотелось подбежать к книжному шкафу и взять ту книгу, о которой он говорил... Потому-то я и стоял! Ноги просто не знали, кому повиноваться: тому 134
ли Берлу, который хочет итти колоть дрова, тому ли, которому хочется итти в баню или тому, которому захотелось узнать, что это за толкование так понравилось Зораху!.. Вот я и стоял, пока не вспомнил, что я ещё не читал вечерней молитвы.
Следовательно, во мне живут уже четверо! Дровосек, толкователь библии, банщик и ещё последний — молящийся. И вот он-то всех и загнал за печку, чтобы они и пикнуть не смели, — он один только распоряжается, и ноги ему должны повиноваться. Так я и сделал — стал у стены и начал молиться!
Некоторая доля правды в этом есть... Остальные ведь не сгинули совершенно; они лишь спрятались за печкой, смотрели оттуда, подмигивали мне и мешали молиться. Когда я молился, я обо всём иомшнл: и о том, что хочется дрова колоть, и о том, что тянет лоптп попариться в бане, на самой верхней полке, и о том, что надо бы посмотреть то толкование библии, о котором говорил Зорах.
Так чём же могут мне помочь ангел добра и ангел зла, если иной раз я — трое, а иной раз — четверо?
Вот сейчас у меня такое ощущение, что я сам совершенное ничто! Как будто вовсе и не эк пну. Я сам, если б я даже жил, не вставал бы вовсе утром со скамьи. Лежал бы камнем до скончания века... И па самом-то деле я камень и есть, у меня совсем души нет. Так в чём же дело? А в том, что всё вокруг меня живёт, имеет душу, и из этих душ тянутся длинные, тонкие, острые ниточки, словно лучи, и хватают меня эти лучи, цепляются за меня, залезают в меня, покою не дают, подымают на ноги, приказывают ходить, что-то делать, бегать... А сам-то я — ничто!
Кто же всё-таки думает, а? Кто сидит но мне и думает? Опять чужой? Не я?
Ну, пусть будет чужой! Кто он такой? Как он попал в меня? Разве я клетка, а он птичка? Цпрь Давид, мир праху его, говорит: голубка моя!.. Значит, это голубка хочет колоть дрова, итти в баню, украсть кое-что из пуримовско го угощения, стянуть коржик у жены синагогального служки и в то же время разбираться в толкованиях библии?.. Фу. голубка, некрасиво! Если это ты, тебе должно быть стыдно!
Ха-ха-ха! Берл Ханцин — голубка, птичка; у Берла Хан-цина малюсенький клювик и крылышки; Берл Ханцин вылетит когда-нибудь из клетки...
Что ж, Берл Ханцкн, ты и тогда будешь думать о том, кто ты? Тоже будешь сиротой, батленом, сумасшедшим?
Конечно! А то кто же? Клетка с ума сошла? Клетка — сирота?
Господи! Кто же я, в конце концов?
2
В синагогу входит торговец Вольф.
Завидя его, Берл Ханцин убегает в сторону. Вольф моет руки, вытирает их о полу капоты, вынимает из шкафа какой-то фолиант, усаживается и смотрит в него. Берл Ханцин глаз с него не спускает.
— Кто он? — спрашивает он себя и тотчас же отвечает:
— Торговец Вольф! — и до боли щиплет себе щёку.
— Дурак! Осёл! Торговец Вольф — это то же самое, что Берл Ханцин! Так его зовут, а кто же он?.. Что он? один, двое или трое? Сколько птичек чирикает в его клетке, понимаешь ты, тупица этакий?
Он ещё туже стягивает себе голову.
— Давай подумаем...
Сейчас он один, один торговец Вольф... Он сидит и изучает талмуд! Углубился в своё дело и меня не видит. Над своим трактатом сидит. Знает-то он всего-навсего один трактат... Сейчас-то я знаю, кто он; сейчас он — глава из талмуда... А потом? Потом торговец Вольф уйдёт на улицу, будет взвешивать зерно на фальшивых весах, обманывать всю Польшу и пойдёт домой бить жену — бедную, забитую Тай-беле: даст ей дюжину пощёчин и четыре колотушки! Ты видишь этого ягнёнка, Берл Ханцин! Ты видишь эту овечку, видишь, как он морщит лоб, видишь эти богобоязненные глазки, видишь! А ты, глупец, ты, Берл Ханцин, ты, осёл, хочешь меня убедить, что это тот же самый мошенник, что и на улице, тот же самый разбойник, что и дома? Нет, Берл Ханцин, меня-то ты в этом не убедишь! Нет, нет! Вовсе не так смотрит мошенник, не такой вид у разбойника!.. Дурак ты!..
Я тебе говорю, Берл Ханцин, что их трое — Вольфов-торговцев... Один — ягнёнок, смирный ягнёнок: он сидит и изучает талмуд, и на том свете он тоже будет изучать священное писание, да ещё с комментариями самого господа-бога... Второй — вор, и там он тоже будет с тарелок тас-136
кать; а третий — разбойник, который смертным боем бьёт жену...
Жаль её. Душа болит. Снится она мне часто. Иногда, ночью, во сне, помощи у меня просит. То есть она не вслух просит, не говорит, — боже упаси, еврейская женщина не станет разговаривать с мужчиной, — она только смотрит на меня такими... какими-то... такими глазами...
Господи! Смотреть-то ведь ей можно! Можно ведь ей смотреть на мужчину!...
Ха-ха-ха! Я — мужчина... Торговец Вольф — вот это мужчина, чтоб ему сгинуть, Вольфу! Ненавижу я его. Ем я у него раз в неделю, а ненавижу его! Это, действительно, незаслуженная ненависть, и всё же ненавижу... Я б его зарезал! Да! Но не того Вольфа, который сидит и изучает талмуд, даже не мошенника, а разбойника! Я б его зарезал... Сам я не могу, я не могу сам распоряжаться, я только клетка... Правда, у меня есть ножик, острый ножик, совсем острый, можно им ногти резать, голову брить...
Я даже фонаря себе не делаю из-за того, что мне жаль ножика: боюсь, чтоб не притупился.
И всё же сам я не могу. Надо, чтобы кто-нибудь мне велел: может быть, глас божий, кто-нибудь, хотя бы мела-мёд Ворах! Он сам чтобы мне велел! А если б она мне сказала, тихонечко, ночью, во сне. Но она не скажет... Еврейская женщина не скажет... боже упаси! Я б её терпеть не мог, если б она со мной разговаривала.
Так лучше, пусть она смотрит, и так всегда, всю ночь. Днём кто-нибудь может ещё, не дай бог, увидеть! Достаточно и того, чтоб каждую ночь...
Ах, как это было бы прекрасно! Я вынул бы свой ножик, прошёлся бы по голенищу, раз, другой, третий и — бах!..
Ха-ха-ха! Вылезли бы кишки, кишечки. Ха-ха-ха! И кровь, красная кровь... ха-ха-ха!
Нет, Вольф, это я не про тебя, талмудиста, говорю. Про того, про того, про разбойника... Только не про тебя!
Слышишь, Берл Ханцин, если б ты на самом деле был человеком, а не сиротой, не батленом, не сумасшедшим, не философом, — всё было бы уже сейчас хорошо... Хотя Тай-беле плакала бы, она ведь осталась бы вдовой. Но я бы ей во сне сказал: «Тайбеле, хватит; у тебя есть два мужа, один мошенничает, а другой сидит в синагоге над талму-
дом; зачем тебе третий, тебе обязательно трое нужны? Обязательно нужно, чтоб тебя били, чтоб ты плакала день и ночь?..»
А может быть, он всё-таки один?..
Берл Ханцин, их трое, давай об заклад биться! Дай вот, нарочно, пока он сидит здесь над талмудом, пойдём на улицу, и ты увидишь, как тот в это же время мошенничает там... А потом, как он бьёт! Пойдём! Увидишь!..
Он встаёт, на цыпочках подбегает к двери, вытаскивает ключ и запирает дверь снаружи...
3
Бледный, взбешённый, возвращается он в синагогу.
— Спрятались, мошенники! А что ж им делать? Торговли сегодня нет! Праздник какой-то, флаги висят, мошенничать невозможно... Тайбеле дома нет... Ушла, должно быть, к соседке. Дверь заперта... А эти оба, должно быть, спрятались. Я посмотрел в окошко. Под кроватью, показалось мне, что-то шевелится, на полу тень качалась, кидалась из стороны в сторону, дрожала! Очень возможно, что он тут сидит над талмудом, а они там под кроватями лежат... А то где же им лежать!
А Вольф, наивный человек, талмудист, и не слыхал даже, как я открывал и закрывал дверь! Настолько углубился он в талмуд!
А может быть, он вовсе и не занимается сейчас талмудом? Может быть, тут вот и сидит мошенник и хочет обмануть и меня и господа-бога?
— Вольф! — зовёт он его вдруг.
— Чего?
— Ничего.
Через минуту:
— Вольф!
— Чего.-
— У меня ножик есть!
— Ну и радуйся!
— Хочешь посмотреть?
— Нет.
— И не надо.
Через несколько минут:
— Вольф!
— Чего?
— Ты талмуд изучаешь или притворяешься?
— А тебе какое дело?
— Мне это очень нужно знать, ей-богу, нужно!..
— Молчи, сумасброд!
Ещё через несколько минут:
— Вольф!
— Чего тебе?
— В тебе сколько?
Вольф, разозлённый, закрывает фолиант и выходит из синагоги. Берл Ханцин остаётся один.
— Говорил ли я с Вольфом? И о чём это я с ним говорил? Чего он сбежал? Как это я вышел, а? А зачем у меня в руках ножик?
Он крайне удивлён, поражён, особенно, когда замечает, что порезал себе голенище сапога. Его это злит.
— — Какой ты бестолковый, Берл! Сам себе разрезал голенище! У тебя есть другие голенища, что ли? Тайбеле тебе опять подарит пару сапог? Мало ей разве досталось за те сапоги? Ты видишь, батлен, ты видишь, сумасброд ты этакий, ты видишь, что это кто-то в тебе, а не ты! Ты видишь?
— Дай-ка я сам посмотрю, как ты выглядишь, осёл ты этакий, .как ты это дал себе сапоги разрезать! Дай-ка я посмотрю на тебя, батлен!
Он бежит к рукомойнику, срывает с головы тряпку и начинает тереть и чистить медный бак.
— Немножко я тебя уже вижу, батлен, — погоди, погоди, я тебя ещё лучше увижу. Всю твою нечистую физиономию увижу, всю твою голову ослиную!..
Он опускается на колени и трёт изо всех сил. И вдруг перестаёт.
— А кто это чистит рукомойник? Кто? Я? У меня разве есть силы? Разве я ел сегодня? А вчера я ел? Какой у нас день сегодня? Вторник! А в понедельник и во вторник мне негде есть. Кто же это трёт?!.
Он снова принимается за работу.
— Пусть трёт, кто хочет: я, или птичка, или голубка, ангел зла, или ангел добра, — всё равно: твою нечистую дурацкую физиономию я должен увидеть! Сейчас же! Сейчас же! И всю сразу!
Он закрывает глаза и некоторое время снова трёт бак изо-всех сил. Потом открывает и видит своё изображение.
— Ха-ха-ха! Вот какой у меня вид! Покойник, настоящий покойник! Остаётся только в могилу и черепки на глаза!
Видишь, Тайбеле, как я выгляжу! Видишь? И так вот вь;гляжу я всякий раз, когда ты подаёшь мне кусок хлеба... Не то, я выглядел бы ещё хуже.
Он задумывается и снова вспоминает:
— Покойник! Да, да, это я! Вот это и есть Берл-батлен, Берл-сирота, Берл-сумасшедший! Вот! Вот! А кто же я всё-таки, в конце концов?
Он смотрит на своё отражение в рукомойнике, смотрит на себя. Там не видать рваных голенищ! Его это удивляет и злит.
— Будь ты проклят! — кричит он вдруг, — будь ты проклят, образина рукомойная! Раз у меня рваные голенища, то и у тебя они должны быть.
Он сполвает совсем на пол, становится на голову и суёт ноги к баку рукомойника.
— Я не вижу, но у тебя они есть, есть рваные голенища!
Подняться ему трудно. Ему кажется, что человек в рукомойнике держит его за ноги. Он напрягает все силы, отрывает ноги и встаёт, несколько удивлённый и испуганный.
— Образина ты рукомойная! Батлен! — дразнит он того и всё же боится посмотреть на рукомойник. Он бежит к печке, набирает на руки мел и замазывает блестящую медь рукомойника.
— Пропади ты пропадом, не гляди!
У него начинает сильно болеть голова, ломит ноги. Он скова задумывается.
— Давай-ка кое-что вспомним.
Сейчас у меня голова болит... Когда этот разбойник бьёт Тайбеле, у меня болит сердце... Ноги у меня ломит. Если я ущипну себе щёку, щека горит, потому что у меня есть щека, есть руки, ноги, есть голова, есть сердце, а может быть, и душа есть, — всё у меня есть. Но что же я сам? Не щека, не ноги, не сердце, не голова, не душа. Что же? Ничего...
Если б я мог убить себя, а потом посмотреть, что из этого выйдет, что останется, когда отвалится голова, отвалятся руки, ноги, щёки, рваные голенища... Может быть, тогда я бы что-нибудь знал? Стоит, может быть, попробовать...
Если б она только велела! Я, может быть, и попробовал бы проделать это над ним.
СМЕРТЬ МУЗЫКАНТА
На кровати скелет, обтянутый жёлтой, высохшей кожей. Михл-музыкант умирает. Тут же на сундуке сидит жена его Мирл с распухшими от слёз глазами. Восемь сыновей, все музыканты, разместились в тесной каморке. Тихо. Никто не нарушает молчания, говорить не о чем. Доктор уже давно отказался от него, фельдшер тоже; даже Рувим из богадельни, этот истинный «специалист», сказал «безнадёжно...» Наследства делить не придётся, саван и могилу даст «погребальное братство», а от «братства носильщиков» ещё по рюмочке перепадёт. Всё просто и ясно, говорить не о чем. Одна только Мирл не хочет сдаваться. Сегодня она ворвалась с отчаянными воплями в синагогу. Теперь она пришла с кладбища, где совершила «обмер могил». Она всё твердит своё: «Он умирает за грехи детей. Они не набожны, распущены, — за это господь отнимает у них отца... Оркестр лишается своей красы, свадьбы потеряют свою прелесть; ни у одного еврея не будет отныне настоящего веселья... Но божьему милосердию нет границ. Надо кричать, молить так, чтобы мёртвые услышали! А они, родные дети, музыкантишки, жалости у них пет, цицис не носят... Если бы не тяжкие грехи!.. Есть же у неё на небе дядя, резник; он там, наверное, один из первых, он бы ей не отказал. При жизни он, блаженной памяти, всегда ласково относился к ней... Он и теперь, наверное, благоволит к ней, он хлопотал бы, он всё сделал бы для неё... Но грехи, грехи! Ездят на балы к гоям; едят там хлеб с маслом и бог знает что ещё!.. Без арбаканфес! Не может же он там стену прошибить!.. Он, разумеется, делает всё возможное... Ох, грехи, грехи!»
Сыновья не отвечают, сидят, потупившись, каждый в своём углу.
— Ещё не поздно! — всхлипывает она. — Дети, дети! Опомнитесь, дети! Покайтесь!
— Мирл, Мирл! — отзывается больной. — Оставь, Мирл, уже поздно, я уже своё сыграл; довольно, Мирл, я хочу умереть.
Мирл вспыхивает.
— И поделом!.. Умереть ему хочется, умереть... А я? А меня?.. Нет, я не позволю тебе умереть, ты должен жить, ты должен... Я так буду кричать, что — смерть не осмелится подойти к тебе!
Видно было-, что в душе Мирл открылась старая, не зажившая рана.
— Оставь, Мирл! — молит больной. — Довольно проклинали мы друг друга при жизни... Довольно... Перед смертью не гоже так... Ох, Мирл, Мирл, оба грешили мы!.. Пусть уж придёт конец... Замолчи лучше. Я уже чувствую, как холодная смерть от ног подползает к сердцу, как отмирает член за членом... Не кричи, Мирл! Так лучше!
— Потому что ты хочешь избавиться от меня! — перебивает Мирл. — Ты всегда хотел избавиться от меня, — горько плачется она, — всегда! У тебя на уме постоянно была чёрная Песя. Ты всегда говорил, что — хочешь умереть... Горе, мне, горе!.. Даже теперь он не хочет покаяться... Даже теперь.... теперь...
— Не одна чёрная Песя, — горько улыбается больной. — Много их было: и чёрных, и белокурых, и рыжих. Но от тебя, Мирл, я никогда не желал избавиться... Девица — девицей... Волокитство — это уже з музыкантской натуре... ноет, как нарыв... Наваждение какое-то... А жена женой! Это вещи разные... Помнишь, когда чёрная Песя задела тебя посреди улицы, я задал ей здоровую трёпку... Молчи, Мирл! Жена остаётся женой! Разве только если развестись... Да и тогда душа болит. Поверь, Мирл, я буду тосковать по тебе, по вас то-же, дети! Вы тоже принесли мне много горя, н-о ничего... Таково уже влияние скрипки, — таков уж -язык музыкантский... Я знаю, зы относились ко мне без должного уважения, но всё же вы любили меня. Если мне случалось выпить лишнее, вы обзывали меня пьяницей... Так нельзя, отцу нельзя так говорить... Ну, что ж... И у меня был отец, и я с ним тоже не лучше обращался... Но довольно об этом!.. Я прощаю вас!..
Речь эта утомила его.
— Я прощаю вас, — начал он снова через несколько секунд.
Он приподнялся на постели и обвёл глазами окружающих.
— Взгляни на них, на этих истуканов, — заговорил он вдруг, — уставились в землю, как будто рта раскрыть не могут. Что, всё-таки жалко отца? Хоть и пьяницу, а жалко?
Младший из сыновей поднял голову. В то же мгновение веки его задрожали, и он разразился громким плачем. Остальные братья тоже зарыдали. Через минуту четырехаршинная комнатка огласилась громкими рыданиями.
Больной смотрел и таял от удовольствия.
— Ну, — спохватился он вдруг, как бы вновь собравшись с силами, — довольно, это уже вредно для меня... Довольно, детки, послушайтесь отца!
— Разбойник! — кричит Мирл, — разбойник! Пусть они плачут: их слёзы могут помочь, боже ты мой!..
— Молчи, Мирл, — перебивает больной, — я уже говорил тебе, что я своё сыграл... Довольно! Эх, Хаим, Берл... Иона... Все! Слушайте! Скорее! Берите инструменты!
Все посмотрели на него широко раскрытыми глазами.
— Я приказываю, я прошу вас! Сделайте это для меня, возьмите инструменты и подойдите поближе к постели.
Дети повиновались и окружили постель больного — три скрипки, кларнет, контрабас, труба...
— Я хочу услышать, как оркестр будет играть без меня, — говорит больной. — А ты, Миреле, прошу тебя, кликни пока соседа.
Сосед был служкой в «братстве носильщиков». Мирл не хотелось итти, но больной смотрел на неё с такой мольбой, что она должна была повиноваться. После она рассказывала, что это «Миреле» и предсмертный взгляд были совсем такие, как тогда, после венца... «Помните, дети, — повторяла она, — его сладкий голос и этот взгляд!»
Вошёл служка братства, окинул взглядом больного и сказал:
— Потрудитесь, Мирл, созвать миньен.
— Не надо, — отозвался больной, — на что мне миньен, у меня свой миньен — мой оркестр! Не ходи, Мирл, мне не нужен миньен.
И, обернувшись к детям, он продолжал:
— Слушайте, дети... Играйте без меня, как со мною, играйте хорошо... Не нахальничайте на свадьбах бедняков... Почитайте мать... А теперь — сыграйте мне отходную... Сосед будет читать...
И четырехаршинная каморка наполнилась звуками музыки.
В ПОДВАЛЕ
Большое подвальное помещение сплошь заставлено постелями.
В углу, между стеной и печкой, давно уже спит на сундуке длинная, сухая и тонкая, как жердь, Фрейда, по прозвищу Голодригиха. На рассвете ей нужно выехать на ярмарку в соседнее местечко с колёсной мазью.
Фрейде не спится; она неспокойна: уж хлопот будет вдоволь! Раньше она имела в виду взять с собою маленький бочоночек, так и договорилась с возчиком. Но з постели ей пришла в голову мысль, что лучше бы взять с собой большую кадку.
Фрейда долго и беспокойно ворочается с боку на бок, злится на себя и недовольно ворчит: «Проклятый бабий язык! Надо же мне было сболтнуть: «маленький бочонок»! Зачем? К чему? Какое возчику до этого дело? Разве он больше овса даст лошади?
Так, ворча и проклиная свою болтливость, Фрейда, наконец, засыпает. Из-под укрывающей её перинки выглядывает красный головной платок, который сполз ей на лицо и как бы обрамляет острый синеватый нос. Дышит она тяжело; её костлявые руки, вероятно, сложены на старческой груди. Кто знает, что ей снится?.. Может быть, снится, что возчик не согласился и она не попадёт на ярмарку, останется на полгода без заработка.
Противоположный угол — это «владения» Ионы-водоноса. На одной кровати спит его жена с двумя младшими детьми, на другой сам Иона со старшим мальчиком, посещающим уже хедер.
И с этих кроватей несутся частые вздохи. И здесь уснули в тревоге. Мальчик плакал: «Деньги ребе! Меламед требует платы». Старшая дочь осталась без места. Она служила в бездетной семье и вдруг хозяйка умерла; зер-
10 — 2394 рассказы и сказки 145
нулась домой — не оставаться же ей одной со вдовцом. Ей ещё немного причитается за работу, из этих денег можно было бы хоть меламеду заплатить, но вдовец отказывается погасить долг. Жена, видите ли, не завещала ему, а сам он ничего не знает — он никогда не вмешивался в женские дела. Перед сном по этому поводу поспорили: мать советовала вызвать вдовца на суд раввина; дочь предложила написать прошение к «мировому» или даже к «начальнику». Сам же Иона с обеими не согласен: вдовец может отомстить ему — восстановить против него всех клиентов.
— Стоит ему лишь слово сказать, — говорит Иона, — и крышка мне. Мало ли водоносов слоняется без дела с тех пор, как провели водопровод?
Вблизи похрапывает носильщик Берл, раскинувшись один в кровати, как «граф». Дети же спят вдвоём в другой кровати. Жена отсутствует: она повариха и занята на какой-то свадьбе. И в этом углу спят неспокойно. Берл уже некоторое время чувствует ломоту в костях. Старший сынишка стонет во сне: он работает при гашении извести и ошпарил себе ногу.
Ещё дальше в кровати спит одна «графиней» торговка Цирл. В другой кровати спят вместе трое её детей. Муж — ночной сторож. Когда он на заре возвращается, она выходит на базар с лотком хлеба и свежими бубликами.
Вот мы уже в третьем углу, где стоит узенькая железная кровать.
Куча тряпья заместо подушки. Женская голова. Преждевременно выцветшие губы часто приоткрываются, испуская горестный вздох. «Тяжёлый промысел» у мужа её. Нет ему удачи... Не везёт... С риском для жизни стянул он на прошлой неделе медный котёл, зарыл его в песке за городом, — а всё же нашли... Кто знает, с чем-то он вернётся сегодня. Не засыпался ли он?.. А тут уже три недели похлёбки не варили, горячего во рту не было... С квартиры гонят...
— Тяжёлый промысел... Нет удачи... — шепчут выцветшие губы. — К тому же остерегайся соседей. Всё спрашивают, допытываются: «Чем занимается твой ыуж, что так поздно приходит?..»
Поверх всех постелей скользят слабые, трепетные лучи света, исходящие из середины подвала. Здесь отгорожены ширмами четырехаршинные «владения» молодой четы. Трай-
па, молодая хозяйка, не спит ещё. Всего лишь две недели после свадьбы — вот она и ждёт мужа; ои должен вернуться из синагоги. Горит каганец, отбрасывающий светлые пятна на закопчённый потолок. Сквозь щели в ширмах пробиваются тусклые полоски света, бегающие, по белым кроватям, на которых покоятся измождённые, усталые лица.
Тут, во «владениях» Трайны, светлее и чище. На белом столике, меж обеими кроватями, лежит посреди двух медных подсвечников женский молитвенник. И подсвечники, и молитвенник — это полученные Трайной свадебные подарки. На одной из ширм висят свадебный наряд, мешочек для молитвенного облачения, с вышитым на нём «щитом Давида» — шестиконечной звездой. Табуретки нет. Трайна сидит на кровати, чинит корзинку для лука, рассыпанного около неё на простыне. Подушки же и одеяла сложены на другой кровати. Там спрятан горшочек с похлёбкой для ужина.
Но вот открывается тихо дверь. Трайна краснеет, роняет из рук корзинку и вскакивает. Но она остаётся на месте — ей неловко перед соседями. Ведь кто-нибудь может проснуться и поднять её на смех. Ох, и терпит же она от соседей, особенно от Фрейдл!.. Голодригиха никак не может понять, как это можно не обругать мужа на другой день после венца.
— Погоди, — говорит ей эта «старая ведьма», — увидишь уж, какой у тебя муженёк будет. Покажи ему только палец!
Фрейдл покоя не даёт ей. «Если мужа не водить за нос, — говорит она, — он хуже золка будет. Он весь сок высосет из костей твоих, всю кровь выпьет из жил. Уже десять лет, — говорит Фрейдл, — я без мужа живу, а всё ещё не могу оправиться, собраться с силами». А Фрейдл ведь умная женщина и в писании сведущая. «Что полагается мужу по закону, то кинь ему, — говорит она, — как собаке кость, а дальше — ни-ни! Только лишь держать его на расстоянии и только бранить!..»
Трайна успевает обо всём этом подумать, пока Иоселе медленно, крадучись, на цыпочках, между постелями, пробирается к себе. Каждый шаг его отзывается в её сердце, но пойти ему навстречу — ни за что в мире!.. Вот он споткнулся о что-то; вот он уже около самой ширмы. Она с облегчением вздыхает.
— Добрый вечер! — произносит он шопотом, опустив глаза.
— Добрый вечер! — отвечает она ещё тише.
— Есть хочешь? — спрашивает Трайна.
— А ты?
— Что ж...
Он исчезает за ширмами и возвращается с мокрыми руками. Она подаёт ему полотенце. На столе уже приготовлен хлеб, соль, стоит вынутый из-под подушек горшочек с похлёбкой. Он сидит на кровати, где сложены все подушки, а она на другой, где лежит лук. Они едят очень медленно и ведут при этом двойной разговор, — глазами переглядываются, как влюблённые новобрачные, — губами беседуют о хлебе насущном.
— Ну, как дела?
— Вот, — вздыхает он, — трёх учеников уже имею.
— Значит, всё-таки учительство? — спрашивает она печально.
— Да!..
— Слава богу и за это, — утешает она себя и его.
— Слава богу, — повторяет и он за ней. — Но это всего-то сто двадцать рублей.
Он вздыхает.
— Ну, чего ж ты вздыхаешь? — спрашивает Трайна.
— Посчитай, — говорит он. — Рубль в неделю за квартиру, значит — двадцать шесть рублей в полгода; долги у меня ещё по — свадебным расходам...
— Как это? — удивляется она.
Он улыбается:
— Ты думаешь, глупенькая, что отец мог нам дать что-нибудь, кроме обещаний?
— Ну, ладно, — прерывает она его.
— Значит, — ведёт он дальше свой счёт, — ещё рублей двенадцать, всего тридцать восемь. Что же остаётся на пропитание?
Она считает:
— Кажется, восемьдесят два рубля.
— На двадцать шесть недель.
— Что ж тут такого? — говорит она, — остаётся свыше трёх рублей в неделю.
— Ну, а дрова, а освещение... субботы и праздники?. спрашивает он уныло,
— Ну, бог не без милости, не оставит, — утешает она его. — Ведь и я могу кое-что сделать. Сегодня вот луку накупила. Яйца теперь дёшевы: закуплю их. Недельки через две они, верно, дороже станут, вот и заработаю. Да и посчитай сам, — продолжает она, — во что обойдётся отопление и освещение. Гроши. Едва рубль в неделю... Останется ещё...
— Но субботы, праздники!.. Что ты, детка?
Слово «детка» вышло у него так нежно, так задушевно, что она растаяла в улыбке.
— Ну, читай уж, читай застольную молитву, — отвечает она. — Отложи расчёты до завтра. Пора уже спать!
Ей становится стыдно, она опускает глаза. И, покраснев, оправдывается.
— Ты приходишь так поздно, — говорит она с деланным зевком.
Он наклоняется к ней через столик.
— Ах, ты, глупенький ребёночек, — шепчет он ей на ухо-, — я ведь нарочно прихожу поздно, чтобы мы могли вместе поесть... понимаешь... Иначе не подобает... ведь сама знаешь... я меламед!
— Ну, молись же, молись, — повторяет она, а веки её уже смыкаются.
Он также закрывает глаза, хочет усердно помолиться, но глаза ежеминутно сами раскрываются.
Он усиленно хмурит брови и сжимает веки, — всё ж остаётся между ним щель, сквозь которую он видит Трай-ну, облитую таким чудным сиянием, что не может от неё глаз оторвать.
— Устала, — жалеет он её.
Он видит, как она подвигается выше на кровати и опирается о стенку.
«Она так и уснёт, — думает си. — Почему она не берёт подушку?» — волнуется он, но не хочет прерывать молитвы и только мычит:
— Мм... Мм...
Но она не слышит.
Он быстро бормочет молитву, встаёт и застывает, не зная, что предпринять.
— Трайна! — зовёт он, но так тихо, чтобы не разбудить её. Он подходит к кровати и наклоняется над ней. Лицо её так сладко улыбается... Ей, зерно, снится что-то хо-
рошее. Как прелестна её улыбка... Жаль будить, головка будет болеть... Ах, какие волосы были у неё... Он их видел на помолвке — длинные, чёрные... Теперь их отрезали. Чепец кружевной, тонкий, с дырочками, вышитый... Хотя он также выглядит очень мило и словно — улыбается.
А всё же разбудить её нужно. Он наклоняется над ней ещё ниже, слышит её дыхание и жадно впитывает его в себя. Он чувствует, как она неотразимо влечёт его, притягивает, словно магнит... И невольно касается он её губ своими губами.
— Я ведь совсем — не спала, — вдруг вздрагивает она, раскрывая хитро смеющиеся глаза. Она обвивает руками его шею и притягивает к себе.
— Ничего, — шепчет она ему на ухо так мило, так нежно-, — ничего!.. Господь-бог милостив, он поможет нам. Это — ведь он соединил нас друг с другом... Он не оставит нас... Будет и светло, будет и тепло, будет работа... Будет хорошо... очень хорошо будет... Не правда ли, Иоселе? Не правда ли?
Он не отвечает, он весь дрожит.
Она его слегка отстраняет от себя.
— Погляди на меня, Иоселе! — предлагает она ему вдруг.
Иоселе хочет исполнить её просьбу, но не в состоянии этого сделать.
— Глупенький! — нежно говорит она. — Не привык ещё, а?
Он хочет положить голову к ней на грудь, но она не даётся.
— Чего ты стыдишься, дурачок? Целовать можешь, а глядеть нет?
Он предпочитает целовать, но она уклоняется.
— Ну, посмотри же на меня, я тебя прошу.
Иоселе с трудом раскрывает глаза, но они сейчас же снова закрываются.
— Умоляю тебя! — повторяет она ещё нежнее, ещё ласковее.
Он смотрит. Теперь она опускает веки.
— Скажи, — говорит она, — скажи правду, я тебя очень прошу, красивая я?..
— Да! — шепчет он, и он. ещё сильнее чувствует её горячее дыхание.
— Кто тебе сказал:
— Вижу ведь сам! Ты прекрасна, как царица, как царица...
— А скажи мне, Иоселе, ты всегда будешь так... будешь таким?..
— Каким же, Трайна?
— Я думаю, — дрожит её голое, — таким же добрым ко мне?
— А как же?
- — Таким нежным, таким сердечным?
— — А что же?
— Всегда?
— Всегда! — обещает он.
— Всегда будешь есть со мною вместе? — Конечно, клянусь! — отвечает он.
— И никогда кричать на меня не будешь?
— Никогда... Ни за что...
— Никогда не будешь мне причинять огорчений? — Огорчений? Я тебе? Как?.. За что?
— Ну, разве я знаю? Фрейда говорит...
— Ах, эта ведьма!..
Он снова прижимается к ней. Она его отстраняет.
— Иоселе!
— Что?
— Скажи... Как меня зовут?
— Трайна.
— Фу! — поджимает она маленькие губки.
— Трайночка! — поправляется он. Она всё ещё недовольна.
— Трайиуся...
— Нет!
— Ну, Трайна — жизнь моя, Трайна — ангел мой, Трайна — сердце моё. Так хорошо?
— Да, — отвечает она, счастливая, — но...
— Что же, душа моя, радость моя?
— Только слушай, Иоселе...
— Что; детка?
— А если, не дай бог, не хватит нам иногда на существование? Если я буду мало зарабатывать?.. Ты, может быть, на меня кричать будешь?
Слёзы наполняют её глаза.
— Боже упаси!.. Более упаси!..
Он вырывает голову из её рук и припадает к её ещё раскрытым устам...
— Ну вас ко всем чертям! Всё, что снилось мне сегодня, вчера и позавчера, да падёт, владыка небесный, на ваши головы! — раздаётся вдруг за ширмами. — Поцелуйная неделя у них. Глаз сомкнуть не дадут!..
Это хриплый, колючий, ядовитый голос «старой ведьмы» Фрейдл.
МАТЬ
За городом идут две женщины: высокая, полная, с злыми глазами тяжело ступает; худая, бледная, маленькая идёт, опустив голову.
— Куда ты ведёшь меня, Ханэ? — спрашивает маленькая.
— Потерпи, Грунэ, ещё несколько шагов: видишь, там горка.
— Зачем? — спрашивает Грунэ робко, прерывисто, точно пугаясь чего-то.
— После узнаешь, идём...
Они подошли к холмику.
— Сядь! — говорит Ханэ.
Грунэ послушно садится, Ханэ возле неё.
И в тишине тёплого летнего дня, далеко от городского шума завязывается беседа.
— Грунэ, ты знаешь, кто был твой муж, мир праху его?
На бледное лицо Грунэ ложится тень.
— Знаю, — отвечает она, закусив губы.
— Он был сойфером, Грунэ, благочестивым сойфером.
— Знаю, — говорит нетерпеливо Грунэ.
— Прежде чем написать букву, он совершал омовение в микве...
— Враки... Раза два в неделю он, правда, ходил туда...
— Благочестивый был человек
— Верно.
— Да будет он заступником нашим.
Грунэ молчит.
— Ты молчишь? — удивляется Ханэ.
— Всё равно!
— Нет, не всё равно! Пусть же он заступится за нас, слышишь?
— Слышу!
— Что скажешь на это?
— Что мне сказать? Я знаю только, что он за нас не заступился...
Пауза. Обе женщины понимают друг друга: благочестивый сойфер умер, оставив вдову с тремя девочками-сиротами. Груиэ вторично замуж не выходила, не хотела дать отчима своим детям, сама работала на себя и детей, но удачней не было ни в чём... «Он не был заступником их!..»
— А знаешь почему? — нарушает Хаиэ молчание.
— А?
— Потому что ты грешна...
— Я? — вскакивает Грунэ, как подстреленная. — Я грешна?
— Слушай, Грунэ, всякий человек грешен, а ты и подавно...
— Подавно?..
— Повела я тебя за город к реке, в поле недаром... Что говорить, свежего воздуха нам, слава богу, не нужно... Видишь ли, Грунэ... мать, и особенно вдова благочестивого сойфера, должна...
— Что она должна?
— Должна быть богобоязненнее всех, лучше всех и внимательнее смотреть за своими дочерьми...
Бледная Груиэ становится ещё бледней. Глаза у неё загораются, и синие, запёкшиеся губы дрожат.
— Ханэ! — кричит она.
— Ты ведь знаешь, Грунэ, я тебе верный друг, но правду я всё же должна сказать, не то придётся мне держать ответ перед богом... Я сплетничать на тебя не буду, из-за меня ты людям на язык не попадёшь, всё останется между нами, один только бог в небе услышит нас.
— Не тяни душу!
— Так слушай же! Коротко и ясно... вчера вечером, поздно вечером, возвращалась я с вокзала, и на горке сидела твоя Мирл...
— Одна?
— Нет!
— С кем?
— Разве я знаю? Шляпа какая-то... даже цилиндр... Он целовал её в шею, в затылок... Она смеялась и грызла леденцы.
— Знаю!.. — отозвалась Грунэ замогильным голосом. — Это не впервой.
— Ты знаешь это? Что он ей, жених?
— Нет...
— Нет? И ты... молчишь?
— Да.
— Грунэ!
Но Грунэ уже спокойна.
— Теперь помолчи-ка ты и послушай, что я тебе скажу, — говорит она резко, схватив Ханэ за рукав и заставляя её снова сесть. — Слушай, — продолжает она, — я тебе всё расскажу, и только один бог на небе услышит нас!
Ханэ садится опять.
— Когда муж умер... — начинает Грунэ.
— Как ты это говоришь, Грунэ?
— Как же мне говорить?
— Не говоришь «блаженной памяти»... И нужно ведь сказать «скончался».
— Не всё ли равно, скончался, умер? — его ведь похоронили...
— Он вернулся к своим предкам...
— Пусть будет так... только меня он оставил с тремя сиротками-девочками...
— Бедный, он кадиша не оставил.
— Трёх дочерей, старшую...
— Геиендл...
— Четырнадцати лет...
— У людей такая девушка уже невеста...
— У нас хлеба не было! Не до сватовства было... до помолвки и пряников — подавно.
— Как ты, Грунэ, говоришь сегодня!
— Не я говорю — боль сердца говорит... Геиендл, ты знаешь, была самой красивой девушкой в городе...
— И теперь тоже... чтобы не сглазить!
— Теперь она выжатый лимон, дожила до седых кос! Но тогда она сияла, словно солнце... И я была вдовой благочестивого сойфера, я берегла её, как зеницу ока; я знала, что в нынешние времена... шляются всякие музыкантиш-ки, портные, франтики, старые холостяки... Но на то и мать. Девица в невестах должна быть чиста, как зеркало... И я добилась своего, пылинки на неё не упало, я берегла сё, стерегла, с глаз не спускала, ни на миг она из дому одна
не уходила. И всё-то я ей наставления, назидания читала: «не смотри туда, не гляди сюда, не стань там, не ходи тут... не смотри, как птички летают...»
— Ну, и очень хорошо...
— Замечательно хорошо! — сказала Грунэ с горечью. — Пойди-ка посмотри, во что она превратилась! Да, она действительно честная девушка, но тридцати шести лет! Худа — хоть рёбра пересчитай, кожа сморщена, точно пергамент для филактерий, глаза потухшие, лицо кислое, без улыбки, губы вечно сжатые. Да, часто загораются её потухшие глаза, но в них горит ненависть, злоба, точно в аду... И знаешь, к кому? знаешь, кого она ненавидит? кого топотом проклинает она?
— Кого?..
— Меня! меня — свою родную мать!..
— Что ты говоришь? За что?
— Она, возможно, сама не знает за что, но я знаю! Я стала между нею и миром, между нею и солнцем! Я не допустила... как бы это сказать... тепла и света к её телу... Я думала об этом целые ночи, пока не поняла этого окончательно. Она должна меня ненавидеть... каждая частица её тела ненавидит меня!
— Что ты говоришь!
— Что слышишь. Сестёр своих она, наверное, ненавидит, они моложе её и красивее!
Грунэ с трудом переводит дыхание, а Ханэ не может притти в себя... Она слышит нечто ужасное, нечто худшее, чем болезнь, смерть, чем даже «смерть под венцом», — величайшее несчастье, которое может только постигнуть еврея, и всё-таки... Владыко мира, так должно быть!
— Младшую, Лею, я уж дома не держала... я её отдала в прислуги... — продолжала Грунэ, и её голос стал ещё более хриплым, ещё более отрывистым.
— Я тогда достаточно возмущалась, — вспоминает Ханэ, — дочь сойфера — ив служанках!
— Мне хотелось хоть её выдать замуж, пусть хоть у неё будет немного приданого; от моей торговли луком приданого не сберешь... И за ней я тоже смотрела... Не один хозяин поглядывал на неё, не один хозяйский сынок хотел сделать из неё игрушку... Но ведь я мать! И я была преданной матерью! Ноги у меня подкашивались, и всё же я десять раз на день бегала на кухню к ней, плакала, падала
в обморок, читала мораль ей, хорошие, благочестивые речи говорила... Целые ночи я не спала, «Кав-гаиошор» и другие священные книги читала, а по утрам бегала пересказывать ей прочитанное... и добавлять ещё своё! Да простит мне бог, из трёх чертей я делала десяток, один удар розгой я превращала в «сквозь строй», огнём на неё дышала... И она была кроткой, честной дочерью, и она во всём слушалась... Кроме глаз, она — вылитый отец, бледная, без кровинки; и такие добрые, влажные глаза, но ещё красивее...
— Ты говоришь о ней, как об умершей, упаси бог!..
— А ты думаешь, она живёт? Говорю тебе, не живёт! Она накопила приданое, а мужа дала ей я! Она, бедняжка, плакала, не хотела его-, он слишком груб, прост для неё. Но ведь учёный не женится на прислуге, да ещё при тридцати рублях приданого! Я благодарила бога и за это — портной так портной! Что ж, он пожил с ней год, отнял деньги, здоровье, последние силы и бежал... Он оставил её нагой и босой... с больными лёгкими! Она харкает кровыо! Это уже тень, а не человек... Она ласкается ко мне, как маленький ребёнок, ложится возле, как овечка... и целые ночи плачет. И знаешь ты, на кого она плачется?
— На мужа своего, конечно, да сотрётся память о нём!
— Нет, Ханэ, на меня, она плачется на меня! Я её сделала несчастной! Слёзы её падают мне на сердце, как расплавленный свинец, они отравляют меня, эти слёзы...
Она опять замолкает, едва перехватывает дыхание.
— Итак?
— Итак? Тогда я себе сказала: довольно! Пусть уж моя третья дочь живёт, как ей хочется... Она работает на фабрике, работает шестнадцать часов в сутки, и едва зарабатывает на сухой хлеб... Ей хочется леденцов, пусть ест их! Ей хочется смеяться, баловаться, целоваться, — пусть! Ты слышишь, Ханэ, пусть! Я ей лакомств дать не могу, мужа подавно... чтобы и она превратилась в выжатый лимон? — нет, не хочу доводить до чахотки, нет, нет! Пусть хоть эта дочь не ненавидит меня, не плачется на меня!..
— Но, Груиэ, — кричит Ханэ в испуге, — что скажут люди?
— Пусть у людей будет прежде всего сострадание к бедным сиротам, пусть не помыкают ими, как ослами, задаром! Пусть у людей будут человеческие сердца, и пусгь не
сосут они из бедняка последние соки, не превращают его в выжатый лимон...
— А бог, бог, да будет благословенно его имя!
Грунэ подымается и кричит, точно желает, чтоб её услышал бог в небесах:
— Богу нужно было раньше позаботиться о тех, о старших...
Тяжёлая тишина. Обе, тяжело дыша, стоят друг против друга. Глаза у них мечут молнии.
— Грунэ! — кричит, наконец, Ханэ. — Бог... тебя бог накажет!.. ,
— Не меня, не дочерей моих! Бог справедлив, он накажет кого-то другого!., другого!
СЕМЬ ЛЕТ ИЗОБИЛИЯ
(Из народных сказаний)
Вот повесть о том, что свершилось в Турбине.
Жил некогда в Турбине носильщик по имени Товий, и был он страшно беден. Как-то раз, в четверг это было, стоял он на базаре, подоткнув по обыкновению полы своего кафтана под верёвку, и выглядывал, не придёт ли откуда помощь, не удастся ли ему сегодня заработать на субботу. А в лавках, как нарочно, ии души: никто не выйдет, не войдёт. Не видно покупателей, некому снести покупки. И поднял тогда Товий взоры свои к небу, молча стал молить всевышнего не дать ему печальной субботы; чтобы жена его Соре и детки его не голодали хотя бы в субботу.
И вот, едва он помолился, слышит — вдруг кто-то тянет его за полу.
Обернулся: перед ним немец; одет он в охотничье платье, перо на шляпе, зелёная оторочка па куртке. И сказал ему немец:
— Послушай, Товий, суждены тебе семь лет изобилия, семь лет счастья, удачи и богатства. Коль пожелаешь, ещё сегодня воссияет звезда твоего счастья, и раньше чем взойдёт солнце, что над головой твоею, ты сможешь откупить Турбин со — всеми его окрестностями. Но по истечении семи лет ты станешь вновь бедняком, каким был. Если же ты пожелаешь, эти семь лет изобилия наступят лишь под конец твоей жизни, и тогда ты уйдёшь из мира сего — самым богатым человеком.
Был это, как потом оказалось, Илия пророк, выдававший себя, по своему обыкновению, за чужеземца. Товий же подумал тогда, что это простой колдун, и ответил ему:
— Милый мой немец, оставь Меня в покое! Не про тебя будь сказано, я очень беден; нечем мне справить субботу и нечем мне заплатить за советы и труды твои.
Когда ж немец, не отступая от него, повторил эти слова и раз, и другой, и третий, Товию запали те слова, и он ответил:
— Знаешь что, милый немец, если уж ты действительно заботишься обо мне, а не насмехаешься, если ты и взаправду ждёшь моего согласия, то я тебе вот что скажу, обычай мой такав: о всяком деле советоваться с женой. Без её согласия я не могу тебе дать окончательного ответа.
Тут немец сказал Товию, что советоваться с женою дело хорошее, и предложил ему пойти потолковать с Соре, — он подождёт.
Товий ещё раз огляделся — нет, заработка не видно. И решил он тогда: терять ему тут нечего, можно и домой сходить. Оправил полы кафтана и зашагал к полю, за город, где жил он в глиняной мазанке.
Дело было летом. Соре, увидев мужа в открытую дверь, обрадованная, выбежала ему навстречу: она думала, что Товий уже кое-что заработал на субботу.
Но Товий сказал:
— Нет, Соре! Господь, да будет благословенно имя его, ещё не послал мне заработка. Но ко мне явился какой-то немец.
И Товий передал Соре слова немца: суждены, мол, нам семь лет изобилия, и от нас зависит, когда изведать счастья, сейчас или перед смертью.
Соре, не долго думая, ответила ему:
— Иди, дорогой муженёк, и скажи немцу, что желаешь наступления семи лет изобилия сейчас же.
— Почему, Соре? — спросил изумлённый Товий. — После этих семи лет мы ведь снова обеднеем, а обедневшему жить хуже, нежели рождённому в нищете.
Тогда Соре ответила:
— Не заботься, друг мой, о завтрашнем дне. Бери сейчас, что дают, и произнеси при этом: «Благословен господь каждодневно». Ведь нужно платить за обучение детей в хедере. Их, бедных, прогнали домой. Вон смотри: бездельничают, играют в песке.
Этого Товию было достаточно; он побежал к немцу с
ответом: да, он желает немедленного наступления семи лет изобилия.
И сказал ему немец:
— Подумай-ка, Товий, теперь ты здоров и силён, можешь заработать, иной раз больше, иной раз меньше... Но как будет, когда ты состаришься, обеднеешь и не станет у тебя сил?
Товий ответил:
— Послушай-ка, немец! Жена моя Соре желает наступления изобилия сейчас же. Во-первых, она говорит: «Благословен господь каждодневно», и нечего заботиться о завтрашнем дне. А во-вторых, детей ведь из хедера прогнали.
— Что ж, если так, — сказал помечу — возвратись домой. Раньше, чем вступишь на порог сноего дома, ты разбогатеешь!..
Товию хотелось расспросить, что будет потом, по истечении семи лет, но немец уже исчез.
Товий отправился домой. А жил он, к.чк было сказано, за городом, в поле. Вот, видит он, у самого дома играют его дети в песке. Подошёл ближе, смотрит: малыши выгребают из ямки не песок, а чистое зилота, настоящее золото...
И начались счастливые дни, потекли семь лет изобилия...
Но время летит, как из лука стрела. И вот вновь является немец объявить Товию, что счастью его пришёл конец. В эту же ночь всё его золото уйдёт и землю — исчезнет золото, что в доме, исчезнут и богатства, которые он запрятал у людей.
И застал немец Товия вновь стоящим, как и в первый раз, на базарной площади, с заткну 1ыми за пояс полами кафтана в ожидании заработка.
— Послушай, Товий, — сказал ему немец, — семь лет миновали!..
И ответил ему Товий:
— Иди и скажи об этом жене моей Соре, ибо всё богат» ства в эти годы находились у «её в руках.
Пошли они вдвоём за город, пришли к той же глиняной мазанке и застали Соре в старом убогом своём наряде, но улыбающеюся.
Немец снова повторил: семь лет изобилия миновали.
Тогда Соре ответила ему: собственно, изобилия они никогда и не видели; никогда не считали они это золото своею собственностью, ибо — только то, что человек зарабатывает своими десятью пальцами, своим честным трудом, принадлежит ему; богатство же, достающееся без труда, есть лишь дар, который бог отдаёт на хранение для блага бедняков. Она, Соре, из этих денег брала лишь на обучение своих детей божьей мудрости, а за обучение божьей мудрости можно платить божьим золотом. Вот и всё. Ежели создатель мира нашёл отныне лучшего хранителя для золота своего, то его священная воля отнять и передать его другому.
Илия пророк выслушал и исчез. Он передал ответ Соре небесному судилищу, и в небесах было решено, что лучшего хранителя не найти. И семь лет изобилия не прекращались для Товия и Соре до самой их смерти.
УТРОМ
Старый Менаше едва кончил полуночную молитву и несколько псалмов на придачу, когда бледный рассвет смотрел уже в подвальное окошечко.
Печальными, усталыми глазами смотрит Менаше на новорождённый день. Хрустнув худыми пальцами, он закрывает псалтырь, тушит маленькую керосиновую лампочку и подходит к окну. Он глядит на узкую полоску неба, бледнеющую наверху, над тесным переулком, и на его обрамлённом серебристой бородкой и пейсами, зеленоватом, сморщенном лице показывается бледная тень печальной улыбки.
«Отдал, — думает он, — свой долг, большое тебе спасибо, творец мира!»
— И зачем, — вздыхает ои, — я тебе нужен здесь, творец мира? Тебе нужна ещё одна молитва, ещё один псалом... а? Тебе мало!
Он отворачивается от окна и думает, что, по его разумению, было бы лучше, если б в его кровати спала его внучка Ривке, а она вот валяется на полу, среди хлама, которым торгует его сын Хаим. По его совести, совести человеческой, было бы гораздо^ справедливее, если б стакан молока, которым он живёт чуть ли не целый день, выпивала Соре, его сноха, с утра до вечера бегающая по базару, не проглотив и ложки супа за день. Янкеле, новому отпрыску семьи, это молоко тоже не повредило бы...
Правда, ему, старику, мало нужно, но ведь семье было бы легче, если бы ему ничего не нужно было...
Хаим весь обносился... Старшая внучка, Ханэ, больная, малокровная... Врач говорит: «девичья немочь»... прописал железные капли, рыбий жир... немного вина... Копят для неё в отдельном узелочке, уж месяцы копят — и всё мало. Бедная Ханэ не растёт; не растёт и ум её, стоит на одном 11* 163
месте... Ей уже семнадцать, а понимает она столько же, сколько двенадцатилетняя.
— Творец мира, зачем ты меня взвалил им на плечи?..
Он прислушивается, как резко и отрывисто дышит во
сне Хаим. Он видит, как костлявая рука Соре, только что, видно, качавшая ребёнка, устало свешивается с кровати...
Он замечает, что Янкеле ворочается в колыбели. «Скоро раскричится и разбудит мать!» И торопливыми, частыми шагами подбегает он к внуку и начинает качать колыбельку.
«А может, — думает он, поворачиваясь к окну, — ты хочешь, боже, чтобы я дождался радости от Янкеле, чтобы я учил его молитвам, научил читать... а?»
Точно румяное яблочко, цветут шечки Янкеле во сне. Сладкая улыбка блуждает вокруг маленьких губок... они то раскрываются, то закрываются снова. «Обжора, и во сне сосал бы!»
Тут старик замечает, что Ривке мечется на постели.
Она лежит на сеннике, прикрывшись до груди грязной, усеянной чёрными пятнышками простынёй. .Что у неё под головой — не видно.
Покрытое нежным румянцем лицо, белая, как алебастр, длинная, выточенная шея кокетливо шевелится на фоне спутанных ярко-рыжих волос, покрывших всё изголовье и свисающих до полу.
«Вылитая покойница моя... — думает старик, — горячая кровь... Сны... Храни бог её на долгие годы!..»
— Ривке! — подходит он к ней и дотрагивается до её обнажённой руки, высунувшейся из-под простыни.
— Что? А?.. — пугается Ривке, широко раскрыв свои большие голубые глаза.
— Ш... ш... ш... — успокаивает он её, улыбаясь. — Я это... иди на мою постель.
— А.ты, дедушка? — спрашивает она, широко зевнув.
— Я уж спать не буду... не спится в мои годы... я приготовлю чай... Ты ведь слышала вечером — они встанут рано; у отца есть дело в городе, а маме нужно закупить для Пимсенгольц на помолвку.
— Я, дедушка, приготовлю чай.
— Нет, Ривке... ты иди на мою постель... Можешь ещё
долго спать... Ты сегодня, говорила мать, на фабрику не пойдёшь... ты ей нужна будешь... выспись лучше...
— А-а! — ещё громче зевает Ривке. Она уже всё вспомнила.
Отец пришёл вчера с радостной вестью: бог послал ему порядочное количество старья.
Мама также принесла новость: у Пимсенгольц, для которых она закупает, будет, наконец, помолвка. Хотя невеста и не совсем довольна, — ей достанется, но помолвка всё же состоится.
Особенного удовольствия эта весть Ривке не доставляет: она, правда, выспится, и ходить с матерью на базар, конечно, приятнее, чем работать на фабрике, но потом — таскать корзинки с яйцами и курами и, особенно, гнаться за убежавшей курицей, — занятие не из приятных.
Но ничего не поделаешь!
Она закутывается в простыню и перепрыгивает в кровать старика.
Этот прыжок доставляет старику удовольствие: «Вылитая старуха моя!..»
Пока старик развёл огонь, пока он наколол лучинок и, разложив их под плитой, обсыпал мелким каменным углём («дорог уголь», подумал он при этом) и облил их керосином, пока поставил на камфорку старый, покрытый красноватой ржавчиной жестяный чайник, — Соре успела уже дать Янкеле грудь, выразив при этом желание дожить до той поры, когда Янкеле будет читать молитву над молоком...
Бледная Ханэ тоже проснулась и села в своей кровати.
Из-за. спины матери она играет со своим маленьким братишкой в «ку-ку!»
Обрамлённое густыми, пепельно-серыми, растрёпанными волосами, её маленькое личико, с бледными щёчками и мечтательными глазами, показывается то справа, то слева. Однако её движения слишком медленны, улыбка на лице слишком бледна, и взгляд слишком неподвижен, чтобы игра эта могла уже рано поутру оторвать «Янкеле-обжо-ру» (так зовут его дома) от груди.
Он сильно занят: он смотрит на сестру, но ему некогда заняться ею.
Одну ручку он держит под боком, на котором он лежит на коленях матери, другой отгибает край её открытой на груди рубахи, чтобы этот край не падал ему на лицо, и смотрит на свою сестру спокойно и равнодушно, — она от пего не уйдёт...
Хаим облачился уже в талес и филактерии и молится, шагая по комнате.
Он часто останавливается, бросает взгляд на Соре, хочет ей что-то сказать, но тут же взглянет на старика и опять начинает шагать.
Старика он боится.
Старик думает, что теперь ещё те прежние, добрые времена, когда еврей мог молиться, как следует, слово за словом читать по молитвеннику... Теперь на одну пару поношенных штанов семь торговцев! Он, правда, принял вчера меры предосторожности: условился за шесть рублей без пяти копеек, оставил задатка семь злотых и двенадцать грошей... уходя дал три копейки дворнику, чтоб тот до его прихода не впустил во двор ни одного старьёвщика... Однако он не спокоен. Кто знает... пока он достанет компаньона!
Он пьёт уже чай, держа стакан на ладони и дуя на него перед каждым глотком, и не знает, ещё, что предпринять.
Трудно достать компаньона!
К кому обратиться? к процентщику? — он с него кожу сдерёт! К лавочнику? этот — последний грош у него вырвет!..
А если уж удастся достать компаньона, так ведь придётся отдать ему половину барыша, хотя торговался он один.
По временам он достаёт у Соре несколько злотых, но сегодня — куда там! — ещё вчера она сказала ему, что ей не хватит денег на закупки!
А может, она всё-таки поверит ему на день из узелочка Ханэ?
Он боится, однако, сделать попытку... — он уже не раз пробовал и потом только каялся.
Он ещё раз бросает взгляд на Соре, и ему кажется, .что момент как раз подходящий.
Она уж положила Янкеле обратно в колыбельку. Стоя возле него, она одевается и улыбается ему такой доброй улыбкой. Авось и выгорит... 166
— Я думал ночью, — пробует он, — покупка очень удачная. Я, слава богу, заработаю...
— Дай бог, — отвечает Соре, — пусть это на счастье Янгеле... С тех пор, как он родился, легче подвёртывается заработок...
— — Я думаю, — обращается к ней Хаим с заискивающей улыбкой, — что это на счастье Ханэ. Знаешь, Соре, когда я покупал, я так думал: из прибыли нужно будет взять хоть треть для Ханэ! И вот, когда я так думал, барыня стала мягка, как шёлк, и давай сбавлять с цены пятачок за пятачком.
— Тем лучше, — улыбается ему Соре я становится, кажется ему, моложе и свежее... «Былые годы!» — мелькает у него в голове. «Что ж. если б лучшие времена...» Но ему некогда думать об этом...
— Итак, Ханэ — компаньонка!
— Прекрасно, чего ж лучше!
— Да, — бормочет он, — если Ханэ — компаньонка... я рассчитываю на её счастье, если компаньонка...
— Ну, так что? — спрашивает Соре, навострив уши и уставив на него глаза... «Он уж к чему-то ведёт... он уж хочет чего-то», — подозрительно думает она.
— Так что? Я хочу, чтоб она была действительной компаньонкой... чтоб она вложила в дело часть капитала.
— Что? что ты говоришь? — Соре ушам своим не верит и, не ожидая ответа, набрасывается на него:
— Разбойник! Изверг!.. Ну и отец! Ну и муж! Знает, что — девочка так больна... что я дала обет не рисковать её деньгами... Это ведь её деньги! её кровные деньги! Корзинку иной раз понесёт за мной, я иногда дам ей сколько-нибудь...
Соре успокоиться не может.
Хаим хочет ей ответить, но старик не даёт:
— Молчи уж лучше, Хаим, молчи, не видишь разве, что Сореле права?.. Иди, поищи себе компаньона... не обижай людей... живи сам и дай другим жить.
Хаим молча кладёт в свой мешок кусок хлеба с луковицей и уходит из дому. Старик напутствует его:
— Видал ты, как птички подбирают кропжи на дворе? Крошку покрупнее берут вдвоём...
В постели старика Ривке спит сейчас не менее бег покойно, чем прежде. В молодой голове бродит мысль не дающая ей крепко уснуть... Она вспомнила встречу!..
Однажды под вечер, возвращаясь с фабрики, она столкнулась на тротуаре с каким-то молодым человеком. Она шла напрямик, думая, что он уступит ей дорогу, но тот ни с места, и так уставился ей в лицо своими весело смеющимися серыми глазами, что она вся вспыхнула. Ривке посторонилась и быстро зашагала домой. У поворота в боковую уличку она, против своей воли, обернулась и увидела, что он стоит всё на том же месте и смотрит ей вслед с тою же улыбке®, сверкая рядом белых зубов.
«Я расскажу это Ханэ», — подумала она и, однако она этого не сделала: что поймёт эта бедняжка, больная Ханэ!
Несколько дней спустя Ривке встретилась с ним снова. Сердце её стало усиленно биться, глаза стыдно поднять; она быстро прошла мимо, но так неловко, что чуть не поскользнулась на гладком тротуаре.
Удаляясь, она, кажется, чувствовала, как его светлый, весёлый взгляд скользит по её голой шее.
Это испугало её: ей кажется, что это заметили все прохожие, ц она убежала ещё поспешнее.
Как-то раз он вырос перед нею, точно из-под земли.
«Ах!» — вскрикнула она, а он стоит и загораживает ей дорогу.
— Кажется, барышня, — говорит он, — я имею счастье быть знакомым с вами.
«Барышня» сказал он ей!
Она, тем не менее, сердится и отходит от него полуиспуганно-. Однако она должна признаться, голос у него очень приятный." «Золотой гтздаэс», говорит ей сердце...
С тех пор они встречаются почти каждый вечер; она с ним не говорит, молчит, но больше уж не убегает от него.
И каждый вечер он провожает её с фабрики домой.
Они идут рядом и молчат.
Часто она не в силах удержаться и бросает на него взгляд со стороны...
«Ах, какие усики...»
На её взгляд он отвечает ещё более светлой улыбкой...
Какие у него необыкновенные глаза!.. Иной раз из них, кажется, тянутся золотые нити.
Между тем, про всё узнали1 на фабрике: товарки подметили, и пошли разговоры.
Смеются над нею, пошучивают на! её счёт.
— Молодо-глупо, — говорит кто-то, — сегодня убегает, завтра сама за ним побежит.
«Не доживёте вы до этого», — думает Ривке.
— Она ещё язык высунет, как овца за солью...
Ривке закусывает губу и молчит.
— И красавец же! — говорят. — Глаза, волосы!.. А нос, точно точёный! Из жилетного кармана свисает золотая цепочка чуть ли не с десятью золотыми брелоками!
Ривке это льстит.
— Может, томпак? — 1 сомневается одна.
«Ещё бы!» — думает Ривке.
Другие отвечают:
— Что ты, что ты! Сейчас видно, что богатых родителей-
Тут снова пошучивают:
— Не хочется тебе романа — что ж, успеешь! Но будь умна, говори ласковые слова, бери небольшие подарки, обедом пусть угостит, конфетами... билеты в театр...
Кто-то громко смеётся:
— Конечно! Бери нахрапом, как норовистая лошадь... Но в руки даваться — ни-ни!... Чтоб им пусто было!..
Наконец, раздаётся голос старшей работницы, у которой длинное костлявое лицо, острый подбородок и косые зеленоватые глаза.
— Те-те-те, — говорит она, — подумаешь, что такая мо-жет потерять! Венец её ждёт! Приданого, поди-ка, не сосчитать! Сваты пороги обивают, женихи у дверей толпятся! Только держись!..
Ривке плотнее сжимает губы, ещё ниже опускает пылающую голову, и две горячие слёзы падают ей на руки, занятые у машины.
Вот это и не даёт ей спать.
Нет! Она ничего, ничего не возьмёт!
Билета в театр — подавно нет!
Однажды она поздно задержалась на фабрике: была спешная работа. Мать прибежала ни жива, ни мертва. Когда она увидела свою дочь, глаза у неё засияли, и из них
брызнули слёзы. В коридоре фабричного здания у лестницы стоял дедушка и ломал руки.
— Слава богу! — бормотал он, — слава богу!
— Нет, она этого не сделает!..
Соре тоже стала собираться в город. Она ставит для старика стакан молока на столик, пододвигает к нему колыбельку с Янкеле. Ей ещё нужно позаботиться о кое-каких мелочах по хозяйству... Однако она успевает ещё и пожаловаться старику на плохие времена.
— Вы ведь слышали, тесть! Должна быть помолвка-последний срок... телеграфируют, что всё закупили... а она, невеста, устраивает скандалы. Не хочет! Не хочет жениха из провинции... у неё, говорит она, есть варшавянин, варшавский «франтик»...
Ханэ, лежавшая всё время с открытыми глазами и наблюдавшая, как с потолка одна за другой срывались мухи и разлетались во все стороны, услышав слова матери, сразу садится, её всегда матовые глаза начинают вдруг блестеть. Она, видимо, прислушивается... Навостряет уши и открывает рот, точно глотает слсза матери.
Мать, однако, уверена, что заработок тут будет.
«Помолвка, с божьей помощью, состоится. Пимсенгольц ещё постоит за себя... «Расплывшаяся Пимсенгольц» тоже молчать не станет... Ну, и коготки же у неё!»
— Прежде всего, — сказала мне их кухарка, — сделали обыск, нашли письма какого-то франтика-прощалыги и всё сожгли. Потом уж ей влетело, здорово влетело! За волосы оттаскали!
Ханэ чувствует, что глаза у неё становятся влажными, лицо краснеет, она полна сострадания.
Она с плачем падает на подушку.
Соре пугается, старик подбегает к ней.
— Что такое, Ханэ? Что с тобой?
— Жалко, мама, жалко...
— Кого, дочь моя? Кого? — удивляется Соре, забывая обо всём.
— Н-н-невесту... она такая... добрая... сердечная... даёт мне постоянно деньги... те деньги, что я тебе отдаю... она меня ласкает... иногда целует... Она хочет учить меня писать.
— Ещё этого недоставало! — говорит Соре сердито. — BparaMi моим! на погибель!.. И тебе она хочет голову вскружить, чтоб и ты не слушалась матери?..
Ханэ отвечает с плачем:
— Нет, мамочка, нет! Не бойся только! Я тебя всегда буду слушаться! Какого бы жениха ты мне ни дала.
Раздаётся звонкий смех.
То Ривке смеётся над наивностью сестры.
— Злюка! — кричит Соре, — ребёнок болен, опасно болен... смеяться бы тебе, знаешь, как?..
— Не проклинай, Соре, — успокаивает её старик, — ведь и она ещё ребёнок.
Соре уходит, раздосадованная, и, оставляя комнату, кричит Ривке:
— Встань, франтиха! Дай Ханэ чаю, вымети комнату...
Старик Менаше выпил своё молоко и уселся у окошка.
Через оконце виднеются лишь длинные, узкие тени, которые от ног прохожих падают на маленькие стёкла...
Чем ближе к полудню, тем быстрее меняются тени и тем печальнее становится старик. Люди спешат, бегут, торгуют, работают, лишь он один (так кажется ему) ни для чего уж не годится.
Он берётся за псалмы.
Дрожащим голосом прочитывает он стих по-древнееврейски, стих в переводе и некрепкою ногою качает колыбельку Янкеле.
Ривке, полуодетая, сидит на кровати Ханэ: обе пьют чай. Рядом с Ривке, пышущей здоровьем и жизнью, Ханэ кажется ещё более болезненной, ещё более бледной и маленькой, ещё более ребёнком.
У них идёт интимный разговор.
— Я не скажу, Ханэ, расскажи!
— Клянись!
— Клянусь....
— Чем?
— Чем хочешь.
Ханэ морщит лоб и придумывает:
— Здоровьем Янкеле!
— Здоровьем Янкеле, — повторяет за нею Ривке.
— В чём?,
— В том, что сохраню в тайне всё, что ты мне дове ришь...
Ханэ задумывается.
— Сиди, — говорит она, — я не могу... я лучше лягу и буду смотреть в потолок, а то я забываю, путаюсь... Когда я лежу и смотрю вверх, я всё вижу перед собой... мне вое представляется ясно...
— Ну, ложись, Ханэ...
— Ты также. Приложись ухом к моим губам, это — страшная тайна! Я не хочу, чтобы дедушка слышал!
И Ханэ морщит лоб ещё сильнее. Она дышит тяжело, точно на ней лежит большая тяжесть. Она откидывается на подушку.
Сильно заинтересованная Ривке ставит быстро стаканы на стол и ложится возле Ханэ.
Старик прерывает чтение псалмов и, обернувшись к кровати, говорит:
— Не лучше ли, Ривке, прибрать?
— Сейчас, сейчас, дедушка, — отвечает Ривке, — Ханэ хочет мне что-то рассказать.
Старик с печальной улыбкой качает головой и опять начинает распевать свои псалмы.
И Ханэ рассказывает, сморщив лоб и широко раскрыв почти неподвижные глаза, которых Ривке несколько пугается.
Ей кажется, что Ханэ рассказывает не по памяти, а видит что-то перед собой и говорит то, что видит. И голос её такой глубокий, и дыхание такое горячее...
Ханэ рассказывает:
— Кухарка куда-то вышла... Я осталась в кухне одна... жду мамы... она должна притти за мной.
— Ривке, — перебивает она себя вдруг, — когда мы ели пшено с мёдом?
— Вчера, — отвечает Ривке недовольным голосом.
— Так это было-таки вчера... да, вчера... Сижу себе так и пью чай. Кухарка даёт мне всегда чай... когда бы ни пришла, она мне даёт чай... А там пить чай так приятно... с серебряной ложечкой... блестит... От чая становится тепло во всём теле... И сахар, слышишь ты, внакладку. Я хочу пить вприкуску, остаток домой отнести, кухарка не даёт сахар, говорит она, тебе полезен... и следит, чтобы я положила все три куска.
Кухарка получает там целый фунт сахару... целый фунт в неделю! Кроме того, она берёт ещё сама.
Мама говорит... она берёт из серебряной сахарницы, что стоит в первой комнате... она стоит открытая... я сама видела. Но я брать не буду...
На сахарнице изображён олень. Сама Пимсенгольц мне сказала, что это олень... С такими большими, ветвистыми рогами... действительно, олень...
— Итак, ты сидишь на кухне? — напоминает ей Ривке.
— Да, сижу я там на кровати... Ну, и кровать же у кухарки! Три большие подушки, наволочки белые, как снег... вязаные кружева, а сквозь них видно красное... Большие перламутровые пуговицы величиною с двугривенный! Стёганое атласное одеяло, посредине большой круг, вроде колодца! Кругом орлы с громадными крыльями... Поверх кровати ещё зелёное шёлковое одеяло... Настоящая барыня эта кухарка, но добрая. Она меня приглашает сидеть на кровати, в ногах... одеяло отгибает... Она меня любит, говорит она, и знаешь, Ривке, почему?
— Почему?
— Она имела, — говорит, — такую же девочку, как я. Звали её не Ханэ, но моих лет... Поэтому она и меня любит, говорит она... Отчего ты вздрогнула, Ривке?,
— Так, ничего... рассказывай дальше, Ханэ...
— Сижу и пью чай... а она входит.
— Кто?
— Битая невеста.
— Как битая?
— Ты разве не слышала? Ведь мама рассказывала. Да, да, её бьют, потому что она не хочет того жениха...
— Ага! Ну... хорошо, она входит?
— Она, входит — бледная... с красными глазами... Слышишь, Ривке, дома она носит голубое шёлковое платье, новенькое, с красными крапинками... Сзади болтаются две длинные, широкие атласные, также красные ленты... на концах обшиты чёрной шёлковой бахромой... Серёжки брильянтовые... Причёска такая чудная... высоко на голове волосы венчиком собраны, а посередине венчика голубь с распростёртыми крыльями — понимаешь, из волос же. Сзади
Волосы собраны золотой пряжкой, спереди — также золотая пряжка, кажется — даже две! На поясе опять золотая пряжка — ослепнуть можно! Повернётся — так и сверкает!
Ханэ замолкает.
— И всё?
— Подожди! Это большая тайна, Ривке! — и она добавляет со страхом: — бог накажет, если ты расскажешь.
Ривке уверяет, что она её не выдаст.
Ханэ кладёт свою руку под голову Ривке, прижимает её крепче к себе и продолжает рассказывать ещё более тихим, ещё более глубоким голосом:
— Она увидела меня и бросилась ко мне с плачем.
— Чего она хотела от тебя?
— Она хотела от меня услуги.
— Услуги? От тебя услуги?
— Всунула мне в руку полтинник, тот полтинник, который я вчера отдала маме — и ещё кое-что...
— Что ещё, Ханеле?
«Ханеле» в устах Ривке верный ключ, чтоб раскрыть сердце Ханэ.
— Письмо... И чтоб я отдала это письмо в строжайшей тайне.
— И ты взяла?
— Подожди... Она заучила со мною адрес — ведь я писать не умею: Герман... другое имя я уж забыла... улицу также... но, кажется, номер сорок..
— Ты взяла и отдала? — спрашивает Ривке со скрытым испугом.
— Не так скоро, — отвечает Ханэ наивно. — Долго искать пришлось.
Но не это интересует Ривке.
— Он холостой? — спрашивает она резко.
— Откуда мне знать? Должно быть...
— Он живёт один? С усиками?
— Кажется... да. Он сам открыл мне. Я только нажала белую пуговку — это она меня научила.
— Он взял письмо?
— Взял.
— Дал ответ?
— Он не дал ответа... напишет по почте, сказал он. Но он так обрадовался письму... На радостях попросил меня в комнату, усадил на стул...
— Зачем?
— Он был очень рад! Он даже гладил мои волосы, — как мама делает иногда, в субботу или в праздник, когда у неё есть время... Потом он смеялся и даже поцеловал меня... в губы... прямо в губы... потом в глаза. «Красивые глаза», говорил он...
Ривке лежит, точно окаменелая
Ханэ задумывается немного, потом доканчивает:
— Но потом, когда он хотел расстегнуть мне блузку и засунуть руку, я застыдилась и убежала. Он забыл запереть дверь...
— Слава богу, слава богу! — шепчет Ривке с заглушённым плачем.
— Что ты говоришь, Ривке?
— Ничего, Ханэ.
— Скажи мне только, Ривке, зачем это он руку хотел засунуть?..
— Молчи! — перебивает её Ршзко с испугом.
К счастью, старик не слышит. Он погружён в свои псалмы. Прочитывает стих и тут же переводит.
«Нет в устах их истины... Сердце их — пагуба; гортань их — открытый гроб», яма, значит, ч гиб проглотить... и «языком своим льстят»...
Ривке лежит бледная, со стиснутыми зубами и прислушивается.
Ханэ смотрит на неё перепуганная...
ЕСЛИ НЕ ВЫШЕ ЕЩЁ...
(Из хасидских рассказов)
И ежедневно на рассвете во время слихос немцовский рабби исчезал.
Его не видно было нигде: ни в синагоге, ни в обеих молельнях, ни при богослужении на частной квартире, а до-ма и подавно. Двери оставались открытыми, входил, кто хотел. Краж не случалось, хотя в доме не оставалось ни живой души.
— Где может быть рабби?
Где ему быть? Конечно, на небе. Мало ли дела у него там перед «страстными днями»! Мало ли о чём позаботиться надо! Евреям, не сглазить бы, нужно пропитание, спокойствие, здоровье; нужно удачно детей сосватать. Хотят евреи быть добрыми и богобоязненными. А грехи ведь велики, и дьявол тысячеглазый видит всё и доносит и обвиняет...
Кому же заступиться, если не рабби?
Так думают все.
Но появился однажды литвак, — смеётся. Ведь вы знаете литваков: книг нравоучительных не очень уважают, зато голову набивают себе талмудом да раввинской письменностью. И вот этот литвак приводит доказательства из талмуда, прямо в глаза тычет, что даже Моисей-законодатель — и тот при жизни не мог взойти на небо и достигал лишь высоты на десять локтей ниже небесного свода... Ну, поди спорь с литваком!
— Всё-таки, — спрашивают литвака, — куда же девается рабби?
— Да мне что? — отвечает он, пожимая плечами. Но тут же (на что литвак способен!) решает разузнать, в чём дело.
В тот же день, сейчас же после вечерней молитвы, лит-вак прокрадывается в комнату рабби. залезает под кровать и лежит: надо обождать всю ночь и выяснить, куда девается рабби и чем он занимается в это время.
Другой, может быть, задремал, проспал бы момент, лит-вак же находчив: лежал и повторял наизусть целый талмудический трактат, — не помню уже, какой именно.
На рассвете слышит: стучат — зовут к слихос. Рабби давно уже не спит; с час слышно, как он вздыхает. Кто когда-нибудь слыхал вздохи немировского рабби, знает, сколько народной скорби, сколько мук в каждом его вздохе. Душа изнывает, внемшя этим вздохам. Но у литвака ведь железное сердце, — слушает и продолжает лежать. Лежит и рабби; рабби на кровати, литвак под кроватью...
Вскоре слышит литвак, в доме заскрипели кровати; домашние поднимаются. Бормочут краткую утреннюю молитву... Слышен плеск омовения. Стучат, открываясь и закрываясь, двери. Все уходят. Опять тихо и темно. Сквозь щели ставней пробивается бледное лунное мерцание. Сознался литвак, что, когда он остался один с рабби, па него напал страх. Вся кожа на нём запупырилась, как у испуганного гуся, и корни волос на висках начали колоть, как иголки. Шутка ли сказать: во время слихос оставаться наедине с рабби в одной комнате.
Но литвак ведь упорен: дрожит, зуб на зуб не попадает, а лежит.
Наконец, рабби встаёт; умывает руки, тихо читает молитву, как надлежит всякому еврею. Потом подходит к платяному шкафу и вынимает оттуда узел... Из узла появляется мужицкое платье: холщевые портки, огромные сапожищи, сермяга, большая баранья шапка и широкий кожаный пояс, обитый медными штифтиками.
Рабби всё это надевает на себя...
Из кармана сермяги торчит конец верёвки, обыкновенной грубой верёвки.
Рабби идёт, литвак за ним!
Мимоходом рабби заходит в кухню, нагибается под кровать и вытаскивает оттуда топор. Он засовывает топор за пояс и выходит на улицу.
Литвак весь дрожит, но не отстаёт ни на шаг.
Робкая, благоговейная тишина царит в тёмных уличках. Кое-где вырывается стонущий звук слихос из какой-нибудь молельни... Кое-где из-за оконных стёкол доносится стон больного... Рабби держится всё больше в сторонке, в тени домов и заборов... Временами фигура его выходит из тени; литвак всё шагает за ним.
И слышит литвак, как биение его собственного сердца сливается со — стуком тяжёлых шагов, рабби, но он идёт дальше. И так выходят они за город.
За городом — роща.
Рабби заворачивает туда и, пройдя шагов тридцать-со-рок, останавливается возле дерева. Литвак вне себя от изумления: рабби вынимает из-за пояса топор и принимается рубить дерево-. Рабби рубит, рубит; деревцо трещит и падает. Рабби разрубает его на поленья, затем, расколов, увязывает верёвкой в вязанку и, вскинув её на плечи, засовывает топор за пояс и направляется из лесу обратно в город.
В каком-то переулке рабби останавливается у бедной, полуразвалившейся избёнки и стучит в окошко.
— Кто там? — раздаётся испуганный голос, и литвак слышит, что это голое больной женщины.
— Я, — отвечает рабби по-мужицки.
— Кто «я»? — опять спрашивают из избёнки.
— Василь! — отвечает рабби.
— Какой такой Василь и что тебе надо?
— Дрова маю продаваты, — отвечает мнимый Василь по-украински, — вязанку дров... и дёшево, почти даром...
И, не дожидаясь ответа, он заходит в избёнку.
Литвак прокрадывается туда же. При сером утреннем полумраке перед ним — бедная комнатка с убогой и поломанной утварью; на постели, под грудой тряпья, больная женщина. И говорит она с отчаяньем Василю:
— Купить?.. А на что купить? Откуда мне, бедной вдове, взять деньги?
— Я тебе в долг поверю, отвечает переодетый рабби, — всего шесть грошей.
— А где я возьму, чтобы уплатить тебе? — стонет несчастная.
— Глупый ты человек! — строго возражает рабби. — Смотри, ты бедная, больная женщина, и я тебе верю в долг... Я уверен, что ты заплатишь... Ты имеешь такого великого и всесильного бога и... не доверяешь ему?! И не надеешься на него даже на какие-нибудь шесть грошей за вязанку дров!..
— А кто затопит? — жалобно спрашивает больная. — Разве я в силах встать? Сын не вернулся с работы...
— Я затоплю! — отвечает рабби.
Накладывая дрова в печь, рабби, стеня и вздыхая, прочитал первую главу из слихос. Когда же он затопил и дрова весело запылали, он уже несколько бодрее стал читать вторую главу.
Третью главу рабби прочитал, когда печка истопилась и он закрыл трубу.
Литвак, всё это видевший, с тех пор остался уже навсегда немировским хасидом.
Впоследствии, когда, бывало, какой-нибудь хасид начнёт рассказывать, что во время слихос нюмировский рабби поднимается каждое утро на небо, литвак уже не смеётся, но тихо добавляет:
— Если не выше ещё!..
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
Хаим — носильщик.
Когда он проходит по улице, согнувшись под ящиком с товаром, его совсем не видно: кажется, что ящик шагает сам на двух ногах. Тяжёлое дыхание, однако, слышно издали.
Но вот он, сняв с себя ящик, ставит его наземь: он получает заработанные им гроши. Выпрямившись и глубоко вздохнув, он отвязывает полы халата, отирает пот с лица; затем, подойдя к колодцу, выпивает несколько глотков воды и забегает в какой-то двор. Там он становится возле стены и подымает громадную голову так, что кончик бороды, нос и козырёк картуза у него на одной линии. Он кричит:
— Ханэ!
Под крышей открывается окошко, и маленькая женская головка в белом чепчике отвечает:
— Хаим?!
Муж и жена смотрят друг на друга с большой нежностью. «Любезничают», говорят соседи. Хаим бросает вверх свой заработок, завёрнутый в бумажку. Ханэ ловко хватает бумажку. Это ей не впервые.
— Молодчина! — говорит Хаим и продолжает стоять. Ему не хочется уходить.
— Ступай, Хаим, ступай! — улыбается Ханэ. — Мне нельзя отойти от больного ребёнка... Я поставила люльку возле печки, рукою снимаю пену с горшка, ногою качаю...
— Как он, бедняжка, теперь?
— Ему лучше.
— Слава богу. А Геня?
— У швеи.
— А Иоеель?
— В хедере.
Хаим опускает бороду и уходит, а Ханэ следит за ним, пока он не скроется.
По четвергам и пятницам разговор продолжается дольше.
— Сколько в бумажке? — спрашивает Ханэ.
— Двадцать два гроша.
— Боюсь, мало будет.
— А чего тебе недостаёт, Ханэ?
— Мазь нужно купить для ребёнка за шесть грошей, свечей на субботу. Хала у меня уже есть, мясо тоже — полтора фунта. Ну, недостаёт водки для кидуш. Еше нет щепок.
— Щепок я тебе принесу; на базаре, верно, найдётся.
— Потом ещё нужно...
И она перечисляет, что eй нужно па субботу. В конце концов оказывается, что кндуш можно произнести над халой и что вообще можно обойтись без многих вещей. Главное — это свечи и мазь для ребёнка.
Всё же, когда дети здоровы и медные подсвечники не заложены, у мужа с женой бывают очень весёлые субботы, особенно, если ещё есть кугл. Ибо Хат большая мастерица готовить кугл. Сначала у неё постоянно недостаёт чего-нибудь: то муки, ТО яиц, то жира; по, и конце концов, получается чудесный, сладкий кугл; он г.-ют во рту, «расходится по всем суставам».
— Это ангелы готовили, — говорит Х;пи, радостно улыбаясь.
— Да, ангелы, наверно, ангелы. Ты гоже ангел, Ханэ. Сколько ты терпишь из-за меня и догом; сколько раз они тебя огорчают, и я тоже, когда рассержусь. Но разве я слышу от тебя ругань, как иные от жоп своих? И какие же у тебя радости от меня? Ты боса и гола, доп-i тоже. На что я годен? Даже субботних песен не умою нсть, как следует.
— Но всё же ты хороший отец и хорошим муж, — твердит Ханэ. — Пусть бог пошлёт такой счастливый год мне и всем! евреям. Состариться бы нам имеете, творец мира!
И пара смотрит друг другу в глаза гак тепло и нежно, словно они только что из-под венца.
После обеда они отдыхают. Проснувшись, Хаим отправляется в синагогу послушать тору.
Там меламед читает с простым пародом «Алшех». Жарко. Лица ещё заспаны, кое-кто ещё дремлет, другие громко зевают. Но вот вдруг все оживляются: речь заходит о том свете, об аде, где нечестивых секут железными прутьями; о светлом рае, где благочестивые сидят в золотых венцах и изучают тору. Рты раскрыты, лица красны; затаив дыхание, все слушают, что будет на том свете. Хаим обыкновенно стоит возле печки. Руки его дрожат, в глазах слёзы: он сейчас весь на том свете. Он страдает вместе с нечестивыми; он сброшен в преисподнюю, он купается в горячей смоле, он собирает сучья в пустынных лесах. Он переживает тут всё, всё, и его покрывает холодный пот. Но через минуту он уже блаженствует вместе с благочестивыми: светлый рай, ангелы, левиафан, все другие блага представляются ему так живо, что когда меламед кончает чтение, целует книгу и закрывает её, Хаим просыпается, словно после глубокого сна, словно он и в самом деле был на том свете.
— О, господи! — вздыхает он тяжело. — Творец мира, хоть кусочек, хоть капельку райской жизни дай мне на том свете, мне, жене моей и детям.
При этой мысли Хаиму становится грустно. За что ему рай? Какие его заслуги перед господом?
Однажды после чтения он подошёл к меламеду и сказал дрожащим голосом:
— Рабби! Научите, как мне удостоиться на том свете рая.
— Изучай, дитя моё, тору.
— Рабби! я не умею.
— Изучай другие священные книги, изучай хотя бы «Изречения отцов».
— Я не умею, рабби!
— Читай псалмы.
— Нет у меня времени, рабби!
— Молись горячо.
— Я не понимаю значения слов молитвы. .
Меламед посмотрел на него с глубоким сожалением.
— Чем ты занимаешься?
— Я носильщик.
— Ну, так служи тем, которые изучают тору.
— Как мне служить им, рабби?
— Приноси, например, каждый вечер ведро воды в синагогу, дабы изучающие тору имели, чем утолить свою жажду.
У Хаима стало радостно на душе. Это он может.
— Рабби! — спросил он дальше, — а жена моя?
— Когда муж сидит в раю в кресле, жена служит скамеечкой для его ног.
Когда Хаим пришёл вечером домой, чтобы произнести молитву прощания с субботой, Ханэ сидела и тихо молилась. Он увидел её, и сердце у него больно сжалось.
— Нет, Ханэ, — воскликнул он, — не хочу я, чтобы ты служила скамеечкой для ног моих. Я наклонюсь к тебе, Ханэ, подыму и посажу возле себя. Мы будем сидеть в одном кресле вместе, рядом, как теперь. Нам так хорошо вместе! Слышишь, Ханэ, вместе будем мы сидеть. Господь должен будет согласиться. Он согласится, Ханэ!..
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ ОДНОЙ МЕЛОДИИ
(Из хасидских рассказов)
— Тальновскую мелодию хотите?
В сущности, кажется, пустяк — взять мелодию тальнов-ской субботней трапезы и спеть! Однако это не так ленда, как кажется!
Тальновскую мелодию необходимо петь во многолю-дии — народ должен её петь!
Подтягивать, говорите, будете? Нет, братцы! С польскими хасидами тальновской мелодии не спеть!
Ведь вы никакого представления, никакого понятия не имеете о пении!
Мне вот приходится слышать ваших музыкантов, ваших канторов. Это пиликанье, а не игра. А при пении вы дерёте глотки, словно петухи недорезанные! Даже синайские мелодии у вас получаются какими-то дикими... А ваши марши, «казачки»? Они ещё более несуразны, чем ваши жесты и гримасы! Вы говорите, это и есть по-хасидски?.. Нет, у нас другие хасиды!..
Откуда наши мелодии берутся? Возможно, они в роду у нас, а может быть, тут дело в местности.
В нашей Киевщине не найдётся дома без скрипки!
Любой парнишка из состоятельной семьи, или, как у нас говорят, папенькин сынок, обязательно должен иметь скрипку, должен уметь играть...
Хотите узнать, сколько мужчин в доме? Посмотрите на стены: сколько скрипок — столько и мужчин!
Все играют: играет дед, играет отец, играет сын..
Жаль только, что каждое поколение играет своё, играет по-другому, играет по-своему.
Старик-дед играет синайские мелодии или вообще что-
нибудь синагогальное: «Кол-нидрей», «Шойшанас-Иаков» — мало ли что? Отец, хасидская душа, тогг заливается в чисто хасидской думке. Сын же, в свою очередь, играет, но уже но нотам. Играет даже театральные штучки...
Каково поколение — такова и мелодия!
— Что делают хасиды, когда нет водки? — — Говорят про водку. Петь одному, без народа, без зажигающего огня Народа, нельзя! Что ж, давайте тогда говорить о пении!
Пение, должны вы знать, великое дело. Всё Тальное держалось на «Мелаве-малке». А главное в этом прощании с царевной-субботой — это пение!
Всё лишь в том, кто поёт и что поётся...
Из одних и тех же кирпичей можно построить синагогу и — да не будет рядом номнпуто церковь, дворец и тюрьму, а то и вовсе богадельню...
Одними и теми же буквами начертаются таинства торы и самая большая — да не будет рядом сказано — ересь... И одними и теми же голосами можно подняться па высокую ступень воодушевления и экстаза п можно низринуться, упаси бог, в преисподнюю и копошиться мам, подобно червю во грязи...
Письмо — как его читать будешь, мслоцни — как петь!
Возьмите, к примеру, «фрсилахс», он может быть таль-новской субботней «Мелаве-малке» — радое п,ю благочестия и добродетели, и может быть весельем какой-нибудь бездомной распутной пичужки!
Мелодия горит, она насквозь пропитана любовыо. Но любовь разная бывает: есть любовь к боту, любовь к людям, любовь к своему народу... А бывает — один любит только себя, а то и вовсе, упаси бог, чужую жену...
Мелодия жалуется, мелодия плачет, по один плачет о змее, об утерянном рае; другой — о миренной скорби, о разрушении храма, о нашей униженности и оскорбленности... «Воззри на наше состояние», — жалуется эта мелодия... А ещё мелодия плачет о том, что у кото то там красотка сбежала...
Имеются песни, полные тоски. По о чём они тоскуют, эти песни? Тоскует душа по своему источнику, и тоскует старый беззубый пёс по своей утраченной молодости, с её собачьими страстями...
Возьмите хотя бы песенку:
Реб Доввдл жил в Васильиове, в Ваоилькове, — А теперь живёт он в Тальном; Реб Доввдл, реб До®щдл жил в Василькове, Теперь живёт в Тальном!..
Поют её тальновцы, поют её васильковцы. Но когда тальновцы поют, — это подлинный «фрейлахс», он искрится, брызжет радостью, блаженством; когда же поют василь-ковцы, — она пропитана унынием и скорбью...
А зависит это от души, которая вкладывается в мелодию.
Мелодия, должны вы знать, это сумма звуков или, как «те» говорят, тонов.
Звуки или тона берутся из природы; их никто не выдумывает, а в природе нет недостатка в звуках. У всего есть свой голос, свой собственный тон, если даже не целая мелодия.
Колёса святого престола, как нам известно, велегласны: «каждодневно, еженощно» у них свой хвалебный гимн... Люди и птицы поют... Звери и животные по-своему хвалу возносят... Камень о камень стучит, металл звенит... Вода, когда течёт, тоже не молчит. Не говоря уже о лесе: при малейшем ветерке он поёт этакую тихую, сладкую думку. А поезд, например, этот дикий зверь с огненно-красными глазами, — когда несётся, разве не оглушает он своим пением? Даже рыба, тварь немая, и та, — я это сам вычитал в старой священной книге, — иногда издаёт звуки. Некоторые рыбы, сказано в той книге, подплывают время от времени к берегу, бьют хвостом о песок, о камни и этим несказанно наслаждаются...
Мало ли звуков? Надо лишь иметь ухо, чтоб их улавливать, как сетью, вбирать их, словно губка...-
Но одни звуки — ещё не мелодия!
Груда кирпичей — ещё не дом!
Это только тело мелодии; ему нужна ещё душа!
А душа песни — это уже чувство человека: его любовь, гнев, милосердие, месть, тоска, раскаяние, печаль, — всё, всё, что человек чувствует, он может вложить в мелодию, и мелодия — живёт!
Ибо я, друзья мои, верю: то, что меня живит, само должно иметь жизнь, само живёт
И если мелодия меня живит, если я от мелодии получаю истинное наслаждение, если она вселяет в меня дух животворящий, — я говорю, что мелодия живёт...
И доказательство: возьмите мелодию и рассеките её. Пойте её наоборот: начните с середины, а потом перейдите к началу и к концу. Разве получится у вас мелодия? В общем, все звуки налицо — ни один не пропущен, но нет души! Зарезали вы живую белую голубку, и под ножом улетела душа...
Остался мертвец, труп мелодии!..
В Тальном для всех ясно, как день, что мелодия живёт...
И живёт мелодия, и умирает мелодия, и забывается мелодия, как забывается покойник!
Юна и свежа была она когда-то, мелодия, молодостью и силой дышала она. С годами она ослабела, отжила своё время, и силы её покинули... Выдохлась!.. Затем её последнее дыхание улетело в воздух и там где-то испарилось — и нет её больше!..
Но мелодия может и воскреснуть!..
Вспомнится вдруг старая мелодия. Неожиданно как-то выплывает она и рвётся наружу. И невольно вкладываешь в неё новое чувство, новую душу — и вот уже почти новая мелодия живёт...
Это уже перевоплощение мелодии...
Вы плохо меня понимаете?.. Ну да, толкуйте со слепым о свете!
Знаете что? Вы ведь любите всякие рассказцы, — так вот я вам расскажу историю о перевоплощении одной мелодии...
Слушайте!
В трёх-четырёх милях под Бердичевом!, сейчас же за лесом, находится местечко Махновка. А в этой самой Мах-новке была неплохая капелла музыкантов. Но глава их (реб Хаим его звали) — тот был настоящим артистом, учеником знаменитого бердичевского Педоцура.
Этот реб Хаим сам мелодий не создавал, то есть он не был композитором, но исполнить вещь, со вкусом её подать, истолковать её, как следует, душу в неё вложить, — 1 это он умел, в этом была его сила!
Человек это был худощавый, невзрачный. Но, начав иг рать, он вдруг преображался: всегда опущенные веки подымались, и из тихих глубоких глаз струилось сияние, одухотворявшее сразу это бледное лицо. И видать было воочию, что он сейчас совсем в ином мире... Руки играют сами по себе, а душа витает где-то там высоко-высоко, в мире звуков... Часто он забывался, начинал также петь. А голос у него был — кларнет! — такой же чистый и ясный...
Не будь этот Хаим обыкновенным набожным евреем, почти, можно сказать, блаженным, он не стал бы, конечно, мучиться с семьёй в восемь человек в Махновке! Он бы, вероятно, уже играл или пел в каком-нибудь театре, либо сделался бы хористом в синагоге, ну... в Берлине или Париже. Но такие уж люди в Бердичеве... Сидит себе этот блаженный Хаим дома, забирает в долг во всех мелочных лавочках в счёт будущей зажиточной свадьбы, которая должна же когда-нибудь состояться.
И вот как-то раз случилась-таки богатая свадьба. И у самой что ни на есть махновской знати — у вдовы Берла Кацнера.
Сам Берл Кацнер — да икнется ему на том свете! — был лютым ростовщиком, а скрягой ещё большим! Жалел кусок, который клал себе в рот. Когда ребятишки ели, он ходил за ними и собирал крошки... Камень — не сердце было у этого человека!
Перед смертью, почти в последние минуты, подзывает это он старшего сына, велит подать себе книгу записей и посиневшим пальцем указывает, с кого ещё не взыскано аренды. «А отсрочить, — говорит он, — боже тебя упаси! Слышишь? Таков мой тебе родительский наказ!..»
Затем он подзывает жену и велит ей спрятать медную посуду, что висит на стене: «Стоит мне закрыть глаза, — говорит он, — как всё растащат!..» — . С этими вот словами он испустил дух...
А оставил он полмиллиона!
Как сказано, дочку выдаёт замуж вдова, а она торопится, она сама собирается обзавестись мужем. Тут у неё прямо-таки гора с плеч...
И так как Хаиму-музыканту тоже надо во что бы то ни стало выдать дочку замуж, то он уж, разумеется, свадьбы ждёт, как Мессию.
Вдове же вдруг взбрело в голову непременно выписать Педоцура из Бердичева.
Собственно, почему? — Будут киевские гости, киевские знатоки музыки, так вот она хочет, чтобы к венчанию сыграли «поминальную» на новый мотив. «Не какое-нибудь, — говорит она, — старьё! Такие большие расходы, так будет стоить ещё немного, — и пусть знают киевляне!..»
Хаим был в отчаянии...
В местечке тоже заволновались. Очень его любили, Хаи-ма, и вообще жалко бедного еврея! Искали выхода. И в конце концов порешили так: пусть всё же играет Хаим с его капеллой, но до свадьбы он должен, за счёт вдовы, съездить на денёк в Бердитев и привезти от Педоцура новый мотив для «поминальной»...
Хаим получает на расходы немного денег, из них он большую часть оставляет жене и детям, нанимает подводу и отправляется в Бердичев...
И тут-то начинается история о перевоплощении...
Как это говорится: «Бедняк за счастьем, а счастье от него!» Въезжает наш Хаим в Бердичев с одного конца, а Педоцур с другого выезжает из Бердичева. Его как раз пригласили в Тальное на «Мелав^-малке». Тальновский цадик, должны вы знать, был очень высокого мнения о Пе-доцуре. «Тайны торы, — говорил он, — сквозят в его мелодии. Жаль только, что сам он этих тайн не знает!»
Вот и мечется Хаим по улицам Бердичева, как очумелый.
Как быть? Вернуться домой без нового мотива для «поминальной» — нельзя, хоть беги тогда из Махновки! Ехать вслед за Педоцуром в Тальное или дожидаться его здесь — тоже нельзя: денег-то у него в обрез, богачка и без того не очень раскошелилась, а тут он ещё большую часть жене оставил...
Ну, Хаим, понятно, сильно удручён.
Вдруг видит он на улице такую сцепу.
Представьте себе, в самый обычный будний день идёт это по улице женщина, наряжённая по-праздничному, или, как говорят в тех краях, «разодетая в пух и прах»... На голове у неё какой-то странный чепец, с длинными-предлинными лентами всяких ярко-кричащих цветов.
В руке у неё большой серебряный поднос.
Вслед за женщиной шагают музыканты, они играют, а женщина приплясывает. Часто она, остановившись, пускается в пляс перед каким-нибудь домом или магазином. Со всех сторон на музыку собирается народ; двери и окна забиты — голов, голов тут!..
Музыка играет, женщина пляшет, разноцветные ленты развеваются по ветру. Поднос блестит, сверкает... Народ кричит: «Счастливой доли!» — и бросает монеты; приплясывая, женщина на лету подхватывает монеты, — монеты в такт ей позвякивают на подносе...
Что такое? Да обычное дело: Бердичев — еврейский город, и обычаи у него еврейские. Так уж тут обычно собирают пожертвования для бедной невесты!
Хаим знал про этот обычай. Он знал, что женщины измышляют танцы, а Педоцур каждый раз составляет новый мотив. Это уж считалось его лептой в этом благочестивом деле. Придут к нему, расскажут про невесту, про её семью, про жениха, про нужду их... Он выслушает молча, с закрытыми глазами, иногда даже закроет лицо руками, и, когда кончат и наступит тишина, — Педоцур уже начнёт тихонько что-то мурлыкать про себя...
Обо всём этом1 Хаим знал, — иначе чего бы он стоял, разинув рот и развесив уши?..
Подобный «фрейлахс» он ещё никогда не слыхал! Тут и смех и плач вместе. Чувствуется и горе и радость, сердечная боль и счастье. Всё смешалось, слилось воедино... Настоящая свадьба сироты!..
Вдруг он как подскочит! Да, он нашёл то, что ему нужно...
На обратном пути из Бердичева возница его набрал пассажиров. Хаим не возражал. И пассажиры, — видно, как раз понимающие толк в музыке, — рассказывали потом, что как только въехали в лес, Хаим запел.
Пел он «фрейлахс» Педоцура. Но выходило у него нечто совершенно иное. Пожелание «счастливой доли» бедной невесте перевоплотилось в настоящий поминальный мотив...
И посреди тихого шума деревьев поплыла тихая грустная мелодия-
Мелодии этой, казалось, вторит многоголосый, тихий хор певцов: то шумели в лесу деревья... 190
Тихо и жалостливо плакалась мелодия: молила о милосердии, будто больной молит о даровании ему жизни...
Затем мелодия начинала вздыхать, умолять отрывистыми вскриками; чувствовалось, будто кто-то бьёт себя в грудь, поминая грехи свои... Не судный ли это день? Не исповедуется ли кто на смертном ложе?
Но всё громче и в то же время надломленней становится голос. И всё чаще и чаще обрывается он, будто в слезах захлёбывается, будто в страданиях надрывается. Потом — несколько глубоких вздохов, резких восклицаний: одно... другое и вдруг окончательно обрывается. Тихо: кто-то скончался.:.
Мелодия снова пробуждается и переходит в горькое жгучее рыдание. И крики несутся, обгоняют друг друга, переплетаются... раздаётся душераздирающий крик, вопль, словно тут хоронят кого-то...
И тогда на поверхность выплывает тоненький, чисто детский голосок. Он жалок, дрожащ и испуган.
Заупокойную произносит дитя...
Затем всё это переходит в думку: грёзы, мечты, тысяча мыслей, постепенно растекающиеся в сладостную, задушевно-сладостную мелодию... Она утешает, успокаивает... и с такой добротой, с такой самоотрешённостью, с такой твёрдой верой, что становится снова хорошо, снова сладостно. Снова хочется жить. Хочется жить и надеяться...
Люди чуть не растаяли от восторга:
— Что это? — спрашивают.
— «Поминальная», — отвечает Хаим, — «поминальная» сироты Кацнера.
— Для такого не стоило, пожалуй... — говорят они, — жалко мелодии. Но прославитесь вы, реб Хаим, на весь мир, — киевская публика умрёт на месте!..
Но киевская публика «не умерла на месте».
У Кацнеров уже была не настоящая еврейская свадьба... И «поминальная» оказалась неподходящей для этой публики.
Киевлянам вовсе хочется с дамочками потанцовать. К чему тут «думка»? Зачем разные там душеспасительные штучки?
И вообще — по ком эта «поминальная»? По старому скопидому?
Живи этот старый скряга, — невеста и половины приданого нe получила бы, да и свадьба имела бы совсем иной вид! Если б он сейчас из гроба встал да посмотрел на это белое атласное платье с кружевами, на фату; если б он увидел эти вина, торты, всевозможные рыбные и мясные блюда, под которыми столы ломятся, — он, наверное, умер бы ещё раз — и, уж конечно-, не так легко, как прежде!
И кому вообще нужна вся эта «церемония» с оплакиванием невесты? Глупые старые обычаи!..
— Живее! — кричит киевская публика.
Бедный Хаим! Он остановил капеллу. С бьющимся сердцем водит он смычком по струнам. Уж публика, которая попроще, помаргивает, кое у кого уже и слёзы на глазах. Но тут один из киевлян как закричит вдруг:
— Что это здесь, свадьба или похороны?
А когда Хаим, делая вид, что не слышит, всё же продолжал игру, киевлянин принялся свистеть.
А свистел он очень даже неплохо. Он уж и мелодию уловил и насвистывает её, как надо. И чем дальше, свист его убыстряется, делается всё более наглым, более диким. И всё это, не отступая от мелодии...
Капелла умолкла. И слышно лишь, как идёт борьба между благонравной скрипкой и разнузданным свистом.
И свист одолевает, нагоняет смычок. Скрипка уж не плачет, она вздохнула раз-другой и принялась смеяться.
Внезапно Хаим оборвал игру. Go стиснутыми зубами перескочил он на другую струну; игра его ещё неистовей.
Нет, он обгонит этот свист!
То была уж не игра! Скрипка выбрасывала из себя какие-то бессвязные выкрики, какие-то чудовищные вопли...
И они мечутся, кружатся, как в вихре, эти вопли. Кажется, уже всё вокруг пляшет: дом, капелла, гости, невеста на стуле и сам Хаим со своей скрипкой...
То не «фрейлахс» и не «поминальная» — это вообще не игра! Это какое-то пляшущее безумие, приступ падучей, помилуй бог!
И вот так продолжалось, пока не лопнула струна.
— Браво, Хаим, браво! — кричали киевляне...
Оказали ли они этим услугу душе старого скряги —
вряд ли!
Через несколько лет эта мелодия, наверное, через кого-нибудь из киевлян, попала в театр.
Что такое театр? Просвещённые евреи верили, что театр лучше любой душеспасительной книги. Вы, конечно, говорите, что театр — нечисть, хуже свинины...
У нас же говорят, что всё зависит от того, что играют в театре.
Было это уже в Варшаве...
Театр полон — море голов. Начинает играть музыка.
Что она играет?
Какой-то сплошной гул, смятение, столпотворение! Она играет «поминальную» Хаима; но вместо «думки» тут — сумятица: инструменты бегут друг за другом, погоняют друг друга, щёлкают.
Гудит, грохочет, свистит... Не гром гремит, не здания рушатся — какая-то неразбериха! Черти ли громыхают на Ледовитом океане, тысячи ли злых духов рвутся из ада? Дрожит театр!
Вдруг врывается бас. Как будто сердится! Негодует! В чём дело? Но нет, притворяется! Чувствуется, что злится не всерьёз... И странный свист вдруг, подпрыгивая, проносится через весь оркестр зигзагами молний. И с хохотом заправского шута: «ха-ха-ха! хи-хи-хи!» вслед за басом гонится кларнет. И какие штуки выкидывает кларнет! Назло делает! Так и чувствуется, что назло!
А потом выплывают три-четыре скрипки... И удивительно сладостно играют они, чудовищно-сладостно, как само сладострастье, как сам демон-искуситель, который мёдом истекает весь.
И вкрадывается игра эта в сердце, растекается елеем по жилам и пьянит, словно старое вино... Пламенем объят театр! Раскрыты рты, глаза сверкают!
И тут только взвивается занавес и появляются «он» и «она»: «принц» и «принцесса», и они поют.
Поют они словами, пламенными словами; и будто огненные змеи вылетают у них изо рта. И сам ад горит на их лицах; как черти, скачут они навстречу друг другу. А поцелуи, объятья, — пение и пляска — всё быстрее и быстрее, всё пламеннее и страстней с каждым мгновеньем!
И уже весь театр в огне — ряды мужчин и женщин, с разгорячёнными, потными лицами и дико горящими глазами. Театр захлестнуло. Потоп!
И весь театр поёт.
Море жгучей похоти разлилось — ад пылает тут! Бесы пляшут! Ведьмы водят огненный хоровод!..
Но падению нет предела!
Распался еврейский театр. «Принцы» снова стали сапожниками и портными. «Принцессы» снова вернулись к своим печам. А некоторые театральные мелодии докатились до шарманок...
Нашу мелодию уже почти не узнать!
На дворе разостлан вытертый коврик... Двое мужчин в телесного цвета трико вместе с бледной, измождённой девочкой, где-то ими украденной, показывают фокусы.
Один держит лестницу в зубах. Стрелой взлетает девочка на самую верхнюю ступеньку и спрыгивает оттуда на плечо другому. Первый тем временем даёт ей тумака; она перевёртывается в воздухе несколько раз и, как вкопанная, останавливается перед публикой с протянутой рукой; она просит милостыню.
Это тоже театр, но театр для «простонародья» — для слуг и служанок...
Игра идёт под открытым небом, она и стоит дёшево. Билетов не покупают, а бросают гроши и копейки. А она это так поразительно ловко проделывает, эта худенькая девочка! Крупные капли пота катятся по её размалёванному личику; в запавших глазах мука, но этого толпа не видит. Она дышит тяжело — этого толпа не слышит. Толпа видит лишь ловкие фокусы, она слышит лишь приятную музыку шарманки...
А душа в худом тельце бедной украденной девочки и бедная песенка в сиплой шарманке — обе стонут, трепещут, — обе молят о лучшей доле...
Однако было суждено, чтобы песня «бедной невесты» Педоцура получила «исправление». Пробираясь от дома к дому, скитаясь из одного города в другой, фокусники таскали с собой бедную девочку до той поры, пока она, наконец, не про вас будь сказано, заболела...
Случилось это в Радзивилове, у самой границы. Там, под забором, они и бросили бедное дитя, сами же перебрались 194
через границу. Ищи ветра в поле! Полуголая, с багровыми синяками от побоев, металась она в жару.
Жалостливые люди подобрали её и отнесли в богадельню...
Переболела девочка тифом и вышла из больницы слепой.
А сейчас это бедное дитя побирается. Из дома в дом, от двери к двери плетётся она и просит милостыню.
Она почти не говорит... Она не умеет просить словами... Она остановится где-нибудь и ждёт. Не заметит никто — запоёт песенку, чтобы услышали... А песенка эта — из шарманки...
И о чём же поёт теперь эта песенка?
О милосердии молит она, о сострадании к несчастному ребёнку:
«Злые люди похитили меня у доброго отца, у ласковой матери, из тёплого, сытого дома!
Лишили меня всего! Использовали и выбросили, точно скорлупу съеденного ореха!
Милосердия для бедного, несчастного ребёнка!»
И ещё жалуется песня:
«Холодно, а я раздета! И голодна я! И негде голову мне приклонить!.. К тому же я и слепа!..»
Так молила и плакала песня, — и эго было первой ступенью её на пути к «исправлению»: она толкала людей на милосердные дела...
Жил в Радзивилове учёный евреи. Хоть и не был он «миснагидом» — никогда против хасидов не вые [упал, — но просто не удосужился как-то съездить к цадику... Не расставался с талмудом.
Он боялся отвлечься от своей пауки.
Чтоб в синагоге не мешали его занятиям, он сидел над талмудом дома. Жена целый день в ланке, дети — в хедере...
Временами у него закрадывалась мысль: не съездить ли куда-нибудь? Это, вероятно, «добрый дух» подсказывал ему... Ну, а как же «злой дух»? Он принимал облик «доброго духа» и отвечал: отчего бы и нет? Конечно, надо бы когда-нибудь съездить, но... успеется! Прежде надо кончить этот трактат, потом тот трактат...
И так проходили месяцы, годы...
Однако небу все же было угодно, чтобы он побывал у реб Давида.
И случилось такое с ним.
Сидит он однажды над талмудом и слышит: кто-то за дверью поёт; злится на самого себя:
— Когда сидишь над талмудом, нечего прислушиваться, что делается за дверью, на улице! Надо целиком! уйти в науку.
А всё же он слышит. Тогда он затыкает уши пальцами, но мелодия прокрадывается сквозь пальцы. Он злится ещё больше, всердцах суёт конец длинной бороды в рот и, покусывая волос, с остервенением продолжает читать.
Песня не оставляет его в покое. Он слышит её всё явственней и явственней. Вдруг он спохватывается: женщина ведь поёт! А «женский голос — срам!..» И он свирепо кричит: «Распутница, прочь от моего дома!»
Мелодия умолкла... Но, о ужас! — Не поют, — а он продолжает слышать! Мелодия сама раздаётся в его ушах, звучит у него — в душе. Он заставляет себя смотреть в книгу, всеми силами старается вникнуть в смысл прочитанного — не выходит! Душа учёного всё больше наполняется этой мелодией...
Тогда он закрывает талмуд и начинает молиться.
Нет, не выходит: ни ученье, ни молитва — ничего! Словно серебряный колокольчик, звенит в нём мелодия. Он места себе не находит! Совсем извёлся!
Проходит день, другой, третий, — он вне себя, он в отчаянии... Постится — не помогает! Никак не может он отделаться от мелодии! По ночам она его будит!
А надо сказать, человек этот ни разу не молился у амвона, никогда в жизни ни одной песни не спел! Далее субботние славословия не пел, а просто читал их; чем петь, уж лучше страницу-другую талмуда прочитать!..
Конечно, ой понимает, что всё это неспроста...
«Дьявольские штуки!» — думает он и окончательно падает духом...
Казалось, уж теперь нужно бы поехать.
Но «злой дух» говорит: «Да, ехать-то надо, но куда? Цадиков ведь мйого! Кто из них настоящий? У кого получишь истинную помощь?..» И учёный вновь принимается раздумывать. 196
И получает он ещё один знак свыше...
Случилось как раз, что реб Довид вынужден был бежать из Тального, и путь его лежал через Радзивилов.
Историю с доносом вы, конечно, знаете? А я вам говорю, что это -была просто божья кара. Не следовало в своё время похищать реб Довида из Василькова и увозить его r Тальное! Не следовало оскорблять местечко! И ведь разорилось-то оно вконец. Заезжие дома закрыты; корчмы все вокруг уничтожены. В куске хлеба, не про вас будь сказано, люди нуждаются...
Ну и вот! Подбросили доносец — разорили и Тальное!
Было у реб Довида золотое кресло с выгравированной надписью: «Давид, царь Израиля, жив и вечен!» Сделали из этого доносчики целую «политику», и дело дошло до Петербурга.
Мы-то, понятно, знаем, что это было иносказательно, в том, дескать, смысле: «Кто царь? — Сё учитель!..» Но поди объясни генералам в Петербурге!..
Словом, реб Довид вынужден бежать, а по пути пришлось ему остановиться на субботу в Радзивилове. И наш радзивиловский учёный, благодарение богу, попадает, наконец, к цадику на субботнюю трапезу.
Однако «злой дух» всё ещё не поддаётся... Учёный входит и видит: маленький человек, совсем крошечный, сидит на самом почётном месте. Кроме большой, прямо-таки огромной, меховой шапки и падающих ему на лицо серебристых волос — ничего не видно! Все молчат. Ни слова торы! Сердце тут упало у учёного...
«И вот это всё?» — думает учёный.
Но реб Довид его уже заметил и говорит: «Садись, учёный!»
И тут уж учёный пришёл в себя. Он поймал на себе взгляд реб Довида, и взгляд этот обжёг ему душу.
Вы, верно, слыхали про глаза тальновского цадика? В его взоре таились и власть, и святость, и сила, — всё, что хотите, было в этом взгляде!
Знаете ведь, когда реб Довид скажет: «Садись!» — место за столом сразу освободится! Учёный сел и ждёт.
А когда реб Довид сказал: «Пусть учёный споёт нам что-нибудь!» — вся кровь бросилась ему в голову. Он — и пение!..
Но кто-то уже толкнул его в бок... «Когда реб Довид велит — нужно петь!»
Что ж, петь — так петь!
И он, бедняжка, начал... Хриплым, прерывающимся голосом выдавил он из себя первые звуки. И что, собственно, он собрался петь? Конечно, мелодию сироты, — другого он ведь ничего не знает! Дрожит, сбивается и поёт...
И мелодия эта уже совсем иная... В ней уже дух торы, ростки субботней святости, зачатки раскаяния учёного... По мере того как он поёт, он начинает ощущать мелодию, с каждой секундой он поёт её всё лучше, всё свободней...
Посреди пения реб Довид, по своему обыкновению, стал подтягивать. Услыхали остальные и тоже подхватили. Учёный постепенно и сам загорелся, вошёл в экстаз, — он уже яоет по-настоящему!..
И разливается мелодия огненной рекой... И волны её вздымаются всё выше, становятся всё горячее и пламенней...
И уже тесно делается мелодии в доме, она рвётся через окна наружу, и выплёскивается на улицу море святости, огненной святости... И испуганные, поражённые люди на улице шепчут:
— Песня сироты! Песня сироты!
Песня получила «исправление» и учёный — также.
Перед отбытием из Радзивилова реб Довид отозвал учёного в сторону:
— Учёный, — сказал он ему, — ты оскорбил дочь еврейского народа! Ты не понял и не вник в душу её песни! Ты назвал её распутницей!
— Ребе, наложите на меня эпитимию! — молвил учёный.
— Нет надобности! — ответил ребе, царство ему небесное, — вместо эпитимии сделай лучше доброе дело!
— Какое доброе дело, ребе?
— Выдай девушку замуж! Это будет самым праведным делом... !
А теперь послушайте! Вот вам ещё одна сторона этой истории!
Лишь через несколько лет, когда слепая девушка уже
была замужем за вдовым писцом, привелось узнать о её происхождении.
Оказалось, что девушка — внучка старого К.агтнера.
И произошло — это вот каким образом.
Его киевский зять отлучился как-то с женой в театр на весь вечер. И в это самое время у них выкрали их единственного ребёнка...
Однако возвратить им дочь уже было невозможно.
Матери уже давно не было в живых, а отец уже давно был в Америке...
КАББАЛИСТЫ
(Из хасидских рассказов)
В плохие времена падает в цене даже лучший на свете товар — тора. ;
От всего ешибота в Лащеве остались только глава ешибота — раввин реб Иекель и один-единственный ученик — Лемех. Раввин — старый худощавый еврей с длинной, всклокоченной бородой и потухшим взором; любимый ученик его — молодой человек, тоже худощавый, высокий, с чёрными вьющимися пейсами, с горящими обведёнными глазами, выдающимся кадыком. Оба с открытой грудью, без рубашек, в рубищах. Раввин еле тащит свои мужицкие сапоги, у ученика башмаки валятся с босых ног.
Вот всё, что осталось от знаменитого ешибота! Обнищавшее местечко чем дальше всё меньше посылало съестного, всё меньше давало «дней» и ученики разбрелись кто куда. Но реб Иекелю хочется умереть здесь, а его ученик остаётся, чтоб положить ему черепки на глаза.
И даже им вдвоём приходится здесь подчас голодать. От недостатка пищи — отсутствие сна, а от бессонных ночей и голодных дней у них страсть к каббале.
Действительно, если уж бодрствовать целые ночи, голодать целые дни, то хоть с толком; пусть хоть будут эти посты «очистительными», пусть разверзнутся врата мира тайн, обиталища духов и ангелов.
Давно-таки занимаются они каббалой.
Вот сидят они теперь вдвоём за длинным столом. У людей уже после обеда, а у них — всё ещё «перед завтраком». Но ведь они привыкли. Раввин поднимает глаза вверх и говорит, ученик сидит, подперши голову руками, и слушает.
1 Беднейшие еигиботшжи столовались в домах состоятелыпйх евреев. Благотворители кормили их один или несколько дней в неделю, после чего еишботник вынужден был переходить к другому хозяину.
— В этом имеется, — говорит раввин, — много степеней: один знает часть мелодии, другой — половину, а третий — всю мелодию, и даже с припевом. Я едва удостоился вот этакого кусочка, — прибавляет он печально, показывая кончик костлявого пальца, и продолжает: — Есть мелодия, которая нуждается в словах. Это совсем низкая степень... Есть более высокая степень: мелодия, которая поётся без слов, — чистая мелодия. Но для этой мелодии нужен голос, нужны уста, откуда голос выходит. А уста, понимаешь ты, ведь плоть. И самый голос нечто, правда, более благородное, но всё-таки плотское, земное...
Допустим!, что голос стоит на грани между плотским и духовным!
Но всё-таки мелодия, которая выводится голосом, которая зависит от уст, ещё не чиста, ещё не совсем чиста, — она ещё не есть истинно духовное!..
Истинная мелодия поётся совсем без голоса, поётся внутри, в сердце, в тайниках существа...
Вот в этом-то и заключается сокровенный смысл слов царя Давида: «Все кости мои славословят...» Песнь должна звучать в самом мозгу костей, там должна раздаваться мелодия — высшая хвала всеблагому. Это не песнь человека из плоти и крови, не надуманное звукосочетание, — это уже частица мелодии, которой бог сотворил вселенную, частица души, которую он вселил в неё... И так поют горние сферы! Так пел и наш ребе, благословенна память его!
Беседу прервал растрёпанный парень, подпоясанный верёвкою. Он вошёл в синагогу, поставил на стол перед раввином миску с кашей и кусок хлеба и грубым голосом проговорил:
— . Реб Тевел посылает раввину обед, — повернулся и, выходя, прибавил: — за миской приду потом.
ОтоЗрванный этим; грубым голосом от божественной гармонии, раввин медленно поднимается и, волоча свои огромные сапоги, идёт к рукомойнику.
На ходу он продолжает говорить, но уже с меньшим воодушевлением. Ученик следит за ним своими горящими, восторженными глазами.
— Но, — продолжает реб Иекель печальным голосом, — я даже не удостоился постичь, какой это степени?, через
какие врата нужно входить? Видишь ли, — добавляет он с улыбкой, — заклинания, какие нужны для этого, я знаю и, может быть, ещё сегодня вечером открою их тебе.
У ученика глаза чуть ли не вылезают из орбит. Он сидит с раскрытым ртом, ловя каждое слово. Но учитель прерывает свою речь. Умыв руки и вытерев их, он читает предобеденную молитву и, направляясь к столу, дрожащими губами произносит благословение над хлебом.
Дрожащими костлявыми руками приподнимает он миску. Пар покрывает его исхудавшее лицо тёплой дымкой. Потом он ставит миску обратно, берёт Ложку в правую руку, а левую греет о край миски, прожёвывая беззубыми челюстями первый кусок хлеба с солью.
Согрев лицо и руки, он сильно морщит лоб, стягивает свои синие тонкие губы и начинает дуть на миску.
Ученик не спускает с него глаз. А когда учитель подносит к губам* первую ложку каши, у него под сердце подкатывает. Он закрывает лицо руками и как-то весь съёживается.
Через несколько минут входит другой парень с мискою каши и хлебом:
— Реб Иосиф посылает ученику обед.
Но ученик не отнимает рук от лица.
Раввин кладёт ложку и подходит к ученику. Некоторое время он глядит на него с гордой любовью, потом обёртывает руку полой своей одежды и дотрагивается до его плеча.
— Тебе принесли обедать, — будит он его ласковым голосом.
Печально и медленно отнимает ученик свои руки от лица. А лицо его ещё бледнее, запавшие глаза горят ещё более дико.
— Знаю, ребе, — отвечает он, — но сегодня есть я не буду.
— Четвёртый день поста?.. — спрашивает раввин удивлённо. — И без меня? — добавляет он с упрёком.
— Это другой пост, — отвечает ученик, — это пост покаянный.
— Что ты говоришь? Ты — и покаянный пост?!
— Да, ребе! покаянный пост... Минуту тому назад, когда вы начали обедать, у меня явился соблазн... преступить заповедь «Не пожелай!».
Поздней ночью ученик будил учителя. Оба они спали в синагоге друг против друга на скамьях.
— Ребе! ребе! — звал он слабым голосом.
— Что такое? — проснулся в испуге раввин.
— Я только что был на высшей ступени...
— Каким образом? — спросил раввин, ещё не совсем оправившийся от сна.
— Во мне пело!..
Раввин разом поднялся:
— Каким образом? Каким образом?
— Сам не знаю, ребе, — ответил ученик ещё более слабым голосом. — Я долго не мог заснуть, углубившись в смысл ваших слов. Мне непременно хотелось узнать эту мелодию... И от великого горя, что не могу постигнуть её, я стал плакать... Всё плакало во мне — все мои члены плакали перед творцом мира. Тут же употребил я заклинания, которые вы мне поведали... И — странно — не устами, а как-то внутренно... само собою... Вдруг мне стало светло... я держал глаза закрытыми, а мне было светло, очень светло, ослепительно светло...
— Вот-вот! — зашептал, нагибаясь к нему, раввин.
— Потом мне стало от этого света так хорошо, так легко... мне показалось, что я стал невесомым и в состоянии летать...
— Вот! Вот!
— Потом мне стало радостно, весело... почувствовал себя бодро... лицо было неподвижно, губы тоже, а я всё-таки смеялся... и таким добрым, таким сердечным, таким сладостным смехом!
— Вот! вот! вот! От радости!
— Потом что-то стало звучать во мне, напевать, точно начало мелодии...
Раввин соскочил со своей скамьи и одним прыжком очутился около своего ученика: «Ну... ну...»
— Потом я услышал, как во мне запело!..
— Что ты испытывал? Что? Что? Говори!
— Я испытывал, что все внешние чувства мои заглушены и закрыты, а внутри что-то поёт, и так именно, как следует: без слов, вот так...
— Как? Как?
— Нет, я не умею... но прежде я знал... потом из пенья получилось... получилось...
— Что получилось?.. Что?
Нечто вроде музыки, точно внутри у меня скрипка пела... или будто Иона-музыкант сидел во мне и играл застольные песни, как за трапезой у цадика. Но тут игра была лучшая, более нежная, более одухотворённая. И все — без голоса, без всякого голоса, что-то духовное...
— Благо тебе! Благо тебе! Благо тебе!
— Теперь всё исчезло! — говорит ученик печально. — Теперь опять раскрылись мои чувства, и я так устал, так у-ус-тал... Ребе! — закричал он вдруг, хватаясь за сердце. — Ребе! Читайте со мной отходную!.. За мною пришли. Taм, в горних высях, недостаёт певца! Ангел с белыми крыльями!.. Ребе! Ребе! Слушай, Израиль! Слу-ша-й... Из...»
Всё местечко, как один человек, желало себе подобной кончины, но для раввина и этого было мало.
— Ещё несколько постов, — охал он, — и он скончался бы «от поцелуя», только от прикосновения святого духа.
пост
Зимний вечер. Соре сидит у каганца и штопает чулок. Пальцы её окоченели, и работа медленно подвигается вперёд. От холода посинели губы. Часто она бросает работу и начинает бегать по комнате, чтобы согреть озябшие ноги.
На кровати, на Голом соломенном тюфяке спят, головами попарно в одну и в другую сторону, четверо детей, покрытых каким-то старьём.
Просыпается то один, то другой, поднимается то та, то другая головка, и раздаётся тоненький голосок: «Ку-ушать».
— Потерпите, детки, — успокаивает их Соре, — скоро придёт отец и принесёт ужин. Я вас всех тогда разбужу.
— А обед? — с плачем спрашивают дети. — Ведь мы ещ& не обедали.
— И обед он принесёт.
Она сама не верит тому, что говорит. Глазами она обводит комнату: не найдётся ли ещё, что заложить... ничего!
Мокрые, голые стены. Растрескавшаяся печь. Кругом сырость и холод. На лежанке несколько разбитых горшков, на печке старый, погнутый жестяный светильник — «ха-куке-лемпл». В потолке торчит согнутый гвоздь — след висевшей здесь некогда лампы. Две кровати, пустые, без подушек... И ничего больше.
Дети засыпают не скоро. Соре глядит на них с жалостью, у неё сжимается сердце... Заплаканные глаза устремились на дверь. На ступеньках, ведущих в подвал, послышались тяжёлые шаги. Гремят жестяные кувшины то справа, то слева. Луч надежды озарил её измождённое лицо. Ударив ногой об ногу, она тяжело поднимается и, подойдя к двери, открывает её. Входит бледный, сгорбленный человек, нагруженный пустыми жестяными кувшинами.
— Ну? — тихо спрашивает Соре.
Он ставит на пол кувшин, снимает с себя коромысло и, вздохнув, отвечает ещё более тихим голосом:
— Ничего, опять ничего! Никто не уплатил. Завтра, говорят, отдадут. Каждый говорит: «Завтра, послезавтра, первого».
— Дети с утра почти ничего не ели, — говорит Соре. — Хорошо, что хоть спят... Бедные дети...
Она не может сдержаться, начинает тихо плакать.
— Чего же ты, глупая, плачешь? — спрашивает муж.
— Ох, Мендл, Мендл, дети так голодны!..
Она старается сдержать слёзы.
— И чем же всё это кончится? — говорит она печально. — Что ни день, всё хуже.
— Хуже? Нет, Соре, не греши. В прошлом году было хуже, куда хуже. Мы и тогда были без куска хлеба, но к тому ещё и без квартиры! Тогда дети днём валялись на улице, а ночью где-нибудь на задворках... теперь же они лежат на тюфяке и под кровлей.
Соре рыдает сильнее.
Она вспоминает, что именно тогда, посреди улицы, она лишилась ребёнка. Он простудился, заболел и умер.
Умер, как в пустыне... Нечем было и спасать... И он угас, как свечка, остальным деткам на долгие годы... И то сказать, не бегали в синагогу взывать к всевышнему, не ходили на могилы молить души покойников о заступничестве, даже не пошептали от дурного глаза.
Мендл старается утешить её:
— Полно, Соре, не плачь... не греши...
— Когда же, наконец, бог сжалится над нами?
— Да имей ты сама жалость к себе, не принимай всего так близко к сердцу! На кого ты стала похожа! Всего прошло десять лет после нашей свадьбы, а посмотри на себя... Посмотришь, так сердце разрывается. А ведь ты была самой красивой девушкой в городе.
— А ты? Помнишь, тебя называли Мендл-силач. Теперь ты согнулся в три погибели, хвораешь... хоть и скрываешь это от меня... Ох, боже мой! Боже мой!
Просыпаются дети.
— Кушать!.. Хлеба!..
— Боже упаси! Да кто же это сегодня ест? — вдруг отзывается Мендл. Дети испуганно вскакивают с постели.
— Сегодня пост, — говорит Мендл угрюмо.
Дети не сразу соображают.
— Пост, какой пост? — спрашивают они сквозь слёзы.
И Мендл, опустив глаза, поясняет, что сегодня во время утренней молитвы обронили тору с амвона.
— Поэтому, — говорит он, — объявлен на завтра пост, всем, даже грудным детям.
Дети молчат, и Он продолжает:
— Пост такой же важный, как судный день и тише-бъов; начинается он сегодня вечером.
Дети быстро соскакивают с постели и босиком, в рваных рубашонках, начинают кружиться по комнате, весело вскрикивая:
— Поститься! Мы будем поститься!
Мендл заслоняет спиной каганец, чтобы дети не заметили, как мать заливается слезами.
— Тише, тише! — старается он успокоить детей. — В пост нельзя плясать; даст бог, попляшем в симхас-тору.
Дети улеглись.
Забыт голод.
Одна из девочек начинает петь:
На горе высокой...
Дрожь пробегает у Мендла по всему телу.
— Петь также грешно, — говорит он глухим голосом.
Дети понемногу успокаиваются и засыпают, утомлённые
пляской и пением. Один только старший мальчик ещё не спит и спрашивает:
— Папа, когда мне минет тринадцать лет?
— Долго ещё до этого, Хаимл, долго — целых четыре года, — дай бог тебе здоровья.
— Тогда ты мне купишь тфилн?
— А то как же?..
— И мешочек для них?
— Разумеется.
— И молитвенник купишь, маленький, с золотым обрезом?
— С божьей помощью... Моли бога, Хаимл.
— Тогда я уж ни в один пост не стану есть.
— Да, да, Хаимл, ни в один пост...
А про себя он прибавляет:
— Боже великий, не знать бы им только таких постов, как сегодня.
УЖАСНАЯ НОЧЬ
Господин Финкельман, этот счастливец, держащий в своих руках всю окрестную торговлю ,и колеблющий весы рыночного курса, этот неограниченный властелин «кредита», гроза и благодетель купеческого люда, играющий судьбами «фирм» и «домов», — этот обладатель несметных «сокровищ» и нескольких каменных домов в городе Бед-нове, — господии Финкельман, могучий левиафан бедновских вод, заставляющий трепетать всю копошащуюся вокруг него мелкую рыбёшку, внезапно проснулся в полночь.
«И отчего бы это я мог проснуться?» — удивился он.
Правда, в Беднове есть немало людей, бодрствующих по ночам ради спасения своих семей от голода или с вечера и до утра беспокойно ворочающихся на постели, в страхе за завтрашний день, обещающий приход кредитора с судебным приставом для описи или продажи с аукциона... Но господин Финкельман с такими людьми ничего общего не имеет: кредиторы его не пугают, призрак будущего тоже, хоть брось он теперь же все свои дела да сиди сложа руки до последнего издыхания. Отчего же это он проснулся среди ночи?
А ночь такая тёмная и чёрная, точно из небесных хлябей пролились на землю чернильные потоки, и кругом такая мёртвая, кладбищенская тишина.
«Что бы это со мною вдруг стало?» — не перестаёт он удивляться.
Он чувствует тяжесть в голове и дрожь во всём теле.
«Уж не болен ли я?» — в ужасе думает он.
Но он всегда отличался крепким здоровьем. Один только раз, ещё в детстве, он заболел от испуга, а с тех пор не знал никаких недугов.
«У себя ли я, дома, на своей постели?» — нашло на него вдруг сомнение. 208
Он пробует ощупать правою рукою стену, но... стены нет! Правая стена перешла налево... Ужасно!
— Ведь вот — подушки; я лежу на них, как всегда, а стена всегда у меня справа... Не сон ли это?
Но это не сон: он владеет всеми своими чувствами. Правда, открытые глаза его ничего не видят, но это потому, что кругом непроглядная тьма; он ничего и не слышит, — но что услышишь в этой мёртвой тишине? Он прикусывает зубами нижнюю губу и ощущает лёгкую боль; он пробует высвободить одну ногу из-под одеяла — нога холодеет... Что же это — стена вдруг перешла справа налево?! Это пугает его.
«Сегодня со мною случилось какое-то несчастье, — я не сомневаюсь в этом... Недаром кружится у меня голова и точно свинцом налита она, недаром я весь дрожу от тайного, неведомого страха».
Сердце не обманет: он чувствует, что где-то глубокоглубоко в этом сердце таится та причина — то случившееся с ним несчастье; но его память, это черпало, достающее всё из душевных глубин, не способна на этот раз к работе и плохо исполняет свою обязанность.
Но это несомненно: с ним случилось несчастье, и он забыл только — какое именно.
Но забыл-то отчего?
Ему часто случается забыть что-нибудь и .ждать, пока это забытое само не придёт на память; но в таких случаях «из головы выходит» только название, имя, которое и «вертится у него на языке», а теперь он забыл всё — всё, что было, что произошло, — самый факт.
— Быть может, «она» огорчила меня?
Но он спешит отогнать эту недостойную мысль.
Она — его душа, его жизнь!
Она теперь спит, конечно.
Финкедьман припадает одним ухом к подушке, чтобы прислушаться к её дыханию, — напрасно: ничто не нарушает мёртвой тишины; он слегка приподнимает свою отяжелевшую голову, чтобы вглядеться в темноту, напрягает усталые глаза и силится рассмотреть её на её постели, — снова напрасно: только неясное, тусклое пятно какое-то белеет и дрожит перед ним в мрачном пространстве.
— Ужасная ночь... — шепчут его губы. Он подавляет звуки своего голоса, чтобы не разбудить её: если действительно случилось несчастье, то чаша, конечно, и её не минула, — зачем же лишит Он её целительного бальзама благодетельного сна, дающего забвенье и покой?
— Пусть себе спит спокойно, невинная голубка!
Она что-то не совсем здорова... Бог знает, что это с нею! Для него ша загадка. Её снедает какой-то внутренний недуг; какая-то неведомая тоска давит её... Да, его жена — непонятная для него тайна... Прежде, ещё невестой, она была весела и беззаботна, как резвая птичка; да и долго потом», после их свадьбы, в ней играло и переливалось жизнерадостное чувство, вызывая чудные мелодии в его собственной душе. Но вдруг умолкла песня, улыбка исчезла с её лица, и это лицо осунулось, изменилось, потемнело; опустившиеся и уже больше* не поднимавшиеся длинные ресницы скрыли чудный блеск её лучистых глаз, а белый, светлый лоб заволокла скорбная тень... Он тщетно умолял ответить на тревожные вопросы: «Что тебе, Мария? Что с тобою?» — «Ничего, — отвечала она, — ничего...»
С тех пор на ней лица нет, с тех пор она — олицетворённая тоска, живой образ его покойной матери...
«Но ведь моя мать, — думает он, — была несчастная, больная, забитая женщина, которую мой отец держал в трепете и страхе до последней минуты; она никогда не знала довольства и покоя!»
Его мать была не хозяйкой в своём доме, а послушной рабой. На сто добрую, сердобольную мать молились все бедновцы, все забитые и обездоленные обитатели города, а скаред-муж глубоко её ненавидел, эту тихую, робкую тень, преждевременно сошедшую в могилу... Но его Марии — ей-то чего недостаёт? Правда, и она добра и великодушна, и её сердце и дом всегда настежь открыты для всякой нужды и горя; но ведь он и не мешает ей ни в чём, ни в чём не ограничивает её воли! Её желание для него закон! Она его госпожа, а он, Финкельман, могучий левиафан, — её покорный, верный раб, благоговейно внимающий каждому её слову, охотно предупреждающий малейший её намёк. Чего же ей ещё недостаёт?..
— Неужели она не любит меня?
Этот вопрос — старая рана, ноющая в груди Финкель» мана.
Когда он, женихом, Гостил у её родителей, она очень
любила его, не скрывала своего чувства к нему и раз даже тайно поцеловала его на лестнице. Потом она сказала ему в саду, в тени дерева, что он избранник её сердца, а он в ответ сказал ей, что она совершенный образ его доброй, благородной матери, и клялся, что он не последует примеру своего сурового, жестокого отца, что он будет лелеять её и беречь, что не даст поблёкнуть этим розовым щекам, не позволит потемнеть этим коралловым губкам, не допустит, чтобы покраснели эти голубые глаза, что никогда никакое облачко не омрачит её ясного, мраморного лба и ни один вздох не вырвется из её нежной груди!
Разве он не исполнил своей клятвы? Разве он провинился в чем-нибудь? Он не чувствует за собою никакой вины!
Её родители не отдали обещанного за нею приданого... Живи тогда его отец — свадьбе бы не бывать.
«Но почему же мать не дожила? — с горечью думает он. — Почему ей не суждено было увидеть, как я вместо наличных денег удовольствовался одними векселями?»
Ему жаль, что его добрая, честная мать не видела его в ту минуту, когда он бросил, поверг в прах своего «идола»... Но он уверен, что она оттуда всё видела, его ангел-хранитель, видела из своей горней обители.
Это было спустя года два после их свадьбы. Они сидели вдвоём за завтраком, когда кто-то вбежал в комнату с известием* что его тесть обанкротился.
— Запрягать лошадей! — крикнул он своему слуге.
— Что ты хочешь делать? — тихо спросила Мария.
— Спасти свои деньги, — торопливо проговорил он.
Она отвела глаза в сторону, и ему показалось, будто
разом померкло солнце и надвинулась тёмная ночь... Он моментально преобразился.
Он тут же, при ней, схватил и порвал эти векселя.
— Я поеду помочь им! — объявил он, преисполненный жалости, и, опустившись перед нею на колени, принялся покрывать поцелуями её маленькие холодные ручки.
Тогда она упала к нему на шею и заплакала... И подобное случалось чуть ли не ежедневно. Если бы не она, он был бы куда, куда богаче...
— При ней, когда она дома, немыслимы никакие «дела»: всякий продавец тогда мне родной брат, всякий покупатель близкий родственник... Кто бы ни пришёл — всё свои люди, друзья и приятели, милые и дорогие!.. А её глаза... они каким-то непонятным образом влияют на меру и на вес, и на цифры...
По он не жалеет об этом... Он желает только её счастья!
Он не хочет, чтобы его жена увяла преждевременно, в цвете лет, как увяла его мать!
Ради неё он щедрый благотворитель; ради неё он об щественный деятель, попечитель и радетель общего блага; ради неё он готов утереть всякую слезу, облагодетельствовать всех вдов и сирот, заступиться за обиженного, накормить голодного...
Чёт же она ещё хочет?..
Удивительный народ эти женщины! Слабые, беспомощные муравьи, они властвуют, подчиняют, управляют сердцем мужчины.
Однако всегда ли так бывает? Его отец, например, проявлял же-таки свою власть!.. Да он не раз слышал про мужей, которые тиранят, даже бьют своих жён... Да! Везде, наоборот, мужчины распоряжаются в доме и властвуют над жёнами, это только он один...
— Недаром меня отец называл рохлей, кислятиной, бабой!
Отец был прав... А всё же он не жалеет!
«Но зато, когда она не смотрит, когда её нет дома!» Лёгкая усмешка трогает его губы...
Когда жена не смотрит, он совершенно другой человек Тогда он весь — покойный отец, тогда он только купец и ничего больше. Тогда деньги для него — всё. Они получают вдруг необыкновенную притягательную силу, становятся великой отрадой сердца и души! Какой-то неведомый, могучий и злой дух овладевает им тогда и превращает его кабинет в мрачное отделение ада, а его самого и купцов — в каких-то борющихся между собою алчных демонов, состязающихся в хитрости, лукавстве, мистификации, обмане... Тогда борьба кипит не на жизнь а на смерть!
Но стоит лишь дойти до их слуха шороху женского платья и её маленьким ножкам появиться на пороге комнаты, как картина сразу меняется: все приветливо улыбаются, смеются, ласкают глазами; ад вдруг превращается в рай. Ни грубой силы, ни лукавства, ни обмана! Куда только всё это девалось? Осталась одна справедливость, честная дружба да любовь! 212
Давно она почти что не выходит из его кабинета. И давно уже поэтому его не преследует тень покойного отца: Ёместо неё в нём как бы воплотилась и живёт душа его матери или душа Марии. Искристые лучи её добрых глаз, отражаясь, проникают глубоко в его сердце, в мозг, всюду, — и от этого ему так светло и тепло!
Да! Теперь он убедился, что в нём есть что-то двойственное: то он воплощение отца, то матери.
«Ну, а я-то сам? — удивился он. — Где же моя-то, моя собственная душа? Ужели же каким-то пустым сосудом явился я на свет? И неужели для меня одного не назначено было души?»
И снова факты и события прошлого встают в его памяти.
Раз, будучи женихом, он обманул товарища-купца. Это было после смерти матери; отца уж тоже не было в живых, и он сделался самостоятельным коммерсантом. Обманутый купец потребовал его к суду местного раввина; но что мог раввин? Пугаясь и робея, он -тщетно пытался поколебать железную волю могущественного ответчика, который оставался неприступен, как скала. Тогда истец решительно заявил, что сообщит обо всём родителям невесты обидчика, и это сразу подействовало. Он поспешил пойти на уступки и помириться с обиженным им человеком.
Об этом узнали прочие купцы и не преминули воспользоваться столь удобным орудием.
Года через два после свадьбы жена поехала навестить своих родителей. Во время её отсутствия мелкие купцы не раз попадали в львиную пасть всесильного владыки, который вволю-таки натешился над ними! Но к её приезду пришлось возвратить захваченную добычу. Прислуга поспешила вымести сор из комнаты, а он — следы нечестия из своей конторы.
«Действительно ли, однако, я так поступил?» — робко сирашивает таинственный голос из неведомых глубин его памяти.
Холодный пот выступает на его теле, — он припоминает один незначительный факт:
«Шмуэл умер... Оставшиеся сироты ничего не знали... они не могли, следовательно, жаловаться ей... да вскоре все рассеялись в разные стороны: вдова вышла замуж в
другом городе, дети пошли по чужим людям... Им-то я не возвратил ничего, хотя по счёту остался должен...»
Да, да: сам он — пустой сосуд, и поэтому-то он то голубь, то коршун, то овечка, то тигр...
Но вдруг нить его мыслей оборвалась, и в отяжелевшем мозгу снова назойливо встал прежний вопрос:
«А какое же случилось со мною сегодня несчастье?»
Не удивительно, что вопрос этот так упорно и неотступно преследует господина Финкельмана: какие, в самом деле, могут быть с ним несчастья, с ним, которому завидуют, которым благословляются все бедиовцы? Ведь каждый из них молит постоянно: «Дай бог мне его заботы, его дела, его питание и сон!..» Ведь счастье господина Финкельмана было их недосягаемым идеалом, его покой — их всегдашней мечтой.
Да, им благословлялись! И никому не приходило в голову роптать даже на бессердечие господина Финкельмана, — на то ведь он и богач, «туз», на то ведь и коммерция!.. Попробуй только распуститься — и состояния как не бывало. Временами он бывает чересчур крут, это правда; но в купеческом быту иначе и нельзя; известно ведь: «щедрость для капитала, что решето для воды». Даже его религиозные грехи прощались ему ради его богатства: «разжирел — и лягается» — сказано в писании, — это в порядке вещей. Ведь богачу, «тузу», необходимо бывать в обществе, поддерживать знакомства, знаться с господами да барами, — где же ему соблюдать все «613 заповедей», во всех их мелких подробностях! И поэтому даже бедновские фанатики-меламеды не ставили господину Финкельману в вину его отступления от некоторых обычаев и обрядов, мирясь и с его непокрытой (дома) головой, и с красовавшимся у него среди прочей дорогой мебели роялем, и с определением его двух сыновей в губернскую гимназию.
И этот факт приходит ему на память.
Действительно, его два сына учатся в гимназии, в губернском городе; но не он был за то, чтобы отослать их от себя; этого потребовала она... Он хотел пригласить для них меламедов из Литвы и учителей из Варшавы, но она настаивала, чтобы послать их в гимназию, и он повиновался.
«И почему это она услала от меня моих детей?»
Это тоже старый вопрос, беспокоящий его с самого дня отъезда сыновей. Временами он готов думать, что она не любит своих мальчиков. Но это вздор, конечно... Когда от них приходит письмо, она плачет от радости, а когда этого письма нет несколько дней, когда оно чуть-чуть запоздает, она снова плачет и болеет — от страха... Ему кажется, впрочем, что она часто плачет, — украдкой, незаметно. Часто, по утрам, глаза её грустно глядят из-под красных век, а ночью он слышал не раз её подавленные и тоскливые, точно смоченные слезами, вздохи.
«Уж не боится ли она моего нравственного, духовного влияния на них? 1
Моего духовного влияния? А разве у меня есть своё собственное духовное «я»? Разве я пс грубый, бессмысленный истукан?..
Что это, однако, со мною?»
Беспокоящие его теперь мысли не новы, не чужды ему; они почти ежедневно приходят ему в голову; но обыкновенно они, точно молния, быстро прорежут сознание и столь же быстро исчезнут, а на этот раз они почему-то не трогаются с места и упорно, назойливо пробираются и точат его мозг.
Очевидно, эта ночь какая-то особенная; его нервы сильно, необыкновенно сильно потрясены; несчастье случилось, несомненно случилось!.. Он хочет восстановить, воскресить в памяти ряд фактов последнего дня, чтобы среди них найти это главное, утерянное ею событие, — но, к ужасу его, оказывается, что весь этот день им забыт совершенно, точно этого дня никогда и не было! Целая страница оказывается вырванной из книги-памяти! Но он что-то не помнит также и предыдущего дня, — стало быть, вырваны целых две страницы! Последняя страница, которую он бегло читает в памяти, — это воскресенье; за этой открытой страницей совершенная пустота в мозгу, который ему представляется теперь как бы остановившимися часами — остановившимися именно в воскресенье вечером... Не удивительно ли, не ужасно ли это?
Внимательно и напряжённо читает он ту страницу, стараясь припомнить всё случившееся в тот день, и вот он уже припомнил всё, все события и факты, всё, что делалось и говорилось в его доме до того вечера... Всё написано подробно, отчётливо и ясно, и каждое слово выпукло и рельефно само выступает вперёд.
Да, до того вечера!..
Вечером! был незначительный случай. Они сидели с женою за чаем, когда из кухни донёсся вдруг оглушительный треск разбитой посуды, и Мария вся задрожала от страха. Сначала кровь бросилась ей в лицо, — лилия вдруг превратилась в розу, — потом кровь отлила от лица, которое сперва страшно побледнело, затем приняло зеленоватый оттенок.., Она едва держалась на ногах, не переставая дрожать... Тогда он схватил её на руки и отнёс на кушетку, а она не протестовала стыдливо, как делала это всегда, не старалась высвободиться; напротив, она сама доверчиво склонила свою голову к нему на грудь, и всё его существо наполнилось бесконечным блаженством, смешанным с чувством какой-то тайной, мучительной тревоги.
— Не пугайся, — едва слышно прошептала она, — не пугайся! вот уже всё прошло...
— Не пугайся, — продолжала она успокаивать его, — и, прошу тебя, не брани прислугу... ведь она это не нарочно...
— Успокойся... — ещё раз повторила она своим чудным, сладким, похожим на звуки флейты, голосом, — отчего так сильно бьётся твоё сердце? Вот уж1 испуг прошёл, всё прошло уж... Обещай мне, что простишь прислугу, что не вычтешь из её жалованья...
Он обещал, конечно, хотя, в сущности, не мог понять этого: ведь она хозяйка, ведь она сама всем распоряжается и сама рассчитывается по дому! Зачем же она его просит об этом?
Вдруг она почему-то стала просить, почти умолять его, так ласково и задушевно, рассказать ей что-нибудь про свою мать.
«Отчего это ей вдруг вздумалось спросить о моей матери?» — удивляется он теперь. Но тогда ему некогда было удивляться, и он поспешил рассказать ей всё, что мог тогда припомнить.
Он рассказал ей, что мать его была добра, как ангел, прекрасна, чиста и светла, как электрическое сияние, — «как ты, Мария».
Лицо её тогда Озарилось приветливой улыбкой, но глаза были закрыты, и он ждал, чтобы они открылись, как блуждающий среди беспросветной ночи ждёт первых утренних лучей...
— Ты так же добра, как моя мать, а твои глаза, — при-
бавил он нарочно, — глаза голубки, также совершенно похожи на глаза моей матери. — Но она всё ещё не открывала этих глаз, и сердце его сжималось от мучительной тоски.
— Но моя мать была забитая, подавленная горем женщина и рано сошла в могилу...
Его дрогнувший голос заставил её очнуться; её веки медленно раскрылись — и пред ним точно вдруг отверзлась таинственная глубь лазурных небес!
— А ты любил свою мать? — спросила она.
— Любил ли я?!. — Голос его оборвался от охватившего его волнения.
— А отца? — допрашивала она, и её веки снова медленно опустились.
— И его я любил... иногда... когда матери не было с нами в комнате. Тогда я любил, бывало, сидеть на коленях у отца, который учил меня читать и писать, а также знать, понимать жизнь...
Он чувствовал, что ей неприятны эти слова, но он не мог её продолжать.
— Мой отец, — рассказывал он, — был скупой, жадный человек, но известный и уважаемый купец, он и из меня хотел сделать купца, настоящего купца, а не «мякиша» и «разиню», как того желала мать... по его словам, — поспешил он прибавить, чтобы исправить свою оплошность. — Отец говорил: деньги тебе достанутся после меня, но ума не унаследуешь; наберись же, сынок, ума, хитрости, ловкости! закали свою энергию и волю! Всё зависит от воли человека.
Но стоило ему, бывало, увидеть мать, как оп уже бежал к ней и не хотел даже подходить к отцу.
Он любил сидеть в комнате матери на своём стульчике, спрятав свою голову в её коленях. Она перебирала его волосы, и горячая слеза не раз, упав из её очей, скатывалась по его щекам. Иногда она рассказывала ему такие чудные сказки!..
Но эти счастливые минуты бывали непродолжительны. Отец всё боялся, чтобы он не вырос «дикарём», «кислятиной», «бабой», и всякий раз брал его за ухо и выпроваживал вон или уводил к себе, в свою комнату.
Особенно сердился отец за её сказки, в которых были всегда ужасы ночи, и души мертвецов, и бледные лучи ме-
сяца, и замогильные тени... Однажды он запер его на целую ночь одного в тёмной комнате, чтобы этим способом изгнать из него вредную трусость, чтобы застраховать его от боязливой робости и малодушия!
Утром, когда открыли дверь его темницы, его нашли почти без признаков жизни...
— В ту ночь, — рассказывал он ей, — я испытал муки ада! Все обитатели загробного мира, казалось, вышли из своих мест и обступили меня... Привидения, духи и мрачные тени терзали, мучили, давили меня до потери сознания...
Тогда-то именно, в ту ночь, — думал он во время своего рассказа, — лишился он своего «я», своей собственной души, и стал тем пустым скелетом, в котором с тех пор поочерёдно воплощаются души его родителей. До той ночи он чувствовал себя как бы в роли духовного посредника между ними и, бессознательно как-то находя, угадывая сходства и различия их характеров, внутренно сглаживал противоречия и бессознательно же держался золотой середины... И если бы так шло дальше, думал он, он вырос бы человеком с волей и сердцем, человеком устойчивым, уравновешенным, счастливо миновавшим всё, что было резко одностороннего в духовных чертах отца и матери, и заимствовавшим, сочетавшим в себе лучшие стороны их обоих. Но с той поры, с той ночи, когда его словно оставила собственная душа, в кем уже нет больше этого счастливого сочетания, а есть обе крайности, овладевающие им поочерёдно, — и вот он теперь или весь отец, или весь мать!..
Но эти мысли он скрыл тогда от неё.
— Когда я очнулся и пришёл в себя, — продолжал он ей свой рассказ, — мать лежала в постели, с которой ей уже не суждено было встать. Я ужаснулся, когда увидел её лицо!
Но и его лицо изменилось за одну эту ночь: мать его также ужаснулась и разразилась неутешными рыданиями.
Эта сцена подействовала даже на отца, и с того времени он уж больше не пытался разлучать их.
Теперь никто не мешал ему подолгу сидеть на скамеечке у её постели. Мать держала его руки, целовала их, перебирала его волосы...
Но источник её слёз давно иссяк, и ни одна слеза не скатилась больше на его лоб,
— О! Если бы ты знала, Мария, что я пережил в то время, что испытал, что перечувствовал!..
И Мария открыла свои глаза — влажные, с выражением немой, безысходной тоски...
На этом месте обрываются его воспоминания; здесь кончается та страница — последний сохранившийся в сознании день!
— А потом? — спрашивает он себя в ужасе: — что же было потом?
Он хорошо помнит, что он в воскресенье вечером сидел с Марией на кушетке... Что же такое случилось с того вечера до этой ночи?
Кто вырыл эту бездну, эту зияющую перед ним мрачную пропасть?
— Быть может, я заболел, лежал в забытьи эти дни... и теперь очнулся, измученный и больной...
И вслед за тем новая, ужасная мысль мелькает в голове: не умер ли он внезапно, или только показался мёртвым, и не очнулся ли это он теперь в могиле?
Он снова щупает стену и постель.
Снова глаза его напряжённо ищут какого-нибудь предмета — другого, нового предмета, кроме этого беловатого, тусклого пятна, дрожащего перед ним в воздухе.
Напрасно!
Или он уже там... в загребном мире?
Но откуда-то, кажется из глубины его сердца, доходит и отдаётся в мозгу ясный могучий голос:
— Нет, ты жив, жив! Но тебя постигло несчастье, ужасное несчастье!
Он припоминает, что подобное мучительное состояние он уже пережил однажды, — когда умерла его мать.
И тогда так же день или два оказались вырванными из книги памяти... Да, точно: два дня забыл он тогда — день смерти и день похорон!
Кругом всё полно было знаками глубокого траура, в доме ежедневно, утром и вечером, совершались заупокойные молитвы, а он не верил, что мать его скончалась, и, охваченный странными, ему самому непонятными мыслями, бродил по комнатам из угла в угол, ища свою мать или даже не сознавая, чего ищет.
Только на четвёртый день, когда, по обычаю, явились посетители для «утешения» скорбящей семьи и он увидел
среди них того самого погребального служку, который, замыкая похоронное шествие и позвякивая кружкой, выкрикивал: «Благотворительность спасает от смерти», — тогда только к нему вернулось сознание. Тут только из мрака забвения выступили перед ним похоронные носилки, и он снова увидел их, как они покоились на плечах родственников и друзей; тут он снова услышал отчаянный плач, стоны и причитания и снова увидел огромную толпу людей и услышал их речи и их похвалы, расточаемые покойнице...
Тогда о,н понял, что мать его умерла, — и не мог, не хотел утешиться.
Но ведь только подобное ужасное несчастье в состоянии так затемнить, помрачить рассудок!..
Холодный пот выступает на всём его теле: какое же несчастье постигло его теперь?
Лучше всего, думает он, разбудить Марию; другого средства нет... Она объяснит ему всё...
Но это беловатое, тусклое пятно всё дрожит... дрожит и словно умоляет не тревожить сна бедняжки.
Он чувствует в то же время, что не в силах владеть своим! голосом и что если он, собрав эти покидающие его силы, издаст хоть один звук, это будет страшный, отчаянный крик, От которого Мария, внезапно потрясённая, наверно лишится сознания!
Пусть же спит она спокойно, его голубка! Да пошлёт ей милосердный бог сладких, райских грёз и да восстановит её силы!.. В последнее время нервы её совсем, совсем ослабели: малейший неожиданный звук волнует, пугает её... Так и моя мать, бывало...
Нить его мыслей снова оборвалась: в дверях, как раз против него, показалась какая-то фигура.
Он глядит и видит в ужасе, как выступают из мрака и смутно белеют косяки, двери, — и на этом сереющем фоне его широко раскрытые, неподвижно застывшие глаза ясно различают её, эту фигуру.
Он хочет отвести от неё глаза в сторону, не глядеть на неё, и не может: таинственный образ притягивает их к себе с неодолимой, непонятной силой... Вот он уже узнал его: это лицо его отца, хотя оно кажется несколько моложе...
— Отец!.. — вырывается из глубины его груди страшный,
мучительный крик, крик подавленный и беззвучный: язык его словно прилип к гортани, голос отказывается служить.
«Нет! Это не отец! Это я, я сам!.. — внезапно вздрагивает он, холодея от всё возрастающего страха, а фигура стоит, стоит неподвижно, с каждым мгновением светлея, яснея всё более и более, всё рельефнее вырезываясь и выступая из таинственного полумрака.
— Быть может, это Моё собственное отражение в зеркале?
Но он ведь лежит, а фигура стоит!
Она ужасна; она заставляет кровь его стынуть в жилах: она глядит на него с ненавистью, с презрением, с уничтожающею, злою усмешкой, и её глаза проникают, пронизывают его всего, как холодные, острые копья.
— Трусишка! Мякиш! Баба! — разразилась вдруг фигура и исчезла с порога.
Финкельман быстро соскочил с постели и бросился за нею. Он вбежал, босой и в одном белье, в следующую комнату, но её здесь не было, она исчезла, пропала; и он остался стоять в темноте, дрожа от холода и страха.
Через несколько мгновений мысли его снова перепутались, оборвались. Он уже забыл про фигуру и, бессознательно озираясь кругом, недоумевал, что с ним и где он, и зачем это о« стоит в темноте среди глубокой ночи, босой, на холодном полу.
Он обводит руками вокруг себя, ощупывает предметы, чтобы узнать, где он. Вот он направляется куда-то, среди мрака, ощупывая всё по дороге... вот он у той кушетки, на которой тогда, в тот воскресный вечер, держал в своих объятьях бесчувственную жену... здесь он рассказывал ей про свою мать, про деспота-отца.
Обессиленный, он упал на диван, не будучи в состоянии двигаться далее; глаза его закрылись, но он не спит; сердце его объято ужасом, а в мозгу — пусто, ни одной мысли, как в брошенном птицами гнезде.
Однако в голове у него необыкновенная тяжесть, в мозгу — странный шум какой-то, дрожь и жар. Ему кажется даже, что он слышит какой-то треск в мозгу: не то пузыри лопаются там, не то с звоном разбивается стеклянная посуда.
Не тот ли это шум, который произвела служанка, разбивши посуду?..
On чувствует, что силы его слабеют, а страх всё растёт и растёт!
Остаётся Одно — позвать Марию. Если бы она знала, где он теперь и что с ним происходит, она бы наверно поспешила к нему на помощь, — всё равно, любит ли она его или нет: ведь она такая добрая! Она бы, верно, пожалела его!
О, если бы она знала!.. Ведь стоило бы ей только показаться, только коснуться его волос, сказать, одно слово или подарить его одною искрою своих лучистых глаз, — и ему бы стало и легко и хорошо, и он бы сразу выздоровел!
Да, он болен, и в ней одной его спасенье!
Вдруг ему послышался какой-то неясный шорох. Его охватила всего приятная, радостная дрожь; слабое чувство надежды мягким и сладким теплом разлилось по всем его членам... Это, верно, Мария услышала, как он мучительно вздыхает, как зовёт её, и проснулась... проснулась, спокойно, без всякого страха. Вот она, кажется, встаёт с постели, одевается; вот он слышит уже звуки её шагов... Сейчас она покажется в дверях... Сейчас вот придёт конец этому ужасному, мучительному кошмару; ещё минута — и рассеется, исчезнет навсегда этот мучительно давящий мрак, и он вздохнёт, наконец, полною, свободною грудью!
Но прошло несколько минут, а Марии ещё нет; тот смутный шорох всё приближается; вот он уже у самых дверей — ив дверях вдруг появляется новый образ... Мужчина средних лет, с длинной чёрной бородой. Его маленькие глазки быстро бегают в орбитах, правою рукой он поглаживает свои усы... Кто это?
В эту фигуру он всматривается без всякого страха. Он сразу же узнал её: ведь это Давид-сват! Вот Давид направляется к нему тихо, бесшумно, ,с лёгкой усмешкой на губах... Вот он уже около него, вот он присел, не спросясь, у его йог на диване и начал свой рассказ... Он говорит, что это прекрасная партия, что невеста Мария — замечательная, редкая девушка, добрая и благородная, что она ангел божий!
Она получила домашнее образование, и тем не менее свободно говорит по-французски и пишет по-немецки! Одного лишь ему жаль: что такая добрая и благородная женщина станет женою такого скареда, сына скареда.,. Од, 222
Давид-сват, боится, как бы и её не постиг такой Же конец, какой выпал на долю его матери...
«Что за дурак! — думает Финкельман: — Мария уже давным-давно моя жена, а этот пришёл теперь расхваливать её, как «невесту».
— Уж не пьяны ли вы? — громко спрашивает он, и видение исчезает.
Финкельман вдруг припоминает, что это уже второе видение, исчезающее на его глазах в этой комнате, и он решается искать их. Он снова пробирается ощупью, в темноте, среди столиков, стульев и разных других вещей, наполняющих комнату; он толкает, опрокидывает их по пути, но не слышит звука их падения.
На столе, к которому он подошёл, стоят спички, а над ними поднимается тусклый блеск, но он ничего не видит; он пробирается дальше, то и дело нагибаясь до пола и поворачивая глаза направо и налево, и, наконец, забывает, что ищет...
А в -ушах у него всё время стоит прежний шум, — и он теперь почему-то невольно прислушивается к нему.
Странный шум! Словно кто-то говорит вдали. Он ие различает отдельных слов, но слышит чей-то голос.
Всё ближе и ближе этот голос, всё отчётливее и яснее отдаётся он в ушах; сейчас он расслышит всё и всё поймёт!
Вот он уже различает отдельные звуки, слышит некоторые слова.
Какой-то человек направляется к нему и говорит о чём-то. Он говорит о злом и добром духе, об ангелах, провожающих покойника з другой мир...
Что это — удивляется он, дрожа от страха, — ведь это я слышу уже второй раз! Ведь эти самые слова я слышал уже... где? когда!»
«Сегодня же!» — как молния, промелькнул ответ в мозгу, и как бы в блеске этой молнии вдруг встала перед ним другая картина, тоже не новая уже, которую он также уже видел где-то, в другом месте.
Он видит толпу людей, почти иесь город... Тут крупные и мелкие купцы, кредиторы и должники, богатые и бедные, старые и молодые... Все смотрят на пего с такой жалостью, на глазах у всех слёзы...
Что это? Его жалеют?! Зачем? Почему?
А там, недалеко, железный амвон... На амвоне беднов-ский оаввин... Он видит его хорошо, отчётливо... Вот его шапка съехала набок, по обыкновению... Раввин тоже плачет. И это он, раввин, говорит те слова!
Но ведь всё это он видит уже во второй раз... Ведь он уже слышал раз эту речь раввина о злом и добром духе, об ангелах, сопровождающих человека в могилу... Ведь это надгробное слово... Кого же это сегодня оплакивал раввин?
Кто это умер?..
Неужели же возможно, чтобы умер почтенный и уважаемый в городе человек, удостоившийся надгробной речи раввина, и чтобы он забыл имя такого человека?
Видение вдруг исчезло, и мысль его приняла другое направление.
Нет, это невозможно! Это не голос раввина!.. Ои ошибся... Правда, и у старика-раввина голосок тоненький, точно звон серебряного колокольчика, но этот голос, который он слышит теперь, ещё нежнее, ещё слаще, чем голос раввина. Это наверное голос его матери!
При воспоминании о матери пред ним встала новая картина.
Он видит её кровать, которую она до самой смерти не покидала, в полутёмной комнате, вечером... Глаза больной искрятся и горят во тьме... Впалые щёки отливают румянцем, губы бледны... Он сидит у её изголовья, а она перебирает и гладит его волосы своей исхудалой рукой.
Тихим-тихим и невыразимо сладким, точно мелодия флейты, голосом рассказывает она ему, сквозь слёзы, о живущих в человеке «духе зла» и «духе добра»... об ангелах божиих и о добрых душах... Деньги, — говорит ему мать, — это только наваждение дьявольское, бесовщина, нечисть, только чары и обман! Деньги — это змей-искуситель, злой дух... Деньги — это кровь человеческая, кровь бедных...
Он слушает, и из глаз его капают слёзы.
Удивительная вещь! Он чувствует, что плачет, но что слёзы не текут из глаз его наружу, а льются и проникают внутрь, в самое сердце, где, падая, разгораются, точно пылающие искры...
Но вдруг в дом зашли какие-то чужие люди... Кровать
его матери стала уходить, колыхаясь, и удаляться от него, и через минуту ему уже показалось, что это не мать, а Мария лежит на этой кровати!
Он цепенеет от ужаса, и мысли его, путаясь и обрываясь, уступают своё место другим, новым мыслям, лезущим упорно и теснящимся в больном мозгу.
Нынешний год неурожайный... да, голодный год!
Если бы не Мария, я бы заработал массу денег! Я закупил много хлеба у помещиков, купцов, факторов... Всех привёл-таки под свою власть!
Но она-то, она просит, умоляет за всех! Упадут цены — плати, а поднимутся они — она тут со своими мольбами.
— Ну, не кислятина ли я? не разиня? не баба?..
И всё же он исполняет малейшее её желание, всё, что ни вздумает она, — исполняет беспрекословно!
Однако любопытно узнать, сколько он из-за неё теряет!
— А ну-ка, сосчитаю!
Сумма выходит немалая... Он уже насчитал тысячи...
Вот уже пять тысяч; ещё несколько сот... ещё сорок пять со старика Иекеля — с того, у которого больная жена... и ещё, и ещё... Ещё много сотен...
Воля его слабеет; он не считает больше; но счёт с обставляется сам собою, помимо его воли, без всякой его помощи.
Он уже больше не ищет, не собирает цифр, не думает о них; но они являются сами, не ждут; они сами, без зова, предупредительно устанавливаются в стройные ряды, одна под другой, в образцовом порядке, охотно, добровольно...
Он чувствует, что в его пустом! мозгу стоит теперь белый лист и что чёрные цифры слетаются к нему оо всех сторон, теснясь и толкаясь и напирая с шумом... Они являются и сами записываются на этом листе, или какая-то невидимая рука властно повелевает ими и заносит их, единицы под единицами, десятки под десятками и так далее и так далее. Цифры множатся, растут и, кажется, где им уместиться тут, на этом листе? Но и лист растёт и увеличивается вместе с ними... Он поднимается всё выше и выше, и всё ещё не видно черты для подведения под нею Окончательного итога.
И вдруг цифры превратились в Пёстрые, радужные билеты, а лист — в открытый сундук... И летят они, эти пёстрые билеты, со всех сторон в мозг, точно птицы в гнез-15 — 2394 Рассказы и сказки 225
до, и попрежнему невидимая рука укладывает их в сундук... Но тесно становятся в этом сундуке, и рука жмёт их, и немилосердно давит в черепе, который, кажется, вот-вот не выдержит и раздастся.
Всё сильнее и сильнее давит в мозгу, всё нестерпимее становится тяжесть в голове, но он не может решиться, однако, схватить и выбросить сразу эти билеты из сундука.
А они летят и летят — сперва пёстрые, потом красные. Вот они все постепенно стали красными... Вот из многих сочится кровь... На многих изображение пляшущего чудовища, с длинными острыми когтями...
Вдали снова показалась фигура его отца.
— Бери, сынок, бери! — кричит ему видение, — бери... загребай...
Но как страшен, как ужасен вид его отца! Его саван наполовину изорван и истрёпан... из-под дырявого савана видно гниющее мясо... из мяса торчат белые, как снег, изъеденные кости, а кругом обвились черви и змеи и, впившись, жадно пожирают его мёртвое тело...
— Не бойся, сынок, не бойся! Загребай! Всё возьми!
— Нет!.. Не возьму!.. — судорожно вскрикнул господин Финкельман и грохнулся на пол без чувств...
Внезапный стук разбудил спавшую прислугу.
Когда господин Финкельман очнулся и пришёл немного в себя, он лежал на постели.
Небольшая лампа обливала бледно-матовым светом всю комнату.
Комната вся в чёрном. Зеркала на стенах завешаны тёмным флёром. Возле кушетки, на полу, низкая, для «траурного сиденья», скамейка, а напротив — пустая кровать Марии.
ЗАРИСОВКИ
КТО?
1
Самая красивая фигура в саду — Венера, греческая богиня красоты. Изваянная из белого мрамора, стоит она на блестящем зелёном пьедестале и смотрит своими широко раскрытыми глазами на террасу со свежими розами и лилиями.
По аллее идёт девятнадцатилетняя девушка. Её лицо полно радости, глаза искрятся свежестью и здоровьем. Она подходит к Венере, быстро вскакивает на пьедестал. Она одного роста с богиней.
Это радует её. Она обнимает своей алебастровой рукой мраморную шею богини, припадает своими свежими, коралловыми губками к её устам.
Так стоит она о минуту. И проходящие спрашивают себя:
— Кто красивее: та, что из камня, или другая, живая?
2
За толстым, блестящим стеклом в витрине модного магазина стоит красавица, сделанная из воска, она обвешана предметами моды.
Губы её неестественно красны, как будто недавно подкрашены, лицо изжелта-матово, широко раскрытые глаза неподвижны, мертвы. Но ужаснее всего брови: ряд жёстких волос, отстоящих далеко друг от друга.
Там, внутри, в полутёмном магазине дамы покупают всякую всячину.
— Барышня! — обращается толстая дама к приказчице, — снимите с витрины карминовые ленты.
Девушка исполняет приказание.
Походка у неё усталая, нетвёрдая. С усилием раскрывает она покрасневшие глаза, чтоб не заснуть на ходу. Лицо у неё красивое, но усталое, жёлтое и измождённое, губы красные, заметно недавно подкрашены.
Она открывает окно, наклоняется над восковой фигурой, разыскивая нужные ленты. Внезапно она, задумавшись, застывает.
Так стоит она с минуту, и все проходящие спрашивают себя:
— Кто ужаснее: та, что из воска, или другая, живая?
ПОДЛЕЦ
1
Какой-то богач, проезжая по улице, заметил прислонившегося к стене нищего. На дворе было сыро и холодно. Бог знает, сколько времени нищий уже простоял здесь.
У богача появилось чувство сострадания. Он достал из кармана гривенник, %лсил его нищему.
Нищий поглядел Х.Ц да, где упала монета, и не двинулся с места. Богач заметил это.
«Ему мало», — подумал он.
— Подлец!
2
Экипаж проехал. Нищий со стоном опустился на тротуар.
Сыро, холодно. Кости ноют и ломят, ноги точно окаменели.
Бог знает, как он сегодня доберётся домой. Не слушаются его деревянные Ноги.
Но и сидя, он никак не может достать монету. Он вытягивается весь, протягивает руку. Насилу, насилу дотянулся.
Он приближает монету к глазам. Фальшивая! И он вскрикивает:
— Подлец!
ДРЯНЬ
На тиснённой золотом софе в светлом шёлковом платье лежит бледная молодая женщина.
Сквозь тяжёлые занавеси на её болезненно скривившиеся маленькие тонкие губки падает матовый луч света. В больших голубых глазах её блестят слёзы.
Ей тяжело... Не сбылись мечты её.
Она жаждала любви, искала идеалов... "А Он преподносит ей бриллианты, виллы...
Говорит ей о денежных делах... о подрядах...
Никто, никто не понимает её, ни он — муж, ни его гости, ни её гости...
А сердце тоскует, щемит! Чужд ему этот мир денег, серебра, золота, бриллиантов... Оно рвётся к идеалам, куда-то... в неведомое...
Да, ей тяжело, хоть и не может она найти выражения для своих чувств.
Она протягивает белоснежную руку и притрагивается к звонку на столике у изголовья.
Появляется горничная.
— Чашку кофе, — приказывает молодая женщина.
Девушка исчезает и возвращается, неся на тяжёлом
серебряном подносе чашечку из китайского фарфора. Тонкий аромат душистого кофе смешивается с лёгким ароматом гиацинта в комнате.
Приближаясь к софе, горничная спотыкается о загнувшийся край турецкого ковра и падает.
Слышен глухой стук упавшего подноса и дребезжанье разбитой чашки.
— Дрянь! — вскакивая, кричит молодая женщина.
ВЕДЬ ЭТО НЕ ЧУЛКИ
Чулочная фабрика.
Входит девушка с дюжиной готовых шерстяных чулок, подходит к старику-хозяину.
Он мельком взглядывает на товар и еле заметным движением руки отсылает её к молодому хозяину.
Она идёт туда.
Молодой берёт в руки чулки — достаточно мягки. Потом кладёт их на весы — вес правильный. Затем! берёт мерку, измеряет длину, край, ступню — всё в порядке.
Девушка облегчённо вздыхает, протягивает руку за деньгами.
— Одну минуту! — говорит молодой хозяин. Он берёт со стола лупу, вытирает её и начинает осматривать работу.
Смотрит он долго, а потом говорит равнодушным, но твёрдым голосом:
— Несколько ниток рваных, три очка спущено. Три процента долой!
— Но... — пытается она защищаться.
— Никаких «но»! — прерывает он её и даёт ордер в кассу.
Открывается дверь, и появляется рыжый человек с ухмыляющимся лицом.
— Доброе утро!
— Здравствуйте, — отвечает старик-хозяин, — пожалуйста!
Рыжий подходит к старику, усаживается у стола.
— Мой сын! — с гордостью показывает старик на молодого. — Купец, — добавляет он, — да ещё какой!
— Вот и хорошо! — отвечает рыжий, — купцу-то деньги и нужны.
— Деньги! — пожимает старик плечами.
— Пятнадцать тысяч наличными!
— Но одна нога короче, — вмешивается молодой с печальной улыбкой.
— Еле заметно! — говорит сват. — Но всё же короче!
— Ну, — говорит старик, — невеста ведь не чулки! В лупу её не рассматривают!..
ЛУНА РАССКАЗАЛА
Устав глядеть на белый мрамор, ярко освещённые парадные улицы, я отвернулась и заглянула в один из окраинных переулков.
Из перекошенной хибарки вышел босой, плохо одетый мальчуган. Лохмотья еле держались на нём. Из полуразвалившегося домика напротив вышел другой мальчуган.
Не успели они подойти друг к другу, как я уже не могла различить, кто из них из какого дома. Оба истощённые, оба с пылающими глазками, оба дрожат от холода, а может быть, и от голода.
Слышу — говорят:
— Готов?
— А ты?
— Тоже!
— Ты ел?
— Нет... Отец не принёс.
— А мой болен. Мать плачет...
— Пойдём?
— Лучше побежим... Холодно...
— Давай!
Они летят стремглав по направлению к городу.
Слежу за ними.
У одного из самых красивых домов города они остановились.
— Смотри! Это дом моего дяди! — с гордостью заявил один.
Другой указал на такой же дом на другой стороне улицы:
— А это дом моего дяди!
— Моему дяде привезли арабского жеребца за шестнадцать тысяч!
— Ay моего есть карета и четвёрка рысаков. Настоя щие львы!
— У моего, может, тысяча деревень!
— А у моего, может, сто городов!
— Глупец! У моего дяди вся мебель золотая!
— Осёл! У моего она вся бриллиантовая!
— А у моей тёти такие духи, что в носу щекочет!
— Подумаешь! Моя тётя каждый день ходит в театр!
— А мой дядя каждую ночь играет в карты! Ага! Они долго препирались, до того, что чуть не вцепились
друг другу в волосы.
Один из них всё же вскоре отстал.
— Холодно, — сказал он, весь дрожа.
— А я страшно голоден, — сказал второй, — так и ноет! Позвони к твоему дяде...
— Что ты? — испуганно ответил тот. — Он приказал швейцару ноги мне перебить, если я зайду...
— Мой дядя тоже! — повторил другой. Оба они печально опустили головы.
— Пойдём?
— Лучше побежим... И по дороге:
— Завтра ночью опять...
— Да... побежим. Я подам знак... Запою петухом.
— А я в ответ замяукаю кошкой.
— Хорошо.... Оба исчезают.
БЛАГОЧЕСТИВЫЙ КОТ
Три певчих птички перебывали в доме, и всех их, одну за другой, прикончил кот.
Это был не (простой, не заурядный кот. Он имел возвышенную, богобоязненную душу, ходил в беленькой шубке, и в глазах его отсвечивало само голубое небо.
Это был поистине благочестивый кот. Десять раз на день совершал он омовения, а трапезы свои он справлял скромненько и тихо, где-нибудь в сторонке, в уголку...
В течение дня он перекусывал чем приходилось, довольствовался чем-нибудь молочным. И только когда наступала ночь, он разрешал себе мясную пищу — кусочек мышиного мяса.
Ел он не торопясь, без жадности, не так, как едят обжоры. Он ел медленно, скромненько, почти играючи. Он не спешил. Пусть себе мышонок поживёт ещё секунду, ещё секунду, пусть себе ещё побегает, потрепещет, пусть исповедуется в грехах. Благочестивый кот никогда не спешит.
Когда принесли в дом первую певчую птичку, кот тотчас же проникся к ней глубокой жалостью.
— Такая красивая, милая, крошечная пташка, и не удостоится царствия небесного! — стонал он.
Да и как может она удостоиться царствия небесного?
Во-первых, она совершает обряд омовения по-немецки, ко-новомодному, купаясь всем тельцем в чашке с водой.
Во-вторых, как только её посадили в клетку, она тотчас же взъерепенилась... Хоть она и юная и нежная, а наверное уже больше думает о динамите, чем о религиозно-нравственном чтении,
И, наконец, это пение, это дерзкое, разгульное пение, да ещё с присвистываньем. А эти смелые, открытые взгляды прямо в небо; эти бунтовщические попытки вырваться из клетки; эти порывы к грешному миру, к вольному воздуху, к открытому окну!
Случалось ли хоть когда-нибудь, чтобы кота сажали в клетку? Слышал ли кто, чтобы кот когда-нибудь насвистывал песню, да ещё так дерзко, так бесшабашно?..
«А жалко, — плачет благочестивое сердце в груди благочестивого кота. — Ведь всё-таки живое существо, наделённое душой, божественной искрой!»
У кота набегают слёзы на глаза.
«И всё несчастье в том, — размышляет он, — что грешное тельце так прекрасно. Поэтому для птички мирские удовольствия так притягательны, поэтому и дух зла в её сердце так силён.
Да и как может устоять против ужасного и сильного духа зла такая крошечная, такая приятная пташечка?
И чем дольше она живёт на свете, тем больше она грешит, тем страшнее наказание, которое ждёт её на том свете...»
А-а-а!
В душе благочестивого кота сразу вспыхнул священный огонь. Кот вскочил на стол, где стояла клетка с птичкой; и...
По комнате уже летят пёрышки...
Кота побили. Побои он принял смиренно. Он набожно простонал, плаксиво промяукал исповедь...
Больше грешить он уже не будет.
Кот понял, за что его побили. Побили его за то, что он засорил комнату перьями и оставил на скатерти кровавые пятна.
Да, подобные приговоры надо выполнять чисто, тихо и благочестиво, так, чтобы ни одно пёрышко никуда не залетело, чтобы ни одна капля крови не была пролита.
И когда купили и принесли в дом вторую певчую птичку, кот задушил её уже тихо и осторожно и проглотил вместе с перьями.
Кота секли.
И только теперь кот, наконец, понял, что главная суть не в раскиданных перьях и не в кровавых пятнах на скатерти, а в чем-то совершенно другом.
Тайна заключается в том, — поиял кот, — что нельзя убивать, что следует любить и прощать, что не казнями и мучениями можно исправить грешные души.
Надо обращать на путь истинный, поучать, говорить к сердцу.
Покаявшаяся канарейка может достигнуть таких высоких ступеней благочестия, до которых не добраться самому благочестивейшему коту...
И чувствует кот, что в его груди сердце трепещет от радости. Покончено со старыми жестокими временами! Покончено с кровопролитием!
Милосердия, милосердия и ещё раз милосердия!
И с чувством глубокой жалости и милосердия приблизился кот к третьей канарейке.
— Не бойся меня, — говорил он ей таким мягким голосом, какой вряд ли исходил ещё когда-нибудь из кошачьего горла. — Ты грешна, но я не причиню тебе никакого зла, потому что я жалею тебя.
Я даже клетки твоей не открою, даже не прикоснусь к тебе.
Ты молчишь? Хорошо, пташечка. 4eMi петь разгульные песни, лучше молчать.
Ты трепещешь? Ещё лучше. Трепещи, трепещи, дитя моё, но не предо мною, а перед всевышним.
И если бы ты осталась такою навеки — молчаливой, скромной и трепещущей!..
Я помогу тебе трепетать. Я дохну на тебя смирением и благочестием!. И с моим дыханием! пусть проникнет вера в твою душу, богобоязнь во всё твоё существо, покаяние в сердечко твоё...
И чувствует кот, как хорошо, как приятно прощать, как хорошо и радостно дышать на другого своим благочестием. И растёт и ширится благочестивейшее сердце в груди благочестивейшего кота.
...Но канарейка не может жить в атмосфере кошачьего дыхания.
Она задохлась...
СТЕКЛЯШКА
Жил-был в заброшенном местечке в захолустьи золотых дел мастер, ювелир. И был этот ювелир замечательным искусником в своём деле, золотые руки имел, в своём ремесле виртуозом был. О мастерстве его никто и не догадывался: ни сам он, «и его заказчики. Сидел это он и изготовлял разные украшения для обывателей местечка: серёжки, перстни, обручальные кольца и ещё всякую всячину, — едва ему на жизнь хватало!..
Прославился он не сразу и совсем случайно. Довелось как-то жителю того местечка выдать дочь свою замуж на сторону, за городского богача. Отправились в город свадьбу справлять, и изделия золотых дел мастера попали, таким образом, повыше. Богач этот кое-что смыслил в драгоценностях, ведь как-никак он купец, видел свет; залюбовался он ими: «ах-ах!» И пошла о золотых дел мастере слава в том городе. Стал он оттуда заказы получать, а со временем и вовсе перебрался в город: уж очень у него много заказчиков появилось...
Ну ладно! И вот к одному из городских богачей приехал как-то помещик, — по торговым ли делам, по случаю ли какого-то семейного торжества, или просто так — на субботу, фаршированной рыбы отведать. Стол сервирован, семья разнаряжена... Помещик, разумеется, ещё лучше разбирается в драгоценностях. Вошёл он, и сразу же бросилась ему в глаза какая-то брошь.
— Где куплена? Кто делал?
И про золотых дел мастера узнали уже и в помещичьих кругах...
Как известно1, каждый губернатор устраивает ежегодно бал для губернской знати. Так уж заведено. Устроил такой бал и губернатор этой губернии. Съехались помещики, их жёны, дочери; щеголяют в украшениях, изготовленных 238
нашим золотых дел мастером. Увидал губернатор кольца, брошки, ожерелья и поразился: в жизни не видал он ещё такой работы.
— Чья это работа?
— Такого-то и такого.
— Вот как?..
На следующий же день послал он за золотых дел мастером — и тот сразу же стал своим человеком в доме губернатора...
Прибыл как-то для обследования губернии очень важный царский сановник. Надо его, разумеется, встретить, как и подобает, хлебом-солыо да на подносе. Кто изготовит поднос? Понятно, наш золотых дел мастер. Попал этот поднос в столицу. И пошла о нём слава по всей столице...
А тут произошла такая история: скончался старый царь. На престол вступил новый. Старую корону отправили в царскую кладовую и приступили к изготовлению новой короны для нового царя. Со всей страны собрали лучших ювелиров и золотых дел мастеров и среди прочих — также нашего. Тот явился, принял самое горячее участие в работе и отличился тут наилучшим образом-
Словом, «из грязи — да в князи!»
Итак, наш золотых дел мастер живёт уже в столице, вхож в царский дворец. Он, простой смертный, становится одним из царских приближённых. Даже не всякий сановник имеет к нему доступ...
Но, как известно, колесо фортуны вращается — и когда выше уже нельзя подняться (ибо что может быть выше такого золотых дел мастера!), начинается падение...
От роскошной жизни наш мастер уж ничего нового не создавал. А старое примелькается глазу и надоест, — сердце же всегда жаждет чего-то нового. И вот объявился где-то новый мастер, и, как это уж водится на свете, один падает, другой подымается.
Новый мастер проделал такой же путь, как и старый, и, наоборот, наш старый золотых дел мастер свершил тот же путь в обратном направлении: из столицы в губернский город, из губернского города в уездный, из уездного в местечко, к себе домой.
От царя, значит, к царскому сановнику, от царского сановника к губернатору, от губернатора к помещику, затем к богачу и, наконец, к жителю маленького местечка... Обратно к обручальным кольцам...
Ниже падать некуда! Бедняки в драгоценных изделиях не нуждаются. Ну, и повиснешь в воздухе, высунув язык!..
Да и времена уж больно плохие настали: свадеб не справляют, а конкуренция растёт...
Ну, и что ж! Когда нужда — и лебеда еда! И вот как-то раз, когда уж очень крепко прижал голод, наш золотых дел мастер, болтаясь без дела, поднял на улице кусок стекла от разбитой бутылки — из-под воды ли, из-под вина, или, быть может, из-под лекарства, — кто знает? — ну, в общем, кусок самого простого стекла; отнёс его домой и давай шлифовать. Шлифует это он, а стёклышко под руками вдруг как заблестит, как засверкает!.. Колдовство, да и только! Переливается оно всеми цветами радуги, излучает сияние. Он и сам поражён — совсем не знал, какая у него в руках сила. Взял он это стёклышко, вправил в ка-кой-то завалящийся обручик, который с трудом откопал, и отправился «надувать народ»...
Идёт это он, а сердце стучит, как у разбойника. Попался ему тут навстречу молодой человек, — лицо у него пылает. А вдруг — жених, мелькало у него, и ему колечко нужно. Золотых дел мастер остановил человека. Да, почти угадал: обручального кольца ему, правда, не надо, но вообще подарок для невесты очень кстати, — что ж, пусть будет колечко! И как только стёклышко сверкнуло перед глазами, молодой человек ирипал к нему и спрашивает:
— Сколько стоит?
У золотых дел мастера не хватило смелости сказать цену, «не обманщик он по природе», — ответил вопросом:
— Сколько дадите?
Молодой человек подумал: вряд ли товар ему по карману, но вынул монету и говорит в шутку:
— Талер.
Зажал ему золотых дел мастер колечко в левую руку, вырвал м;онету из правой и давай в трактир — червячка заморить...
Молодой человек подумал: сумасшедший, наверно! Впрочем, какое ему дело! — и направился с колечком к девушке, к которой сватался...
Но женщины легкомысленны; у девушки, к которой он
сватался, было два жениха: один — он, из состоятельной семьи, с долей наследства в родительском доме, другой — гусар (в местечке была расквартирована кавалерия) — с кивером, саблей, аксельбантами и такой, знаете, молодцеватой выправкой на коне. Выбор ужасно трудный. В частности, гусар: сегодня он здесь, а завтра — поминай, как звали!.. Вот она и раздумывала всё...
А тут пришёл молодой человек; она его приветливо приняла, особенно — колечко: оно прост очаровательно!.. Беседуют, смеются, как полагается...
Но время не стоит. Наступил вечер, и с базарной площади, с гусарской вахты, донёсся звук трубы, ударил барабан — заиграли зорю...
Наша девица вспомнила тут про того, другого, — сделалась неспокойной и всё твердит: «Поздно, поздно! Ещё, не дай бог, оговорят!» Подставила ему, чтоб поскорей отделаться, свой ротик и быстренько выпроноднлл на дверь...
И в самый раз! Только успел молодой человек пересечь переулок, завернуть за угол, — «топ-топ-топ»: с другой стороны — всадник! Вот он уже у забора, соскакинлет с коня, привязывает его к частоколу; вот уже па ступеньках слышен звон сабли и шпор; распахивается днерь...
Долго ли, коротко ли — -за ночь «подарок непесге» превратился в «подарок жениху»... С трудом напялил он его на кончик мизинца!..
На этом однако сказка не кончается. «Прижми,ш гу» суждено было нечто большее...
Занялась заря, чуть алеет восток... Лошадка неё стук копытом оземь в грязном переулочке, imikto, однако, не слышит её...
Вдруг в отдалённой тишине звук рожка — Играют «тревогу». Ночью неожиданно прибыл какой-то важный генерал. Гусаров поднимают на ноги и сзыкают на учебный плац...
«Будет смотр тра-ра-ра!» Мой герои с колечком вскочил, хочет бежать. Нелегко, однако, рыбке выскользнуть из сети!.. «Она» закидывает ему на шею свои белые ручки, он их разнимает. Тогда она бежит и прячет его кивер и саблю... И ещё раз прощаются они, и ещё раз... С большим трудом вырвался!
«Трап-трап-трап!» — со ступенек. Скок — . на голодного, но повеселевшего коня. И паф! — стрелою на плац. Рота уже вся на месте и «под козырёк». Эскадронный не спускает с него глаз и вот-вот откроет рот для «благословения»...
И вдруг перед глазами командира сверкнуло что-то. Лицо его налилось кровью, сорвал у гусара колечко с пальца:
— Украл?!
Тот лепечет: «Ваше... Так и так... Как можно... Такое подозрение... Боже упаси!..»
Как быть? Рассказывать, как было, он не может: не станет же он выдавать девушку из приличной семьи! И у него срывается: «Купил».
— За сколько? — строго допрашивает офицер.
«Скверно! — думает гусар, — должно же оно сколько-
нибудь стоить?» — И он произносит наугад:
— Двадцать талеров!
«Огромный капитал для гусара!» Офицер уже раскрывает рот для нового «благословения»... В эту минуту налетает белая лошадь, за ней — другие, — генералы чином пониже...
«Сам» кричит:
— Здорово, ребята!
Все эскадроны: «Здравия... ваш... ство... ство!..
Гром, гул, земля дрожит...
И тут же начинается смотр... И суждено же отличиться как раз эскадрону нашего героя: летели, точно на крыльях, скакали на конях, как черти, и в цель попадали — в самую точку... Получили гусары: «спасибо» и «на водку», а наш эскадронный был на месте произведён в полковники... Радость, веселье, пир на весь мир; гуляют, пыот месяц, два...
У нашего гусара тем временем вышел срок службы и, довольный, уволился он домой: ещё хорошо отделался! Из-за чего? Из-за какого-то дурацкого колечка, из-за опоздания!
А полк с его командиром вскоре вышел в лагери, в другой пород... И забыли бы все про колечко, если б не приключилось такое:
В полку как-то неожиданно начался падёж лошадей. Ну, что ж, жалко, понятно! Живые существа — дохнут, как мухи... Но у каждого есть враги и, в особенности, у офицера, который так быстро пошёл в гору. Нашёлся один — шлёт в правительство донос относительно фуража: дескать, овёс вовсе не овёс...
А дело было как раз накануне войны — строгости необычайные. И правительство направляет для ревизии очень 242
большого генерала. Нагрянул — и прямо в амбары. Осмотрел овёс, повёл носом и отправился в канцелярию. Срочно посылает за полковником. Тот явился, а генерал принимает его сидя, строго. Полковник всё время навытяжку и «под козырёк», коленки дрожат...
И тут снова «бриллиант» попутал...
Генерал покосил одним глазом, и в него молнией ударил «бриллиант». Вскочил тут с места да как зарычит диким зверем:
— Хабарник!
Так в нашей стране называли взяточников... И в самом деле, откуда у полковника из небогатой семьи такой крупный, такой дорогой бриллиант?..
Генерал срывает у него с пальца кольцо: он его приложит к акту.
— Сколько заплатили?
Видит полковник — дело серьёзное. Сказать правду он, конечно, не может, и у него срывается с языка:
— Тысячу талеров!
И когда прищурившийся недоверчиво генерал всё ещё не спускает с него глаз, полковник, для большей достоверности, добавляет:
— За тысячу и один я уступил бы вашему превосходительству.
И генерал склоняет голову и пишет.
Во-первых, он пишет рапорт в правительство, что овёс тут — чистый жемчуг... И во-вторых, — вексель на тысячу один талер... При первой оказии оплатит...
И уезжает обратно...
А сейчас произойдёт самое удивительное.
Неизвестно какими путями, но колечко очутилось в царском дворце.
Сидит как-то царица задумчивая, и с колен у неё падает носовой платочек. Поднимает его придворная дама, — молодая, недавно про/изведённая в фрейлины, красавица, — и возвращает его ей.
Царица чуть-чуть приподнимает бровь, собирается уже процедить благодарность, как и подобает царице: уже раскрывает ротик, — и с раскрытым! ртом! так и остаётся. В чём дело? Это опять «бриллиант», что в колечке у придворной дамы... Он буквально её околдовал! Она начинает, разглядывать его; нет, такого бриллианта она ещё не ви-16* 243
дала ни в царских кладовых, ни в коронах!.. И она спрашивает:
— Откуда у тебя бриллиант?
Придворная дама делается красной, мертвеет, дрожит, и ни слова.
Значит, что-то есть?... А немножко ревнивы бывают и царицы! Кто же, как не государь, может себе позволить делать такие подарки?.. Она подымается, входит в кабинет к царю и показывает ему колечко, — она хочет посмотреть, что он скажет...
Но царь решительно ничего не знает!.. А бриллиантом он очарован — такого яркого, чистого бриллианта он ещё не видывал и такого крупного, и без малейшего изъяна... Он уставился в него и не может досыта налюбоваться...
Тогда царица рассказала ему: так, мол, и так, колечко было у такой-то фрейлины... Царь сказал, что ему дела нет, откуда оно взялось, — мало ли что там при дворе происходит! — но бриллиант этот никому не подходит, только государю... Фрейлине он, конечно, возместит стоимость его...
И колечко осталось у государя.
Тут же взяли колечко, выгравировали на нём царское имя и государственный герб, и кольцо это отныне — царская печать. Царь скрепляет им бумаги, касающиеся денежных операций, вопросов жизни и смерти подданных, вопросов политики. Тот, у кого кольцо хоть на мгновенье окажется на пальце, в силах свет перевернуть: получает право уничтожать и убивать, когда и кого захочет; заковать в кандалы и бросить в темницу...
А для того, чтобы вознаградить придворную даму за кольцо, царь распорядился собрать специалистов-оценщиков, которые определили бы стоимость бриллианта...
Собрались специалисты, но никак не столкуются: кто говорит — треть, кто — половина, а кто — и целый миллион... Что делать? — Вспомнил тут царь про своего прежнего золотых дел мастера и отдал приказ: «Доставить!»
Что ж, доставить — так доставить...
А тот исчез. Наводят справки. Разыскивают месяц, два. Наконец находят. Шлют, как водится, в захолустье, в заброшенное местечко царский приказ.
Само* собою понятно, когда маленькое начальство из маленького местечка получает приказ — доставить такого-то золотых дел мастера к царю, — оно полагает: не иначе 244
тот когда-то обокрал царскую кладовую, и лишь теперь это обнаружилось... Заковывают молодца в кандалы и, избитого, полумёртвого от страха, отправляют к царю... Весь измучился, пока прибыл на место!
Дают знать царю: золотых дел мастер здесь, но...
Ему хотели доложить, что, дескать, снимают с золотых дел мастера цепи; но царь зол — он получил дурные вести с фронта:
— Без никаких «но»!
Тогда золотых дел мастера ввели в том виде, в каком его доставили.
Царь даже не поглядел на него. Он протянул «бриллиант» и спрашивает:
— Какая стоимость?
— Никакая, — отвечает тот.
— Как так?
И сановники вслед:
— Как так? Царская печать — и... ничего не стоит?!
— Ведь самый крупный бриллиант н мире! — возмущаются другие.
А золотых дел мастер как ни в чём не бывало:
— Да это вовсе не бриллиант, — говорит он.
— То есть как? Другие же его оценивают в сотни тысяч?
— Мне лучше знать.
Тут уж царь забеспокоился и не своим голосом спрашивает:
— Поч-чему... лучше?
— Потому, — спокойно отвечает золотых дел мастер, — что я его собственными руками сделал...
И он собрался уж было рассказать, когда и каким образом, но... он не рассказал.
Его схватили и бросили в темницу.
И по праву!
Столько приговоров этим бриллиантом скреплено, столько поместий отобрано и роздано, столько людей возвышено, а ещё больше — брошено в темницы, заковано в кандалы, повешено, четвертовано!.. Приговоры действительны, таковыми они должны остаться и впредь! И царь прав и должен остаться правым и печать его — правильной!.. А если царская печать — есть царская печать, то ;; бриллиант — есть бриллиант...
Такое решение вынес первый министр.
В БОЛОТЕ
Было на свете болото.
Лежало оно, отмежеванное от всего мира, — от луга, где паслись коровы и пастушкй перебрасывались камешками, — высоким бурьяном и острыми колючками, а от воздуха жирным, лоснящимся слоем зелёной тины, которую ветер :разрывал когда-никогда, раз в год. И жили в этом болоте маленькие червячки, которые, как водится, пожирали ещё меньших.
Болото это было не очень длинное, не очень широкое и даже не глубокое. И если червячки не могли достать дна или добраться до края его, то это только из-за жирной, слизистой тины, из-за водорослей да гнилья в нём.
География болота поэтому ещё не изучена, она ещё в зачаточном состоянии. Зато самомнения у болота было хоть куда, а фантазии там, йод слоем тины у этого тёмного болотного царства, было ещё больше, и они оба беспрерывно ткали, ткали.
Со временем они соткали такое вот предание старины — подлинно сказание червяков...
«Это Великий океан, — болото это.
В «его впадают все четыре реки рая... Хидекл приносит с собой золото — это та тина, от которой зависит существование червей. Прочие Три реки несут с собой цветы — водоросли, среди которых они по праздникам играют в прятки; жемчуг — ракушки; и кораллы — разные там гнилушки...
Небосвод над Великим океаном — это зелёная оболочка — лоснящаяся ермолка, что над болотом. Это совсем особое небо, для их мира...
Попавшие сюда случайно кусочки яичной скорлупы играют здесь роль звёзд, а подгнивший подсолнечник для них — солнце
Камешки, которые пастушки случайно бросят в болото, вполне понятно, для них метеоры, которые небо сбрасывает на головы грешников... А когда их небо внезапно разверзлось и несколько лучей настоящего солнца обожгли мозги какому-то червяку, они почувствовали и поверили в существование ада...»
В общем, хорошо жилось в болоте, где каждый был Доволен собою и всеми. Тот, кто живёт в Великом океане, естественно, является рыбой, — и червяки называли друг друга: линями, щуками, а на могилах начертали обычно: «Крокодил», «Левиафан». «Плотва» считалась самым большим оскорблением, а за «Пескаря» не прощали даже в судный день. Пышным цветом процветали там астрономия, поэзия, философия... Кусочки яичной скорлупы считали до тех пор, пока не пришли к выводу, чго они неисчислимы.
Романтики воспевали сферы небесные па все лады. При этом патриотов они приравнивали к звёздам, звёзды — к очам женщины, женщин — к самим небесам, либо к геенне огненной. Подгнивший подсолнечник философия населила душами умерших праведников.
Короче говоря, всё было на месте! Жизнь тут переливалась всеми цветами радуги. Со временем был создан свод законов с сотнями комментариев; введены тысячи обрядов. И когда какому-либо червячку, бывало, вздумается что-либо изменить во всём этом, ему достаточно было представить себе, что скажет на это «свет», чтоб он покраснел от стыда, тут же раздумал и раскаялся...
Но... однажды разразилась катастрофа!
По болоту прошло стадо свиней.
Чудовищные копыта растоптали небо, размесили тину, раздробили кораллы, помяли цветы... Весь этот обособленный «мир» пришёл вдруг в запустенье и мрак...
Часть червяков спала в это время глубоко в тине (а червяки спят долго), они и спаслись... Когда они выбрались наверх, «небо» уже снова сошлось, заплыло... Но целые горсти раздавленных, придушенных и растоптанных червей валялись непогребенными, и они свидетельствовали о происшедшей катастрофе.
«Что тут произошло?» — спрашивали проспавшие червяки, разыскивая живое существо, которое рассказало бы им об этом столпотворении. Но не так просто пережить сотрясение небес. Кто не был Тогда раздавлен, умер от ис-
пуга, а кто не погиб от испуга, скончался от боли. Остальные сами покончили с собой... Без неба — какая жизнь!..
Один, правда, остался в живых. Но когда он им рассказал, что небо, которое они видят теперь, — иное, совсем иное, «только что с иголочки», а то, старое небо, растоптано дикими животными; когда он им сказал, что небо у червей не бывает вечным, что вечно только общее небо, — всё тут же догадались, что он сошёл с ума.
И с великим состраданием его связали и отправили в сумасшедший дом...
МНОГОЛИКИЙ
Однажды, — рассказывала мне моя бабушка, — объявился в наших местах Многоликий. Случилось это во владениях одного помещика, где она корчму арендовала — и потому-то она знала эту историю.
Откуда он взялся? — Неизвестно.
Одни говорят, что его мать была стряпухой и с дёжек его наскребла — поскрёбыш, прости господи!
Другие рассказывают по-другому: стоял на дворе под навесом ящик, куда вся дворня слипала всё, что ей нужно было сливать, собаки тоже... От того вырос гриб... Не собачий гриб, а... как бы это сказать, пу... разновидный...
Затем подул как-то ветерок, гриб снесло, он пополз и уже позднее поднялся в виде живого существа — и вот он — Многоликий...
Так или иначе, но по происхождению он из помещичьих владений!!
И удивительнейшим существом был этот Многоликий!
Без костей, из одной мякоти, а головка свободно вращалась на шее, как на хорошо смазанном шарнире. Сам он — ни с места, а головку поворачивает то на восток, то на запад, то на юг, то на север, куда хотите! И так как он каждому поддакивал, то он со всеми жил в ладах, ни от кого никогда не страдал, даже тогда, когда другие страдали...
Дерутся два петуха. Один кричит: «Кукерику!» — другой обязательно: «Кикерики!..» Многоликий не вмешивается. Но когда весь двор уже усыпан пухом и перьями и петухи уже валятся с ног — — он подходит и заявляет:
— Вы оба правы: синедрион говорит: «Кукерику!», а комментарий к нему: «Кикерики!..»
И оба петуха остаются врагами между собой, а ему — другом.
То был неспокойный двор. Собака норовила . укусить свинью за ухо, кошка фыркала на собаку; а орёл, с под-
стреленным крылом, мрачно расхаживал здесь, и от этого всех в пот бросало. Но Многоликий был со всеми в приятельских отношениях. Он держался то за правое, то за левое ухо, и свинья думала, что его тоже покусали. Собаке он нашёптывал: «Бр-р-р... все сплошь воры, одна только ты честная!» Затем он вскакивал на забор и вместе с кошкой умывался перед дождём...
Заметив внезапно орла, он делал грустное лицо и на одном глазу у него выступала слеза. «Да, брат, нехорошо подстреленному!» — вздыхал он. А орёл думал, что он тоже тоскует по высоким облакам, и уходил с поникшей головой, но со смягчённым сердцем: «Тоже, видно, пострадавший!..»
А когда никто не видел, он, бывало, заскочит к ослику в хлев и шепнёт ему на ухо: «А знаешь, Кант, мне уж тоже начинает не нравиться!..»
И на этом свете... тьфу! тьфу! — я имею в виду, помещичьи владенья — ему жилось совсем неплохо... Со всеми он был в ладах, со всеми дружил, от каждого ему кое-что перепадало... И у каждого в памяти из-за его поддакивания сохранился о нём кусочек доброго чувства. И хотя никто его не любил, его всё же приглашали: кто на завтрак, кто на обед. А он не брезговал ничем... И каждый с ним раскланивался, при этом удивлялся в душе: «Почему это он мне неприятен?..»
Но вечно не живёт ничто, даже Многоликий! Пришло и его время. И дух его занесло в пустыню, на сборный пункт, где души всех зверей, животных и птиц сходятся вместе, и ангел смерти их сортирует, расфасовывает и отправляет на тот свет...
Когда прибыл Многоликий, степь уже была покрыта отобранными партиями душ разных видов и родов, которые в последний раз пристально разглядывали друг друга. Они хотели и на том свете помнить, с какими диковинными существами им пришлось тут повстречаться. Птицы нетерпеливо переминались с ноги на ногу, у индюков за милю сверкали кроваво-красные гребни, тонким серебряным туманом повисали в высоте голуби, гордо держались в стороне орлы. Целая компания ослов сбилась в кучу и размышляла: что бы это на том свете за бурьян мог расти?.. 250
Ангел смерти уже взялся за свисток, чтобы подать знак к отлёту. Он уже даже поднял руку, чтобы каждому указать его путь. Но тут же рука его опустилась, забыт свисток: он заметил Многоликого.
— Ты кто такой? — спросил его ангел смерти, никогда ещё до. сих пор не видевший подобной твари.
Многоликий молчал. Он и сам не знал, кто он.
А у ангела смерти тысяча глаз, и каждым глазом он видит во Многоликом другое существо.
Не признает ли кто вновь прибывшего? — обратился он ко всем существам, расставленным для отлёта.
Но никто не отвечал-. Каждое существо видело в Многоликом какую-то1 ничтожную частицу себя, но так много чуждого в нём!..
Немного спустя ангел смерти вйялся вновь за свисток... Он даст сигнал, чтобы все улетели — каждая группа своим путём, а Многоликий пусть останется здесь в степи!
Тогда Многоликий испустил дикий вой, в котором слышались вопли всех видов зверей, животных и птиц. Он упал перед ангелом смерти на колени, целовал ему ноги:
— Где бросаешь ты меня, милосердный ангел?
Ангел смерти был тронут его слезами, но как поступить
с ним и сам не знал.
— При каждой звезде, — сказал он Многоликому, — у врат стоит ангел и ещё раз проверяет весь транспорт... Никуда тебя не впустят! А специального мира для Многоликих бог ещё не создал...
— Милосердный ангел, здесь оставаться я не хочу, не могу! Ведь я принадлежу по кусочку всем видам существ, — пусть каждое существо заберёт с собой свою долю.
— Верно! — сказал ангел, — быть посему!
И, когда каждое существо выдернуло у Многоликого свою частичку, у каждого оказалось по тонкому волоску. При первом ветерке волоски оторвались и повисли в воз-духе...
Со временем число Многоликих на свете возросло. Но всех их ждёт один конец...
В конце лета, когда увидишь — паутина висит в воздухе, знай: это волоски Многоликого...
Так мне рассказывала моя бабушка.
ВЕЧНЫЙ МИР В СТРАНЕ ГДЕТО
В сказочке рассказывается так о стране Гдето:
Стояла в стране Гдето большая высокая гора. На вершине горы орлы могучие гнездились, в её просторах широких ветры буйные резвились. Видела вершина постоянно-перед собой почти весь небосвод, что над страною Гдето; утро каждое любовалась она дивнейшим восходом солнца, что в стране Гдето...
И купалась вершина в прозрачнейшем, ярчайшем свете. Ведь она самая высокая гора в стране Гдето: ничто не заслонит ей солнца, ниоткуда не падёт на неё тень...
И могуча она, гора: скалы — её мускулы, медь и золото — её жилы... Знает об этом дикая коза, что. по ребру горы скачет...
Вот что рассказывалось в этой сказочке.
Услыхали матери сказочку эту, сложили колыбельную песенку и деток убаюкивали ею — песенкой о стране Где-то, о большой высокой горе, что в стране Гдето.
Но вот вырастет дитя и забудет песенку. В ученьи, в играх забывается она; забывается она в жизни: в любви, в страданьи, среди шума мирского...
Но где-то в затаённом уголке сердца всё ещё тихо дрожит струна, — и звенит там эта песенка, колыбельная песенка о вершине горы, что в стране Гдето. А жизнь плещется вокруг, клокочет, бурлит — и не слышно струны.
Проходят так годы, — годы...
И вот бывает так:
Ткёт юноша свою золотую нить жизни — протянется безжалостная рука судьбы и нить эту оборвёт. Уйдёт юноша из жизни в одиночество... И вдруг в этом тихом одиночестве ощутит: что-то трепещет у него там, в сердце,
что-то звенит в затасннеишем уголке его сердца. Остановится, вслушается...
Поёт юноша счастливую иесль любви на золотой арфе молодости. Услышит злая судьба, подползёт к нему, протянет костлявую, злую руку и оборвёт ему струну за струной. Замолкнет арфа, притихнет страшно сердце. И в наступившей тишине зазвенит вдруг колыбельная песенка — песенка о стране Гдето, о большой, высокой горе, что в стране Гдето...
А иной раз, в тихую лунную ночь, явится она кому-либо во сне, зазвенит вдруг у пето в ухе — и проснётся человек...
Бывает ещё так: .члдумас u-я человек, взгрустнётся ему вдруг — и потянет его и страну Гдето, к высокой горе, к большой горе, что в стране Гдето..
Влечёт страна Гдето, манит. И пойдёт бродить...
И во все времена, разными нугямп, со всех концов света тянутся и бредут люди в страту Гдето. .
Некоторым даже удаётся сё достичь.
Да, некоторые добираются до псе По одни про другого не знает. По разным дорогам идут они (" рапных концов света приходят. Друг с другом не встречаются...
Ткётся сказочка...
Из лунных лучей ткут её в тихие ночи, в лунные ночи...
И ещё повествует она:
У подножья высокой горы, что и стране Гдето, лежали земли вольные, тучные, чёрные; росли леса густые, дремучие; журчали ручьи, текли реки, окаймляя большую, высокую гору.
Прибывшие сюда странники, достигнув горы, что в стране Гдето, оседали вокруг неё, у её подножия.
Охотники шли потом в лес с луком и стрелой; рыбаки засиживались у ясного пруда с удочкой и сетью; ладил землепашец свой плуг; гнал пастух своё стадо на тучную лужайку. Возникали селенья.
Но велико и обширно подножье горы — селенье не видит селенья, не знает одно про другое.
И каждое создаёт для себя свой отдельный мир и затем устраивает этот свой «единственный» мир. Каждое
сотпоряет свою собственную святыню для бога «единого». И поклоняются владыке мира «единому».
И доживают свой век, и умирают, когда наступит пора — все согласно воле и закону бога «единого».
И молятся своему богу, и разговаривают на «едином» языке человеческом.
И работают, и плодятся, и размножаются; и взбираются шаг за шагом вверх по склону горы, желанной горы.
Медленно, с пшеницей, овсом и рожью, шагает землепашец; его — обгоняет виноградарь; выше, вслед за дикой козой, прыгает по камням и скалам пастух; за металлической жилой следует упорно горняк...
Но некоторые добираются ещё выше.
Это те, которые, при всём благополучии, успокоиться не могут.
Уж слишком мятущиеся у них души; слишком тоскуют они по высоте, по высочайшей высоте!
Ибо сильнее, чем у других, звенит у них в сердце песенка, колыбельная песенка. Отложат вот так в сторону лук и стрелы, удочку и сеть и уйдут из леса, от пруда; выпустят из рук косу и оселок, забудут про серп; оставят соху и бросят топор; покинут виноградник; заглядятся из глубины, где жила, на свет божий; оставят дикую козу на произвол и ползут вверх...
Влечёт вершина горы.
В каждом селеньи бывает такой тоскующий, в иных даже много их — они вот и тянутся вверх...
Тянутся.
И чем выше — всё тоньше и тоньше хребет горы. Во время блужданий, бывает, столкнутся.
А столкнутся...
Грустной тогда становится сказочка, грустной и страшной.
Тоскливые повести, кровавые битвы!..
Ткётся сказочка...
В каждом селеньи бывает тоскующий, а в иных даже много их...
По вершине тоскуют они...
По ветрам, по сильным; по орлам могучим; по широкому, вольному небу; по ясному, яркому свету; по чудесному солнечному восходу...
Влечёт вершина горы...
Поодиночке идут они. Межами полей шагают они. Из виноградных шатров выходят. По краям шахт скользят. Прыгают через камни и скалы, обгоняя дикую козу...
С тоскующими взорами, устремлёнными в высокую высь, бредут они; навострёнными ушами ловят они шумы высей — и, бывает, столкнутся-
Столкнутся — и испугаются...
И удивлённые, недоверчиво остановившись, разглядывают друг Друга.
Из разных концов пришли они, разными путями шли и по-разному одеты, неодинаково острижены, и по-разному покрыта их голова.
Приветствуя друг друга, заикаются:
— Мир вам!..
Каждый произносит это на споём языке, на своём «единственном» языке. По-чужому звучит но в ушах у другого — как-то жёстко, пе по-челонечодш, враждебно. Каждому кажется, что другой ему угрожает.
«Он меня оскорбляет, бранит».
И тут они приходят в столкновение:
— Если ты человек, ты должен верить в...
При этом называют имя бога, «единого бога».
На двух языках произносятся дна имени бога. И каждый думает о другом:
«Говорит он не по-человечески и к тому же в бога не верует...»
И готовятся к бою.
Перед битвой каждый призывает своего бога на помощь.
На разных языках говорят они. Разные имена называют. И думает каждый про себя: «Он издевается надо мной да ещё богохульствует!»
Или: «Он поклоняется другому богу, не настоящему богу, злому богу!»
Разгорается все сильнее ненависть, и они дерутся. Дерутся не на жизнь, а на смерть.
И один побеждает — один и его «единый» бог.
А побеждённый проклинает или благословляет своего бога и падает сражённым.
Катится тело побеждённого вниз по горе. И стелется кровавый след по горе, по склону, высокой, большой горы.
А победитель, вознесши благодарения своему богу на своём языке, взбирается снова всё выше и выше.
С каждым днём растёт число тех, которые тоскуют в селениях и, сталкиваясь там, на склоне горы, вступают в битву...
Растёт тоска, которая гонит всё выше и выше, растёт гнев против дикаря, встреченного на пути; против дикого животного, не верующего в бога, у которого не настоящий бог и который лепечет на каком-то нечеловеческом языке...
И с каждым разом всё выше поднимается человек с его гневом, а с человеком — всё выше распря и битвы...
С каждым разом битвы всё ближе к вершине горы...
И всё чаще и всё с большей выси катятся мёртвые тела побеждённых вниз по горе. И, цепляясь за острые камн ни и скалы, разбиваются в окровавленные куски. И всё чаще плещет там кровь, всё больше кровавит хребет горы, всё чаще струится она вниз по горе, вниз...
Трупы растерзанных богохульников, скатывающихся вниз, делают всё тучней и тучней землю у подножья горы; всё полней, благодатней колосья пшеницы и ржи; налиты и цветущи виноградные гроздья, слаще сок винограда; всё обильней трава под копытом у дикой козы, всё лучше и жирнее молоко, которое даёт она пастуху...
А тоскующие победители благодарят господа бога и взбираются всё выше и выше...
И повествует ещё сказочка:
Плодятся и множатся селенья у подножья горы. Растёт число тоскующих по высоте, увеличивается и количество поднимающихся ввысь...
Всё опасней и опаснее дорога ввысь — к могучим орлам и вольным ветрам, к восходу солнца и широким небесным просторам...
Всё больше диких, косноязычных богохульников там, на хребте.
И лезут уже туда вооружёнными. И всё чаще и чаще сталкиваются там вооружённые отряды. А при каждой встрече там битвы, и всё во имя бога, во имя бога «единого»...
И выходит пастух из шалаша, горняк — из своей ямы, из виноградника выбегает виноградарь, спешит землепашец 256
от своего плуга, рыбарь от берега пруда и охотник из дремучего леса... И все вооружены.
И всё чаще, ожесточённей битвы...
Гудит гора от беспрерывных боёв — от звона оружия, от битвенных возгласов и... от имени бога, которого призывают здесь на разных языках.
И грудами катятся вниз мёртвые тела, разбиваясь о камни и скалы. И реки кровавые текут вниз по горе, струя-ся и пенясь.
И с каждым разом» внизу всё тучнее земля; полнее колосья пшеницы, овса и ржи; слаще и пламенней вино; всё сытнее корм дикой козе там, среди камней и скал, всё жирнее и лучше её молоко...
Но вот однажды, так рассказывает сказочка, двое, разгорячённые борьбой, гоняясь друг за другом, очутились внезапно на самом гребне горы, и они утонули в море света — ярчайшего, прозрачнейшего света высей.
И сразу и неожиданно услыхали они друг друга и поняли; и каждый в другом человека признал; услыхал из уст его одно и то же имя божие, и бросились они друг другу в объятья.
И вслед за ними пришли и другие и выкупались в свете высей, а за ними ещё и ещё многие, — и все они стали говорить на единственно человеческом языке — языке — света, лучей...
И была радость!
Но внезапно донёсся до их ушей снизу шум битвы, гора наполнилась гулом сражений.
Внизу произошло то, что должно было произойти. Как наверху мятущиеся одинокие, так внизу селенья, в конце концов, столкнулись между собой.
Множились, плодились селенья, ширились, росли. И все уже, теснее становились просторные когда-то поля и вольные леса. И вот столкнулись — охотник с Охотником, землепашец с землепашцем, горняк с горняком под землёй.
— Чужестранцы пришли! Чужаки пашут нашу землю! Пришельцы удят рыбу в наших прудах! Косноязычные вгрызаются в нашу землю! Неверующие захватили наши виноградники! Поклонники фальшивых и злых богов забрали дикую козу!..
Так вопили там.
И вспыхнула в:о всех концах война... Тогда побратавшиеся на вершине поспешили вниз: — Тише! Долой оружие! Все тут равны! Есть один-единственный человеческий язык — язык света, лучей...
И это вот, рассказывает сказочка, было началом... Началом вечного мира...
Вечного мира в стране Гдето, у подножья большой, высокой горы...
И вот сказочка лучится, сказочка улыбается...
Будто взошедшая на востоке заря, что сияет с вершины, высокой вершины большой горы в стране ГдеТо...
Она знает: будет создана песенка — колыбельная песенка, и будут её петь матери над любимейшим своим дитятей в колыбели...
И в маленьком детском сердечке, в прекрасном сердечке его будет звенеть эта песенка, и потом вырастет она в тоску...
Тоску по стране Гдет-о, по высокой, большой горе, что в стране Гдето, — по стране мира, с её единственным человеческим языком — языком света, лучей...
Прекрасная тоска! Чудесная тоска!..
ВРЕМЕНА МЕССИИ
Подобно всем еврейским городам и местечкам Галиции, и городок, где жили мои родители, имел своего сумасшедшего.
По обыкновению, сумасшедший никого не боялся: ни общества, ни рагшшпа, пи судей, ни банщика и могильщика, которых боится даже крупнейшие богачи. Зато весь городок, всё общество, сам банщик и могильщик с опаской относились к сумасшедшему. Перед ним наглухо закрывались все двери. Хотя бедняга никогда никого и словом не обидел, даже пальцем не тронул, все покрикивали на него, некоторые били, а мальчишки — те забрасывали его грязью и камнями.
Я всегда ж:икм1 этого несчастного. Меня что-то влекло к нему. Мне всегда хотелось с ним говорить, утешить его, приласкать, по подойти к нему было немыслимо. Мне досталась бы значительная доля тех комьев грязи, которые кидали в пего. Я был ребёнком; на мне был приличный костюм, привезённый ил Кракова, а может быть, из Лембер-га; я берёг себя от камней и платье от грязи, поэтому и держался в стороне.
Городок, в котором проживали мои родители, был крепостью. Был он окружён высокими стенами, за которыми — вал и ров с водой. Па стенах стояли пушки, и солдаты с ружьями охраняли их, строго и молча прохаживаясь взад и вперёд.
Едва нас/упала ночь, ворота все запирались, железный мост подымался, и связь между городком и остальным миром прерывалась до утра. У ворот выставлялась усиленная стража.
Вот только ещё полдень, мы все свободны и вольны в своих передвижениях, в городок можно входить и выходить, не спрашиваясь коменданта: можно купаться в реке за городом, лежать, растянувшись на лугу у речки, и смотреть в небо; никому до всего этого дела нет. Но наступает ночь, и городок затихает, никто уж теперь не выйдет и не войдёт. «Спасибо, — думалось мне, — что не воспрещено месяцу показываться на небосводе».
Покуда жить буду, не забуду тамошних сумерек. Вместе с вечерними тенями «а городок надвигается какой-то страх; люди и дома вдруг начинают пригибаться. Вот поднимают мост; железные цепи с визгом движутся по громадным блокам; их скрежет, их резкий отрывистый лязг пронизывают всего тебя, затем с грохотом закрываются ворота. Так каждый вечер. И каждый раз в это время у тебя нош дрожат, тупая усталость ложится на лица; глаза у людей тухнут, веки, как свинцом налитые, смыкаются, сердце замирает и тихо, тихо бьётся. Затем на улицах появляются патрули; длинные сабли стучат по камням мостовой, кивера блестят, и беспрерывно слышен крик: «Кто там?» Следует ответить: «Свой», иначе бог знает, что может произойти. Некоторые жители предпочитают на ночь заблаговременно запереться в домах, боятся в это время даже нос высунуть на улицу.
Однажды со мною произошёл такой случай. Я купался за городом. Загляделся ли я, задумался ли, или просто забыл, что за днём следует ночь, — но вдруг я увидел — поднимается мост; вот закрываются ворота; их стук резнул ухо, больно отозвался в сердце. Пропало! Придётся провести ночь под открытым небом... И удивительно: дома, лёжа в мягкой постели, я каждую ночь мечтал о раздолье за стенами крепости, а когда моя мечта, наконец, сбылась, я почувствовал лишь страх. Каждый шорох, каждая лёгкая тень рождала страх.
Я уткнулся лицом в песок.
Спал ли я тогда, или нет — право, не знаю! Но вдруг я услышал подле себя чьё-то дыхание. Вскочил — да, я не один, два хорошо знакомых мне, глубоких, чёрных глаза смотрят на меня добродушно и ласково.
Это был сумасшедший.
— Что ты здесь делаешь? -= спросил я глухо.
— Я никогда не ночую в городе, — ответил он печально, и его взгляд был так ласков, голос так добр, что я совершенно забыл о страхе.
Некогда сумасшедших считали провидцами, вспомни-
лось мне вдруг, на Востоке их до сих пор считают Таковыми. И я спросил себя: не пророк ли предо мною? Не мучают ли его за его божественный дар? Разве не кидают в него камнями, как в пророка? Не живёт ли в нём пророческая тоска по лучшим временам? А быть может, он действительно знает о грядущих временах?..
И начал я его расспрашивать, а он мне отвечать, да так тихо и ласково, что мне стало кала ться, что всё это — сон наяву, сон в летнюю ночь па просторе полей.
— Веришь ли ты в пришествие Мессии? — спросил я его.
— Конечно! — ответил оп тихо и твёрдо. — Спаситель мира должен притти. Он придёт! Все ждут его, даже небо и земля чают его пришествия. Если бы не это, никто бы и жить не желал, никто бы и палец о пялец не ударил. А ведь люди живут и хотят жить, следовательно, все чувствуют, что Мессия приближается, что он должен притти, что он уже в пути...
— Верно ли, — спросил я его, — что раньше произойдут кровавые войны из-за лжемессии? Люди будут душить друг друга, как дикие звери, вся земля насытится кровью; кровавые реки потекут с востока на запад и с юга на север; звери и птицы будут утолять свою жажду человеческой кровью; все пути и дороги, все поля и луга будут залиты потоками человеческой крови... И вот в это время явится истинный Мессия, спаситель мира... Правда ли это?
— Правда, правда!
— И его узнают?
— Всякий узнает его, никто не ошибётся. Его назначение будет сквозить в каждой улыбке его, в каждом слове, в каждом взгляде. Не будет рати вокруг него, не на коне предстанет он, и меча не будет в руке его...
— А как?
— Крылья будут у него... И у всех тогда явятся крылья. Вот как это случится: вдруг родится дитя с крыльями, за ним другое, третье и так дальше и дальше... Сначала люди испугаются крылатых детей, потом привыкнут, и встанет поколение крылатых людей, которое не пожелает больше валяться в грязи и драться из-за земляного червя...
И долго ещё говорил сумасшедший, но я перестал его понимать. Его голос, однако, был так сладостно мил, что я, как губка, впитывал в себя его звуки. Когда он замолк,
ужо светало, раскрывались крепостные ворота, опускался мост...
С этой ночи жизнь в крепости стала для меня ещё тягостней, ещё несносней. Старые стены и башни, визг и скрежет цепей о блоки, железные запоры ворот, караулы и патрули, хриплые сердитые окрики «Кто там?» и лживые заискивающие ответы «Свой»; трусливые лица, испуганные нолупотухшие глаза, базар с пугливо блуждающими ленивыми тенями на нём — всё это свинцовым грузом ложилось на душу... Меня охватила печаль, мной овладела глубокая тоска, и я решил отправиться навстречу грядущему Мессии.
Я сел на первую попавшуюся подводу. Возница, обернувшись ко мне, спросил:
— Куда прикажете?
— Куда хочешь! Лишь бы подальше отсюда!
— Сколько часов?
— Пока лошадь в силах везти!
Возница тронул вожжи, и мы поехали.
И вот едем, едем: уже иные поля, другие леса, другие деревни, города, но разница между ними чисто внешняя; внутри всё то же. Везде та же грусть, тот же пугливый и лживый человеческий взгляд, тот же дрожащий, трусливый голос... На всём печальный туман, заволакивающий есякий светлый луч. Везде то же стремление съёжиться, стать меньше, незаметнее. И я всё продолжаю кричать вознице: «Дальше!» Но я зависим от возницы, а возница от коня. Конь требует корма, и мы вынуждены остановиться.
Вхожу в корчму. Большая комната, разделённая пополам старым занавесом. В половине, что ближе к дверям, за столом сидят трое мужчин. Они меня не замечают, но мне они хорошо видны. Предо мною три поколения. Старший сед, как лунь, однако, он держится прямо и без очков читает большую книгу, лежащую перед ним на столе. Лицо его спокойно, глаза смотрят уверенно.
Направо от него сидит мужчина помоложе, повидимо-му, его сын; весьма похож на него. Но лицо у него подвижнее, нервнее, минутами оно кажется более усталым. И этот читает книгу, но при помощи очков; книга поменьше размером!, и он её держит ближе к глазам!, опершись рукою о стол. Он средних лет; борода и голова у него только 262
тронуты сединой. Время от времени он смотрит на отца, но старец его не замечает.
Налево от старца сидит самый младший, вероятно внук — молодой человек с чёрными, блестящими волосами и горящим, рассеянным взглядом. Он тоже смотрит в книгу, но книга мала, и он держит её совсем близко к глазам. Весьма часто он её вовсе отодвигает. Со страхом, смешанным с глубоким уважением, взглянет он на старца, бросит слегка иронический взгляд на отца и прислушивается к тому, что происходит за занавесом. Оттуда доносятся вздохи, точно там роженица...
Я хочу кашлянуть, чтобы обратить на себя внимание. Но в эту минуту занавес раздвинулся и показались две женщины: старушка с острым, костлявым лицом и суровым взглядом и другая, помоложе, с мягким, довольно полным лицом и ласковыми глазами. Они стоят, смотрят на мужчин и ждут. Старик их не замечает, он слился с книгой. Средний замечает, но раздумывает, как бы ему привлечь внимание отца. Младший сразу же вскакивает:
— Мама, бабушка, что, как?
Средний беспокойно поднимается с места, а старик только отодвигает книгу и поднимает глаза на женщин.
— Что с ней? — спрашивает молодой дрожащим голосом.
— Благополучно! — спокойно отвечает старуха.
— Благополучно, благополучно! — повторяет молодой.
— Мама, ты даже не поздравила! — замечает средний.
Старик подумал и спросил:
— Что случилось, девочка родилась, что ли?
— Нет! — ответила старуха, — мальчик...
— Мёртвый?
— Нет, живой... — отвечает старуха, но в голосе её не слышно радости.
— Урод? Калека?
— У него какие-то знаки на плечах...
— Какие знаки?
— Крыльев. Ясные следы крыльев.
— Крыльев?!.
Старик озабочен, его сын изумлён, только внук подпрыгнул от радости:
— Как хорошо! Пусть растут эти крылья, пусть они вырастут, большие, сильные крылья, как это хорошо!
— Чему же здесь радоваться? — удивляется средний.
— Ужасное уродство! — вздыхает старик.
— Почему? — опросил внук.
— Крылья, — отвечает строго старик, — подымают ввысь, с крыльями трудно удержаться на земле.
— Эка важность! — дерзнул заметить внук. — Что ж, не будет тогда человек прикреплён к месту, не будет барахтаться целый век в грязи, будет жить над землёю.. Разве небо не лучше, не красивее земли?
Старик даже побледнел, а средний сказал тут:
— Глупенький, чем жить в небесной выси? Одним воздухом сыт не будешь... Там корчмарём не станешь и в аренду ничего не снимешь... В облаках даже щетиной промышлять нельзя. Там...
Но старик прервал его.
— В выси, — сказал он твёрдым, как сталь, голосом, — нет ни синагог, ни молелен, ни книг; нет там ни дорог, ни тропинок, проложенных предками, и приходится блуждать, не зная истинного пути... Там чувствуешь себя, правда, вольной птицей, но горе вольной птице, если её одолеют мрачные мысли, охватят сомнения...
— Как так? — вскочил с места младший, и глаза его зажглись, и краска заиграла в лице.
Но ему не пришлось говорить, его прервала старушка-бабушка.
— Глупые мужчины! — сказала она. — Нашли о чем спорить... А раввин? Разве он разрешит произвести над ним обрезание, разве он позволит приобщить к еврейству крылатого ребёнка?..
Я вскочил. Моя ночёвка за городом, поездка и дитя со знаками крыльев — всё было лишь сном.
СЛОВНИК
еврейских и гебраистских слов, встречающихся в книге
Алшох — книга комментариев к библии.
Арбаканфес — четырёхугольный кусок белой ткани, имеющий кисти из белой шерсти на концах (цицпг). Арбаканфес религиозные евреи носят под верхней одеждой.
Ахашвейрош (Ксеркс) — царь порч пдгкшй, 486 — 465 гг. до нашей эры. Фигурирует в библейском сказании о царице Эсфири.
Бар-мицво — тринадцатилетний нозраст, начало религиозного совершеннолетия.
Батлен — человек, ничего определённого не делающий; проводит всё время в синагоге за изучением талмуда или в пустых разговорах и в созерцании. Как ругательстно означает — никчёмный человек.
Волах — задушевный, весёлый или грустный мотив.
Гавдоло — молитва, которая читается по окончании субботнего дня.
Гаон — высший учёный авторитет, гений.
Гешайно-рабо — седьмой день осеннего праздника кущей. По представлению религиозных евреев, в этот день на небе подтверждается решение о том, что должно случиться с человеком в течение года.
Гой — иноверец, шовинистическое прозвище не-еврея.
Даян — помощник раввина.
Ермолка — бархатная или шёлковая феска, которую религиозные евреи носят постоянно дома и в синагоге.
Ешибот — высшая школа по подготовке раввинов, духовная семинария.
3огар — книга, о каббале.
Иомкипур — судный день, праздник всепрощения. В этот день бог судит мир и предопределяет участь всех людей на будущий год. Иомкипур религиозные евреи проводят сутки в молитвах и посте.
Итро — мидианитский священник, на дочери которого был женат Моисей-законодатель.
Каббала — религиозно-мистическая философия. Каббалисты — приверженцы каббалы.
Кав-гайошор — книга религиозных наставлений для женщин.
Кадиш — заупокойная молитва, которую сын читает по умершим родителям. Обозначает также — сын.
Капота — род одеяяия. Похожа на длинный сюртук.
Кидуш — молитва, которую религиозные евреи произносят в субботу и праздники над едой в начале трапезы, обыкновенно над бокалом вина.
Ковчег — шкаф, в котором хранятся в синагогах иаписанвые на пергаменте святки библии. Ковчег обыкновенно очень высок и помещается, кроме того, на особом возвышении.
Коген — первосвящешшк, на которого запрещено смотреть во время совершения им праздничного обряда благословения.
Кол-нидрей — молитва, читаемая в синагоге в начале вечерней службы в судный день.
Кошер, кошерное — разрешено для еды и употребления.
Кугл — еврейское праздничное — блюдо; вроде пудинга.
Лехаим — за здоровье.
Литвак — житель Литвы, литовский еврей; литовские евреи в большинстве были противниками хасидизма.
Маца — опреснок, лепёшка из неквашеного теста, которую евреи употребляют IB праздник пасхи вместо обыкновенного хлеба.
Мезу мен — три человека, участвующие в трапезе; произносят совместно потрапезную молитву.
Мелаве-малке — религиозная трапеза в субботу вечером, сопровождающаяся пением.
Меламед — учитель религиозной школы. Означает иногда неудачник, ограниченный человек.
Микве — бассейн для ритуальных омовений.
Минь ей — десять. Необходимое количество мужчин для совместного богослужения.
Мисяагдус — религиозное течение, борющееся с хасидизмом.
Миснагид — противник хасидизма.
Пардес — каббалистическая книга.
Пейсы — клок волос на висках у уха, который обычно отращивают себе религиозные евреи.
Пурим — еврейский религиозный праздник, связанный с легендой о чудесном спасении евреев от поголовного истребления. Главная заслуга в этом красавицы Эсфири, понравившейся персидскому царю Ахашвейрошу. В пурим религиозные евреи посылают друг другу подарки и угощения.
Пурим-шпил — народное представление на сюжет библейской легенды о царице Эсфири.
Рабби — раввин, духовное лицо.
Райское яблоко — плод из рода цитрусовых. В праздник кущей религиозные евреи во время богослужения держат в руках райское яблоко и пальмовую ветвь.
Реб — величительная приставка, вроде «господин».
Ребе — учитель, раввин.
Рошгашоно — праздник нового года, посол стая.
Симхас-тора — радость тори. Штампе последнего (девятого) дня праздника кущей.
Слихос — молитва прощения, читаемая религиозными евреями в синагоге на рассвете в неделю перед праздником новолетия и между иоволетием и судным днём.
Сойфер — писец свитков библии (на пергаменте).
Талес — молитвенное облачение для мужчин -большое белое покрывало с полосами по краям и кистями па четырёх концах.
Талмудтора — еврейская релнпю.иия школа для детей бедноты.
ТишебъОВ — девятый день месяца лба, когда, по легенде, был разрушен храм в Иерусалиме. Религиозные евреи в этот день постятся.
Тора — пятикнижие, библия.
Трефное, треф — запретно для еды и употребления.
Тфилн — филактерии, футлярчики, и которых находятся написанные иа пергаменте отрывки из библии. Религиозные евреи с тринадцатилетнего возраста одевают их в будни но время утренней молитвы, — один на левую руку, другой на голову.
Фрейлахс — весёлая песенка или таисц.
Хануке — праздник в ознаменование победы Маккавеев над сирийцами в 165 г. до кашей эры.
Xаяуке — лемлл — ханукальиый светильник.
Хасидизм — религиозно-сектантское движение среди евреев, возникшее в конце тридцатых годов восемнадцатого столетия. Хасид — приверженец хасидизма.
Хедер — начальная религиозная школа.
Цадик — праведник, хасидский раввин.
Цицис — кисти из белой шерсти на концах арбакавфеса.
Шадхв — сват.
Шмойно-ацерес — восьмой денВ праздника кущей.
Штраймл — обшитая мехом бархатная шапка, которую носят представители духовенства и вообще богатые религиозные евреи.
_________________
Распознавание текста — БК-МТГК.
|