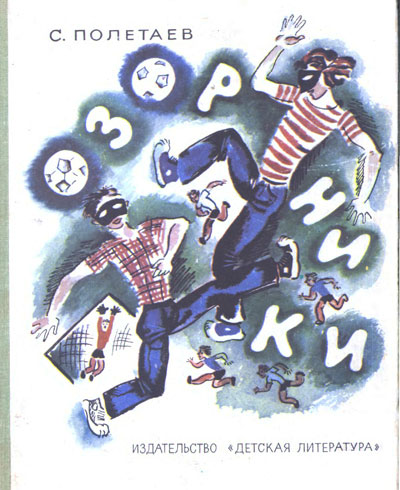Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
ОТ АВТОРА
Когда я начинал свою книгу и назвал её «Озорники», я думал только о подростках, о том возрасте, в котором главное — пробуждение самостоятельности, желание жить по-своему, никому не подчиняясь, радостно ощущая свои растущие силы и значительность. Но вот теперь, когда книга закончена, я увидел, как много места в ней захватили взрослые с их серьёзными спорами, сложными отношениями и даже любовью. Да и не только они, но и космические пришельцы, случайно залетевшие к нам в поисках живой и тёплой планеты, где можно было бы спастись от угрожающей им гибели.
Значит, подумал я, без предисловия не обойтись. И чтобы растолковать, как я понимаю книгу, написал с десяток страниц, а потом вдруг подумал: разве читатели сами не разберутся? А если даже разберутся не так, как я или кто-то другой, то разве такая уж беда? Ведь сколько голов, столько и умов. Главное в том, чтобы книга не оставила вас равнодушными. И чтобы возникли какие-то собственные мысли. И если уж есть что-то важное, на чем бы стоило всем сойтись, так это на том, что дети и взрослые — несколько разные миры. И что детство — не только подготовка к взрослой жизни, как думают иные взрослые. А взрослые существуют не только для того, чтобы детям что-то давать, как думают иные легкомысленные ребята. И что каждый период в жизни человека — великая ценность.
Эти вот мысли и вдохновляли меня, когда я писал свою книгу. И если ребята, для которых она написана, а также и взрослые, которым она случайно попадётся, станут понимать друг друга чуточку лучше, то что же ещё надо? Ничего больше и не надо.
Оглавление
РАЗВЕДЧИКИ КЛИАСТЫ Часть первая
Глава 1. ТРУДНЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ БРОНИ ХМЕЛЕВСКОЙ 5
Глава 2. НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРОФЕССОРА ШМЕЛЁВА 18
Глава 3. ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ВСЁ 40
Глава 4. СВИДЕТЕЛИ «СИНИСТРИОНА» 59
Глава 5. РАЗВЕДЧИКИ КЛИАСТЫ 70
УЗНАВАТЬ ЧЕЛОВЕКА Часть вторая
Глава 1. ВАЖНЫЕ ДЕЛА 109
Глава 2. СТРАСТИ-МОРДАСТИ 126
Глава 3. КОГДА КРИЧИТ ТАЙГА 148
Глава 4. УЗНАВАТЬ ЧЕЛОВЕКА 164
Глава 5. ЯВЛЕНИЕ ЧЕБУТЫКИНА 187
Глава 6. ПАН ДИРЕКТОР 205
Глава 7. КОСМИЧЕСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ 230
Глава 1 ТРУДНЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ БРОНИ ХМЕЛЕВСКОЙ
СУДЬЯ УДАЛЯЕТ СЕБЯ С ПОЛЯ
С тех пор как следопыты из лагеря «Рассвет», прочёсывая однажды лесные угодья, обнаружили лагерь «Огонёк», о существовании которого они не подозревали, возникла игра, получившая название «Лесные робинзоны». На игру уходил почти весь день. Даже обед ребятам привозили в лес. На просторной поляне команды обоих лагерей соревновались в тушении пожаров, лазании по деревьям, собирании лекарственных трав и разгадывании ботанических викторин. Но венцом лесной робинзонады был обычный футбольный матч.
На лесном стадионе к началу матча собрались на этот раз не только ребята, но и вожатые, воспитатели, уборщицы, прачки, шофёры — словом, все, кто был свободен от дежурств. Болельщики густо лежали у самых бровок футбольного поля, следя за мячом, подбадривая криками, хлопками и свистом своих игроков. Первый тайм не дал результата — счёт не был открыт. Зато во втором ровно через минуту после начала игры вратарь «Рассвета» вытащил из сетки мяч. А судившая встречу вожатая Броня Хмелевская, страшно волнуясь за свою команду, начала усердствовать, придираясь к малейшим нарушениям и карая за ошибки не столько чужих, сколько своих. Больше всего она боялась, что её обвинят в пристрастии к своей команде. За драку у ворот «Рассвета», возникшую явно по инициативе противников, она удалила с поля защитника собственной команды и не назначила замены. Неумолимое её судейство привело к полному падению морального духа команды, в результате — три пропущенных мяча. Броня металась по полю, кричала, стыдила, страдала за свою команду, но не щадила её. В конце концов она не вытерпела и в нарушение международных правил футбольной игры объявила трёхминутный перерыв.
— В чём дело, друзья? — спросила она, грозно поблёскивая очками. — Ваня, ты почему спишь, когда тебе пасуют? А где, Миляев, твоя хвалёная реакция? Неужели это ты — знаменитый бомбардир Разуваев? Я не узнаю вас, Мальчики! Придётся вам перестроиться, друзья. Ты, Оскар, пойдёшь в защиту, а в ворота стану я. Судить будет Стёпа.
— А может, позвать Рустема? — робко заикнулся кто-то.
— Обойдётся без него, — решительно сказала Броня.
Так произошёл единственный в истории футбола случай, когда судья своею властью сам встал в ворота. Неожиданная перетасовка вызвала оживление среди болельщиков, но никто не посмел оспорить решение судьи. Высокая, длинноногая вожатая спрятала косу за майку и встала в ворота, пригнув голову и уперев в бока кулаки. Она сумела на время поднять дух своей команды, и вскоре бомбардир Разуваев отквитал один мяч. Однако на большее игроков не хватило. Команда «Огонька», придя в себя от смущения перед необычным очкастым вратарём, в каких-нибудь пять минут забила два гола. Вдобавок, кинувшись на мяч, Броня в свалке раздавила очки. Дело шло к скандальному провалу. Среди зрителей поднялся ропот. И тогда Броня решилась на новую акцию, неизвестную в футболе. Невероятно, но факт — она удалила с поля себя. Она поняла, что во всём виновата сама и ей не место на футбольном поле. Но прежде чем уйти, она поставила в ворота Оскара Лютикова, дала ряд указаний судье Стёпе Шитикову и только после этого скрылась в подлеске. Там, спрятавшись в кустах, она разревелась, переживая своё поражение как крупную педагогическую катастрофу. Броня согласилась на судейство только по настоянию старшего вожатого лагеря Рустема. Он считал, что она может всё, потому что у неё блестящие организаторские способности, а в футболе главное — правильно расставить силы. Она же, дурочка, поверила ему. И сейчас расплачивалась за своё легковерие. А вообще-то она втайне даже презирала футбол. Если эта игра что-то и давала самим игрокам в смысле физического развития, то какая польза от неё громадным массам болельщиков с их исступлёнными криками, лишёнными всякого смысла? Особенно осуждала Броня в футболе дух местничества и нездорового ажиотажа: вопреки всякой логике, чувству справедливости и равенства надо обязательно переживать почему-то только за свою команду. А чем она лучше другой? Разве ребята из другой команды не такие же дети? Разве их разделяют какие-то враждебные интересы?
Рассуждая таким образом, Броня постепенно успокоилась и стала прислушиваться к крикам с футбольного поля. Кажется, судил сейчас Рустем. Ох, уж этот Рустем! Нет бы сразу взять на себя судейство (он был судьёй-разрядником), так надо было подвести её и команду.
Броня встала с земли и огляделась. Без очков было непривычно. Кустарники громоздились, не имея чётких очертаний. Теперь она думала о том, что, наверно, вот так видели мир художники-импрессионисты. Убирая подробности, искусство лучше и чётче передаёт уже не самую реальность, а отношение к ней творца, состояние художника. Броня мысленно зафиксировала эту мысль, чтобы потом, в свободное время, вернуться к ней и тщательно, со всех сторон обдумать. Она вытащила из кармана джинсов маленький блокнотик, шариковый стерженёк и записала: «Разбила очки. Искусство в жизни. Искусство и его возможности в педагогическом воздействии на ребят. Июль. Лето. «Лесные робинзоны». Я в роли вратаря. Не смешно».
Броня спрятала блокнотик и прислушалась к воплям с футбольного стадиона. Она глянула на часы — игра должна была кончиться. Неужели Рустем дал дополнительное время? Непонятно, отчего так шумят. Навстречу, неистово крича, мчались малыши.
— Ура! Наша взяла! Победа!
— Что случилось? Чья победа?
— Мы победили!
— Не может быть! — завопила Броня. — Неправда!
Она поймала малыша и стала целовать его.
— Они как взяли мяч, так и не отпускали! — восторженно кричал мальчишка.
— Кто — они?
— Люди.
— Какие люди?
Из бессвязного рассказа малышей Броня с трудом поняла, что какие-то ребята в масках и очках внезапно появились из лесу, сперва стояли и смотрели, а потом Рустем разрешил двоим из них играть за команду «Рассвета». И вот за каких-нибудь десять минут они забили в ворота «Огонька» семь мячей и исчезли, как только закончилась игра. Кто такие? Откуда? Одни решили, что это студенты, работавшие в строительной бригаде в соседнем колхозе. Другие утверждали, что это сельские ребята. А кто-то сказал, что это туристы-байдарочники, остановившиеся на привал. Так или иначе, именно гости решили исход встречи.
— Значит, из лесу? В масках? — переспросила Броня. — Странно
У Брони на их счёт были свои подозрения. Четыре дня назад она повела свой пятый отряд на экскурсию в лес и постыдно заблудилась. Выручили какие-то случайные люди — грибники, бродяги или работники лесничества, кто их там разберёт. Время от времени они вырастали у них за спиной и снова исчезали. Ребята так ничего и не поняли — ни того, что они заблудились, ни того, что эти мелькавшие в отдалении люди, от которых Броня инстинктивно уводила ребят, и пригнали их к лагерю, как стадо овец. До сих пор Броня передёргивалась, вспоминая ужас, который она пережила тогда. На неё напал обессиливающий страх, после которого долго ещё держалась в груди сосущая, холодная пустота. Что же удивительного, что о лесных людях она никому не рассказала? Так не эти ли молодчики отличились сегодня и на футбольном поле?
Все игроки и болельщики угощались возле походного буфета. Котлеты, компот, пирожки и конфеты раздавали без всяких ограничений. Бери сколько хочешь. Проигравшие могли есть и пить столько же, сколько и победившие, и даже больше. Броня не осталась на заключительное пиршество. Загадочные люди из леса усиленно занимали её воображение. Она поспешила в лагерь, чтобы проверить кое-какие возникшие у неё соображения
ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ
Дело в том, что неприятности начались не с футбольной встречи, а значительно раньше. Когда после завтрака Броня построила свой отряд, чтобы повести его на лесную поляну, где должны были проходить соревнования, одна из сестричек-близняшек Аля Тозыякова, заявила, что у неё болит живот. Она озабоченно поглядывала в сторону леса и на вопрос, что она могла съесть, не моргнув, сказала, что проглотила живого жука. Мало того, что проглотила, — жук будто бы ещё не умер. Аля даже показала рукой, где он находится. Это было бесцеремонное и наглое притворство, и Броня решила её проучить.
— Хорошо, — сказала Броня, — в таком случае, ты пойдёшь в изолятор, и врач назначит тебе диету.
Такое решение подсказывали Броне не познания в медицине, а исключительно педагогическая интуиция. Раз девочка решила притвориться больной, то и пусть терпит все последствия: не пойдёт на спортивные соревнования — раз, полежит в изоляторе — два, поголодает — три. Сама же себя и наказала.
Но Аля ничуть не огорчилась. Она вприпрыжку поскакала в изолятор, где в дверях, радостно улыбаясь, её дожидалась медицинская сестра Мария Осиповна, или попросту Маня, как все называли эту толстуху с волосатой родинкой на подбородке. Но дело этим не обошлось. Из строя без всякого спроса выскочила Алина сестричка Маля и тоже побежала в изолятор. Они всегда были неразлучны и даже болеть любили вместе. Весь отряд заволновался. Ещё несколько девочек попытались было увязаться за ними, но Броня водворила их на место.
Всё это случилось ещё утром. А когда Броня вернулась в лагерь после своего неудачного судейства, первой, кого она увидела, была Мария Осиповна.
— Не с вами шкодницы-то?
Бледная от волнения, Мария Осиповна повела Броню в изолятор. На кроватях валялись картонные коробки из-под лекарств, скомканные простыни и подушки.
— Прихожу, смотрю — спят. Отвернула одеяло у одной, чтобы не задохнулась, а тут вот Чудеса в решете!
Мария Осиповна расплакалась. Слёзы потекли по её толстым щекам.
— Прекратите! — строго сказала Броня, оглядывая её через единственное стекло очков. — Возьмите себя в руки и расскажите толком, что случилось.
Утирая слёзы, Мария Осиповна с пятое на десятое рассказала, как девочки провели её словно дурочку и удрали неизвестно куда. И где их искать? И что же это будет, если обо всём узнает начальница — так она называла жену начальника лагеря Ларису Ивановну, которая только ищет случая, чтобы насолить ей. Мария Осиповна уставилась на Броню как на спасительницу, но Броня вовсе не собиралась успокаивать её, и огорчённая толстуха продолжала причитать:
— Мне и в голову не пришло, что они обманывают меня. Лица ведь на ней не было, глаза закисшие, как простокваша, язык посмотрела — серый. Я и подумала, что жук ей показался по детской глупости, а болезнь-то всамделишная. Да и сестричка, глядя на неё, расхныкалась. Сказала им про строгую диету, а они давай шуметь: нет, говорят, так мы с голоду помрём
— И вы, значит, принесли им обед?
— Принесла, милая, принесла! И только удивилась, как быстро они управились с ним и ещё добавку попросили Где же искать их теперь?
— Это уж моя забота.
— Вот спасибо, голубушка! Приходи вечерком, я тебе польское косметическое молочко дам
— К вашему сведению, я не употребляю никакой косметики. Приберегите ваше польское молочко для Ларисы Ивановны, она не откажется.
— Ты уж начальнице не говори про беглянок
— Не хнычьте, как маленькая! И приведите себя в порядок. Посмотрите, на кого вы похожи. Причешитесь и смените халат. Какой вы пример подаёте ребятам, расхаживая в таком несвежем халате? Ведь вы не просто медсестра, мы здесь все воспитатели
— Верно, верно, милая, правду говоришь!
Мария Осиповна бросилась к Броне и обняла её в сердечном порыве. Броня подхватила упавшие очки и сдержанно отстранила её от себя.
КТО ЖЕ ИЗ НИХ АЛЯ, А КТО МАЛЯ?
Экскурсия, во время которой отряд чуть было не заблудился, неожиданный исход футбольной встречи, жук в животе — все эти не связанные, Казалось бы, обстоятельства вдруг выстроились в одну загадочную цепочку и требовали расследования. И Броня не стала откладывать дела в долгий ящик.
За ужином, обходя один столик за другим, Броня пристально вглядывалась в ребячьи глаза. По мере того, как она приближалась, шум прекращался. Она наслаждалась мыслью, что за короткое время добилась авторитета не только у малышей, но и у старших ребят и даже у вожатых и воспитателей. Однако сегодняшний день считать своим педагогическим триумфом не приходилось, это надо самокритично признать, особенно этот футбол. Впрочем, он дал. ей ценный жизненный опыт — не браться за дело, в котором мало что понимаешь.
Как и следовало ожидать, Аля и Маля никуда не пропали. Они сидели за столиком, болтали ногами и жадно ели, заглядывая друг другу в тарелки и торопясь, будто участвовали в конкурсе «кто скорее съест». Совершенно очевидно, что обед, который Мария Осиповна доставила им в изолятор, был куда-то отнесён. Броня остановилась возле девочек, сняла свои новые (запасные) очки, подышала на них, потёрла о локоть, надела и стала переводить глаза с одной на другую. Отец их — она уже успела узнать — был известный алтайский композитор, мать русская, преподавала в школе. Девочки были рослые, глаза узкие, горячие, волосы литые и блестящие. Броня любовалась их живыми, красивыми мордашками, стараясь определить, кто из них Аля, а кто Маля.
— Рядом с вами свободно? — спросила она.
— Бо-бодно? — переспросила одна из них с набитым ртом. Другая поперхнулась и сделала большие глаза.
— Садитесь, — сказала первая, прожевав. Рот её раскрылся в сияющей улыбке, зубы влажно блестели, девочка так и светилась счастьем, даже огляделась вокруг, чтобы убедиться, все ли видят, кто сидит за их столом.
— Я попрошу тебя, — сказала Броня, обращаясь к другой, не зная точно, кто из них Аля, а кто Маля, — я попрошу тебя, сходи на кухню и скажи, чтобы мне принесли ужин
И хотя она обратилась к одной, вскочили обе. Сбивая стулья, девочки бросились к кухонному окошку и вот уже торопились обратно, неся каждая по тарелке гречневой каши с молоком.
Однако которая из них Аля, а которая Маля? Во всяком случае, первая чуть бойчее, её нетрудно отличить: из-под пухлой губы торчит кривенький зубок, даже мешает губам сомкнуться. В ней что-то явно от мальчишки. Другая же скромнее и тише, зато сосредоточенней и наблюдательней. Видно, девочка догадывается, что Броня подсела к ним неспроста: может, уже знает, что они убегали от Марии Осиповны?
— Кому вторая порция?"— спросила Броня.
— Вам.
— Думаете, справлюсь?
— Справитесь! — заверила бойкая, которую Броня прозвала «кривозубиком».
— А ты как думаешь? — обратилась она к другой, молчаливой.
И та осветилась улыбкой, вдруг обнаружив такой же кривенький зубок и на щеках такие же озорные ямочки, как у сестры. Интересно, различает ли их родная мать?
— Значит, справлюсь, считаете? Сёстры дружно взмахнули косичками.
— Однако мне хватит и одной тарелки, — решительно сказала Броня. — Мне ведь никто не помогает. В животе никто у меня не живёт и есть не просит.
Девочки воровато переглянулись. Броня разделила кашу в две тарелки;
— Ешьте, — строго сказала она.
Сёстры послушно стали есть, не поднимая глаз.
«Пожалуй, на сегодня хватит, — решила Броня. — Я узнаю, кому вы таскаете обеды. А сейчас оставлю вас в покое. Главное — мера. В воспитании детей нельзя переступать границы».
Броня мысленно сделала запись в блокноте: «Аля и Маля. Взять этих, акселераток под особое наблюдение. Одна из них больше похожа на мальчика. Но вот которая? И не пугать их чрезмерной строгостью. Главное в педагогике — чувство меры». Записав это, она стала размышлять о влиянии личности воспитателя на ребёнка. «Строгость — да, но далеко ли уедешь на одной строгости? Только в комбинации с юмором и теплотой строгость может дать нужный эффект »
Броня поправила очки, заметив в гречневой каше что-то похожее на щепочку. Она сдвинула щепочку на сухой берег тарелки, незаметно сбросила вниз и продолжала есть как ни в чём не бывало. Она не обращала внимания на девочек и сделала вид, что не заметила, как сперва одна из них, доев кашу, тихонько выбралась из-за стола, а вслед за ней и другая, не успевшая доесть, — не могла же она задержаться и отстать от сестры.
«Ушли, не попрощавшись и не извинившись, — обиженно отметила Броня. — Но я ещё узнаю про ваши тайные свидания».
Броня оглядела тарелки девочек и подумала, что зря отдала им кашу,— она вполне бы справилась и со второй порцией. И с сожалением вздохнула, когда дежурная девочка не очень-то вежливо выдернула у неё из-под носа тарелку, свалила в неё остатки из двух других тарелок и унесла, оставив на столе тепловатый чай, который Броня всё же медленно выпила, заедая большими кусками хлеба. Она всегда много ест хлеба, просто неприлично много, но отчего же она такая худая? Ужасная обжора, если подумать, просто неловко так много есть на людях. Броня страдала, но ничего не могла с собою поделать. Оглянувшись но сторонам и убедившись, что никто не смотрит на неё, Броня вытащила блокнот и записала: «Педагог — человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Обратить внимание на чистоту и порядок на кухне. Дрова в каше —: безобразие. Повара — кто они? Они тоже воспитатели. Театр начинается с вешалки — применимо ли это к детскому коллективу? Какая же всё-таки связь между жуком и лесными людьми?»
В блокнот Броня заносила не только свои мысли, но и заметки на память, замечания, которые надо сделать тому или иному ребёнку, имена ребят и их внешние приметы, планы мероприятий на ближайшие дни. Это была её рабочая записная книжка, и таких рабочих книжек у неё накопилось несколько десятков, ибо туда же она записывала поразившие её мысли и высказывания педагогов, писателей, классиков марксизма-ленинизма, стихи разных поэтов, слова из песен, пословицы, поговорки, услышанные в разговорах, тексты песен, которые она считала нужным заучивать наизусть, хотя не любила массовых песен и предпочитала классическую музыку. Она учила наизусть пионерские песни, чтобы не отрываться от ребячьих масс, и тщательно проштудировала несколько выпусков «Спутника вожатого», с иронией относясь к разного рода прописным истинам, которые в них содержались, и не очень осуждала их авторов, которые довольно точно ориентировали свои наставления на средних вожатых — на тех, которые, как говорится, не хватают звёзд с неба. Она же, и в этом она не стеснялась признаваться себе, считала, что свою звезду должна, просто обязана схватить. Броня была человеком идеи, и она не пожалеет сил, чтобы сделаться большим, настоящим педагогом. Это была её мечта, которой она тайно посвящала стихи — впрочем, не очень высокого качества, что она ясно понимала.
Броня решительно встала и прошла к выходу, лавируя тонким телом между стульями. Она невольно оглянулась, ощутив на себе взгляд Рустема, который сидел среди ребят, обсуждая с ними итоги лесных соревнований. Он улыбнулся Броне, она автоматически улыбнулась ему в ответ и даже кивнула. Ей было приятно заметить в его улыбке какое-то скрытое сочувствие — оно относилось, несомненно, к её малоудачному судейству. Однако не слишком ли быстро и охотно она ответила ему улыбкой? И что это за вольности — пускать на футбольное поле каких-то парней, не имеющих никакого отношения к лагерю? «Надо владеть собой, —сказала она себе, — я слишком экспансивна. Это во мне не иначе как от сентиментальной мамочки, считающей, что если я расту без отца, единственный ребёнок, так меня надо баловать. И ещё от бабушки, которая во мне души не чает. И то, что я расту без отца, отражается на моём характере, слишком чувствительном. Надо бороться с этим, выжигать калёным железом. Калёным!»
Броня швырнула косу на грудь, чтобы Рустем не глазел на косу со спины. Очень уж эта коса занимала его. Она с раздражением подумала, что всё-таки кончится тем, что огорчит маму и бабушку и срежет косу, просто неприлично длинную, только подчёркивающую её худобу и неказистость. Достаточно с неё короткого вздёрнутого носа и слегка оттянутых нижних век — и так лупоглазое страшилище, а тут ещё тяжёлая коса — не коса, а змея, сползающая по спине
ПОЛУНОЧНИКИ
Мысли о матери и бабушке, о злополучной косе пронеслись в её голове и тут же вытеснились тревогой, которую внушали ей лесные люди. Нет ли какой-то связи между ними и тем обстоятельством, что в лагере во всякое время дня толкались сельские ребята, так что невозможно было отличить чужих от своих? Об этой бестолковщине она уже давно собиралась поговорить с Яковом Антоновичем и сделала запись в блокноте («Разговор с Я. А.»), как будто разговор уже действительно состоялся. Сегодня она была свободна от дежурства и до самой вечерней линейки караулила Якова Антоновича, который появлялся несколько раз, но каждый раз не один. После линейки он толковал с Рустемом, кого из ребят послать на колхозную стройку, где трудилась студенческая бригада. Они обсуждали возможные заработки ребят. Броня не одобряла меркантильный подход к детскому труду, но пока воздерживалась от оценки таких разговоров. В Якове Антоновиче надо было ещё разобраться. Заслуженный, опытный педагог, он вот уже третий год, как может уйти на пенсию, но его всё не отпускают — работник незаменимый.
Совсем затемно, когда лагерь затих и ребята укладывались спать, Яков Антонович прошёл в клуб. Прежде чем войти за ним туда, Броня обошла клуб с другой стороны и прильнула к окошку. В комнате светился телевизор. На диване сидели Яков Антонович и ещё какие-то люди. Броня войти не решилась, но и уйти не могла: кто же всё-таки полуночничает здесь? Экран телевизора вдруг вспыхнул, наполнив светом комнату, и Броня увидела длинногривого паренька, сидевшего рядом с Яковом Антоновичем, и другого, кудлатого, лежавшего на ковре. Спиною к ней, положив руку на плечо Рустему, сидел кто-то ещё. Слишком много загадок дал ей сегодняшни день, от них раскалывалась голова. Броня приподняла очки на лоб, крепко протёрла глаза и почувствовала сильную усталость. Тоже мне Шерлок Холмс, горько подумала она и пошла к себе в комнату, где жила вместе с Тинкой, студенткой, работавшей в лагере мойщицей посуды. Соседки, как водится, ещё не было, она раньше полуночи вообще не возвращалась, пропадая в селе, где у неё завёлся сердечный друг. Броня к этому привыкла и не ждала её, как в первые дни. Она сняла с себя свитер и джинсы, натянула ночную пижаму и нырнула в прохладные простыни. Придвинув к себе ночничок, она нащупала толстую общую тетрадь, прочла последнюю запись, стала припоминать, что следует ещё записать, но рука её с авторучкой упала, свесившись с постели. Последней её мыслью было, что Яков Антонович похож на Сирано де Бержерака. Крупным, тяжёлым своим носом в половину лица и живыми, яркими глазами
Глава 2
НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРОФЕССОРА ШМЕЛЁВА
НЕ К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ
В последние дни старики потеряли покой. Беда казалась непоправимой. А ведь, собственно говоря, ничего особенного не случилось. Внук их Бобка уехал с товарищем на лесной кордон, и только. Но это произошло впервые в его тринадцатилетней жизни, а старикам больше чем на день, на два никогда не приходилось разлучаться с ним. Вот они и приуныли. Вечно встрёпанный от фантастических идей и увлечений мальчишка занимал слишком много места в их стариковской жизни. Он всегда был на глазах, а сейчас исчез, и неизвестно, надолго ли. В жизни их образовалась гнетущая пустота. Теперь к ним не бегали его школьные приятели, не слышно было шумных споров и смеха, топота и возни. Никто не опустошал буфета от сластей, не выпускал из клеток попугайчиков, гоняясь за ними по комнатам, не включал телевизора, бурно обсуждая хоккейные матчи, не устраивал взрывов в Бобкиной лаборатории, и это казалось крушением мира. Особенно тяжко было бабке, Антонине Сергеевне, — она весь день дома оставалась одна, и сейчас ей не на кого было ворчать, не за кем прибирать, некого кормить. Мужу было проще — он работал в клинике, возвращался поздно, к тому же был беспечен и легкомыслен. Однако и он в последние дни стал тревожиться — приходил с работы пораньше, надеясь узнать новости, но по тому, как жена сурово встречала его, он понимал, что, увы, новостей ждут от него. Он заискивающе целовал ей руку, пропахшую кухней, приосанивался и шумно втягивал ноздрями воздух.
— Чем-то потчевать меня будешь сегодня?
— Что дам, то и съешь.
И хотя профессор был совершенно сыт, он оживлённо обсуждал предстоящую трапезу. Повязавшись салфеткой, он разглагольствовал за столом о соусах и пирожках, как чревоугодник, а жена его в белом переднике, седая и плотная, угрюмо сидела напротив, подливала ему в бокал апельсинового сока и строго допрашивала, как прошёл день, много ли больных, как чувствуют себя Валя, Костя, Надя, Вера, Мила, которых она не видела, но тем не менее считала своими знакомыми, потому что знала о них по его подробным рассказам. О чём угодно говорили они, одного не касались — Бобки.
Сын и невестка Шмелёвых работали вулканологами и вечно пропадали в экспедициях, изучая кратеры, извержения, раскалённую лаву и горячие газы. У них была своя квартира, но, возвращаясь из экспедиции, они любили с недельку пожить у родителей, «побаловать стариков», вернее самих себя, потому что Антонина Сергеевна, не очень-то ласковая на словах, умела угодить им, готовя немыслимой вкусноты пампушки с чесноком, вареники с вишней, медовые коврижки и ливерные пирожки. Сынишка их Бобка не расставался со стариками даже во время приезда родителей. Здесь, у деда с бабушкой, у него была налаженная жизнь, библиотека, своя лаборатория, и, когда после недельного пансиона у стариков отец и мать переезжали к себе на квартиру, Бобка не торопился перебраться к ним. Мать считала его избалованным ребёнком, в свои короткие пребывания дома она пыталась исправить его недостатки и с чрезмерной горячностью воспитывала его. Вот почему Бобка только изредка бегал к родителям в гости, но на ночь всегда возвращался к деду и бабушке. Он не понимал, почему это надо скромно молчать, когда разговаривают взрослые, вовремя ложиться спать, обязательно готовить домашние уроки, почему нельзя красить голубей масляной краской для статистического учёта и многое другое, без чего жизнь была бы бессодержательна и пуста. Он рос свободным и жизнерадостным человеком и не терпел, когда кто-то его притеснял. Даже если это и были его родители, которых он очень любил.
Профессор, всю жизнь имевший дело с детьми, нисколько не сомневался, что внук его, безусловно, человек незаурядный. Ещё в дошкольные годы Бобка увлекался биологией, ловил бабочек, мух и стрекоз, собирал птичьи яйца, перья и гнёзда, составлял коллекции и бегал на районную станцию юннатов. Но к семи годам Бобка переключился на астрономию. Он стал переписываться с академиком Амбарцумяном, завёл подзорную трубу, всё свободное время рылся в справочниках и энциклопедиях, пользовался, помимо домашней, библиотекой одного научно-исследовательского института, находившегося рядом. От пристрастия к книгам, от подзорной трубы, в которую по ночам рассматривал звёзды, у него образовалась лёгкая близорукость, к тому же он был сутул и большеголов. Всё это — сутулость, неизменная книга под мышкой, вечная возбуждённость, привычка много и громко разговаривать, речь его, несколько витиеватая и книжная, — выделяло его среди ребят, и это не могло не тревожить деда как педиатра, но вмешиваться в увлечения внука, тем более запрещать ему что-то, он не хотел и не мог, потому что высшей воспитательной мудростью считал терпимость. Дед не понуждал его заниматься и спортом, только пытался одно время увлечь его личным примером, начав по утрам делать зарядку. Как бы невзначай, он открывал дверь в комнату внука, добросовестно приседал, махал руками и прыгал через скакалку. На это нелепое занятие — долговязый, всклокоченный пляшущий старик — с укором поглядывала из кухни жена, но внук чаще всего продолжал лежать, закрывшись книжкой и делая в ней пометки. Шум и топот ему не мешали. Личный пример не действовал. Тогда профессор по вечерам стал включать телевизор и смотрел спортивные передачи, но даже и перед телевизором Бобка ухитрялся перелистывать книжку, если только передача не задевала каких-то его научных интересов. Его не волновали ни баскетбольная площадка, сооружённая во дворе, ни хоккей, в который ребята ухитрялись гонять даже летом, ни воспоминания дедушки о том, как в молодости он занимался альпинизмом и совершил несколько средней трудности восхождений в горах Дагестана. Мальчик рос вундеркиндом. Им заинтересовался даже один учёный-психолог, писавший работу о склонности к труду как факторе одарённости, и месяца два прожил у них в доме. Приходил рано утром, провожал Бобку в школу, гулял с ним после обеда и вёл беседы на разнообразные научные и житейские темы, а также исполнял роль подопытного кролика: Бобка проверял на нём, как человек может ориентироваться в барокамере (ею служил платяной шкаф), отрабатывал на нём гипнотические приёмы обезболивания (иглоукалыванием), а также обучал «тактильному» языку, который он изобретал на случай, если придётся вступать в контакты с космическими пришельцами.
Старики Шмелёвы привыкли к увлечениям внука, но все же были встревожены, когда Бобка однажды привёл к ним Васю Захарова, дворовую знаменитость, мрачного подростка с волосами до плеч, с красивыми и холодными глазами уверенного в себе человека.
— Мы едем с Василием в лес, — громко объявил он бабушке с порога. — Недели на две, а может, и больше, если понравится. У Василия там знакомый лесник. Дедушка об этом уже знает, я звонил ему в клинику.
Антонина Сергеевна опустилась на стул. Она скорбно поджала губы и молча слушала длинную речь внука в похвалу своему другу Василию. О том, что они друзья, она узнала впервые. Вася Захаров в это время рассматривал образцы вулканических пород, брал их с полок, подкидывал на ладони и делал вид, что собирается запустить в открытое окно. Бобка между тем шумно возмущался тем, что Василия отказались взять в лагерь, где он не раз бывал раньше, а если так, заявил Боб, то пусть пеняют на себя — Василий сам решил поехать на лесной кордон, там у него знакомый лесник, и захватить с собой его, Боба, а ему, Бобу, это как раз на руку, потому что в городе с телескопом нечего делать — испарения, выхлопные газы, дым абсолютно искажают видимость. Боб не жалел красок, расписывая добродетели Василия (Вася даже и ухом не повёл), и это для него, Боба, великая честь — поехать с ним на кордон. Разве можно упускать такую редкую возможность? Бабушка слушала внука, не выказывая ни радости, ни одобрения, и это его огорчило. А ведь дедушка очень обрадовался, когда Боб сообщил ему по телефону о своём решении. «Конечно, конечно, о чём разговор! Я рад за тебя», — сказал дедушка. Но если это бабушку огорчает, то что ж, Василий поедет один, без Боба, он всегда найдёт себе другого попутчика. И совсем упавшим голосом Боб добавил, что отъезд уже назначен на завтра.
И что же бабушка? Бабушка забрала у Васи вулканический образец, положила на место и тут же пошла к Васиной маме, которая работала в магазине, чтобы договориться с ней о продуктах на дорогу. Лилиана Титовна, одинокая, безмужняя женщина, встретила профессоршу не очень вежливо и на предложение купить что-нибудь из вещей для Васи обиженно фыркнула.
— Мы не бедные. Слава богу, живём не хуже других, — сказала она и взяла заботу о продуктах на себя.
Вещей и продуктов к отъезду накопилось очень много. Мальчикам пришлось бы тяжко, если бы не вмешался Вася. Он бесцеремонно сдвинул в сторону блюдца, чашки, выбросил наволочки, мочалки, носовые платки и прочие вещи сугубо домашнего обихода. И сказал при этом, невоспитанно хмыкнув:
— Насобирали барахла! Мы едем в лес, а не к тёще на блины
И вот с этим-то грубияном и укатил их нежный Бобка, никогда не разлучавшийся с родными, уехал неизвестно куда и зачем, и вот уже скоро две недели, как от него нет никаких вестей Нет, дальше так жить было нельзя. Профессор и не догадывался, какой удел готовится ему. Жена его была непреклонна в своих решениях
ПРОФЕССОР В РОЛИ ЗАЙЦА
По правде говоря, такой жертвы от жены, давно не отпускавшей его от себя, он не ожидал и втайне обрадовался, как мальчишка. Конечно, он не сомневался, что Бобка жив и здоров, но всё же самому съездить на кордон и лично убедиться в этом — о, это было заманчиво!
Так началась необычная командировка профессора, столь богатая приключениями, что рассказать о них стоит особо. Начать с того, что не успел Шмелёв разместить в вагоне свои вещи, осмотреться и затеять с соседями разговор о рыбалке (он поехал, снарядившись по-рыбацки, захватив с собой кое-какие рыболовные снасти из сыновних запасов), как все пассажиры внезапно затихли, повернув головы к концу вагона, откуда продвигалась группа молодых людей и две девушки. Пассажиры сразу же ушли в себя, в глупое ожидание, когда не знаешь, что готовит тебе судьба в обличье контролёров, даже если билеты при тебе и ты не ведаешь за собой никаких грехов. Профессор, сидя на скамье, возвышался над пассажирами и с некоторым даже любопытством смотрел на стайку безбилетников, не понимая, чем вызвано их оживление — молодые люди перебрасывались шуточками, девушки надменно молчали, чувствуя себя как бы случайно попавшими в их несерьёзную компанию. Заячья стайка прокатилась мимо. Профессор обернулся, чтобы проследить за их дальнейшим движением, крайне заинтригованный их беспечностью, как вдруг перед ним выросла фигура в форменной фуражке, под которой не сразу можно было распознать суровое женское лицо. Он с добродушным любопытством уставился на неё, желая о чём-то спросить.
— Вам что, папаша, особое приглашение?
— Вы меня? — удивился профессор.
— Билет предъявите.
— Пожалуйста, — пробормотал Шмелёв, вытаскивая и подавая ей кошелёк.
— Это зачем мне ваш кошелёк?
— Извините. — Профессор открыл кошелёк и достал оттуда кучку смятых автобусных билетов.
— Неудобно, папаша, в вашем возрасте. Железнодорожного билета не видели, что ли?
— Позвольте, а это что? — слегка повысив голос, спросил профессор.
— Это вы своей жене покажите.
— Ба! — Профессор хлопнул себя по лбу. — Мне и в самом деле жена положила его. Но разве не сюда?
— Об этом у неё и спросите, а сейчас пройдёмте
Профессор снял шляпу, вытер лоб платочком и растерянно уставился на грозную железнодорожную даму.
— Мне, любезная, не здесь выходить, а на Васюнинской.
— Доберёшься ещё, отец, до Васюнинской, а сейчас давай проходи, не задерживай
— Но позвольте! — запротестовал профессор. — Мне сходить на Васюнинской, и нигде больше сходить я не намерен
Тогда возле профессора выросли два дюжих добровольца, подняли его со скамьи и осторожно втиснули в толпу жизнерадостных юнцов. Добровольцы же и вынесли его вещи на платформу. Он стоял среди безбилетников, являя собой редчайший экземпляр железнодорожного зайца. Длинный и нескладный, как кривая жердь, он сосредоточенно тёр подбородок, стараясь припомнить, где же мог находиться билет. Он пытался восстановить свои движения, рассчитывая на двигательную память, видел себя перед кассой, потом вспоминал, как жена семенила рядом, а он пытался отнять у неё плотно набитую авоську, как они потом стояли у вагона и прощались, но вот куда он засунул билет, убей бог, не мог вспомнить!
— Ну как, граждане, будем добровольно платить или в милицию вас сдавать?
Безбилетников, высаженных из вагона, стало почему-то вдвое меньше, чем было в вагоне, но зато контролёров оказалось сразу три. Молодые парни доверчиво взирали на контролёров, полностью положившись на их доброту.
— А ты что себе думаешь? Платить будешь?
— Это где же мне трёшку взять? Что они, валяются, что ли?
— А ты, милая?
Девушка прыснула в платочек.
— Смотри, как бы плакать не пришлось. Девушка выгребла из кармашка две копейки.
— Вот и весь мой капитал. Даже на обед не осталось, а вы со штрафом. Смехота прямо.
Профессор смотрел на спорящих, не очень понимая, из-за чего они препираются. Он склонился к девушке, чтобы получше рассмотреть мелкую монету. И вдруг просиял.
— Простите, уважаемая, — обратился он к женщине-контролёру. Каждому из нас, если не ошибаюсь, надо заплатить штраф в размере трёх рублей? — Он с воодушевлением щёлкнул пальцами в знак того, что разобрался в сути спора.
— Ну, и что?
— Но денег, по-видимому, у них нет, насколько я понимаю?
— Ты что, отец, за них платить хочешь, что ли?
— Если вы, конечно, не возражаете, то я бы с готовностью Среди безбилетников поднялось лёгкое замешательство. Все на минуту застыли в немой сцене, уставившись на сумасшедшего старика. Впрочем, некоторые тут же, поблагодарив, ушли, пока дед не раздумал, другие не торопились, желая до конца удовлетворить свою любознательность, — не каждый день увидишь такое. Профессор неторопливо достал бумажник с деньгами. Первое, что выпало из него, был железнодорожный билет.
— О, вы не знаете моей жены! — закричал профессор. — Она умеет так запрятать, что никакая ищейка не найдёт. — Профессор расхохотался своей шутке, которая показалась ему необычайно остроумной, и вслед за этим вытащил двадцать пять рублей. — Я просил бы всех отпустить, если можно
Случай был не совсем обычный на железной дороге, вот почему контролёры, отойдя в сторону, стали совещаться. Один из безбилетников загипнотизированно следил за четвертной бумажкой, а одна из девушек -безбилетниц, собравшаяся было уходить, вдруг вытащила из сумочки три рубля и протянула их контролёрше.
— Но я плачу за вас, — заявил профессор.
— Плательщик нашёлся! Горбом бы заработал, так не швырялся бы Контролёрша денег не взяла, так велико было её замешательство, а девушка захлопнула сумочку и удалилась, гордая своей неподкупностью.
ПОЧЁМ НА БАЗАРЕ САЗАН?
Странная эта история кончилась тем, что перед профессором объявился сержант, козырнул и попросил пройти. В милицейской комнате сержант долго и доброжелательно разглядывал нескладного рыбака, чем-то похожего на верзилу-подростка, в мятой штормовке и кирзовых, словно с чужой ноги сапогах. Хотя задержанный не допускал никаких правонарушений, всё же было подозрительно: с чего бы это расплачиваться за первых встречных-поперечных, норовящих проехаться на казённый счёт? Требовалось установить личность, а если всё в порядке, извиниться и отпустить с богом. Только и всего. Однако взяться за это надо деликатно, решил сержант. Не торгует ли рыбачок краденой рыбкой? И что у него в сидоре: не ценная ли икорка? И не сунул ли старик деньги контролёрше, чтобы, так сказать, поскорее смыться и не доводить до разбирательства? Тоже момент, который надо было обмозговать.
— Почём, папаша, сазанчик нынче на базаре? — спросил сержант, закуривая сигарету.
— Я не хожу на базар, — сказал профессор. — Этим занимается моя супруга. Но если это вас интересует, то можно позвонить
«Попался на живца, — отметил про себя сержант. — Ясно, хочет предупредить».
— Базар, конечно, больше по женской части, — согласился сержант, отодвигая аппарат. — Только телефон местный, по нему не свяжешься. Я ведь что подумал? Раз рыбак, стало быть, в курсе. А то меня жена заела: рядом водохранилище, привёз бы, говорит, когда-нибудь сазанчика. Я с удовольствием, только когда же заниматься этим? Проще на базаре купить, а жене — так, мол, и так, будто сам поймал. Вот я и спрашиваю про цену
Сержант рассмеялся. Профессор смотрел на сержанта с недоумением человека, никогда не слыхавшего о таких хитростях.
— Оно бы лучше самому поймать, — вздохнул сержант. — Да только с какого боку взяться? Где она, рыбка, лучше ловится? Места-то хорошие знаешь, папаша?
Профессор кое-что знал о местах, где он бывал много лет назад, но не хотел вводить в заблуждение сержанта — места могли измениться.
— Простите, как вас по имени-отчеству?..
— Николай Иванович, — смутился сержант, чувствуя неловкость за свою неприличную молодость. — Можете просто Колей
— Так вот, Николай Иванович, — сказал профессор, вставая со стула, — я охотно разузнаю о местах и на обратном пути, если позволите
— Не торопись, отец, — перебил сержант, чувствуя, что старик норовит улизнуть. — Закуривай
Профессор сел. Он вытащил из пачки сигарету, но положил её обратно, вспомнив, что бросил курить сразу же после войны.
— Закуривай, закуривай
Профессор подумал, что ничего страшного не случится, если он всё же выкурит одну штуку. И снова взял сигарету.
— Да чего уж там, бери всю пачку, а то где ты там достанешь?
Профессор вовсе не собирался начинать курить, но взял пачку и спрятал в карман, чтобы доставить удовольствие сержанту, против которого он ничего не имел. Такая у него служба.
— Благодарствую, Николай Иванович, вы очень любезны.
— Да чего уж там, — сказал сержант, окончательно решив «закрючить» старика. Все эти «благодарствую», «если позволите» настораживали. Не иначе как важная птица.
— Ты, отец, извини, — сержант напустил на себя важность, — но служба требует проверить. Что у тебя в мешочке, полюбопытствовать можно?
Досадуя на потерю времени, профессор выложил на стол термос, бинокль, карту, книгу по медицине, допотопный фотоаппарат.
— А в чемоданчике этом?
Профессор раскрыл чемоданчик — стетоскоп, аппарат по измерению давления, шприц, нашатырь, вата и бинты.
— Это какая же твоя специальность будет?
— Я, Николай Иванович, видите ли, по детским болезням
— Врач, как я понимаю? Понятно. А это что же такое, — сержант взял со стола фотоаппарат. — Ко-дак? Ты что же, по-английски знаешь?
— Как вам сказать? Умел когда-то бегло разговаривать, но практики нет, едва успеваю по специальности
— И что же это, все врачи английский знают?
— Не обязательно, совсем не обязательно. Но знание языка ещё никому не помешало. В наше время приходится общаться не только с соотечественниками.
«Ага, значит, не только с соотечественниками», — отметил сержант и спросил:
— Ну, и куда ты, папаша, направляешься?
— На Лисий кордон.
— Это к Петровичу, что ли? Ну, тогда без рыбки не останешься А паспорт захватил с собой?
Сержант вскользь посмотрел паспорт и вернул его. Загасив сигарету, он вышел из отделения и вскоре вернулся в сопровождении мрачного вида широкоплечего человека.
— Ну, повезло тебе, отец, на знакомого шофёра нарвался. Он тебя до1 везёт до леса. Дальше сам дорогу найдёшь. Извини, если что не так Наблюдение за профессором находилось в надёжных руках.
ДОРОГА В НИКУДА
Профессор посмотрел в бинокль, но ничего не разобрал. Впереди колыхалась карусель из листьев, веток и солнечных пятен. Мосточка, на который указал ему шофёр, не было видно. Тогда он спрятал бинокль, и всё стало на свои места. Обозначились прогалы между кустов, открылась тропка, зовущая вперёд. Профессор вскинул рюкзак и, фальшиво насвистывая, зашагал вперёд, то есть, проще говоря, в никуда, больше надеясь на удачу, чем на то, о чём узнал от шофёра. И, как это часто бывает, судьба улыбнулась ему: показался обещанный мостик, за которым начинался лес.
День уже клонился к вечеру, и в сумерках, подумал профессор, едва ли найдёшь кордон. Не лучше ли прямо здесь и остановиться на ночлег? Профессор стал оглядываться, выбирая местечко, как вдруг послышались голоса. Голоса свернули в сторону и затихли. Остановить людей и расспросить? Однако можно обойтись и без них. Если взобраться сейчас на дерево, то без труда удастся рассмотреть местность и установить, где находится избушка лесника, а кстати и кому принадлежат голоса. Профессор нацепил на шею бинокль, поглядел вверх, прикидывая расстояние до верхушки, но тут опять послышались голоса. Он приник к дереву, но голоса снова пропали. Сильно разросшаяся ель в несколько ярусов расстелила свои шатры один над другим, сужаясь кверху, подобно колокольне. Больше нельзя было терять времени. Профессор вспомнил восхождения, которые он совершал в молодости в горах Дагестана, застегнул штормовку на все пуговицы, взялся за колючую ветку и храбро ступил на нижний ярус. С небольшой поклажей — биноклем и фотоаппаратом — он взобрался почти на самую верхушку и замер, после чёрного мрака нижнего леса ослепнув от изобилия света. Лес разбегался террасами. От красоты, открывшейся вдруг, стиснуло дыхание, и на глаза навернулись слёзы. Не хватало только снежных вершин, чтобы полностью вернуться в свою далёкую юность с её поездками в Дагестан. Профессор устроился поудобнее, приставил бинокль к глазам и сразу же оказался в центре мироздания.
Над распадками и каменистыми отрогами висела прозрачная луна. Неясные гулы — то ли ветер, то ли птичий щебет — создавали ощущение полёта. И подумать только, что он мог умереть, не повидав всей этой красоты! А ведь рассказать другим — слов не найдёшь.
Всё же профессор похвалил себя за предусмотрительность. Он взял с собой фотоаппарат и сделал несколько кадров, засняв и эту крайнюю ветку, на которой качалась белочка, и это облако, сидевшее на острие скалы, и это озеро, горящее закатным огнём, и вон те склоны, за которыми шумит лесная река. Душа была переполнена увиденным. Теперь, слава богу, можно спуститься, выпить кофейку из термоса и прикорнуть до утра. Кордона не видать, но на сегодня хватит.
Профессор нащупал левой ногой нижнюю ветвь, чтобы начать долгий спуск, но замер — послышался треск кустов и точильный шум: чик-звяк, чик-звяк! Звук металла о металл. Сквозь ветки показались две фигуры. Они направились к дереву, на котором замер профессор, охваченный трепетом предстоящего разоблачения. Профессор съёжился, страстно мечтая превратиться в пичугу, незаметную среди ветвей, в нечто почти бестелесное и долгоносое, похожее на сучок. Профессор мог поздравить себя с чудом внушения. Редкий случай самогипноза — совершенно явственно он почувствовал, как в нём начинаются изменения: он стал вбираться в себя, исчез живот, изострилась лодочкой грудь, лицо вытянулось, превращаясь в острый клюв, руки сложились за спиной, укладываясь крыльями, пальцы на ногах расправились крестовиной когтей, и всё тело покрылось жёстким пером. После всего, что с ним случилось сегодня — встречи с контролёрами, разговора с сержантом и поездки с шофёром, — он не так уж сильно удивился своему превращению в дятла и сейчас по-детски верил в своё всемогущество и спокойно наслаждался восхитительным чувством, пришедшим к нему из детства, когда нет ничего невозможного. Парение над холмами, распадками, лесами и полями и вообще вся эта канитель с поездкой показались самой что ни на есть естественной подготовкой к этому вот сейчас испытанному и такому необходимому превращению в дятла.
Профессор одёрнул на себе крылья, ощутил в лапах лёгкую силу, способную вознести его по стволу на самый верх, в мускулистых щёчках — нестерпимый зуд от желания вонзить острое шило клюва в мягкую кору, под которой угадывались сочные червячки, и короткая сильная шея напряглась, как занесённый молот. Освоившись в новом теле, профессор уже без страха ждал любой встречи с людьми, твёрдо рассчитывая на быстроту своего птичьего манёвра. Он услышал шорох и шумное дыхание. Люди остановились под самой елью и, жужжа фонариком, стали оглядываться. Это были мальчики. Один из них вытащил из рюкзака одноручную пилу и пнул ствол ели ногой. С неё упало несколько шишек
ШПИОН ПОНЕВОЛЕ
— Не слишком ли велика, как ты думаешь? Пока огонь доползёт до вершины, ель может свалиться, и бачок упадёт, не взорвавшись
Это был несомненно Бобкин голос — тонкий, но с какой-то незнакомой хрипотцой, очевидно вызванной привольной жизнью в лесу. Две недели жизни на воздухе — не пустяк.
— А достаточно ли густа верхушка, чтобы спрятать в ней бачок? — продолжал Бобка, словно бы читал кому-то лекцию. — Я думаю, было бы неплохо выкрасить бачок в зелёный цвет, чтобы он не блестел, и тогда ни один чёрт не увидит его даже в бинокль. Это, по-моему, неплохо, ты не находишь?
Вася ходил вокруг ёлки, оглядывая её с разных сторон, не очень-то вслушиваясь в то, что говорил Боб.
— Строго говоря, зелёная окраска сразу решит проблему маскировки — Боб ходил теперь за Васей, спотыкаясь о коряги, но, даже спотыкаясь и ойкая, он продолжал развивать свои соображения: — Бачок могут заметить, когда будут устанавливать ёлку, и в этом состоит главная опасность. Ну хорошо, допустим, что не заметят. В конце концов, за это несёт ответственность Смагин, а в лагерь ёлку притащат сельские ребята. Пусть так. Ну, а что, если бачок взорвётся раньше времени? Ты скажешь: «С чего это вдруг?» На это я отвечу: «Когда огонь разгорится снизу, горячий воздух, естественно, достигнет вершины раньше огня, в бачке образуются газовые пары »
На этом месте Боб споткнулся, чуть не сбил с ног Васю, тот подхватил его и отряхнул.
— Чего ты плетёшь и не смотришь под ноги? Горячий воздух, давление Сколько чепухи наговорил! И про краску наболтал. Где её достанешь, краску?
— Как же быть, в таком случае?
— Лапником обложим бачок, так что никто не заметит. Непонятно, что ли?
— Ты прав, пожалуй. В самом деле, и как это мне в голову не пришло?
— Вообще, занимайся своей подзорной трубой и не лезь в технику.
— Ладно, — сказал миролюбиво Бобка. — Может, мы эту тогда и спилим? Попробуй, как звенит!
Раздались удары. Мелкая судорога просверлила птичье тело профессора, удары отозвались в позвонках и взбудоражили крылья. Он прижался телом к смолистой коре и закрыл глаза. С каждым ударом топора рассеивалось детское наваждение чуда. Профессор снова превращался в нескладного, длинного старика. Замышлялось какое-то озорство. Надо бы остановить проказников. Проще всего было бы дать себя обнаружить и спокойно сказать: «Не пугайтесь, мальчики, это я, Дим Димыч. Подождите, я спущусь и всё объясню». Но этот вариант был отвергнут как негодный, хотя и мог предупредить катастрофу.
Он, профессор Шмелёв, заведующий травматологическим отделением детской клиники, достиг в своей жизни всего и, слава богу, пожил достаточно. Гибель от какого-то взрыва, с точки зрения медика, досыта насмотревшегося всяких смертей, казалась ему вполне достойной. Но только самая гибель, а не последствия. А последствия были бы кошмарные. Кто мог бы объяснить появление здесь трупа почтенного профессора? И что подумают люди, обнаружив покойника возле тайного убежища мальчиков? А кроме того, каким легкомыслием покажется поведение профессора, когда из допросов дорожных попутчиков выяснится, что он был задержан как безбилетник! И наконец, что подумает следствие, проявив плёнку и увидев на снимках пейзажи, сделанные с вершины дерева?
Профессор попался, это факт. Мальчики будут, несомненно, ошарашены, однако страшно не это. Как они расценят его столь внезапное появление? Ясно: как вмешательство в их личную жизнь и покушение на их святое право самостоятельности. За те две недели, что они живут здесь, они привыкли к независимости и ощущению взрослости, и вот нате вам — приехал! С тем, что мальчики станут презирать его, профессор мог бы ещё смириться. Но дело разве только в нём? Разве не перенесут они своё презрение на всех взрослых?
Сейчас, когда профессор рассматривал свой поступок в таком глобальном разрезе, его опасения за свою жизнь показались просто мелкой суетой. Да и страхи-то, в общем, были сильно преувеличены. Почему, скажите на милость, он непременно должен разбиться, если дерево будет подпилено и упадёт? Разве не сорвался он однажды со скалы, отделавшись лёгким сотрясением мозга и ушибом бедра? А потом, провалявшись в больнице, разве не нашёл он там, кстати, своё счастье в лице медсестрички Тони, счастье, которое безоблачно движется к своему золотому полувеку?
Теперь профессор уже с лёгким чувством ожидал возможных печальных последствий своего тихого сидения на верхушке ели, думая лишь о том, как остаться незамеченным, когда ель, подпиленная снизу, обрушится на соседние деревья. Жик-жик! Жик-жик! Главное, вовремя расправить крылья. Жик-жик! Жик-жик! А телом стать возможно тщедушней и невесомей. Сеанс самовнушения — и он как бы снова превращается в дятла. И это было очень кстати, потому что пила, под звуки которой лихо скакали его мысли, явно подходила к другому срезу ствола. Пильщики сделали передышку, чтобы обсудить, в какую сторону толкнуть дерево.
— А ну-ка стань подальше, а то зацепит!
Наступила неземная, первородная тишина, и в этой тишине, словно из недр земли, стал грозно подниматься звон. Когда же ель, лениво зависая, задумчиво склонилась вниз, профессор распустил свои лёгкие крылья и полетел на соседнюю ель
РЕЧЬ В ЗАЩИТУ ЁЛКИ
— Порядок, — сказал Бобка. — Теперь можно закурить
В тишине послышалось чирканье, сверкнул огонёк, на миг осветив склонившиеся лица.
— Гадость какая! — закашлялся Бобка. — Будто за горло кто-то схватил.
Вася ходил вокруг ёлки, обрубая нижние ветки. Бобка следовал за ним, кашляя, плюясь и спотыкаясь.
— Вот увидела бы мама, что было бы!
— А ты брось, тебе вредно
— Я понимаю, что вредно. Ну, а вдруг придётся жить в атмосфере, отравленной вредными газами? Надо привыкать
— Сдохнешь, пока привыкнешь
Бобка, словно бы того и ждал только, затоптал сигарету и с воодушевлением сказал:
— Вот теперь можно и с родителями повидаться!
— Как это?
— По видеотелефончику!
— Э, чего выдумал!
— Да это проще пареной репы! Настроил экран — и пожалуйста: говори и любуйся, радость моя! А вон мамулька моя, смотри!
— Где? — удивился Вася.
— Да на экране, — рассмеялся Боб. — Вась, ты брось сигарету, а то мамка заметит и начнёт воспитывать Мамуль, это я, здравствуй!
— Потише ори! — прошипел Вася.
— Это я, Бобка, замарашка-растеряшка твой, кто же ещё! — Бобка перешёл на шёпот, но тут же снова повысил голос: — Не узнаёшь? Это я поправился. Как питаемся? Нормально! Ягоды всякой — малины, черники, голубики — лопатой гребём. Я поправился на семь килограммов Нет, прости, на пять
— Вот трепач! — проворчал Вася.
— Тш-ш-ш, не мешай, — прошипел Бобка. — Алло, алло, мамуль! Наладь звук, пожалуйста, а то не слышно Ну вот, сейчас хорошо. А что папа делает? В кратере сидит? Картошку печёт? Ха-ха, не смеши меня! А мы тоже на костре печём — вкуснота! Ты хорошо меня видишь? А это Вася с нашего двора. Не узнаёшь? Вася, тебе привет от мамы
— Заткнись!
— Мамуль, он тебе тоже передаёт привет. Мы на Лисьем кордоне, от лагеря недалеко. Мамуль, не волнуйся, у нас всё в порядке. Вася замечательный охотник, он сегодня медвед}г убил Вася, поговори с ней, пожалуйста, а то она мне не верит
— Ну и артист! — усмехнулся Вася. — По мамочке соскучился, сосунок.
Бобка замолчал и какое-то время грустно вздыхал.
— Увидала бы, как мы живём, страшно рассердилась бы
— А батя?
— Папа не удивится. Он, кроме вулканов, ничем не интересуется. Камчатские вулканы никто не знает, как он
— Да, а мой батя где-то шастает — сказал Вася.
— Есть же люди, которым про собственных детей неинтересно! — с возмущением сказал Бобка. — Если у человека нету совести, так нечего и вспоминать о нём!
Вася не откликнулся. Он подправлял сосну, обрубая на ней ветки, торчащие в сторону дальше других.
— И зачем он тебе, твой папахен? — продолжал Бобка, всё глубже проникая в состояние Васи. — Ты и сам не пропадёшь! Кончишь школу, пойдёшь в техникум, а когда в армию призовут, поступишь на флот, весь свет объездишь Только не забудь киноаппарат взять
— А он у меня есть, что ли? — отозвался Вася.
— Так мы тебе купим. Вот у дедушки деньги попрошу Вася разогнулся, обдумывая последние слова Бобки.
— А он у тебя не чокнутый? — спросил он недоверчиво.
— Дедушка? — Бобка не сразу ответил. — Наверно, есть малость, так это ведь у всех стариков. Мы с тобой состаримся, тоже чокнемся. . .
— Да нет, я не об этом, — сказал Вася. — Денежек ему не жалко?
— Ах, ты вон о чём, — рассмеялся Бобка. — Так он же добрый
— Добрый, добрый, а ты насчёт денег как ему скажешь?
— Так прямо и скажу — на киноаппарат
— Это что же он, прямо и даст их тебе?
— Нет, так он не даст, — помедлил Бобка. — Мы вместе пойдём покупать
— Так он же спросит, кому аппарат, что ты скажешь? Бобка задумался.
— Да, лучше, пожалуй, не говорить, что это для тебя, — сказал он. — Ему не жалко, а только он бабушку забоится, а бабушка станет ругаться. Я скажу, что аппарат — мне, а потом отдам тебе
— Н-да, — усмехнулся Вася, уже не веря в Бобкину затею.
— Вообще-то мы тратим с ним деньги на всякие вещи
— К примеру?
— Купили как-то в антикварном магазине старый подсвечник за пятьдесят рублей, бабушке показали, так она страшно рассердилась: «Это сколько же вы заплатили за этот ухват?» Дедушка подмигнул мне и сказал, что за пять рублей. Так что ты думаешь, бабушка обрадовалась? Она ещё ворчала: «Экие деньги тратить на такую кочергу!..»
— Оба вы чокнутые, — сказал Вася.
— Это есть малость, — согласился Бобка. — Только мне до дедушки далеко. Он бабушку боится, вот что смешно. Он знаменитый, о нём в журналах пишут, а она кто? Была медсестрой, а как за дедушку вышла, всю жизнь дома сидит, варит, стирает, только недавно огород бросила, — ведь она из деревни. Ну, в общем, простая женщина, а дедушка всё равно её боится. Как она скажет, так он и делает. И ещё говорит: «Кто бы я без бабушки был? Никто!»
Васю не очень интересовали взаимоотношения бабушки и дедушки, и он снова взялся за ёлку. У верхушки ёлки он присел на корточки и покрутил головой:
— Кривая, что ли?
— Не кривая, а сломалась, когда падала.
Слегка треснутая верхушка бессильно клонилась к земле.
— Жалость какая! — вздохнул Бобка. — Может, закрепить как-нибудь?
— Чёрта лысого её закрепишь Новую рубить надо.
Бобка закряхтел от досады. Он изрядно намаялся после хлопотного дня и не испытывал никакого желания трудиться. Языком бы он ещё поработал, но не руками.
— Смагин связал бы её вместе с бачком — всего и делов, — сказал он, зевая. — Снизу всё равно никто не заметит Вась, не надо, а? Не будем рубить её, а? Жалко
Но Вася уже поигрывал топором, рассматривая соседнюю ёлку, смутно черневшую на фоне вечернего неба.
— Это преступление — новую ёлку рубить, — сказал Бобка.
— А ну отойди!
Бобка споткнулся о корягу, встал, почёсывая ногу, и теперь уж не мог остановиться:
— Послушай, а ведь мы преступники, просто жуткие убийцы. Спилили одну ёлку, а теперь собираемся убивать другую. А что мы знаем о ёлках? Может, у них тоже душа? Может, когда мы ёлку пилили, она плакала, кричала, только мы ничего не поняли
— Это почему же?
— Потому что язык деревьев нам непонятен
— Откуда ты знаешь про язык?
— В том-то и дело! Про животных ещё недавно думали, что они ничего не понимают, а сейчас все знают, что у них есть язык, а про растения мы ещё пока ничего не знаем
Бобка говорил, захлёбываясь словами, пересказывая чьи-то мысли, о которых он где-то читал, но сейчас они казались своими, и он прыгал перед Васей, размахивая руками, а Вася слегка отступал и смотрел на него с растерянным любопытством, как медведь на сумасшедшего зайца, вздумавшего вдруг сопротивляться. Глаза у Бобки горели, как свечки, уши шевелились.
— Растения, думаешь, совсем уж такие глупые, что ничего не чувствуют? А ты знаешь, что цветы у плохих людей вянут, а у хороших долго живут и распускаются ещё сильнее? Это установленный факт. А ведь ёлка не цветок, а дерево! — кричал он, всё больше воодушевляясь. — Она пятьдесят лет росла и чего только не натерпелась, сколько вынесла всего, а теперь стоит, никому не мешая, только пользу всем приносит, а ты на неё топор поднимаешь
— Браво!
Бобка осёкся. Вася вскинул голову. Кто произнёс это слово? Откуда упало это странное «браво»? Может, это крикнула сорока, пролетая? Или ворон каркнул, укладываясь спать? Или это скрипнула сама ёлка, в защиту которой Бобка произносил такие горячие слова?
— Это кто же шумнул? — удивился Вася.
— Кто? Ёлка! — рассмеялся Бобка. — А ты собираешься убивать её! Ты одну ёлку спилишь, я другую, Юрка третью, так от леса скоро ничего не останется! Если мы и дальше будем так, то всю планету скоро превратим в пустыню! А что с людьми будет, ты подумал об этом?
На этот раз послышались странные хлопки. Бобка уставился на Васю. Вася отскочил от него и приподнял топор. Откуда эти хлопки? Может, кто-то подкрадывается сзади? Или охотники набрели на них? И вдруг вдали послышался неясный гул. Быстро нарастая, гул распадался на дробный стук, треск и улюлюканье. Бобка от страха упал на траву. Но Вася не дрогнул. Он засунул два пальца в рот и оглушительно свистнул. И грохот, будто лопнувший шар, вдруг с шипением затих. Послышалось конское ржание и спокойные звуки человеческих голосов.
— Васька, ты, что ли?
— Здорово, Юрка!
Бобка поднялся с земли и отряхнулся. Это были сельские ребята, перегонявшие коней в ночное. Мальчики обрадовались друг другу, постояли, болтая о разном, потом взгромоздились на коней и умчались в долину
ДУША ОГНЯ
Профессор спустился на землю и какое-то время стоял, вытирая пот с лица и шеи. Придя в себя, он пошёл, покачиваясь, как пьяный, не разбирая дороги, в сторону от просеки. Он был рад застать ребят в полном здравии и невредимости, хотя и был сконфужен тем, что невольно подслушал то, что не предназначалось для его ушей. Так тебе и надо! Будешь знать, как подслушивать! Нет бы уши заткнуть, так ещё и развесил их, чтобы ничего не пропустить! Да ещё и не утерпел, дурень, чтобы не отозваться на речи Бобки! А внук-то, внук-то хорош — покуривает, чертёнок, на конях скачет! Бабушке рассказать, так не поверит. А мать узнает, что же это будет? Нет уж, о его подвигах, прости и помилуй, лучше помалкивать
Профессор пробирался кустарником. У открытого ручья он упал на живот, протащил своё тощее тело по камням, потом по шатучим мосткам. Крайняя доска внезапно провисла и отъехала в сторону, профессор с грохотом шлёпнулся в воду, но успел схватиться за перекладину и удержаться на течении. Он долго приходил в себя, стоя в холодной воде и размышляя о превратностях судьбы, — за один день их выпало больше, чем за год размеренной жизни дома. Вот спасибо бабушке, что выставила его в тайгу! Где бы он ещё такое испытал? Но больше всего его занимал Бобка. У ёлки-то, оказывается, душа живая, а ты, профессор, ничего не знаешь об этом! И насчёт бабушки здорово меня поддел, хе-хе! И отчего же это, ваша светлость, за всю вашу совместную жизнь вы не смогли узнать и малой толики того, что случайно открылось из подслушанного разговора? В сущности, если вдуматься, что мы, взрослые, знаем о детях? Не больше, чем о душах растений, окружающих нас. Совершенно мы разные люди. Старики только тем и заняты, чтобы в настоящем возможно больше удержать из прошлого, а юность вся устремлена в будущее. Профессор пришёл в умиление от заботы внука о судьбе планеты. Побольше бы тебе таких забот, внук Бобка!
Не станем утверждать, что буквально так и рассуждал профессор, пока он, кряхтя и отфыркиваясь, пробирался через чащу. Мысли эти жили в его голове сами по себе, в то время как истерзанное тело, изнемогая, жадно стремилось к отдыху. Уже брезжил ранний рассвет, а он всё ещё прыгал с кочки на кочку, проваливался в болотца и в конце концов настолько обессилел, что упал в зарослях жимолости и решил здесь поспать. И вдруг сквозь зелень тускло блеснуло оконное стекло.
Это был кордон с пасекой, домик лесника. Тот ли, который он искал, или другой, ровным счётом не имело никакого значения. Профессор устремился к нему из последних сил, но остановился, поражённый мыслью: за кого его примут хозяева, увидев в таком растерзанном виде? И не лучше ли дождаться утра? Обдумывая возможные последствия своего внезапного вторжения, профессор решил пересидеть на крылечке и подождать, пока сами хозяева проснутся. Он снял с себя сапоги, развесил мокрые носки на дреколья (снять с себя другие вещи он не решился), растянулся на скамеечке и мгновенно заснул. Во сне он почувствовал сотрясающий приступ голода, потянулся к рюкзаку и проснулся. Рюкзака не было. И только тут сообразил, что рюкзак остался в лесу, у подножия ели. От избы исходила зыбучая тишина. Так же тускло и мертво блестело окно. Ни скрипа, ни вздоха, ни кудахтанья кур. Да есть ли кто здесь живой?
Профессор поднялся на крыльцо, ступенька гулко крякнула под его тяжестью, он чуть не оглох от грома. Но изба не обрушилась и даже не сдвинулась с места. И тогда он толкнул дверь. От визга дверных петель свалился с ветки спящий удод. Проснулся и забарабанил дятел. На соседнее дерево с перепугу прыгнула белка. Во все стороны брызнула стайка бурундуков. В довершение проснулась сорока и переполошно закричала: «Пожар!» И действительно, над лесом, жарко наливаясь, поднимался рассвет.
В сенях он стукнулся головой о грабли, но не почувствовал боли. На стенах висели дымари, сетки, топоры и вилы, но он ничего не увидел, кроме связки вяленой рыбы, бочонка на табуретке, издававшего медовый аромат. Профессор зачерпнул ковшом из бочонка — рука сама знала, что делать — и выпил одним духом. Затем стал грызть рыбу, запивая сладкой медовухой, вкус которой он наконец-то разобрал. По телу, проникая во все закоулки, расползалась радостная благодать. Это было счастливое чувство дематериализации, воспарения духа. Весёлое опьянение, давно забытое им, состояние, похожее на глубокую анестезию. Он не хотел, чтобы это состояние уходило, и выпил ещё. Жажда, однако, не убывала, а нарастала, но уже не было сил дотянуться до бочонка. И тогда профессор повалился на полати, прекрасно пахнувшие шкурой старого козла, растянулся и полетел в огненную купель, истаивая лёгкими пузырьками газа, которые тут же превращались в огненные язычки. С каждым выдохом он уменьшался и рассеивался в горячем пламени, становясь душою огня
Глава 3
ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ВСЁ
«Я НЕ СОГЛАСНА»
На совете лагеря обсуждался вопрос: как провести ленинскую линейку. Впереди ещё было две недели, и Яков Антонович предупредил, чтобы не очень увлекались подготовкой — на неё уйдёт вся энергия ребят, а самый костёр может получиться жалким.
— Я думаю, что Яков Антонович прав, — поддержал его Рустем. — Подготовке важно дать направление, наметив общую схему, а всё остальное пускай придумают ребята
Такой подход к подготовке костра вызвал возражения.
— Я не согласна ни с Яковом Антоновичем, ни с Рустемом, — заявила Броня. — Это костёр не простой, а ленинский, и мы проводим его не только для того, чтобы повеселиться и поиграть. Его нельзя пускать на произвол, рассчитывая на ребячью импровизацию. Да они вам такое насочиняют, что у вас волосы встанут дыбом. Послушайте только, какие они песни распевают в своих компаниях, что девочки, что мальчики: «Ты люби меня, ты люби меня, ты судьба моя, ты судьба моя »
— Ну а что, собственно, страшного в этой песенке?
— Я, кажется, слышу голос моей подружки Тиночки? Вот вам живой пример: если студентка считает такую песню вполне приемлемой для ленинского костра
— Я про ленинский костёр ничего не говорила, — возмутилась Тина.
— Как это так? — удивилась Броня. — А о чём мы сейчас говорим? Или, может быть, мы обсуждаем капустник для обслуживающего персонала?
— Не придирайся к словам, пожалуйста
— Ладно, не будем придираться к словам, но я повторяю: никакого самотёка в подготовке костра не может быть. Надо объявить всем отрядам, чтобы они обдумали свои предложения, избрать специальную комиссию, можно назвать её художественной, репертуарной, как угодно, а уж комиссия окончательно отработает и утвердит программу костра
Слушали её без энтузиазма, но возразить было трудно. Яков Антонович торопился в город, его поджидала машина у ворот, и он передал председательство Рустему.
— Я чувствую, что некоторым хочется смастерить огромную галочку и вместо интересного вечера провести мероприятие, — сказал начальник лагеря, стоя в дверях. — Ладно, готовьте его. Я думаю, костёр надо поручить Броне — пускай и занимается им, раз она такая сторонница всяких комиссий
Уже на следующее утро Броня собрала инициативную группу и побывала с ребятами на костровой Площадке. Площадка была захламлена хворостом, банками и тряпьём. Кустарники, окружавшие поляну, были обожжены. Она объявила аврал, и ребята тут же стали расчищать площадку, пробивать к ней новые просеки, заготавливать дрова.
Броня считала, что Яков Антонович ущемил Старшего вожатого Рустема, предложив ей руководство подготовкой, и поэтому, чтобы как-то загладить неловкость, держала Рустема в курсе дел. Он кивал, соглашался, никак не комментируя её решения и думая о чём-то другом. Вообще говоря, Броня недоумевала, как это начальнику лагеря пришло в голову пригласить Рустема старшим вожатым. На её взгляд, он был кисляй, а не вожатый, а с нею он просто неприлично терялся — то дичился, а то вдруг лез с комплиментами. Самое любопытное, что он терял с нею свою разговорчивость, хотя с ребятами был речист, это она заметила, а с нею толком не мог связать двух слов, запинался, и только глаза его были красноречивы — молили, сомневались, одобряли, торжествовали, прятались от неловкости и смущения, выражали робкое неодобрение. В общем, это были говорящие глаза, и понимать его можно было без слов, но всё же Броня предпочитала, чтобы свои сомнения или одобрения он высказывал словами.
ОПЯТЬ ЭТИ АЛЯ И МАЛЯ
В самый разгар подготовки Броня обнаружила за кулисами летнего театра сваленные в кучу старые алебастровые скульптуры. Эти фигуры украшали когда-то главную аллею лагеря. Они были изрядно изуродованы, но для костровой линейки, которая намечалась на вечер, это не имело особого значения. Горнист с отбитой трубой, девочка с серной на трёх ножках, однорукий метатель диска, в общем, неплохо монтировались с праздником и придавали ему особую символику. Горнист — это пионерский сбор, девочка с серной — это природа, а дискометатель — спортивная и всяческая самодеятельность.
Мальчики из старшего отряда взялись реставрировать скульптуры. Они раздобыли проволоку, намесили глину и кое-как приладили фигурам недостающие части. Несколько девочек из пятого отряда, в их числе сестрички Аля и Маля, получили задание — почистить скульптуры, помыть, побелить и навести блеск. Броня придумала костру космическое оформление, и вся программа была подчинена этой теме. Флажки, целые гирлянды их, должны были украсить ёлку, которая будет подожжена и сгорит под грохот барабанов, звуки горнов и треск бенгальских огней. Броня заранее радовалась, представляя себе всю красочность запуска космической ракеты. Она жалела, что в лагере не нашлось новогодних ёлочных игрушек, они были бы хороши как контраст к летней природе, как бы соединяя собой зиму и лето. Вспоминая совет лагеря, Броня словно всё ещё продолжала спорить и с удовлетворением отметила про себя, что тщательная продуманность подготовки вовсе не исключает элементов ребячьей самодеятельности. Ведь это же сами ребята придумали приставить антилопе ножку, а метателю диска — руку!
Однако подготовка шла не без накладок. Совершая как-то вечером обход и проверяя, как идут дела, Броня услышала за кулисами летнего театра плач. Она завернула туда и даже присела на ящик от изумления. Девочки ревели, размазывая слёзы, а вместо скульптур, были какие-то чудовищно раскрашенные уроды — чёрно-серые волосы с грязными разводами, щёки, измазанные остатками клубничного киселя, трусы у горниста вымараны соком лопуха. Выяснилось, что, раскрашивая скульптуры, девочки разошлись во вкусах, а поскольку слов не хватало, в ход пошли кулаки. Эту безобразную сцену и застала Броня. Она не сомневалась, что именно сестрички затеяли всю эту мазню. Им предоставили самостоятельность, а они превратили задание в самое разнузданное озорство. Не только раскрасили скульптуры, но и сами раскрасились: глаза в фиолетовых кругах, ядовито-красные, как у вампиров, губы, щёки белые и брови изломаны, как у клоунов. Они даже умудрились где-то достать настоящую губную помаду — не иначе, как у Тины, которая и на ночь, исчезая на таинственные свои свидания, не забывала накрасить губы.
Броня долго распекала Алю и Малю, подбирая жестокие, язвительные слова. Эти акселератки вели себя, как второклашки, — плакали, размазывая фиолетовые слёзы, и не только не хотели успокоиться, но словно бы соревновались между собой, кто громче и гнуснее будет реветь. Они голосили и нахально кружили вокруг Брони, пытаясь вырвать у неё помаду, и кончилось тем, что она показала, что умеет не только говорить
Собственно, что произошло? Она потребовала помаду, но девочки в ответ стали гримасничать и строить глазки, желая рассмешить всех глазевших на эту сцену. Правда, Броня не рассчитала своих сил, и, схватив девочку за руку, рванула её к себе, но тут в неё вцепилась другая сестричка. Которая из них Аля, а которая Маля? Одна из них, помнится, была скромней, а другая смахивала на мальчика, но сейчас обе были отвратительны. Броня дрожала от возбуждения. И не потому, что она считала насилие педагогически недопустимым — чепуха, история педагогики знает немало случаев, когда вполне оправдывалось физическое наказание, а просто не могла себе простить, что сорвалась, и считала это проявлением слабости.
— Не ревите! — сказала Броня. — Я верну вам помаду, только скажите, пожалуйста, кому это в голову пришло раскрасить скульптуры. Ведь это профанация
— Да, профанация, — всхлипывая, сказала одна из сестричек. — Никакая не профанация! Нам Рустем разрешил
— Раскрасить лица?
— Да! Если, говорит, трусики измазали лопухами, — сказала другая,— то почему бы и лицо не покрасить?..
— А кто трусики придумал покрасить?..
— Это я придумала, — сказала первая с гордостью, и глаза её, ещё полные слёз, радостно заблестели.
— Нет, я трусики придумала, — вмешалась другая.
— Нет, я!
— Нет, я!
— Я-а-а-а-а-а-а!
— Нет, я-а-а-а-а-а!
— А-а-а-а-а-а-а-а-а! — завопили сёстры, стараясь перекричать друг друга.
Они бурно развеселились, словно не плакали вот только что, и ещё пуще расходились, оттого что и другие девочки присоединились к ним. На весь лагерь неслось «А-а-а-а-а-а-а-а-а!» с такой пронзительной силой, что Броня заткнула уши и при этом невольно улыбнулась. Она готова была простить им бессмысленный экстаз, в котором было что-то заразительное. Будь она девчонкой, она бы, наверно, не удержалась и тоже присоединилась к этим обезьянкам. Какая это радость почувствовать полную свободу и орать, не испытывая стеснения, выкладываясь во всю силу своих молодых глоток! Броня отметила про себя, что сестрички быстро забыли про слёзы. Всё же дети незлопамятны, подумала она. И это очень важное обстоятельство, которое надо учитывать в процессе воспитания. Она дала девочкам вволю накричаться, а когда наступила пауза, вернула им помаду и сказала:
— Как это ни печально, в таком виде скульптуры уже не годятся для пионерского костра. Может быть, они ещё пригодятся для кружка художественной лепки. Но с этим — после. А сейчас живо в умывалку — и готовить флажки. А ты, Робик, что здесь болтаешься? Я же сказала: всем шрифтовикам — на лозунги и транспаранты!
НУЖНА ЛИ КОСТРУ ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ?
Броня обошла зелёный театр и увидела Рустема. Он сидел на скамейке, уперев подбородок в узкие смуглые ладони.
— Вы здесь, значит, сидите, — сказала Броня, подчёркивая «вы», как не обращалась к нему даже сразу после знакомства, — сидите и подслушиваете — Рустем уставился на косу, но Броня перекинула её за спину.
— Не считаете ли вы, что подслушивать не очень красиво?
— Я хотел вмешаться, но девочкам было так весело
— «Весело»? А вы знаете, что девочки так размалевали скульптуры, что теперь их нельзя выставлять на костровой площадке? И это вы их подбили. ,.
Рустем сжал руками спинку передней скамейки, приподнял плечи. На суставах рук выступили крупные бугры. Он не мог смотреть в её холодные, немигающие глаза. Он выражал неукротимую готовность помириться. Он страдал от её злости, её неприязнь была физически невыносима. Но Броня не жалела его и не старалась сдержаться.
— Вам не нравится моя затея — украсить скульптурами костровую площадку? Так почему же вы не найдёте в себе смелости прямо сказать мне об этом? ..
Девочки стояли поодаль, прислушиваясь к разговору взрослых.
— Отойдём, — шепнул Рустем и взял её под руку.
Броня изо всех сил старалась не думать о своей руке. Они прошли под взглядами девочек, будто ни о чём не спорили, а просто выясняли деловой вопрос. Как только они вышли за ворота лагеря, Рустем тут же выпустил руку.
— Девочкам не обязательно знать, о чём мы говорим. А насчёт скульптур получилось случайно. Я просто пошутил, но совсем не думал, что они воспримут это как команду. Однако не хочу скрывать — я обрадовался, когда девочки испортили скульптуры. Да, обрадовался, и ты меня извини за правду. Все эти гипсовые инвалиды рядом с поляной, соснами, дубами, берёзами, птичьим свистом — просто пошлость. Извини меня — Он страдальчески покраснел.
Этими словами он казнил больше себя, чем её, и считал себя бессердечным негодяем за то, что не может найти более мягкого и снисходительного слова, чем «пошлость». Язык не повиновался ему, и он с отчаянием слушал, как продолжает говорить в том же роде, не щадя ни её, ни себя.
Броня слушала его с вежливым вниманием, чуть склонив голову набок, как бы стараясь вникнуть в позицию оппонента.
— Дети — это почва, — говорил Рустем, возбуждаясь всё больше и больше, — почва, в которую можно посеять всё, что угодно. И вот ты бросаешь в эту почву зёрна дурного вкуса, которые могут дать урожай урожай как бы это сказать?
— Сорняка, — подсказала Броня.
— Да, сорняка, — благодарно кивнул Рустем. — А ты что делаешь? Вместо того чтобы максимально приблизить детей к природе, ты окружаешь ёлку стандартными изделиями, в которых, прости меня, есть что-то грубое, ремесленное и безличное. Неужели ты не чувствуешь этого?
Броня снова откинула косу, поправила очки и внимательно посмотрела на него сверху вниз. Вздёрнутый нос её с вызовом трепетал.
— Вы уже всё сказали?
— Ты со мною не согласна? — В голосе Рустема была мольба: не возражать, хотя бы помолчать и подумать, не торопиться.
Броня скривила в усмешке тонкие губы:
— Не согласна? Не то слово. От ваших рассуждений о красоте, извините, отдаёт сентиментальностью. Почему вы ни разу не вспомнили, ради чего проводится костёр? Мы для чего собираем ребят? Говорить с ними о бабочках, мотыльках и одуванчиках? У нас конкретная цель — провести ленинский костёр, принять в пионеры октябрят, показать самодеятельность. И всё это под знаком наших космических завоеваний. А для чего мы делаем всё это? Для того, чтобы закрепить рождение пионерского коллектива. Тем важнее костёр связать с традиционной пионерской атрибутикой. И не моя вина, что в лагере не нашлось ничего лучшего, чем эти скульптуры-инвалиды, как вы изволили сказать. Я понимаю, что это не бог весть какая ценность, но что нам для костра — Венеру Милосскую раздобыть? А нужна ли костру Венера Милосская? Это привычные скульптуры, на которых воспитано не одно пионерское поколение детей. В ваших рассуждениях, извините, я улавливаю этакий душок эстетства. Нет, я не против тонкости и вкуса, но там, где это к месту, а вы отрываетесь от реальности. . .
— Ладно, не будем, прости меня
— Извините, но я не перебивала вас Я уж не говорю о том, что вы своим поступком подрываете мой авторитет. Однако бог со мной, разве дело во мне? Разве в глазах ребят вы подрываете лично мой авторитет? Да и что мне авторитет — с собой увозить его, что ли? В моём лице вы плюёте на авторитет взрослого, облечённого званием педагога. Как ребёнок будет смотреть на педагогический персонал, если мы начнём чернить друг друга, и что может ребёнок подумать о коллективе воспитателей в целом?
Рустем взмахнул руками, сделал какой-то неловкий пируэт и тяжело провалился в рытвину. Броня невольно пригнулась, чтобы подать ему руку. Что-то беспомощное было в нём и жалкое. Броня передёрнулась от стыда за слова, которые говорила. Он задержал её руку, крепко и благодарно сжал пальцы и, пока поднимался, неотрывно смотрел на неё, и она поразилась его глазам, всё понимающим, красноречивым, в них читалось мягкое осуждение глупостей, которые она сейчас изрекала. Спорить, опровергать, диалектически выворачивать наизнанку — в этом искусстве мало кто мог с ней потягаться на курсе, она не боялась даже затевать диспуты с профессорами, но спорить с этими глазами! . .
Броня медленно приходила в себя. Она, конечно, повергла его, растоптала и, однако же, чувствовала, что верх одержал он, и в глазах его, о ужас, читала жалость, боль и сочувствие к ней, глупой, самоуверенной и вздорной девчонке. Жалость! В этом было что-то унизительное для неё. Жалеть можно слабых, а она была сильной и с детства осознавала в себе силу. Она развивала в себе силу, направляла её на нужные цели, изгоняла проявления слабоволия, нерешительности и лени, и сейчас, под этим всепонимающим, жалостливым взглядом, она задыхалась.
— Рустем, я прошу тебя, — она снова перешла с ним на «ты», — я прошу тебя забыть об этом разговоре. Чёрт с ней, в конце концов, с этой гипсовой халтурой. Не попадись она мне на глаза, я бы и не вспомнила о ней. Придумаем что-нибудь другое, у нас и без этого хватит оформления. А теперь я прошу тебя Ты, конечно, можешь освободить меня от ленинского костра, но если всё останется по-прежнему и я буду отвечать за подготовку, то я хотела бы, чтобы ты мне не мешал Итак — мир?
— Мир!
Рустем улыбнулся. О, какие зубы у него! Они словно бы достались ему по ошибке и больше подходили рослому красавцу, а Рустем был невысок, к тому же сильно хромал. Это была улыбка-наваждение, открытая и заразительная, равнодушно смотреть на неё было нельзя. Броня смущённо отвернулась от Рустема и взяла себя в руки. Ведь её ждали неотложные дела.
БРОНЯ ДЕЙСТВУЕТ
Подготовка костра шла бесперебойно. На эстраде под руководством культмассовика Шмакина разучивались новые песни. Команды КВН совещались, то и дело меняя место репетиций, чтобы сохранить в тайне от лазутчиков свои номера. Повара колдовали над каким-то особым ужином. Девочки хлопотали на кухне, готовясь к конкурсу юных кондитеров. Октябрята разучивали текст пионерского обещания. Космические отряды шагали в разных уголках лагеря, отрабатывали команды, рапорты и речевки. На укромных полянках ребята тренировались, расхаживая с завязанными глазами, прыгая в мешках и пуская мыльные пузыри. Спрятавшись в беседках, девочки переписывали в тетради песни, стихи для декламации, чтецы, спотыкаясь, задумчиво бродили по аллеям, шевеля губами.
Дел хватало всем — не только ребятам, но и вожатым и воспитателям. Вовлечены были даже иждивенцы. Лариса Ивановна согласилась руководить кружком мод — предполагалось, что на костре юные модельерши будут демонстрировать новые костюмы, и в швейной мастерской до самой глубокой ночи стрекотали машинки. Даже сын её Виталик был включён в одну из сцен-шарад, которую собиралась показать одна из команд КВН. Яков Антонович постарался и завёз в лагерь для предполагавшегося «парада профессий» штукатурные мастерки, шахтёрские каски, отбойные молотки, шофёрские очки, защитные сетки для пчеловодов, деревянные винтовки, садовые распылители ядохимикатов.
Броня носилась по лагерю. Ничто не ускользало от её вездесущих глаз. Она летала от группы к группе. Вмешивалась, наставляла, пропускала через цензуру, проверяла, давала указания. Особенно волновали её песни. Готовился конкурс певцов, и невесть что разучивали лагерные Высоцкие, Магомаевы и Ножкины.
— Караул! — хваталась она за голову, услышав «А на кладбище всё спокойненько», и на глазах у расстроенных ребят рвала листки с переписанным текстом песни.
Она произвела учёт будущих певцов. На участие в конкурсе претендовало семь Магомаевых, два Иосифа Кобзона, три Эдуарда Хиля, три Аллы Пугачёвых. На «Там вдали, за рекой», хорошую, очень к теме костра подходящую песню, было сделано семнадцать заявок. Конечно, всех номеров было в пять раз больше, чем могло войти в программу, и ей пришла счастливая мысль — повторить концерт в другой раз, но не вечером, а днём и без костра, на летней эстраде, а кроме того — направить концертные группы в соседние сёла и колхозы. Она не одобряла Якова Антоновича, который широко направлял ребят на различные колхозные работы, чтобы зарабатывать деньги. Она считала, что это возбуждает в ребятах частнособственнические инстинкты, а выступления в колхозных клубах, дадут лагерным связям с окружающей жизнью нужное политическое содержание.
Броня чувствовала себя дирижёром большого оркестра и каждого участника воспринимала как часть себя. Она, как аккумулятор, наполняла лагерь энергией, и не хватало дня, не хватало ночи. Она организовала штаб, информационно-учётный центр, куда стекались сводки и рапорты. Угомонившись, сидя в беседке, она принимала поступавшие туда сводки и была в курсе всех событий в отрядах. Она завела большую книгу рапортов и могла не бегать в разные концы, зная, что где происходит, что сделано и ещё не сделано. При этом она успевала вести собственный подробный дневник, хранивший драгоценный, лично ею добытый опыт, который служил ей и неисчерпаемым кладезем для отчётов.
Впрочем, не всё шло как по маслу, и она это отмечала со всей присущей ей самокритичностью в своих дневниковых записях. Заготовку дров для костра она поручила группе старших ребят во главе со старостой кружка «Умелые руки» Витей Смагиным, а староста исчезал с ребятами в лесу, так что нельзя их было потом доискаться. Группе была придана бензопила, лесник выделил им несколько сухостоев, но в лесу из-за пилы всё время шла возмутительная возня, ребята чуть не дрались, добиваясь права попилить. Дров было заготовлено по меньшей мере на пять костров. На звуки бензопилы, как пчёлы на сладкое, налетели деревенские ребята. На лагерь началось форменное нашествие сельских ребят, тем более удручающее, что их порой невозможно было отличить от лагерных. Они иногда и одевались так же — галстуки, трусы, и никакие дежурные у ворот с требованием «пароля» не могли сдержать их, а если деревенским не удавалось проникнуть через вход, они запросто перелезали через ограду. Посторонние вносили дезорганизацию в дело подготовки, и Броня считала необходимым установить дополнительную охрану или официально обратиться в сельсовет и предупредить через местную радиотрансляцию колхозников-родителей, что они будут нести строгую ответственность за пребывание, колхозных ребят на лагерной территории. С этим делом она и ворвалась в дом к начальнику лагеря, который принял её, сидя за письменным столом, заваленным бумагами, и щёлкая на счётах.
— Тебе они очень мешают, девочка? — спросил Яков Антонович, отрываясь от работы.
Броня проглотила «девочку», зная, что так фамильярно он обращался не только к ней, но и к матронам из кухни. — Я чувствую, что ты хочешь мне испортить отношения с колхозом. Ты не знаешь, кто поставляет нам свежие овощи, молоко, яички? И на чьих фермах работают наши ребята? Так почему же сельским ребятам нельзя поиграть вместе с нашими пионерами? Им же интересно! И потом, разве можно уследить за всеми? А если даже можно, то стоит ли?
— Странная постановка вопроса! — возмутилась Броня. — Ведь наши ребята ходят на фермы не когда им вздумается. Есть определённые часы, учтённые в расписании, и потом, наши посещения не вносят в жизнь колхоза никакой дезорганизации, в то время как набеги сельских ребят на лагерь нарушают порядок, сбивают ребят с режима. А эти частые отлучки ребят -V- как их можно объяснить, если не этими чересчур разросшимися связями с деревней? Что это такое, объясните мне, — не было случая, чтобы на вечерней линейке кто-то не отсутствовал по необъяснимым причинам. Где ребята пропадают? У кого они время проводят? И потом, как можно терпеть, что сельские ребята каждый день прогоняют мимо лагеря конский табун? Это же форменное безобразие, что делается в это время — ребят невозможно собрать на ужин, все мальчишки, и не только мальчишки, но и девочки, бегут в лес, никого не удержишь, срываются все мероприятия, все с ума сходят. Вы послушайте их разговоры, когда они возвращаются! А ведь это добром не кончится, наверняка кто-нибудь свернёт себе шею. Я уже просила вас, Яков Антонович, поговорите, пожалуйста, с председателем: неужели нельзя перегонять табун где-нибудь подальше от лагеря? Неужели так сложно изменить маршрут и не устраивать в лагере переполох? Сколько же можно об этом говорить!
— Послушай, девочка, я сегодня уеду в город на три дня. Так вот, я тебе оставлю ключи от канцелярии, печать, и ты посидишь на моём месте. И потом, запиши телефон: три пятнадцать четыре, поговори с председателем и послушай, что он тебе скажет. Насчёт табуна поговори с Кузьмичом, он главный табунщик, только не ссылайся на меня, и тоже послушай, что он скажет. Я удивляюсь тебе, девочка. Ты тут первый год, кажется, если не ошибаюсь, а лагерь существует уже семь лет, а село стоит уже здесь лет двести или триста. И вот ты хочешь, чтобы деревенские дети ходили вокруг лагеря на цыпочках, а чтобы коней гоняли там, где тебе хочется. Может быть, ещё лагерь обнести колючей проволокой? Кто теряет, скажи, от того, что сельские ребята потолкаются в лагере или прогонят рядом конский табун? Где наши ребята ещё увидят табун? Я чувствую, что ты была бы очень довольна, если бы лагерь объявили лепрозорием. Ладно, вот уеду, а ты сама поговоришь с председателем. Давай, давай, действуй! Может, они серьёзно отнесутся к твоим претензиям, а ты послушаешь, что они скажут. Может, они дадут тебе выступить по колхозному радио, и ты сама объяснишь колхозникам, когда и как их детям можно бегать около лагеря! Даю тебе полную свободу. Валяй! А сейчас извини — я должен тут подбить баланс и просмотреть кое-какие сметы. Ты не разбираешься в финансовых делах? Я тоже не очень, но что поделаешь — надо
Вообще начальник лагеря занимал Броню своей парадоксальностью и почти полным несоответствием её представлениям о том, каким должен быть педагог. Это был типичный одессит, хотя, говорят, был родом из Ростова, — хохмач, балагур и циник. Сыпал сомнительными шуточками не первой свежести, и, конечно, ничего удивительного, что ребята глядели ему в рот и тянулись за ним, как за фокусником. И подражали ему в разговорах, изощряясь в одесских интонациях и словечках. Начальник болел за одесского «Черноморца», не пропускал ни одной футбольной телепередачи с его участием, и, конечно, все мальчики тоже болели за «Черноморца».
Правда, Ваганов был хороший хозяин, этого не отнимешь. У него была не голова, а целое СМУ, как он сам говорил о себе, и едва ли не вся деятельность его как педагога сводилась к тому, что он то и дело затевал какие-то стройки, и за семь лет, что он руководил лагерем, он только и занимался тем, что строил всякие площадки, павильоны, мастерские — швейные, сапожные, столярные, — как делал, видимо, в свои более молодые годы, когда возглавлял детские дома. Если б дать ему волю, то он открыл бы в лагере чугунолитейню. Ребят очень увлекало строительство, но, наверно, их увлекало бы всё, что бы ни затеял начальник. На сотню километров не было лагеря, который был бы так нашпигован разными нужными и ненужными пристройками и павильонами, как «Рассвет». Яков Антонович как-то признался, что уже собирается кое-что из построенного уничтожить, чтобы на старом месте начать новое строительство, потому что не знает лучшего средства воспитания и создания коллектива, чем строительство. Когда Броня узнала, что Яков Антонович когда-то воспитывался, а потом работал в детских трудовых коммунах, ей стало всё понятно. Она уже ничему больше не удивлялась. Но примириться с тем, что он «заслуженный учитель», не могла. Что угодно — заслуженный строитель, заслуженный хозяйственник, заслуженный администратор, заслуженный хохмач, — но только не учитель. Его методы хороши были с беспризорными детьми двадцатых годов, но с нынешними детьми? Извините! Начальник лагеря не вызывал у Брони никаких симпатий, а от его бесцеремонности и шуточек её коробило.
Но это в сторону. Несмотря на то что разговор был для неё неприятным, он всё же имел положительный результат. Ей пришло в голову, что бороться с нашествием сельской детворы, вносившей дезорганизацию в подготовку костра, можно, только приобщив их к лагерным делам. Она связалась с местным завучем, и та пообещала, что сельские ребята тоже примут участие в костре, выступят с номерами, в которых найдёт отражение жизнь колхоза. Броня доложила об этом на ближайшем совете дружины, и Яков Антонович, который присутствовал на нём, буркнул:
— Правильно!
И всё же Броня добилась своего — табун перестали гонять мимо лагеря. Только говорила она на этот счёт не с Кузьмичом, а с завучем. Сельские ребята перестали лазить через ограду лагеря, а ходили через ворота, и не все, кому вздумается, а только те, которые принимали участие в репетициях.
Броню, конечно, не зря выбрали ответственной за костёр. В ней не ошиблись. И она сумела доказать — не столько Якову Антоновичу, сколько себе, что было гораздо важнее, — что она умеет проводить в жизнь свою линию и что, слава богу, может подчинять себе массу людей. Подчинять и в то же время проявлять гибкость и не лезть на рожон, когда дело обречено на провал. Даже инцидент с «монументальной пропагандой» не повлиял на ход подготовки к костру. Она сумела извлечь урок и не осложнить отношений с Рустемом. Его надо принимать таким, какой он есть, и не очень много требовать от этого, в сущности, неплохого парня, учитывая его близость к ребятам — качество не столь уж плохое («Доброта, доступность, простота? Да. Но не только это. Дружить с ребятами? Да. Но ещё и быть старшим в этой дружбе, руководить в ней. Не опускаться до их уровня, не заискивать перед ними. Продумать и проанализировать»).
ГЛАВНОЕ — ЭТО НЕ СЛАВА
В глубине души Броня была уверена, что нынешний костёр затмит все бывшие, о которых вспоминали старшие ребята. Она, конечно, понимала, что едва ли костёр будут связывать с её именем, но ей было достаточно сознания своей роли в его организации. Броня не гналась за славой, тем более — какая могла быть слава? Важнее для неё — опыт, который может пригодиться, и внутреннее удовлетворение работой, осознание своих сил. Этой мысли был посвящён чуть ли не целый реферат в её дневнике. Она распространяла эту мысль на жизнь в целом и писала, что главное в человеческой деятельности — не признание людей, не слава, которая очень эфемерна, а самосознание, именно то, что человек сам о себе думает, а не то, что о нём думают другие. Она обстоятельно, с выкладками, примерами из жизни друзей-студентов и из своей собственной, из случаев лагерной жизни, довольно тонко и убедительно доказала, что это не пренебрежение к людям, не теория сильной личности Получилась очень толковая запись, из которой можно сделать неплохую статью для молодёжного журнала. Она даже наметила себе написать такую статью, и не для того, чтобы предложить журналу, она не гналась за литературной известностью, хотя на всякий случай и придумала псевдоним — Свободин — а для того, чтобы узнать, сможет ли она написать статью на хорошем общепринятом уровне. Свободин, Бронислав Свободин, если хотите, — совсем неплохо звучит, а? Этакий элегантный молодой человек в замшевой куртке, по виду спортсмен, и кто бы мог подумать, что этот известный журналист Бронислав Свободин — она, Броня! Даже мама не узнает, кто скрывается под этим псевдонимом. Если честно признаться, Броня помышляла и о журналистской деятельности, но не смотрела на неё как на нечто самостоятельное, а лишь как на подспорье в её главном деле — педагогическом. Зато о педагоге Хмелевской ещё узнают! «Ах, это та самая, что посмела?» Что «посмела», кого «посмела», Броня ещё сама не знала, но была твёрдо уверена, что «посмеет».
Ленинский костёр был её детищем. Она гордилась им ещё до того, как он состоялся, настолько ясно и чётко видела его она в воображении.
ЛЕВ, ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ И КОНСКИЙ ТАБУН
Небо наливалось густой синевой, за лесом разгорался закат, но на поляне в разных концах уже кипели состязания, которыми руководил Георгий Шмакин. Малыши с крылышками выпархивали из ракет, как ангелочки, старшие ребята подхватывали их, с гудением кружили над площадкой. Команды КВН разыгрывали разные варианты встреч с жителями внеземных цивилизаций. Рычали птеродактили и археоптериксы. Первобытные люди мычали нечленораздельные слова и дрались из-за костей. Папуасы, размалёванные, в набедренных повязках, увешанные бусами из камней и рябины, стреляли из луков и били в тимпаны. Рядом с ними, мигая красными и зелёными глазами, железными голосами хрипели киберы.
Но главная часть вечера началась позднее, когда в небе высыпали звёзды. Костровая команда во главе с пиротехником Витей Смагиным, размещённая в кустарниках и не видная зрителям, по выстрелу сигнальной ракеты подожгла в нескольких местах шнуры-запалы, которые вели к бенгальским огням. Сперва послышались гул и резкое шипение, потом над поляной взмыли ракеты, и весь мир озарился сиянием. Извиваясь спиралью, помчались вверх толстые колбасы огня, оставляя за собой дымные шлейфы. С лёгким фукающим взрывом расцветали бутоны искр. Над лесом заколебались муаровые ленты сияния. Ребята истошно вопили и прыгали. Знакомый мир воскресал в какой-то новой, сказочной жизни. Всё мерцало, переливалось, зыбилось. Лес застыл, оглохший от шума. Звёзды ослепли от света летящих огней. Пролетавшие птицы были похожи на попугаев. Деревья меняли цвет, как хамелеоны. И всё небо превратилось в разноцветную карусель.
В самом центре мироздания застыла главная героиня праздника — ёлка, ждавшая, когда её подожгут. Когда же салют начал меркнуть, когда цветные сполохи с лёгкой судорогой уходили в ночь, а птицы гасли, как фонари, в эту минуту вокруг ёлки засуетились костровые с факелами в руках. И сразу по нижним ветвям с ветки на ветку словно бы запрыгали белочки и бурундуки. Но вот они стали сливаться, на глазах превращаясь в кошек, гиен и волков. Они кусались и царапались до тех пор, пока над ними не выросли Лев и Змей Горыныч. Они встали на дыбы, облапились и зарычали, обдирая друг другу бока и разбрасывая кровавые клочья.
Когда ребята, прикрыв ладонью глаза и став бочком, зачарованно смотрели на эту схватку, а костровые подбрасывали новые охапки хвороста, когда Горыныч, лязгая челюстями, сожрал Льва, но и сам, обессиленный, превратился в обугленный труп, в это время на кривой верхушке ели засветился предмет, похожий на слиток серебра. Предмет с минуту выделялся своим нездешним блеском. И вдруг яркая, громадная, страшная вспышка с грохотом сотрясла окрестности, лес оглушительно толкнулся в небо, расцвёл сиреневым облаком и стал опадать ливнем сочных огней. И это был, наверно, конец света, так это было торжественно и красиво. Ручьями стекавшие огни разливались по кустам, траве и ветвям соседних деревьев, по земле потекли клубы дыма, на глазах превращаясь в тучных колей. Фыркая и гогоча заливистыми голосами, они заметались вокруг костра, полоща хвостами. И тогда все увидели, что это были обыкновенные кони, которых сельские ребята перегоняли в ночное. И чуть ли не половина мальчишек во главе с пиротехником Смагиным устремились к коням. Внезапно появившийся табун смял распорядок программы и унёсся в темноту
БЕЗ ВСЯКОЙ ЛОГИКИ
Накрапывал дождик. Ветер носил по территории лагеря чёрные хлопья, нагоняя тоску и уныние. Лагерь жил в ожидании грозных комиссий. Ребята бродили, не зная, куда приткнуться. Броня, с подгоревшей косой, тщательно упрятанной под пёстрый платок, ожидала разноса и весь день жила с ощущением жуткого конца. Припухшие веки, красный носик делали её похожей на жалкого цыплёнка. Голова раскалывалась от бессонной ночи. Слава богу, никто не погиб, пожар был ликвидирован, суматоха улеглась, но она растравляла себя и находила в самобичевании горькую усладу. Она была ответственной за костёр и должна понести расплату одна, никого не припутывая. Несколько раз ей попадался на глаза Яков Антонович, окружённый конвоем ребят, но он не замечал её. Ну и пусть!
Вечером Броня решила сходить на пепелище. Там толпились малыши, бегали по кострищу, возбуждённые, словно бы дожидаясь повторения вчерашнего чуда. Броня хотела уйти, но её обступили ребята, и она, словно специально за этим пришла, попросила их заняться уборкой. Они собрали в кучу хлам, оставшийся после костра, головешки, игрушки, остатки маскарадных костюмов, ящики, чтобы сжечь всё это на новом костре. Кто-то принёс смятую банку, похожую на канистру. Броня поинтересовалась, как здесь очутилась банка, но ребята пожимали плечами, а двое из них многозначительно переглянулись. Броня перехватила их взгляды, но не стала учинять допрос и тихо ушла.
До самого отбоя она бродила по лесу и думала: неужто это всё, что осталось от радости? Уныние и горечь охватили её душу. Вдруг вся её будущая деятельность, поприще педагогики, которому она собиралась отдать себя без остатка, затянулась дымкой безразличия. Зачем учиться, думать, страдать, искать, отказывать себе в обыкновенных радостях, забывать свою юность, чтобы после тебя осталась жалкая горстка пепла? А жила ли она до сих пор? Изведала ли радости, которые бывают только в молодости? Она внезапно остановилась в растерянности — ведь ей всего девятнадцать! Смешно это или грустно, но ничего такого, что называют любовью, она не испытала. Ни разу её не обожгло горячим безумием, не ранило болью. Броню охватил страх. Жизнь её сгорит, как бенгальская ракета, и в составе пепла, который останется после неё, никаким анализом не удастся обнаружить следы счастья и томления, о которых так много написано книг. Вот парадоксы жизни, в которых, сколько ни ищи, не найдёшь никакого смысла. После всего, что случилось, её застигла врасплох самая постыдная, глупая, жалкая мысль о любви. Ну где тут логика?
Броня усмехнулась от внезапно пронзившей её жалости и презрения к себе. Что-то унизительное, мелкое, мещанское было в этой слабости. Но она была не из тех, кто сдаётся. Холодно разобравшись в своих чувствах, она пришла к выводу, что нет, не зря она давно уже отказалась от любви как важной цели жизни. Хватит с неё того, что ещё в девятом классе она однажды подверглась этому испытанию, затеяв с В. В. глупую переписку, которая довела их отношения до свиданий и поцелуев, глупых, холодных и гадких поцелуев. Он так домогался поцелуев, хоть одного поцелуя, что, когда наконец, спрятавшись в тёмном подъезде, прижался к её холодной щеке, он стал с того времени почти преследовать её, упрекать, ревновать неизвестно к кому, словно приобрёл над нею какие-то особые права. Вот тогда-то Броня и разочаровалась окончательно в любви. Из этого единственного и последнего, как она считала, опыта Броня поняла одно: любовь — это посягательство на свободу, независимость и достоинство личности. Она с отвращением перебирала в памяти свой неудавшийся роман и не находила в нём ничего, кроме того, что, идя навстречу этому ревнивцу, она будет вынуждена отказаться от себя, от своих идеалов и надежд и неизбежно превратится в рабыню.
Такими рассуждениями Броня подавила в себе сожаление о неиспытанном чувстве. И сразу наступило облегчение. Всё стало на свои места. Она овладела собой и снова обрела веру в осмысленность жизни. И ясны стали заботы, ей предстоящие. С костром покончено. Никаких продолжений. Переключить жизнь лагеря на обычный распорядок. Свести до минимума вылазки за пределы лагерной территории. Завершить начатое распределение шефства старших над младшими. Максимально загрузить ребят общественной, спортивной и культмассовой работой. Положить конец набегам на лагерь лесных дикарей. Решительно оборвать их дезорганизаторскую деятельность. И ни в коем случае не возобновлять о них разговора с Яковом Антоновичем. Решительно поговорить с Рустемом. И заставить его взяться за лесных варягов
Жизнь сразу вошла в свои берега. И странно — прошла головная боль, чуть было не склонившая её к мысли, что она заболела и должна будет слечь. Она широко вздохнула от прилива энергии. И с благодарностью вдруг вспомнила некоего, по всей видимости, сумасшедшего человека, на встречу с которым её затащили как-то её приятели-студенты. Где-то в подвальном помещении ЖЭКа, в красном уголке, этот высокий, худой, большелобый, с мерцающими, в себя устремлёнными глазами человек ораторствовал четыре часа, сопровождая свою декламацию длинными движениями тонких, нервных рук, порой вскидывая выше головы свои сухие ноги, демонстрируя гибкость своего тела, которое он разработал собственной системой гимнастики. Понимая всю псевдонаучность его рассуждений, Броня всё же ушла с этой встречи с чувством головокружительной уверенности, что человек может всё. Она с неделю жила под впечатлением встречи с этим, в сущности, престарелым ребёнком, жившим в своём абсолютно свободном, ничем не стеснённом мире возможностей, в котором человек может подчинить себе не только свою душевную жизнь, но и физиологию.
«Есть ли пределы человеческих возможностей? Можно ли переделать самое себя? Других? Использовать кое-кого как материал для приложения усилий. Постановка на эксперимент».
Глава 4 СВИДЕТЕЛИ «СИНИСТРИОНА»
ВОЗДУШНЫЕ АКРОБАТЫ
С полчаса они пробирались тропками, и всё это время Броня не умолкала.
— Я человек несуеверный, но честное слово, происходит какая-то чертовщина. И ты наверняка это знаешь, но играешь со мною в прятки, как будто это моё личное дело, как будто это не касается жизни лагеря. Я официально тебе заявляю: если так будет продолжаться дальше, я вынуждена буду принять серьёзные меры. Какие? Об этом ты узнаешь в своё время. Сегодня утром я уже кое-что прояснила для себя. Теперь посмотрим на это с другой стороны
Самое невыносимое — он слушал её с терпением и добротой. Он просто убивал её своей вежливостью. Он отклонял ветки на уровне её глаз, словно они угрожали не ему, увечному, а ей, сильной, лёгкой и точной в движениях. Он подбадривал её кивками и очень приветливо поглядывал на её вздёрнутый носик, тут же соскальзывая на кончик её косы, болтавшейся у пояса. Говори, дескать, говори, забавляйся, ты умница, а сейчас ты играешь, и неплохо играешь, а вообще-то ты умница и сама это знаешь, и симпатичная умница, и ты мне нравишься, у тебя такая серьёзная славная мордашка, но я тебя слушаю, слушаю, очень внимательно слушаю.
Внезапно Рустем схватил её за руку и задержал возле берёзки.
— Ты ничего не заметила?
— Нет, а что? — испугалась Броня.
— Я имею в виду берёзку. Не правда ли, хороша?
— Берёзка?! — удивилась Броня, сбитая с толку. Значит, всё, что она говорила, он просто пропускал мимо ушей.
— Я не могу объяснить, почему мне нравится эта берёзка. Просто хочется смотреть на неё, и точка. А вот на эту сырую ложбинку с жёлтыми камышами смотреть противно. Ты не знаешь почему? Я тоже не знаю. Я просто отворачиваюсь от неё и не смотрю — ив этом ответ
Броня всплеснула руками. Она ему про Фому, а он ей про Ерёму!
— Послушай, что со мной однажды случилось, — продолжал Рустем, восторженно потирая руки. — Однажды я задремал в лесу и проснулся оттого, что кто-то шевелился в моём кармане. Это был бельчонок. Он нагло влез туда, почуяв кедровые орешки. Я оттопырил карман, и он преспокойно вылез оттуда, зажав в щеках орех. Что ты на это скажешь?
— В огороде бузина, а в Киеве дядька — вот что я скажу!
— Ну да, ну да, конечно, — промямлил Рустем, поднял с земли листок дуба и вдруг, опять воодушевившись, спросил: — Не напоминает ли тебе что-то листок?
— Я вижу — тебе всё до лампочки, о чём я говорю
— Посмотри на его силуэт: не правда ли, он повторяет крону самого дуба? Даже в таких мелочах видно, как природа заботится о сохранении вида. Это печать, знак, иероглиф индивидуальности
— Чем дальше в лес, тем больше дров! — остановилась Броня.
— Тс-с-с! — прошептал Рустем, поднимая палец.
На ветке бересклета покачивался птенец. Он пошевеливал крылышками, словно бы отряхивался. Потом повёл головкой и уставился на палец, закоченев от любопытства.
— Лопух! — рассмеялся Рустем, приглашая рассмеяться и Броню. — Как тебе нравится этот молодой дурачок! Он, оказывается, ещё летать не умеет, а тоже ещё — не боится
Рустем увёл Броню подальше от куста, птенец, пискнув, слетел с ветки и довольно уверенно, хотя и не быстро полетел на берёзу. Рустем сиял.
— Между прочим, должен тебе сказать, что почти всё живое рождается без страха за свою жизнь. Ты согласна со мной? Я не ручаюсь, конечно, за научность утверждения, но, по-моему, человек — единственное животное, которое испытывает страх перед неизвестным. Что ты скажешь на этот счёт?
Броня смотрела на него с лёгким изумлением. Она уже подыскивала слово, чтобы сбить с него восторженность, но в это время они вышли к реке и оглохли от шума воды. Над валунами, раскиданными на берегу, вскипали и опадали пенные волны. Казалось, камни дышали. Правее уступами тянулась на другой берег реки целая гряда скал, и Рустем повёл Броню туда, на ходу стягивая майку.
— Ты что это? — не поняла Броня.
— Я мусульманин и должен сделать омовение в священных водах этой реки
— С ума сошёл! Кто же здесь купается?
Броня здесь не бывала. Прыгая с валуна на валун, Рустем потащил её куда-то вверх, откуда открылась цепочка каменных впадин, в которых накопилась выплеснутая ещё весенними паводками вода, успевшая кое-где зацвести. Здесь Рустем сбросил кеды и вскарабкался на острый выступ гранита, взмахнул руками и прыгнул вниз, сделав в воздухе замысловатый поворот. Броня обогнула, скалу и осторожно всмотрелась. Рустем что-то кричал, но из-за грохота ничего не было слышно. Тело его фосфорически переливалось, руки колыхались, как плавники. Он словно бы летел в воздухе, и только по некоторой дрожащей размытости очертаний можно было догадаться, что он плавает в одной из каменных ванн. Такая это была фантастическая игра света и тени!
— И не стыдно тебе? — сказала Броня, когда Рустем, тяжело дыша, выполз на валун и разлёгся у её ног, как тюлень.
— Что за вопрос — конечно, стыдно! — сказал Рустем. — Только прости, а за что мне должно быть стыдно?
— Ведь и простофиля догадается, что ты часто ходишь сюда, и я уверена, что не один, а тайком с ребятами
— Ой, как ты права! Ой, как ты права! Если бы ты знала, как ты права! — рассмеялся Рустем. — Только почему же, почему тайком? Можешь к нам присоединиться
— А мы всё острим! А мы всё смеёмся!
Рустема сегодня словно подменили. Он совершенно распоясался. Что-то мальчишеское, дикое, неожиданное было в его сегодняшнем возбуждении, в его речах, в этом купании, и вся их вылазка складывалась кувырком — совсем не так, как она предполагала. Интересно, что он выкинет ещё? Рустем не заставил себя ждать. Он схватил одежду и, прижимая палец к губам, поманил её за собой, и она пошла, ничего не понимая, а он между тем повёл её колючими кустарниками, и так они шли, пока не выбрались на открытую площадку с каменным козырьком, с которого полого свисал дикий виноград. Он раздвинул зелень.
— Замри!
На другом берегу реки поднималась в небо скала, и на вершине её стояли три мальчика. Броня присела, чувствуя жуткий приступ малодушного страха. Она подумала, что случится несчастье, потому что ребята возились с какой-то колодой, и по скале, змеясь, опускался трос, и неизвестно, что они собирались делать, колдуя над колодой. Уж не бросать ли её со скалы? Однако Рустем не проявлял беспокойства — он следил за мальчиками, прищурив глаза. Потом началось что-то странное: один из мальчиков, коротышка, большеголовый, вдруг стал спускаться, перебирая руками и ногами, цепляясь за уступы, а потом беспомощно закачался, как маятник, и только тогда Броня поняла, что он висит на тросе, ползущем из лебёдки. И так, толчками, двое других то опускали его, то задерживали в воздухе. Непонятно, куда вёл спуск, потому что внизу ревела река. Всё это было похоже на сумасшедшую игру, которая могла скверно кончиться. Наверно, и в самом деле что-то случилось, потому что коротышка вдруг исчез, а на его месте осталось чёрное пятно. Броня протёрла очки. Это было не пятно, а дыра. Наверно, всё-таки что-то случилось, потому что Рустем вытер лоб, покрытый каплями пота. В довершение мальчики куда-то исчезли.
— Ну, как тебе эти воздушные акробаты?
Снизу стала наползать на скалы чернота. Вершина, на которой только что были мальчики, вспыхнула тёплым розовым светом и погасла. Рустем взял Броню за руку и осторожно повёл вниз, удаляясь от шума воды, пока совсем не затихло. И тогда из тишины вдруг вылупились беспечные голоса мальчишек, а на другом склоне ущелья запрыгал пучок света, скользя по кустарникам, потом рассеялся над пропастью и снова собрался в пучок на другой стороне. Рустем и Броня протиснулись в расщелину и затаились.
— Кто это? — спросила Броня.
— Сейчас узнаем, — сказал Рустем, опускаясь на корточки. — Если только будем тихо сидеть
ПРОГРАММА «СИНИСТРИОН»
— Гуд бай, ребятки! Скажите девочкам, что хватит борщей. И вообще поменьше жратвы, а то развели свинюшник. Вчера здесь дикая свинья с поросятами крутилась, пришлось шарахнуть из пистолета Это я брехун? Я самый честный человек на свете. Я вру только по пятницам, а сегодня вторник. Ну ладно, дуйте и не отвлекайте нас от работы
— Савкин просится на станцию, — раздался робкий голос.
— Не Савкин, а Свейн! Сколько раз говорить? Базиль, что прикажешь делать со Свейном?
Базиль разматывал моток белого шнура и не отозвался. Боб осветил его сгорбившуюся фигуру и уверенно распорядился от его лица:
— Передай Свейну, пока он не выучит шифр и не будет шпарить без запинки, к голубям мы его не допустим! И так нам всю связь чуть не запорол. Ну ладно, топай!
Послышались удаляющиеся шаги. Базиль раскладывал кольцами трос. Боб жужжал над ним фонариком.
— Я считаю, Базиль, что мне надо научиться кидать. А вдруг тебя захватят в плен, кто же наладит канатную дорогу? Сегодня я долго тренировался и добился успеха: каждый пятый снаряд попадал в цель. И не какие-нибудь там камешки кидал, а настоящие булыжники, ты это учти. И вообще я стал физически страшно здоровым. С быком мне ещё бороться трудно, но козу я валю запросто. Мускулы у меня стальные — можешь пощупать. Я теперь могу сделать сразу двадцать три приседания. И даже на одной ножке Смотри, как я на левой
Осторожное покряхтыванье — и вдруг грохот падения. Базиль подхватил Боба, втащил его наверх, отряхнул и осветил фонариком.
— Лапоть ты, вот кто, — сказал он.
— Согласен, — сказал Боб, потирая бок. — Я не учёл, что здесь рыхлая почва
— А ты учитывай
— Постараюсь в дальнейшем. Подожди, не бросай, я сперва посвечу Итак, можно. Раз два три!
В зыбком свете сверкнул камень, волоча за собой белый капроновый шнур. Камень ударился в склон и упал в пропасть. Пучок света заметался, исчез и снова вспыхнул. Камень полез вверх, подскакивая на выступах.
— Надо было выше метра на два, — сказал Боб.
— А ты не крутись под рукой. Чуть в тебя не попал.
— Хорошо, я стану подальше. А вообще-то я скоро буду бросать не хуже тебя. Конечно, нам никогда не достигнуть точности, с которой бросают индейцы. Они тренируются с детства, у них рука и глаз — как будто одна система. Если бросать всю жизнь с утра до ночи, так любой научится. Интересно, кто это там двигается? Не бык ли? Теперь его не вытуришь оттуда. Он только Юргиса боится, а Юргис уехал с отцом в город. Ну ладно, всё. Можешь бросать без подсветки, учти!
Стук, шелест осыпающегося щебня и долгий плеск внизу.
— Кажется, зацепило
Над пропастью закачался трос, соединявший противоположные склоны.
— Базиль, поздравляю тебя! Канатная дорога — представляешь, какое это удобство? Положим, идёт погоня
— Это за кем?
— Ну, скажем, за тобой. И вот ты бежишь, перебираясь со скалы на скалу, а враг догоняет. Он совсем уже близко. Остаётся каких-нибудь сто ярдов. Он должен поймать тебя живым, иначе плакали денежки, обещанные за твою поимку, — целых тысячу фунтов
— Это сколько же на рубли-то?
— Ах, не отвлекай, пожалуйста! Фунты, рубли, не всё ли равно? И вот, когда он — ха-ха! — считает, что денежки у него в кармане, ты — хоп! — кидаешь моток через пропасть и в какие-то считанные секунды уже на другой стороне.. <
— Ну, а он что?
— А он только хлопает ушами и рычит от злости
— Ну, а я что?
— А ты ему: «Пардон, мусью, сочувствую, но ничем помочь не могу». Базиль, я просто в восторге!..
— Отойди-ка, а то на трос наступил
— Прости А ведь это только начало. К тросу можно приладить подвесную люльку на роликах, сядешь в неё, оттолкнёшься и полетишь над пропастью, как на планёре!
— Это как же?
— К люльке можно крылышки приделать, будет совсем как в парке культуры. Я считаю, что со временем можно будет открыть аттракцион. Пусть все катаются, без ограничений
— Это почему же без ограничений?
— Впрочем, ты прав, этак сюда ринутся оболтусы и тунеядцы, всех растолкают, захватят дорогу и будут кататься на ней с утра до ночи. Эй, ты, куда полез? — закричал Боб, замахав руками, будто и в самом деле у аттракциона уже толпились мальчишки.
— Ты чего орёшь?
— А чего он лезет без очереди? — сказал Боб потише, но тут же снова поднял голос: — А ну выходи! Ишь, пижон! Как дам — вверх тормашками полетишь! Базиль, скажи ему словечко, а то он драться лезет!
Базиль, уже привыкший к «массовым сценам», которые часто разыгрывались в буйном воображении Боба, оторвался от работы:
— Всю тайгу распугаешь. Ты потише ори.
— Уф, жарко даже стало! Ну нет, мы бесплатно пускать не будем, а сделаем так: хочешь прокатиться — плати!
— Это верно, за денежки
— Нет, только не деньги, а что-нибудь другое — шишки, орешки, лук, морковку, яички.
— Морковка — ерунда
— Ну, тогда лучше так: по талончикам. Построй скворечник, клетку для белочки, посади дерево, убери участок леса, поймай браконьера — пожалуйста, получай талончик и катайся
— Так он тебе и дастся, браконьер
— Ну, бог с ним, без браконьера обойдёмся Зато деревья будут сажать. . . Эй, куда сухую ветку втыкаешь? Обманывать вздумал? . . А ты чего плачешь? Талончик отобрали? Это кто такой нахал? Нет, братцы, так у нас не пойдёт! Кто хоть раз обманет, целый год даже близко не подходи! Мошенникам и лентяям вход на воздушный паром воспрещён! Я сказал и больше повторять не буду! А кто не слушается, тот будет иметь дело с самим шефом. А шеф говорить не любит — он как трах
— Стоп! Кажется, зацепились
— Ух ты! А ну-ка, не тяни сам, давай вместе Я тебя подстрахую Раз-два, взяли! Эх, дубинушка, сама
Грохот, шум падения и шелест осыпающегося щебня.
— Ну ты и силён! — сказал Базиль, отдуваясь.
— У меня теперь так много сил, что трудно точно рассчитать, — оправдывался Боб. — Хорошо, что это испытания, а представляешь, если будешь висеть над пропастью — и вдруг оборвётся?
— С тобой влипнешь
Базиль вытащил из расщелины моток колючей проволоки.
— А это что такое? — спросил Боб. — Проволока? Чего ж ты про неё ничего не сказал? А что будешь делать из неё? Ага, всё ясно. Камни только для тренировки, а трос лучше закрепить вот таким ежом. Логично!
— Не крутись под рукой.
— Прости! Я считаю, что теперь можно обсудить программу «Синистрион». Начнём, пожалуй, с экипажа. О командире и его первом заместителе говорить не будем. Это, по-моему, ясно. Теперь вот Юргис У тебя на его счёт были какие-то сомнения?
— Трепло парень
— Трепло, я с тобой согласен, и мы его терпим из-за отца и «Жигулей». Без машины, сам понимаешь, перебросить сюда столько груза было бы непросто
— Это верно
— В общем, человек нужный, значит, оставляем А что ты думаешь насчёт Гревса?
— У него чахотка
— Не чахотка, а простой бронхит. И вообще я считаю, что надо пересмотреть список болезней, из-за которых нельзя лететь. Мы попросим дедушку разработать новый устав. Сейчас строятся такие благоустроенные ракеты, что какое могут иметь значение всякие там ангины, бронхиты, язвы желудка. Но ты на это скажешь: «А вдруг на Синистрионе притяжение в семь раз больше, чем на Земле?» Скажешь ведь? А я тебе на это отвечу: «А лучелёт на что?»
— Это что ещё такое?
— Ну, антигравитон, иначе говоря.
— М-да, — промычал Базиль, не успевая следить за скачущей мыслью Боба.
— Гм, гм, в этом пункте ты, пожалуй, прав. Здоровье космонавта должно быть абсолютным. Верно ведь?
— Ясное дело
— Тогда идём дальше. Кого мы возьмём из женщин? Вообще говоря, я считаю, что космонавтика пока ещё не для женщин. Конечно, только на первых порах. Когда начнутся регулярные рейсы, тогда пожалуйста, тогда пожалуйста
— Ну-ка отойди
— Хорошо, отойду метра на три Базиль, тебе не кажется, что за нами кто-то следит? Ты думаешь, рысь, о которой рассказывал лесник, на людей нападает? А как ты считаешь, она испугается стартового пистолета?
— Ещё немного отойди
— Пожалуйста. Животные ведь не разбираются, настоящий это огонь или игрушечный Впрочем, что мы знаем о животных? Но не будем отвлекаться, нам ещё надо обсудить с тобой некоторые кандидатуры. Значит, если ты в принципе не против женщин, то кого бы э стоило предпочесть э Озу или Мимозу?
— Ты чего экаешь! Кто тебе нравится, ту и бери.
Базиль отгибал плоскогубцами и откусывал заусенцы на проволочном еже.
— Да но зачем же Я просто ну вот ещё с чего это?
— Какая тебе разница — они ведь одинаковые
— Ой, что ты!
— А то, если хочешь, сразу обеих бери замуж за себя Бобка невесело рассмеялся:
— Конечно, теоретически э жениться сразу на двух История Востока с его многожёнством делает этот вопрос теоретически разрешимым
— Ну и женись
— Да, но если все будут э то на всех не хватит женщин
— Тогда выбирай, какую хочешь, а мне останется другая
— Базиль, прошу тебя, не говори так
Разговор о сёстрах Озе и Мимозе конфузил Бобку. И он перескочил на другое:
— Кстати, что ты думаешь насчёт Смыга? Он, по-моему, не очень надёжный человек. Но, с другой стороны, кто лучше него разбирается в пиротехнике? Значит, оставляем. Теперь о шефе. С ним всё ясно. Шеф возглавит центральную базу снабжения. Космическое топливо сейчас — проблема номер один. Наш опыт с бензином надо рассматривать как неудавшийся эксперимент. А кто возглавит службу космической информации? Я думаю, что на эту должность подошёл бы Бронден
— Это Кобра, что ли?
— Базиль, мы договорились, кажется, не пользоваться земными именами, в том числе и кличками. Плохая конспирация может поставить под угрозу всю программу «Синистрион». Так вот, о Брондене У него хорошие организаторские способности, он доказал это во время костра. Но, с другой стороны, Бронден очень любит командовать, а это может вызвать осложнения. Бронден, кстати, усиленно следит за нами в последние дни. Сегодня он с утра болтался в лесу. Я заметил его с наблюдательной вышки и хорошо разглядел в бинокль: он ходил и рассматривал что-то, а потом записывал в блокнот. По-моему, он охотится за ребятами, которые бегают к нам. У него был компас. Боится заблудиться, как тогда. Нет, с такой ориентацией, как у него, делать ему нечего у нас Базиль, тебе ничего не кажется?
— А чего?
— Мне всё почему-то кажется, что за нами следят. Речка заглушает любые шумы, а этим может кто-то воспользоваться и незаметно подкрасться Ой!
— Чего ты?
— Мне показалось, кто-то мелькнул на той стороне А может, это у меня в глазах мелькает? Я говорю, говорю, говорю, чтобы не заснуть Я ещё поговорю немного, ладно? А что ты скажешь, если посыпать тропку мелом?
— Это зачем?
— Утром посмотрим: ага, кто-то здесь был! А по следам легко найти лазутчика и устроить засаду Э а о До чего же спать хочется! Я, пожалуй, пососу конфету, а то у меня после курева гадко во рту. Выпить молочка бы недурно
— А ты козу подои.
— Она куда-то исчезла. Если хозяин не найдётся, мы официально объявим, что это наша собственность, и зачислим её в экипаж. У неё характер спокойный, а это очень важно. Когда я первый раз доил её, я ужасно боялся, что она боднёт меня или опрокинет миску Базиль, а Базиль, ты не спишь там?
— С тобой заснёшь разве.
— Чего-то мне кажется, что нас кто-то подслушивает. Или я уже сплю и всё это мне снится? Чего ты возишься так долго? Готово, что ли? А ну-ка дай посмотреть, что у тебя получилось. Ого-го! У, какой ёж-ежище! Вот это здорово! А если надо будет срочно отцепить, тогда как?
Базиль показал хитроумное устройство — патрон, присоединённый к тросу. Перебрался на другую сторону, щёлкнул патроном — и пожалуйста: трос разъединяется на две части, и никакие преследователи тебя уже не догонят.
— Дай и мне забросить разок, — сказал Боб. — Ну что тебе стоит? Ну я прошу тебя, Базиль!
— Ладно, бросишь разок и больше не проси. Сильно не замахивайся. Если зацепит, оставим так и спать пойдём, а завтра утром придём. Сейчас отмотаю, чтоб не запуталось. До трёх считать буду, на счёт «три» бросай Раз два
В синем проёме неба сверкнул белый трос. Послышались стоны. Мальчики присели на корточки. Они потянули трос на себя, пытаясь оторвать его, но трос сопротивлялся.
— Ёлки-палки, так и знал, что-нибудь случится
— Вот это да! — Голос Боба клокотал от страха и ликования. — Я ведь говорил, что кто-то за нами следит!
В каменном грохоте реки возникли новые звуки — свист и гудение. В небе повисла комета, вспыхнула сиреневым облачком и рассыпалась на
звёздочки. Мальчики двигались у обрыва, то подступая к пропасти, то отступая.
— Кого-то поймали! — сипел Боб. — А -вдруг, Базиль, это чудище с другой планеты?
Трос вдруг ослаб, и мальчики упали на спину. Они осторожно вытянули трос из ущелья и осветили фонариком — ёж был весь в тине и клочьях травы.
— А я-то думал — разочарованно протянул Боб.
— Ладно, пошли спать. Завтра разберёмся
Скрип веток. Удаляющиеся шаги. В небе погромыхивало.
— Собирается дождь, — сказал Рустем. — Ты поспи, а я покараулю.
Броня сняла очки. Глаза её, беспомощные, сонные, закрывались от усталости. Она растрясла косу и укрыла ею голову, как пуховым платком. Сквозь шум реки слышалось тонкое позвякивание колокольцев. Дрёма, тяжёлая, тревожная, спутала шумы и разомкнулась чёрной пропастью сна
Глава 5
РАЗВЕДЧИКИ КЛИАСТЫ
(Фантастический сон)
НА ЭКРАНЕ - ЦИРВАЛЬ
[ «Разведчики Клиасты» —глава, связанная с повестью весьма условно, лишь отдалённым смыслом, так что нетерпеливые читатели, не привыкшие к жанру фантастики, без особого ущерба могут её опустить. — Здесь и далее примечания автора.]
Ракета заискрилась и пошла на сближение с планетой. Она опускалась ощупью, как слепая, то задерживаясь, то рывками устремляясь в обследованные участки, пока не вошла в атмосферу. И тогда сквозь туман, сменяя друг друга, закачались коричневые, зелёные, синие пятна. Медленно раздвинулись ангары спуска, и гравилёт, выдавливаясь, как паста из тюбика, двумя гибкими отростками выполз из корпуса ракеты. Рывок, ещё рывок — и вот гравилёт пошёл на снижение
Это было чем-то вроде парашютного спуска в пропасть, о которой ничего не было известно, кроме того, что она состоит из трёх физических сред — газообразной, жидкой и твёрдой. Но отступать было поздно. Мосты сожжены. Последнее «прости» орбитальной ракете, звёздочкой мерцавшей в космическом мраке. Доведётся ли ещё вернуться на неё?
Не будем, однако, предугадывать события и последуем за Муком и Лаюмой, которые с волнением взирали на незнакомую планету Цирваль, цветным клубком проступавшую на экране, и медленно, как в тёплую ванну, погружались в плотные, по виду белые, дымчатые, розовые торосы облаков. Данные микрозондных ракет, выпускаемых из гравилёта, успокаивали: столкновения с облаками были безопасны. Внизу темнела холмистая поверхность планеты. Рядом с лавообразным жидким потоком раскинулась лагуна, где в скалах можно было спрятать гравилёт. Выйдя из него, они смогут свободно парить в своих мягких скафандрах, связанные электромагнитным тросом. На экране уплотнялись сочные массы зелени, ослепительно яркие после галактической ночи. Лихорадочное щёлканье приборов. Мягкие пробные толчки. Выключение всех двигателей. И наконец — остановка.
На этом месте наши герои могли бы радостно вздохнуть, прокричать «ура» и обняться, если бы хоть в отдалённой степени походили на людей. Увы, это было не так. При всём при том Мук и Лаюма были предельно возбуждены. Бешеный поток биометрических сигналов свидетельствовал о том, что они достигли своей цели: планета Цирваль, на которую они совершили посадку, была мощным источником жизни
«Я СЧАСТЛИВА, Я ПЛАЧУ! . .»
Мук и Лаюма долго молчали.
— Мук! Мук! Мук! — наконец застучала Лаюма, выходя из обморочного состояния и посылая серию сигналов. — Отзовись, умоляю тебя!
Мук не сразу оторвался от приборов, поглощённый анализом и обработкой информации, поступающей с поверхности планеты.
— Я слушаю тебя, Лаюма. Что-нибудь случилось?
Ему не надо было расшифровывать сигналы Лаюмы, в которых были робость, нежность и волнение, вызванные удачей, так блестяще увенчавшей их долгое и трудное путешествие. Он бросил беглый взгляд на её проводники, разогревшиеся от возбуждения, не нашёл ничего опасного и снова погрузился в сложные расчёты.
— О Мук! — продолжала Лаюма, успокаиваясь. — Я сейчас приду в себя. Я взяла себя в руки. Мне уже лучше, Мук! Теперь совсем хорошо. Подумай только: сколько бесстрашных клиаргов [К л и а р г и — слово, примерно соответствующее понятию «космонавты». Просим читателей не путать клиаргов с клиастянами — просто жителями планеты Клиаста.] не вернулось, для того чтобы мы оказались здесь! Я счастлива, я плачу! .. И что бы ни случилось с нами, я хочу — ты слышишь, Мук, я хочу, — чтобы ты знал, что последней моей мыслью будет мысль о тебе. Я благословляю тебя, Мук! И если мы погибнем, если нам не суждено вернуться на Клиасту
Поневоле приходится прибегать к высокому стилю, чтобы хоть как-то передать характер их сигнальной связи, не имеющей ничего общего с языком в нашем понимании слова. Мук оторвался от приборов и прокрутил в своём сознании последние сигналы Лаюмы.
— В чём дело, дорогая? — ласково спросил он. — Почему ты вдруг заговорила о гибели? Мы в преддверии победы, а ты вещаешь о гибели! Я настаиваю — ты слышишь? — я требую, чтобы ты перестала сомневаться. Ты должна верить в удачу! Подтверди, что ты слышишь меня! Но почему я не вижу на экране твоих сигналов? Что случилось, наконец?
ЭТОТ ХАОС, ЭТА СТИХИЯ
Долгая пауза, задержка связи. И наконец тихие позывные Лаюмы:
— Мук, я не понимаю, что творится со мной. Я не могу унять тревогу. Она уходит из бипсов, но появляется в плексах и рагдах [Бипсы, плексы и рагды — сложные единицы, выражающие силу возбуждения в разных органических частях, входящих в пластиковую структуру клиастян. Читателям лучше взять их на веру, не пытаясь в них разобраться.] . Я боюсь, чтобы она не передалась тебе, любимый. Ты слышишь, как бушует жизнь на Цирвале? Этот хаос, эта стихия! Я боюсь! Знай, мой милый, моя жизнь — та капля энергии, которой может не хватить тебе для возвращения. Моя жизнь — твоя, мой Мук. Она твоя!
Мук звал некоторую экзальтированность своей подруги, но сейчас её возбуждение отвлекало его.
— Лаюма, тебе хорошо известно, что твоя гибель — это моя гибель, это наша совместная гибель, — с мягким укором сказал он. — К чему ненужные волнения, когда мы вступили в это пламя, в этот яростный огонь всерождающей жизни? Ты посмотри, как мечется, клокочет этот энергетический хаос! Но мы войдём в него, войдём неторопливо и спокойно. Мы будем разумны и предусмотрительны. Каждый шаг наш будет выверен показаниями приборов. Успокойся, милая, и доверься мне, и мы вместе пойдём навстречу победе.
«ВОЗЬМЁМ С СОБОЙ ЭТО БУЙСТВО КРАСОК. . .»
Приём сигналов происходил порывами, буйное волнение вспыхивало и угасало. Приборы работали на предельных режимах, едва успевая осваивать информацию. Над Цирвалем стояло марево. Сдерживая световые лучи центральной звезды Суонг, густые клубы испарений смягчали палящий жар. Горячие потоки перемежались с прохладными, и газовые волны, возникавшие от разницы температур, раскачивали острые вершины растений. Жизнь на планете подавляла своим тираническим напором и мощью. Мук почти изнемогал, пытаясь разобраться в формулах, конвейером мелькавших перед ним. У подножия гранитного утёса, за которым покоился их гравилёт, сверкали грохочущие лавы жидкости — той самой жидкости, которая, как сокровище, хранилась в витальных резервуарах Клиасты. Вскоре наступила передышка. Теперь, когда был схвачен общий масштаб кипящей под ними жизни, Мук и Лаюма уже спокойно обменивались информацией.
— Мук, смотри на эти кущи, кроны и своды, полные соков! Неужели часть этой прекрасной жизни нам удастся подарить родной Клиасте? О, возьмём с собой это буйство красок, это яркое цветение! Кровь моя, бедная, слабая кровь, вскипает от радости! А что чувствуешь ты, дорогой?
Мук оторвался от приборов.
— Всё бесценное, что ты слышишь в себе, несомненно происходит и во мне, — сказал он, заражаясь её волнением. — Хотя, возможно, и не так интенсивно. Эти зелёные волны, признаться, сильно будоражат мою мысль. Если бы только удалось дикую мощь Цирваля влить в нашу умирающую планету! Это была бы огромная удача. Нам просто фантастически повезло, дорогая! Но не будем торопиться, не будем. Разум и научная совесть говорят нам: не ликуйте до срока, дайте вызреть знаниям, рождённым в опыте, а не в полёте досужих желаний! Кто знает, что сулит встреча с неизвестной жизнью? Заметь: мы увидели только верхний слой, насыщенный дикой энергией жизни. Но что нас ждёт внизу?
— Мук, в твоих словах я угадываю осторожный разум наших наставников, пославших нас в глубины Галактики. О, ты достоин своего учителя, великого Мукандра! Это скудная жизнь Клиасты разжигает фантазию и торопит мечту
— Да, да, Лаюма, как ты права — разжигает фантазию и торопит мечту. И это понятно — за нами трагедия умирающей Клиасты. За нами длинной чередой — тени погибших клиаргов. И всё же не будем торопиться
— О милый Мук, ты успокоил меня! Мне уже легко. Смотри, как мерно пульсируют мои бипсы, рагды и плексы. Во мне сейчас только радость, любовь и вера. Решай, мой милый! Твоя Лаюма верит в тебя и в нашу удачу. Я часть твоя, неотделимая часть
«О, СПАСИ МЕНЯ, МУК!»
Два голубовато-розовых образования с мягкими ответвлениями. Две актинии, замурованные в прозрачную конструкцию и увенчанные сверху шаровидными утолщениями с локационными рожками. Это и были Мук и Лаюма — студенистые массы, включённые в систему кибернетических механизмов, иначе говоря — сращения живого и неживого вещества, давшие форму почти новому виду жизни, вызванной кризисом умирающей планеты. И надо лишь удивляться, что эти бесформенные образования были способны на столь утончённые чувства.
Гравилёт был надёжно пришвартован за скалой. Сверяя каждое движение с показаниями приборов, обходя растительные колонии, Мук и Лаюма осторожно снижались, заботясь не столько о собственной безопасности, сколько о жизни им неизвестной, а потому неприкосновенной. Культ жизни, всякой малости её, крупинки, капли, крохотной частицы, вот уже многие квартумы [Квартумы — сложные единицы времени, включающие в себя коэффициент ускорения движения в пространстве; понятие, по своей сложности мало чем уступающее теории относительности, так что читателям, не имеющим специальной подготовки, едва ли стоит ломать голову над этим термином, как, впрочем, и над другими, которые будут встречаться в дальнейшем.] с тех пор, как клиастяне осознали начало своего упадка, стал чуть ли не религией. Так, на Клиасте уже давно были объявлены неприкосновенными не только сами клиастяне — представители высшей, разумной жизни, но и немногие животные организмы, обитавшие в заповедниках. Свято хранились и обожествлялись непонятного происхождения каменные идолы с двумя парами конечностей и конусовидной головой, чем-то напоминавшие наших кошек и собак, хотя не имели ничего общего с представителями клиастянской фауны, которые, так же как и сами клиастяне, были превращены в биопластические структуры. Святость жизни была заложена в самом генетическом коде клиастян и стала почти инстинктом. Вот почему с такими предосторожностями спускались Мук и Лаюма в нижние слои растительного покрова, пока не застыли в жёстко зафиксированном положении над котловиной, заселённой иглолистыми растениями. Растения поднимались несколькими ярусами, образуя амфитеатр, чем-то похожий на древние сооружения Клиасты, собиравшие световую энергию убегавшей звезды. [Это был неудачный опыт заполучения энергии, когда было открыто стоун-движение, необратимо удалявшее Клиасту по расширяющейся орбите и в конце концов выбросившее её в свободный полёт по неизведанным полям Галактики. Нынешний уровень нашей астрофизики, к сожалению, не может дать представление о сути стоун-движения.]. Теснота, в которой толпились растения, превосходила самые фантастические представления клиастян о концентрациях жизни. Это была гигантская колония, производившая чудовищную по своему напряжению работу синтеза и расщепления, с динамической мощью насосов качавшая и гнавшая по внутренним каналам подпочвенные соки. Шёл неутихающий взаимообмен веществ, рождавший энергию жизни. Экраны Мука и Лаюмы прямо-таки кипели и взбухали от меняющихся показателей, по которым можно было судить о незримых процессах, температурах, химических изменениях и энергетических затратах. Сбором и обработкой всей этой информации был по уши занят Мук. На помощь Лаюмы уповать не приходилось — в расчётах она была не очень сильна. Лаюма больше отдавалась внешнему созерцанию процессов, происходивших в растительном покрове Цирваля. Локационные ловушки её трепетали, впитывая наружные проявления, осваивая, так сказать, эстетический разрез жизни — пейзажи, звуки и краски.
— О Мук, а это что такое? Какой-то странный дурман входит в меня!
Лаюму поразили запахи — совершенно неведомые раздражители. Цивилизация Клиасты, перейдя на искусственные условия существования, успела начисто утерять представление о них. Жизнь на Клиасте не знала ничего подобного. Внимание Лаюмы, поначалу рассеянное, остановилось на бледном ветвистом ростке, издававшем тревожный запах. Чтобы разобраться в нём, Лаюма чуть приоткрыла фильтры, соединявшие экран с плазмой, и чужеродные частицы, сильно ослабленные, всё же прошли сквозь фильтры и достигли окончаний нервных волокон. Потрясённая Лаюма чуть было не лишилась сознания.
— Мук, Мук! — наконец опомнилась она. — О, что-то ужасно будоражит меня! Эти корпускулы источают сладостный яд. Они вонзаются в меня, как иглы, они ранят меня, вызывая боль. Они жгут меня. О, спаси меня, спаси!
НАША ПРЕКРАСНАЯ ДОБЫЧА
Но Мук уже и сам обратил внимание на бледные ветвистые ростки. В самом деле, они излучали что-то неведомое. Но, может быть, что-то аналогичное уже было в прошлом Клиасты? Мук был методичен и нетороплив. Даже в критические минуты его не оставляла обстоятельность. Возникшее предположение надо проверить. Мук прокрутил катушки прошлого Клиасты. Одна за другой, сменяя друг друга, промелькнули три эпохи — Вечного Холода, эпоха Великих сумерек, затем возникли протуберанцы центральной звезды, она приблизилась, и на экране возникла эпоха Великого Света. Сфокусировав изображение, Мук выделил крохотный участок Клиасты, на котором ярко полыхал луг с цветущими папоротниками.
— Лаюма, ура! Я поздравляю тебя с величайшим открытием! Ты открыла здесь, на Цирвале, то, что Клиаста уже пережила когда-то. Но, увы, дорогая, хроники прошлого запечатлели только звуки, линии и краски. В них нет излучений, которые тебя так взволновали. К печали моей, я не испытываю того, что узнала ты. Но какое счастье, что ты улавливаешь эти запахи! Значит, в тебе ещё сохранился дар непосредственного восприятия, и это самое ценное, что мы открыли в экспедиции. Значит, клиастяне ещё не утеряли возможностей возрождения. Значит, мы ещё вернём Клиасту к радостной эпохе нашего детства. Не будь я Мук, наследник великого Мукандра, открывшего стоун-движение, если мы не добьёмся своего! Следи, следи внимательно за тем, что происходит с тобой. Это наше открытие, наша прекрасная добыча. Ура, Лаюма!
— О Мук, не слишком ли много возлагаешь ты на меня? О, как я хотела бы послужить тебе и возвеличить твоё имя! Мук, милый мой, можно обратиться к тебе с просьбой?
— Изволь, дорогая.
— С тех пор как нам так близко открылся Цирваль, меня томит скованность. Я просто задыхаюсь от тоски, чувствуя на себе эти тяжкие латы из счётчиков и пластиков. А как бы хотелось сбросить с себя путы и подставить своё тело ласкающим прикосновениям запахов и красок. Я знаю, это риск, но я мне кажется. . . изведаю такое счастье, когда уже самая смерть не страшна Мук, возлюбленный, я должна сознаться, что я уже глотнула этого хмеля, но слишком мало, и меня гнетёт оттого, что мало Мне надо открыть фильтры, иначе иначе Я не знаю Я не хочу тебя тревожить, но я могу я уже О Мук, спаси меня, мне плохо!
Мук отбросил в сторону расчёты. Сумятица показаний на приборах Лаюмы, удесятерённый ритм бипсов, плексов и рагд свидетельствовали о наступившем внезапно бесчувствии — асфиксии. Муку пришлось срочно взять на себя управление её движениями. Он чуть приоткрыл электромагнитный щиток, закрывавший Лаюму от внешней среды, и сразу же приободрился — в едва шевелящейся и посиневшей фигуре Лаюмы появилась розовая дымчатость, испещрённая змейками капилляров, и где-то чуть левее от центра оранжевым комком проступило сердце, окружённое губчатым пластиком
— О Мук, возлюбленный мой! — вздохнула Лаюма. — Я, кажется, была в беспамятстве. Но сейчас я снова живу, вижу и слышу запахи! О, как они благоуханны!
— Да, милая, не зря мудрейшие отправили нас в просторы Галактики. С тех пор как мы вместе, у нас не было ещё такой удачи. Я должен признать за тобой заслугу первооткрытия
— Мук, я просто люблю тебя, вот и вся моя заслуга
Надо было срочно обработать информацию и послать на орбитальную станцию, летавшую вокруг Цирваля. Мук погрузился в расчёты, но Лаюма снова отвлекла его:
— Смотри, смотри, Мук, смотри! Что за диво, что за чудо летит к нам? О Мук, задержи — оно летит к нам! Что это? Что это?
КРЫЛАТОЕ ЧУДОВИЩЕ
Экран (вернее, комбинация экранов) мягко оплывал по углам, не вмещая существа, двигавшегося навстречу Лаюме. Трудно было с чем-то сравнить растущее на глазах чудовище. Отдалённо оно напоминало давным-давно вышедшее из обихода клиастян летательное сооружение. Но только отдалённо. Чудовище было бесподобно. Четыре прозрачных крыла, натянутые на перепончатый каркас, размахнулись по сторонам и дрожали, держа на весу узкое и загнутое к концу тяжёлое туловище. Крылья подчинялись изумительной по совершенству автоматической системе управления. Прикреплённые к нижней части головного устройства, они раздвигались и сужались под любым углом, превращаясь то в биплан с жёстким расположением параллельных плоскостей, то в сложные подъёмные геликоптеры, дававшие абсолютную свободу манёвра в пространстве. У Мука прямо дух захватило от этого инженерного совершенства. В отличие от древних клиастянских летательных аппаратов, неведомое существо обладало гибким, чутко вибрирующим туловищем, покрытым бархатной шёрсткой изумрудной расцветки. С боков свисали полужёсткие членистые конечности, служившие, очевидно, для фиксации тела на твёрдых покрытиях, склонах скал, валунах и стеблях растений. Нет, летательные аппараты древних клиастян были много проще. Такую свободу манёвра, которую давали существу гибкое туловище, шесть конечностей и система перепончатых крыльев, могла придумать только сама природа. Мук был в восторге. Что касается Лаюмы, она не могла прийти в себя от красок. О, эти краски, эти волшебные краски! Фисташковые круги на крыльях, яркие, мерцающие, зовущие, словно бы из них смотрела чья-то живая душа!
Крылатый красавец висел над ними, давая себя рассмотреть с разных сторон. И пока Лаюма, взволнованная, вбирала в себя таинственные резонансы, исходившие от него, Мук включил всю съёмочную аппаратуру, фиксируя его во всех фазах движения, поворотов, прыжков и падений. Биоизучающие приборы дрожали как в лихорадке, насыщаясь информацией о циркуляции жидкостей, таинствах реакций, происходивших в теле красавца, в его сердце, мозгу, кишечнике, мышцах и лёгких. Всё это — сконцентрированное, запечатлённое, разъятое на сотни разных показателей — станет их первым биологическим трофеем, который они доставят на Клиасту. Привезти красавца живым было бы невозможно, убить его, прихватив с собой мёртвое тело, не позволяла этика клиастян, но внезапней, видеограммы, фоноленты позволят создать кибернетический дубликат, которого хватит клиастянской науке надолго.
Следя за работой приборов, Мук не сразу заметил, как стали прерываться сигналы от Лаюмы. Дело в том, что крылатый разбойник обратил внимание на зыбкую розовую туманность, менявшую свои очертания в каком-то хаотическом ритме. Обманутый радужной раскраской, напоминавшей ему, очевидно, родственное или враждебное существо, он стал толчками приближаться к Лаюме, избрав её своей жертвой. Лаюма замерла в тревожном ожидании встречи и даже чуть приоткрыла экран, ловя исходящие от него призывы. Времени оставалось слишком мало, чтобы что-то предпринять. Охотник стремительно приближался, проецируясь на экранах в сотни раз увеличенными капиллярами, узлами, волнообразными толчками внутренних биофракций. Бездействие Мука было достойно удивления. Вместо того чтобы тут же перекрыть экраны Лаюмы, он всё ещё не мог оторваться от пришельца. Произошло столкновение. Забились крылья. Цепочкой прогрохотала серия чудовищных разрядов. Исполинские трещины накладывались на изображение розового круга. Возле него возник тёмный, бурый вихрь сцеплений.
— О, чёрт возьми! — заорал Мук. Он опомнился наконец и закрыл экраны Лаюмы.
Наступила тишина, на фоне которой возникали удары угасающей грозы. Лаюма находилась в долгом обморочном торможении. Из строя вышли её сигнальные системы, но продолжали функционировать биофракции в пластических структурах. Внешне она пострадала немного. Зато умирание пришельца являло собой страшную картину. Оно шло судорожными толчками. Шумы то бурно усиливались, то затихали. Путались, рвались плёнчатые крылья. В агатовых глазах угасал блеск. От крыльев остались цветные лохмотья
ТОРЖЕСТВО СМЕРТИ
Смерть торжествовала. В покое застыли обломки ещё недавно красивой, яркой, буйной жизни. Останки тела смешивались с опавшей листвой, принимая вид окружающей среды. С разных сторон уже торопились на пиршество смерти новые существа — грудобрюхие карлики. Они суетились, обнюхивали, изучали своими усами тело покойника, окостеневшего, ставшего похожим на мёртвый обломок среди мёртвых обломков, рассеянных на поверхности планеты. Вокруг него уже бесчинствовала новая жизнь. Коричневые, в крепких панцирях, мощно сбитые, с крохотными головками, оснащёнными страшными челюстями, с хорошо скоординированной системой ног, карлики проворно сновали вокруг поверженного великана, сбивая слюдяные участки крыльев, отсекая всё лишнее, что может мешать движению. Уцепившись с разных сторон, они с поразительной лёгкостью сдвинули с места и поволокли великанскую тушу.
И всё это в сладострастии любознания, которое заглушает даже страх смерти, в сильнейшем возбуждении наблюдал Мук, клокоча от жажды нового — самой сильной страсти, оставшейся клиастянам в наследство от прошлых поколений. Только этой страсти клиастяне были обязаны тем, что сохранились и не погибли на охладевающей планете. Дерзание мысли устремляло их в будущее, в котором сверкала тайна, разогревая тлеющие искры жизни, оправдывая и придавая смысл их скудному, лишённому соков существованию. Ибо что же ещё могла им дать бедная, бедная, бедная жизнь? В утешение и радость им остался только разум, мысль, тонкой плесенью расцветшая на зыбкой плазме, мысль бессмертная, самородящая, живущая за счёт нераскрытых тайн Галактики. Мысль жила и росла, питаясь этим единственным источником — голодом познания, приобрет-шим силу инстинкта
«О ГОРЕ МНЕ, ГОРЕ!»
Теперь мы поймём, почему Мук, захваченный разыгравшейся перед ним трагедией, забыл о страданиях Лаюмы. Он вспомнил о ней лишь тогда, когда свирепые карлики скрылись с тушей крылатого великана. С ней случилось что-то непоправимое. Её экраны были плотно закрыты — об этом он успел позаботиться, — но плазма утеряла свою прозрачность и подёрнулась синевой, и это он заметил только сейчас. Это были признаки болезни, нарушавшей стыковку органических фракций с пластиковой тканью, той самой болезни несовместимости, которая была побеждена ещё на заре Холодной эры в истории Клиасты благодаря открытиям медицинской биохимии. И вот эта болезнь — Мук, по совместительству ещё и магистр медицины, сразу определил её — проступала на нежных тканях Лаюмы.
— О горе мне, горе! — вскричал Мук, когда понял, что произошло. — Вот до чего довела меня беспечность!
Мук направил на Лаюму поток биостимуляторных лучей, но они вызвали только реакцию в пластиках. Пульсация органических частей была лишена полноты. До самой нижней отметки упали ритмы бипсов, плексов и рагд. Это была клиническая смерть. Мук в отчаянии метался. Что делать? Блеснула мысль — включить последнюю запись, сделанную тогда, когда он не слышал её, увлечённый своими наблюдениями. Вот она — шероховатая, стёршаяся запись, исполненная сокровенной силы страдания:
«Я умираю, Мук, но знай, мой любимый, когда ты раскрыл экраны, чужая жизнь, ворвавшись в меня, дала мне такое счастье, что выше его только смерть. Моё последнее желание: лети на Клиасту! Чужая жизнь полна соблазнов, они увлекут тебя в пропасть. Улети на Клиасту и сохрани память о любящей тебя Лаюме. И дай тебе счастье найти себе новую Лаюму »
— Я протестую! Что хотела ты сказать своими последними словами? Нет, нет и нет — никто не сможет заменить мне мою Лаюму! Я требую, чтобы ты взяла свои слова обратно!
Это было смешно, конечно, взывать к Лаюме, которая находилась уже в плену небытия, но Мук мало что соображал
ЧТО ТАКОЕ ЛИЧНОСТЬ КЛИАСТЯНИНА?
[1 «Что такое личность клиастянина?», а также следующая главка «Брачный институт на Клиасте», раскрывая некоторые печальные стороны цивилизации Клиасты, могут бросить известную тень на наших героев Мука и Лаюму. Читателям, привыкшим к прямым и ясным характеристикам, едва ли стоит осложнять своё впечатление чтением этих скучноватых и сугубо справочных главок.]
В незапамятные времена, примерно тогда же, когда царствовал легендарный царь Горох, Клиаста была вполне цветущей планетой. Она обеспечивала себя за счёт собственных ресурсов, и жизнь на ней творилась самопроизвольно и в формах себе подобных. Хуже стало, когда Клиаста сильно удалилась от центральной звезды Суонг, главного источника тепла. Но и тогда перемены пришли не сразу. Эпоха медленного угасания стала для Клиасты периодом бурного расцвета науки и техники. Своих совершенных форм достигли механические, физико-химические и физиологические устройства, кибербиология в конечном итоге породила принципиально новые конструкции, которые дали клиастянам редкое долголетие. Частично обновляя, пластически видоизменяя организмы, устраняя болезни и вредоносное действие бактерий, клиастяне довели длительность своей жизни до практического бессмертия. Они жили тысячелетия, почти не старея, лишь частично самовозобновляясь. Но всё же — и это становилось событием всепланетарного значения — в жизни клиастянина наступала пора, когда истощалась и могла погибнуть самая тонкая её часть — эманат личности, её вершинная субстанция, её невоспроизводимая часть: та самая доминанта, которая придавала клиастянину индивидуальность.
Эта доминанта — обозначим её для удобства словом «личность» — почиталась величайшей ценностью и возводилась чуть ли не в культ. Может показаться странным, что в процессе длительного угасания жизни личностная неповторимость всё время повышалась в цене. Что может быть неуловимее, призрачнее и отвлеченнее, чем качества, входящие в понятие личности? Представьте, что на базаре, где торгуют мясом, рыбой, овощами и фруктами, вдруг вам станут предлагать запахи, цвета, линии и формы. А между тем именно неосязаемые, недоказуемые, не имеющие веса и плоти, не поддающиеся никаким измерениям качества личности стали цениться на Клиасте необычайно высоко. Почему бы это? Дело в том, что клиастяне пережили печальную страницу в своей истории. На одной из ранних стадий происходила своеобразная выбраковка клиастянского рода. Грустная практика, говорящая о временном затмении, когда на самих себя клиастяне смотрели, как коневоды, озабоченные выведением чистых пород. Что может быть расточительней! Полные творческих сил, они с беспечностью транжир относились к биологическим потерям: несколькими тысячами клиастян меньше или больше — какое это имеет значение! Период этот был осуждён потом и строжайше приостановлен рядом запретов. Проще говоря, клиастян, в которых обнаруживались блоки личности совершенно одинаковые (скажем, склонность к однотипному образу мыслей или шаблонных реакций), отделяли и поселяли в специальные заповедники — генозаповедники, где они, лишённые привычных условий, медленно вырождались. Это было негуманно, чудовищно и недостойно развитой цивилизации, это было что-то вроде болезни, которой надо было переболеть, чтобы осудить духовное помрачение, в которое они впали, и вернуться к простой и нетленной истине о святости всякой жизни.
Однако таким радикальным способом клиастяне значительно уменьшили своё народонаселение. И тогда каждый клиастянин был возведён в ранг суверена, охраняемого обществом как своим величайшим достоянием. Именно поэтому смерть клиастянина, а это иногда случалось, сопровождалась долгим трауром, во время которого замирала вся общественная жизнь планеты. Постепенно, однако, с течением тысячелетий, с максимальным удлинением жизни клиастянина, объединёнными усилиями самых гениальных клиастян удалось практически приостановить процесс истощения биологического фонда планеты. На генетической основе умирающего клиастянина, по существу, создавался новый клиастянин. На старом фундаменте как бы строился новый дом, хотя это и не совсем точно. Личность умирающего клиастянина прививалась новой особи. Сложной системой инъекций, пересадок удавалось создать нечто вроде подобия угасающего клиастянина, причём делалось эта не после кончины, а ещё во. время угасания, так что возрождение клиастянина в новой своей модификации происходило постепенно и незаметно. Новая личность, сохраняя качества своего предшественника, в процессе жизнедеятельности приобретала какие-то свои индивидуальные черты, углублявшие и расширявшие пределы её своеобразия
БРАЧНЫЙ ИНСТИТУТ НА КЛИАСТЕ
В истории, следующей дальше, не всё может оказаться ясным, если не рассказать о некоторых общих установлениях и обычаях на Клиасте, в частности об отношениях в браке. В ренессансный период развития клиастянской науки, когда все силы были брошены на то, чтобы сохранить биологический род, преимущественное значение придавалось мужским качествам. Проще говоря, женщин считали низшими существами. Но постепенно, по мере того как гасли и терялись связи с природой, роль женского начала возрастала, ибо в женском способе восприятия, как выяснилось, больше изначальных — эмоциональных и эстетических — элементов. Повысилась ценность женской особи — её окружали особым культом, боготворение женской личности превратилось чуть ли не в религию, и брачный институт имел своей целью стимуляцию, с одной стороны, интеллектуальной энергии мужчины, а с другой — и это едва ли не главное — создание женщине условий для расцвета всех её дарований. Брак был высшим отличием в жизни клиастян, признанием особых заслуг и достижений. Факел и цветок — внешние знаки — почитались символами брака, прочность которого освящалась авторитетом традиции, имевшим силу гораздо большую, чем любое законодательное установление. В брак мужчины вступали, соответственно обычаю, по достижении очень зрелого возраста, а поскольку зрелость определялась интеллектуальным вкладом в общую научную сокровищницу Клиасты каким-либо крупным открытием, молодой клиастянин, ещё не достигший мудрости, морально считал себя не вправе вступать в союз и брать на себя ответственность за свою подругу, тем более руководство ею ради развития в ней качеств, наиболее ценимых и почитаемых на Клиасте. Годы, непосредственно предшествовавшие вступлению в брачный союз, назывались периодом Великой Надежды. Требования, которые предъявлялись мужчинам, вступавшим в брачный союз, не считались обязательными для женщин, которые могли вступить в брак, а точнее — под высокое покровительство мужчин, в сравнительно юные годы, когда её эмоционально-эстетические программы находились ещё в стадии формирования. С течением времени личностная ценность каждой женской особи возрастала.
Угасание биологических функций у клиастян, завершавшихся так называемой смертью, при всей регламентированности этого процесса и предсказуемости его, приобретало характер и размер народного бедствия. На всей планете объявлялся траур, выключались все энергетические станции, клиастяне впадали в состояние летаргического сна. Таким образом, траур становился заодно и периодом экономии энергии.
Брак, как правило, сопровождался космическим свадебным путешествием под девизом: «Найдись, звёздочка малая, найдись, звезда большая». Супруг использовал путешествие, чтобы сделать новый вклад в науку, а для юной жены это было начальной школой и первым опытом сотрудничества. Иные из этих свадебных путешествий заканчивались плачевно — гибелью и невозвращением на Клиасту. В поисках высокоразвитой жизни, которая могла бы послужить источником возрождения для истощённой Клиасты, трагические случаи были неизбежны, но всё же каждая потеря являлась колоссальным, невозвратимым уроном. В космические поиски уходили самые одарённые, самые выдающиеся из исследователей, гибель их становилась трагедией всех клиастян, в их честь создавались научно-исследовательские центры, их именами назывались новые звёзды, их наследие тщательно собиралось, изучалось и разрабатывалось. Таким выдающимся, подававшим великие надёжны светилом, звездой первой величины был и Мук, наследник великого Мукандра, ставший мужем молодой клиастянки Лаюмы, блистательного, поэтического создания, обладавшего всем очарованием юной непосредственности. Горе Мука было безмерно.
НЕПРОШЕНЫЕ ГОСТИ
Муку ничего не оставалось, как последовать предсмертному совету Лаюмы — прекратить дальнейшее внедрение в новую биологическую среду и вернуться восвояси. Перемещение в пространстве теперь усложнилось. Объединённые электромагнитным тросом, раньше Мук и Лаюма обладали некоторой автономией манёвра, теперь система связи становилась жёсткой, приходилось соблюдать величайшую осторожность, чтобы тело Лаюмы не повредить механическим сотрясением.
Поглощённый болью близких воспоминаний, Мук не обращал внимания на гудение локационных устройств, принимавших хаос сигналов, в которые вплетались тонкие звуки маленьких крылатых существ, населявших растительные колонии. Запоминающие устройства фиксировали каждое их движение, но для Мука они существовали сейчас лишь в одном качестве — преград, которые надо было обойти, не столкнувшись. Больше всего Мук был занят скалой, за которой таился их гравилёт — он должен был доставить его с бесценной покойницей на орбитальную станцию, летавшую вокруг Цирваля, чтобы затем уйти в долгий путь к Клиасте.
Мук облетел скалу и повис над гравилётом. Лёгкой, изящной конструкции гравилёт был совершенным образцом ракет, после длительных испытаний пришедших на смену неуклюжим топливным гигантам. Немало таких махин, пущенных на тяжёлые планеты, не вернулись обратно лишь потому, что не сумели оторваться от поверхности и соединиться с орбитальной станцией. Гравилёт же был изящен, как этажерка, к тому же рассчитан на любые притяжения. Цирваль оказался лёгкой планетой, сила притяжения на нём была в 1,7 раза меньше, чем на Клиасте. Эта «весовая» близость двух планет и придавала Цирвалю особую ценность для обитателей Клиасты.
На экране появились контуры гравилёта. Мук включил систему координации, чтобы максимально точно войти в боковые отсеки. В первые мгновения стыковки разразилась, однако, буря, состоявшая из мощного потока сигналов, которые невозможно было свести в единую и ясную картину. Что случилось?
Только поднявшись над гравилётом, Мук понял, что в нём находятся какие-то совершенно новые биологические комплексы. Они в тысячи раз крупнее крылатого существа и панцирных карликов — первых представителей цирвальской фауны, попавших в поле наблюдения клиаргов. Мук долго не мог прийти в себя от ужаса и потрясения. Самое же скверное — не исключено, что эти комплексы принадлежат к разряду разумных существ. Иначе как объяснить, что они проникли в гравилёт и сидят там, скрюченные, в боковых отсеках? Как же они всё-таки проникли туда? Мук молниеносно прокрутил все фазы посадки, все манипуляции закрепления на площадке за скалой и ничего не мог понять. Неужели вся эта система, проверенная в многочисленных галактических экспедициях, скандальным образом вышла из строя? Так или иначе, но в гравилёт проникли два цирвальца, существа биологически незнакомые, и этим одним было доказана, что на Цирвале существует не только флора и простая фауна, но и высокоразумные существа. Это было чрезвычайной важности открытием, которое, несомненно, составило бы целую эпоху в истории науки Клиасты, если бы фатальным образом не осложнилась задача отвоевания гравилёта у непрошеных гостей. Возникала проблема беспрецедентной трудности — изгнать их, в то же время не нанося им никакого ущерба. Ни им, ни гравилёту! И это было во сто крат труднее задач, неразрешимость которых вошла в поговорку «выйти сухим из воды»
СИМВОЛ ВЕРЫ
О том, чтобы подвергать опасности жизнь цирвальцев, у Мука не возникало и мысли. Гибель их была чревата эскалацией, которая, кто знает, могла бы привести к исчезновению жизни на Цирвале вообще. К тому же убить жизнь, находящуюся в самом своём расцвете, было бы ни с чем не сообразным нарушением всей философии клиастян, их мировоззрения, основанного на глубочайшем уважении к любым проявлениям жизни. Какая-нибудь инфузория и та имела право на неприкосновенность. Если бы Мук и совершил грех убийства, то он тем самым отрезал бы себе путь к возвращению на Клиасту. Истребление живого существа относилось на Клиасте к разряду непрощаемых преступлений, покушением на самую основу клиастянской цивилизации, на их символ веры. Такого рода злодеянием Мук превратил бы себя в отщепенца.
Возможная чья-то гибель осложнялась для него ещё катастрофической судьбой Лаюмы, которая роковым образом расплатилась за невольную встречу с представителем примитивной цирвальской фауны. Если встреча с примитивом завершилась так плачевно, то чем же кончится схватка с разумным существом? Трагическая вина Мука была в том, что, поддавшись страстным призывам Лаюмы, он разрешил ей разэкранироваться, и если Лаюма ещё не окончательно погибла — это было неизвестно, — то возрождение её составит одну из труднейших задач для клиастянской науки. Но для этого Муку надо было ещё позаботиться о том, чтобы вернуть её на родину.- Удастся ли это? Гравилёт при всех своих совершенствах был ещё недостаточно проверен на длительное пребывание в условиях типа цир-вальских. Могли возникнуть новые факторы, определяемые не только внешней средой, но и действиями живых разумных существ. Цирвальцы, очевидно, способны на любую дерзость, если могли без ущерба для себя проникнуть в гравилёт, нейтрализовав его антигравитационную оболочку
БЕГЛОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗАХВАТЧИКОВ
Не обладая способностью непосредственного созерцания объекта, Мук покачивался над гравилётом и планомерно рассекал излучения, исходившие от захватчиков, затем собирал их в изображения, примерно соответствующие тем, какие возникают на телевизионном экране. Как водится, работа увлекла его, он забыл на время о Лаюме, отдаваясь радостям открытий, а открытия сыпались, как из рога изобилия. Так, например,.анализируя материальный субстрат захватчиков, он никак не мог обнаружить пластиковые части. Вот так так! Было от чего прийти в замешательство. Кроме грубого покрывала из растительных и синтетических волокон, служившего, очевидно, для теплоизоляционных целей, никаких пластических вкраплений в их телах, сколько Мук ни бился, он не нашёл. Захватчики представляли собой на редкость чистые органические образования, которые свидетельствовали об очень высоком и в то же время сравнительно раннем этапе эволюции разумной жизни на Цирвале.
Первый вопрос — действительно ли разумны существа, проникшие в гравилёт, — отпадал как лишённый смысла. Для того чтобы проникнуть в ракету, налётчикам не могла бы помочь даже случайность, ибо надо было разгадать целую систему открывающих механизмов, а это невозможно без научно-технического опыта. Надо было, кроме того, разобраться в диспетчерском пульте — кнопки там были не простые, а дистанционного действия. Открыть входные отверстия ровно настолько, чтобы обеспечить абсолютно плотное вхождение с последующей полной герметизацией, — задача тоже необычайной сложности, но и она не остановила цирвальцев. В довершение всего гравилёт не стоял на старом месте. Захватчики не только проникли в гравилёт, но и сумели решить задачу по некоторому его перемещению! Непостижимо! Судя по всему, пришельцы не принадлежали к разряду киберангов — у них были и чисто внешние различия. Так, например, на верхней шарообразной части туловища у одного из них индикаторы были тёмно-коричневого цвета, а у другого — голубые. Также и локаторы по бокам были разной величины. Индикаторы и локаторы, очевидно, предназначались для приёма зрительных и звуковых сигналов. Сильно различались покрытия шаровидных образований — тёмные, длинные у одного, короткие, рыжие у другого. Можно полагать, что это были локационные щупальца для принятия сигналов из ближайшей окружающей среды. Они свободно болтались у одного, у другого были жёстко закреплены. Они могли служить также экраном для температурно-изоляционных целей. Примечательны были длинные устройства с пятью гибкими хватающими отростками на конце. Видно, они-то и были главными механическими орудиями захватчиков. Обращал на себя внимание находящийся ниже зрительных индикаторов выступающий нарост с двумя дырочками, которые ритмически подёргивались, издавая сопящий звук. Нарост находился в какой-то связи с расположенным под ним щелевидным отверстием.
Судя по всему, газ, проникавший в организм захватчиков, подвергался химическому разложению. Действительно, произведённый Муком сравнительный анализ входящего внутрь и исторгаемого наружу газов показал существенное между ними различие—вводился кислород и азот, исторгался углекислый газ, и эта реакция, надо полагать, восстанавливала энергетические затраты. Мук ограничился тем, что заснял на плёнку внешние особенности захватчиков и, очень довольный, спрятал всю полученную информацию в блоки своей походной научной лаборатории. Изучение этих чрезвычайно сложных биологических комплексов имевшимися у него анализаторами было невозможно. Да ему и недосуг было заниматься этим.
Предстояло обдумать главную задачу—задачу выдворения захватчиков. Он предвкушал творческую радость и волнение, на какое-то время заглушившие даже боль и тревогу за судьбу Лаюмы.
НЕОЖИДАННЫЕ ТРУДНОСТИ
Сложность, повторяем, состояла в том, чтобы заставить пришельцев убраться, не нарушив их жизнедеятельности. В распоряжении Мука был целый набор так называемых «пугачей» — световых, звуковых и электромагнитных сигналов, которыми он мог придать любую мощность, но какое влияние могут оказать сигналы такого рода на цирвальцев? Мук стоял перед задачей небывалой ещё, уникальной в своём роде, однако оставлять всё как есть, не пытаясь изменить ситуацию, было опасно. Знают ли захватчики, как выйти из гравилёта? Отдают ли они себе отчёт в своих действиях? Некоторые признаки внушали Муку на этот счёт сомнения. Пришельцы не сидели в гравилёте спокойно, а беспорядочно суетились, ощупывая переборки, трубки, приборы управления, обмениваясь при этом возбуждёнными звуковыми сигналами, которые, по всей видимости, были основным средством связи и общения между цирвальцами. Чрезвычайная суматошливость, крики, гам, препирательства свидетельствовали о том, что это ещё очень юные, малосознательные существа. Зрелости и старости свойственна осторожность. Здесь её не было и в помине. Это сильно осложняло дело. Предоставленные самим себе, они могут случайно напасть на комбинацию сигналов к отлёту, оторвать гравилёт от площадки и послать его в космос, где незадачливых юнцов ждёт неминуемая гибель, вслед за которой неизбежно погибнет и Мук. Но самое страшное другое: не станет ли это причиной непредвиденных катаклизмов на Цирвале? То, что незваные гости были не единственными обитателями Цирваля, было ясно из целого роя радиоволн. Между различными точками планеты шёл усиленный обмен сигналами. Дальнейшее бездействие Мука было опасно тем, что о случае проникновения двух цирвальцев в гравилёт могло стать известно всей планете, и какое-то время спустя можно было ожидать общепланетарного возмущения, если цирвальцы решат, что это — вторжение космических пришельцев. Мук погибнет, это несомненно, но разве собственная гибель имела какое-нибудь значение перед фактом возможного уничтожения двух цирвальцев, если только те не успеют удрать из гравилёта? Как отнесутся цирвальцы к гибели двух их соплеменников? Достигла ли цивилизация на Цирвале той высокой степени, когда жизнь в любой своей малости является неприкосновенной? Судя по гибели крылатого существа и по тому, как быстро и проворно сожрали труп грудобрюхие карлики, смерть на стадии низших органических систем не является чем-то редким и случайным в круговороте природы Цирваля. Но так же ли обычна она среди высокоорганизованных систем? Не находятся ли они на той допотопной стадии эволюции, когда от переизбытка биологических ресурсов, а также слабо развитых центров совместного управления цирвальцы ещё предаются оргиям самоистребления? Эту печальную, хотя и обусловленную стадию развития, увы, когда-то знала и Клиаста. Высокий биологический потенциал, жалкий уровень экономического благосостояния, раздроблённость этнических групп, стоящих на разных ступенях социального и культурного развития, наука и техника, делавшие ещё только первые шаги, — всё это вызывало центробежные тенденции, приводившие к периодическим распрям, которые являлись своего рода варварским и чрезвычайно дорогостоящим регулятором взаимоотношений между различными группами клиастян. Впоследствии, когда экономический и интеллектуальный потенциалы поднялись достаточно высоко, а первичные потребности клиастян получили возможность полного удовлетворения, биологические резервы были уже настолько истощены, что эта безумная роскошь взаимного истребления была объявлена самой мрачной и постыдной страницей доистории. Конец этим оргиям взаимоистребления и ознаменовал собой начало исторической эры существования, благополучная фаза которого продолжалась сравнительно недолго — полтора миллиона квартумов, пока космическая катастрофа, оторвавшая Клиасту от прасистемы центральной звезды, не стала началом угасания планеты. Истощение ресурсов привело к введению жёсткого режима жизнедеятельности клиастян и к постепенной замене органических частей пластиками, соотношение которых дошло до катастрофического уровня 1 X 79, что грозило полным исчезновением жизни на Клиасте
ОПЕРАЦИЯ ВЫДВОРЕНИЯ
Расчёт всех вариантов привёл Мука к решению: не откладывая пресечь дальнейшую самодеятельность двух пришельцев. Поднявшись над ними на достаточно безопасное расстояние, он дал оптическую вспышку самой низшей фазы. Окрестности подёрнулись ослепительным сиянием. Захватчики, ярко освещённые в полупрозрачных системах гравилёта, обнаружили признаки беспокойства. Послышались звуковые сигналы, зафиксированные фоноприборами экрана
— Кажется, будет гроза. Но какая-то странная гроза, ты не находишь, Базиль? Нет почему-то облаков. Наверно, это зарница. А это хорошо или плохо? Не может ли зарница спутать показания приборов и испортить нам полёт?
— А ну-ка не вертись под рукой и не толкайся
— Прости, Базиль, я буду осторожнее. Итак, гроза отпадает. Зарница тоже не очень правдоподобна. Ба! Да ты знаешь, что это такое? Это не гром и не зарница, а на Байконуре запускают перехватчик! Не иначе, как кто-то уже донёс о нашем отлёте. Я чувствую, что кто-то всё время за нами следит. Проклятые шпионы! Или, может быть, это кто-то из наших проболтался? Юргис трепло, я тебя предупреждал об этом. Смыг тоже не вызывает большого доверия. Единственный человек, в котором я абсолютно уверен, это э
— Мимоза, что ли? А Оза? Разве ты их различаешь? Они же одинаковые.
— Ой, неправда! Они очень даже разные. Это только кажется, что одинаковые Озе ничего не стоит сболтнуть, а Мимоза будет молчать как могила
— Ладно, хватит болтать. Сейчас начинаем
— Всё. Молчу. Внимательно смотрю на все твои движения и запоминаю. Если вдруг тебя укокошат, я должен тебя заменить.
— Внимание: включаю ускоритель!
— Прощайте, девочки! Прощай, Земля! До свидания, мамуля! Летим!
ПОПЫТКА №2
Некоторое возбуждение, вызванное световым сигналом, к радости Мука, не привело ни к каким повреждениям. Цирвальцы вскоре успокоились и стали снова манипулировать конечностями, жизнерадостно дёргая рычаги управления и колотя по кнопкам как попало. Вместе с тем Мук был озадачен тем, что световой удар оказался недостаточно сильным, чтобы вышвырнуть их из гравилёта. К тому же двигательная их активность увеличивала опасность случайных контактов, которые могли спровоцировать старт и отлёт. Муку ничего не оставалось, как дать новый, более сильный заряд света. Он сделал это с большим хладнокровием, чем в первый раз. Огромный купол голубого фосфорического света поднялся над Цирвалем и потом долго рассеивался, создавая мистические пейзажи, знакомые Муку по его давним, ещё учебным полётам на астероиды. Пейзажи вызвали в нём поток сентиментальных воспоминаний. Он с радостью прокрутил бы сейчас несколько эпизодов ранней юности, если бы снова не начался усиленный обмен звуковыми сигналами.
— Прямо что-то непонятное творится! Откуда этот жуткий свет? Может, это северное сияние?.. Ага, я, кажется, начинаю понимать. Это не иначе, как результат электромагнитных бурь в атмосфере. Красотища, кто бы только знал! Расскажешь — не поверят. А вообще-то говоря, в кабину можно бы ещё одного, места вполне бы хватило
— Это кого же?
— Ну, хотя бы э и нас бы не очень стеснила
— Мимоза, что ли?
— Базиль, я прошу тебя э ну зачем ты так
— Чего ты краснеешь, лопух? То болтаешь так, что тебя не остановишь, а как о Мимозе заговорим, так словно каши в рот набрал «Э» да «э»!
— С тобой, Базиль, вообще на некоторые темы э говорить нельзя. Грубый ты человек и, между прочим, легкомысленный — то дружишь с одной, то с другой. Конечно, можно дружить с несколькими, но очень неудобно э начиная дружить с новой, тут же забывать прежнюю. Ты скажешь конечно: «А что я, на них молиться должен?»
— Ну, пошёл-поехал! .. Ладно, я поговорю с Мимозой, а то она так и не узнает, как ты сохнешь по ней
— Базиль, я прошу тебя Кстати, дай мне, пожалуйста, подержаться за штурвал, а то захватил, как будто ты здесь один! Ты странно ведёшь себя. Летишь, не заглядывая в приборы, а ведь недолго сбиться с курса. Мы сделали одно упущение —не захватили подзорной трубы. С нею я мог бы вести корабль прямо по звёздам. Когда мы будем пролетать мимо Луны, обрати внимание на обратную сторону — там есть моря, ещё никак не названные, и мы могли бы с тобой э как-то назвать их э в честь
— Мимозы, что ли?
— Ну зачем же Впрочем, там есть ещё и другие моря
— Ну что ж, тогда и в честь Озы
— Ну, если ты так считаешь, я не стану возражать, назовём их «Море Озы» и «Море Мимозы» Понимаешь, как здорово — там столько морей: Море Кризисов, Море Изобилия, Море какого-то Смита, а ни одного детского моря там нету Минуточку, минуточку! Кажется, навстречу нам летит какой-то астероид Тпр-р-р-ру-у-у! Отклонился, чёрт, не успел разобрать. Пролетел, как зверь! А а может быть, это космический корабль? Может, это к Земле летят пришельцы? Ты не заметил, как нас встряхнуло, когда ракета пролетала мимо? Мне почему-то кажется, что нас засекли и теперь следят за нами. И не исключено,что нас обойдут и увяжутся за нами вслед. Вот это да! Вот это будет встреча! Надо хорошенько подготовиться к ней! Алю-вилюй! Сант-вуаля! Постой, не сбивай меня, пожалуйста, это слова космического языка Надо же вступить в контакты с пришельцами Алю-вилюй! Вы слышите нас? Сюда! Милости просим! Будьте как дома, дорогие гости!
НАСЛЕДНИКИ ПО КРОВИ, ПО РАЗУМУ
Реакция на вторую световую вспышку оказалась в высшей степени странной. Возбуждение цирвальцев длилось очень недолго и протекало спокойнее, чем в первом случае. Сидя в непринуждённых позах, они вели сейчас самый размеренный сеанс болтовни, манипулируя главным образом расположенными в шаровидном образовании красными клапанами, за которыми блестели два ряда белых кальцитных деталей и шевелился гибкий розовый отросток. Однако самым деятельным органом связи были цветные — голубые у одного и рыжие у другого — индикаторы, в которых получали своё внешнее выражение различные состояния: готовности к действию, радости и неудовлетворения, стыда и благодушия. Индикаторы менялись в своих параметрах, округлялись, расширялись или уменьшались за счёт подвижных предохранителей. Но менялись — и это самое интересное — не только параметры, но и глубина внутреннего свечения, которое невозможно было определить интенсивностью цвета, а приобреталось, очевидно, за счёт какого-то внутреннего магнетического поля. Мук больше интуитивно, чем экспериментально, пришёл к гипотезе, что эти оптические индикаторы и являются главным внешним выразителем сложной, глубоко спрятанной интеллектуальной деятельности, сконцентрированной в шаровидном образовании, покрытом растительной шапкой ороговевших длинных отростков. И вообще, если внимательно приглядеться, было в них отдалённо что-то похожее на клиастян. Аналогия с клиастянами показалась настолько плодотворной, что навела Мука на потрясшую его догадку: а нет ли вообще чего-то глубинно общего между цирвальцами и клиастянами? Не могли они оказаться в космическом отношении родственными существами, отражающими только разные ступени одного и того же типа эволюции? Едва Мук об этом подумал, как его ошеломила новая догадка: а не занесла ли жизнь на Цирваль с Клиасты одна из ранних экспедиций в те незапамятные времена, когда Клиаста ещё находилась в орбите центральной звезды и жизнь на ней была ещё в самом расцвете? Догадка Мука могла бы стать плодотворной гипотезой. Он честолюбиво подумал о том фуроре, который она произведёт среди маститых членов Клиастянской академии. Теория космического происхождения цирвальской жизни как результат посещения одной из ранних экспедиций клиаргов могла положить начало новой науке. После стоун-движения, открытого великим Мукандром, это было бы самым фундаментальным завоеванием клиастян. Конечно, гипотеза ещё не имела никаких подтверждающих её фактов, но какова эмоциональная сила досужих вымыслов! Мук уже смотрел на двух беспечных цирвальцев, ведущих сеанс связи, как на потомков древних клиастян. Парадокс в том, что цивилизация развивалась на Цирвале гораздо медленней, чем на Клиасте именно в силу того, что на Цирвале были необыкновенно благоприятные условия, никакие похолодания — своего рода моторы цивилизации — не стимулировали там развития науки и техники. Смятение, вызванное предположением, что перед ним его кровные прародичи, его малые братья, сохранившие в себе свойства его диких предков, наполнило Мука такой нежностью, что он ослабел от старческого волнения. Шутка ли — оказаться архипрадедом таких отчаянных сорванцов! Да в ком не шелохнётся родственное чувство! Смутное желание погладить своих юных сородичей нарастало в Муке с неудержимой силой и требовало немедленного облегчения. То был род помешательства. Мук понимал, что становится на роковой путь своей подруги, пошедшей навстречу своей гибели. Он понимал это, и в то же время энтузиазм не покидал его. Он видел сейчас в своём потрясённом сознании образ Лаюмы и слышал её, и зов её рвался к нему из небытия:
«О Мук, любимый!..»
— Я слышу тебя, Лаюма! — с внезапной силой, словно бы увидел её наяву, вскричал Мук. — Неужели это всего лишь голос твой, а не ты сама? И не совершилось ли чудо и ты ожила? Я узнал наконец то, что ты давно испытала! Чужая жизнь пробудила во мне то, что, казалось, давно уже умерло. Я слышу твой зов! Ярость жизни охватывает меня! Ты посмотри на этих юных нахалов! Они чувствуют себя в нашем гравилёте, как у себя дома. Я узнаю в них собственную хватку, чёрт возьми! Когда я думаю о том, что в них, быть может, течёт кровь наших древних клиаргов, что это наша жизнь, посеянная здесь нами, чувство одиночества и страха покидает меня. Значит, мы не одни в Галактике! Ура! Значит, бессмертна наша клиастянская ветвь на вечном древе жизни! Ура и ещё раз ура! И если даже случится страшное — тлеющая наша планета Клиаста погаснет, — мы не исчезнем, чёрт возьми, ибо есть Цирваль,есть цирвальцы, наследники наши по крови, по разуму. Что ты на это скажешь, Лаюма? Мы не погибнем, не правда ли? О, как хочется мне, чтобы свет, открывшийся мне, вошёл в тебя и объединил нас снова! Ты слышишь меня, Лаюма? О, я задыхаюсь, радость моя
ВОСКРЕСЕНИЕ ЛАЮМЫ
Экран содрогался в суматохе показаний. Стрелки плясали в причудливом танце хаоса и смерти. Это была агония, вершившая свой последний буйный праздник. Кровь яростно набухала от напряжения вливающейся чужой жизни. Но Мук ещё владел собой. Он следил за новым возмущением, возникавшим в нём, не теряя контроля. Душа металась, но разум был настороже. Когда же стрелка биорезервов заколебалась на нулевой отметке, он чуть приоткрыл свои экраны. И сразу же пламя жизни хлынуло в него, сверкая взрывами рождающихся звёзд. И вздох, глубокий, мучительный, сладостный, освобождающий вздох наполнил все системы Мука страстной энергией обновления. И ярким светом видения — или это показалось так? — Лаюма засветилась розоватым светом и стала оживать.
— О Мук, где я и что со мной? Я, кажется, спала? Мне снилось, что я падаю в холодную бездну, но сейчас мне тепло. Ты спас меня, любимый, как я благодарна тебе!
Стрелки приборов действовали синхронно и мягко. Радость освобождения была столь велика, что Мук позволил себе несколько расслабиться. Они были снова вместе, какое блаженство! Но внезапная мысль смутила Мука. А как там юные цирвальцы? Он вспомнил об озорниках, упорно не желавших покидать гравилёт
ОПЕРАЦИЯ ВЫДВОРЕНИЯ. ПОПЫТКА № 3
На этот раз Мук решил отказаться от световых «пугачей», не возымевших на цирвальцев никакого действия. Он перешёл на ультразвук. Бесшумный взрыв был достаточным, чтобы выбросить из гравилёта и не таких упрямых ослов, как эти цирвальцы. Воздушная волна всколыхнула растительные колонии Цирваля. Жидкие потоки плеснули на скалы белопенными валами. Крылатые существа брызнули в разные стороны, как осколки. Эхо долгой цепочкой носилось вокруг скалы, за которой таился гравилёт. Но взрыв этот, увы, только едва расшевелил цирвальцев
— Где-то грохочет, а где — непонятно С чего бы это? А вдруг это космические пришельцы? Тогда нам нужно установить с ними связь. Алю-вилюй, вы слышите меня? Я вас не слышу! Какой-то жуткий шум и грохот. Что бы это значило, Базиль? А вдруг это пролетевшая ракета пустила в нас магнитный залп? Очень просто — чтобы сбить нас с курса
— А ну-ка руку убери!
— Есть убрать руку! Да, о чём это я? Значит, мы попали в магнитный ураган и кто-то за нами следит А тебе, Базиль, не кажется?
— Не ори в ухо
— Хорошо, я отодвинусь Значит, за нами кто-то следит. Во всяком случае, мне так кажется А если даже кажется, то это не зря. Надо учитывать субъективный фактор. Будем рассуждать. Отчего показалось? Почему? Ты занят, тебе некогда смотреть по сторонам, я же свободен и поневоле наблюдаю. Логично? Логично. В космосе что-то происходит. Тебе некогда думать, отчего и почему, но я анализирую явление и делаю вывод, что за нами слежка Поскольку мы недалеко ушли от Земли, отклонение от курса там могли не заметить. Логично? Логично. Но мы попали в магнитную бурю, и наши сигналы не доходят до станции связи. Наши приборы вышли из строя. Видишь, как мечутся стрелки? В шлемофоне сплошной шум — ничего нельзя разобрать
— Не толкайся
— Есть не толкаться! Я буду сам говорить. Алю-вилюй! Вы слышите меня? В космосе катастрофа! Срочно принимайте меры! Если погибнем, то знайте: мы выполнили долг! Привет всем, всем! У нас остаются считанные секунды Мы отправляем сейчас капсулу с последней записью Там что-то важное для тебя, Мимоза! Не забывай меня! Это я, Боб!
— Значит, Мимозу выбрал? Окончательно? Ладно, тогда Оза будет моя.
— Ты хочешь сказать, что они одинаковые, но как ты ошибаешься, Базиль! Когда Мимоза говорит что-нибудь, она смотрит в глаза и кивает, а Оза больше сама говорит
— Ну, значит, Мимоза твоя: ты будешь болтать, а она — тебя слушать.
— Ой, что ты! Я с ней даже слова сказать не могу Мы с ней как-то остались одни, так целых пять минут молчали. Хорошо, тут Оза подошла, а то я чуть не сгорел со стыда
— Ну ладно, хватит. Давай повторим распорядок управления. Только не рви на себя, а то ещё свалимся в речку, костей не соберёшь потом.
— Значит, летим? Да здравствует
— Стоп!
ПОПЫТКА № 4
Положение становилось безысходным. Две световые вспышки и один звуковой разряд не произвели на цирвальцев никакого впечатления. Мук был в отчаянии. Все анализаторы, имевшиеся в его распоряжении, не давали объяснения происходящему. Было ясно только одно: повторение сделанных уже сигналов не дадут эффекта. Очевидно, подобные возмущения на Цирвале столь обычны и часты, что защитные механизмы цирвальцев давно к ним адаптировались. У Мука были ещё кое-какие средства — электронно-магнитные разряды различной силы, а также простейший прибор для производства термоядерных взрывов. Но употребить прибор было невозможно, потому что от термоядерных взрывов не были защищены сами клиарги, а защитные покрытия оставались на орбитальной станции. Термоядерный взрыв был исключён ещё и потому, что нельзя было подвергать почву и атмосферу, растительный и животный мир Цирваля опасности радиоактивного заражения. В распоряжении Мука оставался единственный способ — магнитно-термическая бомбардировка вакуумного действия
Мук бросил взгляд на экран, на тот его участок, где аккуратно регистрировался щебет Лаюмы. Запись была велика, и для её расшифровки сейчас не было времени, этим он займётся на обратном пути. Мук включил предохранители и дал направленный магнитно-термический заряд. Возник стремительный поток горячих газовых масс. Засвистели растительные колонии цирвальской поверхности. Поток достиг гравилёта, беспрепятственно проник сквозь экраны. Юные цирвальцы словно бы очнулись. Они не ожидали бури, но при этом повели себя не так, как рассчитывал Мук. Вместо того чтобы покинуть гравилёт, они стали расстёгивать свои оболочки, обмениваясь при этом сигналами.
— Да, космическую турбазу! Скажем, прилетят с Водолея усталые, грязные, худые, еле живые, ведь сколько лететь пришлось, а мы им — пожалуйста!
— Может, искупаемся?
— Нет, мне чего-то не хочется. Интересно, как там поживает наш язик? Жив ещё?
— А чего с ним сделается?. .
— Он уже привык к нам. . . Когда мы были там вчера, он к краешку приплыл, как дрессированный. А ведь рыбы тоже очень умные твари. Мы только сейчас начинаем изучать психологию рыб. Нам удалось установить контакты только с дельфинами, да и то потому, что они не рыбы, а млекопитающие. А почему удалось? Потому что они понимают, что мы тоже млекопитающие, и тянутся к нам. Чувствуют, что мы родные для них. А вот с акулами трудно, и мы о них ничего не знаем. Знаем только, как их добывать, разделывать, а про живых ничего не знаем, потому что живых наблюдать очень трудно. А что мы знаем о маленьких рыбках, которых легче наблюдать? А тоже — ничего. Только и знаем, как поймать её, а потом — в уху Ты понимаешь, как человек глуп? Он изучает животных только как хищник, как эгоист, а если животные не годятся в пищу, так нам они неинтересны. Вот язик приплывает, когда мы приходим. А что ему надо? Что он думает? Мы ему ничего не приносим, а он всё равно приплывает. Может, ему вовсе не корм нужен, а он хочет поиграть с нами? Может, он скучает один?
— Поймать бы ему подружку, сразу бы повеселел. А корму ему не надо. Там камни в зелёной плесени, он пощиплет и сыт, ему это то же, что травка для телёнка
— Насчёт подружки я с тобой согласен. Ведь у него тоже душа, а душа не может без дружбы А вдруг у него страшная тоска, когда он один? Особенно ночью, когда темно и ничего не видно. Забьётся под камешек и дрожит-дрожит Нет, надо его в речку отпустить Или выпустить к нему несколько рыбок
— Чего это ты вдруг замолчал? Вспомнил чего?
— Чего-то вдруг спать захотелось
— Давай поспим немного.
— Гуд бай!
— Гуд бай!
ПОПЫТКА № 5
Мук обратил внимание на то, что в сеансах связи между цирвальцами начинают повторяться комбинации сигналов, связанные с фонограммой «Оза и Мимоза». Очевидно, в этой фонограмме для них заключалось что-то неясное, какие-то неизвестные функции гравилёта, какой-то узел, который позволил бы им оторваться от Цирваля. Несомненно, они готовились к отлёту, и это было бы катастрофой, ибо, оторвавшись, они не смогли бы вернуться. Мысль присоединиться к ним, взять на себя руководство полётом и привезти их в качестве пленников на Клиасту при всей соблазнительности отпадала ввиду неизвестных последствий полёта для цирвальцев. Да и технически это неосуществимо. Условия для их жизни существовали только в кислородно-азотной атмосфере, но как они себя почувствуют за пределами ионосферы, где проходят разнородные жёсткие излучения, — выживут ли цирвальцы? Конечно, их можно было бы законсервировать и доставить сперва на орбитальную станцию, а потом и на Клиасту, но тогда для их реанимации надо захватить весь комплекс условий окружающей среды, а это даже при высочайшей технике и науке Клиасты было невозможно. Нет, ничего другого не оставалось, как всё-таки попытаться выставить их, и Мук, выведенный из себя, пустил в действие ещё один поток, на этот раз вызванный не пучком высокой температуры, а наоборот — резкой и внезапной заморозкой газовой среды.
Эффект был опять не тот, на который он рассчитывал: цирвальцы вовсе не заторопились из гравилёта, они просто стали кутаться, натягивая на себя покровы, прятать конечности под мышки и дышать в открытый ворот одежд. Но не убирались! Укрывшись с головой, они застыли в неподвижности. На экране видно было, что все их системы жизнедеятельности работают на ослабленных режимах, и такое состояние делало их нечувствительными к любым колебаниям внешней среды. Целая серия взрывов, менявших температуру с высокой на низкую и наоборот, а также свист, гул, ураган были растрачены впустую — цирвальцы спали глубоким сном. Вместо выдворения Мук добился их полного успокоения, и неизвестно, сколько это их состояние будет продолжаться.
Самым неожиданным после всех этих манипуляций явился поток жидкостных струй. Они обрушились сверху, застали Мука и Лаюму врасплох. Под их освежающим воздействием Мук словно бы очнулся и услышал голос Лаюмы. Лаюма фосфоресцировала, вяло шевеля ответвлениями, как бы плывя навстречу потоку. Мук чуть разэкранировал себя и Лаюму. Свежий заряд ворвался в их истощённые бессильной борьбой системы и принёс облегчение. Но только на время. Потоки влажных струй не прекращались, стоял неумолчный грохот. Но даже эти смертоносные потоки не действовали на цирвальцев, которые мирно почивали, демонстрируя тем самым чудовищные запасы биологической прочности. Это были поистине совершенные биокомплексы, которым предстояла ясная, долгая, хотя, быть может, и не без рецидивов взаимоистребления, но всё же победоносная эволюция к вершинам цивилизации.
ПОСЛЕДНЕЕ РЕШЕНИЕ
Истощались силы клиаргов. Бури, врывавшиеся в раскрытые участки экранов, делали своё разрушительное дело. Вспышки биологического возбуждения сокрушительно опустошали все их ресурсы. Лаюма была провидицей, предчувствуя гибель Однако мысль о её неизбежности несла в себе тайную надежду смертью приобщиться к празднику жизни, кототорый им суждено было испытать хотя бы на миг. И пусть им не удалось донести факел жизни до Клиасты, но жизнь — она есть, та жизнь, которая останется и которая может спасти их планету. И теперь оставалось лишь дать последнюю информацию о ней на орбитальную станцию — такой резерв был предусмотрен. Немного информации, меньше той, которая была у них, но всё же достаточной, чтобы донести до Клиасты основные факты; открытые ими на Цирвале. На это уйдёт последняя энергия клиаргов. Мук даст команду автоматическим приборам орбитальной станции — и ракета уйдёт в долгий и многотрудный полёт к берегам погибающей, бесконечно дорогой им Клиасты. Ценою смерти на Цирвале Клиаста получит волшебно заманчивую гипотезу о родстве клиастянской и цирвальской цивилизаций.
Мук обратил свой последний радостно-вдохновенный взгляд на Лаюму. Лаюма мягко светилась в потоках струй и была прекрасна. Сферические очертания её, наполненные розоватым свечением, были законченны и хороши особой жертвенной красотой. Лаюма догадывалась о его решении: система, которая связывала их, нередко делала мысли и чувства одного мыслями и чувствами другого. И тем не менее она с нетерпением ждала полного разэкранирования.
Мук в последний раз оглядел мирно спящих отроков.
Сейчас будут полностью израсходованы энергетические ресурсы гравилёта, практически он перестанет существовать.
Но тихая, ликующая уверенность, что этот взрыв не затронет мирно спящих детей, давала смелость для последнего шага. Тогда же Мук решился и на другую акцию — инъекцию собственных личностей в юных цирвальцев.
Это была заурядная операция облучения, которая не требовала прямых контактов — два или три энергопучка, направленных в верхние шаровидные образования цирвальцев, равные примерно двум или трём подзатыльникам, могут вызвать лёгкое сотрясение, совершенно безопасное для здоровья.
Перестав существовать в своих собственных системах, Мук и Лаюма своими геноэлементами войдут в изменённый состав личности цирвальцев. Добрые подзатыльники, таким образом, принесут самый благотворный результат. Как ни парадоксально, такие средства воздействия на личность были уже известны во времена домостроя. Поистине новое — это хорошо забытое старое!
Итак — последний обмен информацией.
Последнее излияние чувств.
Последние взаимные благодарности за счастье хотя и не вечного, но довольно-таки редкого по своему благополучию союза любви.
— Лаюма, приготовься!
— Любимый, я готова, я жду!
Луч направлен. Информация на орбитальную станцию собрана в эвакоузел для передачи. Осталось довести автомат до нулевой отметки, за которой последует взрыв. А между тем поток струй не прекращался. Вспыхивали молнии. Громыхал гром. Дальние горизонты дымились от испарений. Жизнь шла своим чередом — вечным, неистребимым, бессмертным водоворотом. Стрелка дрожала, снижаясь к своей смертельной отметке. Ярко и устрашающе прекрасно проносились буйные картины Цирваля. Жизнь чужая вот-вот ворвётся и рассеется в клиаргах чудовищным разрядом. Всё ниже и ниже опускается стрелка
И возникают какие-то последние апокалипсические видения. Сияя и переливаясь сиреневыми огнями, летит табун гривастых животных с тихим и заливистым ржанием. Они несутся мимо, словно энергетический вихрь, оставляя за собой длинные, лёгкие и прозрачные тени. Навстречу далёкой звёздочкой мерцает орбитальная станция. Тонким зуммером гудит музыка потревоженных сфер. Это звучит время, это гудит пространство, ожившее в звуке. Это летит ракета навстречу угасающей Клиасте как благовестник возрождения
ЗАНИМАЛОСЬ УТРО
После сильного ночного ливня в пещере было сыро и мрачно. Сквозь туман пробивалось тёплое дыхание солнца. Из пещеры видна была яркая голубизна неба. Мимо скал плыли волокнистые клочья облаков. Внизу грозно гудела река, разбухшая после ночной грозы.
Занималось утро, полное следов замершей битвы. Осыпи на склонах, вывернутые из старых гнёзд валуны, сосны, упавшие в реку ветвями. Но спокойно и величественно поднимались вдали синие ярусы леса. Утро занималось, как песня победы жизни над смертью. Звуки горна летели над долиной и дробились эхом в скалистых уступах предгорья. . .
Броня открыла глаза и долго моргала, продираясь сквозь сон к свету. Она пошарила рукой, ища очки у изголовья. Что-то мягкое и горячее уткнулось ей в пальцы. Блестящие, тёмные, огромные глаза Рустема плавали возле её плеча. Она спала у него на руке и сейчас, трудно возвращаясь в себя, старалась припомнить, как она оказалась здесь. Когда заснула?
Броня вскочила на ноги.
— Ах ты ёрш-гаврилка! — закричала она, почуяв в сердце жалость к этому взлохмаченному страдальцу. Он чуть ли не всю ночь неподвижно лежал, оберегая её сон, не смея шевельнуть рукой, и вот был наказан за свою воспитанность. — А ну, пошевели пальцами! ..
В глазах Рустема ещё качались ночные сны. Он мотнул головой, губы страдальчески кривились. Пальцы не повиновались. Броня взяла его за руку, энергично развернула к себе ладонь и стала растирать пальцы. У неё были цепкие руки массажистки, они умели делать больно. Рустем чуть не всхлипывал. Рука, вялая, бледная, порозовела и ожила — пальцы растопырились. Он дул на них, корежась от колотья. Броня перехватила его руку повыше запястья и долго трясла её, пока боль в пальцах не прошла.
— Хороши же мы будем, когда объявимся в лагере, — рассмеялась Броня. — А какие пойдут разговорчики! Ради чего, собственно, мы придумали эту романтическую ночь с грозой и дождём?
Рустем взял её за руку и, припадая, повёл по тропе. Метрах в десяти, за скалистым выступом, в глубокой пещере, замаскированной кустами и лапником, темнел грот с извилистым входом.
Опираясь о стену, Рустем осторожно пробирался вперёд. Он приоткрыл завесу из плюща, остановился, поджидая Броню.
Некоторое время они стояли, привыкая к сумеркам, пока не рассмотрели в глубине пещеры скрюченные фигуры, по самые макушки спрятавшиеся в спальных мешках. Из одного мешка торчали длинные девчоночьи волосы.
Обращал на себя внимание хлам, собранный, очевидно, в разные исторические эпохи. Диковинные коренья, звериные маски, дуплянки разных размеров, сиденья из корчёванных пней, рога архаров, выбеленные временем кости животных — все эти вещи словно пришли сюда из прошлого.
А вот транзисторный приёмник, гитара, удочки, фотоаппарат, бинокль, пневматическое ружьё с не меньшей безусловностью свидетельствовали о том, что здесь жили наши современники. В свою очередь, помятый горн, кухонные судки, санитарная аптечка, авиамодели, лобзики и теннисные ракетки наводили на подозрения о каких-то нелегальных торговых связях с пионерским лагерем.
Кто же всё-таки они, лежащие здесь в позах летаргического сна? Кто они, эти пришельцы из неизвестности, захваченные ошеломляющим сном бессмертия, возможным только в детстве, когда у людей нет прошлого и вся их жизнь — нетерпеливое будущее?
Над пещерными людьми стояла Броня, как судья. Глаза её щурились уничтожающей любознательностью. Губы змеились в торжествующей ухмылке охотника, настигшего зверя. Эти пещерные жители, эти романтические разбойники местных лесов, о которых ходили легенды, эти устроители лесных пожаров и диверсанты, совершавшие набеги на лагер*ь, эти лесные партизаны, имевшие свою агентуру среди сельской и лагерной ребятни, — вот они, оказывается, где обосновались!
— Всё это экзотично, мальчики, но вам придётся прекратить хулиганское своеволие. Вам придётся оставить ваши дикарские штучки. Ха-ха, недурно устроились! И всё же, не пора ли вам вставать? Уже была побудка, детки, петушок пропел давно! Ха-хо-хэ! Эй-ой-ай!
Резонанс ещё катил звуки куда-то в глубину подземелья, ещё не вернулись эхом последние восклицания, как Рустем схватил Броню за руку и потащил, дёргая её и волоча, как тянут за верёвку упрямую козу. Он шёл, не разбирая дороги, вытолкнул её на скалистую площадку, со свистом развернул её, как пастух раскручивает бич, дёрнул на себя, но тут же оттолкнул, глядя на неё побелевшими глазами:
— Как ты смела? Да кто тебе д-д-дал право? Они здесь свой космос будущее А ты одним Какая подлость Это же убийство Да это ведь Ах Что же это такое Показать А ты во зло Безумие Но ты не смеешь И ты мне клятву Слышишь? .. Я привёл Тебя сюда Но ты ничего не увидела Ты молчишь Я сказал
Это был какой-то безумный бред, ужасный, дикий, ни с чем не сообразный. Броня кусала губы от стыдной боли, от беспардонной этой выволочки. Она хотела кричать от страха, но кто бы её услышал здесь, кроме этих ребят, в защиту которых вопил этот взбесившийся кавказец? Ведь он же мог убить её! Ведь от него не знаешь, чего ожидать! Вспышка его была как удар из-за угла, как свист оплеухи. Всё существо Брони было потрясено обидой, как это бывает в детстве, когда кажется, что избавление — только в смерти своей или обидчика. Без повода схватить, протащить позорно и потом этот бессвязный бред
На счастье, эта детская обида, короткая, как вздох, опалившая её, тут же погасла. Опустошив себя безумной тирадой, Рустем вдруг увял, глаза погасли в муке стыда. Весь обмякший, он повернулся и побрёл вперёд, жалко ссутулясь и проваливаясь, — увечный мальчик, больной, несчастный. Обида, не чувствуя сопротивления, выдохлась. И только тогда Броню осенило: в то время как она безмятежно спала у него на руке всю эту странную ночь, из неё, из этой ночи, шли безумные, непонятные слова о каком-то мире, космосе, будущем, и что между Рустемом и ребятами существует тайная связь, о которой она, Броня, не ведала, потому что отгородила себя
стеной, а он жил в одном с ними мире, и ей он, этот мир, был непонятен и чужд.
Внезапное раскаяние пронзило её. Спотыкаясь, Броня побежала за ним, обессиленная боязнью встретить ненависть.
— Рустем! — жалобно, со всхлипом позвала она и остановилась. — Ру-стем!..
КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
Узнавать человека
ЧАСТЬ
ВТОРАЯ
Глава 1
ВАЖНЫЕ ДЕЛА
ТУНГУССКИЙ МЕТЕОРИТ
Недалеко от лагеря их встретила Лариса Ивановна. В руках у неё был большой букет полевых цветов, блестевший от воды.
— Доброе утро, молодые люди! — сказала она, оглядев Рустема и Броню припухшими великодушно-понимающими глазами. — Прямо-таки безумство с вашей стороны ходить в мокрый лес без плащей и сапог!
Она была в болонье и тугих резиновых сапожках, тяжело дышала, вся ещё розовая от напряжения. Все знали о её слабости — по утрам делать зарядку на лесной лужайке за лагерем, собирая цветы. Наклон — ромашка, наклон — лютик, наклон — колокольчик, и так далее. Таким образом ей удавалось сохранить фигуру. Так ей казалось.
Броня уже успела прийти в себя. От жалкой растерянности, вызванной объяснением с Рустемом, не осталось и следа. Она вздёрнула голову с видом бойцового петушка. Она не любила Ларису Ивановну и не скрывала этого. Губы её насмешливо дрогнули.
— Какой же вы собрали сегодня урожай?
— Сорок три цветка — не так уж мало, учитывая мою комплекцию, — усмехнулась Лариса Ивановна, бросив иронический взгляд на растрёпанную косу Брони. — Наверно, в лесу после дождя много грибов? Почему же я не вижу ваших корзинок?
— Мы не искали грибов, — сухо сказала Броня.
— Что же вы искали, если не секрет?
— Вы угадали — это секрет, — сказала Броня и пошла, не оглядываясь. А Рустем топтался на месте, конфузливо улыбаясь. Вид у него был совершенно потерянный и жалкий.
— Ах, молодёжь, молодёжь! — вздохнула Лариса Ивановна, ласково оглядывая Рустема, и неясно, чего было больше в её словах — зависти к молодости или осуждения за столь неурочную вылазку в лес. — Что же вы стали? Или вы хотите помочь мне собирать букет? Идите догоняйте спою барышню. И потом, не забудьте, что надо уже будить ребят
О ночёвке в лесу никто разговора не поднимал, и за делами дня Рустему и Броне стало даже казаться, что это было не с ними, а с кем-то другим. Ни словом, ни взглядом они не вспоминали ни о ночи в лесу, ни о диком объяснении, хотя им не раз, обсуждая отрядные дела, приходилось вступать в разговоры. Казалось, всё пройдёт без последствий, но на следующее утро Лариса Ивановна перехватила Рустема возле столовой.
— Я вас очень прошу после завтрака зайти ко мне, — шепнула она. — По важным делам
Рустем стоял с минуту, ничего не видя перед собой. Вот оно, начинается! Когда волнение унялось, Ларисы Ивановны уже не было. В воздухе ещё держался аромат духов и словно бы ещё плавала её многозначительная улыбка. Этой сплетнице неймётся, подумал он, внезапно вскипая и стискивая папку с планами. От неё не отвертеться. Что ж, лучше сразу объясниться, чем тянуть резину, решил он и так же внезапно успокоился.
Для разговора по важным делам Лариса Ивановна непостижимо быстро успела переодеться в цветастое узбекское платье. Комната была в полумраке от зашторенных окон. Как ни странно, при новой хозяйке Рустем здесь ещё не бывал. На стенах висели фотографии одной и той же брюнетки в разных костюмах: в летней разлетайке, в брюках, в шубке, в плаще, в блузке с большими отворотами, в коротком пиджачке с разрезом, в шортиках и с теннисной ракеткой через плечо. Это была Лариса Ивановна в разных видах — память о её службе в Доме моделей. На столе красовался свежий полевой букет, ещё не просохший от росы, — результат утренней гимнастики. Рустем гулко прокашлялся, но она приложила палец к губам, подошла на цыпочках к смежной комнате и заглянула за портьеру.
— Спит. Вчера ночью почти не спал. Проснулся: «Мамочка, пушки стреляют. Это война, мамочка?» Пришлось взять его к себе. А Яков Антонович, представьте, не проснулся. Вот что значит фронтовая привычка — спать под пушечный гром. Что вы стоите, проходите.
Она ещё плотнее занавесила шторы, сдвинула на подоконнике кучку книг — строительные справочники, сметы, расценки, проекты, которые собирал Ваганов, — нашла сигареты, села в кресло и закурила, закинув ногу на ногу. У неё были красивые ноги, она это знала. Когда-то она была хороша, но сейчас полнота выдавала её возраст. Свет и солнце уже не были союзниками, молодил её только сумрак. Однако ноги были хороши и не боялись света.
Рустем уселся в кресло напротив, напряжённо стиснув руками папку. Он присел как бы на время, чтобы при первой возможности встать и уйти. Но Лариса Ивановна придвинула вазу с апельсинами — она не собиралась так скоро отпускать его. Ему пришлось покориться и даже взять апельсин. В её гостеприимстве была бесцеремонность, с которой было нелегко бороться. Рустем открыл вдруг, что с ней можно быть также бесцеремонным, и перестал бояться предстоящего разговора. Он с интересом стал наблюдать за ней. Она курила, стряхивала пепел, чистила апельсин, улыбалась, поворачивала вазу с цветами. Каждый жест был продуман и закончен. И вместе с тем во всём, что она делала, сквозило простодушие. Стесняться её не было резона. К тому же она ещё и сейчас была хороша, а Рустем вообще был поклонником красивых и здоровых людей. Он питал к ним зависть, смешанную с восхищением. Всё бы хорошо, если бы она не проявляла к нему излишнего внимания. Он заметил это ещё в первые дни её приезда. Ей было скучно в лагере. Виталик вечно пропадал у ребят, «ужасно коммуникабельный малыш», как она говорила. Девочки без конца возились с ним, тискали, чуть не дрались из-за него. «Думаете, ему нужны папа и мама? — говорила она. — Если ему понадобится, он сам себе найдёт папу и маму и сколько угодно друзей». В общем, Виталика она почти не видела. Яков Антонович меньше всего думал о том, чтобы развлекать её, у него хватало дел и без того. И вот получается: поехала в лагерь, чтобы побыть вместе, а не видит ни сына, ни мужа. Рустем понимал её.
— Почему бы нам иногда просто так не поболтать?
Значит, никаких важных дел, если не считать, что поболтать — тоже важное дело. Рустем окончательно успокоился и уже с сочувствием слушал её. Сочувствовать — ого слабость. Он умел к тому же слушать, как терпеливый доктор, а это для женщин — находка. Столько в лагере всякого народу, а поболтать не с кем. Так ведь разучишься говорить. Лариса Ивановна с удовольствием слушала свой голос, по утрам сочный и звучный, без той усталой прокуренной хрипотцы, которая бывает по вечерам или жарким, душным днём, хрипотцы, в которой, увы, ясно прослушивается возраст, хотя тридцать семь по нашим временам — это ещё капитал. Она не собиралась сдаваться. От старости она была хорошо защищена разницей между собой и мужем, которому было уже шестьдесят три. Со своим Яковом она чувствовала себя молодой, почти бессмертной. Но коварное свойство старых мужей — старить своих жён, а ей бы хотелось всегда оставаться молодой. Скука, как и старость, казалась ей наказанием. А этот юноша с горящими глазами и буйной копной волос на голове, как ей казалось, был умён и тонок — он поймёт её. В то же время чувствовалось, что он застенчив до дикости и неотесан, его не мешало бы сделать более светским, что ли. Нет, всё-таки были какие-то важные дела. Пуская дым вытянутыми в трубочку губами, щуря миндалевидные глаза, искусно удлинённые тушью, она вдруг перешла на интимный тон.
— Мы, конечно, взрослые люди, и мне смешно говорить вам об этом, тем более вы такой изысканный и всё понимаете с полуслова — это видно по вашим глазам. — Она, как медиум, впилась в него пугающе проницательным взглядом. Он не выдержал и вспыхнул. Она снисходительно улыбнулась. — Но всё-таки послушайте меня—я уже пожила на свете и от души желаю вам добра. Не буду играть с вами в прятки: вы думаете, ваш ночной поход в лес остался в лагере незамеченным? Как бы не так! Не знаю, какие у вас там были мероприятия, я принципиально против вмешательства в личную жизнь
Ах ты, чёрт возьми, подумал Рустем, едва заглушая досаду. Он перестал её слушать, хотя и думал о ней. С каким-то сожалением даже. Неужели природа создала такой совершенный экземпляр, вместилище духа, и в то же время лишила его самого духа, или дифферента, который даётся только этому человеку и отличает его от других? Неужели человечество прошло такой долгий и мучительный путь к вершинам сознания, чтобы оставить её, эту женщину, без главного — без дифферента? Быть может, просто не возникли обстоятельства, когда дифферент, заложенный в каждом человеке, мог выявиться в ней? Как обнаружить его? Сам того не подозревая, Рустем, оказывается, думал о ней уже с первых дней её появления в лагере. И, по невольной привычке психолога, наблюдал. Но ему бросались в глаза, увы, только блоки. Вот её внимание к нему, Рустему,— цельный и ясный блок стареющей женщины, которая хватается ни чужую молодость; блок скуки, не знающей, как себя занять; блок доброты. в которой она находит источник самоуважения; блок рисовки, рассчитан ной на престиж в глазах окружающих; блок живости и остроумия, работающий на готовых словесных клише и обеспечивающий лёгкость общения. Тесты, собеседования, анкеты, психические свойства личности, интересы и склонности — вопросы, которыми ему приходилось заниматься, дали ему необходимую сноровку. Блок за блоком Рустем полностью разблокировал Ларису Ивановну и сейчас только делал вид, что слушал её, без труда разгадывая наперёд, о чём она будет говорить.
— Я понимаю, вы ещё молодой, у вас ещё всё впереди, и вам наплевать, что о вас думают другие
А нельзя ли встряхнуть её, подумал Рустем, загораясь исследовательским интересом. Он уже смотрел на неё как на подопытный объект. Сейчас мы бросим к порогу её второй сигнальной системы пробный шар, ошарашим репликой по принципу: «В огороде бузина, в Киеве дядька», чтобы нарушить блоковый ход её мыслей.
— Простите, Вельвета Ивановна
— Вельвета?! Какой ужас! — Она чуть не задохнулась от смеха. — Хорошенькое имя вы мне придумали!
— Так вот, Лорета
— Час от часу не легче — теперь я уже Лорета! . .
— Простите, Лариса Ивановна. Так вот, в 1908 году в нашу планету врезался так называемый Тунгусский метеорит Слыхали?
— Положим, слыхала. Так что же из этого?
— Мне кажется, что недавняя гроза с молниями была не случайной
— Что вы хотите этим сказать? — чуть взволнованно, но без отвлечённого к этому факту любопытства промолвила Лариса Ивановна. — Вспышки были такие сильные, словно это прожектор включили под окном
— Так вот, Лариса Ивановна, где-то поблизости мог врезаться в земную атмосферу метеорит, похожий на Тунгусский, этакий астероид, возможно, меньшего размера
— Какой ужас! Что вы говорите? Вы это знаете точно? Ах, не шутите! У меня даже сердце зашлось от страха. Но если бы это было так, мы бы уже знали. Нам бы позвонили и сообщили, если это какая-то опасность для детей. Утром я включила радио, чтобы проверить часы и узнать про погоду, и никаких тревожных сообщений. Что-то такое насчёт американцев передавали, я не помню. Радио слушать в наше время не такое большое удовольствие, теперь все поумнели и стали больше ценить свою личную жизнь. Вы думаете, личная жизнь — это тряпки, вещи, сервизы, уют? Ничего подобного! Нет, есть что-то такое, что даже трудно выразить словом Короче говоря, вы знаете, что такое душа? Я вам объясню, как я понимаю это, потому что вы, молодые люди, ещё не знаете жизни
Виталик закряхтел в соседней комнате, и это спасло Рустема. Лариса Ивановна бросилась к сыну, а Рустем, встав из-за стола, показал на папку и с внезапной решимостью заявил, что его ищет Яков Антонович
ПЕВЦА ИЗ ТЕБЯ НЕ ВЫЙДЕТ
— Вы меня, случайно, не звали? — спросил Рустем.
— Я? Тебя? С какой стати?
— Мне сказали, — нахально сочинял Рустем, — что я зачем-то нужен вам.
— Ты мне всегда нужен, голубчик. . . А ну-ка возьми третий отряд и всех — на бетон. Только пусть переоденутся. До обеда всем хватит работы, а если успеют раньше, так и быть, поведёшь их купаться. . .
По случаю ночной грозы купание отменили — река ещё не успокоилась, но старшим разрешили искупаться после работы, и это привело к тому, что в отряд стали набиваться малыши. Ваганов ходил по лагерю, выискивал лодырей и ротозеев, и одного за другим посылал на укладку фундамента крытой спортверанды. Окружённые ребятами, Ваганов и Рустем пришли в лагерный дендрарий. Здесь царствовал Георгий Шмакин. Сюда же и поспела Лариса Ивановна. В широкой соломенной шляпе и светлом брючном костюме, она сидела в беседке, зажав Виталика между ног, по-свойски кивнула Рустему, будто давно не виделась с ним. Возле неё теснились девочки, приставая к Виталику. Виталик был хорошенький мальчик. Он был похож на мать. Каштановые кудри, своевольные пухлые губы, красная шерстяная безрукавка поверх лимонной рубашки с короткими рукавами, шортики с накладными кармашками, гольфы. Мальчик, сошедший с картинки журнала мод. Бывшая манекенщица, Лариса умела одеваться сама, умела одеть и ребёнка. Когда-то она демонстрировала себя, сейчас она демонстрировала ребёнка, и он привык к сеансам. Он давал сейчас представление, подставляя девочкам голову, чтобы те по очереди могли отрабатывать на нём расчёской свои фантазии. При этом он не скучал — залезал к ним в кармашки, вынимал значки, ленточки, конфеты, зеркальца и без улыбки швырял на землю. Он был занят собой и не отзывался на восторги девочек. Это был артист, привыкший к славе и не замечавший её. У него были миндалевидные, с кафельным блеском глаза, чуть скорбные и задумчивые, словно он всегда смотрелся в зеркало. Оторвать его от любования собой было невозможно. Даже когда он смотрел на кого: то, казалось, что он смотрит в себя. Это был единственный ребёнок в лагере, к которому Рустем не знал, как подойти и о чём говорить с ним. Он боялся его и избегал. Виталик был несомненно дифферентным, но со знаком минус, антидифферентный мальчик. Спектакли, которые Лариса разыгрывала с его участием, приводили Рустема в полную растерянность. Привязанность к ребёнку и вообще альянс с этой женщиной составляли самую сложную загадку личности Ваганова.
Лариса Ивановна насильно повернула голову Виталика.
— Кто к нам пришёл, детка?
Гримаска, призванная изобразить улыбку, но улыбка тут же погасла. Рядом грохнул хор ребячьих голосов. Ваганов подошёл к хору и бесцеремонно стал рассматривать поющих. Виталик вырвался из маминых объятий, пристроился спиной к Ваганову и стал дирижировать. Ваганов двумя пальцами нежно теребил его ухо. Ребята допели песню, Виталик раскланялся. Ваганов подозвал мальчика, самого высокого в хоре:
— А ну-ка, повтори последний -куплет. Только сам, без помощи. Мальчик пропел нескладно и фальшиво.
— Голубчик, певца из тебя не выйдет. Не лучше ли тебе пойти на стройку?
Мальчик вышел из группы смущённый.
— А теперь ты мне, детка, пропой, — сказал Ваганов. Девочка бойко и точно спела куплет.
— Ты можешь остаться. А теперь ты
Минут через десять хор поредел на треть. Похмыкивая, Шмакин преданно глядел на Ваганова.
— Раз такое авральное дело, я, конечно, Яков Антонович, не против, чтобы ребята поработали. Но, Яков Антонович, это нарушение моего принципа: у кого слух хороший, пускай с ними занимается папа римский, а мой принцип — добиться результата у малосклонных. Так что прошу и учтите: детей, кто самовольно тянется к музыке, не сбивать. Хотя я, конечно, понимаю трудности с рабочей силой — аврал и прочее
— Тебе мало раз, два, три мало тебе тридцать человек? Тебе нужен сводный лагерный оркестр имени Шмакина? Был ты скромным массовиком в профсоюзном доме отдыха, так я взял тебя на свою голову. Теперь тебе нужна всесоюзная слава. Хорошо, будет тебе слава. Так и быть, разрешу тебе исполнить свою кантату. Ну где, скажи, в каком лагере, у кого есть ещё собственный Шостакович?
На лице Шмакина плавала широчайшая улыбка. Композиторство было его слабостью. Без всякого музыкального образования, он с детства научился играть на разных музыкальных инструментах. В жизни перепробовал много профессий. И в лагере чего только не делал — стриг ребят, подшивал кожаный спортинвентарь, чинил часы, искусно плёл корзинки, лапти, ладил туески, расписывал игрушки из шишек и желудей. Но истинным призванием и главной потребностью души была музыка, она же и принесла ему в жизни больше всего сокрушительных огорчений. Отсутствие образования приостановило в самом начале его движение в мировом искусстве, вот почему настоятельным стало для него хоть какое-то признание — в домах отдыха, санаториях, клубах, на вечеринках. Но самую устойчивую и массовую популярность он завоевал только у ребят, когда его подобрал и устроил у себя Ваганов. Здесь раскрылись многие его таланты, но венцом его усилий оказался хор. Шмакин с замечательной лёгкостью сочинял не только музыку, но и тексты к ней, тексты не очень высокого качества, что он и сам понимал, хотя и ловко отбивался от упрёков, при водя на память очень плохие строки из популярных песен известных поэтов. Но когда его обвиняли в музыкальном подражании, он яростно защищался. обижался и чуть не плача доказывал, что сочинял музыку ещё тогда, когда иные известные композиторы бегали в детский сад
Пока Ваганов и Шмакин пикировались, ребята один за другим отваливались от хора и убегали на стройплощадку. С площадки бежали другие ребята, образуя встречные потоки.
Яков Антонович, Топкин с ребятами стенку захватил! Мы уже кладку на два метра довели, а он гонит нас, чтобы мы новую начинали. . .
— Ну. и что же ты хочешь от меня?
— А вы скажите ему!
— Это чтобы я за тебя говорил?
— Так за это же морду бьют. . .
— Ага, значит, ты хочешь, чтобы я за тебя Топкину морду набил. И он чтобы мне сдачи дал! Спасибо. Ну, а тебе что, Кавун? Я тебе что сказал на счёт причёски? Ну-ка, повернись. На два пальца я тебе разрешил, а у тебя все четыре. Я тебе сказал: пока ты не подстрижёшься, ни к каким работам я тебя не допущу. Хорошо, обойдёмся без штукатурных работ такой высокой квалификации, как у тебя Ив колхозе на сборе овощей ты никому не нужен. Ты мне маньку не валяй — все ходят на два пальца, а ему на все четыре! . . За какие такие заслуги ты себя награждаешь? Хватит нам в лагере девочек и без тебя. Когда я был таким, как ты, у нас в колонии был Фима Трухачев, у него тоже были такие волосы, и ты мне очень напоминаешь Фиму Трухачева. Ты меня извини — этот Фима Трухач был гадкий человек, холуй и доносчик, и мне о нём вспоминать неприятно. Когда я гляжу на тебя, я вспоминаю. А мне не хотелось бы вспоминать о нём. Это я тебя прошу как личное одолжение А, здравствуй, Кнопка! А нука, повернись Кто тебя подстриг? Шмакин? Шмакину медаль за красивую стрижку, ты у нас прямо королева красоты. Вот объявим конкурс на самую красивую девочку — я произнесу речь, чтобы тебе дали титул королевы. Рустем, неплохое мероприятие для лагеря, а? Вот и Рустем отдаст свой голос за тебя А ты что здесь делаешь, Цыбиков? Это ты или не ты? Может, я ошибаюсь и ты вовсе не Цыбиков? Откуда ты здесь? Разве его мама неделю назад не забрала его из лагеря?
Ваганов обернулся к Рустему, обращая к нему свой вопрос. Рустем уставился на мальчика, делая вид, что вспоминает историю с мамой Цыбикова. А история эта была всем хорошо известна. Приехав в лагерь и увидев сына на лесах — фартук, мастерок, босоножки, заляпанные извёсткой, обычный рабочий вид, как у всех, — она закатила на весь лагерь истерику: эксплуатация детского труда, ребята приехали отдыхать, а не трудиться! Разбушевалась, как ураган, схватила своё сокровище и уехала. Там, за лагерем, папочка ждал их в собственной машине.
— Ты мне скажи, Цыбиков, это тебя папа привёз или ты сам приехал автобусом? .. Не плачь, пожалуйста. Если ты удрал, не спросясь родителей, придётся тебя отправить обратно. Не сегодня, а завтра. Не будем ради тебя гонять машину. Вот Евдоким поедет за продуктами, тебя захватит заодно Хорошо, если ты привезёшь записку от мамы, мы тебя примем обратно Я старый бюрократ и верю только бумажкам Пускай никаких извинений в бумажке не пишет, я просто хочу иметь от неё автограф на память. Ну, иди. Видишь, ребята сгружают кирпич, можешь присоединиться к ним. Ну, а ты, Шмакин, что стоишь задумчивый? Я вижу, занятие хора я тебе уже испортил. Если делать нечего, удели ей, пожалуйста, внимание, — сказал Ваганов, кивая на Ларису, и пошёл за ребятами. — Видишь, женщина скучает.
Ваганов пошёл за ребятами, а Шмакин, распустив остатки хора, встряхнул баян, очень похоже воспроизвёл на нём человеческий вздох и подкатил к Ларисе. Спасибо Шмакину. Если бы не он, Лариса совсем завяла бы от скуки. Он хоть и прост, но с ним не надо строить из себя умную. Она помахала Ваганову пальчиками, встала, оправила на талии брюки и взяла Шмакина под руку. Он шёл, перекинув баян через плечо и нашёптывал ей что-то. Она снисходительно улыбалась
СЕКРЕТНЫЙ РАЗГОВОР
Воспитатели, вожатые и технички обедали за отдельным столом. Рустем пришёл последним и уселся рядом с Броней. Ему принесли тарелку борща и чудовищную порцию гречневой каши с котлетами. Он стал сравнивать свою порцию с соседними и посмотрел на раздатчицу.
— Вы не ошиблись? У меня какая-то ненормальная порция. . .
— Мне сказали, что это вам для подкрепления сил
— Кто же обо мне так заботится?
Все потупились. Шмакин уронил вилку и полез под стол. И пробыл там подозрительно долго. Он вылез оттуда, держась за щеку, словно у него разболелся зуб. Броня смотрела на него с холодной брезгливостью.
И вообще с тех пор началось что-то странное. Рустема и Броню старались оставлять одних. На них бросали многозначительные взгляды. Шептались за их спиной. Так что ничего удивительного, что однажды в столовой Ваганов подошёл к Рустему и спросил:
— У тебя по расписанию что после завтрака?
— Подготовка к походу. . .
— Десять свободных минут найдётся?
— Для вас хоть час
— Тогда у меня к тебе небольшой секретный разговор. Ваганов взял Рустема под руку и увёл к беседке.
— У тебя с Броней что, роман? — спросил он без церемоний. Рустем промолчал. Упрекать Ваганова казалось неделикатным, а оправдываться недостойным. Больше всего он боялся, что, оправдываясь, начнёт путаться и косноязычить. Или ещё хуже того — взорвётся. Нет, лучше дать Ваганову выговориться.
— Раз ты молчишь, я не стану пытать. Сам я тоже был когда-то молодым и мог бы кое-что вспомнить, если бы нашлось кому послушать
Рустем подумал, что хорошо поступил, не став оправдываться. Он чувствовал, что Ваганов хочет рассказать что-то о себе, и настроился слушать. Ребята стояли в отдалении и терпеливо ждали.
— Думаешь, мне это интересно? Можешь не отвечать. И ни на кого внимания не обращай. Я деликатный человек и не стану портить тебе нервы. Люди по-разному относятся к шуткам на свой счёт. Когда я был молодой, я бил шутников по фотокарточке. Ты улыбаешься? А ты знаешь, в Нахичевани уважали Яшку Ваганова не только за язык. Ты видишь сейчас перед собой старого астматика, видишь этот живот, который не влезает ни в какие фабричные брюки, так ты думаешь, Яшка Ваганов всегда был такой? А ну-ка дай твою руку — Ваганов обхватил своей короткой пухлой рукой горячую узкую руку Рустема и железно стиснул её. — Если я стану рассказывать тебе о своей молодости, нам не хватит времени на другие дела. Родители мечтали сделать из меня нэпмана и оставить мне лавочку, но что мне до их лавочки? У меня были свои планы — я хотел посмотреть белый свет. И посмотрел кое-что. И побывал кое-где
Ваганов жалел, что придётся отпустить Рустема. Кто ещё, кроме Рустема, мог бы оценить его исповедь! Рустем единственный в лагере человек, для которого педагогика — призвание, а не заработок, а у него, Ваганова, есть о воспитании кое-какие мысли, которые могли бы кое-кому пригодиться.
— Так вот, если бы ты хотел послушать
— Что за вопрос! — воскликнул Рустем. — Я давно уже хотел, да вас рвут на части, больше пяти минут вы никогда не бываете на месте.
— А что я могу поделать с собой? Думаешь, такую стройку поднять — простое дело? Если по-честному, нам нужен целый штат — бухгалтер, снабженец, инженер, прораб, сметчики, я знаю, кто там ещё? И весь этот штат — вот он у меня где! — Ваганов ткнул пальцем в лоб, над которым поднимался короткий ёжик волос. — Никаких счётов я не веду, бог меня памятью не обидел
Ваганов любил похвастаться своей памятью. Он помнил все строительные расценки, нормы, материалы, постановления, помнил всех" игроков ведущих футбольных команд, помнил раскладку продуктов в детском рационе, помнил по именам не только ребят, но и родителей и не упускал случая продемонстрировать свою память. Об этой его слабости Рустем знал. И даже говорил об этом с Броней, которая педагогом Ваганова всерьёз не считала. Он, правда, заслуженный учитель, но поглядите на него и послушайте — разве это учитель? Отличный хозяйственник, организатор, администратор, мастер устанавливать контакты и доставать нужные материалы, он мог бы руководить стройкой, заводом, комбинатом, чем угодно, но почему-то прилепился к детям. Когда-то он был беспризорником, колонистом, — может быть, именно этим можно объяснить его странную привязанность? Ваганову не раз предлагали перейти на более солидную работу — заместителем директора завода, начальником СМУ, председателем райпотребсоюза, но он от ребят не уходил. И всё же в высшем смысле был ли он педагогом? Чему он мог научить ребят? Умению строить? Практичности? Реализму жизни? Во всяком случае, Рустем не торопился с выводом и не рубил сплеча, как Броня. В Ваганове надо было ещё разобраться. Однако несомненно было одно — Ваганов был ему приятен. От него исходили токи дружества и весёлой энергии. Он умел внушить ребёнку любовь к делу. Это немало. Он легко подчинял себе людей, не только ребят, но и взрослых, а приятелей у него было полсвета, хотя он не пил, не курил и особым хлебосольством не отличался. Перед начальством он не угодничал, любителей поживиться за чужой счёт не терпел. Он состоял из блоков, но это были качественные блоки. Он был редкостным экземпляром среди педагогов, и подражать ему было невозможно.
Рустем с удовольствием смотрел в его хитрые армянские глаза, на его добродушно-отвислый нос, выступавший на одутловатом лице чудовищным горбылём. Над своим носом Ваганов сам любил смеяться и похвалялся, что таких носов, как у него, только три на всю страну, и, если бы чины и звания давали за длину носов, он давно был бы католикосом Арменик, хотя в Армению его никогда не тянуло — он считал себя сыном страны, которую ещё в молодости исходил вдоль и поперёк. Родом из Ростова, он называл себя одесситом, хотя в Одессе прожил всего два года, заведуя детским домом у Чёрного моря. Он считал себя одесситом, потому что это был город его пристрастий, его любви.
— У тебя мало времени, а я тебе морочу голову байками. При случае возьмёшь карандаш, бумагу, и я тебе расскажу всю жизнь, как она есть, без всяких прикрас. Но об этом хватит. Поговорим о тебе. Так вот, сдаётся мне, что все эти сплетни насчёт тебя и Брони исходят не от кого-нибудь, а от моей жены, будь она неладна. Ларису хлебом не корми, только дай кого-то с кем-то свести. Между нами, мужчинами, она э как бы поделикатнее выразиться хорошая бездельница Ты думаешь, наверно, аи, Яков Антонович, как нехорошо — жена, а ты всякие гадости про неё говоришь Но ты не знаешь всего — Ваганов перехватил взгляд Рустема, полный терпеливого внимания, и доверчиво похлопал его по плечу.
В этом кавказце было что-то от доктора, которому не страшно было поведать даже о своих тайных болячках, а женитьба Ваганова, как видно, была одной из таких болячек. Женился он на Ларисе три года назад и, конечно, не жалеет. Всё равно бы умер холостяком. А так он всё-таки даст ей своё порядочное имя. Может, она воспользуется им себе и сынишке на благо. Ведь если подумать, она глубоко несчастный человек. Женщина в расцвете сил и не знает, что делать, разве это счастливый человек? Так вот, Лариса ещё смолоду решила всем нравиться — это тоже важное дело. И она занималась этим делом, работая то манекенщицей, то администратором каких-то актёрских бригад, то выступая в кордебалетах в роли статисток и статуй. Она вышла замуж, родила ребёнка и с мужем вскоре развелась. И тогда-то она вцепилась в Ваганова. Он ещё хорошо знал её покойного отца, вместе колесили по стране. Когда её отец умирал от рака, то попросил Ваганова, единственного друга своего, присмотреть за «Парой. Это ещё тогда, когда ей было двадцать лет. Ну как, скажи на милость, как можно было присмотреть за ней? Это всё равно, что присмотреть за летающей птичкой. Ну хорошо, можно смотреть, как она летает, но как можно руководить её полётом? И что же он, Ваганов, мог сделать для Лары? Она не очень считалась с отцом, пока тот был жив, так станет ли она отчитываться Ваганову, который ей не кум, не брат и не сват? Она гоняла по курортам с какими-то сомнительными типами, ездила с концертными бригадами и вспоминала о Ваганове, когда доходила до полного безденежья. «Папаша» — а она его по наследству стала называть папашей — должен был выручать, и он посылал ей всё, что у него было под руками. Она, дурёха, думала, что у него большие деньги, запасы на книжке, а он этих книжек в глаза не видел и, кроме своей зарплаты, ничего никогда не имел. И он занимал, у кого поближе, и высылал ей сто рублей или сколько собирал, чтобы потом в получку расквитаться. Зачем, спрашивается, ему зарплата? Может быть, он чудак, но деньги всегда были ему противны, он всегда ощущал их как балласт. Как только у него заводились копейки, он тут же старался избавиться от них. В молодости он поигрывал в карты или отдавал тому, кто первый попросит, но чаще тратил их на ребят.
Вообще, кто такой Ваганов? Ваганов — человек из коммуны, с детства привык жить в коммуне, всегда без семьи, без больших потребностей. Таким он был всю жизнь, таким и умрёт Так вот, три года назад на него сваливается Л ара с сыном и говорит: «Мне после гастролей нравится у тебя. Раз папочка просил тебя присмотреть за мной, а ты был его хорошим другом, то и смотри за мной получше. Я свободная женщина, могу улететь. Спрашивается: зачем ребёнок из-за меня должен терпеть неудобства? Ведь ему скоро учиться». Тогда Ваганов и говорит ей: «Чтобы ты не очень летала, а мне было меньше хлопот смотреть за тобой и ребёнком, можешь взять мой паспорт и сделать визит в загс. Распишись там с моим паспортом и, если можно, без моего присутствия». Может, этот вариант ей понравится и она хоть немного остепенится и даст отдохнуть себе и сынишке от своих гастролей. И вообще, не пора ли бросать гастроли? Тем более, что он, Ваганов, всё равно уже не женится — холостяк он был, холостяком и останется. Ему семья не нужна. Его семья — это ребята. Так они и поженились. И он не жалеет Хоть у ребёнка есть отец. Сыночек, правда, хорошенькая штучка — лицедей, каких поискать, но всё же он ребёнок, как и все дети, и лучше, если он будет знать, что у него есть отец. И мамочке тоже будет лучше. А ведь, кажется, неплохой человек. Если надо, последнее не пожалеет. Попадёшь в беду — она в лепёшку разобьётся, а выручит. Её отец был верным другом, а она кое-что унаследовала от него. Но вообще-то глубоко несчастная женщина. Вникнуть в её положение, так можно ужаснуться. Вот взять, например, горбатенькую Фросю, помощницу поварихи, — ну кто на неё посмотрит, кажется, на такую кривобокую? А ведь заглянуть ей в глаза — это глаза счастливого человека, который любит своё дело. Ведь накормить ребят, чтобы все были сыты, большего счастья ей не надо. Пускай не международной важности дело кормить ребят, но всё же дело, человек прирос к нему, а оно, это дело, питает душу человека, и это главное Самые несчастные люди на свете, кто не знает своего дела Он, Ваганов, считает, что и в воспитании главное — привязать детей к делу Он, конечно, не педагог в точном смысле, какой он педагог, хотя и перевидал на своём веку немало педагогов, и общался с умными людьми, и кое в чём поднаторел. Но всё же люди почему-то называют его педагогом. И он не открещивается, не говорит — берите свои слова обратно, это ошибка. И если люди считают, что он приносит обществу пользу, так он не будет отнекиваться и строить из себя скромника. Да, он воспитал уже, наверно, несколько тысяч детей, всех, слава богу, пристроил к делу и пока что не слыхал, чтобы его воспитанниками пополнялись кадры уголовников, хотя, ой-ёй, сколько трудных ребят прошло через его руки! (Яков Антонович поднял свои короткие, пухлые руки и посмотрел на них с уважением.) Значит, он чего-то стоит, если нашли возможным его, человека без образования — окончил учительский институт экстерном, но какое это образование?! — если нашли возможным присвоить ему звание заслуженного учителя Конечно, таких, как он, наверно, много, есть педагоги поумнее его, но и он не последний человек в своём деле. И он от души рад, что у нас наконец-таки догадались, что учителя имеют право и на самые высокие почести в нашем государстве. Теперь, слава богу, можно назвать и других Героев Социалистического Труда, кроме покойного Сухомлинского, хотя в нашем районе пока ещё не отметили ни одного. А между прочим, Герои в нашем районе есть, и даже целых три — председатель колхоза Чаусов Матвей Спиридонович, скотница Аглая Семёновна Коптева и свинарка Надежда Ивановна Кыштымова. Он, Ваганов, всех по имени-отчеству знает, всех приглашал в гости к ребятам. Коптева получила Героя за увеличение поголовья скота, Кыштымова вырастила тысячи поросят. Ну так вот, хотелось бы знать: воспитать и приставить к делу, дать государству тысячи полноценных работников— это разве меньше и не так важно, как вырастить молочных поросят? Так что же Рустем молчит? (Рустем молчал, но глаза его на сухощавом лице горели, как факелы. Этот парень умеет-таки слушать, думал Ваганов, всё больше распаляясь.) А ведь он, Рустем, аспирант, пишет диссертацию что-то там по детской психологии. Так всё это ему рассказывается не зря. Может, кое-что пригодится. Может, кто знает, найдётся в диссертации и для него, Ваганова, маленькое местечко, чтобы помянуть его тихим незлым словом, хе-хе, хотя слова, как сказал один умный человек, — это пыль, из них себе шубы не сошьёшь Ну так вот, зачем он всё это ему говорит? Зачем травит баланду целых полчаса, когда ребята ждут Рустема и срывается мероприятие?
Время действительно истекло, и Рустем чувствовал, что Ваганов попал зубчиками в речевую шестерёнку и уже не может остановиться.
— Вы, кажется, хотели что-то о Ларисе Ивановне
— Да, о Ларисе, хай ей пусто будет за её длинный язык! — Ваганов оглянулся, словно Лариса могла их подслушать. — Но ты её не очень ругай, голубчик Она, в сущности, глубоко несчастный человек. Её можно пожалеть. Человек не нашёл своего дела — что может быть хуже? Если бы я мог что-то придумать для неё, пристроить её к какому-то делу! Она же славная женщина, чёрт её возьми! Но бог с ней. Я хотел тебя попросить об одном — не устраивай скандала
— Какого скандала? Кому?
— Как — кому? Ларисе, конечно. Я, простой человек, подумал, что ты собираешься устроить скандал
— Чушь какая-то! — Рустем пожал плечами. — Даже мысли такой не было
— Да, но ведь сплетни касаются не только тебя, но и Брони, а как она на это посмотрит?
— Броня? Гм право, не знаю, но думаю
— Так вот, чтоб не гадать, я очень просил бы тебя поговорить с ней деликатно и успокоить, если это возможно. Мне бы так не хотелось, чтобы моя дурёха кому-то испортила настроение. Смотри, какая сегодня чудная погода и как радуются птицы! При такой погоде хочется, чтобы все были счастливы. Кстати, в такую погоду можно кирпич вынести из-под навеса и сушить его прямо на солнце. Пойду-ка я посмотрю, как там идут дела на спортплощадке
Ваганов благодарно пожал Рустему руку и покатился вприпрыжку, как колобок. И тут же к нему пристроились ребята, давно караулившие его и только деликатно пережидавшие, когда закончится секретный разговор между взрослыми. Вприпрыжку, походкой, подозрительно похожей на вагановскую, за ним покатились десятники, звеньевые, каменщики, грузчики, дробильщики — к площадке, на которой дымилась пыль цемента, блестела слякоть раствора, стучали мастерки и лопаты
Глава 2
СТРАСТИ-МОРДАСТИ
ЧИКИ-БРИКИ
В столовой Рустема не было.
— Где Рустем? — спросила Аля.
— Где Рустем? — повторила Маля.
Зачем им Рустем, девочки и сами не знали. Просто надо было установить, где он есть и всё такое, а он взял да исчез. Непорядок. И никто из ребят не знал, где он и что с ним. Сестрички заглянули в кухню. Нет, там тоже ничего не знали. Заскочили в канцелярию — и там о нём не слыхали. Обшарили все закоулки, площадки, беседки и спальни — испарился Рустем.
Когда девочки оказались возле ограды, одна и та же мысль мелькнула в их глазах: в лесу! Они тут же протиснулись в дыру и долго катились вниз, цепляясь за кусты, пока не очутились на дне оврага. Оглядев друг друга — порядок! — они полезли по тропинке вверх и застряли в зарослях. Над ними с криком вспорхнула сорока. Ка-ра-ул! Девочки переглянулись: чего это сорока верещит? Может, с Рустемом что-то случилось? Может, случайно оступился в волчью яму и сейчас, бедняга, мается, не в силах выбраться из неё?
За себя девочки не боялись. Они знали все тропинки, все подходы к лагерю. Не раз приходилось бегать. Куда и зачем? Но это государственная тайна. Не спрашивайте. Всё равно не скажем. А сейчас их беспокоит Рустем. Он мог заблудиться. Очень даже просто. Потому что он был рассеянный. И его надо было разыскать. И как можно скорее.
— Рустем! — осторожно крикнула Аля.
— Рустем! — подхватила Маля погромче.
Никто не отзывался. Только слабо зашелестели кусты да проскрипела всё та же сорока. Девочки подождали немного, прислушиваясь. Кусты улеглись, и сорока замолкла. Тишина становилась всё плотнее. И надо было её разогнать. Сёстры сцепились руками, как маленькие, и закружились, крича изо всех сил:
Эне-бене-чики-брем,
Выходи гулять, Рустем!
Эне-бене-чики-брем,
Чики-брики, чики-брем!
Выходи гулять, Рустем!
И сразу страх испарился и рассеялся мрак. Загорелись на полянке колокольчики и ромашки. На опушке стоял Рустем.
И не только Рустем, но и Броня..
Девочки смутились. Броню они не вызывали. Она явилась без спроса. Она им была не нужна. Пускай уйдёт обратно. Но она никуда не уходила. А Рустем вертел головой. Кто вызывал его? Откуда кричат? Девочки спрятались за деревья и сделали вид, что это не они кричали, а кто-то другой. Быть может, сорока.
— Я Рустем, чики-брем! Слушаю вас, девочки! Где вы?
Аля и Маля не дышали. Сейчас Броня увидит их и устроит скандал: «Вы зачем в лесу? Кто вам разрешил через ограду? Вы что, не знаете правил?»
Девочки закрыли глаза. Когда они были ещё маленькие, они знали: если закрыть глаза и никого не видеть, то и тебя никто не увидит. Они давно уже выросли, но запомнили это и закрыли глаза, чтобы стать невидимками. Им удалось это. Они стали прозрачными, как воздух. Сколько Рустем и Броня ни вглядывались, они ничего не увидели: воздух и воздух. И совсем не подозревали, что две коротенькие тени за деревьями — не тени от кустиков, а девочки Аля и Маля. Вот так: закрыли глаза и превратились в невидимок!
— Я вас понял, чики-брем! — Рустем кричал, сложив ладони рупором. — Перехожу на приём, чики-брем!
Броня сняла с себя очки, подышала на них, протёрла о джинсы и снова надела. Всё-таки надо выяснить, что происходит. Очки были не только глазные, но и слуховые. Когда лучше видишь, то лучше и слышишь, это всем известно. Но ничего она в очки не услышала такого! Броня перекинула косу на спину. Рустем ждал повторения «чики-брики». Лицо его собралось морщинами на лбу и висках. Он весь подался вперёд. Броня сказала что-то резкое, но Рустем не слышал её. Она не существовала для него в эту минуту. Тогда она гордо вскинула голову, превратившись в змейку, вставшую на кончик хвоста. Молчание Рустема становилось невежливым. Раз так, то вот вам! Броня пошла, не оглядываясь. Рустем очнулся и виновато поплёлся за ней. Что она сказала такое? Ну да, они ещё не закончили спора, который вели. Он ссылался на своего детского доктора — просто старый мальчишка, любознательный и добрый, ему всегда интересно с детьми. Броня же, ссылаясь на Ушинского, Шацкого, Блонского и кого-то ещё, обвиняла Рустема в панибратстве, наивности, идеализме и ещё в каких-то грехах. Её так и распирало от эрудиции, а он успел многое забыть. Он уже работал над диссертацией, а она всего лишь два года, как со школьной скамьи, но не он её, а она его поучала. Неужто всё не может забыть ту злосчастную вспышку гнева? Рустем не мог понять её до конца. Она вся была из углов и неожиданностей. Он чувствовал свою зависимость от неё и ничего с собой не мог поделать.
МОНОЛОГ РУСТЕМА
— Я знаю, Броня, ты на меня сердишься, но я хочу, чтобы ты поняла меня. Я не очень представляю себе, как выглядит моё поведение со стороны, возможно, я действительно дал повод Сам человек никогда правильно не осознаёт себя, ему мешает множество искажающих зеркал или. экранов — он видит себя таким, каким хочет, чтобы его видели другие. Человек окружён системой экранов прости, что употребляю слова, которые я придумал для собственного удобства. Он видит себя как бы отражением на чьих-то экранах и часто не понимает своей сути Вот простой пример. Мы с тобой оказались в тайге и провели там странную ночь, очень для меня важную. Я о многом передумал, многое увидел и представил себе. Что именно? Об этом я мог бы тебе рассказать, если бы ты захотела. И потом эта безобразная вспышка с моей стороны, которую я никогда себе не прощу. Я знаю, хотя ты меня формально простила, но по существу ты не могла меня простить. Затем эти пошлые намёки, разговорчики за спиной, это шушуканье, которое не могло до тебя не дойти. Я бы не замечал их вовсе, если бы вдруг не эти перемены в тебе А ведь той ночью в пещере мне казалось, мы лучше стали понимать друг друга, и ты мне раскрылась в каком-то новом качестве — дифференте. Извини за глупое слово, но оно помогает мне лучше понимать и анализировать людей. Это некий остаток, за вычетом блоков, который и есть личность. Так вот, после той ночи ты вдруг выросла в своём дифференте. Ты казалась ясной и просто устроенной, и только после ночи и после всего, что я наблюдал, передумал и даже видел в каком-то странном сновидении, в котором мы с тобой предстали в сверхъестественном виде, существующими в невероятно далёком будущем, я понял наши отношения несколько глубже, иначе Не бред ли всё, что я говорю? Наверно, бред. Но выслушай, умоляю тебя, до конца После всего, что я увидел, мне показалось, что между нами протянулась какая-то ниточка доверия и уже ничто не сможет изменить наши отношения. Но я ошибался. Мне иногда кажется, что если я что-то думаю, то это без слов должно войти в другого. И вот после ночи, проведённой в пещере, я был уверен, что ты на эту ребячью космическую игру смотришь, как и я, как на что-то священное, как на их неотъемлемое право, как на жизнь, на которую нельзя покушаться, не совершая преступления. И вдруг эта твоя, прости, тирада, дикая тирада, эта грубая агрессия, попытка изгнать их из мира, в котором они прочно обосновались. Меня пронзила несправедливость твоего вторжения раньше, чем я подумал о наших отношениях, произошло короткое замыкание, и я уже не помнил, что говорил, что делал Вот я всё тебе объяснил, но чувствую, что не оправдался. Ты хмуришься. И даже девочки, которым я нужен зачем-то, тебя не смешат. В твоих беспощадных глазах я читаю свою вину. Какую вину, я не очень-то знаю, ибо в душе не питаю к тебе никакого зла. Твои глаза для меня как тёмный экран. Он смущает, сбивает мой собственный взгляд на себя. Я попал в систему экранов и теряю ориентировку. Я не знал, что ты так много значишь для меня. Раньше чьё-то мнение обо мне не волновало меня. Мне в гордости моей казалось достаточным то, что я думаю сам о себе, и я не помню, чтобы чей-то взгляд, постороннее отношение могли изменить моё самочувствие. Я очень легко могу уходить в себя, это ещё с той поры, когда я увлекался йогой. Но вот с тобой, и это впервые, все мои попытки уйти в себя, отключиться не помогают. Ты уже во мне живёшь, как-то диктуешь и направляешь Я понимаю, ты тут ни при чём, это ты в моём о тебе воображённом варианте, так сказать, отделенно от тебя, но, отделившись от тебя, твой образ укрепился, упрочился во мне с силой для меня реально объективной
РАСТРЁПАННЫЕ МЫСЛИ
Самое примечательное во всём этом несколько сбивчивом монологе — он не был произнесён вслух. Рустем и Броня шли вдоль ограды лагеря. Броня присаживалась на брёвнышко, присаживался Рустем. Броня вытаскивала свой блокнот и записывала в нём что-то своё, Рустем отворачивался. Затем она вставала, вставал и Рустем и шёл за ней, прихрамывая.
Мимо мелькали ребята. Несколько раз перед ними, как из-под земли, вырастали Аля и Маля. Посмотрят шпионским глазом и снова проваливаются. Рустему и Броне казалось, что у них важный разговор. Но разговора не было, а были монологи про себя. Странный какой-то разговор. Рустем хотел поговорить с ней о чём-то важном, и вот они шли, и со стороны казалось, что они говорят, но они молчали. Он хотел выяснить с ней какие-то отношения, но Броне совсем не хотелось выяснять их. Ей и так всё было ясно. Больше всего она боялась попасться на удочку жалости, пойматься на приманку, которая так безошибочно действует на сентиментальные женские сердца. О, как довольна была бы на её месте эта стареющая кокетка Лариса! Как бы она расплывалась и млела, как бы строила умные глаза, томно вздыхала, понимающе соглашалась, вбирая тонкие извивы его мысли, нюансы, подтекст, непонятности. Короче говоря, Броня и без слов знала, что он хотел сказать. Он уже изливался ей насчёт дифферента и сновидения и сейчас, наверно, про себя повторял уже известные ей слова.
Одна мысль, что и она, Броня, поддавшись, могла бы размякнуть и стать похожей на Ларису, приводила её в содрогание. Что-то оскорбительное было в том, что между ними затесалась эта самоуверенная дама. Может быть, в Броне говорит ревность? Ни за что! Ревность могла бы иметь место при одном и непреложном факте — если бы Броня питала интерес к Рустему. Но этого не было и не может быть, потому что это не может быть никогда. Он совсем не в её вкусе. И внешне не тот. А о внутренних качествах говорить не приходится. Ей нравятся люди с характером, мужественные и ясные, а у Рустема вместо характера сплошная доброта, готовая всем без разбору отдаваться, да ещё в сочетании с этой вспыльчивостью дикаря. Нет уж, увольте! Ревность могла бы ещё иметь оправдание, если бы Рустем питал склонность к Ларисе, но разве это так? А впрочем, кто их там знает, мужчин! Женщины другое дело, хотя и среди женщин бывают исключения («Единство чувства и поведения. Психологические различия между мужчинами и женщинами. Могут ли сосуществовать мужские и женские начала в одном человеке?»). Но это уже, кажется, из области психиатрии. Куда я зашвырнула книгу по психиатрии? Полистала и забросила и год, как не найду. А между тем нет книги, которая не возбуждала бы собственных мыслей. Поваренная книга? Провести опыт: прочесть страницу кулинарной книги и записать все мысли и соображения, пусть даже бредовые, которые придут в голову в процессе чтения. Тренировать свой мозг можно на чём угодно. Недаром Ленин любил читать Даля — просто словарь, поговорки. Умному человеку там много чего откроется. Даль! Чёрт возьми, стипендию за Даля! Да, так на чём это я остановилась? Да, ревность. Ревность как пережиток частнособственнических отношений в сознании человека. Ревность у Отелло — пережиток? Нет, это духовный кризис, кризис доверия. Ренессанс и гуманизм, поднявший человеческие чувства на новую, небывалую высоту. Как реакция на предшествующее их уничтожение Левиафаном религии («Левиафан. Что это за чудовище? Откуда? Из какой мифологии? Не из античной ли? Посмотреть у Куна. А может быть, из Библии? Год жизни — за Библию!»). Ревность? Смешно. Из нас двоих («Ужас — я уже объединяю себя с "ней!») заинтересована только она. Ей лишь бы мужчина. Неважно кто. Хоть Шмакин. А Рустем для неё просто находка. Он хром, неказист, он застенчив, щепетилен, тонок, а для таких дамочек это просто мёд, лакомство, десерт. Пусть она и забирает его. Может быть, он успокоится и перестанет так путано философствовать Ух, опять эти жеребячьи хвостики! Просто спасу от них нет! Что им нужно, этим чики-брики? Никуда не спрячешься от них. Ба! Да мне же после обеда в изолятор! Совсем забыла про этого несчастного мальчишку, обещала зайти к нему и почитать ему книжку. Становлюсь рассеянной,, ужас! А он там, бедняжка, мается, ждёт! ••
— Прости! — Броня взглянула на часы. — Меня уже полчаса ждёт Игорек Суховцев В изоляторе Я обещала
Это были почти единственные слова, произнесённые вслух в течение всего этого содержательного немого разговора
БОЛЬШАЯ РАКУШКА
Как только Броня скрылась в изоляторе, Рустема настигли Аля, Маля и ещё две девочки. Они присоединились к нему. Сперва они шли как бы не с ним, а около, а потом уцепились за его руки, уволокли в беседку и там, уединившись от посторонних глаз, наперебой стали рассказывать о разных лагерных новостях. О еже, который сбежал из живого уголка. О том, как Васька Карпоносов сорвал на опытной грядке редиску и съел её, как будто в столовой не кормят и он голодает, обжора и хулиган несчастный! О Варьке Неверовой, которая стащила все выкройки из кружка кройки и шитья и подкинула их в тумбочку к Ирке Маслюковой. О бумажном змее, который застрял на берёзе, а Борька Сиротинкин залез, сорвался и ногу разбил, а теперь хромает, а в изолятор не просится, потому что боится, что его вычеркнут из списка на поход.
Никаких особых дел — просто девочки любили терзать Рустема своими новостями, секретами, ябедами, обидами, сплетнями. Они носили к нему, как в общую копилку, всякую ерунду и не ерунду, потому что в лагере не было человека — среди взрослых, как и среди ребят, — который умел бы так слушать, которому всё это было бы интересно, только он один, выслушав, запоминал, оценивал и говорил что-то очень существенное и важное. Даже если он порицал, ребята оставались довольны. В отличие от взрослых, которых Рустем никогда не отчитывал и не наставлял, с ребятами он любил бесцеремонно разбирать их поступки и слова. И делал он это примерно так:
«А ну-ка, давай порассуждаем вместе. Ты Вовку обозвал Косоглотом. Вовка обиделся, заплакал. Если бы он был спокойный, он не обратил бы внимания на это, посмеялся бы вместе с тобой над этой кличкой, и все бы забыли, что ты обозвал его Косоглотом. Но он обиделся и это запомнил, и теперь не дают ему прохода. Почему ты его обозвал Косоглотом? Ты и сам не знаешь. Вовка нервный мальчик, но разве он плохой человек? Кто, вспомни, сделал клетку для дрозда? А ты умеешь так рисовать, как он? А кто стекло вставил на веранде? А кто ночью полез под веранду и достал оттуда козлёнка? Ведь козлёнок мог погибнуть, всё слышали, как он там плачет, а никто не осмелился полезть под веранду, и один только Вовка — его доброта оказалась сильнее страха полез и достал козлёнка. Разве Вовка такой плохой человек, чтобы его обзывать бессмысленным и недобрым словом Косоглот?»
Кончалось тем, что мальчик начинал втираться в дружбу к «Косогло-ту», а заслышав, как его дразнят этой кличкой, бросался с кулаками на обидчика. Вскоре этот случай забывался, и все выходили из него, чуточку обогащённые уважением друг к другу.
Рустем был большим мастером драматизировать ситуацию, выворачивать её наизнанку, раздувать конфликт до его максимального нравственного предела и доводить порой ребят до слёз раскаяния и стыда. И бывало так, что мальчишка, приходивший наябедничать на соседа, уходил от Рустема, пристыженный и в то же время удовлетворённый обстоятельным психологическим разбором случая. Не сказать, чтобы в этом было что-то новое, оригинальное, всё это походило на домашние бабкины распекания, но именно домашний тон в лагерных разговорах и давал им силу, тем более убедительную, что они исходили от постороннего человека. Ребята смотрели на Рустема как на своего. Они бегали к нему как к третейскому судье. Он был их душеприказчиком, поверенным в тайных делах, чем-то вроде бюро по хранению секретов, радостей, горестей и обид. Вот почему ребята тянулись к нему и караулили каждый его шаг. Оставаясь стар шим он легко находил с ними общий язык.
Но сегодня было что-то не то. Девочки не узнавали Рустема. Он слушал их, кивал и будто бы даже вникал, но всё же явно витал где-то в облаках, и они чуяли сердцем, что его кто-то обидел и что он живёт в этой обиде, спрятавшись в ней, как в ракушке, большой ракушке, и что ему очень горько и больно. Вот почему, наспех рассказав о своих новостях, девочки отстали от него, в недоумении переглядываясь: что бы это значило? И не кроется ли за этим чья-то недобрая воля?
«ПРОШУ НАЛОЖИТЬ НА МЕНЯ ВЗЫСКАНИЕ»
С Рустемом начались странности. Рассеянность, в которую он впадал, была из ряда вон выходящей. Как-то ни свет ни заря решив, что пора будить лагерь, он растолкал горниста Генку Чувикова:
— Вставай, дружок!
Мыкаясь от сна, Генка поднял бессильной рукой горн, издал хриплый звук, и только тут Рустем заметил, что кухня темна — нет ни света в окнах, ни дыма из труб. Ещё не было и четырёх часов утра. Свет луны, необычайно яркий, он принял за свет восходящего солнца и чуть не поднял ребят, как солдат по тревоге. Генка Чувиков, так ничего и не поняв, свалился как подкошенный и заснул — нет, не заснул, а просто продолжал спать. Наутро он так ничего и не мог вспомнить, хотя кто-то из ребят что-то и слыхал: одним казалось, что кто-то крикнул во сне, а другие утверждали, что это гуси-лебеди, пролетая, кричали на заре
По вечерам, когда уже давался отбой, Рустем заходил к малышам и. пока они укладывались, рассказывал сказки в темноте. И вот теперь случались странные вещи: девочек он называл именами мальчиков, а мальчиков путал с девочками из соседнего отряда. Ребята думали, что он шутит, и смеялись. Рассказывая сказку, он вдруг перескакивал с одного эпизода на другой или начинал повторять уже рассказанный эпизод. Ребята не могли понять, отчего это в сказках такие провалы и повторения, и перебивали его вопросами или кричали, что он это уже рассказывал, и напоминали, с какого места надо продолжать. . .
Но самое странное произошло в родительский день. Одна из родительниц, парикмахерша, мать Лени Костылева, не нашла у сына тапочек и устроила крик на всю палату. Все показывали свои тумбочки, чтобы снять с себя подозрения, поднимали матрацы, а некоторые уже оправдывались и плакали. И тогда Рустем, войдя в палату и узнав, что происходит, стал уверять мамашу, что это он, Рустем, взял тапочки, что накануне ночью шёл дождь, а когда кто-то из ребят выскочил босым во двор, именно он, Рустем, кинул тапочки вдогонку, но только не помнит, кто это был. Но всё же, кто это был? Кому он бросил тапочки? Никто не хотел признаться. И тогда Рустем, чтобы успокоить мамашу, тут же уплатил три рубля, и все успокоились, недоумевая, а мамаша вслед за этим уехала, вполне довольная решением вопроса. А через час тапочки нашли за окном, как раз в том месте, где спал Ленька Костылев. Оказалось, что это он сам и посеял тапочки, и Леньке наподдали, потому что он знал, что тапочки посеял сам, но только не помнил где и не хотел признаться — боялся мамаши.
Самое же удивительное — и об этом никто не знал, кроме начальника лагеря, — случилось в разгар конкурса «Умелые руки». Рустем, на котором лежала главная забота, куда-то затерял опись сданных самоделок, рассердился на себя и подал Ваганову заявление, в котором аккуратным мелким почерком — чёрным по белому, очень красиво, с декоративными завитками, с указанием даты и часа написания — просил наложить на него взыскание и вынести выговор с предупреждением об увольнении за халатное исполнение своих обязанностей, за несоответствие занимаемой должности и всякое такое и просил перевести его вожатым в самый малышовый отряд и ультимативно давал неделю на подыскание ему замены, в противном случае он вынужден будет самовольно оставить работу.
Своё заявление он вложил в конверт, заклеил и вручил бухгалтерше Анечке Куликовой для передачи Ваганову, но Ваганов получил конверт на третий день. Когда же он вызвал Рустема для объяснений, Рустем долго не мог понять, о чём идёт речь, а когда Ваганов вручил ему заявление, Рустем перечитал его раз и два и, убедившись, что это не подделка, не розыгрыш, испуганно уставился на Ваганова и попятился из кабинета. Яков Антонович, несколько раз проходя мимо, подмигивал ему самым нахальным образом, словно именно с ним, начальником лагеря, хотели разыграть глупую шутку, но он вовремя разгадал и вывел Рустема на чистую воду и хорошо посмеялся над ним
По вечерам ребята собирались на танцверанде и танцевали под радиолу или под шмакинский баян. Здесь подвизались лихие танцоры, признававшие только современные буги-вуги и шейки, но здесь же мальчики и девочки обучались вальсам, старинным полькам, ручейкам, народным танцам. На танцверанде часто можно было видеть Рустема. Хромота не мешала ему танцевать. И девочки всегда толкались, добиваясь, чтобы он танцевал с ними, и даже спорили, кому раньше, отталкивая друг дружку. Он же любил иногда выбрать в пару самую застенчивую тихоню и танцевал с таким же вдохновением и радостью, как если бы это была первая красавица и танцорша
На эти вечерние танцы изволила приходить и Лариса Ивановна и порой от скуки вступала в круг, быстро входила в азарт и такое выдавала, что все расступались, и в центре оставалась она одна с партнёром (чаще всего это бывал физрук десятиклассник Владимир Забелин). Она так искусно работала локтями, коленями и поясницей, надвигаясь на партнёра, отступая, медленно ввинчиваясь в пол, а потом вывинчиваясь кверху, что, когда они кончали, раздавались бурные аплодисменты. Георгий Шмакин играл туш и кричал «бис», требуя повторения, но она посылала ему воздушный поцелуй и сгоняла всех в круг, требуя, чтобы танцевали другие.
— Нашли себе зрелище! Сами танцуйте
Тут же вертелся Виталик, одетый в вечерний костюмчик, с бабочкой и в белой рубашечке, очень смахивающий на солиста лилипутской труппы.
Он потешал ребят, крутя за кавалера какую-нибудь из старших девочек, и поражал всех необыкновенной ловкостью и знанием разных танцев. Это был способный ученик своей мамы, он всех веселил своей взрослой и старомодной галантностью. Это было любимое ребячье времяпрепровождение, и о танцах потом вспоминали днём, обсуждали, договаривались, кому с кем танцевать.
На этот раз Рустема словно подменили — он танцевал без всякого вдохновения, вдруг останавливался и начинал вертеть свою партнёршу в обратную сторону. Что-то с Рустемом творилось. Девочки следили за ним во все глаза и не узнавали. И думали, как бы развлечь его. отвлечь
Ещё задолго до конца лагерной смены, таясь друг от друга, девочки стали готовить подарки. Ими обычно обменивались в последний день пребывания в лагере. Но Рустема они стали одолевать, как будто он завтра уезжал. Они подстерегали его на лагерных дорожках, вручали подарки и убегали. В результате разные самоделки, изготовленные для конкурса, лесные человечки, сделанные из кривых корешков, всевозможные значки, расшитые платочки, вязаные шапочки скопились у него в немалом количестве. Но и подарки не выводили его из состояния забытья. Ему совали блокноты, лагерные дневники, книги, галстуки, требуя автографов, и он, присев на пеньке, вытаскивал авторучку и, глядя на девочку или на мальчика, по выражению лица соображал, что написать, но писал, не замечая, путая имена, а иногда девочке записывал пожелания, имея в виду мальчика, и наоборот. Ребячьи старания не помогали
«МЕТОД ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ»
В жизни Брони тоже начались странности, но иного порядка. Она давно уже заметила, что малыши льнут ко взрослым, не очень различая их, с радостью выполняют их поручения, и тем более охотно, если при этом сами становятся как бы командирами. Броня учла эту склонность малышей и разработала его в подробный педагогический метод. Она сама, например, не делала замечаний шалопаям, свистунам, лентяям и задирам; входя в палату после утреннего горна, она не кричала, как другие: «Подъём! А это кто спрятался под подушкой?», а подходила к порогу, хлопала в ладоши и молча переводила глаза с одной койки на другую. Такого знака было достаточно, чтобы ребята вскакивали и начинали одеваться. Но если кто-нибудь упорно натягивал на голову одеяло или усиленно сопел, крепко жмуря глаза, она кивала тем, кто уже встал, на волынщика. Намёк ловился на лету. С волынщика стаскивалось одеяло, и начинался весёлый переполох.
«Метод приводных ремней», как она его называла, Броня обосновала в своём дневнике и успешно применяла в походах, когда надо было подтягивать отстающих, во время купания, чтобы вытащить из воды увлёкшегося ныряльщика, на прогулках и сборах, когда надо было унять забияк и крикунов, на линейках, чтобы добиться равнения по струнке: «А ну, Петя, сделай линеечку», — и Петя выходил из ряда, прищурив глаз, проходил вдоль строя, ребром ладони срезая выпяченные животы. Она добилась того, что при её появлении сами ребята бросались будить засонь, вытаскивать из воды упрямцев, унимать крикунов. Ей приходилось иногда на слишком ретивых укротителей пускать других укротителей: «А ну-ка урезонь его!», выдвигая на эту роль не только физически сильных или старших, но и малышей. Причём слабые охотно брали на себя функции усмирителей и не боялись возмездия. Только в редких случаях ей приходилось вмешиваться самой. Весь арсенал её воздействия — кивок, шевеление рукой, два-три слова. Этот экономный и эффективный метод наведения порядка, метод взаимного воздействия, она почитала полезным ещё и потому, что он возлагал на ребят функции воспитателей, формируя таким образом самоуправляемый детский коллектив. Надо отдать должное её скромности, метод этот она не считала открытием — она взяла его у Макаренко, но Макаренко применял его к большому коллективу беспризорных детей, уже привыкших своею прошлой жизнью к самостоятельности, а- Броня (и она теоретически обосновала это в своём дневнике) применяла его к маленьким группам для повседневного, житейского, так сказать, обихода. Этот метод, который она сформулировала про себя как «метод меняющихся лидеров», приобрёл в лагере популярность, но никому не удавалось добиться такой чёткости, слаженности и быстроты, как Броне в её отряде. «Броневой метод», оказывается, требовал нервного напряжения, гораздо проще было увещевать, вмешиваться и кричать. А это никуда, просто никуда не годилось — опускаться до уровня крикунов и разводить «коммуналку». Такой метод требовал выдержки — вот в чём соль. Он требовал работы над собой — вот где главный гвоздь. Броня гордилась открытым ею «методом приводных ремней» и определила его в своём дневнике как тему для статьи, собираясь предложить её одному из журналов Министерства просвещения, только пока ещё не могла придумать названия («Полгонорара за название!»). И вот этот метод вдруг стал давать осечки
БУЗА
Началось с палаты, где спали двойняшки Аля и Маля, и как раз во время утреннего подъёма, в быстроте и организованности которого палата добилась первого места по лагерю. Неизвестно, что у них было там ночью, наверно, угомонились позднее, чем обычно, но приход Брони в то утро и хлопок в ладоши не произвёл никакого впечатления. Все продолжали спать. Броня похлопала в ладоши ещё раз и какое-то время сверлила глазами одну койку за другой. Телепатического действия её взгляды не оказали. Пришлось стянуть одеяло с первой койки — Риты Стукалиной. Рита открыла глаза и долго не могла понять смысла Брониных кивков. Наконец до неё дошло, она стала сдёргивать одно одеяло за другим, но и это не произвело эффекта, хотя иные из девочек уже не спали, а только притворялись спящими. Девочки снова поукрывались одеялами, и картина мирно спящей палаты была полностью восстановлена. Рита Стукалина с ролью лидера провалилась. Она сама это поняла, но не смутилась, больше того — сама завалилась на койку и натянула одеяло. Это уже попахивало стачкой. Броня спокойно стащила одеяло с Насти Сорокиной — та редко получала роль лидера и сама набивалась первая. Очень довольная, она с гоготом стала стаскивать одеяла, но девочки вскакивали и снова падали на койки. Начиналась буза. Когда же Настя стащила одеяло с одной из близняшек (Али или Мали), то Аля (или Маля) в одних трусиках, растрёпанная, как юная хорошенькая ведьма, вцепилась Сорокиной в волосы и повалила её на койку. Сорокина — тяжёлая, крупная, сильная девица — скинула с себя Алю (или Малю), но тут на неё с визгом навалилась Маля (или Аля), и вместе они, двойняшки, стащили Сорокину на пол и стали колотить. Подружка Сорокиной Мила Матвеева ввязалась в потасовку, чтобы защитить её, и все четверо укатились под койки и возились там, кряхтели, кусались и орали благим матом. Вся палата набросилась на Сорокину и Матвееву:
— Предательницы! Подхалимки!
Девочек выволокли из-под коек, но они никак не хотели утихомириться, безобразно махали кулаками, усердно щипались. Леночка Матвеева уткнулась в подушку и ревела, а Сорокина, резво отбивавшаяся от девочек, вдруг тоже разревелась и забилась головой под подушку. На шум сбежались ребята из соседних корпусов, переполох охватил чуть ли не весь лагерь, как пожар. Броня закрыла двери от любопытствующих и неподвижно, как кариатида, стояла до тех пор, пока девочки не угомонились и не стали наконец прибирать постели. Потупив головы и не глядя ей в глаза, они побежали умываться. На своих койках оставались только Аля и Маля. Они продолжали лежать и гнусавить. И так усердствовали, что вскоре стали пищать по очереди — одна покричит, пока не устанет и замолчит, начинает другая. Броня уселась напротив, протёрла пушистым кончиком косы свои очки и горестно мигала близорукими глазами, едва сдерживая малодушное желание заплакать. Этого ещё не хватало! А поплакать страсть как хотелось — так бы и забилась сейчас в укромный уголок и выревелась от души. Но надо держать себя в руках, ангел мой! Броня напялила очки на покрасневший носик и поневоле залюбовалась двойняшками — ах, хороши, чертовки! Даже сейчас, едва сдерживая приступ малодушия, Броня не оставила своих наблюдений, пытаясь установить, кто из них кто, что в них алтайского, что русского, что от отца, местного композитора, а что от матери, русской учительницы, которых она помнила по родительскому дню. Она и раньше много думала о них и пришла к заключению, что это дьявольская шутка природы — создать существа, абсолютно совпадающие по всем признакам. Рослые, длинноногие, эти акселератки впадали порой в поразительную инфантильность, — феномен, который тоже ставил её в тупик.
В палату заглянула встревоженная Мария Осиповна. Девочки уже успели донести медсестре о том, что произошло. Броня решительно встала, перекинула косу через плечо и с облегчением сказала:
— Будьте добры, Мария Осиповна, проводите Тозыяковых в изолятор и завтрак принесите им туда.
С приходом Марии Осиповны Броня снова почувствовала себя на педагогической высоте. Нет ничего хуже, когда между взрослыми нет единства, подумала она. Эта чувствительная толстуха была готова хоть всех положить в изолятор при малейшем намёке на простуду, расстройство желудка или царапине. Такая вот беспринципная и любвеобильная наседка была первой вредительницей организованной системы воспитания. Типичная старая дева по всему своему облику, из «добреньких», хотя, как узнала Броня, имела мужа и сына, который служил в армии. Когда в будущем Броня станет руководителем детского учреждения, она прежде всего расчистит персонал и удалит из него всё аморфное, дряблое и анархическое. Таких, как Маня (Броня иначе про себя её не называла), к ребятам нельзя подпускать на пушечный выстрел. Своей готовностью сдаться при малейшем ребячьем капризе она способна свести на нет любые усилия целого коллектива воспитателей. Вот ведь — стоило этой Мане войти в палату, как Броня сама поняла всю бессмысленность своей железной осады. Не вступать же с этой толстухой в обсуждение, как и что надо делать. Маня не упустила бы случая ввязаться в ссору, даже заплакать на людях, чтобы доказать свою сердобольность. Причитая и охая, она тут же стала прибирать за девочками постели (какой педагогический кретинизм — прибирать за детьми!), даже не давая им одеться, отвела их, притихших, в изолятор, а вскоре, кудахтая от распиравших её чувств, побежала в столовую и принесла им завтрак на подносе — столько всего, словно там её ждали не две девочки, а целый эскадрон изголодавшихся конногвардейцев Так или иначе, именно Мария Осиповна вернула Броне решимость бороться до конца. Звание педагога обязывает.
ВЫВОДЫ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
Броня не придала особого значения тому, что между нею и девочками появилась натянутость. А девочки явно избегали её. Они, правда, послушно, как овцы, шли за нею, играли в баскетбол, но без воодушевления, мазали, плохо ловили мячи, и Броня словно бы бегала в пустоте, не чувствуя команды. Нет, она не придавала этому значения. Просто девочкам было стыдно и неловко перед нею за утреннее безобразие («Стадность реакций. Продумать и проанализировать с точки зрения разных возрастных групп»). Не придавала она значения и тому, что девочки перестали к ней ласкаться. Она не любила этого, хотя и терпела, понимая, что это возрастная потребность. Правда, странная в такой крупной девице, как Сорокина, но кто бы дал тринадцать лет этой девице, только в разговоре и вылезала из неё наивность шестиклассницы («Акселерация. Раскрыть понятие на анализе конкретных примеров. Сёстры Тозыяковы. Сорокина»).
Внешне Броня мало чем отличалась от некоторых старших девочек, но всё же положение вожатой отделяло её от ребят, они жили в разных мирах, и такую разделённость Броня считала естественной, допуская близость только в определённых пределах — от сих и до сих, не больше. Нет, она позволяла себе даже выслушивать секреты и сплетни, кто в кого влюблён и другие глупости, но никогда не давала понять, что это ей ах как интересно! Вживаясь в образ мыслящего педагога, Броня старалась быть воплощением строгости, внимания, но без всякой близости, когда теряются возрастные грани, отделяющие воспитателя от ребёнка. Пуще всего ей претила Манькина раскрытость, когда взрослая женщина, заигрывая с ребятами, превращается в девочку и делится с ними своими секретами. Броня подозревала даже, что усиленный интерес девочек к медсестре вызывается её рассказами обо всём, вплоть до интимностей своей семейной жизни. Правда, фактов подобного рода Броня не имела, но самый строй её души давал основание для такого предположения. Чем же иначе можно объяснить тягу ребят к ней? Не духовной же её содержательностью или хотя бы умением рассказывать. Ребята падки до людей, умеющих бойко болтать, но и этого не было у Мани. Маня вовсе не была педагогом и вообще в жизни лагеря не принимала прямого участия, но именно её Броня ввела в свою педагогическую систему, пользуясь ею как рабочим — временным— термином («Маня. Маняшество. Манятивизм. Маньярство. Чепуха какая-то на постном масле»).
Утренний инцидент получил неожиданное продолжение. К обеду в столовую пришли Аля и Маля. Они покинули изолятор и уселись на своих обычных местах. Значит, они решили, что раз им сошло с рук утреннее самоуправство, то теперь им позволено всё. Вертевшийся на языке вопрос: «Как ваше самочувствие, Алималички?» — Броня подавила в себе. Это будет выглядеть заигрыванием, хотя, если всерьёз, ей больше всего хотелось оттаскать их за косички. Но вообще-то говоря, не мешало бы узнать, всё ли у них в порядке. У детей капризы бывают на разной почве. Так и быть, она не пошлёт их обратно в изолятор. И не потребует объяснений. И вообще оставит их в покое. Броня станет даже внимательней к ним и добрее, пусть поломают голову и привыкнут к мысли, что Броня всё забыла и простила, а у неё хватит терпения дождаться своей минуты.
Броня подсела к девочкам за стол и, рассеянно поглядывая по сторонам, стала прислушиваться к их болтовне. Они уже помирились с Сорокиной и болтали с ней как ни в чём не бывало. Эта Сорокина, толстая фефёла, пересела к двойняшкам за стол и угощала их зелёным горохом в стручках, наворованным в колхозном поле, и подлизывалась к ним изо всех сил. Они жевали горох и вели совершенно пустую болтовню («Девочки, вы видели, какой у Гали бантик?» — «Ой, а Глебка вовсе не заметил! Вот увидите, за ужином у неё будет другой бантик — синий в звёздочку» — «Ой, а Глебка, смотрите, уставился на Ирку » — «А Ирка-то, что это она такое в тарелке увидела?» — «Волосок увидела » — «Не волос ли это Витьки Пухначенко? ..»). Они болтали всякую чушь, и не очень понятно было, делают ли они вид, что не помнят об утреннем спектакле, или болтают Броне назло? Потом вдруг сдвинулись головами по одну сторону стола и стали нахально шушукаться, и Броня, не желая того, уловила имя какого-то Базиля. Разом фыркнув, они снова выпрямились над столом и стали взбивать кудряшки, словно перед ними было зеркало. Броне стоило немалых усилий сохранить подобие понимающего сочувствия на лице.
А вот что было дальше. Отобедав, Аля и Маля не пошли на тихий час в свою палату, а убежали снова в изолятор. Они решили, что могут жить, где им вздумается, и вообще правила — не для них. Если такие настроения не пресечь, они перекинутся на других и распространятся по лагерю, как эпидемия. Первые признаки были налицо. В палате не оказалось ни Сорокиной, ни Леночки Матвеевой. Нетрудно было догадаться, что тропка вела их в тот же изолятор. Гнать их оттуда? Нет, Броня не снизойдёт до роли надсмотрщицы. Надо всерьёз поговорить с Маней. Никто не позволит ей превращать изолятор в казацкую вольницу.
Броня прошла к себе в комнатку. Её соседка Тина спала сном праведницы. Она всегда отсыпалась днём, чтобы после отбоя до самых петухов пропадать со своим сельским поклонником. Уже под утро, хихикая, она будет шептаться "под окном, пищать, а потом с грохотом, подталкиваемая снизу, упадёт через окно в комнату, как бомба. Броня оглядела её с неприязнью и взялась за дневник, чтобы записать туда кое-что из того, что наметила себе записать. Она задумалась и мельком взглянула в окно — там за рощей находился изолятор, откуда могла появиться Маня, тогда она перехватит её Не успела Броня сделать первую запись, как из рощи показались Рустем, двойняшки и Сорокина. Девочки прыгали перед ним, отталкивая друг дружку, и болтовня стояла такая, что даже здесь, в комнате, слышно было, хотя отдельных слов не разобрать или - или
Вот где собака зарыта! У Брони даже полегчало на душе. Значит, дело не в Мане. Вся эта анархия, распущенность и вольница шли не от кого-нибудь, а от старшего вожатого. Не с Маней, стало быть, а именно с ним надо поговорить и решительно объясниться. И если разговор ничего не изменит, тогда что ж, она может уволиться по собственному желанию. Опыта, который она приобрела здесь, ей вполне достаточно. Ради зарплаты, что ли, она будет надрываться? Она ещё успеет сгонять в Крым и пожарить свои косточки на солнце. И добрать на фруктах витаминный паёк. Броня мельком глянула в Тинкино зеркальце и отвернулась. Тоже мне красавица! Лицо — как у злого мышонка. Да, Крым — это идея! Мама предлагала ей поехать, но она отказалась, — она не умеет отдыхать, бездельничая, и потом, ненавидит курортников, умирающих от скуки. Она называла курорты не иначе, как злачными местами, хотя имела о них смутное представление — лишь однажды с группой вожатых была на семинаре в одном из приморских городков. Но если вопрос встанет или — или, она поедет отдохнуть даже на такой курорт. Природа всегда есть природа, даже если там пасутся стада. Природа ни в чём не виновата перед нею, Броней, которая хочет поваляться на солнце, успокоить нервишки, вдосталь пополоскаться в морской водичке, насладиться видами Боже мой, почему же это толпы курортников должны испортить ей радость от Крыма, дивной этой жемчужины, сохранившей в себе что-то от библейских пейзажей? А Коктебель? А Волошин? А этот Богаевский с его символическими пейзажами, которые она мельком видела в Симферопольской художественной галерее? Раздражение скоро перешло в состояние лёгкого воодушевления, и теперь она уже бестрепетно пошла к изолятору, чтобы объясниться с Рустемом
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
— Ты уже, конечно, знаешь о том, что произошло утром, я не сомневаюсь, — сказала Броня, когда они вышли из лагеря и пошли знакомой тропой к скалам, где они провели грозовую ночь. — Девочки тебе обо всём рассказали, и я не настолько наивна, чтобы думать, что в их рассказах я выглядела ангелом
Броня сломала на ходу веточку багульника и хлестала ею воздух в такт своим словам, а слова лились потоком, всё больше набирая силу. Утренний спектакль ему, конечно, известен во всех подробностях, хотя повода она для него не давала. Она просто наблюдала и терпеливо ждала, пока всё само не прекратится. И вообще она не собирается оправдываться перед ним, тем более просить о помощи. Она ни в чьих консультациях не нуждается, как-нибудь разберётся сама, хотя разговоры, которые были между ними, кое-чему научили её. Спасибо, что он не жалел на неё времени. Ведь она простая студентка, а он выдающийся аспирант, надежда науки. Ей очень лестно, что он уделяет ей столько внимания, ей, человеку, в сущности, примитивному и не очень умному. Она очень благодарна ему, но сейчас она пришла не для того, чтобы изъявлять свою признательность. То, что случилось сегодня утром, — это не случайность, а звено в целой цепочке явлений, которые тянутся с той злосчастной ночи. Она не хотела обращать на них внимания, проходила мимо них, старалась не придавать им значения, но сегодняшняя история — последняя капля. Она поняла, что избежать объяснения уже не удастся. Она не станет начинать издалека — с изложения их педагогических разногласий. Да, она признаёт, что опыта у неё ещё мало, в отличие от него, уже закончившего институт, много работавшего в школе и уже не первый год практикующего в пионерских лагерях, собирающего материалы для диссертации. Но это не значит, что у неё нет своих взглядов
Ветка багульника плавно покачивалась в воздухе, но иногда вдруг устремлялась в погоню за комарами. С каждым комаром она словно бы убивала и возражения, которые мог сделать Рустем. Хорошо, давайте посмотрим, как выглядят его действия, его отношение к ней в глазах тех же девчонок. Да ведь он в их глазах бедненький страдалец, терпящий гонения от злой Кобры Да, Кобры, она прекрасно знает, как за глаза называют её ребята. Ах, как приятно выглядеть в глазах девчонок и мальчишек этаким мучеником с венчиком над головой, невинной жертвой этой мерзкой, злой, гадкой Кобры (Бр-р-р-р!). И вот, упиваясь своей святостью, он разжигает — невольно, а может быть, и нет, кто знает? — ажиотаж вокруг их гипотетических, мифических отношений, которых не было и быть не могло. И к нему лезут с сочувствием, советами, его ласкают, его окружают любовью. Ему своё нежное внимание уделяет даже Виолетта Джульеттовна, готовая утешить его и ублажить.
— И напрасно ты избегаешь её, — подняв ветку, Броня ловко сбила комара, — В ней есть что-то пикантное, чёрт возьми! И даже искусная косметика, ха-ха, не может И будь я мужчиной, хо-хо, я бы и ты, Рустем А? Что с тобой?! Боже! Ма-а-а-а! Мамочка!
Дело в том, что, упоённая строгой, красивой линией своего монолога, заботясь о его логической безупречности, о его лёгком и в то же время напряжённом накате, она не очень следила за Рустемом. Вообще устная речь была её КОНЬКОМ, В отличие от письменной, где изложение мысли затруднялось тем, что неясно представлялся оппонент, а это очень важно, ибо оппонент вызывает соответствующий настрой и распаляет красноречие. Это было хорошо ей известно по ответам на экзаменах, где она умела переключать внимание даже умных преподавателей, уводя их в области, где не очень нужны точные знания и где умение говорить даёт возможность плавать, лавируя в волнах предположений на заданную тему. То, что ей легко удавалось в устной речи, в письменной ей не удавалось, в дневнике она придерживалась стиля сухого, лапидарного, императивного: короткая фраза, стиль бесстрастный, телеграфный, как протокол («Десять минут на доклад. Ваше время истекло»). Разгонистый, набирающий паруса полёт её устной речи терял в её писаниях свободу и простор, потому что оппонентом в этом случае была всегда она сама. Сама же она как оппонент представляла крайне неудобный вариант — слишком сложный, увиливающий, ироничный, видящий всю подноготную ораторских ухищрений. Короче, ей очень нелегко было спорить с собой — она не любила возражений.
И вот, любуясь плавным течением своей речи, Броня даже не смотрела в сторону Рустема, ей было вполне достаточно слышать его припадающий шаг, то чуть отстающий, то нагоняющий. Её принципиально не интересовало, что там творится у него в душе. Рустем, напряжённо следя за её речью, шёл обок, то кивая и усмехаясь про себя, то с огорчением помаргивая ресницами. Он очень жалел её, он страдал. Он сжимал и разжимал кулаки, точно ловил какие-то свои доводы и тотчас отпускал их, потому что, улавливая блоки в её речи, он переставал слушать и весь уходил в себя, даже не в себя, а влезал в её шкуру и не слушал её, чтобы она не мешала «слушать» её другой, такой, какой он видел её, ощущал. Он уверен был, что та, другая, была реальнее, чем эта вот — самоуверенная, не умолкающая, не желающая даже выслушать, а если и выслушать, то внять и проникнуться.
И вот он, уйдя в себя и ощущая Броню в себе более реальной, чем та, что бросала сейчас слова в пустоту, плёлся где-то рядом, то догоняя, то отставая, терпеливо дожидаясь, когда истощится поток её красноречия. Он надеялся, что, удовлетворив своё тщеславие, она успокоится и посмотрит на всё по-человечески, сама устыдится театрально-прокурорского пафоса своей обвинительной речи и понимающе усмехнётся. И вдруг так неожиданно, нелепо, дико, анекдотически, каким-то гротеском возникла эта Виолетта, эта Клеопатра, а с нею рядом — та, вторая, ненастоящая Броня, ревнивая, мелочная, злая! Из Рустема вдруг выскочил чёрт, необузданный дикарь, и в результате — катастрофическая вспышка, смесь всякой дребедени, в которой были перемешаны ревность, мстительность, презрение к женщине как к существу, которому аллах не оставил даже души. Взрыв ударил в сердце. Рустем уже не видел, не слышал, не ощущал себя — он схватил Броню за косу, пригнул с неистовой яростью до земли и отшвырнул её прочь. Отшвырнул — и вдруг сам упал, больно подвернув ногу, вскочил и, рыча, как раненый зверь, побежал в чащу. И бежал, бежал, не разбирая дороги.
Такие вот страсти-мордасти
Глава 3
КОГДА КРИЧИТ ТАЙГА
ГОЛОС ИЗ ДЕТСТВА
Рустем брёл по тайге, останавливался, мотал головой и с горькой усмешкой смотрел на растопыренные ладони. Кто он такой, собственно говоря, если смотреть в самый корень? Обыкновенная горилла — вот кто он такой. Только без хвоста. Ни с того, ни с сего броситься на девушку — э, душа, моя, куда это годится! С такими замашками самое подходящее место для тебя — джунгли. И вообще, что изменится в цивилизованном мире, если ты исчезнешь из него? Мысль эта — вдруг исчезнуть — понравилась ему своей новизной. Очень заманчиво побывать в шкуре человека, решившего отойти в иной мир. Не позавидуешь, конечно, бедняге. Но именно сочувствовать беднягам было слабостью Рустема, вот почему он с такой лёгкостью вошёл в роль жалкого самоубийцы. В самом деле, если кончать с собой, лучше это сделать, не откладывая в долгий ящик. И не уходя далеко отсюда. Пока не загремела чугунная рельса, призывая к ужину. И пока щебечут птицы, укладываясь спать. И качаются сосны, сползающие по склонам ущелий, где внизу грохочет река. Охватить всё это разом, вздохнуть и прыгнуть со скалы, что виднеется сквозь можжевёловый куст. Но какой же путь придётся проделать? До крутого выступа он пролетит более или менее спокойно. А дальше? Ударившись о выступ, он несомненно потеряет сознание и плюхнется на камни, заливаемые водой. Но от прохладной ванны он навряд ли придёт в себя. И это было бы неплохо. Совсем даже удачно, если навсегда застрянет там, никем не замеченный. Ну, а если его обнаружат? Тогда значительно хуже. Тогда просто плохо. Кто может поручиться, что водой его не вынесет на берег в том самом месте, куда из лагеря тайком любят приходить прыгуны, скалолазы и любители самовольного купания? Тогда не миновать великого переполоха. Весть о его гибели разнесётся далеко-далеко. И гибель его, устроенная ради собственного удовольствия, дойдёт до разных инстанций и будет отнесена за чей-то счёт. И по логике, никак не объяснимой, на головы невинных людей обрушатся кары, от которых ему неспокойно будет даже на том свете. Спрашивается: зачем должны страдать невинные люди?
Вот так, раздумывая о неприятностях, ожидающих самоубийцу, Рустем пробирался в кустах, обползая камни, пока не упал на моховую постель на пороге обрыва. Он слегка отдышался над прохладой, поднимавшейся снизу, и долго всматривался в каменную осыпь обвала. И чуть было не заснул, но что-то помешало ему. В самом деле, что? Что это мелькает там сквозь паутину в кустах? Кто это бежит внизу? Красный свитер, джинсы и коса, прыгающая по спине, — это не она ли, Броня? Стало быть, она не ушла. Рустем попятился от обрыва. Он уткнулся в мох и натянул на голову куртку, оставив для глаз маленькую щёлку. Этой щёлки хватало, чтобы рассмотреть и понять, что с- Броней что-то случилось. Во всяком случае, она была уже не та, что некоторое время назад. Что же случилось? Куда делась её надменность? Где её холодное высокомерие? Растерзанная и жалкая, металась внизу неприкаянная, простоволосая девчонка и стенала со всхлипом:
— Рустем! Ты слышишь меня, Рустем! Прости, Рустем! Ну выйди, не мучь! Я я Рустем, я хочу сказать тебе очень, очень важное Рустем!
Неисповедимо сердце женщины! Однако стоило жить и страдать, чтобы дождаться такого. Душа Рустема, смятая волнением, рванулась навстречу. Что-то завопило в нём от восторга и стало душить. Он так сильно вжался в мох, что почувствовал под руками холодную слякоть. И сразу остыл. А остывши* подумал: а зачем нужна ему встреча? Разве не хватит ему того, что увидел? Несбывшаяся мечта всегда горит в душе дольше и ярче. Теперь он спокойно может уйти. Теперь он знал, что делать. Он дождётся темноты и ночным поездом уедет в город, а завтра с почты даст телеграмму. Да будет так! Наконец-то можно отдохнуть. И помечтать. Ещё минуту назад он был бедняком, но теперь он чувствовал себя богачом. Этой сцены, мелькнувшей сейчас перед ним, хватит надолго. Он смаковал каждый миг, вновь и вновь представляя красный свитер, джинсы и косу, летевшую за спиной. Растерзанная Кабирия, метавшаяся в страшной ночи, едва ли была прекраснее Брони! Чёрт возьми, она даже плакала! Значит, ты не последний парень на земле, обормот ты этакий, если по тебе убивается такая девушка. Такая девушка!
Рустем пополз по-пластунски, легко подтягивая своё сухое тело сильными руками. Он поднялся уже в лесу и долго шёл, слыша слева от себя смутный грохот машин на шоссейном тракте. Навстречу теснились лиственницы и кедры, но путь подсказывал узкий проём света в небе, стрелой уходивший вперёд — в никуда. В сущности, не всё ли равно, куда приведёт его эта розовая полоска в небе? Он уже подвёл итог. Кое-что он всё-таки посеял в душах ребят — разве не так? Что-то от него пребудет и в травах этих, и в деревьях, и в птицах и зверях, населяющих мир. И мир этот вечен. Спокойная, радостная умиротворённость вошла в него. Грудь его ширилась от чувства слиянности со всем этим шелестящим сейчас, свистящим и сверкающим миром. Движение воздуха, шорохи деревьев, запахи трав, птичьи голоса, розоватый свет неба — всё это было сейчас в нём. И он был во всём сейчас. И это был восторг бессмертия. Ибо как он, частица всего сущего, исчезнет, когда всё это останется? Э, Рустем, можешь считать, что свой билет в лотерее жизни ты вытащил правильно, разве не так?
Рустем вышел из леса и направился на шум реки, внезапно возникший в стороне. Он брёл какое-то время, шаря руками по осыпям скал. Впереди громоздился валун с блестящими квадратиками слюды. Рустем наткнулся на ограду и пошёл вдоль неё, перебирая руками бутылки на кольях. Валун оказался обыкновенной избой. Крыльцо. Двери, ведущие в сени. Запах овчины и медвяной сыти. На полатях — груда одеял. Уже в полном бессилии Рустем плюхнулся на полати и тут же вскочил. Из кучи одеял поднялось косматое чудовище и раздался странный, вежливый, чистый, удивительно знакомый голос из его далёкого детства.
Простите, я кажется, захватил ваше место?
Да нет, что вы
В таком случае, вы не можете объяснить, где я нахожусь?
Вы? А я хотел у вас спросить о том же
Значит, вы забрели сюда случайно?
В некотором роде.
— Вот и прекрасно! Тогда устраивайтесь рядом, и мы ещё успеем поспать. А утром на свежую голову поговорим
Да, да, это был Шмелёв. Только он так смеялся — каким-то глубоким, клокочущим деликатным смешком. Смешком про себя.
ЭТО ТВОЙ СЛУЧАЙ
В корпусе Рустема не было. Не было его и в пионерской комнате, где находился штаб. Не было и на кухне. Линейку пришлось провести Броне. Она была в тёмных очках, но по губам, серым и каким-то жёваным, можно было догадаться: что-то случилось. Отправив ребят на завтрак, она пошла к Ваганову. Постояла в прихожей, закусив губы, потом без стука вошла и уставилась в угол. И так, не глядя на Ваганова, всё рассказала. Что же теперь делать? Броня жалко вздохнула и робко уставилась на Якова Антоновича. Он — начальник, он самый старший, он должен что-то придумать. Никогда ещё Броня не смотрела на него с такой верой — она, привыкшая верить только в себя. Яков Антонович слушал её, лёжа в постели, как бы в полусне. Он не очень деликатно расчёсывал короткими своими пальцами волосатую грудь.
— Что тебе сказать на это, девочка? Если бы ты была с ним поласковее, не было бы никакого инцидента. И тебе не пришлось бы так рано будить меня. Знаю я вас, молодых! Когда-то я тоже готов был вешаться, топиться, если подружка устраивала мне финт. Я его понимаю. Когда девушка избегает тебя, очень даже может показаться, что наступает конец света. — Яков Антонович протяжно зевнул, глаза наполнились слезами. Он долго выбирался из засасывающего волока сна. Глазки его блеснули, вскользь проехавшись по выпрямленной фигурке Брони. — Что ты, девочка, мучаешь его, скажи на милость? Все же вокруг не слепые, я тоже, не слепой. Это же видно без микроскопа, что он сохнет по тебе. Разве не понятно, что ты для него первая красавица на свете?
Броне стало жарко. Она словно бы оглохла. Всё, что Яков Антонович говорил дальше, слышалось как бы сквозь стену. Он, конечно, не хочет оспаривать Рустема — у каждого свой вкус, — но она, в общем, девочка ничего. И была бы, наверно, ещё краше, если бы расплела косу и разбросала волосы по плечам. Но здесь он судить не берётся. Об этом лучше спросить у Ларисы. Так вот, о чём он хотел ей сказать? Да, вот что. Она напускает на себя такой вид, как будто ей по меньшей мере тридцать с хвостиком. Пусть она извинит за откровенность, она ему годится в дочки, и он по-отечески хотел ей сказать: ему не нравится, как она держит себя с ребятами. Надо с ними немного помягче, особенно с детдомовцами, у которых нет родителей и воспитатель для них часто — это отец и мать вместе. Это, конечно, не очень остроумная затея—посылать детдомовцев в обычный лагерь: ко всем приезжают родители, обкармливают сладостями, а детдомовцы смотрят и завидуют—радости мало, хотя не в конфетах дело. Но что поделаешь, в детдоме ремонт, ребят рассовали по всем лагерям, надо же им тоже где-то лето провести. Так на них надо обратить особое внимание. И не стоит, девочка, гордиться, что тебя боятся. Так вот, к чему это он? А к тому, что Рустем тоже вроде детдомовца, и к нему можно было бы немножечко помягче
Яков Антонович говорил, прерывая свою отеческую речь зевками. Смущение Брони прошло, скулы слегка порозовели, она протёрла очки и уставилась на него. Любопытно, до какого предела может дойти его бестактность? На языке её то и дело вертелись реплики вроде: «это моё дело», «я не собираюсь обсуждать с вами эти вопросы, не имеющие отношения к делу», но не срывались только потому, что она вспомнила о блокноте, чтобы записать потом кое-какие соображения. Есть вот такие носороги, которые отродясь не знают, что такое деликатность. Рубать правду-матку в глаза им кажется любезностью. Откуда знает Ваганов, что чувствует Рустем? Рустем рассказал ему что-то и попросил быть сватом?
— То, что ты ему нравишься, — продолжал между тем Ваганов, глубоким вздохом одолевая зевок, — это видят все. А вот то, что и он нравится тебе, так это тоже не скроешь
Броня открыла рот, чтобы отдышаться. Будто бы на неё плеснули шайку ледяной воды. Голос Ваганова снова слышался как бы из-за стены. Что такое внушает он ей? Прямо хоть уши затыкай. Это, говорит, девочка, твой случай. Такие, как Рустем, не валяются. И пусть не смотрит, что он хромой. Для хорошей девушки это не имеет значения. А она хорошая девушка. Он, слава богу, в людях умеет разбираться
Если бы подставить Броне зеркало, она бы не поверила, что это красное до самых корней соломенных волос лицо — не лицо, а кусок полыхающего кумача — принадлежит ей. Пока этот мастодонт говорил о чувствах, которые Рустем питает к ней, ещё можно было терпеть — слова эти даже льстили ей. Приятно со стороны узнать, что ты кому-то сумела внушить сильное чувство. Но услышать от постороннего, что и ты влюбилась? Это уж слишком! Если это и приходило ей в голову, то чисто теоретически, в порядке умственных манипуляций, которым она любила предаваться, но всерьёз думать о нём как об избраннике? Человеке, в котором было столько неприятного ей «маняшества», этакой добренькой чувствительности, готовой излиться на кого угодно? Правда, с ним иногда случайно и каким-то нелепым образом происходили вспышки гнева, чувствовалась неощутимая в спокойном состоянии граница, за которой кончалась его доброта. Доброта его, видно, не так аморфна, как может показаться на первый взгляд. Но почему мужское в нём должно проявляться так безобразно? Может, это следствие перенесённой в детстве какой-то болезни? Иногда, впрочем, ей становилось жаль его, как ребёнка, а она тоже женщина, увы и ах. Может, эти безумные вспышки — рвущееся наружу отчаянное недовольство собой? Короче говоря, она ещё сама не разобралась в своих чувствах к нему, они ещё были для неё — сплошная неясность. Именно поэтому о Рустеме в её дневниках не было ни одной записи, хотя дневник был добросовестной летописью жизни её ума и души. Ни слова о диспутах, которые они вели, о той странной ночи, которую они провели в пещере, о спорах из-за ребят. Она писала в дневнике о чём угодно, но о том, что она вопила, как дурёха, а потом бегала по тайге, умоляя о прощении, — об этом в дневнике ни намёка. Может быть, просто потому, что Рустем существовал для неё в каком-то ещё не открытом мире, куда она ещё не смела, не рисковала заглянуть? Она боялась узнать что-то, что сомнёт, как карточный домик, мир, который ясно сложился в её голове, мир, в котором люди занимают точно определённые ею места, и так же точно виделось собственное место среди них. Теперь позволить ринуться в чужой мир — не потеряешь ли в нём себя? Мир Рустема был слишком зыбок, смутен, расплывчат, и поселиться в нём можно было, только отказавшись от себя, сбросив шкуру, которая очень шла к ней, в которой она чувствовала себя уютно и хорошо, потому что сама себе её смастерила, не с чужого плеча! Она не хотела расставаться с ней. Без этой шкуры ей будет зябко и неуютно. И вдруг ей вправду стало прохладно. Она увидела себя идущей по туманному, зыбкому берегу, а на другом берегу, через пропасть, сияя глазами и улыбаясь, стоял Рустем, опираясь на камень. Увиденное ею поразило странной, волнующей новизной. Она съёжилась под скользящим, цинически добрым взглядом Ваганова.
— Иди к себе и занимайся своими делами. Не пропадёт твой Рустем.
Это только в романах пишут, что от любви топятся. Ну, проведёт ночь в Лесу, в худшем случае заработает насморк. Скорее всего, он забрёл в сельский клуб — там вчера была картина. Моя мамочка ещё спит — она поздно вчера вернулась, тоже там с девочками была. Мамочка, ты спишь? Ты вчера в клубе Рустема не видела?
Из соседней комнаты послышалось сонное бормотание и вздохи. Заплакал Виталик. И опять, как сквозь стену, зарокотал басок Ваганова. Кажется, он говорил что-то о Виталике. Нет, не о нём. Кто-то заболел. Кто заболел? Нет, всё-таки о Виталике. И ещё о каких-то ребятах. Что-то нашли там в лесу. Что нашли? Ага, какую-то колоду. Причём тут колода? Возьми себя в руки, Бронислава, и послушай — говорят тебе, а не стене. Других пчёлы не тронули, а его покусали. Значит, речь о пчелиной колоде. Ну и что же? У мамочки привычка обливать ребёнка духами. Это значит, Лариса, ясно. Кругом природа, чистый воздух, птички, но она должна делать себя центром атмосферы. Ну конечно, это на неё похоже. И приучила к духам ребёнка. Он, Ваганов, бреется, а ребёнок лезет освежиться. Она завивает себе волосы, а ребёнок выливает себе на голову духи. И вот этот надушённый ребёнок увязался за ребятами в лес, они нашли там пчелиную колоду, разорили её. И что же пчёлы? Не надо было трогать их, кому они мешали? Так вот, никого из ребят пчёлы не тронули, а его искусали Видно, в духах они разбираются, а то чего бы ради они искусали только Виталика? Всю ночь бедолага проплакал. Сердце разрывалось от жалости, но теперь, по крайней мере, он будет знать, что такое душиться.
— О, спасибо тебе, девочка, разговорился с тобой — и сон прошёл
— Это вам спасибо! — крикнула (фу, как громко!) Броня и пулей выскочила из дверей
ВОТ ТАКИЕ КОВРИЖКИ
Броня летела по дорожкам лагеря. Она парила в свободном полёте. Всё было знакомо и вроде бы не то: и эти разноцветные домики, растянувшиеся двумя порядками, и эти дорожки, посыпанные песком, и дощатая площадка с музыкальной раковиной, и ракеты с космонавтами, установленные вдоль линейки. И даже люди были другие: Шмакин, сбивающий вокруг себя любителей пения, мальчишки, уже с утра измазанные извёсткой.., Но главное — Рустем жив! Не мог же он в самом деле бесследно исчезнуть! Ведь недалеко от них, через лесной квартал, деревня, тракт, леспромхоз, кордоны, охотничьи избушки, — куда же ещё ему выйти? И вдруг простая и ясная разгадка: Рустем у тех, у лесных отшельников! Броня рассмеялась даже — ну конечно же! У кого же ещё? И побежала в тайгу и вскоре была там, где они стояли вчера и где — умора и смех! — он чуть не убил её. Но сегодня, случись вчерашнее, она просто вцепилась бы в него и так висела бы на нём, пока бы не успокоила. Рустем! Рустем! Ты слышишь, Рустем! Я я Да, да! Смотри и злорадствуй: я перед тобой, как лист перед травой! И никуда отсюда не уйду. И буду стоять, пока не умру. Ты слышишь меня? Если с тобой что-то случится, заруби себе на носу: я Нет, ты не смейся! Будешь ходить сюда и цветы приносить на могилку. Ты ещё поплачешь у меня! И я тебе припомню, как руки распускать, негодяй! Вот такие коврижки Но где же ты всё-таки?
Броне казалось, что она стоит на месте, а между тем она шла, раздвигая заросли и оглядываясь. Ей казалось, что она кричала, а это кричала не она, а тайга. Это еловые лапы кричали, багульник кричал. Это кричала сойка на ветке. Это сороки кричали. Это ветер кричал, пока Броня металась по тайге. Заросли всё гуще обступали её, путали, сбивали, кружили. Она с облегчением вздохнула, когда кочка, на которую она ступила, поползла вниз, а потом полетела куда-то вверх. Солнце вспыхнуло в путанице веток и погасло. И наступила ночь
СКОЛЬКО МОЖЕТ ЖДАТЬ ДУША?
— Раз-два Руки-ноги Раз-два Руки-ноги Эй, осторожней, видишь, у неё с лодыжкой что-то! Положи аккуратно, а я одними руками подышу Раз-два Стой, кажется, моргнула Дышит Ну ладно, хватит, теперь поговорим немного Так о чём мы будем? Да, ты знаешь, а ведь я покойников ни разу не видел. Сколько раз у дедушки в клинике бывал, а в морг никогда не заходил — страшно Только видел, когда нашего соседа дядю Петю хоронили Мы с ним шахматный матч играли, он вёл со счётом тринадцать — восемь, а вдруг взял и помер Меня бабушка в комнате заперла, когда гроб из дома выносили. Я только в окно успел посмотреть, как его увезли. Его в церкви отпевали. Мать так захотела. Она верующая, а все верующие думают, что из церкви душа прямо в рай улетает. Отчего это многие в рай верят, не знаешь?
— Оттого, что дураки
— Нет, верят оттого, что боятся
— Чего боятся?
— Боятся, что от них ничего не останется. Представляешь, живёт человек, живёт, а помрёт — ничего от него не останется. Разве не обидно? Вот и придумали рай, куда душа улетает, чтобы помнить там покойника и это самое ждать
— Кого ждать?
— Ну, это самое человека
— Какого?
— А такого, чтобы похож был на покойного
— А для чего?
— А для того, чтобы переселиться в него.
— Ну и сказанул, ёлки-палки! И сколько же она ждать будет?
— Лет пятьсот.
— Это почему же так долго?
— Это совсем не долго. Ты думаешь, просто, чтобы точь-в-точь такой же? Каждый человек ни на кого не похож. Хоть что-нибудь, а у него да не так, как у других. А чтобы совсем похожие, так это очень редко
— Да кто ж там разберётся, похожие или непохожие?
— Душа разберётся. И будет ждать пятьсот лет, а может, и больше, только чтобы в точности
— А для чего ей переселяться?
— А чтобы снова на землю вернуться, чудак
— Чепуха какая-то!..
— Ну, понятно, чепуха Это мысли сами в голову лезут — я их не выдумываю. А вот ты не знаешь, почему люди ссорятся, воюют?
— Это понятно: завидуют. У одного мало, у другого много, вот и обидно
— Ну, а если сделать так, чтобы у всех всего было полно, будут тогда люди ссориться?
— Кто как Другой и от скуки станет ссориться
— Это верно, пожалуй. Я вот читал фантастику, как жители одной планеты перессорились. Всё у них было поровну, а только одни из них были рыжие, а другие чёрные. Вот чёрные и стали придираться к рыжим:
«Почему вы рыжие, а не чёрные?» Ну, рыжие тоже стали нападать на чёрных. Ссорились они, дрались, стали воевать, а когда совсем их стало мало, один мудрец и сказал им: «Взяли бы да и разделили планету на две половинки — и спорам конец » Так они и сделали
— Это как же технически?
— Прокопали по экватору канаву, заложили атомные бомбы и как шарахнут — она и раскокнулась
— Чепуха это
— Ну понятно, чепуха, я же говорю — фантастика А только слушай, что дальше было! Разлетелись они в разные стороны, рыжие на одной половинке, чёрные на другой, стали жить-поживать и радоваться, обнимаются, целуются и песню поют: «Я люблю тебя, жизнь »
— Это которую сейчас поют?
— Ну, не эту, так другую, а только слушай и не перебивай. Не прошло и нескольких дней, как рыжие на своей половинке стали замечать, что одни из них маленького роста, а другие — большие. Тогда большие стали придираться к маленьким: «А вы чего, говорят, недоростки такие?» — «А вы чего верзилы такие?» Ну, опять стали драться и воевать, а когда их мало стало, мудрец им сказал: «Чего вы воюете? Взяли бы да и разделили половинку на четвертинки »
— Опять, что ли, атомными бомбами?
— Опять
— Так это ж сказка про белого бычка
— Я же говорю — фантастика Ну вот, разделились они, радуются, обнимаются, а потом стали замечать: у одних носы длинные, а у других курносые Длинноносые стали придираться к курносым: «Это чего ж вы курносые?» А курносые на них: «А вы чего носатые такие?» Ну, слово за слово — опять война
— Постой ты со своей сказкой Чего это она лежит так тихо? Мальчики попыхтели, делая искусственное дыхание.
— Заморгала А теперь слушай, что дальше
— Всё так и делились?
— Верно, всё так и делились, пока планетки такие маленькие стали, что негде ступить. Тогда вспомнили про мудреца, пришли к нему и говорят: «Как нам жить дальше? Совсем погибаем!» — «А вы, говорит, объедините свои планетки да и живите в мире». Так они и сделали. Вот тогда и поняли, какие дураки были
— Ну, а дальше что?
— А дальше — ничего
— Ну, а потом что было?
— А что потом, не знаю
— А я знаю. Нашёлся обормот и заметил, у одних уши круглые, а у других острые. И снова стали драться
— Гм, это оригинально, пожалуй Получается, как в песенке про попа и собаку
— Люди как ссорились, так и будут ссориться, а для разных слабаков придумали рай: вот-де устанете от жизни, зато на том свете отдохнёте
— М-да, озадачил ты меня
— Я тебя ещё не так озадачу. А девчонки там есть?
— Это где же?
— Ну, в раю твоём
— Вообще-то, теоретически рассуждая, дети тоже иногда умирают, но, понятно, детей в раю меньше, а больше старики и старухи
— И что же они, всё время про любовь говорят, старики и старухи?
— Это я точно не знаю, а гадать не хочу, потому что, видишь ли, всё это не научно, сказки
— Хоть бы интересное что-нибудь придумали, а то и придумать не умеют. Рай какой-то выдумали! А по мне бы, сделать так: выдавали бы всем по буханке хлеба, колбасы граммов по триста, а ещё кто хочет — сахару, яичек там, молока, а детишкам фрукты и конфеты, так чтобы уж вовсе не думать о еде
— Ты очень оригинально рассуждаешь, Базиль. А только разреши задать вопрос: а что людям делать тогда, если об этом не думать?
— Я и веду к тому, что вот тогда-то люди и начнут делать кто что захочет: кто машины изобретает, кто жуков там изучает, разные деревья, кто в космос летает — мало ли чего! Вот это и будет настоящий рай, а не это — сидеть, крылышки друг другу чесать и про любовь говорить. Тьфу!..
— Это что же получается — всем по потребностям, а от всех по способностям? Сам, значит, придумал?
— Ясное дело, сам.
— У, котелок у тебя,варит, раз ты сам до этого додумался! Ну-ка, давай сделаем ей пару дыханий Только осторожненько за больную ногу не хватай Раз-два Раз-два Руки-ноги Раз-два Ну вот, всё в порядке, моргнула Теперь поддержи-ка ей ногу, а я попробую оттянуть
— Это зачем же?
— А может, вправится
— Лучше не надо
— А чего там! Давай! Ну
— Ой!
— Это ты, что ли, ойкнул?
— Нет, не я
— А может, она? Отнесём её к себе, а там что-нибудь придумаем Врача из лагеря вызовем
— Это чтобы нас накрыли?
— Ну, тогда дедушке надо сообщить
— Это как же?
— Позвонить откуда-нибудь, он приедет
— Ему делать, что ли, больше нечего?
— Да ты не знаешь дедушку! Он сразу прикатит. Он сколько детей спас! Ему изо всех городов пишут С ним когда по улице ходишь, так устаёшь здороваться «Здравствуйте, Дим Димыч » — «Здравствуйте э уважаемый » — «Не узнаёте, что ли?» — «Это когда же было?» — «Двадцать пять лет назад Мы теперь каждый год два раза день рождения справляем: первый раз в день рождения, а второй — в честь позвонка» Он столько операций сделал, что разве всё упомнишь? Был бы он здесь сейчас, он посмотрел бы и вставил всё куда надо
— Ну, заладил — дедушка, дедушка Хватит рассусоливать, а давай подумаем, как тащить её будем Как она там, дышит ещё?
— Моргает
— Мы тогда волокуши сделаем и потащим
— А ей больно не будет?
— Ей что! Она же всё равно как покойница
— Мальчики, а можно покойнице слово сказать?
«Я ЛЮБЛЮ ВАС, МАЛЬЧИКИ!»
— Нет, всё-таки попробуем пойти, мальчики Может быть, я не так уж плоха, как вы думаете Ну-ка, поддержите, а я сделаю шаг Ну вот, шаг сделала, а дальше? Дальше, кажется ничего не получится Ой-ой-ой, мальчики, не могу!
Ого, дело, кажется, принимает серьёзный оборот. Можно вас поздравить, Бронислава! Ужас какой — ступня вывернулась! Если бы только узнали мои старушки А-а-а-а! Ничего, спокойнее, мальчики, не стоит пугаться, а ты, дурочка, возьми себя в руки и постарайся не кричать. Если удастся, конечно Вот сейчас полегче. Или, может, лучше всё-таки на носилки положить? Но это ведь надорваться — такую колоду тащить! Нет уж, она сама пойдёт, а они пусть с боков поддержат. Мальчики ей столько дыханий сделали, что она должна пойти. Должна! А ну-ка О нет, пожалуй, так далеко не уйдёшь. Лучше прилечь и немного отдохнуть. И спокойно во всём разобраться. И первым делом выяснить, с кем она имеет дело. Интересно, кто же из них кто: кто Боб, а кто Базиль? А то ведь ей пришлось только моргать, а рассмотреть толком не удалось Значит, ты Базиль? Базиль — это значит Василь? А не Василиса? Тебя легко за девушку принять — какие длинные волосы! Если в косы заплести, то будет как у индейца Чингачгука. А этот плотненький — Боб? Ему очень идёт имя Боб — круглый, как боб. Или как фасоль. Фасоль — тоже неплохое имя. Ну что ж, можно протащить её и по земле. Совсем даже неплохие получились волокуши. Две ёлочки, а как всё просто — взяли вместе, потащили Ничего, не колются, вот только смола клейкая, джинсы испортятся. Мальчики не знают, как смолу вывести? Или лучше оставить как есть? Чем грязнее, тем, кажется, моднее? Уф-ф! Вся мокрая даже. И косточки гудят. И чего же это вы со мной вытворяли, изверги?! Руки-ноги Руки-ноги Чуть было в рай не отправили Интересно, сколько же это душе моей пришлось бы ждать там, чтобы вернуться на Землю? О, мальчики, с вами не соскучишься! А Боб-то, Боб, прямо-таки смех душит от твоих фантазий.
— К-ха! К-ха! Ой-ой-ой! У вас у кого-нибудь платочек есть? Дайте слёзы вытереть. Осторожно, вот так. Едем дальше!
Теперь можно почистить пёрышки и осмотреться. Тайга, тайга и тайга. И как вам здесь не страшно, мальчики? Впрочем, птенчикам, как вы, неведом страх. Это один мудрец заметил. Самое страшное для вас — это скука, а скука вам не грозит. Так, так, значит, Базиль самостоятельно придумал коммунизм, а у Боба из головы лезут разные мысли. Не он их придумывает, а они сами лезут Очень даже оригинально про рыжих и чёрных — кто же это написал? А новая концовочка делает Базилю честь И о чём только мальчики не рассуждают, а мы, тётеньки и дяденьки, даже не догадываемся Так вот, Бронислава, студентка, знаешь ли ты, что такое душа? И вообще, что ты знаешь? Тёмный человек, если в корень Посмотреть. И стоило ли вам, друзья, хлопотать, делать ей искусственное дыхание, приводить в чувство? Она даже хуже, чем вы думаете о ней. Да она просто бр-р-р! Кобра. Да, Кобра Хмелевская — это она и есть, будем знакомы. Только осторожнее, а то укусит. Она очень признательна, что вы спасли её, хотя, быть может, лучше было бы оставить её в яме волкам на съедение. Но вы вы её спасли, и она теперь вам обязана. И вправду её бы волки съели, если бы не мальчики. Очень даже запросто — разорвали бы на куски. Совсем неплохой волчий обед — она в лагере, знаете, поправилась на три килограмма, хотя сейчас, наверно, опять похудела.
— Ну что, отдохнули, мальчики? Только ты, Базиль, или я просто буду звать тебя Васей, ты возьмись за ту ёлочку, ты сильнее, а ты, Боря, слева зайди Ну, поехали! О-о-о-о-о! Ой, мамочки, ужас какой!
Впрочем, не обращайте внимания на слёзы, просто так легче. Идите, идите, не оглядывайтесь, ей покричать — одно удовольствие. Боже мой, а-а-а-а-о-о-о! Но вы не пугайтесь и не обращайте внимания на боженьку — его всё равно нет, он здесь вроде междометия, хотя про рай, где души помнят и ждут, это Боб очень даже интересно, очень Не оглядывайтесь, пожалуйста, дайте ей, дайте пореветь вволю, женские слёзы — вода А она-то, дура, ой, какая дура была! Собственно, почему была? Дура и есть. Дура, дурочка, дурища, большущая такая дурында. Дурында она, мальчики, вы ещё не знаете, какая она дурында! Ой-ой-ой-ай! Это она не от боли кричит, а от глупости своей. Вы не беспокойтесь, мальчики, она просто не совсем нормальная, а потом, у неё, кажется, небольшая температурка, совсем небольшая, и, наверно, бред небольшой. Я бреду, ты бредёшь, он бредёт, мы бредём Ак мальчикам большая просьба — предупредить Рустема, а то он насмерть испугается. Она не хочет, чтобы он видел её слёзы. Она постарается их выплакать. Всё, до последней слезинки, чтобы ничего не осталось. Ах, как он удивится, как он удивится! А он в порядке? С ним ничего не случилось? Он очень вспыльчивый, но вообще-то хороший. Мальчики к нему прекрасно относятся, он вполне заслуживает этого. Ну, а её, конечно, за что же любить? Что она им хорошего сделала?
О, как здесь уютно! А что это над ней? Какие-то шестерёнки, проволочки, гайки. Она тут мальчикам ничего не испортит? А это что — ма-а-а-а?! Что это в клетке? Летучая мышь? Дайте рассмотреть, она никогда не видела летучей мыши. О, какая у неё страшная старая мордочка! Старушка мышь! Старушечка, голубушка, бедная! Она, может, хочет полетать? Летучая мышка днём же спит! А это что? Дуплянки, скворечники А почему они разные — большие, маленькие! Ах, у них тут и подписи для скворца, синицы, дрозда, пеночки А это что за паутинка? У них тут и музыка есть? О, да они тут не скучают! А это что за трава? Вереск, багульник, кипрей, кукушкин лён. Что у них здесь — ботанический уголок? А эти рога? Ах, как это здорово — дивные вешалки! А это что за камни? Минералы, да? Ой, мальчики, осторожно, нога! Но где же, где Рустем? Почему его нет до сих пор? Может, он приходил, когда она спала? Почему же они тогда не разбудили её? Пусть пойдут и приведут его! Наверно, с ним что-то случилось. Он ей очень нужен, очень. От этого, от этого очень много жизнь и его тоже И мальчики могут идти, она не боится одна. Здесь вода И еда здесь есть? О, они совсем как робинзоны. А это что, голубика? Кедровые орешки? А откуда эти оладьи? Хм, кажется, что-то в этом роде она уже ела вчера. Они здесь совсем неплохо устроились. Хорошо, теперь они могут идти. Только пусть не совсем закрывают, а чуть отодвинут в сторонку, чтобы свет проникал. Чтобы она видела, если вдруг подойдёт кто-нибудь. Она крикнет ему
— До свиданья, мальчики! Базиль, Боб, до свиданья! Возвращайтесь скорее, я буду ждать вас, потому что потому что я люблю вас, мальчики! .. Хорошо, я не буду Я покричу немного, но вы не пугайтесь
Глава 4
УЗНАВАТЬ ЧЕЛОВЕКА
ОДИН НАВСЕГДА
Да, это был доктор Шмелёв, никаких сомнений. Рустема в темноте он не узнал, конечно. Да и при свете едва ли признал бы в нём худенького, замкнутого, плохо понимавшего по-русски мальчонку из глухого аула, которого лечил когда-то. Мало ли больных, увечных ребят прошло через его крупные костистые руки! Рустем жил тогда в тесном и тусклом мирке, откуда мир здоровых людей казался мчащимся поездом: в окошках- мелькали лица, пассажиры пьют, едят, жестикулируют, смеются, но вскочить и поехать с ними ему уже не суждено. Вся прошлая жизнь отделилась и как бы уже не принадлежала ему. Годы, когда он бегал, карабкался на деревья, прыгал, невозвратно ушли. Рустем с недоверием вспоминал сильного, быстрого, неутомимого мальчика, каким когда-то был. Он ли это? Ведь тогда казалось, что он будет радостно и вечно жить среди трав, деревьев, гор, ручьёв, овец, мальчишек. Но праздник жизни оборвался прыжком со скалы с мальчишками на спор, на спор с самим собой, — прыжком беспечным, головокружительным и роковым
А потом была ночь в кошмаре, когда ещё казалось, что всё можно исправить, что это ошибка, нелепость, чей-то неумный подвох. Блеянье овец, душный запах кошмы, кутерьма в голове, боль, расползавшаяся от ноги по всему телу. И ещё поселковый медпункт, мать, женщины, озабоченно качающие головой. И разговоры. Разговоры о смерти — его смерти. О нём говорили в прошлом времени: он был — был здоров, был такой, был сякой, был, был, был. А теперь? Оставались скалы, горы, деревья, мальчишки, овцы, небо, солнце, но из этой жизни ушла для него живая душа—движение. Мир сузился до размеров больничной палаты и застыл. И дни потянулись вялой чередой. Не было теперь рассветов, когда мир возникал из мрака, как взрыв. И не было ночей, в которых мир погибал. Дни и ночи стали неразличимы. Они не рассекали жизнь на две половинки — светлую и чёрную. В той, ушедшей жизни даже чёрная ночь была не страшна, ибо оставалась уверенность, подсказанная опытом, что из бездны встанет солнце и вытащит день, сверкающий красками день
Теперь дни стали почти как ночь. Вокруг него, как тени, мелькали родные. Вдруг возникал постаревший отец. Он сидел, опираясь на палку, и жевал свой табак, равнодушными глазами обводя палату. Бесстрастный, как овцы, которых он пас. И появлялась мать, вся в чёрном, с глазами сухими и тёмными, как погасшие угли. С каждым приходом на тумбочке оставались узелок с инжиром, виноградная сладкая паста, пресные хлебцы. Домашняя снедь отдавалась соседям — вкус еды тоже оставался в прошлом.
Потом был день прощания. Родичи приходили и уходили, Сестрёнки смотрели на него как на чужого — в их глазах не было ожидания, призывного блеска, приглашения к игре. Он ушёл из их жизни и никогда не вернётся. В тот день он понял, что он одинок навсегда
В городе его поместили в интернат для детей-инвалидов. Но и там он оставался один. Он ещё глубже ушёл в свой обречённый мирок, прячась от криков, шума, гама. Здесь он впервые открыл радость счастливых сновидений. В них воспоминания причудливо переплетались с мечтами. По ночам он был свободен, снова был сильным и ловким, купался в горных речках, встречал рассветы, скакал на конях. Но кони порой превращались в летающие трубы, а рассветы вставали в холодных скоплениях звёзд. Так отражались вести о первых спутниках, которыми жила тогда страна. Глаза его смотрели куда-то вдаль и не видели ребят, не видели нянечек — стареньких, с мягкими и осторожными руками, и молодых медсестёр — гогочущих и бесцеремонных. От них несло кухней, лекарствами и мылом стиранных халатов. Он смотрел на окружающее словно из глубокого тоннеля, без надежды, что выйдет из него. Из обломков прошлого, из слабого света в конце тоннеля он лепил теперь новый мир, который был для него реальнее белых халатов, посуды, лекарств, тетрадей, колясок и костылей. Соседей-мальчишек он не понимал. Они прыгали, плакали, дрались костылями, хвастались болезнями, словно болезни давались в заслугу за какие-то подвиги. Больше других изумлял его Славка Бунчук. Тот доедал за другими остатки, гримасничал, стрелял из рогатки по бабочкам, залетавшим в окно, по лампочкам, по спящим товарищам, он гонял мяч во дворе и стоял в воротах футбольной команды инвалидов. Он продолжал жить так, как жил раньше, не рассуждая, весь наружу, в крике, свисте, в бешенстве движения. Он не давал соседям покоя — рано будил, стаскивал одеяла, отбирал книжки. Но иногда он исчезал. Приходили делать уколы, а это было неприятно, и он уползал от сестёр под кровать, прятался в бельевой кладовке, а однажды сидел в ней два дня, рисуя в расходной книге гривастых коней и усатых наездников с саблями. Он верил, что вырастет — пойдёт служить на ипподром, где будет выезжать коней. Он и попал в больницу после того, как сорвался с коня
Когда ребятам исполнялось шестнадцать, их переводили в инвалидные дома. О них ребята часто толковали. Как в школах говорят об училищах, институтах, так здесь говорили об инвалидных домах. Но будущее не волновало Рустема
ДОКТОР ТВОЕГО ДЕТСТВА
Ты помнишь, как в твою палату вплыло что-то огромное, нескладное, доброе? Это был доктор, о нём говорили, что он волшебник. Он уселся с краешка, улыбнулся тебе и раскрыл историю твоей болезни.
— Дагестан? Вот так удача, дружок!
Лёгким рывком, как альпинист, вытаскивающий на скалу товарища, он поднял тебя из бездны и поставил у обрыва. Зияющие вершины гор распластались перед тобой, вынырнув из подполья памяти. Детская радость плескалась в глазах доктора. Он вспоминал молодость, когда штурмовал вершины Дагестана, шумел, жестикулировал и смеялся, и ты радовался вместе с ним, хотя ещё слабо понимал его. Сестра терпеливо слушала, потом стала поглядывать на часы — доктору надо было осмотреть ещё несколько больных
— Да, голубушка, пора. Но я ещё приду к тебе, дружок.
Твоё сердце наполнилось томительным ожиданием. Не забудет ли? Нет, он не забыл. Он пришёл через час. Пришёл на следующий день. Пришёл потом через неделю. Он стал тут частым гостем. И каждый его приход становился праздником.
Странный это был доктор. Он приходил порой только затем, чтобы предаваться воспоминаниям. Он радовался, как сверстник, расспрашивая тебя о прошлом, о родных, об ауле, о тайных тропах в горах, о конях. И о значении слов — лакских слов. Он стал записывать в блокнот незнакомые слова. И теперь, приходя к тебе, здоровался с тобой по-лакски. И ты впервые стал тогда смеяться, исправляя жуткие ошибки его* произношения. А помнишь, как доктор принёс однажды старые записи, карту Дагестана и вы вместе старательно восстанавливали маршруты, которыми он когда-то бродил? Доктору просто повезло — найти мальчика, которому интересны были его альпинистские дневники, воспоминания о юношеском увлечении, которое не имело продолжения. И ещё он приносил тебе книги своего детства, дарил их и просил потом, сетуя на память, напомнить, о чём идёт в них речь. И ты, захлёбываясь, путая русские слова и лакские, учился чужой тебе речи. А как он слушал тебя!
«Талант! Талант!» — восклицал доктор, приглашая ребят удивляться твоим способностям и быстроте, с какой ты усваивал русский язык.
Доктор был занятой человек, и ваши встречи становились всё реже. А потом они стали не нужны. Ты уже вставал, ходил, всё больше расширяя круг своих общений. Ты уже мог обойтись без него. Но он всегда был с тобой. Свет, который он внёс в твою душу, уже не угасал. А когда тебя выписали из интерната, доктора уже не было в городе, он получил новое назначение, но ты уже мог лететь без посторонней помощи
Что же потом? Потом в твоей жизни были книги, книги и книги. И внезапное, как озарение, открытие — дети! И решение отдать им свою жизнь
И вот он — доктор твоего детства, седой, румяный, повергнутый в прах неодолимою силою сна. Как вы оказались здесь? Какая тайная забота привела вас на глухой лесной кордон, в эту запретную зону, где ведутся важные государственные приготовления? А Бобка Шмелёв, космический штурман, не имеет ли он отношения к вашему появлению здесь, профессор Шмелёв? Однако не стану будить вас, доктор, я должен уйти. Мне тяжко, доктор, горько и трудно. Я обидел человека, грубо оскорбил его, и теперь не знаю, как быть. Что мне делать, мой доктор? Скажите, доктор, потому что себя я уже не понимаю.
Молчание. Тихий скрип полатей. Слабое дыхание последнего, предутреннего сна.
«Не надо бежать от человека. Надо найти его и объясниться. Только он поймёт тебя, дружок, только он». — «В самом деле, доктор? Почему же эта простая мысль не пришла мне в голову?» — «Это именно тебе в голову и пришло! Ступай, дружок, а я ещё посплю».
Доктор в самом деле зашевелился, скрипнули полати под ним. Рустем постоял немного и тихо вышел из дома. С крыльца он увидел двух мальчиков и скрылся в кустах
«ВАС ЖДЁТ НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА»
— Я тебе что сказал?
— Я согласен, Базиль, это конечно, непорядок, но я не о себе беспокоюсь, у меня закалённые нервы, я о дедушке думаю. Ему-то как будет, подумай! Он приехал посмотреть, узнать, как мы живём, бабушку успокоить, а мы прячемся от него Что же он бабушке расскажет, когда вернётся?
— Придумает чего-нибудь
— Дедушка? Да он в жизни никому ещё не врал! Знаешь, как бабушка говорит о нём? Блаженный он
— Ну, тогда пусть скажет как есть: ничего не видел, а только люди говорят, что всё в порядке
— И думаешь, бабушка успокоится? Да ты знаешь, что она скажет ему? «Ах ты, старый, столько дней проваландался, а ребят не видел! Да где ж ты пропадал всё время? А ну-ка поезжай обратно!» Сама разволнуется и запрётся в кухне, а дедушка будет стоять за дверью и вздыхать
— На-ка платочек, сопли вытри
Боб деловито высморкался и немного успокоился. И стал строить предположения, как будут встречать дедушку разные знакомые и расспрашивать, как там мальчики, что с ними; и всё такое, а дедушка ни «бэ» ни «мз», и тогда станут подозревать, что он что-то скрывает и что с ними что-то случилось, слухи дойдут до милиции, повесят фотографии на витрине и объявят розыск: пропали мальчики!..
Базиль слушал сперва терпеливо, потом стал хмуриться, а когда Боб стал в лицах рассказывать, как Васина мать, встретив дедушку, обзовёт его старой калошей, он скривил губы.
— Значит, тебе славы захотелось? Чтобы все узнали, какие мы герои? Похвастаться надо?
Боб стал клясться, что он не хвастун вовсе, а, наоборот, самый честный человек на свете, и что Базиль неправильно понял его, и что будто бы дело не в нём, а в дедушке, который никогда не простит им, что был рядом и не покатался э. . . на лебёдке
— У тебя шарики на месте? — удивился Базиль. — С ним же карачун случится
— Да ты что! — возмутился Боб за дедушку. — Он же альпинист! Я тебе фотографию покажу, как он висит на скале, а возле него альпийская галка крутится. Руки и ноги у дедушки — будто он на парашюте висит, а галка смотрит и удивляется. Редкий снимок, между прочим, его в журнале напечатали, а фотографу премию дали, а ты говоришь
— Постой, а когда это было?
— Э так что в общем, не так уж давно
— При тебе или до того, как ты родился?
— Мы могли бы э у дедушки уточнить. . .
— Ты же сам рассказывал, что это когда дедушка студентом был, а теперь шары мне заливаешь. Дед твой живёт себе на кордоне, рыбку ловит, цветочки собирает для бабушки, а ты тут за него переживания разводишь! Ты и дедушку своего как следует не знаешь
— Это как же?
— Раз он тайно живёт здесь, в лагерь не заходит, значит, сам не хочет, чтобы о нём узнали А ты его собираешься выдать, получается. Откуда ты знаешь, отчего он скрывается? Может, его бабушка просила, чтобы он незаметно узнал про нас, а нам не открывался?
Мысль эта успокоила Бобку, но не развеяла грусти.
— С этим всё, — сказал Базиль, — а теперь садись и пиши Какие слова написать, знаешь?
—
Обыкновенные, — сказал Боб. — Здравствуй, дорогой и любимый дедушка
— Какой такой дорогой да ещё любимый? Это от кого же записка получается? От тебя? Я толкую ему, толкую, а он никак не может сварить
— Ты прости, Базиль, но у меня сейчас такое настроение, что придумай сам что-нибудь, пожалуйста
— Ладно, — пожалел его Базиль, — ты не тужи. Мы сейчас сочиним что-нибудь как у Фантомаса Это, значит, так примерно: «Пишут вам лесные люди, тайные отшельники, а вы, как прочтёте, сразу идите к пещере — метров сто от скалы — и там найдёте неизвестного человека, которому требуется помощь. Если опоздаете, человек может помереть »
— Как так помереть? — возмутился Боб.
— Так это я для интересу только
— А вдруг дедушка подумает про меня?
— Ладно, чтобы не подумал, давай так: «Вас ждёт в пещере неизвестная женщина » Женщина! На тебя не подумает, ты же не женщина
— Ты всё шутишь
— А ты посмейся.
— Ха-ха-ха Что-то не смешно
— Не смешно, зато на тебя не подумает.
— Спасибо, успокоил
— Тогда можно и вовсе без записки. Пошлём Юрку, он на словах всё и расскажет И проведёт А мы за ним в кустах пойдём
В лесу послышались голоса.
— Это лесник, — прошептал Базиль, — ас ним милиционер
— Не за дедушкой ли?
— А ну скорей отсюда, а то как бы ещё и нас не прихватили. Маскировка в лесу — главное дело. Ну, ша! Могила!
ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Они долго совещались, поглядывая в окошко. Потом вошли — сперва лесник, за ним, держа руку в кармане, лейтенант. Доктор лежал на полатях не шевелясь.
— Живой ли?
Лесник на цыпочках подошёл к Шмелёву и склонился над головой. Из капюшона штормовки торчали нос и клочок Седых волос. Лесник кивнул лейтенанту — садись. Лейтенант вытащил сигареты. Торопиться было некуда. Доктор был в их руках.
— Я вчерась весь день за ним следил. Всё фотовал вокруг. На те вон камни лазил, чего-то выглядывал. Раз на дерево даже взлез. Как взлез, ума не приложу. Старый, а шустрый.
Лесник прошёл в угол и заглянул в бочонок с медовым квасом.
— На донышке осталось. Прикладывался, значит. С медовухи-то, видно, и спит. Будем сразу брать или подождём, пока проснётся?
Сон доктора был глубок. Можно было не хлопотать об осторожности и осмотреть вещи. Книги, бельё, коробки с рыболовными вещами, фотоаппарат, бинокль. Смутила их пачка денег на дне чемодана. Они оставили всё на своих местах и снова уселись. И хранили долгое молчание.
— И чего ему надо, старому человеку? Жил бы себе со старухой, получал пенсию, внуков нянчил, а нет же — полез. Как ты объяснишь этот факт, лейтенант?
— Смолоду увяз, в старости не вылезешь.
— Н-да, — вздохнул лесник, не отрываясь взглядом от денег. — Вот я, к примеру, три дня следил его, покосы не косил, хозяйством не занимался, так мне, думаешь, будет за это чего-сь?
— Будет, — сказал лейтенант, — объявят благодарность в приказе.
— А ты мне из этого приказа зипун сошьёшь
— Наше дело задержать, а шкуру снимать будет начальство. Лесник бросил окурок в угол:
— Однако будет прохлаждаться. Мне ещё обмерить участок, наметить пропашку от пожара Поднимать его, что ли?
— Только глянь сперва, что у него в головах
Лесник приподнял полушубок вместе с лежавшей на нём головой. Доктор не проснулся.
— Ихний брат ещё прячет под мышку. Приподними-ка.
Лесник извернулся, чтобы посмотреть под мышкой, доктор в это время зевнул и откинул с головы капюшон. На нижней рубахе блеснул серебристый шнурок подтяжек. Лейтенант прижал руку к карману. Лесник замер над доктором с растопыренными руками. Доктор открыл глаза, поморгал ими, снова закрыл.
— Побудить надо, однако
Лесник осторожно постучал в докторское плечо.
— Вставать пора, дедушка
— Встаю, встаю, Антоша
Доктор пошарил рукой в головах, нашёл очки, надел их и сразу очнулся.
— Это кто же, простите, со мной ночевал, не вы ли? — спросил он, разглядывая лейтенанта. — Нет, другой кто-то. Брюнет, насколько я смог рассмотреть в темноте
— Кто же с вами был? — сухо спросил лейтенант. — Сможете его опознать в случае надобности?
— Признаться, я спросонья толком не разглядел. Ну, конечно, голос памятный, крепкий бас. Глаза — истовые. Огнём горят, как у верующих. Да, пожалуй, узнал бы. А зачем это вам, простите?
— Из тюрьмы сбежали трое — дело давнее, двух поймали, а третий до сих пор скрывается
— Ах, батеньки! Неужто в самом деле он? Да, да, да! Слыхал я что-то, ещё в прошлом году говорили. У них, говорят, и лодка была припрятана в камышах, да их с вертолёта засекли. Прелюбопытнейшая история! Помню, помню, много разговоров было Чего же это вы стоите? Садитесь, мы сейчас чаёк сообразим
— Некогда нам, уважаемый. Тут вас аккурат в сельсовет приглашают. Проверить надо. Ну, там ничего особенного.
Как раз насчёт ночного гостя касается, а вы как свидетель, значит, расскажете, что и как Для выяснения обстоятельств.
— Так ведь он о себе ничего не рассказывал, а я, признаться, не посчитал удобным любопытствовать. Вижу, человек устал, возбуждён немного.
— Обо всём этом и расскажете в сельсовете.
— Раз нужно, так я живо Вот ополоснусь в ручейке
— Н-не надо, там и ополоснётесь
— Это где же?
— В сельсовете
— Ну, тогда я чаёчек
— Н-не надо
— Что — не надо?
— Чаёчек Там вас угостят
— Где же?
— В сельсовете.
— Это что же, сельсовет у вас рядом с чайной?
— Все там
— Ну что ж, я тогда налегке, пожалуй
— Вещи все с собой придётся
— И вещи? Мы что же, больше не вернёмся?
— А это как майор скажет Может, и отпустит
— Простите, это как всё понимать?
— Так и понимать Мартын Иваныч, забирай-ка все вещички и сюда, а то, сам говоришь, у тебя работы ещё много
Вскоре доктора привели к дому сельсовета, закрытому по случаю субботнего дня. Лейтенант открыл двери, прошёл в тёмную комнату и зажёг свет.
— Вот тут, папаша, и подождите. Не беспокойтесь, долго сидеть не придётся. Только субботу и воскресенье, в понедельник отпустят. Начальства нет сейчас, а то бы, глядишь, и раньше разобрались. Тут на всякий случай ставни закрыты, так что не беспокойтесь. Где же ещё по деревне, чтобы отдельное помещение для участка? Не положено по штату. Вещички пусть остаются, а чемоданчик
— Простите, это докторский чемоданчик, по старой привычке — куда ни поеду, всегда с собой. Мало ли чего? С кем что случится, а тут набор для оказания скорой помощи
— С собой, значит?
— С собой, дружок.
— В случае с кем плохо?
— Ага, на всякий случай.
— На случай Ну ладно, мы возьмём с собой. На всякий случай. Аппарат, бинокль тоже возьмём. Ну, а мешочек можно оставить Вы не волнуйтесь, папаша, может, кто из города машину прикатит в понедельник. Два дня всего подождать
— Если это надо для выяснения, два дня ничего не решают в жизни человека. Явное, конечно, недоразумение, но интересно, знаете. Друзьям будет что рассказать
— Вот именно. Вы расскажете, они послушают, с нас начальство спросит — пожалуйста, приказ выполнен. Вот ведёрочко с водой — питьё, значит, а другое — по нужде, когда приспичит. А это вот журнальчики —
почитаете, чтоб не скучно. Отдохнуть если, можно на скамеечке. Одним словом, разберётесь. За телефончик не беспокойтесь — не работает. Значит, претензий нет?
— Какие же могут быть претензии? Я вам очень признателен. Очень бы я только попросил вас книгу оставить — я занимаюсь сейчас подготовкой переиздания
— Эту вот, что ли?
— Я уже страничек семьдесят успел просмотреть, и так мне здесь легко работалось
Лейтенант полистал книгу.
— Цифры тут всякие, формулы Нет, эта книжка вам здесь без надобности. Вы лучше журналы почитайте
ДЕЛО СДЕЛАНО
Закрыв двери на запор, лейтенант и лесник обошли избу сельсовета и остановились в задумчивости. Лейтенант полистал книгу. Лесник открыл чемоданчик — бинты, шприц, склянки, ампулы, пинцет, вата, марля, таблетки.
— Что мы делать с этим будем? Спрятать в сенцах, что ли? Лесник спрятал вещи в бурьяне.
— Мне итить, что ли?
— Иди, что же ещё
— Ну ладно, раз итить, пойду, значит
— Дело сделано. Можно до дому подаваться.
— Это я понимаю. Я и пойду, раз, значит, дело сделано.
— Иди.
Постояли, не трогаясь с места. Повздыхали.
— Интересно, сельмаг открыт сейчас? — спросил лесник.
— Утром сынишка бегал — не было её там, с отчётом уехала
— А может, вернулась?
— А тебе зачем?
— Я ей должен тридцать семь копеек.
— Вернуть захотел, что ли?
— Это как сказать Ещё бы взял
— Ну и что?
— Дак денег же нету
— Знаешь, Мартын, ты на меня не рассчитывай. У меня зарплата, Я огород, корову, кур, поросят не держу, на базар яичек, молока не вожу
— Вот я и говорю, зарплата, всё деньга живая А кур этих, поросят — пожалуйста, закуска всегда есть, а чтобы выпить — живая денежка нужна Значит, не раздолжусь я у тебя А то ведь дело сделано, надо бы отметить
— Ну ладно, на вот тебе сбегаешь, а я пойду до кума сговориться. Побаниться надо.
Они разошлись. Лесник трусцой побежал к сельскому магазину, возле которого уже толпился народ, а лейтенант степенной походкой пошёл к Еремеичу, куму, одноглазому пасечнику.
ДОКТОР БЕРЁТ НА ДУШУ ГРЕХ
— Войдёшь и скажешь: меня послала к вам неизвестная женщина.— так, мол и так, нужно оказать срочную помощь
— Знаю, объяснял же
— Слушай дальше. Ты проведёшь его низом, а мы пойдём сзади. Если кукукнем два раза, — значит, погоня, тогда прячьтесь. А как три раза кукукнем, — значит, можно идти дальше
— Доведём, дорогу знаю
— Теперь так: если начнёт спрашивать, кто мы, говори: тайные люди.
— Дедушке одно только слово сказать: тайна, он будет молчать как могила
— В общем, ясно
Вася и Боря спрятались в старом овине. Впереди хорошо просматривалась лесная деревенька — с берёзками и ёлочками в палисадниках, с избами, разбросанными без порядка, с улицей, больше похожей на широко растоптанную лесную тропу.
Юрка откинул щеколду, вошёл в сельсоветскую избу.
— Здравствуйте, — сказал доктор.
— Здравствуйте, — ответил Юрка и стал путано объяснять, какое предстоит важное задание.
Доктор долго вникал, чего от него хотят, наконец понял и сказал:
— Не могу, голубчик. Меня посадили за нарушение, хотя я затрудняюсь сказать, за какое. Но факт остаётся фактом — я арестован, и сейчас ведётся следствие. Пойми моё положение: я дал слово, что никуда не убегу, а ты предлагаешь мне нарушить его. Разве можно подводить людей, которые представляют интересы государства? Неужели на всю округу нет другого врача, который мог бы оказать помощь? Да и что я могу сделать, когда у меня нет с собой моего чемоданчика?
Юрка выскочил на улицу, порыскал в бурьяне и тут же внёс чемоданчик.
— Этот, что ли?
— Видишь, они даже не сочли возможным оставить его у меня. Допустим, я нарушу слово, но как же они? Что будет с ними? У них же будут неприятности. Извини, но я ничем помочь не могу. Чемоданчик положи туда, где ты взял его, разве только я возьму из него справочник
Старик оказался упрямым. Он так расписал последствия своего ухода, что Юрка не знал, что и сказать. Такой заминки тайные люди никак не предвидели. Кто знает, может, старик и прав насчёт неприятностей для лесника и лейтенанта, но Юрке от этого не легче — ему грозил нагоняй за невыполнение задания. Юрка заплакал.
— Ты что же это? — растерялся доктор.
— А то Что я скажу тому как его
— Кому?
— Никому. Не велено говорить — кому. Тайные они люди Он мне голову оторвёт
— Как оторвёт?
— Он сердитый, когда что не так сделаешь
Доктор сильно расстроился. Юрка, почувствовав слабину, ещё пуще разревелся.
— Ах ты боже ты мой, голубчик, да как же ты Кому же там помощь нужна?
— Не видел я никого, — разливался Юрка, всё больше входя в роль, — а только мне всё равно попадёт Ой, горюшко-то моё! Я клятву нарушил А только поздно уже Может, она уже померла
Юрка попал в самую точку. Всё ещё плача, он повеселел и жизнерадостно шмыгнул носом. Доктора охватила паника. Он стал нервически ломать пальцы.
— Вот что, — сказал он в сильном смятении, решившись на отчаянный шаг. — На всякий случай я оставлю записку, что скоро вернусь Впрочем, может, не оставлять? Ладно, не будем. Грех на душу беру, а то тебе и в самом деле, пожалуй, нагорит.
Юрка утёр нос рукавом и тут же повёл доктора знакомой тропкой, по каменным завалам, ориентируясь по кустикам, обходя открытые лесные полянки. Изредка их настигало близкое простуженное кукование. Юрка каждый раз словно бы спотыкался, останавливался, часто дыша, оглядывался по сторонам и снова торопился вперёд
«ПОЖАЛУЙСТА, ВХОДИТЕ!»
Во дворе Еремеича по случаю субботы топилась банька. В баньке парились мужики. Своей очереди дожидались бабы с малыми детьми. Лейтенант, не оглядываясь, прошествовал в избу.
— Заходь, заходь, — сказал распаренный Еремеич, растирая бороду полотенцем. — Огоньку в самый раз запасли Раздевайся и беги, пока бабы не упредили
— Со мной ещё и Мартын, он до сельмага побежал
— Зря это он. У нас и у самих найдётся. Оставляй свою амуницию и топай.
В одних трусах лейтенант проскочил в баньку. Вскоре туда же, озабоченный, подвалил лесник:
— Лейтенант не тамочки? У меня до него депеша
— Это какая же?
— Докладывать ещё вам буду
Из баньки послышались крики, уханье, стук, звон, смех.
— Депешу разбирают, — обозлились бабы. — Разнеси их душу в дым!
Огонька, однако, осталось и бабам. А вскоре все, распаренные, пахнущие щёлоком, берёзовым листом, собрались за столом. Разговор сам собой зашёл о докторе. Высказывались мнения.
— Понятное дело, обличье себе изменил. А завлекла его сюда не иначе как нужда: награбленное здесь заховал, чтобы легче бежать, а теперь всё ищет, да видать, не найдёт аль запамятовал
Лейтенант помалкивал, занимаясь закуской.
— У него тут встреча с кем назначена? Может, кого из наших деревенских подбил?
— Который убег, говорят, молоденький, чернявенький, ровно цыган.
Он у Авдотьи в риге ночевал, утром в кринице умывался, а утёк, когда ещё1 скот не выгоняли
— Душегуба завсегда тянет на старое место
— Прямо стыд слушать, чего такое болтают! Старый человек отдохнуть приехал, а его заперли, как конокрада. Небось мается, голодный
Лейтенант молчал, цепляя огурчик. Норовил вставить своё слово лесник, но лейтенант значительно посматривал на него.
— Поди-ка, Мартын, всё же отнеси ему поснедать, — сказал Еремеич, — да заодно погляди, как он там
Бабы натолкали в миску картошки, сала, огурчиков.
— Небось и выпил бы с устатку?
— Не положено, — пресёк лейтенант.
Лесник ушёл, а в доме продолжали высказывать мнения, пока не вернулся лесник. Вернулся с пустой миской, рушник в грязи, рот скосился, не может схватить дыхания.
— Убег!
Лейтенант поднял аврал. Собрал парней и повёл их в лес. Но дело шло к сумеркам, стали быстро терять друг друга, искать было бесполезно, а поэтому решили на околице оставить сторожа, а самим пойти довечерять. На обратном пути остановились у сельсовета, обсуждая вполголоса, как это мог так незаметно доктор удрать.
— Как же он, старый, вылез из окошка?
— Оно и непонятно. Дверь была на щеколде, так и осталась на щеколде
— А вещички он с собой прихватил?
— Я и не посмотрел. Как увидел — нет его, так и бежать Лейтенант заглянул в бурьян.
— А это что?
Чемоданчик лежал на месте. Тогда лейтенант прошёл в сени, поднял щеколду и хотел было открыть дверь, как вдруг изнутри послышался вежливый голос:
— Пожалуйста, входите!
Старый солдат, лесник грохнулся на пол, укрываясь от пули. Лейтенант отжался в сторону, медленно вытащил пистолет и поднял его дулом кверху, чтобы дать предупредительный выстрел.
— Ни с места, стрелять буду! — заорал лейтенант и, напрягшись, саданул каблуком в двери
СУДЬБА ИГРАЕТ ЧЕЛОВЕКОМ
Из-за стола встал навстречу доктор:
— Мне пришлось отлучиться на некоторое время, но я, к сожалению, не могу раскрыть вам, куда. Я связан словом. Но зачем — охотно скажу. Понадобилась помощь. Ничего опасного. Обыкновенный вывих
Доктор закатал брючину, спустил носок и стал двигать ступнёй, объясняя её строение. Лесник склонился над ступнёй, заложив руки за спину. Лейтенант расслабленно опустился на табурет. Он глядел на доктора и невольно дрыгал ступнёй, подражая. Сапог не мог скрыть силу и гибкость лейтенантской ступни.
— Значит, человеку теперь хана?
— Видите ли, восстановительные свойства нашего организма поистине трудно учесть Вот, казалось бы
Лесник вежливо попятился и уселся на пороге. Лейтенант впал в оцепенение. Ему стало казаться, что он сидит в аудитории юридической школы, где личному составу районного отделения читается курс лекций. Лекция доктора длилась не больше четверти часа, но после баньки и крутого застолья она показалась двухгодичной.
— Дело понятное, — проснулся наконец лейтенант. — А вы, извиняюсь, не дух святой?
— Что вы хотите сказать?
— Как вы отсюда вышли, а потом снова вошли? Может, сквозь замочную дырку?
Доктор рассмеялся:
— А это секрет фирмы. И если бы не слово, которое я дал
Лейтенант разгладил мятый листок юбилейного адреса, каким-то образом оказавшегося среди докторских вещей. Он долго изучал его, сличая своё впечатление с докторским лицом.
— Значит, профессор?
— Так оно и есть, дружок.
— А какая может быть вера вашим словам?
— Можно позвонить в клинику и позвать меня. Вам объяснят, что я нахожусь в отпуске
Долгое молчание. Лесник встал у порога и вытянулся, прижав руки по швам.
— Накладочка получилась, — сказал лейтенант, с укоризной глядя на лесника. — Теперь что же, Мартын Иваныч, делать, скажи на милость? Это что же нам майор скажет?
Лейтенант и лесник растерянно смотрели друг на друга.
— Ай-я-яй, какая накладочка получилась! Вы уж извините, уважаемый, что так получилось, с кем не бывает Так что можете идти по своим делам
— Благодарю. Я ведь так и подумал, что тут какое-то недоразумение. Но должен вам сказать Вы уж простите меня за такую просьбу, я бы сказал, несколько необычную Одним словом, я просил бы вас провести следствие по всей строгости закона
— Это как же, извиняюсь? Не хотите уходить, значит?
— Я не могу ставить вас под угрозу служебных неприятностей. Откровенно вам скажу, меня удивляет ваша беспечность: задерживаете человека, действия которого выглядят в высшей степени подозрительными, и не доводите своего дела до конца, то есть не докладываете о задержании вышестоящему начальству, не наводите справок, верите на слово и с богом отпускаете А если бы на моём месте, извиняюсь, был на самом деле крупный м-международный то что же было бы?
— Но вы же чистый и никакой не это м-международный
— Разумеется! Но, с другой стороны, любой э не стал бы рассказывать вам, кто он на самом деле, и уж постарался бы выдать себя э ну, хотя бы за рыбака или охотника, что естественно в условиях тайги. Или за старичка пенсионера вроде меня, приехавшего отдохнуть. Разве так годится, уважаемый?
Лёгкость, с какой Шмелёва отпускали на все четыре стороны, почему-то обидела его. Он увидел в этом легкомыслие и разгильдяйство.
— Так вы хотите, чтобы я вас запер и держал тут до понедельника?
— Меня несколько удивляет другое: если я попрошу вас отпустить меня сейчас, так вы меня, стало быть
— Вы и ступайте по своим делам
— Но позвольте! — Профессор вскочил, ударился головой о потолок и уставился на лейтенанта ошалевшими глазами. Руки его дрожали. — Вы верите мне на слово и отпускаете Так ведь что же получается? Как это можно назвать? Халатность? Да ведь это чистейшая халтура! Беспардонная халтура, если только не хуже! Ведь на это можно посмотреть как на сознательное пособничество Я удивляюсь, как вас терпят. Да вам, извините, семечками торговать, а не в милиции работать!
Вспышка была настолько ни с чем не сообразной, что лейтенант и лесник не на шутку струхнули. Шмелёв успокоился только после того, как смочил шишку на голове и выпил полную кружку воды. Лейтенант распахнул ворот гимнастёрки и вытер лоб.
— Да вы, батюшка, не гневайтесь, — бормотал лесник.
— Считайте, что уже не гневаюсь, — миролюбиво сказал Шмелёв. — Но я хотел бы, чтобы вы посмотрели на ситуацию с моей, так сказать, позиции. Может, тогда вам станет понятнее, почему я настаиваю
— Валяйте, валяйте, — сказал лейтенант, отдуваясь.
— Вы почему-то задержали меня. Так-с. По-видимому, у вас были на это какие-то основания. Допустим. И вдруг вы, толком ничего не выяснив, не проверив, отпускаете. Хорошо, я ухожу и думаю про себя: тебя отпустили под честное слово из чистейшего великодушия, но где же гарантия, что у человека не останутся подозрения насчёт моей особы? Следствия не было, никакой официальной реабилитации, так сказать, — это одна сторона дела. А вторая — ты уходишь, ставя человека под угрозу возможных служебных неприятностей. Я не хочу подчёркивать своей честности, но что же должен чувствовать человек на моём месте, который, оказавшись в вашем районе, занимается частной практикой и явно не раскрывает каких-то обстоятельств о том, к примеру, куда я исчезал? Что вы на это скажете, любезный? Нет, что ни говорите, заприте-ка меня получше, а сейчас идите отдыхать. У вас вид измученный, расстроенный.
Глаза у лейтенанта набрякли, грудь сдержанно колыхалась.
— Замученный, говорите? Так это ж какие нервы надо, чтобы не замучиться с вами! То туда, то сюда, а у меня голова и так трещит Да если майор Кораблёв узнает про всё, так это что же мне будет? Вот что, — рассердился лейтенант и распахнул двери, — тут вам не гостиница. Мартын, проводи его
Доктор заглянул в темноту, поёжился и подался обратно.
— Я бы, с вашего разрешения, остался тут на ночь, а то ведь я не местный, где же мне сейчас
— Так бы сразу, отец, и сказал, а то здорово живёшь: заарестуйте меня! Где же это слыхано, чтобы сами просились под замок! Ну ладно, насчёт ночёвки не хлопочите, мы сейчас к куму пойдём. Ну и загадку вы мне задали, не приведи господь! Нет хуже службы, чем в милиции. Что ни случай, то загвоздка. Великая здесь психология нужна. Ладно, собирайте вещички. Деньги, деньги спрячьте поглубже, кто же так с ними обращается! Мартын, помоги человеку. Мы тут тары-бары, а он небось голодный. Жаль, банька уже остыла, а то бы хорошо попариться. И по баночке пропустить.
— "Попрошу вас, возьмите, пожалуйста, — доктор посмотрел п!рищу-рившись, — двадцать пять рублей и купите что надо
— Спрячьте. И ни-ни. Переспите ночку, а утром я колхозную машину организую. Сам вас и доставлю домой
— Я рад, что мы наконец поняли друг друга Я ведь всё время толкую — надобно довести дело до конца Дома я смогу показать все документы Служба у вас действительно хлопотная. Подумать только — такой участок, лес, тайга, пионерские лагеря, и чего только ни случается И за всё-то вы отвечаете
— Папаша, дайте руку! Если бы все вот так понимали про милицию! Думают, лёгкая жизнь в милиции. Я шофёрскую специальность имею, механик. И зарабатывал больше. А что в милиции? Не понимают люди — дело это народной важности, чтоб жить людям спокойно. Это же понимать надо! Дайте-ка руку, папаша, и пошли. Мартын, захвати вещички. Аппарат, бинокль Всё в рюкзаке. Да бог с ними, с вашими секретами. Вижу, правильный вы старик, мне бы такого папашу, как вы Ну, держитесь за меня, а то темно Сюда идите, там яма. Вот видите огонёк — ещё не спят Сюда и повернём, к моему куму. Хороший человек, вроде вас. Понравитесь друг другу. Ну, вот и пришли Эй, Еремеич, открывай, гостя веду! Самовар кипит ещё? Ну люди!.. Мартын, иди вперёд, а вы осторожненько, не споткнитесь Еремеич, свет у тебя где включается? Живёте, как медведи в лесу! Улица без света, в сенях света нет Ну, вот и всё! Принимайте гостя Чаем его перво-наперво Ты, Манька, иди мешок свежим сенцом набей — дедушке спать, а ты, Дуняша, мечи на стол что есть
Вскоре доктор сидел за столом, подвязанный полотенцем, и растерянно разглядывал всяческую снедь, не очень-то ещё разбираясь, что произошло, потому что не далее как полчаса назад он ещё страстно мечтал об аресте и отсидке. А теперь уже спокойно думал о том, что завтра отбудет домой, так и не повидавшись с внуком, и очень был этому рад, потому что все, что хотел узнать, он узнал, и даже с лихвой, будет что бабушке рассказать. И тихо про себя ликовал оттого, что кончилась его командировка, от которой, правду сказать, немного устал, а ещё более оттого, что своим отбытием он отвлечёт внимание милиции от деятельности тайных людей. А ребятки пусть порезвятся до конца — такой свободы, может, в жизни им больше никогда не узнать.
Так закончилась весьма даже странная и не достигшая никаких видимых практических результатов командировка профессора Шмелёва, с которым ни героям этой повести, ни читателям больше встречаться уже не суждено.
Поистине — судьба играет человеком.
«Я ПРОСТО НЕ УЗНАЮ СЕБЯ»
— Это было настолько неожиданно, он возник в такую странную, жуткую минуту моей жизни, что всё это звучало бы анекдотом Я был в какой-то бездне, важнее всего на свете было побыть одному, только один я и мог изжить то помрачение — не знаю даже, с чем сравнить его? — в котором я пребывал. И тут вдруг он — как во сне, смешно, неожиданно и ненужно. Теперь я знаю, что он жив, курилка, и знаю ещё, что мы обязательно увидимся, но в ту минуту раскрыться — значит, пришлось бы что-то объяснять, но кто мог бы понять, что со мной произошло? Понять меня мог бы только один человек
— Уф, какую ты взвалил на меня ответственность! Прямо не знаю, как оправдать такое доверие. Постой, отдохнём дай руку! Какая она у тебя раскалённая! Видно, сердце холодное Вот так Ну, садись здесь. Ох, совсем не болит, знаешь Боже мой, когда он дёрнул её, будто взрыв надо мной! Бенгальские огни, салют с иллюминацией, честное слово. А теперь после адской боли — такое приятное мозжение. Сладко так и приятно, как в детстве. Мальчики мне положительно нравятся. Базиль запущенный страшно, но зато в нём сила и характер, какая-то нерассуждающая сила. А Боб очень смешной колобок, начинённый разными смешными мыслями, рыжий колобок-колобочек, так и хочется его съесть. Я так рада, так рада, ну слов нет, что всё так получилось! И я очень счастлива. Ну, повернись Какие у тебя глаза! .. Ой, осторожно Ну, вот так И я тебя, Рустем И давно. Может быть, сразу, как увидела. Не знаю, что со мной творилось Ведь только подумать, что мы могли не встретиться! Прямо ужас берёт — это всё равно,что ну, не родиться ну, чтобы этого мира не было вот этого шума листьев над головой этих звёзд Ну, чтобы ничего этого не было Ты мне прости, милый, что я доставила тебе столько огорчений Милый! Ох, что это за слово непонятное, и почему оно мне сейчас нравится, а я терпеть не могла, пошлостью казалось Это, наверно, потому, что я другая Я просто не узнаю себя Поверишь, мне бы сказали, что я вот такая буду стану ну что за чушь я бы даже не рассмеялась Ох, у тебя и лоб горячий, и весь ты как уголёк. А волосы жёсткие. А мне казалось, что они у тебя мягкие И вообще, ты совсем не такой, каким кажешься. Я только сегодня нет, вчера стала это понимать Ведь я тебя представляла совсем другим. Из злости создала тебя таким размазнёй. Я как слепая смотрела. Но ты мне вдруг увиделся сердцем. У сердца тоже есть глаза, а они у меня были повязаны. Ты лучше молчи, молчи. Говорить буду я и за тебя и за себя Я ужасно болтливая и говорю вот уже второй день не переставая Всегда любила говорить, а теперь во мне какая-то плотина прорвалась Я потом замолчу, я буду молчать. И вообще, мне хочется, ужасно хочется быть послушной, во мне всегда это было, жило, но не было человека, которого хотелось бы слушаться И вот ты Ты не знаешь, да и мне откуда знать Я никогда не думала, что во мне так много тишины, покорности, покоя, чего-то такого, ну вот того, чего много в природе. Ты послушай! Что этой сороке надо? Она следует за нами с самого ущелья. Ведь она что-то знает о нас, о чём-то догадывается Она ведь что-то думает и знает про нас, иначе зачем бы ей лететь за нами и трещать всё время? Эй, белобокая, ничего ты не знаешь! Не знаешь! Не знае-е-е-е-ешь!.. О, кто это? Боже, откуда вы?
КТО ИЗ ВАС АЛЯ, А КТО МАЛЯ?
На тропе темнели в сумерках две фигурки в одинаковых джинсовых брюках и свитерах. Это были Аля и Маля. У одной был вещевой мешок за спиной. Судя по выкладке, они собирались куда-то надолго, но случайно набрели на Рустема и Броню, сидевших на плаще, и были так потрясены, что не знали, бежать или всё же достоять на месте и убедиться, что это не обман, не галлюцинация.
— Ну, что же вы, девочки стали? Подойдите!
Аля и Маля покорно подошли, исподлобья глядя на Рустема и Броню, всё ещё недоумевая, усиленно размышляя — нет, уже не о том, чтобы убежать или как-то оправдаться за самовольный уход из лагеря, а о том, как отнестись к тому, что Рустем и Броня вместе. Рустем смотрел на девочек. И они смотрели на него, томились ожиданием. Казалось, они забыли о Броне. Но Рустем напомнил о ней. Он перевёл глаза на Броню, и девочки, как подсолнухи, повернулись к ней с выражением удивления. И вдруг бросились обнимать её
О, что это было! Эти своевольницы, которых Броня терпеть не могла, которых она не различала, они давили её и целовали. Они терзали её так, что она стонала. А потом, забыв, куда и зачем они идут, решительно увязались провожать взрослых в лагерь. Они по очереди подставляли Броне плечо. И шли, толкаясь, мешая друг другу. И так велико было их желание услужить Рустему, услужить новой Броне, что они мирились с неудобствами
— Вот здесь отдохнём немного. Так А теперь встаньте, я закрою глаза, вы перетасуетесь, и я попробую угадать, кто из вас Аля, а кто Маля.
Девочки охотно приняли игру. Рюкзак перекочевал на плечи к Рустему.
— А-а, подсматривать! Рустем, закрой ей глаза!
Рустем закрыл ей руками глаза. Девочки менялись местами раз десять-пятнадцать, словно от того, как часто и много они перетасуются, Броне будет труднее отличить их. И потом застывали в позе «замри».
— Аля
— А проиграли!
Вскоре Броня стала узнавать — и не случайно, а сознательно. К десятому разу это уже казалось ненужным, теперь она играла просто так — для девочек, чтобы доставить им удовольствие, и удивлялась, до чего же они были разные, разные даже внешне. Боже мой, эта Аля просто мальчишка, у неё глаза как пчёлки, и уши торчат из-под косичек, и джинсы на коленках отдулись, и черты лица посуше и озорнее. А Маля — черты её мягче, округлее, глаза застенчивей, вся она прибранней и чище — девочка, словом, настоящая девочка. И два совершенно разных характера. Стоило Броне задать себе вопрос: «А кто из них девочка?» — как сразу бросалась в глаза Маля. А мальчик — да вот же она, Аля! И сразу многое и другое открылось. Вот кажется, что Маля в подчинении у Али, потому что куда Аля — туда и Маля. Аля — заводила, закопёрщик, выдумщик, и Маля привычкой вместе прожитой жизни от неё ни на шаг, никогда друг без друга — не гуляют, не едят, не играют, не дышат, словно срослись, как сиамские близнецы. Но это внешняя связь, то, что бросается в глаза, а если внимательно посмотреть, Аля под явным влиянием Мали: та сдержаннее, немногословнее, но зато все её слова — решения, которые тут же принимаются к исполнению. В речах Али — внешняя бойкость, а в Мале — ум и тонкость
Броня шла, опираясь по очереди на девочек. Маля, вжав голову чуть в плечи, бросала на Броню нежные, стыдливые взгляды. Аля же трещала, как сорока, замахивалась на пролетающих птиц, рвала на пути цветы, пыхтела и гудела Вот бы раньше когда-нибудь с девочками так пройтись, почувствовать их плечо под своей рукой, опереться вот так, заглянуть в глаза и увидеть, как души открываются навстречу!
— Вот, девочки, я и научилась вас отличать. Знаете, будто экзамен трудный выдержала — узнавать человека! А я ведь голодная, как волк Вот так! И ведите нас скорее в столовую — мы сейчас повара съедим
Глава 5
ЯВЛЕНИЕ ЧЕБУТЫКИНА
Наша повесть могла бы закончиться предшествующей вполне счастливой главой, если бы не внезапное явление Чебутыкина. В жизни порой бывает так, что конец какой-то истории служит началом новых событий, которые, возникнув как бы независимо, проливают новый свет на факты, нам уже известные. Так или иначе, мы должны сообщить читателям, что работник завкома, член шефской комиссии Герман Степанович Чебутыкин решил съездить в лагерь. Здесь у него были кое-какие дела. Заодно надо было повидать племянника, о чём просила сестра. Он исхлопотал командировку, из завкома дали в лагерь телефонограмму. Однако Чебутыкина никто не встретил, машину к автобусной остановке не прислали, так что пришлось идти пешком семь вёрст. И это не укладывалось в его голове. И вот теперь, в сопровождении Шмакина и Голохвостовой, ведавшей библиотекой и клубом лагеря, Чебутыкин обходил лагерные угодья и со скучающим видом слушал, как Голохвостова, строго поджав губы, докладывала о выпущенных стенгазетах, боевых листках, о выездах с концертами самодеятельности в соседние колхозы, и других мероприятиях.
— Это что же, в лагере сейчас свободное время?
Лагерь являл собой картину некоторого малопонятного хаоса. В разных направлениях носились расхристанные детишки и кричали. Чебутыкин долго не мог понять, откуда и куда все они несутся, пока не показалась площадка, завешанная облаком пыли. Развороченные мешки с цементом, бетономешалка, кирпич, известь, доски и прочий стройматериал наводили на мысль, что идёт какое-то строительство. Здесь уже не было хаоса, здесь шла сосредоточенная и как бы осмысленная возня. Но куда подевались взрослые? И понятное дело — отсутствием взрослых можно было объяснить тот факт, что ребята не очень усердствовали и на фундаменте будущего строения уже гоняли мяч, оставляя вмятины на ещё мягком цементе. Гиканье, свист, крики были тем более удивительны, что совершенно пустовали спортивные площадки в другом конце лагеря.
— Отчего это они все гомозятся, как мураши? — удивился Чебутыкин.
— Метод самостроя, — пояснила Голохвостова, едва заметно усмехнувшись. — Возводим крытый спортивный павильон хозяйственным способом. Иль не слыхали разве, Герман Степанович?
— Я, между прочим, по этим делам и приехал. А для чего ребятам летом крытый павильон?
— Это у Ваганова спросите. Он считает — чем летом ребятам безалаберничать, лучше пусть делом занимаются. Тут недавно дожди были, так им что надо? Вымазаться по самые уши, а потом бегать купаться. Душевая им не годится, видите ли
Голохвостова очень тонко чувствовала настроение Чебутыкина и точно настраивалась на волну, по существу вслух выражая мысли Чебутыкина. О строительстве Чебутыкин знал, конечно, но делал вид, что это ему внове. Где-то оно, это самодеятельное строительство, не одобрялось, и он, Чебутыкин, считал своим долгом сделать личные наблюдения и довести до сведения. Чебутыкин слушал Голохвостову и только похмыкивал, как бы кивая своим мыслям, и только шибче вышагивал по дорожкам, так что Голохвостова еле поспевала за ним.
У зелёного театра Чебутыкин в раздумчивости остановился, залюбовавшись круглым пространством замощённого досками большого участка земли. На этом месте когда-то была берёзовая роща, но несколько берёз всё же удалось сохранить, и они, эти берёзы, обречённо и голо вздымались сейчас из пола, как декорации. Это очень нравилось Чебутыкину. Он сам когда-то принимал участие в обсуждении проекта зелёного театра, построенного для республиканского фестиваля песен. Фестиваль прошёл лишь однажды, но театр и сейчас не потерял своего вида — он выглядел диковинно и поражал своими просторами. Все отряды умещались на дощатой площадке во время утренних и вечерних линеек и даже как бы терялись на её пространствах. И вместе с тем Чебутыкин печально посасывал зуб, а Шмакин и Голохвостова не могли догадаться, что же печалило Чебутыкина. Откуда же знать им, что Чебутыкин надеялся к своему приезду увидеть весь ребячий строй и произнести речь, которую даже набросал тезисами на листочек, спрятанный в бумажнике?
Жаль, что в лагере не было Ваганова. Без Ваганова Чебутыкин был не в своей тарелке. У Чебутыкина, как у лица руководящего, был один недостаток: не мог занимать людей разговором. У Ваганова это получалось само собой. Где бы он ни находился, с кем бы ни разговаривал, вокруг него закручивался вихрь. Если даже молчал, всё равно вихрь крутился вокруг него. Будь Ваганов рядом, Чебутыкин тоже оказался бы в этом вихре, а сейчас он был в пустоте, и пустота эта, как футляр, двигалась вместе с ним по лагерю. Просто никто не догадывался, что прибыл важный человек, шеф, в некотором роде кормилец. Ребята проскакивали мимо, не оглядываясь. И даже какая-то вожатая объявилась рядом, но не проявила интереса, кто он, откуда и зачем здесь, а прошла мимо, явно избегая встречаться глазами. Никому Чебутыкин не был нужен в этом мельтешащем муравейнике. Даже Вовка, родной его племянник, чуть было не проскочил мимо. Он гнался за кем-то, посмотрел на дядю, как на неожиданное препятствие, постоял, отдуваясь.
— Мы песок таскаем, — сказал он.
— И много тебе платят за это? Вовка насупился и ничего не сказал.
— По мамке не соскучился?
Вовка наморщил лоб: только сейчас он вспомнил о мамке.
— Что передать ей?
— Нормально, — сказал племянник и уставился на дядюшкин оттопыренный карман. — Чего там?
— На вот, — Чебутыкин сунул ему плитку шоколада. — Скоро обед у вас, так что сразу не ешь, чтобы аппетит не сбивать М-да, — промычал он вслед убежавшему племяннику, который на ходу разломал плитку, а возле него уже вертелись дружки, ждавшие своей доли. — Ваганов, значит, с ребятами уехал. Так. А что вы мне про старшего вожатого как его Ругоева, можете сказать?
Голохвостова, напряжённо округлив глаза, уставилась на Шмакина, будто именно к нему был обращён вопрос.
— Это про Рустема, что ли? — переспросил Шмакин. — Как вам сказать? Человек он знающий, умный, но, видите ли, ему тут материал собрать нужно, так что по части дисциплины требует мало Вообще-то ребята его уважают, надо отдать ему справедливость, а вот так, знаете, чтобы возжа — этого нет. Чего нет, как говорится
— А как он по части моральной?—спросил Чебутыкин, уже как бы и не замечая Голохвостову, женщину сухопарую и чем-то неприятную на взгляд.
— Это что имеется в виду, Герман Степанович?
— Женат он, холост или так?
— Так, по-моему, холостой. Он ведь инвалид
— Ну инвалид. За девками-то бегать тоже инвалид?
— Дело житейское, а только дружит он с одной, а так чтобы
— Дружит! Охо-хо-хо! — Чебутыкин вынул из внутреннего кармана пиджака конверт, потряс им в воздухе и спрятал. — Занимайся тут всем М-да А это что ребята летят, как на пожар?
— Извините, Герман Степанович, вы тут с Голохвостовой постойте, а я сбегаю узнаю, что там и как. Прямо-таки подозрительно, сами видите.
В ЧЕСТЬ ЧЕБУТЫКИНА
С Голохвостовой Чебутыкин уж и совсем не знал, о чём говорить. Он сел на скамейку, вытащил сигарету.
— Я тут посижу да кое-что на память себе запишу, а вы идите. От дела не хочу вас отрывать
Чебутыкин облегчённо вздохнул, когда она исчезла, вытащил блокнот, царапнул в нём что-то, спрятал в карман, затянулся дымом и надулся, как сыч. Ненужность его разрасталась тем более, чем назойливее носились вокруг него ребята. Он жалел, что приехал. А думал, между прочим, здесь отдохнуть, походить в роли почётного гостя, посидеть с Вагановым, которого любил послушать. Вдобавок — проголодался. Утром один только пустой чай и выпил, чтобы не утруждать желудок ввиду лагерного угощения. А Шмакин и Голохвостова не догадались затащить в столовую сразу же, и вот пришлось таскаться, изображая интерес, а теперь, гляди, и на обед не вспомнят пригласить. Да они что, с ума поспятили — голодом его уморить! Чебутыкин стал продумывать, как вот сейчас встанет и степенно, не торопясь пройдёт на кухню и скажет: «Вот решил тут узнать, как у вас ребятишек кормят». Так вот, без приглашения, и придётся пойти, не подыхать же с голоду, думал он, затягиваясь дымом. Он увидел Шмакина и неторопливо встал навстречу, чувствуя, как подползает к сердцу голодный змей.
— Вас, Герман Степанович, ребятки просят
— Надо бы отведать, как у вас ребятишек
— Просят послушать Прямо, знаете, отбоя нет Перед столовой была собрана большая толпа ребят.
Паренёк, красный от натуги, еле держа аккордеон, с усилием растягивал его, настраивая звуки. Шмакин протискался в центр, выхватил аккордеон, оглядел толпу грозным взглядом и топнул ногой. Наступила мёртвая тишина. Издалека лёгким соловьиным перебором, словно с лесной опушки, звучали высокие лады. Все ребята — слышно было — вдохнули в себя. Глаза, блестя весёлым ожиданием, устремились к Шмакину. И тут, набирая мощь, загудели низы. Шмакин в экстазе поднял правую руку, левой поддерживая свисающий аккордеон. Всё ниже гудели ребячьи голоса, сливаясь в трубный гул, и всё вдохновенней становились их лица. И тогда рука, поднятая к поднебесью, рухнула вниз, а вместе с ней на грудь упала голова. Шмакин поймал двумя руками аккордеон, растянул его от края до края, и на всю тайгу расплеснулась песня. Прямо-таки чудом вся эта орава, бегавшая без порядка, эти молекулы, толкавшиеся в разные стороны, превратились в мощный, слаженный хор. В лагере прекратились всякие иные дела. Повара, закинув за плечо поварёшки, застыли в окнах кухни. Облака задержались в своём движении. Птицы застыли на ветках, боясь шелохнуться. В торжественных звуках — воздух от них звенел и дрожал, как хрусталь, — стала расти и шириться слава. Слава Чебутыкину. Чуть покачиваясь, Чебутыкин оторвался от земли и стал парить над ребячьей толпой. Тысячи блестящих глаз уставились на него, ожидая одобрения, требуя восторга, вымогая похвалу. Ибо Чебутыкин был единственным слушателем хора, и этот хор пел ради него одного. И тогда Чебутыкин почувствовал, как из всех его внутренностей мелкими пузырьками улетучивается раздражение, а грудь его, как шина воздухом, накачивается благодушием. Он помахал рукой и покивал — сдержанно, чтобы не отвлекать на себя внимание и не нарушить стройности пения. Встреча, устроенная в его ем. Он помахал рукой и покивал — сдержанно, чтобы не отвлекать на себя внимание и не нарушить стройности пения. Встреча, устроенная в его честь, превзошла все ожидания и погасила мелкие обиды и голодные терзания. Он стоял с поднятой рукой, любовно блестя глазами, как памятник заботы о детях, памятник чуткости и доброты
КТО ТАКОЙ ШМАКИН?
Песня кончилась. И вместе с нею исчез порядок. Ребята ринулись на штурм столовой, разом забыв о Чебутыкине. Никто не узнавал его. Его невежливо толкали, задевали, наступали на ноги и не извинялись. В кутерьме мелькнул его родной племянник Вовка, но не оглянулся. Чебутыкин грустно покачивал головой. Голод и злость возвращались в него. В желудке образовалась грозная пустота. И в этот момент перед ним вырос Шмакин. Он был растерян. Даже сказать, жалок от пережитых потрясений. Он застенчиво ждал отзыва. В его согнутой фигуре трудно было узнать могучего полководца хорового пения. Разгневанный было Чебутыкин, видя столь жалкое преображение, почувствовал прилив снисхождения.
— Хорошо пели ребятки. Истинное удовольствие. Прямо душа гордится за нашу детвору. И ты был истинно как фараон. За такой концерт и пообедать не грех. Каким обедом покормят ребяток за такой концерт? Пойдём, пойдём, заслужил
Они вошли в столовую, оглушённые криком и звоном. Перед ними выросли девочки:
— Сюда, сюда садитесь
— Хорошенько покормите-ка Шмакина, — бодро сказал Чебутыкин. — Хорошенько покормите его за такой концерт
Чебутыкин придвинул хлебницу, затрепетал ноздрями, обнюхивая борщ. Шмакин, сияя, как именинник, стирал пот со лба и смотрел, как Чебутыкин, обжигаясь, хлебал борщ. И терпеливо ждал. Только опростав тарелку, Чебутыкин заметил, что Шмакин не прикоснулся к еде.
— А ты чего не ешь?
— Я извиняюсь, Герман Степанович Вы не угадали, что исполнял хор? — спросил Шмакин, затаив дыхание.
— Хорошо пели, а пели что же? Народное, что ли? Не спец я по этой части
— Точно, — обрадовался Шмакин, — народная Но в моей обработке. Скорее сказать, песня по народным мотивам. Всё это я, скорее сказать, приспособил к детскому хору
— Э, да ты сочинитель, выходит? Что ж, дело неплохое.
— И я так думаю.
— Думай, думай, — кивал Чебутыкин, наслаждаясь робостью Шмакина. — Л как насчёт репертуара? Всё, значит, в порядке?
Как это? — не понял Шмакин. Простоватый этот Шмакин всё больше нравился Чебутыкину.
— Ну, одно дело — народ сочинил, а другое — Шмаков А кто такой Шмаков? — нарочно перевирал он фамилию. — Ты кто такой — Дунаевский? Н-да Удивил ты меня, Шмаков. Или ты, может, Соловьёв-Седой? Ну ладно, ешь, а то остынет. А борщ ничего, а? Ты чего добро оставляешь, а?
— Я вас не понимаю, Герман Степанович, песня народная Не претендую, как говорится Я только куплеты переставил, ну, и там отдельные слова применительно к современности, так сказать. А музыка тоже народная, моя аранжировка, скорее сказать
Чебутыкина прямо-таки распирало от смеха. Но сдержался.
— Слова изменил, куплеты переставил, да и в музыке натранжирил А народ, знаешь, не для того придумал, чтобы ты делал там разные перестановки А ты кто, между прочим, — Сигизмунд как его Кац? Или Магомаев? А может, ты Лебедев-Кумач или скорее сказать, Евтушенко? Я что-то композитора Шмакова не слыхал. И поэт такой Шмаков в списках не числится Да ты ешь, господь с тобой, чего ты разволновался! Подумаешь, дело какое! Уладим. Я тут посоветуюсь кое с кем. Сколько ребят пело? Человек сто? Пока ещё никто не слыхал? Никто не знает?
Чебутыкин едва сдерживался, чтобы не рассмеяться.
— Я всё-таки не понимаю, Герман Степанович Сколько народных хоров самодеятельности Между прочим, в Ахтырке хор, так там все песни поют в обработке Петра Смоковникова. Ему, между прочим, заслуженного работника дали
На Шмакина было жалко смотреть. Однако шутить так шутить!
— Пётр Смоковников? Говоришь, заслуженный? Значит, заслужил? А ты заслужил? Тебе давал кто-нибудь заслуженного? Поторопился, поторопился ты, Шмаков. Ну, мы ещё это дело обсудим. Не так всё страшно.
Это как подойти. Да ты что пригорюнился? Подвинь-ка мне, Шмаков, соли. Вкусное жаркое. Э, что это мне, братцы, столько подвалили! Что же мы, из голодных краёв, что ли? Ну, однако, оставлять тоже нехорошо
ЧЕБУТЫКИН СЛУШАЕТ ВАГАНОВА
После обеда приехал Ваганов с ребятами. Приехали в грузовике, доверху набитом ящиками с помидорами, огурцами, мешками с морковью, капустой. Ваганов вылез из кабины, кивнул Чебутыкину, спустился в кладовую, где долго пропадал. Потом явился, собрал старших ребят и исчез с ними в конторе лагеря. Всё же Чебутыкин с приездом Ваганова почувствовал облегчение Появился центр. И он, Чебутыкин, едва замеченный, тоже оказался вовлечённым в движение вокруг центра. К приятному ощущению сытости, а также веселья от трепета, который он нагнал на Шмакина (чудак, не понимает шуток), добавилось приятное чувство вовлеченности в орбиту Ваганова. Чувство ближайшей к Солнцу планеты. Как-никак Чебутыкин был не кто-нибудь, а шеф. А кто такой шеф? Хотя и не близкий друг Ваганову, а всё же нужный ему человек. От него, Чебутыкина, что ни говори, тоже кое-что зависит
Благодушествуя после обеда, сидя на скамеечке и покуривая, Чебутыкин терпеливо ждал, когда о нём вспомнят. Сначала ребята разгружали овощи. Из обрывков разговоров, долетавших до него, Чебутыкин понял, что овощи заработали в колхозе, и это он отметил как факт, о котором стоит поговорить, потому что лагерь получал питание на каждого ребёнка по 1 рубль 50 копеек, и это было больше, чем в соседних лагерях, где, как он знал, ребят не использовали на посторонних работах. Самодеятельность Ваганова! И ежели ребятам не хватает овощей, так он, Чебутыкин, представитель завкома, может поставить вопрос о дополнительной закупке овощей. Это во-первых! А во-вторых, отметил он про себя, очень уж вольно и неуважительно ведут себя ребята по отношению к Ваганову — толкаются возле него, орут, перебивают, явно не выказывая почтения к старшему, тем более к начальнику. Затеяли спор, кто сколько заработал, и пристали к Ваганову, чтобы он рассудил. Он же отмахнулся от них, как от мух.
— Сами считайте. Я вам не счетовод. Не маленькие. Работали — не спорили, а теперь вам важно знать зачем-то, кто сколько заработал
— Это нам, Яков Антонович, надо принципиально знать, а не для денег. Нам важно для учёта
— Учёт ваш всё равно пойдёт в борщ
И вообще какое-то панибратство. Ребята поносили друг друга, не выбирая слов, а Ваганов всё это время толковал о чём-то со старшим вожатым и не делал никаких замечаний. Чебутыкин издали наблюдал и поражался, до чего ребята не уважают своих старших товарищей. Ваганов сделал между тем не одну ходку на склад, в мастерские, на стройку спортивного комплекса, а Чебутыкин всё сидел, наблюдая, как крутится вокруг него карусель. Наконец, взопревший, расстегнув косоворотку, Ваганов подался к Чебутыкину и вяло пожал его жёсткую ладонь:
— Давно уже здесь болтаешься?
— Как сказать
— Извини, некогда было встретить. Машину не мог оторвать — у ребят самая запарка. Ещё гектаров пять убрать осталось
— У тебя что, договор с колхозом?
— Какой там договор. Меркулов попросил выручить — овощи пропадают, ну ребята и взялись. Овощишек вот навалил — не знаем, куда девать. Денег у Меркулова нет, а ребятам хорошо бы подбросить несколько копеек. — Ваганов потёр пальцами.-— Не возьмёт ли комбинатская столовая, как думаешь? Я бы им по дешёвке отдал. Ты передай там
Чебутыкин кивал, как бы соглашаясь, придерживая до времени свои соображения на этот счёт. Мысли его сбил мальчик, внезапно возникший перед ним, своим обликом совершенно не походивший на лагерную детвору, а это был непорядок, на который стоило обратить внимание. Обращать внимание на непорядки было страстью и призванием Чебутыкина.
— Это кто же такой будет? — спросил он.
— Познакомься, Чебутыкин, это мой сын Виталик. Видишь, какой я старый папочка и какой у меня маленький сын Зачем ты в этой вязаной кофточке? Боишься простудиться? Сними с себя кофточку, ты и без кофточки красивый Хорошо, я маме скажу, что это я с тебя снял. Ну давай, я сам отнесу. Не прыгай и беги к девочкам, они тебя ждут и хотят какой-то секрет рассказать Ах, не лезь ты целоваться — что за привычка целоваться на людях! Ты же мужчина! Цирк! Увидит нового человека, — ему обязательно надо его взять на обаяние. Ты, Чебутыкин, не знаком с моей женой? Я тебя познакомлю Ты сразу узнаешь, чей это красивый ребёнок Да, женился Как говорят, жить лучше холостяком, а умереть лучше в семье. Будет кому крышку на гроб положить Всё, Чебутыкин, пойдём в харчевню!
Тут Чебутыкину пришлось выслушать панегирик в честь поварихи Танюши. Повариха что надо. Пусть не думает, что молодая, курсы кончала и готовит по тетрадочке. Можно и по тетрадочке приготовить вполне прилично, хотя его покойная бабушка, пусть ей будет хорошо на том свете, расписаться не умела, но тоже неплохо готовила.
— Ох, как приятно пахнет, прямо дух захватывает! .. Ну, садись, садись, рассказывай за жизнь. Как там дела? Дочка в институт сдала? .. Ну, ничего, на будущий год ещё не поздно будет Куда сдавала? Что ты мне сразу не сказал, у меня же там корешок Ах, нет, извини, это в другом институте Склероз. Память стала сдавать Но всё равно, можно было бы что-то придумать. Чебутыкин, я не пойму, тебя кормили или нет? Пообедаешь ещё раз, что тебе стоит при твоей богатырской комплекции. Что там сегодня на обед? Есть можно? Тогда просто так посидишь, компот попьёшь Нет компота? Яблоки? Тоже неплохо, хотя компот лучше яблока. Конечно, если это такой компот, какой делала моя бабушка, а не как в столовках — вода, в которой моют фрукты. Я тогда лучше буду пить воду, полезнее. Два борща, Танечка, и погорячей! Ну, не хочешь есть, посмотришь, как я ем, вдруг разохотишься Тогда посиди просто так. Не люблю есть один — аппетит пропадает. Психологи, знаешь, давно заметили: когда человек ест один, он ест очень мало, аппетит поднимается в компании. Умные эти психологи, чёрт их возьми. Закон вывели — прямо тебе Эйнштейн. Тоже ведь надо заметить! А ты вот живёшь, старик, хлопаешь ушами, а ни одного закона не открыл. Ты, Чебутыкин, что-нибудь открыл? Или держишь про себя, сознайся. Ну, как тебе наш лагерь? Ведь ты после открытия ни разу не был
— Ты ешь, ешь, Яков Антонович, а про лагерь сейчас не будем. Выберешь время, позовёшь ещё кого из людей, я и доложу кое-какие соображения От яблочка я, пожалуй, не откажусь
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕЧЬ ЧЕБУТЫКИНА
После обеда — времени глубочайшего тихого сна — Чебутыкин, оглядывая персонал, свободный от дежурства, разгладил бумажку перед собой и взял слово:
— Я, товарищи, длинных речей говорить не собираюсь. Лагерь существует не первый год, как говорится, и не нуждается в описаниях. Во-первых, вложенные суммы говорят сами за себя. Прямо сказать, детишкам можно позавидовать — замечательный лагерь. Чтобы не затягивать выступление, прямо перейду к фактам. Вскользь, так сказать. Итак, факты. Дирекция и завком комбината уполномочили меня вынести на ваш суд, а точнее всего — потолковать с вашей общественностью: как вы посмотрите, если на базе вашего замечательного лагеря создать пансионат для взрослых? Летом пользуйтесь, дети, бегайте, купайтесь, загорайте, а зимой дайте взрослым отдохнуть. По справедливости чтобы, без всякой зависти. Этот вопрос предварительный, но я к тому, товарищи, что сейчас надо подумать о кадрах. Как говорится, готовь сани с лета, а собираешься на охоту, собак не очень-то Или я чего-то не так насчёт собак? Извините, если что. Так что кадры — наиважнейшее дело, и они решают всё. И вы, вполне возможно, вольётесь в дружный коллектив пансионата. Это особенно касается, конечно, технического персонала, скорее сказать — поваров и уборщиц, а потому как есть среди них из местного колхоза, то просьба прозондировать и кое с кем поговорить, а нет ли желающих, чтобы, как говорится, кадры были под ружьём, выражаясь по-фронтовому, тем более что начинать заново не придётся. Домики эти, словно бы кто в воду глядел, не потребуют капиталки, а только отопление, что при наших возможностях — плюнуть. Что касательно фактов, то ещё одна деталь: при обсуждении кандидатуры на пост начальника пансионата, учитывая деловые, общественные и положительные качества, остановили свой выбор на товарище Ваганове. Я вижу в зале оживление, но последнее слово за Яков Антоновичем, поскольку он в пенсионном возрасте и дал своё согласие только на летний период возглавить лагерь как имеющий большой опыт работы с детьми, а также и хозяйственный, что мы с вами вместе хорошо знаем, поскольку он в районе известный человек, друг нашего директора Проценко Ивана Игнатьевича. Так что, Яков Антонович, соглашайся, работа спокойная, тихая. Летом пожалуйста, трудись для детей, а зимой будешь отдыхать, как говорится, с их мамашами и папашами. В частности, я вот с моим удовольствием приеду зимой на недельку. Тут такое можно развернуть раздолье, ахнешь! Профилакторий, процедуры всякие, кабинеты, ванны, солюксы, массажи Но это, как говорится, дальние планы, и пока об этом не будем.
А теперь разрешите от торжественной части перейти к художественной— так, что ли? Вернее сказать, к критической части моего выступления. От фактов, как говорится, к впечатлениям. Вот я приехал после завтрака. Понятное дело, приехал, словно дождик с ясного неба, так и полагается, хотя была телефонограмма — выезжает, дескать, ответственный товарищ, полагалось бы встретить Но я не в претензии, а к тому, что ребятишки после завтрака словно в каком-то хаосе: начальства не вижу, вожатые — а где их там разберёшь, кто вожатый, а кто нет? Ну вот, скажу я вам, хожу я это по лагерю и теряюсь. Направо гляжу — суетятся. Налево — та же картина. А кругом, прямо сказать, равно кто ткнул палкой в муравейник — лезут, тащат, кричат, таскают тяжести. Одним словом, голова кругом, если без привычки. Хорошо, я свой, как говорится. Ну, а, скажем, приедет из области кто, а то ещё того хуже — из центра? Какая получится картина? Если никто их не встретит, так они, пожалуй, заблудятся, как в тёмном лесу. Ведь сколько этого гаму, крику! Главное что? Сколько ни ходи, сколько ни гляди, а порядка не увидишь. Хочешь побегать? Вот тебе площадка, бегай себе на здоровье, играй себе в мяч, здесь и покричать не грех. Ну, а зачем же, спрашивается, кричать на аллеях? Бегать по клумбам?
А теперь пойдём дальше — поглядим на пропаганду. Я, товарищи, был на открытии и скажу: порядка было больше с наглядной пропагандой. У ворот стояли статуи — где они? Я хорошо помню — девица такая приятная с веслом и ещё парнишка ловкий такой с горном. Где они? Не вижу я их что-то. Далее, помнится, была такая белая, как бы сказать, газель, что ли? Ну, в общем, вроде козы. Тоже не вижу. Кому она мешала? А я, товарищи, был в нашей авиационной части, поговорил кое с кем, так они нам что? Согласились отдать списанный «ястребок», на котором ещё в Отечественную войну сбивали фрицев. Я с нашими инженерами посоветовался, они берутся установить его на металлический пьедестал; сварят его из рельса, а самолёт сверху приладят — замечательная получится как бы скульптура: «ястребок» вверх нос задрал, как бы сейчас взлетит, что в аккурат согласуется с космическим оформлением. Я, кстати, должен отметить космонавтов, которых вы установили на линейке. Это хорошо, за это надо похвалить. Как видим, не всё уж так плохо с наглядной пропагандой, это я говорю про недостатки частные, так сказать, но лагерь замечательный, и всё в нём должно быть в соответствующий уровень. «Ястребок» над лагерем — его издалека увидишь — хорошая будет наглядная пропаганда. А ведь у нас план переустройства большой, мне не надо бы раскрывать кое-какие секреты, ну, да вы уж не выдадите, надеюсь? По нашему плану придётся вон ту рощицу снести и расчистить — лесу этого достаточно и за оградой, лужайки-полянки малость поурезать, потому как мы, вы уж меня не выдавайте, задумали тут построить бетонно-стеклянный павильон, башню, а к тем вон скалам, что за оградой, протянуть подвесную дорогу, иначе говоря — фуникулёр называется, а вон в том уголочке построить бассейн с подогревом. Но это, как говорится, дальние планы, о них сейчас рано говорить, мечты-мечты
Теперь же опять вернусь к впечатлениям. Хаос — я об нём уже говорил. Это я уж потом понял, вернее сказать, мне объяснили, что ребята возятся не просто так, а это у вас собственными силами, хозяйственным способом, так сказать, строится спортивный комплекс. Дело, скажу, похвальное, стоящее, но опять же надо подойти диалектически: зачем? Какими силами? На какие средства? Учитывается ли оздоровительный фактор детского отдыха? Ну, зачем — это ясно, тут двух мнений, как говорится, не может быть. Кому же худо от закрытого комплекса? Это мне правильно объяснили: дождь, ветер, ребятам поиграть хочется, не в комнатах же сидеть У вас, правда, есть тихие комнаты — читальня, уголок Мичурина, пионерская комната, но, конечно, в них не разгуляешься, если хочется попрыгать или там в мяч поиграть. Правильно, одним словом. Но это одна сторона медали. Напрашивается другая сторона: какими силами? Не перехватываем ли мы, рассчитывая на одних ребят? Не перегружаем ли их? Тем более рискованно — бегают без всякого призора, для них это удовольствие и баловство, ну, а вдруг что случится? Вдруг кирпич на голову? Ну хорошо, ничего не случится, а ведь он бегает день-деньской, чем, спрашивается, дышит? Кислород — вот он, рядом, а он пылью этой, известью Тем более, что некоторые родители возражают. А может, родители правы? Они ребят отдыхать посылали, а им тут строй-план, наряды, выработка. Всё ли тут продумано как следует?
Опять же возьмём другое — работу в колхозе Я понимаю, ребятам оно, может, занятно — разочек-другой повозиться, оно, может, и полезно, вот и врач подтвердит. Ну, а если там сто гектаров убрать? Да ведь это где столько спины возьмёшь, тем более детская спина, что об ней говорить — одна хрупкость!
Теперь ещё некоторые впечатления. Прибыл я, значит, оглядываюсь, смотрю — ребята бегают, как стадо телят, кричат, гоняются друг за дружкой, а пастуха не видно. Нет никого из старших. Чем же занимаются вожатые в это время? Подхожу к деликатному пункту А как у вас вожатые — учитывают ли, что на них ребята во сто глаз смотрят? Каждый ли свой шаг проверяют? Всё ли как надо взвешивают? Вот тут мы имеем одно письмо — правда, товарищ пожелал остаться неизвестным, анонимка, сказать, ну, бог с ним, дело персональное, так вот он, сказать, пишет, что тут, как говорится, на глазах у детской публики романы крутят на полную катушку, даже позволяют себе Постой, как это тут написано? Манкировать? Манкировать своими прямыми служебными обязанностями — пропускать дежурства, уходить ночью в лес и являться в лагерь только под утро Тут фамилии, имена, но мы на огласку не пойдём, поскольку анонимка Я ведь это к чему? Конечно, дело молодое. Все мы были молодые, но ведь, как говорится, работе—время, потехе—час. И потом, надо помнить, где заниматься потехой. Ведь если разумно, то можно и в город на денёк уволиться. Или я не так понимаю? Смеётесь? Давайте, смех дело серьёзное, как сказал один ответственный товарищ, и это правильно: смех — он всё равно как витамин для здоровья. Теперь ещё одно впечатление. У вас тут какие-то дикари объявились, вольные казаки под боком у вас тут гуляют, тайные люди в лесу озоруют. Кто такие? Откуда? На каких правах, так сказать, беспокоят правильный режим и отвлекают ваших ребят? Кто ими занимается? Ну, это — разговор особый, и мы сейчас не будем тратить времени.
Я кончаю, товарищи. Очень радостное впечатление оставляет наш лагерь под руководством товарища Ваганова. И что я вам должен особенно сказать и за это выразить — так это как поют! Верите ли, меня аж до слёз проняло, когда лагерь, как один, пропел народную песню. И очень хорошо, товарищ Шмакин, я давеча пошутил, а ты не понял моей шутки, очень хорошо, говорю, поют ребята, а ты, товарищ Шмакин, хотя, конечно, не Дунаевский, я прошу понять правильно мою шутку, а делаешь большое воспитательное дело и вносишь свою лепту в народное, сказать музыкально-песенное творчество. Ты красней не красней, а я тебе правду говорю, от сердца. Детишкам можно позавидовать, и я, сказать честно, испытал эту самую зависть. Да меня бы в детстве кто в такое дело втянул, петь там научил, гармошку подарил, так разве был бы я как пень необразованный? Да я бы свет лучше видел, красоту понимал, в звуках этих разбирался, душу бы свою грубую облагородил Вы меня извините, а только где я мог культуру эту получить, когда в семье нас семь детей было, простого хлеба не хватало, батьку на войну забрали, а вернулся без ноги, сколько он там в инвалидной артели мог зарабатывать, разве прокормишь голодную ораву? Об музыке ли думать было? Об гармошке ли?
Но оставим, как говорится, личные воспоминания, а теперь давайте вместе подумаем, какая нас ждёт перспектива? Сядем, как говорится, на ракету и полетим в наше ближайшее будущее Жара стоит нынче сильная, в сон вгоняет, и приятно как-то помечтать
СОН ЧЕБУТЫКИНА
Раздвинулись стены, потолок всплыл вверх и превратился в плоское облачко. Все люди, шефы, представители и родители, стоявшие за натянутыми канатами, увидели, как по аллее шествует комиссия, возглавляемая Чебутыкиным. У ворот лагеря полукругом выстроился сводный оркестр, к нему лицом, приподняв локти, как крылья, стоял наизготовку Шмакин. Взмах палочки — и загремел оркестр. Под его звуки заколебались шеренги живых пионеров, а также застыли алебастровые горнисты, барабанщики, знаменосцы, баскетболисты и гребцы, ровной цепочкой вытянувшиеся вдоль дорожек. Подстриженные берёзки, липки и ёлочки росли прямо из асфальта. Огромное асфальтовое поле было заполнено белозубым народом. Обвалились последние звуки сводного оркестра. Комиссия взошла на трибуну. Чеканя шаг, подошёл начальник лагеря и отдал рапорт. Товарищ Чебутыкин от имени комиссии и от себя лично поблагодарил и коротко предупредил, что основную свою речь он скажет на вечернем костре, а пока разрешил закончить линейку. Он, улыбаясь, смотрел в сторону бетонно-стеклянного пищеблока. Оттуда шли поварята, держа на расшитом молотками и серпами полотенце хлеб-соль. Чебутыкин взял каравай, поцеловал корочку, отщипнул скрипучий кусочек пшеничного хлебца, сглотнул и вернул ребятам каравай. Строй рассыпался. Толкаясь, отпихивая друг друга, воронкой крутясь вокруг Чебутыкина, ребята повели шефов в столовую. Там их ожидала бригада поваров и поварих в белоснежных халатах и колпаках. Шефов провели в сумрак зашторенного павильона, где их обдал ветер кондиционеров, и усадили за длинный стол. Прежде чем взяться за обед, полагалось отведать — таков был ритуал — пионерской наливочки, изготовленной из раннелетних сортов смородино-рябиновки, выращенной в юннатской оранжерее. Графинчики и рюмочки, прикрытые салфетками, передавались из рук в руки. Вслед за графинчиками из кухни поплыли по воздуху тарелочки с салатами из свежих помидоров и огурцов, салаты со сметаной и яйцом, салаты из белокочанной капусты с яблоками, затем селёдочка с картофелем, крабы, севрюга, лососина, а также рыбка попроще под маринадом, чесночная колбаска, ветчинка на ломтиках поджаренного хлеба, а уж потом пошли-поехали горячие блюда — рыбный и грибной бульон, сборная солянка, щи зелёные, суп из фасоли с картофелем, шурпа из баранины, суп картофельный с головизною. И всё это шло и ехало под пыхтение холодного кваса, под гул откупориваемых бутылок нарзана
ВАГАНОВ ОТВЕЧАЕТ ЧЕБУТЫКИНУ
Усталые, зачумлённые, все глазели на Чебутыкина, ожидая, когда он проснётся. А он спал и видел сон. И вот, когда молчание стало угрожающим, Чебутыкин очнулся. Он отвёл рукой сон от глаз и, покрываясь лёгким потом тревоги, обратился к Ваганову:
— Ты хотел сказать, Яков Антонович? Может, чего добавишь?
— Да что добавить? — Ваганов встал и покачал спинку стула перед собой, проверив на прочность. — Вы, товарищ Чебутыкин, нарисовали нам замечательную картину, дали полный обзор прошлого, настоящего и наметили перспективу будущего. Добавить что-либо — только портить
Вошла Лариса Ивановна, и на то время, пока она раскланивалась направо и налево, установилась тишина. Посадив её молчаливым взглядом, Ваганов повторил:
— Только портить, товарищ Чебутыкин
— Я извиняюсь за форму, если что не так сказал. Я ото всей души, можно сказать
— От души, от души. — Ваганов вытащил из бокового кармана таблетку, бросил её в рот, разжевал, чуть побледнел, протянул руку. — Подай-ка мне письмо
Чебутыкин пожал плечами, но тут же послушно протянул письмо. Ваганов взял конверт за уголок, держа его, как мышь за хвост, провёл перед глазами на свет, как бы просвечивая рентгеном.
— Знаю я, кто писал. Но пусть этот человек будет спокоен, мы не будем заниматься расследованием пустой этой сплетни.
Ваганов изорвал письмо в клочья, сложил аккуратно в карман и отряхнул руки, и все в это время смотрели на Рустема и Броню, которые сидели рядом и открыто улыбались Ваганову, смотрели на него дружески и любовно.
— Не будем заниматься сплетней, тем более времени у нас и так ушло немало, а мне бы хотелось два слова сказать о впечатлениях товарища Чебутыкина и о перспективах, которые он нам наметил. Я так думаю: с делом, которое мне предлагают — возглавить пансионат для взрослых,— я не справлюсь. Я поеду на днях к директору и предложу на этот почётный пост товарища Чебутыкина — он тут нарисовал нам картину, достойную кисти Айвазовского, и я думаю,.лучшего кандидата, чем автор, мы не найдём. Теперь о детях. Я сорок лет работаю с детьми, но, видно, бездарен. Товарищ Чебутыкин знает детей лучше, чем я. И ему больше подходит пост начальника лагеря, чем мне. Под руководством товарища Чебутыкина дети будут жить и набирать вес и здоровье, а не бегать, лоботрясничать и бог знает чем заниматься, как это делается у меня. Вам, товарищ Чебутыкин, хочется, чтобы всё делалось по линейке, по сигналу, по звонку. Что ж, я вас понимаю, в этом есть своя красота, своя эстетика, так сказать. Вот вы и возьмёте лагерь под своё мудрое руководство, разведёте по всем дорожкам асфальт, по бокам поставите статуи Венер с ракетками, амуров в галстуках и Аполлонов с вёслами — по лучшим образцам дворянских поместий восемнадцатого века. Почему дворяне могли себе позволить такую шикарную жизнь, а дети рабочих, крестьян и служащих нет? Чем они хуже? Пускай здесь понастроят фонтаны, понаставят беседки и павильоны, вытопчем все полянки и лужайки — создадим на их месте асфальтовый рай И чтобы, когда идёшь по аллее, тебя встречали ребята не криком, беготнёй и суетой, а проходили солдатики, козыряли и кланялись. Спасибо за честь, товарищ Чебутыкин, но в таком лагере начальником будете вы, а не я, а я я всё это уже видел
Глаза у Ваганова закрылись, он зашарил рукой по груди
— Я всё это Янек! Янек, иди сюда, кому говорят!
В клубе поднялся переполох. К Ваганову бросилась Лариса Ивановна и ещё несколько человек.
— Да что ты, Яков Антонович, да бог с тобой! Да я ах ты да знаешь давно
Чебутыкин хватал Ваганова за руку, но Ваганов не видел его. Лариса Ивановна сильно тёрла его за ушами, гладила, как маленького, и нежно приговаривала:
— Всё в порядке, Яша, он уже дома Он спрятался в чулан. А, вот он сбросил там что-то с полки, кажется, банку, — Лариса Ивановна повернулась к Чебутыкину, уронившему кружку с водой: — Ты слышишь, он
сбросил банку с полки! — И, перейдя на шёпот: — Что ты уставился на меня, дядя? Красивых женщин не видел? Не знаешь, как у людей бывают сердечные приступы? О господи!
— Расходитесь, товарищи! Расходитесь!
Все покинули клуб. Остались только Лариса Ивановна, Рустем и Броня. Яков Антонович лежал на скамейке — голова у жены на коленях и тяжко посапывал. Она тёрла ему виски, сосредоточенно и нежно, словно отгоняя от ребёнка тяжёлый сон. В окнах — то в одном, то в другом — появлялись испуганные ребячьи лица
Глава 6
« ПАН ДИРЕКТОР »
С ВЫСОТЫ ПРОЛЁТКИ
[1 «Пан директор» — глава, представляющая собой приложение к повести, посвящённое прошлому Якова Антоновича Ваганова. В середине повести места ей не нашлось по причине композиционного свойства — она слишком выпирала бы там и мешала действию. Это обстоятельство заставило нас даже усомниться: а нужна ли она вообще? Но всё же мы не решились опустить её, подумав, что, возможно, иным из читателей небезынтересно будет узнать, как формировалась личность Ваганова — фигуры примечательной и не совсем обычной для педагогики. Человек в высшей степени достойный и скромный, он был бы, наверно, смущён, если бы узнал, что в нём видят чуть ли не главного героя. Вот почему мы и решили прошлое его вынести как бы за скобки, отведя ей роль второстепенную, хотя в то же время и важную для понимания личности Ваганова, а также и повести в целом.]
— Пан директор! Пан директор! Пан директор!
— Проше пана!
— Дзенкуе пану!
— Тут бендзе кабинет пана!
— Проше пана, ото ключи!
— Есть у пана паненка?
Пан! Пан! Пан! Что за пан? Откуда пан? Что ещё за пан такой? Это не ты ли, Яшка, худоба и голодранец, стал вдруг важным паном? Не тебе ли кланяются, подобострастно величая паном? Да, кажется, здесь нет ошибки. Ты действительно стал важной птицей. И это факт, если ты завёл уже собственный выезд. Жаль, что этого зрелища не увидят твои родители.
Как был бы счастлив твой отец, увидев такой шикарный выезд, прохвост ты этакий, мазурик! Старик утёр бы нос богачам с Нахичеванской стороны: посмотрите на этот панский выезд, господа, а теперь можете сдохнуть от зависти! Можете спрятать подальше своих толстых дочерей, мы найдём для себя что-нибудь поизящнее, чем ваши раскормленные утки! Вы только получше рассмотрите этого сытого, в яблоках коня и кучера в цилиндре! Рассмотрели? А теперь можете сдохнуть от зависти! У мамочки просто сердце не выдержало бы от цилиндра с пером на твоём кучере, который сидит на козлах так высоко, что может заглядывать в окна вторых этажей и замечать всё, что творится в кухнях и спальнях. Но кучеру сейчас не до кухонь и спален — он везёт пана Ваганова и смотрит только вперёд, чтобы, не дай бог, не наехать на ротозея и не повредить пану Ваганову. Не дай бог! Не дай бог обеспокоить его!
Развалясь на мягких подушках пролётки, пан Ваганов катается по оживлённым улицам и переулкам города. Для полного парада ему действительно не хватает одного — увидеть вашу радость, дорогие родители! Ваше родительское сердце, не знающее границ в заботах о счастье единственного сына, проглотило бы все обиды и несчастья, которые сыпались на вас по милости вашего шалопая. Он не думал о вашей старости, о ваших трудах и лишениях, когда ушёл из дому — куда? Один бог знает куда, если бог только есть. Сын ваш, не оставив своего нового адреса, уехал от вас. И уехал, как выяснилось, навсегда, потому что больше вы не видели его. Вы даже не пытались искать его. Разве наше государство такое уж маленькое, чтобы в нём не было места, где можно упрятаться от старых родителей? Но всё равно вы бы простили своего сына, увидев его в такой шикарной пролётке
Но вас уже нет в живых, дорогие папочка и мамочка. Бог прибрал вас в одну неделю. А чем сын отплатит вам за вашу чистую родительскую любовь? О вашей смерти он узнал несколько лет спустя, проезжая город с колонной Автодора. Красная повязка на рукаве и бант на груди свидетельствовали, что Яшка был не кто-нибудь — он был агитатор! Он выступал на базарах, призывая расстаться с вековечной привычкой к оседлости и сесть за руль. Он был хороший оратор, Яшка! Иные таки узнавали в нём бывшего фармазона, но сам он никого не узнавал. Что же вы думаете? Он не мог выкроить время, чтобы разыскать могилку родителей и оросить её сыновней слезой! Автоколонна прошелестела мимо кладбища и укатила в степь, навстречу гулу времени. Дни были такие, что не до родителей, — время мчалось с курьерской скоростью, надо было торопиться и не отставать. Так и не суждено было увидеть папочке и мамочке, как их сын стал паном и раскатывает сейчас по улицам города, глазея по сторонам.
А глазеть было на что! Все жители высыпали на улицы. Никто не сидел по домам. Не только молодёжь, но даже старики и старухи вышли встречать красные войска. Мальчишки бежали за бойцами, размахивая флажками, как саблями. А когда на лёгких рысях вступила конница, а вслед за ней колонна лёгких танков, так это была картина! Даже больные встали с постелей и подползли к окнам и махали руками. Бойцов забрасывали цветами, словно это были артисты, а девушки — грех сказать! — целовали этих скуластых, белокурых, веснушчатых танкистов, как своих женихов. Э, что там говорить — все были рады! Даже лавочники нацепили на себя малиновые банты, а хозяева винных ларьков приглашали всех желающих отведать кислого гуцульского вина. Виданное ли дело, бесплатно угощать вином и терпеть такие убытки!
Весь день, пан Яшка, ты ездил в своей пролётке и глазел на красивых девушек, мелькавших в толпе, как яркие цветы. Весь день ты то и дело кого-нибудь подсаживал к себе, и это были главным образом мальчишки, желавшие увидеть уличную кутерьму с высоты второго этажа. Ты подсаживал их, ибо тебе одному было слишком просторно в своей пролётке, а сердце у тебя было широкое, как это людское половодье. Ты подсаживал мальчишек, потому что им на улицах было слишком низко, им надо было только сверху смотреть на этот весёлый кавардак и кричать, изображая из себя важных бар. Ах, эти бары, которые вдруг испарились, как привидения! В замогильном сумраке старой жизни засверкал прожектор, вам стало невмочь, и вы разбежались, как тараканы, от света новой жизни
Тебя то и дело останавливали, пан Ваганов, и просили зайти. Что поделаешь, надо уважать хозяев, угощающих от чистого сердца. Молодого, стянутого ремнями, скрипучего и улыбающегося, всем своим видом воплощающего доброту новой власти, тебя хотели непременно напоить во всех подвалах. Сперва сверху,, с птичьей высоты пролётки, потом из прохладных глубин погребов ты познакомился с городом, с его витиеватыми переулочками, с его стройными проспектами позднеклассической архитектуры.
КАК СПАЛИ ЦАРИ
Ты смутно помнишь, что было дальше. Ночью тебя привезли к воротам, и сторож, гремя ключами, закрыл их, а тебя повёл за собой привратник, освещая путь фонарём. Тусклые коридоры освещались керосиновыми фонарями, вы шли монастырскими переходами, со стен тебя провожали безумные глаза святых, и ты невольно оглядывался, следуя за привратником, который вёл тебя в покои бывшего директора Плучека. Словно вытолкнутый на сцену, ты очутился в просторных покоях и увидел женщину в белом халате.
— Вечер добрый, пан Ваганов
Это была кастелянша, стелившая на сон грядущий постель. Этой постели, на которой можно было уложить кавалерийский эскадрон, предстояло теперь служить твоим ложем, пан Ваганов. По ночам теперь ты сможешь отогревать на нём свои тощие комсомольские бока. Ты смотрел на гору подушек и мигающий ночник, на вазу с фруктами, не понимая, что это и для кого. Кланяясь, женщина пожелала тебе спокойной ночи и удалилась, звякнув ключами. Всё это было похоже на китайское представление. Дверь затворилась, но ты, новоиспечённый пан, всё ещё стоял перед постелью бывшего пана директора Плучека, так и не пожелавшего дождаться прихода Красной Армии и вместе с женой и дочерьми убежавшего в рай, имевший европейский адрес. Ты чувствовал себя так, словно случайно попал в царскую опочивальню, и подумал при этом, что неплохо-таки спали цари и что такую опочивальню сохранить бы навек и показывать трудящимся, чтобы они видели собственными глазами, как когда-то усердно и мягко спали цари. Ты стоял, пока в твоей голове не утих шум городской толпы, а потом еле добрался до плюшевой софы у входа, вовсе не рассчитанной на то, чтобы на ней спали, но тебе, Яша, знавшему тепло парусиновых коек колонии, мягкость вагонных крыш, простор вагонных буферов и уют угольных ящиков — королевских удобств беспризорников, — тебе не привыкать было спать в скрюченном виде. Стянув с себя брезентовые сапоги, ты прекрасно уместился на короткой софе, укрывшись роскошной гардиной. Ты так и не прикоснулся к постели, на которой мог бы уместиться кавалерийский эскадрон. И спал, спал вечность и один миг, пока усталость прожитого дня не перебродила в твоём молодом теле, и ты проснулся от того, что чихнул, и сам себя поздравил.
Ты распахнул тяжёлые шторы, и свет хлынул в глаза от ярмарочной панорамы, раскинувшейся внизу. Город переливался под тобой черепичными крышами, шпилями своих костёлов, колоннадами прямых проспектов и сбегающими вниз ручейками кривых переулков. Было ещё раннее утро, но дворники уже трудились, прибирая следы вчерашнего праздника — цветы, флажки, бумажные свёртки, серпантин и конфетти. Хозяйки с сумками спешили на базар, куда стекались фургоны, тележки и тачки с провизией из окрестных сел и хуторов. Всё это ты увидел, пан Ваганов, сидя на подоконнике и попыхивая папиросой «Ява», которую ты бережно — после затяжки — клал на цветочный горшок, чтобы закусить сливой. Вчера, с высоты пролётки, город казался тебе праздничным балаганом, сейчас это был город дворников и домохозяек, монахов и монашек, грузчиков и шофёров, продавцов и покупателей — простой и довольно тихий город европейской провинции, в котором тебе предстояло жить, пан Ваганов, исполняя обязанности директора приюта, доставшегося в наследство от панской Польши
ПАН ДИРЕКТОР ПРИНИМАЕТ ДЕЛА
Это был странный приют, в котором почти не видно было детей. Они изредка появлялись из каких-то тёмных закоулков и замирали в полупоклоне, но тут же исчезали, просачиваясь сквозь стены. Это были дети-привидения, дети-тени. В первый день своего пребывания в приюте ты так и не смог рассмотреть их, новоиспечённый пан директор. Стриженые, одинаковые, в балахонах до пят, похожие на послушников, они мелькали, как летучие мыши, беззвучные и неразличимые в сумерках длинных коридоров. Ты не слышал ни смеха, ни плача, ни топота, ни криков — всего того, без чего не бывает детства.
В тот день, впрочем, тебе было не до ребят. Тебе в тот день и без того хватало хлопот. Ты принимал хозяйство, и одна за другой перед тобой раскрывались двери кладовок и бельевых, набитых стоптанной обувью, тряпьём, пропахшим пылью и грязью немытых тел. И ещё замки, и ещё двери, и ещё замки, и ещё двери. Ворвань, мясо, распяленные туши, мешки, мешки, мешки. В детском приюте была своя конюшня, своя пекарня, погреба, кузня, швейная, коптильня и даже собственная тюрьма. И всё это обширное хозяйство, доставшееся приюту в наследство от монастыря, поступало теперь в твоё распоряжение, пан Ваганов.
Помнишь ли ты, как закончился твой первый трудовой день? Ты уже задыхался от дурного воздуха и рвался выскочить на улицу, чтобы проветрить лёгкие, как вдруг перед тобой вырос смотритель, плешивый старичок с мёртвыми, слезящимися глазами, и провёл тебя к резному шкафу. Сперва ты ничего не понял. Ты подумал, что тебя снова привели на конюшню, где ты уже был. За тусклыми стёклами шкафа переливались пёстрые плети. Глаза тебя не обманывали — это были действительно плети.
— Ключи передать вам, — спросил смотритель, — или они останутся у нас?
Из шкафа несло кожевенной лавкой. На перекладине гроздьями свисали плётки — толстые, витые, тонкие, совсем тонкие. Ты, Яшка Ваганов, отныне руководитель советского детского дома, стоял, сконфуженно посапывая своим пеликаньим носом, не зная, что сказать смотрителю: ведь это было хозяйство конюха, весь набор кнутов, хлыстов и нагаек. Это была, быть может, собственность жокея, которой не было бы цены на ипподроме, а тебе предлагали ключи от шкафа, и он почему-то стоял не в конюшне. Ты пожал плечами и усмехнулся.
— Так отдайте конюху, — сказал ты и, выбрав одну из плёток, хлестанул по сапогу. — Прекрасная коллекция, пан Модзелевский. Но я, пан Модзелевский, с детства боюсь коней. И ни разу не сидел верхом. Так вы отдайте ключи
— Не, пан Ваганов, то не конское то для битья
— Что такое?
Пан Модзелевский замялся. Он заелозил языком в беззубом рту, покатал там слово и выплюнул его, как кожуру от яблока, которое зубы не могли уже прожевать.
— То для детской экзекуции.
Так ты узнавал тайны зарубежной педагогики. Но ключи ты всё-таки забрал. Ты решил сохранить уникальный шкаф с коллекцией плёток, собранной когда-то страстным лошадником, а потом превращённой в прикладное средство педагогики. Это надо было сохранить в назидание потомкам — гражданам коммунистического будущего, пусть они знают, как воспитывали детей проклятого прошлого. Ты решил оставить коллекцию при себе. И ты ещё не раз в изумлении останавливался перед шкафом и задумчиво любовался коллекцией, подобранной с большим вкусом и пониманием. Плети радовали глаз ажурным плетением, законченностью пропорций — витые, длинные, короткие, округлые, плоские, скользкие, ребристые, разных цветов, они выглядели как драгоценные украшения для женщин. Они так взволновали тебя, что даже приснились. Может быть,. ты забыл уже сон? Разве ты не помнишь свой красивый сон, как тебя, раздетого, прогоняли сквозь строй, а по сторонам стоял один пан Модзелевский, и другой пан Модзелевский, и третий пан Модзелевский — пан,издан-ный тиражом в целую роту, две шеренги Модзелевских с поднятыми плётками, а тебя, комсомолец Яшка, сзади толкал ещё один пан. Модзелевский, а все прочие Модзелевские, стоявшие по сторонам, одинаково пожёвывая запавшими ртами, устало опускали на твою костлявую спину, Яшка, эти красивые плети
Назавтра ты вызвал пана Модзелевского.
— Пан Модзелевский, — спросил ты его, — какая у вас специальность?
— Оцо пану ходзи?
— Вы понимаете русский язык или мне придётся нанять переводчика?
— Переводчика не надо, я всё разумию Специальность моя, — глаза его испуганно забегали, — смотритель при дитячьем приюте
— Я вас не об этом спрашиваю, пан Модзелевский. Ну вот, скажем, умеете вы шить, столярничать, сапоги тачать? Может, часовое дело знаете?
— О нет! — просиял пан Модзелевский. — Я знал как это сказать книжки переплетать
— Переплётчик? И давно бросили это дело?
— О, давно! Как есть ещё мутер унд фатер, как он ещё имел мастерская, но потом разорился, а я ушёл цум бауэр
Смотритель почему-то принимал тебя, Яшка, за немца и усиленно приспосабливал к этому обстоятельству свою речь.
— У вас не сохранилось, пан Модзелевский, что-нибудь из переплётного оборудования — ну, там, скажем, станок, материалы какие-нибудь?
— Есть маленький станок, хранится в чулан, каковой храню на память о покойном фатер
— Подумайте, пан Модзелевский, вот о чём: нельзя ли будет наладить в детском доме переплётную мастерскую?
— О, зачем это? — испугался смотритель. — Зачем это книги переплетать? Библиотек наш небольшой, и книги переплетать нет особо
— Я и сам не знаю, зачем, только смотритель детскому дому больше не нужен
— Я верой и правдой служил пану Плучеку Я честный человек
У меня от пана Плучека благодарность — Пан Модзелевский вытащил из брючного кармашка золотые часы, швейцарские часы Лонжин, — ходят пунктуально в минут и секунд, пан Ваганов. Я вам и вашей власти буду служить верой и правдой
По пергаментным щекам пана Модзелевского потекли стеариновые слёзы. Это были слёзы старого, несчастного человека, не виновного, что жизнь сложилась так, что он не имел специальности, даже не владел переплётным делом, которым кормился отец. Но ты, Яшка, был молод, твёрд сердцем, и слова старика не изменили твоего решения. Назавтра пану Модзелевскому пришлось сдать тебе ключи, а сам он был отстранён от дела. Ревизии был подвергнут весь приютский персонал, а его оказалось видимо-невидимо. Приют представлял собой что-то вроде смешанной богадельни, где вместе с детьми проживали многочисленные старушки — бывшие воспитательницы, гувернантки, среди них была даже бывшая фрейлина её величества императрицы Марии Фёдоровны, заброшенная сюда последней волной эмиграции, а также огромная дворня — прачки, конюхи, повара, кастелянши, садоводы, скотники, уборщики и воспитатели. Это был целый сонм людей, живших за счёт чьей-то благотворительности, и тебе пришлось несколько дней расспрашивать, но всё же ты так и не смог выяснить тёмные источники их существования. Тебе-таки пришлось попариться, соображая, что отобрать из этого старья, кого уволить, а кого оставить. Ты искал кадры для будущих мастерских, вступал в контакты с местными властями, толкался на предприятиях, подыскивал мастеров по труду. А пока ты бегал, уговаривал, ругался, из приюта стали исчезать старички и старушки. Новая власть оказалась не по их старым зубам. Но где было взять новых воспитателей?
ПРИЗРАКИ
Разобравшись с обслуживающим персоналом, ты стал захаживать к детям. Трудно было, не зная языка, но через несколько дней с грехом пополам ты уже мог объясняться. С твоим приходом дети замирали как истуканы. Порой ты заставал их за молитвой, но и молиться при тебе они не могли — за прикрытыми их глазами таился ужас. Ты думал, наверно, что это просто — расшевелить мёртвое царство, но через несколько дней ты пришёл в отчаяние. И тогда тебе пришла спасительная мысль — попросить прислать из стоявшей за городом воинской части несколько красноармейцев. И вот что ты сделал — взял в части грузовую машину, погрузил в неё вместе с ребятами стряпуху, провизию и вывез за город, в дубраву, на речку. И как же ты был изумлён, пан директор, привыкший к нормальным шумным детям, как же ты был изумлён, увидев растерянность ребят, испугавшихся воздуха, солнца и травы! Где вас подобрали, заморыши, из каких выгребных ям захолустья откопали вас? Радовались ли вы раньше? Смеялись ли когда-нибудь? В длинных балахонах, в тяжёлых башмаках, приютские бродили, стояли, зевали, робко оглядывались, не смея вступить в игру и завязать отношения. Красноармейцы пытались расшевелить их, затеяли футбол, но мальчики бегали за мячом, смущаясь и боязливо останавливаясь перед ним. Игра не получалась. Тогда ребят разбили на две группы, заставили их тянуть канат в разные стороны, но и эта игра не расшевелила их. И сколько же надо было вогнать в них страха, чтобы превратить их в вялых, трусливых старичков! В конце концов красноармейцы, махнув на приютских рукой, присоединились к группе местной молодёжи, игравшей в волейбол. Робкое, несмелое оживление вызвала у ребят только еда. Но и здесь — распорядок, чинность, послушание. Ни криков, ни толкотни, ни оживления, — только молча протянутые руки и благодарные кивки. Вот с какой дикостью ты столкнулся в двадцатом веке, в центре Европы! В сравнении с этой средневековой богадельней даже приют, в который попал Оливер Твист, выглядел игралищем жизни и страстей. Экое же скопище покорных мокриц досталось тебе, пан директор!
ЯНЕК ГАЛЧИНСКИЙ
Кажется, с этой воскресной вылазки ты стал от других отличать Янека Галчинского, щуплого мальчишку, пытливо глядевшего на тебя издалека. Собственно, этот взгляд и выделял его среди других, — какой-то напряжённый, умный, изучающий взгляд, в котором любопытство оказалось сильнее страха. Мальчик преследовал тебя неотступно и ходил вслед, словно на верёвочке, останавливаясь в отдалении и наблюдая за тобой. Боязливость вскоре ушла из его глаз, теперь это были просто живые, любопытные мальчишечьи глаза, смотревшие на тебя заворожённо, как на фокусника. Ты помнишь несмелую улыбку на лице мальчика? Это была странная какая-то улыбка — не улыбка, а голодный оскал котёнка, готового драться за косточку. Улыбка эта, обнажавшая зубы с насечками, малосимпатичная поначалу, была всё же первая улыбка, которую ты увидел, и ты недолго думая подошёл к нему, спросил, как его зовут, и назначил своим адъютантом. И когда ты сказал ему, чтобы он собрал ребят, натаскал воды и помыл машину, то он долго не понимал, что от него хотят. Потом он понял, показал пальцем на одного из мальчиков, на другого, как бы спрашивая: «Можно и его? И его?» Он собрал ребят, и они с усердием стали таскать воду, остальные же стояли, не пытаясь включиться, ибо не было приказания, и смотрели с тупым любопытством посторонних, как работает Янек со своей бригадой, а когда с мытьём машины было покончено, Янек подбежал к тебе и сбивчиво доложил о выполнении задания. И вот опять, как на верёвочке, он потянулся за тобой, и глаза его горели усердием работы и ожиданием новых поручений. Теперь в улыбке Янека, напоминавшей голодный оскал котёнка, ты увидел живой огонёк неубитого мальчишества. С тех пор, пан директор, тебя всегда встречала эта щербатая улыбка. Мальчишка оживал на твоих глазах и становился личностью.
Однажды ты схватил Янека за руку и повёл к себе в кабинет. Ты посадил его в кресло напротив себя и сказал:
— Ты Янек Галчинский, а я Янек Ваганов, мы, стало быть, тёзки. Тебе двенадцать лет, а мне двадцать с гаком, разница не так велика. Так вот, Янек, я коммунист, а ты мог бы стать пионером. Ты знаешь, что такое пионер? Не знаешь? Но что такое большевик, ты, наверно, слыхал?
Вот так и стал ты, Яков Ваганов, обучать мальчика политграмоте — так, как ты понимал её сам, — и объяснять, что коммунисты, комсомольцы и пионеры — это большевики, а большевики — это от слова «большой», «великий», «великанский», и что все они дети революции и Советской власти, а теперь она будет и его, Янека, властью. А что такое Советская власть? Ты поведал ему о своём глубочайшем убеждении, что Советская власть — это прежде всего счастливые дети, а счастливые дети — это дети, которые смеются А вот в приюте, заметил ты, что-то не видно, чтобы дети смеялись. Правда, Янек умеет улыбаться, но Янек самый шустрый среди ребят, а надо, чтобы и другие улыбались. К чему ты завёл с мальчиком весь этот разговор? А к тому, чтобы он понял, что советские люди пришли сюда не для того, чтобы жизнь продолжалась так, как она шла здесь при панах. Они пришли сюда, чтобы изменить здесь скучную жизнь. И если Янек не всё ещё понимает, то пройдёт какое-то время, и он во всём разберётся, а вот он, Ваганов, в их тёмной жизни ещё очень мало смыслит Отчего ребята так запуганы и боятся смело смотреть людям в глаза? Не оттого ли, что их запугали церковными сказками? Нет, он, Ваганов, не хочет сказать: скорей расставайся с этими сказками. Янек когда-нибудь сам поймёт, что бог может жить только в тёмных душах, куда не проникает свет. Но советские люди для того и пришли сюда, чтобы распахнуть свет, а бог и все его святые не терпят света, у них от света начинаются корчи и обмороки. И вот, когда вокруг посветлеет, когда свет прольётся в их приютские души, бог сам поймёт, что делать ему здесь нечего, и уйдёт восвояси. Сильных, весёлых людей он боится, как огня, потому что бог им нужен, как рыбе зонтик. Как он думает, Янек,— рыбам нужен зонтик? Бог ищет слабых, а слабые люди — это забитые люди, им нужен бог, потому что они не верят в свои силы. Так вот, есть надежда, что он, Янек, и все приютские тоже станут сильными и прогонят бога и его святых к чёртовой бабушке. К чему это он всё говорит Янеку? А к тому, что скоро Янек поумнеет и скажет ему: «Ага, я теперь знаю, кто ты есть, боженька, тебя придумали очень хитрые люди, чтобы дурачить меня, как маленького, но я не из таковских, я, может быть, хитрее вас!» Он, Янек, придёт к этому так же неизбежно, как к этому пришёл когда-то Яков Ваганов. Может быть, Янек думает, что ему не пришлось нянькаться с богом? Как бы не так! Ему тоже в детстве подсунули боженьку, подсунули вместе с молочком и хлебом, что он ел, и внушали, что это не просто молочко, а божье молочко, и не просто хлеб, а божий хлеб, и что всё вокруг — и трава, по которой он бегал, это божья трава, и звёзды, на которые он смотрел своими глупыми глазами, это божьи звёзды. И только лет в тринадцать он понял, что его дурачат все — и отец с матерью, и тёмные тётки и дядья, а их, в свою очередь, дурачит кое-кто похитрее. И вот, когда он, Яшка, понял, что его дурачат, он сказал богу, а заодно и дорогим родителям: прощайте, ауфвидерзеен, или, как это говорят по-польски: до видзення! Он сказал им: не поминайте лихом, сел на буфер вагона и проделал очень полезное путешествие по стране, получив хорошие знания в географии, знания, которые крепко сидят ещё до сих пор в голове, потому что он узнал их не по скучным учебникам, а по железным дорогам, вокзалам, базарам, милициям, воровским малинам и колониям Но это долгая история, и, если Янеку охота, он проведёт с ним когда-нибудь несколько интересных бесед по географии, как он её знает. А сейчас он хочет сказать, что вот уже столько лет, как расстался с богом, однако ничего с ним не случилось, он жив и здоров и совсем неплохо выглядит, не знает ни золотухи, ни трахомы, ни парши, хотя у приютских при их боге немало всяких болезней, и ему ещё придётся поискать для них врача и установить, отчего у них такие синюшные лица и тощие животы. И вот, когда наконец Янек наберётся храбрости сказать своему богу, как это сделал когда-то он, Яшка Ваганов: «До видзення, старче!» — вот тогда пусть он приходит к своему директору поговорить о пионерских делах. Может, вместе они и решат тогда, как сделать так, чтобы в детском доме появились пионеры. И Янек, может быть, станет первым пионером на всей освобождённой земле
ЯНЕК ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
Янек Галчинский пришёл к тебе через день, но улыбки не было на его лице. Запинаясь, он стал рассказывать, что в часовне отпевают покойницу и что это не так, а что-то другое, потому что он видел, как в гроб клали что-то совсем не похожее на покойницу. Янек толком не мог объяснить, ужас струился из его глаз, и видно было, что твои разговоры о боге были пустыми — бог стал ещё страшнее и висел над смятенной душою ребёнка, вездесущий и ужасный, как рок. Ты не стал вникать в путаные объяснения Янека, — ты быстро натянул сапоги, проверил пистолет, вставил в него свежую обойму и, взяв мальчишку за руку, повёл его подвалами монастыря. Какие-то тени, змеясь, уползали в панике, исчезали в стенах, рука Янека в твоей руке дрожала, худенькая, тонкая, мягкая рука двенадцатилетнего дистрофика. Ты с гордостью думал: «Аи молодец, Янек, ты делаешь первые успехи! Вот ты уже празднуешь первую победу над своим страхом и бросаешь перчатку богу и его тёмным слугам. И я очень рад за тебя, пан Ваганов, что наконец-то тебе выпадает живое дело и что тебе дали эту пушку не для того, чтобы ты щеголял ею, завлекая девушек, а для того, чтобы попугать крыс подземелья».
Янек довёл тебя до тёмных ступеней, и дальше, скользя рукой по стене, ты шёл, пока не упёрся в дверь,, и Янек прошептал:
— Ото они тутай
Ты помнишь, как Янек отпрянул и прижался к стене, помнишь, как ты постучал в дверь и долго прислушивался к замирающим подземным гулам. За дверью таилась тишина. Когда терпение твоё кончалось, а слух напрягся так, что ты мог услышать шум собственной крови, изнутри послышался скрип. Потом с тихим визгом открылась дверь, и на пороге выросла старая мышь со свечой в руке, и ты увидел, что в нише стоит пан Модзе-левский, которого ты уже не числил в штатах приюта. Он щурился, не видя тебя в темноте, свет от свечи пятнами растекался по стене, в которую вжался распятый Янек с глазами, остекленевшими от ужаса. Ты не стал тащить его за собой — он сделал всё, что мог, и даже больше: он проложил путь к своему освобождению от бога, а это больше, чем можно было ждать от него. Ты вошёл один в темницу и оставил дверь открытой. Ты хорошо разглядел живую копию с «Тайной вечери» — четыре свечи на столе и несколько чёрных старцев, в иных из которых ты узнал тёмных служителей приюта, длинной чередой прошедших перед тобой в эти дни. Ты не заметил, когда они запели. Пели ли они до того, как распахнулась дверь, или запели, как только она распахнулась? Они тянули гнусавыми голосами заупокойную молитву, и ты замер, охваченный таинством смерти, ибо в смерти есть что-то вещее и заставляющее себя уважать.
Да, ты не обманулся и сразу понял, что в гробу не покойник, а что-то другое. Ты хорошенько огляделся, вникая в эти стелющиеся голоса, в эти скользящие мимо взгляды, в эти мёртвые лица. Тебе показалось, что ты попал на тот свет, здесь всё было не от жизни — и этот помаргивающий свет свечей, и эти летучие тени, они изламывались наверху и расползались на потолке, как сырые подтёки, и эти голоса, что сочились из стен. В дальнем углу темницы стоял на коленях широкоплечий служитель; руки его, сжатые лодочкой перед лицом, разделили лицо на две половинки, и каждая половинка отдельно следила за тобой, пан директор. Ты не любил смерть, ты не думал о покойниках, смерть для тебя не существовала. Но раз ты столкнулся с ней нос к носу, надо оказать ей почтение, на какое ты только способен. И ты, доверяясь своему верхнему, тайному чутью, занёс руку над головой и сотворил крёстный знак жестом, ещё не забытым с детства.
Это было странное отпевание. Покойницу отпевали, не открывая лица. Спины были согнуты в молитве, а глаза напряжённо сверкали из-под бровей. Да, Яшка, тебе не пришлось освятиться в купели гражданской войны — не привелось тебе скакать в коннице Азова, с бойцами Фрунзе переходить Сиваш и штурмовать эсеров на Кронштадтском льду. Не вышли твои годы, когда лучшие люди народа бились насмерть с врагами, обильно поливая землю своей кровью. Ты не угадал родиться в срок, и судьба не дала тебе случай гонять по степям банды Щуся и Хруцкого. Но есть правда на земле! Тебя не забывали, Яшка, на всемирном бану, и вот он, твой случай, взять у судьбы-индейки реванш, схватить жар-птицу за хвост и вырвать красивое перо. Только смотри не упусти свой шанс. Ещё остались на твою долю скорпионы и гидры. Только смотри не продешеви. Если тебе придётся расстаться со своей молодой, ещё не до конца распробованной жизнью, то не будь лопухом и возьми за неё как можно дороже. Хорошенько осмотрись и узнай, с кем имеешь дело. Разгляди все фигуры на шахматной доске и крепко подумай, прежде чем сделать свой первый ход. И прежде всего рассмотри, кто здесь ферзь, а кто пешки.
И вот тогда ты, Яшка, коммунист, забыв про свою партийную клятву, перекрестился раз, ещё раз и ещё раз. Ты действовал, как хитрый лицедей. Ты крестился так, будто всю жизнь только и делал, что с молитвой на устах провожал покойников в их последний путь. Ты изобразил на своём лице печаль и смирение, ты закатил глаза и пробормотал по-армянски, на языке, который ты ещё не совсем забыл: «Дай бог мне выбраться из этой заварухи, и я тебе поставлю свечку, большую, как кочерга!» Ты забормотал чепуху, которая приходила в голову, остатки каких-то молитв, которые сохранила тебе память.
Твоя истовая молитва произвела впечатление. Всё, что угодно, но эти мыши никак не ожидали, что ты, коммунист, пришедший оттуда, где рушат церкви и возводят заводы, что ты, богохульник, будешь молиться перед ликом смерти. Это был блестящий экспромт. Пока ты молился, ты хорошо рассмотрел дальний угол, где стоял на коленях дюжий молодец. Пока ты тянул время, ты успел хорошо продумать прискорбный факт тайного отпевания и смысл испуганного лепета Янека.
ГРАНДИОЗНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
Отмолившись, ты огляделся и подался к пану Модзелевскому:
— Не понадобится ли вам, пан Модзелевский, какая-нибудь помощь с похоронами?
— Нет, нет, пан Ваганов, бедная старушка уже имеет своё место на кладбище. Она завещала похоронить себя рядом с почившим в бозе паном Сквалынским, покойным её мужем, царствие им небесное, наконец-то они воссоединились
— Осмелюсь, пан Модзелевский, просить вас об одном: поступить так, как вы всегда делали, и если дети участвовали в похоронах, то пусть будет и на этот раз, как всегда
— Благодарю вас, пан директор, очень благодарю Мы думали, что раз настали новые порядки, то уже старым порядкам пришёл конец, но если вы разрешите
О, Яшка, ты задумал грандиозный спектакль! Тебе бы позавидовал сам Станиславский, жаль только, что о твоём спектакле никто из достойных людей не узнает. Но всё же ты испытал настоящее вдохновение!
На следующий день ребят вывели после завтрака. Сам пан Модзелевский смотрел, как их построили. Когда длинная цепочка потянулась за погребальными дрожками, на которых восседал кучер в цилиндре и кони мерно ступали по мостовой, звякая сбруей, прохожие останавливались и крестились, наблюдая за процессией, так напоминавшей город недавней поры.
В те солнечные предосенние дни на бульварах ещё полыхала летняя зелень и так сильно хватали за сердце первые красные листочки осени. В те дни смерть забилась в глубокие щели и никто — даже дряхлые старики, забывшие умереть, — не думал о смерти. Это была первая после освобождения погребальная процессия, и странным показалось, что у кладбищенских ворот процессию встретил военный оркестр. Пан Модзелевский и тот, другой, широкоплечий, что сверкал из угла тяжёлыми глазами, переглянулись.
— Кого-нибудь из начальства хоронят, — сказал ты, и процессия проследовала к часовне, едва заметной среди деревьев за частоколом надгробий.
Но что это? Военный оркестр увязался за процессией и молчаливым строем прошествовал за погребальными дрожками. У самой часовни вперёд вышел капельмейстер и дал команду — музыканты оттеснили монахов и осторожно взялись за гроб. И тут все увидели — молодые, сильные музыканты покраснели от натуги, и толпу, набившуюся возле часовни, охватило волнение. Монахи заметались было к выходу, но музыканты уже стояли начеку, не давая никому уйти. Когда гроб внесли в часовню, капельмейстер дал знак — музыканты отодрали крышку. Вместо покойницы, вместо запавших щёк и провалившихся височных впадин, вместо сложенных рук на груди, вместо живых цветов все, кто толпился в часовне, все увидели последний акт поставленной тобой комедии. Комедии? Это была комедия, которая стала трагедией, Яшка, но тогда ещё, глядя на заблестевшие глаза ребят, на поникшие фигуры монахов, на спокойные и деловые лица музыкантов, невозмутимых, как суд истории, ты не знал, не предвидел того, что произошло дальше.
О, это была богатая покойница! На тот свет она взяла с собой немало добра. И чего там только не было. Правда, непонятно, зачем ей, скажем, на том свете тяжёлый серебряный сервиз? Или эти сверкающие красным золотом церковные оклады? Это было неплохое приданое для пани Сквалынской, собранное со стен монастыря. Она решила хорошо обставить себе загробную жизнь, пани Сквалынская. Вот только одно непонятно: зачем ей понадобился маузер? Или на том свете, пани Сквалынская, вам придётся охранять свою честь от бандитов? Разве там не одни безгрешные души? Но бог с вами, пани Сквалынская, не вводите людей в искушение, — пусть эти пушки пойдут лучше на армейские склады, они пригодятся ещё на этом свете. Не сетуйте, пани Сквалынская, — мы не дадим вам с собой на тот свет сервизы, иконы и подсвечники. Ну зачем они вам? Посудите сами — ну зачем вам посуда, когда там питаются одним духом святым? И пусть фининспекция поломает себе голову, решая, что делать с этими золотыми монетами и драгоценностями. Ты, безбожник Яшка, глядя на этот последний акт поставленной тобой божественной комедии, достойной Данте, грешным делом думал о том, как бы урвать от этого приданого в пользу ребят, чтобы снять с них скучные балахоны, обновить их скудный гардероб, надеть на них короткие штаны и белые блузки. Да, ты хорошо помнишь, Яшка, как блестели у ребят глаза от этого спектакля, который ты сочинил специально для них. Им теперь на всю жизнь хватит вспоминать, как по одному выводили из часовни божьих мышей, вежливо провожали их к церковным вратам, где их ждал новенький автофургон. В глазах этих мышей не было веры и упования на бога, в них были только ненависть и страх. Вы видели всё это, дети.
Ты лишился в тот день нескольких работников, пан директор, но ты об этом не думал. Ты увёл ребят с кладбища и разрешил им ходить без строя. И они, держась сперва кучкой, понемногу осмелели и стали бегать, как простые дети. Ты не понимал языка, на котором они лопотали, но знал, что они обсуждают первый в их жизни спектакль. Ты слонялся с ними по городу без всякой цели и всё время ощущал возле себя Янека, не спускавшего с тебя восторженных глаз. Ты чувствовал в своей руке его лёгкую, прохладную ладошку и смотрел на эти проспекты, колоннады, магазины, витрины, праздничные толпы его глазами. Как ни красив, как ни хорош был сам по себе город, который ты ещё плохо знал, но он был во сто крат интереснее теперь, когда ты смотрел на него глазами Янека. Это были глаза вожака, и ты понял, что выбор твой был правилен. Ребята уже толкались возле Янека, он призывал их не бояться. Не очень сильно отрываясь от тебя, они забегали во дворы и с жаром делились впечатлениями. Заточенные в своей темнице, они не знали своего города, не бывали на улицах и дворах, рядом с которыми жили, не гонялись за кошками и собаками, не пугали голубей
Это была бестолковая экскурсия по городу, городу-музею, и радостно было видеть, как этот город, красивый и шумный, переливался всеми красками в глазах ребят. Ты радовался, когда, накупив конфет, орехов и пряников, наблюдал беззастенчивую толкотню, и Янек кричал, наводя порядок и кому-то угрожая. Тебе эта весёлая сцена будет помниться всю жизнь, ибо ты видел ребят уже в рубашках и блузах, в коротких штанишках, в красных галстуках, с блестящими глазами. Ты видел их проходящими по городу — звонко чеканя шаг, они идут по улицам города, и прохожие, останавливаясь на обочинах, машут руками, а автомобили, задерживая ход, приветствуют ребят гудками. Тебе было легко представить эту процессию, тебе не надо было её придумывать. Ты хорошо ещё помнишь, как сам шагал в таком вот радостном строю, и сам чеканил шаг, и звуки горнов разносились по праздничным улицам города, и все вы, коммунары, гордо оглядывались по сторонам, а впереди вышагивал узкоплечий, в застёгнутом кителе, в крупных очках, строго сверкавших из-под картуза, ваш комиссар, ваш друг и повелитель Антон, давший тебе своё отчество, Яшка.
Да, Яков Антонович, тебе было нетрудно увидеть в этих серых худеньких приютских детишках, оживлённых видом дешёвых сластей, торжественный строй и колонну, потому что это было уже, и ты знал уже, какие волшебные перемены могут принести забитым детям свободные люди. Но ты ещё не знал, Яков, что в прошлом останется твоя первая любовь на освобождённой земле, твоя сердечная тоска и заноза. Но не торопись в свои воспоминания, дай им размотаться в том порядке, в котором их творила жизнь
.
Я РАСКРОЮ ТЕБЕ СЕКРЕТ СВОЕЙ МЕЧТУ
Ты оставил ребят одних. Ты разрешил им самостоятельно вернуться в детский дом. Ты поручил привести их домой Янеку, а сам пошёл по своим делам. Тебе надо было побывать в горисполкоме, в наробразе, в горторге и на базах. Тебе надо было повидать многих людей, со многими потолковать, обо многом договориться и многое ещё уяснить. Ты вернулся домой только вечером. Направляясь в свой кабинет, ты попросил кого-то из ребят найти Янека и прислать его к тебе Тебе хотелось, Яков, мысленно продолжить с ним разговор, и вот, разлегшись на диване, задымив папиросой, ты уже вёл с ним задушевную беседу.
— Что ты, Янек, скажешь на сегодняшний день? Как тебе понравились похороны пани Сквалынской? Я не спрашиваю тебя о подробностях — я сам видел всё, что видел ты. Ты не заметил, кстати, того, с плечами борца, на которых трещала сутана? Так вот, Янек, должен тебе сказать, что с твоей помощью мы изловили крупную птицу. Этот монах с твоей помощью накрылся, и теперь ему сам бог не поможет, хотя он и служил ему верой и правдой, собирал немалые дары: кроме золота и картин, хотел снабдить бога и доброй партией оружия. А бог, испугавшись, оставил его на произвол. Что ты теперь думаешь об этом боге, у которого такие служители, и об этих служителях, у которых такой бог?
Неплохой мы сегодня устроили спектакль с тобой, Янек, а? Это было бы интересное кино, если бы всё это снять, не правда ли? Мы бы смогли с тобой отчекрыжить такое кино, что нам позавидовали бы Ильинский и Кторов. Это был бы фильм не хуже «Праздника святого Йоргена», — ты не видел этот фильм? Может, нам с тобой сделать новый фильм? Что ты думаешь на этот счёт, Янек?
Ах, Янек, Янек, ты заставляешь меня выдать свою тайну, тайну своей старой мечты, которая всю жизнь мучила и до сих пор не покидает меня. Я тебе одному признаюсь, Янек, что я родился, чтобы стать артистом. Это я тебе по величайшему секрету. Для эстрады, для театральных подмостков я был бы подходящим человеком. Да, я всегда чувствовал себя слугой, тайным служителем Мельпомены, и сейчас я даже не вспомню, когда впервые во мне зародилась эта мечта. Если я скажу, что в десять или в двенадцать лет, я совру, потому что, ещё ползая под столом, я любил устраивать представления. Все, кто был в доме, должны были оставить свои дела и смотреть, что я выделываю под столом. Я мог оттуда петь, кричать, декламировать, изображать собой кошку, мышку, щенка, телёнка, корову и лошадь. Тогда мне было девять или десять. Я любил собирать во дворе малышей и устраивал сражения, воображая себя полководцем. Если мне не удавалось собрать малышей, то я сам поочерёдно изображал то полководца, посылающего воинов в сражение, то самих воинов, целое войско в одном лице. И я бился, не жалея живота своего, потому что знал: кто-то наверняка смотрит из окон на это представление. Палка и та превращалась у меня в коня. Я знал всех полководцев гражданской войны. И не только гражданской, но и прошлых войн. А когда я дрался с кем-нибудь, я не просто бил по носу, пуская кровавую юшку, а воображал себя Спартаком. Я собирал рабов и шёл делать мировую революцию ещё две тысячи лет назад. Короче говоря, Янек, я очень любил играть в войну, и я играл всё своё детство и даже часть своей юности. В трудовой колонии, куда я попал после весёлых странствий, я был первым артистом и режиссёром. Я понял тогда, что эта работа даёт человеку широту возможностей, о которой можно мечтать, — самому ставить спектакли. А стать режиссёром всерьёз — эта мечта пришла ко мне, когда мне было уже восемнадцать. Я даже собирался поехать в столицу, чтобы узнать, где готовят на режиссёров, но райком распорядился иначе, и мне пришлось пойти работать в детский дом. И вот пошла моя работа по детским домам — в одном, другом, третьем. Моя беда — мне не дают задерживаться. Только я вхожу в дело, начинаю что-то придумывать и строить, как меня бросают на прорыв. Всюду есть детские дома, которые почему-то горят: там заведующий попался пьяница, там старшие воспитанники — из бывших уголовников — соскучились, перевязали всех шкрабов и заточили в подвале, там на чердаке устроили воровской притон, и над детским домом установил свою власть Венька Хлыщ, который захотел отдохнуть после бегства из тюрьмы. И меня, как пожарную команду, бросают вот уже в который детский дом. Я стал специалистом-аварийщиком. Наверно, я неплохо делаю своё дело, если меня используют в этом амплуа. Я не хочу сказать, что ваш приют — это малина, где окопались бродяги, бывшие уголовники. Здесь дело, похоже, покрупнее. Здесь свила себе гнездо целая семейка филинов и сов, и я благодарю Наробраз, что меня послали к вам. Ты спросишь, почему? А как бы я мог иначе попасть в наше прошлое и своими глазами увидеть, что монахи делают с детьми, как с помощью бога выращивают из них рабов, как в погребах — шампиньоны? Где бы я мог всё это увидеть, Янек, я тебя спрашиваю? Я, правда, не стал артистом, но я нашёл дело, в котором всё-таки немножечко надо быть артистом. Чтобы быть хорошим педагогом, надо быть немножечко артистом. Это не моё открытие, так люди говорят.
Однако я заговорился с тобой, Янек, а ты не идёшь. Хотя я ясно, по-моему, выразился, чтобы тебя позвали
ЗЛАЯ ШУТКА ГОСПОДА БОГА
Ты помнишь, Яков, как ты встал с дивана, слегка удивлённый долгой тишиной. Ты натянул сапоги и спустился вниз. Ты прошёл коридоры, заглянул в комнаты. Ты спрашивал всех, кто попадался навстречу, но никто не знал, где Янек. Тогда ты пошёл в келью, где отпевали пани Сквалынскую, но забыл, что сам вместе с милицией запер келью. Ты разослал ребят на поиски, но и они вернулись ни с чем. Только на кухне от поварихи ты наконец узнал, что приходил какой-то дяденька в свитке, назвался роднёй Янека и на два дня взял его с собой, чтобы тот помог ему обработать огород. Он забрал Янека, никто не возражал, потому что и раньше ребят отпускали на время к разным хозяевам. Кто отпустил? Что за дяденька в свитке?
Несколько дней ты мотался по городу и окрестностям. Ты толковал с милицией, с железнодорожниками, с сельскими старостами. Янека не было. Исчез ребёнок, в которого вошла частица твоей души. Самое страшное — это полная безвестность, пустота, в которой ты оказался. По ночам ты выходил в коридор и с фонарём обходил спальни, освещая спящих ребят. Тебе казалось, что вдруг явится чудо — Янек придёт ночью и уляжется спать. Ты объездил все больницы и морги. Ты даже ездил на кладбище, помнишь, Яков? Расхаживая по улицам, ты замедлял шаги, когда навстречу торопилась маленькая фигурка, ты всматривался с тайной надеждой увидеть знакомые черты. Ты останавливался у школ, когда оттуда, закончив уроки, разбегались ребята, и долго смотрел им вслед, пока за углом не скрывался последний хлопчик. А помнишь, как ты замер однажды, увидев взрослого, ведущего за руку мальчика? Уж не тот ли дядька объявился в городе? Сколько раз вспыхивала надежда, чтобы тут же погаснуть! Дни твои стали, Яков, подобны сумеркам. Солнце уже так не блестело, трава не была такой свежей, яблоки не пахли зрелой осенью, хлеб не пахнул мельницей, печью и деревней. Добро бы знать, что Янека прибрала смерть. Но он исчез, взамен себя оставив неизвестность. Ты видел смерть не раз, но смерть отскакивала от тебя, ибо жизнь наполняла тебя, не оставляя места ни на что другое. Только Янек дал тебе почувствовать вкус и запах настоящей смерти. Она впервые выросла перед тобой неслыханной бездной — ничем, пустотой. И тогда ты понял, какую злую шутку сыграл над тобой господь, которого ты шельмовал. С тех пор ты с осторожностью стал думать о боге. Бог — выдумка, сказка, призрак, но ты впервые стал задумываться над тем, почему он сладок слабым людям. Сильные могут обойтись без него, но что делать слабым? А слабые разве не люди? И тогда в тебе появилась жалость — слабые, бедные, сирые вошли в твою душу. Ты измывался раньше над богом, как над шутом, но он оказался противником, куда более изворотливым, чем ты думал. И тогда ты понял, что не готов, не созрел, не научился, чтобы вести с ним спор на равных. И что с наскоку его не возьмёшь, прибаутками не рассыплешь, не разведёшь рукой, как табачный дым. Нет, ты не сдался, не поднял руки вверх — об этом не могло быть и речи, — но ты стал уважать его как достойного противника. Он требовал подготовленности. Шаль, Яков, ты не родился книжником. Книг ты, кроме детективов, не любил, и много раз возникало в тебе острое, как зубная боль, желание засесть за книги и узнать, откуда он есть, пошёл, этот бог, в чём его сила и почему вот сколько ни ведут с ним борьбу, изгоняют, разрушают его жилища и капища, а он всё витает над душами.
Тебе недолго пришлось оставаться в бывшем монастырском приюте. Вскоре для тебя нашлась новая работа, и вот, собрав нехитрые пожитки, ты откочевал владеть новым детским домом, коих немало было на Украине. Постепенно затянулась рана, поутихла боль. И только изредка с какой-то регулярностью стал тебе во сне являться Янек. Ты просыпался, удивляясь нежности, с которой твоя душа сливалась с ним. Никто из родных — ни мать, ни отец, у которых ты был единственным, ни друзья, ни девушки-подружки, — никто не являлся тебе в сновидениях. А Янек появлялся как живой. Вот вы вместе идёте в магазин и что-то там выбираете. Янек читает вывески, тщательно выговаривая русские слова, и голос его отчётливо слышится в твоих ушах. Вот Янеку ты подбираешь костюм. А вот Янек, подмигивая, зажигает спичку и подносит огонёк к твоей папиросе, а ты, подозрительно поглядывая на его пальцы, догадываешься, что он с этим зельем уже коротко и тайно знаком. Множество таких вот пустячных случаев накопилось в твоих сновидениях. И ты уже не различал, где явь, где сон. В твоих снах тебе дано было узнать всю глубину неизвестного тебе наяву родительского чувства. Янек постоянно жил в твоих сновидениях. Даже днём, в суете забот, ты чувствовал в душе греющий след свидания с ним во сне. Ты советовался с врачом-невропатологом. Он что-то толковал тебе насчёт навязчивых видений. Он убеждал тебя лечиться, отдохнуть, если хочешь избавиться от видений. Это казалось тебе странным. Разве можно хотеть избавиться от Янека, от встреч с ним? Врач был неумным, ты отмахнулся от его советов и продолжал жить так, как жил. Янек почти перестал навещать тебя, когда в твою жизнь вошёл Виталик, сынок Ларисы, ставший и твоим сынком. Но всё же Янек не совсем забыл тебя. В минуты необъяснимых волнений, сопровождавших сердечный приступ, он появлялся внезапно — и рвался к тебе сквозь толпу, но тебя оттирали, ты окликал его, и он кричал тебе беззвучно, но постепенно бледнел и расплывался, превращаясь в дымок. И ты с ужасом понимал, что исчезает последняя ниточка, по которой можно разыскать его, и кричал, кричал, молил, чтобы его задержали.
Так случилось и на этот раз. Янек мелькнул впереди. Ты рванулся за ним, но тут же попал в толпу, и она заглотила его.
— Янек! Янек! — кричал ты всё тише, и руки слабели, немели ноги, а толпа стискивала тебя всё сильнее и сильнее, пока в глазах не померк свет.
Лариса расстегнула на тебе воротник.
— Виталик здесь, — сказала она, незаметно совершая подмену. — Не беспокойся, он уже дома. Дай ему сперва поесть, потом он придёт сюда. Успокойся, пожалуйста. Нашли твоего Виталика. Хорошая цаца, я тебе скажу! Стоит из-за него так волноваться
Глаза твои закрылись, руки перестали суетиться, ты медленно приходил в себя. Потом ты открыл глаза:
— Где Чебутыкин? Куда он ушёл?
Ты вспомнил всё, что произошло до этого, и продолжал разговор, будто ничего не случилось. Ты и не знал о том, что случилось. Ты оглянулся и не увидел Чебутыкина и только удивился его внезапному исчезновению.
Чебутыкин ушёл.
— А где он устроился на ночь? Э, до чего же мы невежливые люди
НОВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЧЕБУТЫКИНА
Чебутыкин ни с кем не простился. У ворот лагеря его задержали — не знал пароля. Он с трудом уговорил дежурных выпустить его, а потом с перепугу пробежал километра два, пока не успокоился. Тогда он подумал, что, пожалуй, поторопился, лучше было бы остаться ночевать в лагере. По крайней мере стоило бы попросить довезти его до автобусной остановки. Он оглянулся и не увидел огней — значит, возвращаться было рискованно. И он решил топать до автобуса и принажал. Когда, по его расчётам, должна была быть остановка, никаких следов её он не нашёл — ни козырька, ни столбика. Да и дороги настоящей под ним. Тогда он понял, что где-то свернул на боковую тропу, но разобраться и найти дорогу обратно было трудно — лес обступал и справа и слева. И он пошёл вперёд, поглядывая не вниз, где тропы не видать, а вверх, ориентируясь по звёздам и светлой дорожке в небе, где в это время просверкнула длиннохвостая комета. Он вспомнил, но додумать всё же не успел и не успел загадать желания — комета испарилась, всосавшись в темноту, и там, где она исчезла, сильнее засверкали звёзды, и только тогда он пробормотал своё запоздалое желание: «Не дай, господи, пропасть!» Чебутыкин подождал другой кометы — её не было, а вместе с нею исчезла и светлая полоска в небе. И, кажется, кончился лес. Почва стала подозрительно мягкой под ногами, в лицо задышала сырость, и что впереди там — поле, болото, трясина, что там ещё? И тогда — иль так показалось ему? — лес сгрудился за спиной и загудел жутким голосом голодного зверя. Чебутыкин скрючился, в темноте нащупал замшелую корягу, облапил её руками и ногами, закрыл глаза и задержал дыхание, желая слиться с ней, и это ему вполне удалось — тело его одеревенело, мысли закоченели и улетучились страхи, к великой его радости, потому что в таком виде он не мог бы соблазнить ни одного из хищных зверей, рыскавших по лесу. Что с ним было дальше, никто не знает. Возможно, с рассветом, когда солнце пробило ночной сумрак и развеяло сырость, Чебутыкин отлепился от коряги и бодро выбрался из лесу, отделавшись лёгким насморком. Об этом можно только гадать. Но совершенно точно известно, что несколько дней спустя, собирая лесные диковины, группа ребят набрела на корягу, поразительно похожую на Чебутыкина. Нынче, кое-где обструганный, освобождённый от лишних сучков, Чебутыкин красуется на выставке художественного творчества и своими ушами-лепёшками, добродушно-выпученными глазами и приподнятым пальцем, как бы взывающим к вниманию, веселит всех посетителей. В новом существовании Чебутыкин обрёл своё высшее оправдание и сделал необычайно популярным — на зависть всем ребятам — своего племянника Вовку
«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, ЯКОВ АНТОНОВИЧ!»
Под окном начальника лагеря собрались ребята. И никто не удивился, застав там Васю и Боба. Там же были и сестрички Аля и Маля, Рустем и Броня, и медсестра Маня, и Шмакин — и кто ещё? В общем, все, кто поминался в этой повести, и даже многие другие, о которых не было помянуто. Все стояли и сидели на траве под окошком, и Лариса, свесившись через подоконник, ласково шипела:
— Можете идти спать, ребяточки! Я вам скажу, вы замечательные, все очень хорошие, и можете идти спать. Яков Антонович уже закрыл глаза и просил всем передать спокойной ночи. Он говорит, что сказал бы сам, но он уже разделся и боится, что его продует. Спокойной вам ночи! Ой, смотрите, смотрите вон видите летит комета!
Все разом посмотрели вверх. Медленно и торжественно, изгибаясь дрожащим полукругом, комета летела, растягиваясь на лету. И все разом подумали — и никто не опоздал — и крикнули хором:
— Будьте здоровы, Яков Антонович!
Прочертив полнеба, комета медленно погасла, а после этого ещё ярче зажглись звёзды, и тёмная добрая ночь мохнатым одеялом окутала лагерь
Глава 7
КОСМИЧЕСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ
(Фантастический эпилог)
ВЕЛИКИЙ РАСКОЛ
[1 На предварительном обсуждении повести, ещё до того, как она вышла книгой, один из читателей высказал в высшей степени плодотворную догадку, что Мук и Лаюма, открывшие жизнеспособную планету Цирваль, не погибли вовсе — в этом не было фатальной неизбежности, — а могли благополучно вернуться на свою планету Клиаста. Если согласиться с этим, то не исключено, что Мук и Лаюма — уже в новых своих, внучатых, так сказать, модификациях Рамука и Мальгрины — могли бы и возглавить эвакуацию клиастян. Чего только не бывает! Настоящий эпилог, завершающий главу «Разведчики Клиасты», и является попыткой представить себе такого рода исход.]
Ночь была слепа и пустынна — одна лишь чёрная мгла, чуть подсвеченная звёздной пылью. Взявшись за руки, Рустем и Броня смотрели в небо. Им не надо было видеть друг друга, чтобы знать, что думает и чувствует другой. Они были одно дыхание, одна мысль, одна судьба.
— Ты знаешь, это была не комета. Где-то в тайге стартовал космический корабль. Слушай!
Долгий, заунывный, далёкий звон. Он нарастал и приближался. И вдруг взорвался, выбросив из себя светящееся облако. Облако повисло над тайгой, потом стало медленно снижаться, разделяясь на два рукава. Заструились розовые силовые линии. Что-то отдалённо похожее на земную морзянку было в треске электромагнитных разрядов, — это сигналы связи летели туда и обратно.
— Рамук, Рамук, ты слышишь меня? Я включаю запись Лаюмы. Я слышу её дыхание! Рамук, меня томит волнение. Меня тревожит что-то!
— Мальгрина, в чём дело? Что случилось? Разве опыт Мука и Лаюмы не учтён в нашей программе? Всё будет прекрасно, заверяю тебя. И не будь я наследник великого Мука, если
Сколько квартумов прошло с той поры, как Лаюма и Мук, влекомые властной мощью Цирваля, разэкранировали себя и навек остались растворёнными в новой для них стихии? Десятки, сотни квартумов? Дух Клиасты между тем медленно умирал. Жизнь на ней застыла в ложном подобии бессмертия. Клиастяне шли к своему небытию. Клиаста готовилась к последней остановке. Став мёртвым телом, она будет ещё долго мчаться в пустынной Галактике, пока не столкнётся с астероидом или не упадёт на встречную звезду и сгорит. Сгорит, если только гравитационные силы не вытолкнут её и не превратят в сателлит. Слишком много энергии было израсходовано экспедицией на Цирваль— единственную из планет, куда можно было бы перенести тлеющие угли клиастянской цивилизации.
Надо сказать, что информация о Цирвале, попавшая на Клиасту, послужила причиной Великого Раскола. Появилось новое учение, согласно которому спасение гибнущей Клиасты придёт извне. Два вещих духа прилетят на Клиасту с благой вестью, и тогда начнётся Великое Переселение. Шли бесконечные диспуты между представителями чистой науки и так называемыми еретиками. Ссылаясь на печальный опыт клиаргов, не вернувшихся из трансгалактических экспедиций, еретики доказывали, что в научных расчётах была грубая ошибка — не учитывалась вера в чудо, в то, что нельзя объяснить и понять и что доступно только чувству. Споры захватили всю планету. Появилось несколько сект. В каждой из сект был свой духовный пастырь, настаивавший, что именно он несёт Клиасте спасение. В распрях окончательно захирела наука. Все системы самообеспечения жизни пришли в негодность. Холод из космоса всё глубже проникал в энергетические блоки. Мрак тотальной гибели навис над планетой. Распри сами собой угасли — на них не хватало энергии. Клиастяне объединиЛись в своих последних усилиях. Верховный парламент издал свой последний вердикт — послать самую выдающуюся пару, Рамука и Мальгрину, на Цирваль — и на этом прекратил своё существование. Так началась прелюдия к Великому Переселению народа Клиасты — комплектовались экипажи, обсуждалось, что захватить с собой, а что оставить на погибель вместе с планетой. Рамук и Мальгрина летели по маршруту, когда-то проложенному Муком и Лаюмой.
ПЕТРОКИС И КАЛЬМИУС
В течение всего перелёта между Рамуком и Мальгриной шли неутихающие споры. Эти выдающиеся клиастяне, составившие вполне благопристойную пару, были, однако, представителями двух враждующих сект — Петрокис и Кальмиус. Рамук (Петрокис) принадлежал к чисто научному клану, а Мальгрина (Кальмиус) была страстной адепткой религиозного направления. Деловые контакты между ними не мешали вести мировоззренческие споры. Рамук держался гипотезы, что жизнь на Цирваль занесена с Клиасты и что картина, которую застали там Мук и Лаюма, была высшей точкой её расцвета, её золотой век, так сказать. Но сейчас, пережив кульминацию, планета стала на путь угасания. Если на Клиасте затухание жизни удалось замедлить путём отказа от биологических излишеств, переключения всех функций на режим жёсткой экономии, то на Цирвале, согласно этой гипотезе, процессы умирания будут неизбежно ускорены силами самоуничтожения, царящими там. Мощная, яркая, интенсивная жизнь на Цирвале, которую ещё застали Мук и Лаюма, иссякнет к тому времени, когда туда прилетят Рамук и Мальгрина. Там, где жизнь враждебна сама себе, добра не жди. Они могут застать планету на одной из ступеней реэволюции. Какая там будет эра? Кайнозойская? Мезозойская? Или, быть может, ещё более древняя — Палеозойская с характерной для неё плауновой и папоротникообразной флорой и фауной кораллов и первых насекомых? Рамук опасался, что Цирваль уже вернулся к самым начальным, архейским формам жизни, о которых достоверно ничего не известно. На его- взгляд, было бы крупной удачей, если бы они застали там хотя бы гигантских пресмыкающихся Юрского и Триасового периодов Мезозойской эры. Рамук рисовал картины одну мрачней другой. Короче говоря, он был ипохондрик и пессимист. Но чем безрадостней становились его предсказания, тем восторженней были картины, которые рисовала Мальгрина. Вера в чудо, жившая среди членов секты Кальмиус, обрела в Мальгрине свою самую яростную энтузиастку. Она неистово возбуждала себя, мало заботясь об источниках питания, и таяла на глазах. Чем меньше оставалось в аккумуляторах питания, тем фанатичнее блестели её глаза-индикаторы, тем сильнее пульсировали электромагнитные сигналы, шедшие от неё на экраны Рамука. Только чудовищное неверие, считала она, могло породить зловещие призраки всеобщего одичания, которые виделись Рамуку. Эти картины — от бессилия разума, обречённого на бесплодие и гибель. Спасение, считала она, только в вере, основанной на чувстве. От её восторженных видений Рамук маялся, как от смертной муки. Его охватывала бессильная тоска, когда он ловил на своих экранах видения Мальгрины: каких-то розовощёких юнцов, резвящихся на вертолётах, аэростаты погоды, распыляющие над полями дожди, детские сады, где за детьми следят безупречно обходительные киберы, учебные залы, где школьники ведут глубокомысленные диспуты с электронными приборами. Картины эти, нагромождаясь одна на другую, превращались в утомительное мельтешение чёрточек, точек и запятых, в чехарду цифр и знаков. Помятый, выдохшийся Рамук уже не воспринимал информации Мальгрины и только скрежетал узлами. Он отчаянно пытался урезонить свою подругу, посылая ей в ответ точные, взятые из архивных кристаллов картины, пережитые Клиастой (а стало быть, и Цирвалем, повторявшим её путь) в разные эры своего геологического летосчисления. Он раскручивал плёнку в обратном направлении, возвращая Мальгрину к объективной реальности давнего прошлого, когда Цирваль через Кембрийский, Силурийский, Девонский, Каменноугольный, Пермский, Триасовый, Юрский, Меловой, Третичный и Четвертичный периоды от первоначальных примитивов пришёл в конечном итоге к разумной жизни, которая, увы, в силу заложенных в ней самоистребительных сил уже начала свой возврат к ранним формам реэволюции.
Впрочем, споры не поглощали всего времени супругов и не принимали антагонистического характера — ими они заполняли свой редкий досуг. Клиарги быстро выдыхались и впадали в длительную спячку — анабиоз. На бесконечном пути к планете Цирваль им надо было экономить энергию, и они надолго превращались в неподвижную студневидную массу, жизнь в которой регулировалась при помощи контрольно-измерительных приборов.
Когда на экранах показалась сверкающая точка Цирваля, Рамук и Мальгрина очнулись и подключили свои установки на приём мощных биологических токов планеты. Совершив на орбитальной станции несколько пробных витков на высоте, точно соответствующей легендам о высадке Мука и Лаюмы, они начали спуск. На этот раз, исходя из трагического опыта предшественников, были созданы системы спуска с тройной герметической гарантией, полностью исключавшей опасность внезапного разэкранирования. Время, прошедшее после экспедиции Мука и Лаюмы, не прошло даром: наука и техника так подготовили новых посланцев, что они могли теперь свободно опуститься на поверхность Цирваля, не подвергая опасности ни себя, ни цирвальцев, свободно перемещаться в её пространствах, не вступая с ними ни в какие механические контакты.
ГНЕВ ВЕРХОВНОГО ЖРЕЦА
Наступила решающая фаза полёта — высадка в районе дислокации их предшественников, фаза, которая должна была разрешить долгий спор между Рамуком (Петрокис) и Мальгриной (Кальмиус). Что же они застанут на Цирвале?
То, что открылось клиаргам, не совпадало ни с предсказаниями Ра-мука, ни с видениями Мальгрины. Перед ними возникла картина, почти полностью соответствующая последним записям Мука и Лаюмы. Вот она, скала, возле которой стоял гравилёт, — в нём тогда окопались два юных цирвальца, доставивших Муку столько огорчений. А вот та река, где развернулись последние акты схватки. Правда, у подножия скалы там и сям полыхали незнакомые палатки, своим цветом сливаясь с окружающей растительностью, на верёвках, протянутых от палаток, сушились трусики, майки, блузки и носки — детали, которых не было в записях Мука и Лаюмы. Но больше всего Рамука и Мальгрину поразила другая картина: над большой площадкой висела сетка, и две группы цирвальцев с криком и гамом перебрасывали мяч. На высоком сооружении в деревянном кресле сидел тучный, седой, меланхолический цирвалец с висячим носом и пристально смотрел своими подпухшими глазами на игроков, то и дело прерывая игру долгим трельчатым свистком, висевшим у него на цепочке. Очевидно, вся игра направлялась сверху, он управлял ею с диспетчерского пункта и был своего рода верховным жрецом. Смысл движений был непонятен, и никакие компьютерные устройства не смогли бы вывести их интеллектуальный смысл. Судя по всему, игра не давала ожидаемого результата, потому что верховный жрец остановил игру и неожиданно хриплым голосом произнёс речь, которая путём сложного перевода в лингвистический ряд дала звучащую ленту следующего содержания:
— Надоела мне ваша канитель, мальчики! Вы что, плохо ели или не выспались? Такие мячи партачить. Нет, увольте меня. С такой подготовкой на спартакиаде делать нечего. Нате вам мой свисток, и пусть кто хочет вам будет судья, а мне с вами не по пути.
ЗНАКОМЫЕ КАРТИНЫ
Грузный человек слез со своего жреческого престола, враждующие группы сгрудились вокруг своего жреца и стали что-то кричать, но он не стал их слушать и пошёл к скале над бурно шумящей рекой. Забыв мяч на площадке, цирвальцы бросились вслед за ним и стали взбираться на скалу. Это было очень сложное и трудное занятие, свидетельствующее о необычайно высокой физической подготовке цирвальцев: преодолевая гравитационные силы, юные цирвальцы довольно ловко один за другим, цепляясь за впадины и трещины, поднимались на верхнюю площадку, на которой Рамук и Мальгрина увидели Что же они увидели?
Летательный аппарат, очень знакомый по изображениям, зафиксированным в видеозаписях Мука, а также двух юных цирвальцев, которые захватили когда-то гравилёт и никак не хотели оттуда уйти. Они, эти хорошо знакомые клиастянам цирвальцы — фильмы не раз прокручивались во всех лабораториях Клиасты, — они, эти юные злоумышленники, как будто и не уходили оттуда, хотя с момента схватки с ними клиаргов прошло много квартумов. Они были заняты каким-то сложным механизмом в виде гигантской катушки, из которой спускались два троса с перекладинами, и по этим перекладинам юные цирвальцы поочерёдно спускались вниз — к порогу бурно пенящейся воды, исчезая в расщелине, но потом возникали на другой стороне ущелья, торопливо взбирались на вершину и снова выстраивались в очередь для совершения головоломного спуска Много шума, крика, движений было также возле канатной дороги, переброшенной через сверкающий поток. На другой берег переправляли в удобных и несложных сиденьях самых маленьких цирвальцев, которым, очевидно, не разрешали спускаться по перекладинам. Опять же смысла как спусков с прохождением через расщелину в скале, так и поездок на канатной дороге уловить при помощи компьютерных приборов оказалось невозможным
ИТОГ ДИСПУТА
Рамук и Мальгрина, естественно, невидимые и неосязаемые, начисто изолированные от цирвальцев, без всякого риска подвергнуться воздействию внешних контактов или неосторожно вторгнуться в чужую и непонятную для них жизнь, летали над местом действия. Они свободно перемещались между цирвальцами, фиксируя группы и группки, живописно разбросанные на полянках и лужайках, запечатлённых на всех легендо-картах Клиасты как место пребывания знаменитых клиаргов Мука и Лаюмы. Судя по всему, посещение Мука и Лаюмы осталось памятным событием и для планеты Цирваль, — иначе чего бы ради в полной неприкосновенности хранились как мемориальный комплекс особой важности все места в том виде, какими они были во времена посещения Мука и Лаюмы?
Рамук и Мальгрина переместились в пространстве над зелёным массивом, миновали кустарники, скалистую гряду, реку, -г- и оказались над корпусами, домиками и спортивными сооружениями. Белые скульптуры цирвальцев, непочтительно сваленные в кучу за сараями, очевидно, были изваяниями свергнутых кумиров. Портреты мужественных молодых цирвальцев, возведённых вместо свергнутых кумиров с отбитыми руками и ногами, тянулись вдоль аллей. В общем, всё, что увидели Рамук и Мальгрина, было очень далеко от того, что рисовалось воображению Маль-грины, но и ничего общего не имело с мрачными картинами реэволюции, которые извлекал из исторических архивов Клиасты Рамук. Очевидно, жизнь на Цирвале не стояла на месте, но всё же и не торопилась расстаться с теми формами, которые застали когда-то Мук и Лаюма. Эти формы жизни, надо полагать, устраивали цирвальцев, ибо никаких признаков оскудения, затухания биологической энергии планеты не удалось обнаружить и ни о каких силах самоистребления на Цирвале, о чём твердили переданные записи с информации, говорить не приходилось. Наоборот, всё, что увидели Рамук и Мальгрина, свидетельствовало о довольстве, процветании и отличном самочувствии цирвальцев. Здесь можно было увидеть прекрасную генерацию молодых существ: юношу с горящими глазами, шедшего рядом с длинноногой девушкой в очках, юных, очень похожих друг на друга цирвалек с раскосыми глазами и многих других. Сигнализируя сложной системой жестов и мимики, юноша передавал, видимо, что-то в высшей степени интересное и приятное своим спутникам. Здесь можно было увидеть, как, сидя на траве вокруг взрослого цирвальца с дивным музыкальным инструментом, юные цирвальцы согласно и синхронно открывали и закрывали рты, издавая звуки Короче говоря, Рамук и Мальгрина нашли здесь немало картин, с очевидностью убеждавших, что жизнь на Цирвале не обнаруживала никаких тенденций к закату. Таким образом, длительный диспут между Рамуком и Мальгриной был завершён вничью — оба они оказались в проигрыше или, быть может, в неожиданном выигрыше, потому что
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Потому что после многих квартумов времени, прошедших после экспедиции Мука и Лаюмы (в переводе на цирвальское времяисчисление это равнялось примерно отрезку в две недели), после разнообразных замеров, наблюдений, исследований Рамук и Мальгрина пришли к единодушному выводу, что Цирваль являет собой планету, вполне пригодную для переселения оставшихся в живых — немногочисленных, к сожалению, — экземпляров клиастян. Все эти добрые вести самым целебным образом сказались на самочувствии Рамука, заметно посвежела Мальгрина. Они без всяких осложнений смогли совершить обратную экспедицию на Клиасту, длившуюся пятьсот квартумов, что в переводе на цирвальское времяисчисление равнялось примерно трём-четырём дням. После очень тщательных приготовлений было осуществлено наконец переселение клиастян на Цирваль. Завершение галактической экспедиции, последовавшая затем акклиматизация клиастян прошли без всякого ущерба и для Цирваля. По сведениям, собранным на орбитальных станциях киберавтоматами, клиастяне и цирвальцы прекрасно существуют, нисколько не страдают от соседства, причём клиастяне всё больше узнают о жизни, обычаях, нравах и привычках цирвальцев. К сожалению, пока не установлены возможности обратных контактов — эта задача оказалась наитруднейшей и ждёт ещё своего разрешения. Всё же клиастяне не теряют надежды на установление связи в будущем, а пока усиленно работают над проблемами приспособления к условиям Цирваля и самопревращения — путём целой цепи переходных форм — в существа, близкие по своим свойствам к цирвальским. Стать такими, как цирвальцы, — лозунг клиастян, долгосрочная программа их научных исследований, над этим усиленно работают лучшие умы бывшей Клиасты, нашедшей свою новую родину на планете Цирваль.
Ну, а цирвальцы? Цирвальцы, естественно, продолжают жить и наслаждаться всеми выгодами прекрасного и независимого своего существования, ничего не подозревая о живущих в их среде, и вошедших в их структуру клиастянах. Что касается самой планеты Клиаста, то она осталась в космосе холодным, безжизненным телом и движется в направлении созвездия Гончих Псов, которое, возможно, и поглотит её, если только на своём пути Клиаста не столкнётся с крупным астероидом и от взрыва не рассеется, превратившись в туманность местного значения. По расчётам автоматических орбитальных станций, наблюдающих за движением мёртвой планеты, это возможно в ближайшее время, так что эвакуацию клиастян на Цирваль можно считать большой удачей, и время для этого было выбрано очень точно
КОНЕЦ
|