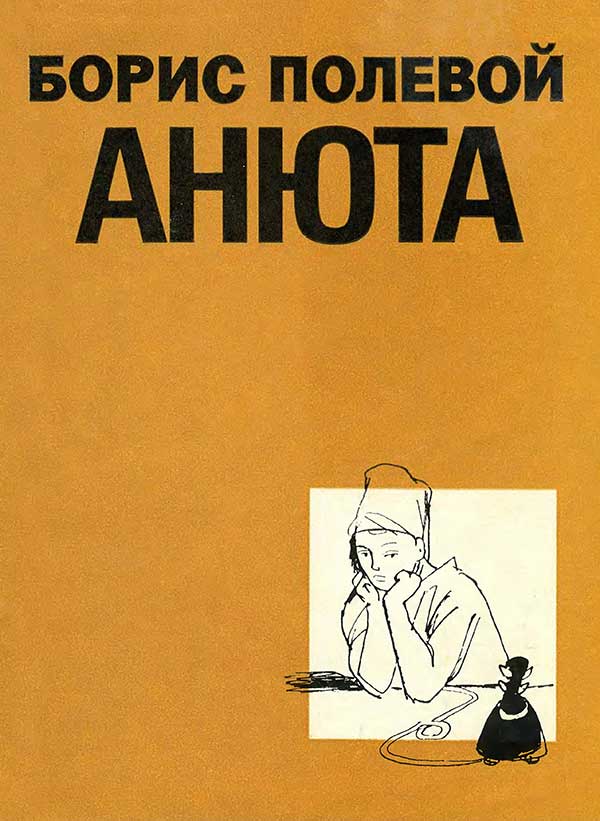|
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ КНИГИ
Памяти моего фронтового друга Николая Жукова —
хорошего человека и замечательного художника.
1
До отъезда на аэродром оставалось еще около часа. Чемодан уложен. Вот только несессер с бритвенными и умывальными принадлежностями куда-то делся, и Владимир Онуфриевич Мечетный никак не мог его отыскать. Каждая вещь в его маленькой квартире имела свое место, определенное однажды и навсегда. И он отчетливо помнил, что, вернувшись из последней командировки в Новосибирск, положил несессер на место, и именно на вторую полку платяного шкафа, где у него хранились носки, носовые платки и всякая мелочь. И носки и платки были на месте, сложенные аккуратными стопками, а вот несессера там не было.
Впрочем, и все остальное в шкафу было переставлено, перевешено по-другому. Может быть, умнее и удобнее, но так, как он не привык. Черт возьми, ну зачем Серафима роется в его вещах? Не может побороть в себе этот вечный бабский инстинкт: чистить, мыть, вытряхивать и все переставлять по-своему.
Конечно, можно обойтись и без несессера. Велика беда завернуть все эти стрижки-брижки в газету. Да и несессер в конце концов можно купить, ну хотя бы в ларьке московского аэропорта, где предстоит пересаживаться на южный самолет. И все же пропажа расстроила и даже обозлила: ну куда она могла его засунуть?
Нет, просто беда, когда, воспользовавшись ключом, который Мечетный отдал ей, Серафима в его отсутствие принимается наводить порядок в квартире. Не раз пытался он отучить ее от этой манеры. Выговаривал, просил. Однажды даже пригрозил отобрать ключ. И вот пожалуйста, опять. Во время его совсем короткой командировки в филиал института снова побывала, убралась, навела порядок в платяном шкафу и куда-то засовала несессер. И именно теперь, когда Мечетный собирается в дальнюю дорогу и когда эта вещь ему нужна.
А главное, зачем, зачем все это делается? — досадовал Мечетный снова обшаривая все углы. — Кто ее просит тащить в его сугубо мужскую квартиру этот бабский уют? Кому он здесь нужен? Ну конечно же неспроста, а чтоб углубить их отношения, стать для него полезной, необходимой. Ведь все равно на Серафиме он не женится, хотя в лаборатории их давно уже сосватали и однажды директор завода, к великому смущению и досаде Мечетного, сказал ему на совещании: «Ну а эту работу поручите, пожалуйста, вашей жене». Жена? Ну, нет. Отлично прохолостяковал все последние годы, привык. Теперь жениться? Связать себя по рукам и ногам этими так называемыми семейными узами. Зачем? Серафима, конечно, славная женщина — недурна собой, умна, неплохой работник... Но жить в одной квартире, приноравливаться к ее привычкам, перестраивать свой такой сложившийся и удобный одинокий быт? Нет, на это он не пойдет: одна голова не бедна, а бедна — так одна. Пусть уж Серафима, если хочет, продолжает с ним прежние отношения, остается, как злословили в лаборатории, его «приходящей супругой». Но не женой. И надо прекратить, решительно прекратить эти ее попытки совать нос в его личные дела...
Однако куда все-таки делся несессер? Вот-вот должно прийти заказанное такси. Мечетный посмотрел на часы. Серафима, наверное, еще в лаборатории. Он снял телефонную трубку и, быстро набрав номер, попросил инженера Киселеву.
— Это я. Да. Не помните, куда вы, наводя у меня порядок, засунули несессер? Мне через несколько минут на аэродром.
— Вы, конечно, за мной заедете, — ответил глубокий, низкий голос. — И почему вы такой сердитый?
— Куда вы дели несессер?
— Нашли о чем волноваться. Он был такой заношенный, старый, этот ваш несессер, он расползался по швам.
— Куда вы его дели?
— Выбросила. Выбросила на помойку. Я подарю вам новый, современный, очень удобный, на семь предметов.
— Выбросила... Выбросила такую нужную вещь! — почти крикнул Мечетный, но тут же сдержал себя и, прежде чем положить трубку, сухо сказал: — Вы же. знаете, что я не люблю, когда без спроса трогают мои вещи.
— Вы когда уезжаете? Я хочу вас проводить.
— Не надо. Не к чему.
Теперь Мечетный сердился по-настоящему. И прежде всего на самого себя за то, что повысил тон, почти кричал. И все же, как это можно выбрасывать чужие вещи! Конечно, старая, конечно, затасканная, конечно, расползавшаяся по швам, так что уже несколько раз приходилось зашивать ее по краям суровыми нитками. Но сколько лет эта вещь служила ему и сколько еще могла прослужить! Этот старый несессер был первой собственностью, которая появилась у него после того, как он все потерял в дни войны. Вещь — друг. И вот, пожалуйста, взяла и выбросила... Нет, с этим нужно кончать. А то и в самом деле из хорошей знакомой Серафима превратится в жену со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Тщательно завернув бритвенные принадлежности в целлофановый пакетик, Мечетный застегнул чемодан, посмотрел на часы. Как-то там с такси? Вышел на балкон. У подъезда машины не было. Впрочем, время еще есть, и, оглядевшись, он невольно залюбовался открывавшимся отсюда, с двенадцатого этажа, видом, жадно вдыхая холодный, влажный воздух зарождающейся весны.
Новый дом — Столбик, как именовала его людская молва, стоял на самой окраине молодого города. Глухая нерубленая тайга стеной наступала на него с юга, а с севера, за улицами и площадями города, в закатных лучах прорисовывался завод. Огни уже зажжены. Целый ворох огней как бы прикрывает багровое зарево. Все это утопает в фиолетовой весенней полутьме, хотя солнце, завалившееся за гребень тайги, все еще высвечивает с одной стороны острые верхушки елей, а с другой — заводские трубы.
Воздух влажен, остро холоден, чист, но к хвойным ароматам весеннего леса отчетливо примешивались запахи завода, дышавшего в полутьме. Май в этом краю запаздывал. Днем тепло, а на ночь лужи прихватывает иглистыми кромками, и в тайге под деревьями еще белеет жухлый, крупитчатый снег.
Завод жил своей обычной круглосуточной жизнью. В сгущавшейся тьме огни его разгорались все ярче, гася звезды, появляющиеся на потемневшем небосводе.
И Мечетному вдруг показалось странным. Послезавтра завод будет также работать день и ночь, сотрудники его лаборатории, как всегда, утром переоденутся в халаты, встанут на свои места, жизнь будет продолжаться в обычном напряженном ритме, а он, Мечетный, будет далеко от своего молодого города, далеко от привычных забот, и где-то там, в неизвестной ему Гагре, будет лежать на берегу тоже незнакомого ему теплого моря.
Сколько осталось в лаборатории недоделанного, незавершенного, требующего его постоянного внимания! При мысли этой ему стало тревожно и грустно. Санаторная путевка, лежавшая у него в кармане, вдруг потеряла свою заманчивость. Черт его знает, в самом деле, может быть, плюнуть на билет, вернуть путевку, доделать незавершенное и со спокойным сердцем поехать в эту самую Гагру на фруктовый сезон, который по-старинному именуется бархатным...
В комнате негромко бубнил радиоприемник: передавали последние известия. Думая о своем, Мечетный рассеянно слушал новости: «...Вступила в строй первая очередь... выполнили план на столько-то процентов... своим ударным трудом на весенней вспашке обеспечили хороший урожай...» И вдруг из потока привычных уху новостей, которые сознание не фиксировало, сразу приковала внимание Мечетного неожиданно прозвучавшая фамилия — Лихобаба. Он вздрогнул, насторожился, даже вцепился в перила балкона. Диктор продолжал дочитывать Указ Президиума Верховного Совета... Лихобаба Анна Алексеевна награждена орденом «Знак Почета»... За что, Мечетный не услышал. А диктор уже читал новости спорта.
Лихобаба, Лихобаба... Анна Алексеевна Лихобаба... Анна... Анюта. Неужели она? Боже ты мой... Нет, нет, конечно же не она. Среди четверти миллиарда граждан страны множество людей с одинаковыми именами и фамилиями. Но Лихобаба — не Иванова, не Петрова и не Сидорова. Таких фамилий при всей громадности населения Советского Союза вряд ли много, а тут еще Анна, да еще Алексеевна. Неужели она? Нет, это невозможно. Сколько лет прошло!
Мечетный стоял потрясенный и не услышал, как таксист, уже ожидавший у подъезда, заявил о себе гудком. Подошел к телефону, торопливо набрал номер редактора городской газеты.
— Привет! Говорит инженер Мечетный... Да, да, тот самый — начальник заводской лаборатории... Нет-нет, я не о статье, бог с ней, с этой моей статьей. Печатайте когда хотите. Но у меня к вам просьба. Вот только что я прослушал последние известия, было сообщение о награждении Лихобабы орденом «Знак Почета». У вас по этому поводу не принято никаких подробностей?
— Минуточку, Владимир Онуфриевич. Сейчас посмотрим, что там нащелкал телетайп. Как вы сказали, Лихобаба? Мужчина или женщина?
— А, какая разница. Ну, девушка, девушка. И «Знак Почета»...
Слышно было, как в трубке шелестели бумагой. С улицы доносились уже нетерпеливые, частые гудки таксиста. Но Мечетный, все еще не слыша их, переступал с ноги на ногу. Наконец раздался голос редактора:
— Нет, в вечернем присыле вашей Лихобабы нет. Может быть, в ночном будет. Я вам тогда позвоню... Кстати, ваша статья...
— Да будет вам об этой статье, — невежливо перебил Мечетный. — И звонить не надо, я уезжаю на месяц, а со статьей — распоряжайтесь как хотите: правьте, сокращайте, выбрасывайте, ваше дело.
— А что она, эта Лихобаба, кто она? И вообще в чем дело? — заинтересовался редактор.
Но Мечетный уже бросил трубку, и тут дошли до него разом и нетерпеливые гудки таксиста, и скрежет ключа, открывавшего замок. В дверях стояла Серафима, из-под меховой шубки торчали полы лабораторного халата, на голову был наброшен пуховый платок. Она тяжело дышала, и на высоком лбу выступали капельки пота.
— Ух, слава богу. Думала, вас уже и не застану. — В руках она держала черный несессер из глянцевитой кожи. — Почему, ну скажите, почему вас так расстроила история с несессером? Послезавтра у вас день рождения. Я купила вам в подарок новый, современный, чехословацкий. Но раз уезжаете, принимайте подарок досрочно.
— А, спасибо, спасибо, — ответил Мечетный, рассеянно принимая действительно красивую вещь и проходя с чемоданом к двери. — Простите, но, слышите, таксист гудит, мне пора. Прощайте.
— Я еду с вами на аэродром.
— В халате? И вы же знаете, что я терпеть не могу, когда меня провожают.
Лицо Серафимы, обычно спокойное, малоподвижное, на этот раз не могло скрыть волнения. Серые миндалевидные, широко посаженные глаза, делавшие женщину похожей на какую-то египетскую богиню, смотрели просительно, даже умоляюще, что очень к этому лицу не шло. Она отерла пот, и не носовым платком, который держала в руках, а тыльной стороной ладони.
— Нет, я все-таки вас провожу.
— В таком виде?
— А, все равно, кому какое дело...
Мечетный только пожал плечами.
Всю дорогу он молчал и на попытки заговорить отвечал односложно: да, нет. Сидел, смотрел в окно на тайгу, которую будто саблей разрубило широкое разграфленное белилами шоссе. Весна, по-настоящему еще не наступила. Сугробы тут и там белели под деревьями, но лес был уже полон весенних ароматов, и ветер порывами забрасывал их в машину.
Когда вдали замелькали огни аэродрома, Серафиму наконец вывело из себя его упорное молчание.
— Неужели вы такой мелочный, и пропажа старой сумки, которую и в руки-то брать противно, вас так расстроила... Это что-то новое. Не знала, не знала.
— Ну так знайте.
— Из-за грошовой вещи устраивать скандал?
— Скандал? — искренне удивился Мечетный, направляясь к толпе пассажиров, уже теснившейся и шумевшей около выхода. Но, заметив, что на длинных ресницах миндалевидных глаз Серафимы скопились слезы, он, двигаясь к выходу, сказал: — Ну ладно, ладно, черт с ним, с несессером. Спасибо за подарок. Я ведь забыл про этот самый свой день рождения. — И он торопливо приложился губами к ее высокому прохладному лбу. — Прощайте.
2
Нет, не о своих вдруг осложнившихся отношениях с Серафимой и конечно же не об истории с несчастным несессером думал Мечетный всю дорогу до аэропорта и сейчас вот, сидя в авиалайнере, несшем его над бесконечной тайгой. Неизвестная женщина со странной фамилией не выходила у него из ума. Лихобаба, Лихо-баба... Анна Алексеевна Лихобаба... Неужели она? Неужели столько лет спустя она нашлась? Такое может случиться только в многосерийном телевизионном фильме. Разве в жизни такое бывает? Может, ослышался? Перепутал фамилию?
А если не ослышался, где она? Что делает? Где живет? И наконец, за что ее могли наградить?
Как все это узнать?..
Поднявшись, лайнер лег на курс и, как казалось, просто застыл в воздухе. Как и всегда на дальних трассах, пассажиры, так суетившиеся и нервничавшие при посадке, рассевшись на своих местах, утихли, перезнакомились, начали обживаться. Кто-то уже докладывал соседу о своем житье-бытье, кто-то раскрыл книгу, кто-то, вытащив из кармана дорожные шахматы, нашел партнера и склонился над доской... Кряжистые ребята с темным зимним загаром на лицах, выпросив у стюардессы бумажные стаканчики, «соображали на троих». Пожилые коренастые женщины, распустив по плечам клетчатые шали, грызли кедровые орешки, аккуратно собирая скорлупу в горсточку. Какой-то бородач, склонив голову на изголовье, тут же уснул, исторгая такой храп, что покрыл им даже вежливый, свистящий звон моторов.
Сидевший рядом с Мечетным молодой румяный попик, от которого сильно потягивало коньячком, попытался тут же с ним заговорить, но нелюдимый сосед не ответил. Тогда жаждущий общения священнослужитель, пригладив длинные волнистые волосы, как бы думая вслух, начал развивать теорию о том, что Иисус Христос, по некоторым сегодняшним соображениям, был пришельцем с других, более старых и мудрых миров, где техника развилась до пределов невероятных, а нравственность поднялась до недосягаемой высоты, с планеты, где люди, давно забыв распри и войны, живут высокогуманными идеалами братства и любви...
— Чепуха, — отозвался наконец Мечетный, не выдержавший философствований своего соседа.
— Ан, не скажите, не скажите, — сразу обрадовался и оживился попик. — Библия — величайший документ, вобравший в себя тысячелетнюю мудрость человечества. Этого ведь и Энгельс не отрицал. Не так ли? Так вот в числе другого прочего в Библии есть прямые указания на прилет пришельцев в те далекие библейские времена. Да, да. Там в книге пророка Иезыккиля есть прямые указания на прилет инопланетян на космическом корабле. Вы не читали Библию? И напрасно, напрасно. Очень советую вам почитать, почтеннейший. Иезыккиль прямо рассказывает, как в огне и в дыму появились эти пришельцы. Даже о том, как блестели их прозрачные скафандры, которые он сравнивает с кристаллом. Даже технику их передвижения по земле сей Иезыккиль описал — колеса, огонь, дымный хвост. Там говорится даже, что, улетая, один инопланетянин оставил ему свиток с поучениями. Вероятно, какие-то химические или математические формулы. Но Иезыккиль, представьте себе, этот свиток... съел. Да, да, так и пишет, съел, дабы приобщиться к божьей благодати. Ну что с него возьмешь. Невежественный дикарь слопал, может быть, ту самую ниточку, которую инопланетяне протянули нам, землянам, из своего благословенного богом мира. Все это описано в Библии. Что вы теперь скажете?
В разговорной колоде ультрамодернового священнослужителя эта библейская история, по-видимому, была козырной картой, позволявшей ему втягивать в беседу самых неразговорчивых людей. Но, погруженный в свои мысли, Мечетный остался глух и к увлекательным приключениям библейского мемуариста.
— Чепуха, — повторил он, будто отмахиваясь от комара.
Но попик не угомонился. Встал, одернул свою габардиновую ряску, достал с полки синюю аэрофлотскую сумку, извлек из нее салфеточку, разложил на столике, а на ней расположил куски розового свежего балыка, икру двух сортов в аккуратных стаканчиках, румяно поджаренные, маслянистые шанежки.
— Давайте потрапезуем, чем бог послал, — предложил он с общительной улыбкой на полных ярких губах. — Потрапезуем дарами обильной нашей уральской земли, извините только за рыбное — сегодня постный день.
— Благодарю, я сыт, — ответил Мечетный, хотя от запахов «посланной богом» постной еды у него, что называется, потекли слюнки.
В руках запасливого соседа оказалась плоская бутылочка. Он отвинтил пробку-стаканчик, наполнил его.
— Ну хоть это-то откушайте — фирменный. Десятилетней выдержки. Сие, как говаривали отцы наши, и монаси приемлют.
— Не пью.
— Ну, как знаете, — вздохнул попик, — не смею неволить, — и опрокинул стаканчик в рот, вытер губы салфеточкой и довольно огладил волнистую бородку.
Мечетный покосился на обстоятельно «трапезующего» соседа, и неприязненно подумал: «А бог таки посылает попам довольно щедро», — и сделал вид, что спит.
Отчаявшись его разговорить, спутник достал из кармана рясы журнал и, включив лампочку индивидуального освещения, принялся решать кроссворд.
Но Мечетный не спал. Нет. Закрыв глаза, чтобы отделаться от назойливого попика, он думал, вспоминал, сопоставлял. Лихобаба... Лихобаба... Анюта... Нет, наверное, все-таки она. Сочетание такой редкой фамилии, имени да еще отчества у кого-то другого казалось просто невероятным. А что, если действительно она? Сначала Мечетному и в голову не приходило, что он будет делать, если выяснится, что радио говорило о той Анюте, которую он когда-то знал. Потом стал думать практически. Ну а если она, как он поступит, что предпримет? Какая досада, что не удалось услышать Указ полностью... Постойте, постойте... Его вдруг осенила мысль: Указ могут повторить в ночном выпуске последних известий.
Открыл глаза, взглянул на часы. Через несколько минут пойдут последние известия. Да, да, и весьма возможно, что Указ повторят. Он сразу встряхнулся и позвонил.
Тоненькая стюардесса с кукольным личиком тотчас же наклонилась над ним.
— Вы звали?
— Да. Я прошу вас передать командиру, что мне хотелось бы послушать выпуск последних известий.
— К сожалению, нельзя. В рубку пилотов пассажирам теперь входить строжайше воспрещается. В связи с этими угонами — новая инструкция...
— Обещаю вам самолет не угонять. Просто доложите командиру, что пассажир просит его разрешения пройти в пилотскую кабину и прослушать известия. — И хотя Мечетный никогда не упоминал о своем звании и только в праздники надевал Золотую Звездочку, тут он добавил для верности: — Просит Герой Советского Союза, кандидат технических наук, инженер Мечетный.
— Хорошо. Я скажу. — Девушка скрылась.
— Простите великодушно мою назойливость. Назовите, пожалуйста, популярное слабительное средство из восьми букв, — попросил его вдруг попик, отрываясь от кроссворда.
— Что, что?
— Кроссворд не решается. Зашел в тупик. Все уперлось в это загадочное слабительное. Уж вы извините.
— Касторка, — ответил Мечетный и двинулся по проходу вслед за девушкой.
Теперь, ночью, когда огни в салоне были притушены, казалось, что самолет не летит, а висит в воздухе. В иллюминаторе виднелось черное небо, изрешеченное ярчайшими звездами. И оно тоже висело над белым облачным полем, курчавившимся, как баранья шкура. Это подсвеченное луной бесконечное поле медленно отплывало назад.
Первый и второй пилоты в белых рубашках с закатанными рукавами сидели неподвижно, как монументы, на фоне толпы светящихся приборов. Бортрадист, худенький курносый паренек, протянул Мечетному большие пухлые наушники.
— Пожалуйста, известия сейчас пойдут, — и полюбопытствовал: — А зачем вам? Что там передадут? Чего ждете?
Мечетный сделал вид, что не расслышал вопроса. Он не знал, что ответить, и, подумав об этом, сам удивился. Чего он ломает голову? Что случилось? Почему вдруг накатила на него эта волна, накатила и захлестнула все его мысли? Странно. Очень странно.
В последние годы жизнь его наладилась, шла ровно, по проложенной им самим колее. Мало что, кроме работы, волновало и увлекало его. Жил строго, по составленному им самим графику. Зимой и летом в трусах делал на балконе гимнастику, обливался ледяной водой. Сам варил себе кофе, жарил яичницу с грудинкой, выпивал стакан кефиру. Ровно в девять подводил свой «Жигуленок» к крыльцу лаборатории и появлялся в ней с такой точностью, что по приходу шефа сотрудники могли проверять часы. В лаборатории, где сейчас велись изыскательские работы больших масштабов, были, конечно, и трудности, и переживания, и волнения, но и в эти часы инженер Мечетный внешне сохранял спокойствие и даже нагоняй давал своим сотрудникам тем же ровным, или, как они сами определяли, «тусклым», голосом.
И вот он, славящийся и гордящийся своим хладнокровием, стоит в коридорчике тесной кабины и, прижимая к уху губчатый наушник, явно волнуется на глазах этого курносого паренька.
...Последние известия текут в наушниках в привычном ритме. Звучат знакомые фразы: «В Колонном зале Дома союзов состоялось... досрочно достроена и сдана в эксплуатацию... в результате предмайского соревнования на восемь дней раньше срока пущен агрегат самой большой в Европе... успешно закончили культивацию посевов зяби и дали обязательства...». Ага, вот! «Указом Президиума Верховного Совета...» Мечетный просто втискивает в щеку мягкий губчатый наушник и чувствует, что рука у него вспотела от волнения. «...За исключительное мужество и самоотверженность, проявленные при спасении школьников, начальник высокоширотной геологической партии Лихобаба Анна Алексеевна награждается...»
Лихобаба Анна Алексеевна. Мечетный протянул радисту наушники, рука его дрожала.
— Ну что, прослушали? — Курносый парень просто изнемогал от любопытства... — Что сказали-то? Хорошее? Плохое?
— Не знаю, — ответил Мечетный и направился к двери.
В полумраке салона можно было все-таки кое-что рассмотреть. Молодой парень в могучей бороде, который ухитрился перехрапеть звон моторов, сейчас проснулся и, разложив на откидном столике какие-то бумаги, старательно писал. Те трое, в брезентовых штурмовках, играли в карты. Тетки-колхозницы, что щелкали кедровые орешки, спали, закутавшись в свои клетчатые шали. Шахматисты все еще млели над доской. Спала и куколка-стюардесса, свернувшись, как котенок, в свободном кресле. Словом, комфортабельнейший самолет на этом дальнем рейсе теперь напоминал зал ожидания на какой-нибудь маленькой станции.
Попик тоже спал. Но, когда Мечетный усаживался с ним рядом, он открыл глаза.
— Великая вам благодарность за касторку.
— За какую касторку?
— А за ту самую, которую вы по своему великомудрию мне подсказали; Сижу, ломаю голову: Иисусе Христе, слабительное, какое же такое народное слабительное. Ревень? Нет... Чернослив — не подходит... Олиум Рициний? Два слова. А тут благодаря вашей догадливости кроссворд сразу решился. Позвольте поинтересоваться, что же вы такое услышали в последних известиях?
Не ответив, Мечетный снова откинулся на изголовье и плотно закрыл глаза. Теперь он обдумывал новые сведения, полученные в последних известиях. Спасала школьников. Это, казалось бы, подтверждало его догадку. Спасать, помогать — в характере Анюты. Но геолог, начальник партии... Геология — вообще работа для сильных, закаленных людей... Типично мужское дело. И потом геолог и школьники. Какая тут связь? Ведь геологические партии работают обычно вдали от населенных мест, тем более на малообжитом Севере, где, судя по всему, и произошло это дело. И потом, ну, спаси этих школьников учитель, милиционер, какой-нибудь рыбак, тракторист или там на Севере — олений пастух, все было бы ясно, а здесь геолог. И вообще могла ли девушка с тонким детским голоском, который сейчас звенел в ушах Мечетного, войти в эту суровую профессию? Маловероятно. Но вот спасение ребят от какой-то и, видимо немалой, беды — это на Анюту похоже.
Про себя он уже решил: кто бы она ни была, эта Лихобаба Анна Алексеевна, он начнет ее розыск. По прибытии в Гагру напишет ей. Напишет? А куда? Север — земля без края. И там, конечно, сейчас работает много экспедиций, ищут нефть, газ, редкие металлы, алмазы... Но вот орден! Уже зацепка. Может быть, это поможет в розыске. Не многие, очень не многие так получают сейчас ордена. От ордена, пожалуй, и можно протянуть ниточку к Лихобабе Анне Алексеевне. Написать в Верховный Совет или в Министерство геологии. Но ведь посмеются. Скажут, нашел себе справочное бюро. Тут уже и Звезда Героя, наверное, не поможет. И все-таки стоит попробовать. Может, ответят. Но ждать этот ответ, наверное, долго и куда просить ответить: в санаторий, в Гагру, или на завод, в лабораторию?
Обдумывая, как ему найти эту самую Анну Лихо-бабу, Мечетный заснул и открыл глаза, когда попик осторожно тряс его за плечи, говоря извиняющимся тоном:
— Осмелюсь побеспокоить, Москва — столица нашей Родины. Город-герой. Подлетаем. Огни аэродрома уже видны, скоро посадка.
3
Проснулся Мечетный с ощущением неясной радости. Что такое, почему? Отпуск? Курорт? Нет, не только это. И тут вспомнил: ах да, этот Указ! Радость сменилась беспокойством, тревогой. Ну и что же теперь делать?
А тут еще выяснилось, что из-за встречного ветра самолет опоздал и тот, который должен был доставить Мечетного до места назначения, уже улетел. Следующий же рейс в этом направлении будет лишь вечером. В запасе целый день. Но день в Москве — это тоже неплохо.
Прокомпостировав билет и оставив в камере хранения чемодан, Мечетный зашагал на остановку автобуса-экспресса. Многие ожидающие были знакомы по самолету. Впереди оказался какой-то военный. Он стоял, уткнувшись в газету, и, как видно, тщательнейше изучал отчет о хоккейных баталиях. Мечетный был тоже не чужд хоккейных страстей и через плечо соседа принялся читать отчет. И тут взгляд его упал на напечатанный на видном месте уже знакомый ему Указ и на заметку под этим Указом, озаглавленную «Подвиг геолога».
Забывшись, он просто навалился на плечо владельца газеты. Тот удивленно обернулся.
— Дайте, дайте, пожалуйста... На минуточку. Мне надо прочесть.
Военный осмотрел его с головы до ног, но газету отдал.
— Пожалуйста. Возьмите ее себе, я уже проглядел. Но «Спартачок»-то, «Спартачок» как идет... А? Что вы скажете?
Вот что узнал Владимир Онуфриевич Мечетный из заметки. На Крайнем Севере, в дельте большой реки, недалеко от промыслового поселка Рыбачий, ребята-первоклассники, забавляясь рыбной ловлей, сгрудились на молодой льдине, а льдина оторвалась от припая. Течение, подгоняемое ветром, потянуло ее в открытое море. Испугавшись, дети бросились на другой конец льдины, она перевернулась. Все очутились в воде. И тут оказавшийся недалеко руководитель геологической партии Лихобаба Анна Алексеевна бросилась в воду и одного за другим спасла ребят.
Заметка была написана наспех, как говорится, к Указу. Подробности этого удивительного происшествия не сообщались. Как могла одна женщина спасти восемь школьников, тоже не разъяснялось. Отсутствие реальных фактов восполнялось в заметке похвальными словами в адрес Лихобабы Анны Алексеевны и громкими рассуждениями о добром и самоотверженном сердце советских женщин. О личности и биографии спасительницы не говорилось ни слова. Геолог, и все тут.
И тем не менее, несколько раз прочитав заметку, Мечетный почему-то уверился, что совершившая необыкновенный этот поступок женщина именно и есть та самая Анюта, которую в дни войны он знал, любил, которая столько для него сделала и которую он внезапно потерял да так и не нашел, хотя долго и упорно разыскивал после войны. Она исчезла, как бы растворилась среди миллионов воинов, возвращавшихся в те дни с фронта в родные города и села.
Постепенно Мечетный смирился с неудачей розысков. Было по горло дела, сначала продолжение учебы в институте, практика, овладение инженерной профессией. Потом, честно говоря, он уже и позабыл о своем необыкновенном старом романе. Только иногда, очень редко, эта самая Анюта приходила к нему в снах, а с пробуждением уходила в небытие, и сама память о ней оттеснялась все дальше и дальше делами, бытом, женщинами, с которыми он встречался и дружил, докторской диссертацией, отнимавшей в последние годы все его свободное время.
И вот этот Указ. Она ли живет где-то там, на далеком и неведомом ему Севере? Ей ли адресована эта награда? Той ли девушке с детским голоском, которую он знал, или незнакомой женщине, ее однофамилице, одному из бесчисленных геологов, которые сейчас странствуют по глухим краям громадной страны, отыскивая в земле скрытые от людей богатства.
«Наверное и вероятнее всего, это все же однофамилица», — пробовал он успокоить себя. Но старая, почти забытая любовь теперь воскресла и заслонила от него и сегодняшние заботы и радость от того, что с сурового Урала едет он отдыхать в благословенный край, где все уже цветет и благоухает, где ему предстоит провести отпуск, первый отпуск за два нелегких и суматошных года, и где, если повезет, он закончит наконец свою диссертацию.
Инженер Мечетный давно не был в Москве. Лаборатория его по научной линии была в непосредственной связи с Новосибирским филиалом Академии наук.
Со всеми серьезными делами он ездил туда. Нужды в посещении столицы не было, и он, может быть, даже и неосознанно, избегал ее.
И вот теперь роскошный автобус-экспресс с красивым названием «Икарус» мягко вносил его в Москву. Слева и справа от шоссе возникали новые, совершенно незнакомые Мечетному районы, дома-кристаллы поднимались над зелеными полями, упираясь своими плоскими крышами в голубое весеннее небо, а между ними тут и там виднелись приземистые постройки необычной архитектуры, и можно было только догадываться, что это: торговый центр, или кинотеатр, или крытый рынок.
Наконец автобус вынес его на широкий и тоже незнакомый проспект, разделенный на три полотна, шеренгами уже немолодых, покрытых нежной, желтоватой весенней зеленью лип. Архитектура стала спокойней, привычней, приблизилась к облику знакомой Мечетному Москвы. Но этот проспект тоже был новый. Все пассажиры, прилетевшие с Мечетным, прильнув к стеклам, жадно вглядывались в эту Москву, обсуждали ее новинки. Три тетки в клетчатых шалях застыли с ореховой скорлупой на губах, шумно дивясь обилию магазинных витрин.
Но сам Мечетный сидел погруженный в свои мысли и почти не смотрел на Москву. Он думал, думал, думал. Думал о девушке Анюте, которая так внезапно вернулась в его жизнь. Это странно, но он совершенно не помнил ее лица. Перед его мысленным взором неясно вырисовывалась лишь фигурка маленького смешного солдатика, в пилотке, надвинутой на уши, как капор, в непомерном бушлате, перетянутом так туго, что фигурка эта напоминала цифру 8. И еще вспоминались начищенные кирзовые сапоги. Они были тоже непомерно велики, из-за чего, судя по всему, легкая походка девушки была какой-то скребущей.
13 роте, которой командовал капитан Владимир Мечетный, относились к своему маленькому санинструктору шутливо, посмеивались над ее фамилией Лихобаба и, игнорируя ее сержантские лычки, звали по имени — Анной, Анютой, Аней, Нюрой и даже Нюшей. По фамилии, с упоминанием ее звания — старший сержант обращался к ней только он, Мечетный. Причем, когда он это ее звание произносил, она сразу вытягивалась и брала руки по швам.
Смешная фигурка маленького солдатика легко вставала в памяти, а вот лицо нет. Вспоминались лишь рыжеватый чуб, всегда выбивавшийся из-под надвинутой на уши пилотки, да яркие веснушки, которыми была густо побрызгана ее переносица. И еще отчетливо вспоминался голос, вернее, голосок, тонкий, почти детский. Просто звенело в ушах: «Товарищ капитан... слушаюсь, товарищ капитан... будет исполнено, товарищ капитан... никак нет, товарищ капитан».
Мечетный так углубился в мысленные поиски утерянного, забытого образа, что прослушал обращенные к нему слова молодого попика, оказавшегося его соседом и по автобусу.
— Что вы сказали?
— Приглашаю вас полюбоваться, какая красота! — Попик показывал на окно, за которым плыли пейзажи Москвы. — Ныне мы пожинаем щедрые плоды трудов своих. — И, перекрестившись на старенькую пеструю церковку, как бы заблудившуюся между строгими прямоугольниками и кубами, прихотливо выстроившимися вдоль новых улиц, добавил с пафосом: — Нет предела трудам народа нашего и щедрости правительства нашего.
— Да, да, конечно.
Мечетный продолжал раздумывать о своем. Со стереоскопической четкостью, в мельчайших подробностях встали перед ним его последние военные сутки.
В самый разгар весеннего наступления рота Мечетного, считавшаяся штурмовой и двигавшаяся в авангарде авангардного полка, получила задачу с ходу форсировать Одер. Переправочные средства еще не были подтянуты. Мостопарки тащились где-то позади по разбитым войною колеям. Роте предстояло переправиться на подсобных средствах.
Река была еще подо льдом, но в месте, избранном для форсирования, на речной стремнине была широкая, незамерзающая, курящаяся паром полынья. Воздушная разведка установила: здесь у неприятеля укреплений нет. По-видимому, считалось, что полынья эта для форсирования — место самое неудобное. Вот его и избрали для первого броска через реку, сюда и нацелили штурмовую роту.
Весна еще только завязывалась. Были очень морозные ночи. Вокруг полыньи все одето крупным пушистым инеем, особенно оттенявшим черноту быстро несущегося водного потока. Опытным, закаленным в долгом и непрерывном наступлении от самого Львова бойцам штурмовой роты удалось под покровом ночного тумана на подсобных средствах — держась за полено, бревно, какую-нибудь дверь или мешок, набитый соломой, — словом, воспользовавшись всем, что оказалось под рукой, удалось без существенных потерь вплавь форсировать полынью. Через шуршащие заросли вмерзших в лед камышей прошли без единого выстрела. Добрались до берега, гремя обледенелой одеждой, выбрались на него.
Особенно запомнились Мечетному первые секунды форсирования: страх перед этим быстрым потоком, перед ледяной водой, перед неизвестностью, ожидавшей на той, на неприятельской стороне. Понимая, что бойцы испытывают эту тягостную нерешительность, Мечетный бросился в воду первым. Бросился, поплыл, и, хотя по протоке несло мелкие льдины и мокрый снег, который называется салом, он, к удивлению своему, даже не ощущал холода. Благополучно выбравшись на неприятельский берег, он приказал роте рыть окопы под защитой высокого обрывистого откоса. И сам работал лопатой. Копали яростно. Бойцы знали, что только вот такая самозабвенная работа согреет и убережет от простуды. Еще знали они, что с восходом солнца их обязательно обнаружат и попытаются любыми средствами сбросить в воду или уничтожить. Работали так, что от людей валил пар, как от загнанных лошадей.
И когда из пелены густого тумана поднялся краешек оранжевого, озябшего солнца, узенькие окопчики и пулеметные гнезда были уже отрыты, укреплены и по возможности замаскированы. На той, на нашей, стороне уже подтянули плавсредства. Через протоку ходило несколько надувных лодок. На одной из этих лодок подвезли канистру со спиртом. Вместе со старым усатым бойцом-санитаром от окопчика к окопчику ходил маленький старший сержант и дрожащей рукой подносил согревающую дозу в аптекарской мензурке. Спирт обжигал рот. Иные морщились, кашляли, а многоопытный санитар советовал:
— Со сталинградской закуской, со снежком, со снежком.
Санинструктор детским своим голоском убеждал:
— Не бойтесь. Это же лекарство. Лекарство от простуды.
Подошла эта пара и к капитану Мечетному, уже расположившему свой командный пункт в пещерке, врытой в крутой берег. Он сидел у костра в нательной рубашке. Одежда и обувь сушились. В роте знали, что у их командира малопонятная странность. Он не брал в рот хмельного и свою «ворошиловскую дозу» неизменно отдавал кому-нибудь из комвзводов, тому, кто в этот день особенно отличился. В силу этого даже подозревали, не принадлежит ли он к какой-нибудь изуверской безалкогольной секте.
Так вот, добравшись до наблюдательного пункта, усатый санитар осторожно, боясь, как бы не уронить на снег драгоценной капли, налил мензурку и протянул комроты вместе с комком снега.
— Ух, так согреет, товарищ капитан...
Но Мечетный отмахнулся от него, как от назойливого комара:
— Ступайте, не буду.
И тогда, это Мечетный хорошо запомнил, возле него возник маленький сержант и детским своим голоском, в котором вдруг зазвенели приказные нотки, произнес:
— Пейте, товарищ капитан. Это лекарство. Пейте в медицинских целях. Не то простудитесь и сляжете — пейте.
И Мечетный, посмотрев на своего санинструктора, себе на удивление, опрокинул мензурку в рот, передернув плечами от отвращения. А девушка, уже протягивая ему снег, снова как бы приказывала:
— Заешьте, нельзя без закуски...
Пара двинулась дальше, к следующему окопчику, и вот тогда капитан Мечетный, чувствуя, как тепло разливается по телу, как сразу унялась зябкая дрожь и перестали стучать зубы, подумал: «А девчонка — молодец».
Как раз в это мгновение и послышался крик дозорного:
— Воздух!
Сквозь редеющий туман просочился скребущий звук моторов, и где-то в небе скорее угадался, чем увиделся, неторопливый неприятельский самолет. «Рама»! Так называли фронтовики воздушного разведчика — двухфюзеляжный самолет «фокке-вульф», обычно плавающий высоко в небе на труднодостижимой для зениток высоте. Мечетный знал, конечно, что сулит появление «рамы». Говорили, что с помощью своих приборов самолет этот может с большой высоты разглядеть и заснять каждую морщинку местности, каждого отдельного солдата, может по радио предупредить своих о любом передвижении самых маленьких групп и вызвать на них прицельный огонь.
Натянув подсохшую одежду, капитан выскочил из землянки:
— К бою!
И пошел вдоль линии окопчиков, вырытых под защитой крутого прибрежного откоса. У него были опытные бойцы. Они форсировали на своем пути немало водных преград, в том числе и широкую Вислу, при переходе которой подразделение Мечетного тоже шло в ударном эшелоне. Теперь вот цепь окопчиков, врытых в гребень откоса, окопчиков, недоступных для пуль и обычного снаряда, надежно прикрывала захваченный кусок берега. «Тет де пон», — вспомнил вдруг капитан уставное название такой вот захваченной прибрежной территории. Но «рама», конечно, видела этот их «тет де пон», видела лодки, которые уже перевозили через протоку живую силу и грузы, видела скопление солдат у этой, только что наведенной переправы.
Капитан отдал приказание маскироваться. Чем? А хотя бы вот этим сухим камышом, который во множестве торчит изо льда в замерзшей части речного русла. Бойцы работали сноровисто.
Но капитан знал: у «рамы» очень зоркий глаз и очень опытные пилоты-разведчики. От них не скроет даже самая тщательная, а не такая вот, скороспелая, маскировка.
— К бою! — повторил приказ Мечетный, пробегая вдоль линии окопчиков, и, натолкнувшись на девушку и усатого солдата, все еще разносившисх «горючее», выбранился: — Путаетесь тут под ногами... Готовьте в затишке место для раненых. Быстро.
— Оно уже готово, товарищ капитан, — ответила девушка, пристукнув при этом каблуками.
И действительно, в крутизну берега была врыта пещерка. Земляной вход в нее был прикрыт плащ-палаткой. У входа стояли наготове свернутые носилки, а над входом обвисал в безветрии белый флажок с красным крестом.
Теперь вот, вспоминая, Мечетный устыдился, что в спешке даже и не поблагодарил тогда своего рачительного санинструктора. Да и некогда было. Из-за гребня берега уже доносился нарастающий шум моторов. К крохотному предмостному укреплению, к этому пятачку захваченной за рекой уже немецкой земли, двигались машины. «Ага, очухались, начинается», — подумал он и, приникнув к окулярам бинокля, разглядел вдали приближающиеся машины.
— Едут! — доложил боец из дозора. — Четыре бронетранспортера с солдатами. И простые грузовики... Солдаты в черных бушлатах.
— Минометы? Пушки?
— Минометов и пушек не видно. Похоже, только с автоматами.
Было ясно, «рама» сделала свое дело. К месту форсирования подтягивались войска. Черные — значит эсэс. Отсутствие серьезных огневых средств говорило, что форсирование, произведенное на этом участке, для неприятельского командования было все-таки неожиданным. Оно направило к предмостному укреплению первое, что оказалось под руками... Но эсэсовцы! Старый фронтовик, Мечетный знал, что это такое. Встречался он с этими эсэсовцами, скрещивал с ними оружие. Вояки хоть куда. Но и в его роте — закаленные солдаты. Знал он и то, что захваченный им приречный пятачок слишком мал для настоящего боя. Крутой прибрежный, и укрепленный теперь окопчиками откос защитит от прямой атаки. Танками, тоже его не взять. Разве что пустят их в обход по пойме. Да и артиллерия мало что может сделать солдатам, врубившимся в берег. А вот миномет с навесным огнем... Да, минометы... Или если «рама», продолжавшая с зудением плавать в воздухе в окружении зенитных разрывов, вызовет авиацию.
Все это разом промелькнуло в голове Мечетного. Он приказал роте рассредоточиться вдоль откоса. Сам влез в узкую земляную щель, вырытую на самом гребне для дозорного. Отсюда открывался вид на зеленые пространства озимей, вытаявших уже из-под снега, на дорогу, которая, петляя вдоль овражка, вела в какое-то селение. По этой-то дороге и приближались машины. Трофейный цейсовский бинокль помог Мечетному рассмотреть даже лица солдат противника. Это были дюжие, один к одному, молодцы, совсем непохожие на немецких пехотинцев 1945 года, уже познавших горе и страх длинного отступления. С такими Мечетный уже встречался на Висле, когда шли бои за Сандомирский плацдарм. «Черные черти», как называли солдаты эсэсовцев, дрались умело, контратаковали напористо, упорно и, несмотря на густой огонь артиллерии, наносивший им немалый урон, продолжали снова и снова бросаться в контратаки. Умирать они тоже умели. Умирали, сражаясь. И несмотря на зловещую славу этих отборных частей, нельзя было не отдать должное их боевым качествам.
К моменту, когда колонна машин остановилась поодаль и солдаты, высыпавшие из кузовов, тут же приняли боевой порядок, Мечетный уже прикинул, что численно они не очень превосходят его роту. Штыков сто, не больше. Такие силы он мог из-за прикрытия берега отразить без особых даже потерь. Только бы не авиация, только бы не успели подтянуть минометы!
— Подпустить... Без приказа не стрелять. Кбман-да — свисток, — скомандовал он, взволнованно рассматривая уже приближающегося неприятеля. Успокаивал себя: обороняться легче, чем наступать, — откосы берега их надежно прикроют. — Передать взводным: только прицельный огонь, с короткой дистанции!
Волновался ли он при этом? Конечно, волновался, хотя его рота уже била этих «черных чертей» на Сандо-мирском плацдарме. И как била! Правда, и сама понесла немалые потери, отражая их яростные атаки. Но ведь то, что однажды пережито на войне, опытного воина уже не пугает.
— Бить прицельно, — повторил он приказ.
Но, пока приказ этот доходил до бойцов, все изменилось. Воздух загудел. В тусклом сереньком небе появились неприятельские самолеты. Мечетный сразу определил — самолеты-пикировщики «Ю-87», «лаптеж-ники», по фронтовому прозвищу. И хотя тотчас же с правого берега ударили по ним зенитки и в небе стали распускаться как бы пухлые коробочки хлопка, самолеты эти, зайдя со стороны солнца и будто соскальзывая с горы, устремились вниз на занятый Мечетным пятачок. О, этот напряженный рев пикирующих самолетов! Даже вспоминать о нем жутко. Но, втиснувшись в мерзлую землю своей щели, Мечетный все же следил за их атакой.
Бомбы, ясно видные на сером небе, отделились от самолетов и, как брызги, стряхнутые с кисти, со свистом летели вниз. Рев самолетов заглушал свист падающих бомб. Удар был нанесен тремя сериями, и все три серии бомб легли в прибрежной низине, рота не понесла особых потерь. Убило двух бойцов, которые, не выдержав адского свиста, сорвались со своих мести бросились бежать к реке; потопило резиновую лодку с подкреплением и подожгло сухой камыш.
«Ничего, пронесло», — подумал с облегчением Мечетный, отирая рукавом со лба обильный пот. Но он знал, хорошо знал: радоваться рано. «Рама», конечно, все видела сверху. Видела промах, скорректировала. «Юнкерсы» развернутся и пойдут на второй заход. Воздушные разведчики точно наведут эту вторую атаку.
— Из окопов не вылезать, к воде не спускаться, — скомандовал Мечетный, но через малое время передал другую команду: — Приготовиться к отражению атаки с земли! — И повторил: — Без приказа не стрелять!
Тем, что двигались по полю в черных бушлатах, не был виден промах бомбового удара. Они пошли, вернее, ринулись в атаку. Бежали, не нагибаясь, строча на ходу из автоматов, и Мечетному под свист пуль, визжавших над головой, вдруг вспомнилась атака каппе-левцев в фильме «Чапаев», виденном им давным-давно. Он снова повторил приказ:
— Бить прицельно, каждому по своей мишени, по свистку.
Наступающие приближались. Берег молчал. «Молодцы ребята», — думал Мечетный, сам прижимаясь щекой к прикладу винтовки, принесенной ему ординарцем. Недаром с неделю, когда наступление остановилось на Сандомирском плацдарме, штурмовая его рота по приказу маршала Конева вместо отдыха снова и снова, до изнеможения отрабатывала разные варианты наступательных операций. Ворчали бойцы: столько времени от самого Львова в непрерывном наступлении. Теперь вот, пока копятся силы для нового рывка, самая бы пора отдохнуть, а тут опять и опять бегай, ползай по снегу, стреляй в пустоту, измученным вались спать на еловые лапы у костра.
Зато, когда вот тут, за рекой Одер, солдаты его роты перед лицом неприятельской атаки сумели до поры подавить в себе жгучее желание стрелять, Мечетный благословлял эти напряженные и утомительные учения.
Атакующие были уже близко. Они бежали в полный рост. Мечетный хорошо различал их возбужденные лица, их потные лбы. Он взял на мушку высокого парня, который, казалось, двигался прямо на него.
— Огонь! — крикнул Мечетный наконец, нажимая спусковой крючок, и потом уже для верности дал свисток.
Вся кромка откоса ощетинилась судорожными огнями, Воздух задрожал от автоматных очередей. На флангах заработали пулеметы. Треск отдельных выстрелов слился в напряженный грохот, как будто рвали туго накрахмаленный коленкор. Несколько темных фигур сразу упали в зелень озими. Появившиеся санитары стали вытаскивать раненых из огня. Но наступление продолжалось. Солдат в черном, которого взял на мушку Мечетный, перебежками двигался вперед. Он был совсем уже близко.
— Огонь, огонь! — неистово хрипел капитан.
Однако в пылу борьбы он не терял голову. Помнил, что оставаться на укрепленной позиции больше нельзя, знал, что «рама», плавающая в небе, откорректировала цели и следующие серии бомб упадут точно на окопы. Надо поднимать людей с берегового откоса, вырвать их из удобных, защищенных позиций и бросить на открытое поле. Знал, что и судьба маленького и такого важного для дальнейшего наступления пятачка, захваченного на немецком берегу, и жизнь людей его роты, столь успешно и при малых потерях форсировавшей водную преграду, и в конечном счете жизнь его самого, капитана Мечетного, зависят от того, как сумеет рота сменить позицию. Для этого надо поднимать людей, заставить их перешагнуть через смертный рубеж защищающего их откоса, выскочить на открытое поле и бежать навстречу противнику.
Для этого мало свистка, мало команды. Для этого нужен только личный пример. И Мечетный, весь напружинившись, одним махом перескочил через откос и, подняв пистолет, ринулся по полю. Ринулся с криком «Ура! За Родину, за Сталина!» Разумеется, в грохоте боя никто, разве что последовавший за ним его ординарец, не услышал этот крик. Но пример, личный пример командира подействовал, и, устремляясь вперед за солдатами в черном, которые, упорно отстреливаясь, стали отступать к своим машинам, Мечетный, не оглядываясь, знал, что его люди преодолели смертный рубеж и, наступая, следуют за своим командиром.
Торжество, яростное торжество, какое ему за всю войну не приходилось испытывать ни разу на всем боевом пути — от Нижней Волги до этой вот немецкой реки, овладело им. С надсадным криком «Вперед, за Родину!» он бежал по полю, слыша за собой топот своих солдат. Споткнулся об убитого неприятеля, упал, вскочил, побежал дальше, помня лишь о том, что нельзя отрываться от уходящего противника, надо наступать ему на пятки.
Он не слышал ни свиста пикирующих «лаптежни-ков», ни грохота бомб, разрывавшихся позади у пустых окопчиков на гребне берега, ни шипения осколков, пролетавших над головой. В эти мгновения его вело вперед упоение боя, какое, может быть, испытывали в древности всадники, врубаясь мечами в гущу вражеского строя. Он снова хотел крикнуть «ура», но в это мгновение где-то рядом полыхнуло красноватым огнем, что-то резануло его по лицу, свет погас, и он упал.
Ах, как ясно вспоминалось теперь, столько лет спустя, мгновение этого падения, которое порой еще и теперь приходит к нему во сне. Эта последняя секунда атаки. Этот удар о жесткую, мерзлую землю, холодное дыхание замерзших озимых. Вспоминался во сне обрывок и последней мысли: все, конец.
Сколько пролежал без сознания, он так и не узнал. Очнувшись, ощутил резкую боль в лице. Все тело звенело и ныло, будто через него пропускали электрический ток. И еще ощутил он, что кто-то его тащит. Сквозь звон в ушах донесся тоненький, будто детский, голосок:
— Товарищ капитан, потерпите... Миленький, хороший, потерпите немножко... Ну, совсем немножечко.
Он узнал голос своего санинструктора, понял, что его волокут, понял, что сам он кричит или стонет, и, поняв, стиснул челюсти так, что заскрипели зубы. Потом пришел в себя, но темнота не рассеялась: выбиты глаза, понял он. И снова потерял сознание.
Вторично очнулся, когда шумы боя доносились уже издали. За рекой грохотали пушки, над головой шелестели снаряды, и земля дрожала от разрывов, происходивших где-то уже в глубине занятой территории. Он сообразил, что к месту переправы уже подтянута артиллерия и что она начала отсечный огонь, прикрывая завоеванный плацдарм. Понял, обрадовался, повернул голову в сторону разрывов и опять ничего не увидел — густая, плотная тьма, будто он был погружен в чернила.
Вблизи, над его ухом, кто-то плакал. Проворные руки перевязывали ему голову. Как-то странно неловко перевязывали, и перевязывающий сам постанывал. Постанывал и в то же время лепетал:
— Больно? Я знаю, мне тоже больно. Ну, потерпите. Потерпите, товарищ капитан. Сейчас будет лучше. Сейчас все будет хорошо.
Ну конечно же это его старший сержант медицинской службы, девушка со странной фамилией.
— А немцы? А наш пятачок? Удалось его удержать?
— Удалось, миленький, удалось, хороший. Пушкари, они бьют из-за реки. Разнесли все их машины.
И подкрепление на резиновых лодках подходит. Вы не заботьтесь, товарищ капитан, не заботьтесь, все хорошо. Артиллеристы их так жахнули. О-ох! — Последняя фраза перешла в стон.
И снова забытье. Потом хлюпанье воды. Всплески весел, незнакомый мужской голос с северным, жестким говорком:
— Ты о себе подумай, сестрица. Вон у тебя повязка-то как набрякла. Опять кровушка пошла. Больно?
— Ох, мамочки-тетечки, больно! Но ничего, ничего. А ему-то каково?
И тут Мечетный понял, что голова его лежит на чьих-то коленях, и понял, на чьих именно.
— Что с вами, старший сержант Лихобаба?
— Ничего, ничего, товарищ капитан. Потерпите. Сейчас вот переплывем, а там до санбата машиной. О-ох!
Что-то теплое капнуло на руку Мечетного.
— Эх, капитан, девке этой тебе в ноги поклониться надо. Сама раненая, а тебя, можно сказать, из самого огня выхватила, — говорил жестковатый голос. — От горшка два вершка, и как только она тебя такого подняла?
— А самого-то тебя как, дядя? — спросил кто-то.
— А... ни черта. Поцарапало. Обидно только, когда царапнуло-то. И куда. Со всеми ведь шел, не отставал. Шел впереди других некоторых. И — на тебе, угодило в задницу. Теперь в санбате житья не дадут: щепетильное место.
— То-то я смотрю, сидишь как собака на заборе.
— Ну вот, начинается. Давай-давай...
Мечетный сквозь густой звон в ушах отчетливо слышал разговор. Но тело свое плохо чувствовал, оно будто онемело, как, скажем, нога, когда ее отсидишь. Контузия, понял он. И, поняв, немного успокоился. Контузия уже была у него под Сталинградом. Около месяца провалялся он в госпитале, в маленьком городке. Он даже «выгадал» тогда на контузии, получив по выходе из госпиталя две недели «на поправку», но этих двух недель не исчерпал, вернулся в часть. Однако глаза. Что с глазами? Эта острая жгучая боль, как будто кто-то с садистским усердием пальцами давит ему на роговицу. И ничего, ну ничего не видят, кругом черно.
— Сержант, что со мной?
— Бомба авиационная. Воздухом откинуло вас. Вроде бы серьезно и не задело, а вот лицо все в крови. Первую помощь я вам оказала.
— А глаза? Почему не вижу?
— Так я же вам голову забинтовала. Ну, может, кровью залило глаза. Ой, мамочки-тетечки... О-о-ох...
— Ас вами-то что?
— Не знаю, рука.
— Сильно?
— Больно очень. Так вроде бы ничего, и кровь уже не течет, а вот как повернусь...
— Когда же?
— Да вот когда я вас в воронку укладывала. Пулевое ранение. Я бы сама с вами и не управилась, да вот этот товарищ солдат помог.
— Перевязывает вас, а у самой кровь из рукава, — поясняет солдат, которого так нескладно ранило.
Толстый бок резиновой лодки зашуршал о камыш. — Слезай, приехали, — говорит кто-то.
Но Мечетный это уже не слышит, он снова впал в забытье.
4
Маленький плацдарм за Одером, этот первый занятый нами кусок немецкой земли, удалось закрепить и расширить. Но потери при этом были немалые, и все палатки медсанбата, раскинутые в негустом сосновом бору, оказались забиты ранеными. Мест не было, и так как женщин среди раненых, кроме маленького сержанта со странной фамилией, не оказалось, девушку положили в общую палатку, и по ее просьбе койка ее оказалась рядом с койкой капитана Мечетного.
Персонал медсанбата в этот день сбился с ног. Раненых из-за реки везли и везли. Хирурги работали не разгибаясь и только под вечер сумели осмотреть и как следует перевязать капитана Мечетного и старшего сержанта медицинской службы Лихобабу. Промыв девушке пулевую рану, перевязав ее, хирург наложил гипсовую повязку и приказал носить руку на бинте.
— До свадьбы заживет, — сказал он, подмигивая в сторону капитана.
С Мечетным было хуже. Контузия не очень сильная, ничем, кроме госпитальной лежки, не угрожала, а вот с глазами дело было плохо. Когда при первой обработке отклеили засохшие бинты и удалили запекшуюся кровь, хирург даже свистнул. Ничего не сказав, он приказал снова наложить повязку, не произнеся обычных ободряющих слов. Только распорядился:
— В пепеге обоих. Там окулисты разберутся. Заполните на них карточки передового района.
ППГ. Мечетный не знал этого термина. В самом сочетании этих букв послышалось ему что-то зловещее.
— А что это там у вас, медиков, за пепеге? — спросил он у старшего сержанта.
— Полевой подвижной госпиталь, товарищ капитан. Он во втором эшелоне. Там есть специалисты. Они и займутся вашими глазами как следует.
Лица девушки Мечетный, конечно, не видел, а по голосу заподозрил, что она его просто утешает.
— Так что же — глаз совсем нет, что ли?
— Да что вы, что вы! — испугалась девушка. — Глаза целы. Просто неспециалисту определить трудно: глазницы — сплошная рана. Но ведь вас пока смотрел только полевой хирург.
— Коновал чертов! — выругался Мечетный и сам удивился, как такое сорвалось с губ. Он был человеком твердого характера — во всяком случае, таким себя считал — и не прощал людям слабости, терпеть не мог проявлений истерии. Он стойко перенес первую свою серьезную рану и контузию, полученные под Сталинградом. Но теперь было другое — глаза...
А раненых все везли и везли. Среди них появились артиллеристы, саперы, обожженные танкисты. Это говорило о том, что маленькое предмостное укрепление, захваченное ударной ротой, расширяется, что в бой на земле Германии вступают все рода войск. Мест не хватало. В промежутки между койками ставили носилки. Носилки стояли и прямо в лесу, на снегу, под звенящими соснами. Санитарные машины были в постоянном движении, и вывезти капитана в полевой передвижной госпиталь сразу не удалось.
В эту ночь Мечетный не спал. И не то чтобы мучила боль. После того, как ему что-то впрыснули, навязчивая, как бы звенящая боль отступила, приглушилась. К странному состоянию бесчувственности своего тела он начал привыкать. Нет, спать не давала неотступная мысль — глаза. Вернется ли зрение или он теперь слепец, и жизнь придется доживать в страшном мраке?
Неужели навсегда ушло от него богатство красок? Неужели не увидит он никогда этих звенящих над головой сосен, звездного неба? Нет-нет, успокаивал он себя, ну что этот «коновал» из медсанбата понимает в глазах. Вот посмотрят специалисты, что-то там сделают, заживут раны, вернется свет.
А если все-таки не вернется? Что тогда? Оставаться на всю жизнь слепцом? Жить на ощупь? Пальцами читать какие-то огромные книги, как это делает знакомый ему земляк-сталевар, которому пламенем обожгло глаза? И перед мысленным взором вставал этот крепкий, могучий человек, сидящий у окна своего домика и с утра до вечера склеивающий какие-то всегда одни и те же коробочки. Впрочем, «с утра до вечера» — этого тоже для него не было. Его окружала вечная мгла, и, вероятно, потому на этом лице с крупными, мужественными чертами всегда дрожала робкая, виноватая улыбка. Вспоминая этого земляка, которого все в поселке знали и жалели, Мечетный холодел от страха: нет-нет, только не это.
А организм уже начинал приспосабливаться к новому положению. Заметно начал обостряться слух. Он слышал, как за полотном палатки протяжно и звонко шумят вековые сосны, как откуда-то издалека ветер иногда доносит крик петуха, как во сне храпят и постанывают соседи и как где-то, в другой палатке, криком кричит лейтенант, которому ампутировали разбитые ноги. С соседней койки доносилось дыхание маленького сержанта, она что-то бормотала во сне. И уже издалека слышались звуки канонады. Ухо фронтовика ясно различало, что в орудийный хор уже вплелись басы тяжелой артиллерии. Залпы легонько встряхивали землю и заставляли звенеть мензурку, стоявшую на тумбочке: здорово наступают, бьют уже по резервам...
Под утро капитан ненадолго забылся в тяжелом, беспокойном сне. Но и сквозь сон его обострившийся слух донес до него новый необычный звук, раздавшийся в палатке. Он инстинктивно приподнялся на локти, повернув голову в сторону этого звука. Ничего, разумеется, не увидел, но угадал, что это плачет его соседка. Плачет тихо, взахлеб, по-детски шмыгая носом.
— Что вы, сержант, что с вами?
Рыдания стихли, девушка затаилась.
— Что случилось, что у вас там?
— Ничего, товарищ капитан, плохой сон видела.
— Зачем говорите неправду? Больно? Позвать дежурного?
— Нет, нет, что вы, товарищ капитан. Зачем? У меня уже прошло.
— Дежурный!
Послышались шаркающие шаги.
— Чего тебе, милый, чего кричишь? — спросил женский, явно старческий голос.
— Не я, вот она...
— Ну о чем говорить: неловко повернулась, раненую руку потревожила. Вы уж, тетечка, меня извините, ступайте, подремите...
— Это я звал, — вступил в разговор Мечетный. — Вы что, не понимаете, что ей больно и надо оказать помощь?
— А тут, милый, всем больно. Больно — терпи. Христос терпел и нам велел, — ворчала невидимая Мечетному старуха, неведомо как очутившаяся среди военных. А потом, обращаясь уже не к нему, потеплевшим голосом добавила: — Сколько же тебе годочков-то, милая? Ох, война, война! Никого она не щадит. Ни старого, ни малого, дети — и те воюют. А ты, начальник, больше не кричи, не буди людей. Вторые сутки глаз не смыкают...
На миг этот разговор рассердил было капитана. Он же командир, как можно с ним так разговаривать. Потом вспомнил, что никакой он здесь не командир, что на госпитальной рубахе погоны не полагаются, что обладательница старческого голоса, конечно, права. Понял, устыдился и, когда старуха спросила, может, все-таки разбудить сестричку, торопливо ответил:
— Нет-нет, не надо, ступайте отдыхайте.
— Поспите, нянечка. Какие сутки-то у вас тяжелые были, — сказала девушка.
— И не говори, милая, и не говори...
По тому, как скрипнула койка, Мечетный понял, что старуха присела на уголке его постели и в общем-то не прочь поболтать.
— Уж куда тяжелее. Такой был день, не приведи господи. Наши-то, говорят, через этот самый немецкий Одёр шагнули. Бои страшенные. Новых и новых везут. Сестричка наша совсем с ног падает. Как села, так и уснула. Спит сидя, и папироска к губе приклеилась... Мы-то, что называется, на хвосте у войны, и то нам нелегко. А каково-то вам в голове идти. О-хо-хо... Где же это вас, товарищ начальник, благословило? Уж не за Одром ли в Германии?..
Голос у старухи был дребезжащий, однако еще сохранял былую звучность. Этой звучностью он напоминал голос матери, которую Мечетный потерял, когда был подростком. Захотелось увидеть лицо старой женщины, неведомо как и почему оказавшейся в медсанбате первого эшелона. Инстинктивно повернул голову в ее сторону и ничего не увидел, кроме тьмы. И снова подумал: неужели навсегда? Подумал и застонал.
...С особой четкостью вспомнилась кандидату технических наук, инженеру Мечетному эта первая слепая ночь, проведенная под брезентом медсанбатовской палатки. Вспомнилась во всех деталях: и подрагивание земли при залпах тяжелой артиллерии, и мирное пение петуха, неожиданно вторгавшееся в эту боевую ночь, и старческий голос, и то, как старуха смешно звала немецкую реку: Одёр.
5
Настало утро. Мечетный не увидел розового солнечного луча, протянувшегося из-за откинутого полога палатки в густую полутьму, где тесно, почти впритир стояли койки и носилки. Но он почувствовал прикосновение этого луча на своей руке. Издалека послышалось позванивание умывальников. Потом возникли знакомые шаркающие шаги и старческий голос сказал:
— Ты тут одна из женского пола. Тебя первой и умою.
— Нет-нет, я сама, — всполошилась старший сержант, и койка у нее энергично заскрипела. — Мамочки-тетечки, я ж сама великолепно умоюсь одной рукой. Зачем мне вас затруднять?
— Давай-ка, девонька, без разговоров. Ты теперь раненая. Тебя беречь положено. — Старуха гремела кувшином и тазом. Голос ее звучал по-другому, чем ночью, уже деловито, энергично. — Сколько же тебе все-таки лет-то, милая, будет?
— Семнадцать... семнадцатый...
— Дитя, совсем дитя... Приподнимись-ка на локоток, а мы подушечку подобьем, вот так... Как же это тебя в армию-то допустили, ведь таких несмышленышей не берут?
— А мы с подружкой в паспорте год подчистили. Я-то ладно, а вот вы-то? Как вы-то в армию попали? Сколько вам лет?
— Седьмой десяток разменяла. Смоленские мы. Все у нас супостат перекрошил: ни кола ни двора, одни печки. Сыны в армии, неведомо где, и живы ли еще, не знаю. А мужа моего, Федора Григорьевича, фрицы расстреляли... Одна я осталась, как былинка в поле. Ну и прибилась к медсанбату, солдатам портки стирать. А сейчас вот достиралась, в санитарки произвели. С санбатом моим вон куда, в Польшу, дошла. На эту самую немецкую реку Одёр. И ранена была, что ты думаешь? Правда, чуть царапнуло осколком, когда он, поганый, на медсанбат, на красный крест осколочную бросил. Дай-ка я тебя, милая, вытру. Не сохнуть же тебе на ветру. — И вдруг: — А что, сосед-то, капитан, суженый, что ли, твой?
Мечетный, слушавший этот разговор сквозь дрему, сразу насторожился: суженый.
— Командир мой, ротой нашей командовал. — И с гордостью: — Наша рота, тетечка, первая в Германию шагнула. А впереди всех он, капитан Мечетный.
— Отвоевался твой герой. Глаза-то ему, наш врач говорил, больше, видать, и не открыть.
— Тш-ш.
— А что тут, милая, таиться? Обманывать такого человека — большой грех. Ложь никому никогда пользы не приносила. Пусть уж смотрит правде в глаза.
— Было бы чем смотреть, — включился в разговор Мечетный.
Старческая шершавая рука легла на его руки.
— Вот и жаль, что вы бога демобилизовали, не верите. А ведь с богом-то в беде легче было: человек предполагает, а бог располагает.
— А идите-ка вы со своим богом знаете куда?! — уже кричал Мечетный, чувствуя, как на него, подавляя его волю, разрывая самоконтроль, накатывает волна ярости.
Старческая рука опять легла на его руки, опять послышался голос, какими-то интонациями напоминавший Мечетному голос матери.
— А ну не шуми-ка, аника-воин, — примирительно сказала старуха. — Давай-ка я и тебя умою.
— Что умывать? Повязку, что ли?
— Зачем повязку, а рот, а подбородок-то, а руки? Все, что видно, то и умою. А то будешь лежать, как медведь в берлоге, — велика радость.
Старческие руки заплескались в тазу, потом полотенцем крепко вытерли то, что было омыто.
— Ну вот видишь, всегда найдется что умыть, — сказала старуха, отходя к следующему раненому.
— Зря вы ее так, товарищ капитан.
— А что она со своими сентенциями: бог да бог...
— Не надо бы: добрая тетечка, — упорствовала девушка. — У нее вон медаль «За боевые заслуги» есть. Видели ведь?
— Видел! Чем я могу видеть? — опять взорвался Мечетный.
И послышался старческий голос:
— А ты, командир, все-таки веру-то не теряй. Бог для тебя плох, в руки человеческие верь. Тут ведь все хирурги. А в пепеге специалисты. Наши-то режут, а там лечат. Может, над тобой специалист какой-нибудь поколдует и спасет тебе глаза. Мало ли такого я нагляделась, пока с нашего маленького смоленского Днепра до этого самого Одра наступала. Веры, командир, не теряй, с богом или без бога — верь.
В полевом подвижном госпитале, расположившемся в маленьком польском городке, Мечетного не задержали. Торопливо сменили повязку. Сделали отметки в его карте передового района и отправили дальше в тыл, в город Львов, в госпиталь челюстно-лицевой хирургии. Старшего сержанта хотели было оставить, рана ее, хотя и не была легкой, не требовала специального лечения.
Когда об этом намерении сообщили Мечетному, он затосковал. Он уже привык к тому, что рядом с ним в непроглядной тьме все время находится старший сержант медицинской службы со смешной угрожающей фамилией и нежным именем Анюта, что где-то в этом огромном, потрясаемом гигантской войной бескрайнем мире для него, погруженного во мрак, существует заботливая душа. Привык к тому, что девушка приглядывает за ним, стараясь не только выполнить, но и предупредить его просьбы, привык к тонкому детскому голоску и к звуку ее шагов.
Сержант Анюта, как он теперь мысленно ее называл, мужественно переносила свое ранение; и хотя рука ее, прибинтованная к дощечке, висела на привязи, она уже свободно расхаживала по госпиталю, помогала няням и сестрам, тяжелые, непомерно большие сапоги ее бодро скребли о пол, и было в ней, живой, внимательной, что-то такое, что притягивало сердца людей. Стоило ей ненадолго выйти из палаты, как со всех концов слышалось:
— Куда же это наша Аня-то делась?
И просьбы:
— Анюта, прочтите-ка мне письмецо.
— Анечка, повязка съехала. Поднимите.
А то и просто:
— Старший сержант, что ты все бегаешь и бегаешь, посидела бы с нами, рассказала бы чего-нибудь.
Она откликалась на все эти просьбы и, едва оказавшись в новой палате, сразу становилась нужным всем человеком. И что было странно, даже самые квалифицированные ухари и сердцееды из героев второго эшелона не приставали к ней: то ли побаивались сурового капитана, то ли, и это тоже было возможно, стеснялись этой маленькой, приветливой, отзывчивой девушки с детским голоском и твердым, ох, твердым характером.
Но больше всех она была, конечно, нужна Мечетному. Он называл ее «мои глаза» и начинал беспокоиться, нервничать и даже тосковать, если долго не слышал ее голоса, ее шагов. И когда незаживающие лицевые раны начинали болеть и дергать и он, несмотря на изрядные дозы снотворного, не мог заснуть, то думал о ней, и мысли эти как-то успокаивали и будто даже утишали боль.
Но, странное дело, думая о ней, он никак не мог вспомнить ее лица. Одна за одной вставали в памяти все детали их в общем-то короткого знакомства. При форсировании Вислы погиб санинструктор его роты, добродушнейший и немолодой уже человек из сельских фельдшеров — хрипун, матерщинник и выпивоха. Но дело свое он знал. И хотя в походной его аптечке никогда не задерживался спирт, необходимый для разных лечебных нужд, даже замполит роты, строгий, аскетического склада человек, старался этого не замечать и вместе со всеми вопреки уставу звал его Митрич.
Убило Митрича разрывом снаряда в момент, когда он выволакивал на плащ-палатке раненого из боя. Совершилось удивительное: раненый уцелел, его лишь окропило песком, а Митрича разорвало на куски. Собрали то, что от него осталось, сложили эти обрывки человека в могилу на шинель, и каждый боец бросил горсть земли, прежде чем к делу приступили люди из похоронной команды.
И вот за Вислой вместе с пополнением в эту изрядно поредевшую на переправе роту вместо массивного, солидного Митрича, сам вид которого внушал доверие к медицине, прислали игрушечного солдатика с тоненьким голоском, в непомерных кирзовых сапогах, державшихся на маленьких ногах лишь с помощью нескольких портянок. Рота оставалась верной памяти Митрича. Новый санинструктор еще не обжился в военном быту. Солдат называла она по имени, тех, кто постарше, — по имени-отчеству и даже командира роты именовала Владимиром Онуфриевичем.
Однажды Мечетный, как и все нестроевые офицеры, с особой тщательностью относившийся к субординации, строго отчитал за это санинструктора:
— Армия есть армия, война есть война, и на войне все должно быть по-военному, товарищ старший сержант!..
— Так точно, товарищ капитан, — ответила девушка, вытягиваясь.
С тех пор она как бы забыла, что у людей есть имена, и обращалась к окружающим: товарищ старшина, товарищ лейтенант, товарищ капитан. Получалось это у нее немножко смешно, но получалось. С приданными ей санитарами, пожилыми дядьками, она обращалась строго. В бою не терялась, под огонь без толку не лезла, делала свое полезное дело с солдатской выдержкой, и спирт никогда не иссякал в ее сумке. Постепенно даже самые близкие друзья Митрича перестали ревновать ее к памяти погибшего.
— Хороший мы с вами, капитан, медицинский кадр получили, — сказал о ней хмурый замполит, вообще-то не разбрасывающийся похвалами человек.
Капитана Мечетного девушка побаивалась и избегала. Впрочем, в те дни, когда войска фронта по приказу маршала Конева на Сандомирском плацдарме отрабатывали детали нового прорыва, капитан был так занят, что почти не видел своего санинструктора и уж конечно не думал о ней. Где тут было думать, когда командующий, вообще любивший образные выражения, отдал в приказе команду: наступать врагу на пятки. Рота, предназначенная для прорыва, отрабатывала прорыв и день и ночь.
Вспомнилось Мечетному и такое. Когда подготавливали списки и наградные листы на бойцов, особо отличившихся на Сандомирском плацдарме, замполит вставил в этот список и санинструктора Лихобабу. Он, Мечетный, отвел это представление: рано, без году неделя в роте, бросаться наградами не годится.
Все это факт за фактом восстанавливал Мечетный в памяти в бессонные больничные свои ночи. Все-все живо представлял. Из этих отрывочных воспоминаний как бы и составился портрет сержанта Анюты, а вот лицо, хоть убей, не мог вспомнить. Что-то такое круглое, сероглазое, густо осыпанное веснушками по переносью. Вот веснушки он хорошо помнит, да еще рыжеватый, нависший на лоб вихор, который девушка всегда безуспешно старалась заправить под пилотку.
В момент прыжка через Одер он вроде бы даже ее и не видел, не знал, переправилась ли она через протоку вместе со всеми вплавь на подсобных средствах или ее перебросили уже потом, на надувной лодке, на которой подвозили боеприпасы. Но хорошо помнил, как она вместе с санитаром заставила его выпить мензурку спирта «в чисто медицинских целях». Тогда он даже удивился, как она тут очутилась да еще успела организовать санитарный пункт в наспех вкопанной пещерке. А вот как она спасала из-под огня его самого, как сумела нести или тащить волоком мужчину, весящего семьдесят пять килограммов, — это оставалось загадкой, в этом чудилось ему что-то невероятное, что и представить себе было трудно. Зато ясно звенел в ушах тоненький голосок: «Товарищ капитан, миленький, потерпите, потерпите немножко, сейчас я вас перевяжу». И ведь перевязала. Неужели одной рукой?
— Анюта, как вы очутились за Одером на нашем пятачке?
— А на этой, на надувной колбасе. Грузили боеприпасы, ну и я тут как тут. Не хотели брать, а я разревелась, как дура. Сумка с красным крестом помогла. Взяли.
— А как же вы меня вытаскивали?
— А вот этого и не помню. Помню, как вы побежали с пистолетом впереди роты, а потом будто бы споткнулись и носом в землю. Подняла вашу голову — застонали. Обрадовалась, мамочки-тетечки, жив наш капитан. А лицо в крови. Положила вашу голову себе на колено, а кровь хлещет. Что делать? На курсах изучали мы пулевые ранения, раны сквозные и глухие, и повреждения кости, и переломы всякие, а тут лицо — сплошная рана. Мамочки-тетечки, не изучали мы лицевых ранений. Должно быть, потому, что нас срочно готовили и досрочно с курсов вышибли. И перевязала-то я вас кое-как. Стыдно вспомнить.
— А как же перевязывали? Одной рукой?
— Нет, зачем же, обеими. Ранили меня уж потом, когда мы с санитаром вас на носилках на переправу несли.
— Ну как же вы несли? Ведь такая стрельба была?
— Ну и что что стрельба. Не в одну меня стреляли. Вы же не боялись, когда из окопа выбрасывались и людей прямо на этих самых эсэсовцев повели?
— Нет, мне было страшно, — признался Мечетный. — Но какой же я командир, если страх не преодолею?
— А какой же я санинструктор, какой я старший сержант, а потом ведь, товарищ капитан, такое дело: одно дело — бояться, а другое — когда страшно. Страшно-то всем, наверное. И самому маршалу Коневу, про которого бойцы говорят, что он пулям не кланяется. Думаете, маршалу не страшно? Страшно. А он виду не показывает. Страшно, а не боится.
Так разговаривали они иногда подолгу. Говорили о жизни, о войне на равных, и Мечетный всегда поражался, откуда у этой девушки, которой шел всего семнадцатый год, такая житейская умудренность. Ведь тоненький голос и эти постоянно повторяющиеся «мамочки-тетечки» настойчиво напоминали об истинном ее возрасте.
Когда капитана готовили в дальний путь во Львов и делали очередную запись в его уже изрядно исписанную карту передового района, человек, заполнявший эту карту, усталым голосом предупредил, что с Анютой придется им расстаться. Капитан сразу же загрустил. Он знал, что на войне все положено делать по уставу. Что не положено, то и не положено. И все же попросил, нельзя ли отправить их вместе.
— Старшему сержанту Лихобабе положено лечиться здесь. У нас обычный и неплохой госпиталь. А вас, капитан, направляют в специальный, челюстно-лицевой, — усталым голосом ответил ему врач-эвакуатор.
— Но, может быть, все-таки можно сделать исключение? Мы ведь сослуживцы, из одной роты.
— Даже если бы представили удостоверение о браке — нельзя. Инструкция есть инструкция. Специалистов-глазников в армии — наперечет. Они, наверное, со своими-то пациентами едва управляются, а кто там с ней будет возиться? — Обладатель усталого голоса будто бы разъяснял детям что-то такое, что всем давно было известно.
Но тут в разговор ворвалась Анюта:
— Со мной не надо будет возиться.
— У вас три лычки на погонах. Вы военный медик и должны понимать, что нельзя. Война. В госпиталях каждая лишняя пара рук — драгоценность.
— Так точно, товарищ подполковник. Каждая. Но капитана одного вы все равно не направите. Придется санитара прикомандировывать. Ведь так? А тут вот эту самую пару рук вы и сэкономите для войны. Я старший сержант, и я квалифицированней любого санитара.
В логичности такого довода отказать было нельзя.
— Вы же сами ранены, как же вы будете раненого опекать? Вас саму лечить надо, — как бы уже сдавался усталый голос.
— Это моя забота. Буду бегать в какой-нибудь простой госпиталь на перевязки, я ж ходячая.
— Ну, глядите. Ваше в конце концов дело. Я, как вы понимаете, сам такого решения вопреки инструкции принять не могу. Но попробую поговорить с начальником госпиталя.
— И скажите ему, начальнику, что наша героическая рота наказала мне быть при капитане и заботиться о нем...
Скрипнул стул. Шаги удалились. Анюта присела на койку капитана. Он взял ее маленькую, шелушащуюся от дезинфекции руку и приложил ее к бинтам, которыми была окутана его голова.
В этот день на санитарном самолете они вылетели в город Львов.
6
Челюстно-лицевой госпиталь помещался во дворце какого-то богатого сахарозаводчика. В гостиных и залах койки стояли рядами. Гардины были сняты. Солнечные лучи беспрепятственно врывались в палаты через огромные окна со сплошными стеклами. Дом этот, где теперь густо пахло карболкой, антисептиками, йодом, запахами крепкого мужского пота и воспаленных, гноящихся рак, еще не забыл все-таки своего прошлого.
На раненых, с забинтованными головами, с заклеенными пластырями глазницами, с потолков смотрели жирненькие амуры, а по стекам на фресках, в которых воспроизводились сцены охоты, неслись всадники и всадницы в старых польских костюмах, своры собак, живописные егеря. Все это крикливое великолепие вызывающе смотрело на людей с изуродованными лицами без подбородков, без челюстей, со страшными ранами, с пустыми глазницами.
В одной из таких расписных палат и поместили капитана Мечетного. Его койка оказалась под фреской, изображающей пышную даму на коне, со сворой собак, нетерпеливо толпящейся у точеных лошадиных ног. Эту роскошную амазонку в палате называли «Цацей». И саму палату, хотя она, разумеется, имела свой официальный номер, в госпитале именовали «Цациной».
К удивлению и радости Мечетного, в госпитале глубокого тыла сержанта Анюту, хотя ранение ее и не соответствовало госпитальному профилю, приняли без особых разговоров. Начальник госпиталя Платон Щербина, высокий украинец, безукоризненно одетый, подтянутый подполковник медицинской службы, с любопытством посмотрел на раненую девушку, прибывшую со слепым капитаном, и только спросил:
— Жена? Невеста?
Лицо сержанта Анюты при этом залилось краской, да так, что перестали быть видными ее веснушки.
— * Никак нет, что вы, товарищ подполковник! — воскликнула она. — Я сопровождающее лицо. — И по-детски попросила: — Не гоните меня, товарищ подполковник, пригожусь, помогать буду.
— Ну, а почему вы при нем?
— Наша рота поручила мне его сопровождать. Капитан наш — герой. Он первым вступил на немецкую землю.
— Первым? Ух ты. Це добре... Ну, а ваша собственная рана?
— Заживет, что ей сделается. Могу и сама ее перевязывать. Я ведь, мамочки-тетечки, медицинское образование имею: ускоренные курсы военных фельдшеров, товарищ подполковник.
Подполковник усмехнулся, снова произнес свое «це добре».
— После ранения вам ведь отпуск на долечивание полагается? Ведь так? Вот здесь и будете долечиваться. Сдайте начхозу свой продовольственный аттестат. Таким образом, мы вас и с героем вашим не разлучим и правила не нарушим.
Мечетный, сидевший в соседней комнате, своим обострившимся слухом уловил весь разговор. Его больно царапнуло столь торопливо и даже будто с испугом произнесенное «никак нет». Подумал: и в самом деле, ну зачем ей калека? Сейчас вот нянчится, жалеет, а вок ведь как испугалась, когда назвали женой: никак нет! Теперь он — инвалид, человек второго сорта. Жалеть его, конечно, будут, а вот полюбить, по-настоящему полюбить, кто ж полюбит, кому он, слепой, нужен? Случается, что и жены от инвалидов уходят. А в молодые годы кто ж захочет добровольно надевать на шею хомут? Подумал и сказал: «Конченый ты человек, Владимир Онуфриевич. И жизнь провекуешь один, и институт тебя твой уже не ждет, и не работать тебе больше по-настоящему: слепого ведь и вахтером никуда не поставят».
От мыслей этих ему стало обидно, и ночью он бесшумно плакал, благо лицо его было забинтовано, и слез его никто не видел.
Сержанта Анюту в палату с жирными амурами и роскошной «Цацей», конечно, не поместили. По распоряжению начальника госпиталя ей поставили раскладушку в каком-то свободном уголке, и в первую ночь Мечетный, лишенный привычного соседства, чувствовал себя одиноким, брошенным.
«Цацина» палата была, на госпитальном языке, тяжелая. Здесь лежали люди с лицевыми и черепными травмами. Днем было еще ничего, болтали, рассказывали соленые байки, шумно забивали козла и даже выпивали, когда каким-то образом удавалось раздобыть спиртное. А вот ночью вступала в палату тоска. Кто-то плакал во сне, кто-то матерился, кто-то скрежетал зубами, а в дальнем конце длинного коечного ряда кто-то шептал слова молитвы на незнакомом языке. И обостренный слух Мечетного выделил в этом бормотании: «Аллах, аллах, аллах...»
Один из новых соседей, сосед слева, судя по голосу, молодой парень, не выдержав этого бормотания, свирепо выкрикнул:
— Заткнись, зануда! Без твоего аллаха тошно.
Все проснулись.
— Ну, чего орешь? Молится ведь человек... А ты, если хочешь, пой себе в утешение.
— Хватит, ребята, довольно вам, спите.
— Какой тут, к дьяволу, сон! Мечеть устроили...
И вдруг среди ночи заговорили каждый о своей ране, о своей беде, о невеселом будущем, ожидавшем многих.
Капитан настороженно слушал. Обсуждалось недавнее происшествие, случившееся в этой палате.
— ...Лейтенант как узнал, что навек слепец, так из окна и выбросился.
— Убился?
— Ну, а как же. Второй этаж. Лбом асфальт разве прошибешь?
— А один тут тоже тосковал, тосковал — да и отравился. Снотворными пилюлями отравился. Прямо горстью в рот. Уснул и не проснулся. Утром сестрица к нему с градусником, а он мертвый... Тихо-смирно, никого не беспокоя.
— А чем отравился-то?.. Где он отраву взял?.. Что за пилюли? — поинтересовался кто-то.
— Лиманал какой-то, что ли. От бессонницы дают.
— Люминал, а не лиманал.
— Ну все едино... А мне говорили, один бритвой жилы себе перерезал... Право слово: безопасной бритвой. У него весь рот искорежен был, челюсти не было. А в тылу девчонка имелась, все писала ему, дескать, жду. Так вот сняли повязку, добрел он до зеркала, увидал, каким красавцем стал, и себя — бритвой ночью. Кровью истек.
— Прекратить! — скомандовал сосед слева. — Нечего нищего за нос по мосту таскать. «Цаце» вон и то тошно слушать.
Палата тотчас же стихла. Снова послышались тяжелые всхрапы, сонное бормотание, стоны, и снова зазвучали едва слышные стенания: «Аллах, аллах, аллах...»
Стало понятным, что обладатель резкого голоса имеет авторитет, что его почему-то даже побаиваются.
Мечетный, разумеется, не мог видеть ни палаты, где лежал, ни роскошной всадницы, изображенной над его койкой, которую прозвали «Цацей», ни своих соседей справа и слева. Но дни, прошедшие с момента, когда он потерял зрение, научили его мысленно рисовать и обстановку, его окружающую, и незнакомых людей, с которыми сводила судьба, и даже эту самую «Цацу», которую ок довольно живо представил по описаниям соседей.
Соседа справа, неразговорчивого белоруса, танкиста с раненой рукой и обожженным лицом, в палате звали дядя Микола. Ни о своей беде, ни о себе ок ничего не рассказывал. Лежал молча, не принимая участия в разговорах, и оживлялся лишь, вспоминая о своем колхозе, ныне сожженном и разрушенном, и о своей тракторной бригаде, которую организовал еще в первые годы колхозного строительства и возглавлял до самой войны. Даже во сне она, эта бригада, жила в его мыслях, и, когда дядя Микола уснул, Мечетный услышал, как во сне он отчетливо бормотнул: «...Нельзя ж, нельзя заливать столько солярки». Лицевые ожоги дядю Миколу не беспокоили: с лица не воду пить, а вот рана, наполовину парализовавшая руку, удручала: с такой рукой ни на танк, ни на трактор не сядешь. И он весь день скрипел пружинкой машинкой, разрабатывая руку. Этого человека Мечетный сразу себе представил: эдакий пожилой здоровяк с тяжелыми, жилистыми руками, с которых никогда не смывается дочиста машинное масло.
А вот соседа слева, что ночью несколькими словами, а главное, интонацией голоса сумел утихомирить палату, ударившуюся в тоскливые разговоры, он представить себе не мог, хотя в первый же час, с его же слов узнал о кем абсолютно все. До войны жил этот парень разудалой жизнью, имел «срок» — и немалый. Под конвоем строил канал Москва — Волга, но «срока не допилил». Немцы рвались к Москве, и он прямо из-под конвоя попал в армию.
— ...Я дитя Новороссийского порта, и жизнь моя полна зигзагов, — заявил он Мечетному, сидя на его койке.
Действительно, «зигзаги» были. Предприимчивый и смелый, он врос в военный быт, за сметливость был определен в разведку и еще в дни боев под Москвой отличился, перехватив в тылу противника штабного мотоциклиста с важными оперативными документами. Был награжден, но вскоре за расстрел захваченного Им же самим «языка» был лишен награды и отправлен в штрафную роту. Со штрафниками снова отличился — уже при штурме Великих Лук: первым вскарабкался с гранатами на стену старой крепости, подавил пулеметное гнездо, сдерживавшее штурмующих, увлек за собой роту. О нем написали в армейской газете. Поэт посвятил ему стихи. Из штрафроты его вернули в строевую часть, отдали прежнюю награду, наградили еще одной. По пути от древнего города Великие Луки до польской границы прослыл он в дивизии непревзойденным специалистом по добыче «языков» в тылу врага, был произведен в ефрейторы, получил еще награду, но скова потерпел, как он выразился, по обыкновению коверкая слово, «кастарофу»: поспорил с офицером и сгоряча ударил его.
— Ты ж как та дурная корова: молоко щедро даешь, а потом подойник опрокидываешь, — прокомментировал со своей койки дядя Микола.
— Но-но, дядя, ты меня перед капитаном не земли, — отозвался сосед слева, и в голосе его послышались жутковатые нотки угрозы.
— Кто тебя землит, сам же язык распускаешь. Ты расскажи капитану, за что Боевое Знамя тебе отвалили.
— А-а, дуриком получил, и говорить неохота.
— Такой орден дуриком? Это же высший военный орден, — удивился Мечетный.
— Ну что ж что высший, — подфартило, и все. Я за собой ту награду всерьез не считаю. Вот как было дело, капитан. На этом самом Сандомирском плацдарме, когда' наш Конев их так долбанул, что они колбасой покатились, я со своим корешом был в ночной разведке.
И в лесу напоролись на двух ихних офицеров и одного цивильного: из окружения они выбирались. Мы сзади на них с автоматами: хенде хох, миляги. И сделали они — хендехохочки. И пистолеты отдали и обыскать дались. Надо вести, а как? Нас двое, их трое — разбегутся. А побегут — стрелять нельзя, опыт имею, обжигался. Принимаю решение: снять с них подтяжки, ремни и обрезать пуговицы на штанах — со спущенными штанами далеко не убежишь... Стали пуговицы со штанов обрезать. Офицеры — ничего, дались. Только этот старичонка цивильный — ни в какую. Прямо офонарел, на автомат лезет, кричит по-своему. Что — не понимаю, но одно слово ясное: генерал, генерал... А по мне хоть фельдмаршал — держи штаны руками, и все. Всех троих ночью в полк и доставили самоходом. Целенькими. Без этих, как их, без инисдентов... А цивильный и верно генералом оказался да какой-то гитлеровской шишкой. И за этого самого старикашку, пожалуйста, такой орден...
— Чего ж его на своем иконостасе не держишь?
— А то и не держу, что кет его у меня, этого ордена, жизнь моя еще зигзаг дала, опять катастрофа: налетел на прыгучую мину — и здравствуй, «Цаца», как поживаешь? Принимай к себе под подол. — И подытожил: — Вы, капитан, держитесь за меня, как вошь за полушубок. Я парень фартовый, со мной не пропадешь.
Фамилия соседа слева была странная — Бичевой. Лечение у него шло туго. Картечью мины-лягушки ему раздробило челюсть. Восстанавливали ее как бы по частям, с трудом восстанавливали, но он не унывал, даже не терял надежды вернуться на войну «в самое трофейное время», а когда рассудительный дядя Микола, возвращая его к действительности, говорил, что на войну ему, по всему видать, уже не поспеть, что надо думать, как жить с развороченным лицом, бесшабашно отмахивался:
— А что лицо? В кино мне не сниматься, а что касается баб, им на лицо наплевать, им всякое другое нужно, а тут у меня порядок полный. Держись, «Цаца», я в строю!
В ночь, когда «Цацина» палата ударилась было в разговоры о самоубийствах, Бичевому удалось двумя словами оборвать этот разговор. Но Мечетному так до утра и не удалось уснуть: не выходило из головы то, о чем говорилось среди ночи, рисовались те ребята, что добровольно ушли из жизни, не выдержав беду, на которую обрекли их раны и увечья.
От мыслей этих уже утром оторвали его знакомые шаги. Сержант Анюта! Вошла, детским своим голоском поприветствовала всех, сообщила, что на дворе весна, утро теплое, капель, снег падает пластами с крыш, а главное, что в парке, где стоит госпиталь, грачи. Настоящие важные грачи с белыми носами и крыльями, отливающими синевой. Пошмыгала носом, удивилась:
— Ох, и атмосферочка у вас тут, граждане! — Прошла к окну. — Открою, возражений нет? — И в комнату, пропитанную тяжкими госпитальными запахами, вместе с прохладой ворвалась свежесть тающего снега. Стало слышно, как увесистая капель долбит о железо карниза, донесся возбужденный грачиный грай.
Над ухом Мечетного прозвучало:
— Ну как спали на новоселье, товарищ капитан?
Вопрос ничего не значил. Так спрашивали обычно и сестры, разнося утром градусники, и врачи во время обходов. Но Мечетный, услышав этот голос, сразу забыл бессонную ночь с ее тягостными и мрачными разговорами.
— Хорошо спал. Вас во сне видел. Хороший такой приснился сон.
— Ну да, меня, скажете тоже, товарищ капитан, — отозвалась девушка, но все же поинтересовалась:
— А как же вы меня видели? Что я делала в вашем сне? Шутите небось?
На шутливый этот вопрос Мечетному так и не удалось ничего сочинить, он лишь смущенно сказал:
— Так, говорите, на улице весна?
— Да еще какая!
— А когда меня лечить начнут? Вы ж там общаетесь с начальством?
— Лечить — неизвестно. Вас пока обследовать будут. Подполковник медицинской службы сказал, что какого-то важного профессора на консультацию вызвали из университета; самое большое здешнее светило. Ждите.
И ушла, постукивая каблуками.
— Добрая дивчина, — сказал сосед справа.
— Фартовая баба, — определил Бичевой. — Повезло тебе, начальник. После войны и выбирать не придется, с собой в вещевом мешке привезешь.
Мечетного осматривали госпитальные врачи. Начальник госпиталя Платон Щербина присутствовал при этом. Осматривали долго, тщательно. В соседней комнате состоялся консилиум. Что там говорили, капитан не разобрал. Но по тому, как долго длился разговор, и по самому его тону понял, что дела его плохи.
Так и вышло. После консилиума его отвели в кабинет к Щербине, и тот певучим своим баритоном сказал:
— Вы, капитан, храбрец. Мне доложили, как вы там, за Одером, на пятачке воевали. Обманывать вас нельзя. Левый глаз придется удалить.
— А правый? — Мечетный весь съежился, чтобы не вскрикнуть.
— Правый? За правый будем бороться. Не стану я вам медицинскими терминами голову морочить: тяжело, очень тяжело.
— Но надежда-то есть? Хоть какая-нибудь...
— Надежда всегда должна быть. Будем еще раз вас консультировать с опытнейшим специалистом. А пока, капитан, как говорят охотники, держать хвост пистолетом. Тут, во Львове, в университетской клинике, есть светило окулистики, приглашаем его.
Перед обедом Мечетного вновь отвели в какую-то комнату. К знакомым ему уже голосам врачей присоединился еще один, незнакомый, уверенный, выговаривающий русские слова с польским акцентом. Этот, новый, обладал легкой походкой, и от него исходил аромат каких-то тонких духов.
Осмотр на этот раз был долгим, трудным и болезненным. Мечетный лежал, вцепившись руками в стол. Острая боль пронзала, как игла, с головы до ног. Он старался не скрежетать зубами и, чтобы отвлечься, вспоминал, как он лежал когда-то за Одером и сквозь грохот тяжелой артиллерии и уханье разрывов тоненький детский голосок говорил ему: «Потерпите, товарищ капитан, потерпите, сейчас легче будет». Мысленно слушая этот голосок, он набирался мужества.
Осмотр проводили молча. А когда он окончился, тот, новый, незнакомый человек сказал почему-то: «Иезус Мария».
— Ну, как, товарищ профессор? Есть надежда? — прозвучал баритон Щербины, в котором явно слышалась тревога.
— Все в руках неба, — ответил собеседник.
Дальнейшую беседу Мечетный слушал уже сквозь дверь. Она происходила в соседней комнате.
— Мы должны сделать все возможное, чтобы спасти ему глаз. Мы обязаны это сделать, — напористо говорил Щербина.
— Вы делаете, что можете. Но мы с вами, коллега, не Матка Боска Ченстоховска, нам не можно творить чудеса.
— Но вы говорите, что есть какой-то магнит, который может извлечь этот осколок.
— То, пан подпулковник, в Вене есть такой сильный магнит, в знаменитой венской клинике, известной всему миру. Очень дорогой прибор производства доброй немецкой фирмы «Сименс Шукерт». Когда я практиковал в Вене, я этот прибор видел. Отличный дорогой прибор. Но нам с вами, пан подпулковник, не можно попасть в Вену. А у вас даже и не знают такого прибора.
— Что же мы можем все-таки сделать?
— Отправить пана капитана в клоштер на Ясной Гуре, там Матка Боска творит чудеса... Мы, слава Иезусу, божьи холопы, и нам такое недоступно. — И деловым голосом: — Ваш шофер, пан подпулковник, доставит меня до университета?
Послышались мягкие шаги, профессор, видимо, удалился.
— В палату, — резко скомандовал Щербина, и в коротком этом распоряжении, в самом его тоне Мечетный услышал растерянность, которую Щербина пытался замаскировать резкостью.
Когда каталку, на которой лежал Мечетный, выкатили в коридор, он услышал возле шаги сержанта Анюты. Она шла рядом и тонким голоском частила:
— Ничего, ничего, товарищ капитан, все будет хорошо... Вот увидите, все будет хорошо.
— Ничего не будет хорошего, Анюта, — ответил Мечетный, все еще находясь под впечатлением только что подслушанного. — Ничего не будет хорошего, товарищ старший сержант.
7
С этого дня Мечетный стал прятать таблетки с люминалом, которые выдавали ему перед сном. Мучился тяжелой бессонницей, подавлял боль в глазницах, но таблетки не принимал.
Госпитальная жизнь шла своим чередом. Делались перевязки, давались лекарства, больных увозили на процедуры и возвращали назад. Мечетный, уже не страшась, поднимался с койки. Ему разрешалось даже гулять. Анюта в таких случаях помогала ему надевать пилотку, выводила его в большой сад, окружавший аляповатый дворец сахарозаводчика. Под руку водила его по садовым дорожкам и тоном экскурсовода рассказывала обо всем, что происходило вокруг:
— Снега уже почти и нет. Вон только в кустах белеют последние лоскутки. И почки на кленах набухли. Смешные, бархатистые, как котята. Вы знаете, они сейчас похожи на кулачок. Вот разожмется этот кулачок и выпустит зеленые листики... Чувствуете, как пахнет?.. Это тополя. Они уже развесили красные сережки... Ну, что вы все молчите, товарищ капитан? На улице так хорошо.
Мечетный, неразговорчивый по природе, после подслушанного во врачебном кабинете стал и совсем молчаливым. Упорно копил люминал, откладывал таблетки день за днем и, чтобы их не обнаружили, завертывал в марлю и держал под тюфяком. Про себя он уже принял решение. Только вот не знал, сколько таблеток нужно для того, чтобы исполнить то, что сделал неведомый лейтенант. Он уже смирился с мыслью — тихо, никого не беспокоя, уйти из жизни, как это сделал тот, о ком с сочувствием говорили ночью соседи по палате.
Для себя, как для коммуниста, он даже обосновал это свое решение: капитуляция? Нечестный поступок, недостойный члена Коммунистической партии? Отчего, почему нечестный? Он не может теперь быть полезным своему Отечеству, ничего не может дать людям. Едок. Потребитель. Будет отныне только брать, требовать забот, средств к существованию. Будет существовать... Нет-нет, спокойно. Неэтичного в том, что он задумал, нет. И он никого из персонала не подведет. Уснул и не проснулся. Война. Мало ли бездыханных тел выносят по утрам из госпиталей на носилках, покрытых простынями?..
И плакать о нем некому: отца он не помнит, матери нет, а то — его давнее горе... Нет, там о нем и не вспоминают, для тех он давно умер...
В тот день на город Львов внезапно налетел первый весенний ливень, какие иногда случаются тут, в Прикарпатском краю. Рванул ветер, да такой, что тучи пыли разом загородили солнце и крупные песчинки, подхваченные вихрем, стали сечь стекла. Потом без разминки разом на город обрушились целые потоки воды, пыль прибило, стало светлее, вода промыла стекла.
Бичевой закричал:
— Вот подфартило-то. Как там, за окном, баллон катает...
Он рванул раму, и в окно вместе с мелкой дождевой пылью влетел влажный чистый воздух, от которого всем стало весело на душе.
— Вот тебе сейчас подфартит. Дежурный даст тебе за то, что людей простужаешь.
— Не даст. Вставай на стреме. Чуть что — поднимай шухер, мигом раму на задвижку.
Ливень за окном клокотал и шумел, волнами бросая потоки воды.
— Добро, добро... — довольно говорил сосед справа. — Золотой дождик. Поля вымоет, озими напоит. Такой один может по центнеру на гектар прикинуть, а то и больше.
Все ходячие сгрудились у окна. Каждый по-своему переживал весенний ливень. Анюта была среди них.
— Мамочки-тетечки, хорошо-то как!
И только Мечетный, неподвижно лежа на своей койке, думал о том, что этот чудесный весенний ливень может быть для него последним. Что вскоре для него не будет ни солнца, ни свежего ветра, ничего не будет.
— Владимир Онуфриевич, что-то вы какой-то сегодня не такой, — сказала Анюта, кладя на его горячие руки свою маленькую, мокрую от дождя. — Что-нибудь случилось?
— Ничего не случилось, сержант Анюта. Что может у меня теперь случиться?
Мечетный так и не объяснил для себя потом, почему под веселый шум этого весеннего ливня он решил именно сегодня, когда все уснут, привести свой замысел в исполнение. Под одеялом он развернул заветный марлевый узелочек и стал деловито пересчитывать скопленные таблетки. Одиннадцать таблеток, наверное, хватит. И в это мгновение услышал голос Анюты, раздавшийся у него над ухом:
— Понюхайте, Владимир Онуфриевич, какая прелесть, Бичевой с улицы принес. Тополь, распекались почки, и шкурки у них блестят, как компрессная клеенка.
По госпиталю девушка теперь ходила в тапках, шаг стал совершенно не слышен. Голос ее прозвучал неожиданно, и Мечетный инстинктивно дернул рукой, пересчитывавшей таблетки. Они, как град, застучали по полу. Он вскочил.
— Не беспокойтесь, я сейчас все соберу.
Анюта встала на колени, принялась собирать и вдруг спросила шепотом:
— Что это такое? Откуда? Для чего столько люминала? — И потом уже совсем растерянно, даже с ужасом: — Что же это, Владимир Онуфриевич? Как же так? — И вдруг зарыдала, положив ему голову на грудь.
Мечетный растерялся.
— Ну что случилось? Что ты подумала?.. Нехорошо, люди кругом, видят, слушают. Перестань.
Действительно, палата насторожилась. Люди, только что шумно радовавшиеся весеннему ливню, слушали, ничего не понимая, старались разгадать, что происходит, чем и почему обидел капитан эту маленькую «сестренку», как теперь называли ее все.
А девушка сквозь рыдания требовательно шептала:
— Не смейте, не смейте... Дайте мне слово, матерью поклянитесь, что выкинете это из головы.
Чтобы прекратить эту сцену, Мечетный сказал сквозь зубы:
— Ну ладно, даю слово. Успокойся.
— Нет, матерью. Матерью поклянитесь.
Только приняв эту клятву именем умершей матери, Анюта, вскочив, выбежала из палаты.
Сопалатники Мечетного так ничего и не поняли, но с чуткостью, свойственной людям, объединенным общей бедой, почувствовали, что это дело, в которое вмешиваться нельзя. И когда лейтенант, лежавший на другом конце палаты, спросил:
— Ребята, да чего там у вас случилось? — Бичевой одернул его:
— Молчи, тут шухерить нечего...
Вечером к Мечетному неожиданно пришел сам начальник госпиталя. Пришел, присел на койку. Сначала задавал без особого интереса чисто медицинские привычные вопросы: как чувствуете, какая температура, есть ли жалобы? А потом вдруг сказал:
— Все знаю... Мы вот что сделаем. Откомандируем вас в столицу, в институт к знаменитому Преображенскому Виталию Аркадьевичу. Мой учитель. Куда перед ним этому львовскому светиле с его Маткой Боской. Виталий Аркадьевич чудеса творит. Но, капитан, вам приказ: терпеливо, слышите, терпеливо ждать благословения генерал-майора медицинской службы. Не так-то просто попасть к Преображенскому. У него и в мирное время клиника была битком набита. Из-за границы за тридевять земель к нему летели. Да и согласится ли — нравный старик.
Мечетный не сразу даже поверил в эту добрую весть. Диагноз светила, путавшего в своей речи русские, украинские и польские слова, так вот, просто не забывался. Но все-таки теперь, когда как бы в конце туннеля забрезжил свет, настроение изменилось. Будто весенний ливень, прошумевший над Львовом, вымыл из головы беспросветную тоску. Теперь Мечетный уже осуждал свое малодушие. Стыдился истории с таблетками и все гадал: почему начальник госпиталя явился к нему с доброй вестью именно в этот день и в не положенный для врачебных обходов поздний час.
Лишь потом, немного времени спустя, он узнал, как все было.
Выбежав из палаты, Анюта, сжимая в кулаке таблетки люминала, ворвалась прямо в кабинет Щербины. Оттолкнув пожилого санитара, исполнявшего при начальнике госпиталя обязанности секретаря, она предстала прямо перед подполковником.
— Что случилось? — спросил он, хватаясь за китель, висевший за ним на стуле.
— Чепе! — И Анюта прямо на стол высыпала горсть таблеток.
— Какое чепе? Что это такое?
Девушка, рыдая, не могла произнести ни слова. Отчаявшись прекратить эти рыдания, Щербина рявкнул:
— Доложить по форме, старший сержант.
Это сразу отрезвило Анюту. Вытянулась, вытерла марлечкой заплаканное лицо и рассказала о своем открытии. Начальник госпиталя, уже надевший, застегнувший на все пуговицы свой отглаженный китель, перебирал на стекле стола замызганные, грязные таблетки. Потом налил из графина воды, протянул Анюте.
— Прекратите слезотечение. На улице и так сыро. Откуда столько люминала, кто дал?
— Не знаю, не знаю. Накопил, наверное, последние дни он был какой-то не такой.
— Насчет самоубийства с вами не заговаривал?
— Ну что вы, разве такой скажет! Это же, мамочки-тетечки, стальной человек. Жалобы не услышишь. Все в себе.
Подполковник пощупал пальцем свежий, накрахмаленный подворотничок.
— Задали вы мне задачку, товарищ старший сержант.
— Неужели ничем нельзя помочь?
— Не знаю, не знаю. Здешнее светило утверждает, что во фронтовых условиях ничего не сделаешь, нужен какой-то сверхмагнит. Он видел такой в венской клинике, где, по его словам, практиковал когда-то... Нет у нас такого магнита, но есть в Москве профессор Преображенский, мой учитель, бог окулистики, творит буквально чудеса... — Подполковник рассуждал сам с собой.
— Отправьте его в Москву. Отправьте его к этому самому богу. Это же такой герой...
— В Москву мы можем отправлять лишь в чрезвычайных случаях и то лишь с благословения генерал-майора медицинской службы.
— Мамочки-тетечки, ну попросите этого генерала. Ну хотите, я сама к этому генералу прорвусь, в ноги к нему брякнусь.
Подполковник с удивлением смотрел на собеседницу: какое упорство, какой напор! Смотрел и почему-то гадал: сколько ей может быть лет. Восемнадцать? Навряд ли восемнадцать. И успела повоевать, ранена. И ранение это свое как старый солдат переносит. И вдруг неожиданно даже для себя спросил:
— Вы его очень любите?
— Я? Нет... То есть да. Но не так, как вы думаете.
Нет-нет, не так. — Веснушки как бы исчезли, растворились в румянце свекольного цвета.
Подполковник уже с интересом разглядывал заплаканное лицо собеседницы. У маленького солдатика с забинтованной и висящей на повязке рукой странно сочеталась эта способность краснеть и смущаться от самого простого житейского вопроса и не теряться в обстоятельствах, которые нелегки и для бывалого человека. В этом была какая-то особая привлекательность.
Щербина встал из-за стола и зашагал по кабинету.
— Вот что, сержант. Я даго слово попытаться выбить для него Москву. Сложно будет. Ох, не любит наш генерал беспокоить столицу. И неизвестно, как к этому отнесется Москва, она тоже не любит, когда ее беспокоят. Да и сам бог оку листики — человек нравный... Но попытаемся... Обещаю. Сделаю, что смогу.
...В те дни Мечетный не знал об этом разговоре. Он узнал только его результат. Но в ту ночь впервые со времени своего ранения он спал хорошо.
8
А утром Анюта влетела в палату с газетой и криком: «Ура! Ура!»
— Владимир Онуфриевич, Указ. Награды за форсирование Одера. — Она победно потрясала номером «Красной звезды». — Длинный список. И вот впереди: капитан Мечетный Владимир Онуфриевич — звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда!
Список Анюта читала, будто стихи. В нем было несколько знакомых фамилий, в том числе и замполита из роты Мечетного с пометкою: «Награжден посмертно».
Мечетный был просто ошеломлен этой вестью. Конечно, знал, что операция по форсированию такой большой реки, в которой авангардом шла его рота, дело серьезное, значительное, даже в армейском масштабе, но Звезда Героя свалилась на него неожиданно. Герой! Хорош герой!.. Теперь ему было жгуче стыдно за тот самый вечер, когда Анюта случайно обнаружила у него запас люминала.
И еще поразило его, как в госпитале восприняли эту новость. До самого завтрака палата гудела, будто растревоженный улей. Поздравляли, хлопали по спине и пониже, целовали прямо в бинты. Бичевой вызвался по такому случаю — кровь из носа, но добыть самогон, именовавшийся в этих краях «бимбером». Деньги мало что стоили в ту пору. Бичевой обещал провести обменную операцию. Из-под кроватей извлекли заплечные мешки-«сидоры», в которых хранилось все, так тщательно сберегаемое солдатское богатство. Кто дал для общего дела теплые подштанники — все равно зима кончилась, — кто меховые рукавицы, кто трофейную бритву. Со всем этим добром Бичевой отправил на базар пожилого санитара из местных жителей, слывшего среди раненых «понимающим» человеком. Так добыт был знаменитый «бимбер». Бичевой, вложивший в эту сложную операцию душу, радовался шумно, разливая мутноватое зелье по мензуркам. Вскочил на стул, провозгласил:
— За нового Героя Советского Союза, за фартового парня... Эх, держись, «Цаца», я в строю!
Выпил и Мечетный. Заставили выпить Анюту. Она глотнула, закашлялась и потом под смех палаты часто и шумно дышала, будто ее только что вытащили из воды.
— Салаженок, — ласково сказал сосед Мечетного справа. И добавил поучающе: — Не научилась на фронте пить, так и не учись. Глядишь, для тебя война и без рюмки кончится. Я сам до войны этого зелья и нюхать не любил. Недаром Лев Толстой называл его чертовым изобретением.
— Дядя Микола, по такому случаю и сам господь бог с нами бы чепурашку опрокинул.
Кто-то, порывшись в своем мешке, извлек оттуда плоскую бутылку с неизвестным напитком при яркой немецкой этикетке.
— Хранил вот до дому. Клаху свою угостить со свиданьицем. Но такой случай, пейте уж, чего там.
— Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец.
И потом, будто от всей палаты, немногословный дядя Микола потребовал:
— Капитан, давай расскажи, за что Звезда-то на тебя упала?
И Мечетный, никогда и никому о себе не рассказывавший, усевшись на койке, вдруг принялся повествовать, как бойцы его роты, идущие в авангарде, бросились в ледяную воду протоки, как плыли, толкая перед собой доски, бревна, двери, туго перевязанные снопы, на которых лежало их оружие, как шли на них эсэсовцы, будто каппелевцы из фильма «Чапаев», и как контратакой отбила их атаку его рота. И день, когда все это произошло, казался Мечетному далеким, далеким. И он тот день, когда получил столь тяжелую травму, вспоминал сегодня даже с удовольствием...
А между тем весть о награждении капитана из «Ца-циной» палаты тяжелых разнеслась по госпиталю. Приходили люди из других палат, приходили врачи, сестры, а под вечер в палату торжественно вплыл большой пирог, сооруженный по этому случаю госпитальным поваром, который когда-то был шефом на кухне в известном здешнем ресторане «Жорж». И в палате «под Цацей», где обычно раздавались ахи и стоны, впервые за все время ее существования завязалась негромкая песня, и все — русские, украинцы, белорусы и даже тот самый азербайджанец, который по ночам, корчась от боли, вспоминал аллаха, все пели знаменитую «Катюшу».
Это был первый день, когда, разогретый стаканом вонючего «бимбера» и этой дружбой окружавших его людей, Мечетный не терзал себя мыслями о своем безрадостном будущем.
Администрация посмотрела сквозь пальцы на пирушку, устроенную в палате «под Цацей», а в заключение этой пирушки пришел начальник госпиталя подполковник Щербина. Он был без халата, в тщательно отглаженном кителе, при орденах.
— Ну, капитан, поздравляю, и готовьтесь в путь. Генерал дал добро. Столица нашей Родины ждет вас.
— А Анюта... А старший сержант Лихобаба?
— Поедет с вами. Семь бед — один ответ. Заполнили ваши карточки, выписали и ей путевку как медсестре, сопровождающей раненого. Передавайте привет моему учителю, Виталию Аркадьевичу.
— Спасибо, — только и сказал Мечетный, но сказал это так, что прозвучало убедительнее, чем самые бурные рукопожатия и горячие благодарности.
9
Когда Анюта объявила, что санитарная машина уже пришла, в палате «под Цацей» началась суматоха. Все ходячие повскакали со своих коек и, отчаянно мешая друг другу, принялись собирать Мечетного в дорогу.
— Большого фарта тебе, капитан, — сказал Бичевой, неся его чемодан. — Скорешились мы — расставаться жалко. Давай адрес, напишу тебе, как у меня пойдут дела с нашей «Цацей».
— Нет у меня адреса.
— У меня тоже нет. Тот адрес, с которого я на войну ушел, не мой теперь адрес.
— Все мы без адреса. Сколько народу Гитлер адресов лишил... Писал на колхоз — вернулось. Писал на свою эмтээс — вернулось... — сказал сосед справа.
— Хватит баллон катать, — оборвал Бичевой, не терпевший горестных разговоров... — Счастливый ты, капитан, твой фарт с тобой едет.
Первые минуты пути на аэродром Анюта и Мечетный молчали.
Оба волновались, и каждый по-своему. Он думал о том, что-то скажет «бог окулистов», этот самый Виталий Аркадьевич, на которого возлагались последние надежды. И она гадала, как-то встретит их столица, как-то живут сейчас люди в глубоком тылу, где даже снято затемнение и почти каждый вечер гремят победные салюты. Анюта не только не обиделась, но как-то даже и не заметила или сделала вид, что не заметила, что в списке награжденных за форсирование Одера не оказалось ее фамилии. Радовалась за других. И уже успела ночью написать поздравительные открытки всем, кого знала в длинном списке награжденных. Столица, свидание со столицей занимали все ее мысли.
— А я ведь никогда не была в Москве, — вдруг сказала она.
Перспектива оказаться в огромном незнакомом городе, да еще в необычной роли раненой и в то же время сопровождающей раненого медицинской сестры, совсем ее не смущала: есть же везде хорошие люди. Не может быть, чтобы они не отыскались и в Москве.
Теперь, когда после дней тягостной неясности все прояснялось и вставало на свои места, ее радовало все: и весенние жухлые грязноватые снега, еще белевшие кое-где в лесной чаще и на теневой стороне наполненных водой канав, и возбужденный гомон воробьев, и монументальные фигуры грачей, солидно расхаживавших по зеленому бархату уже тронувшихся в рост озимей, и сосны, растущие вдоль дороги и по-весеннему позванивающие своими вершинами. А когда машина согнала двух зайцев и они, забавно петляя, заскакали по полю, не разлучаясь, парочкой, путаясь ногами в густых озимях, она высунулась из машины и отчаянно закричала им вслед, отчего зайцы остановились, встали столбиком и удивленно запрядали ушами.
— Мамочки-тетечки, какие симпатяшки.
— Кто, кто симпатяшки? — спросил Мечетный, не без труда отрывая мысли от грядущего свидания со всемогущим богом окулистики.
— Да зайчишки.
— Какие зайчишки? Где?
— А там, на поле, страшно смешные. — И вдруг сказала: — Как хорошо-то, товарищ капитан.
«Совсем ребенок», — подумал Мечетный и, обняв за плечи, ласково прижал девушку к себе. Рука его ощутила жесткий ремень портупеи, а девушка сразу отстранилась.
До аэродрома доехали молча. Он хранил еще воспоминания о былой своей красоте, этот аэродром, искалеченный, изуродованный бомбами. Руины разрушенного, выгоревшего аэровокзала топорщились железными ржавыми балками. Бетон посадочных полос пестрел наскоро наложенными заплатами. Тут и там темнели остовы сожженных самолетов, а у полосатой метеорологической будки возвышалась целая гора искореженного алюминия. Он, этот аэродром, напоминал больного, еще только начавшего возвращаться к жизни. Самолет с красным крестом стоял в стороне от посадочной полосы. В него вносили раненых.
Анюта помогла Мечетному спуститься из машины и повела его к самолету. Странную они представляли пару. Высокий, плечистый капитан с забинтованной головой, шагавший по бетону бравой походкой, и маленькая девушка в военном, семенившая впереди него. Одна рука была у нее на перевязи, а другой она, будто на прогулкё, вела за руку капитана.
— Битый небитого везет, — сострил кто-то, когда они подошли к месту погрузки.
— Капитан хоть слепой, а вкус у него ничего себе... Вон какую пэпэжонку отхватил.
— И вовсе не остроумно, — сердито отпарировала Анюта. — Это Герой Советского Союза. Он первый на немецкую землю за Одером вступил.
— Анюта, не надо. Зачем это, нехорошо.
— Ничего, пусть знают пустобрехи.
Звание Героя Советского Союза в войсках ценилось очень высоко. Им тотчас уступили дорогу, и дюжий летчик в кожаной куртке на «молнии», куривший в стороне, бросил папиросу и чуть ли не внес Мечетного в кабину.
Старенькая санитарная машина изнутри напомнила Анюте учебный макет: человека с содранной кожей, по которому она на курсах изучала мускулатуру и сухожилия. В алюминиевом чреве были обнажены все конструкции. Летчик подвел Мечетного к месту в центре металлической скамейки, тянувшейся по борту.
— Садись, капитан. На центроплане спокойнее. — Сам присел возле. — Так, значит, форсировал Одер? Большое дело. Москва за вас здоровенный салют грохнула... Так как же тебя, капитан?
— Наша рота первая на ту сторону перешагнула. Первая на вражескую землю вступила, — с детским хвастовством зачастила Анюта. — Мы захватили, как его, ну этот самый, как там по-военному, тэт де пон, ну, пятачок...
— А как же вы реку переходили? По льду?
— Да нет, вплавь. Двенадцать человек у нас из роты ордена и медали получили. А вот капитан — Героя.
— Анюта, не надо.
— Нет, отчего же... Интересно... Я на земле не воевал...
Летчик оказался словоохотливый и боевой. Свою старенькую машину не раз выводил он в тыл врага, к партизанам, и вывез оттуда через линию фронта немало людей. Дважды летал с боевым грузом в Югославию, к тамошним партизанам, и очень гордился тем, что немцы звали эти машины, по ночам пролетавшие над ними на большой, почти недосягаемой для зенитных орудий высоте, «Титобусами». При всем том он даже представить себе не мог, как это можно зимой форсировать незамерзшую реку вплавь да еще при оружии. Он засыпал Мечетного вопросами. Тот отвечал однозначно, зато Анюта не жалела слов, рассказывала все в деталях, так что и Мечетный не без интереса слушал ее рассказы.
Из командного отсека вышел пожилой штурман.
— Командир, кончай пресс-конференцию. Закругляйся, старт дают.
Пилот ушел, взвыли моторы. Самолет, подрагивая крыльями, побежал по неровной разбомбленной полосе. Мелькнул за окном безобразный остов сгоревшего аэровокзала, земля будто опустилась вниз, и облака, обступив самолет, вовсе закрыли его.
Из пилотской кабины вышел молоденький радист. Он принес два одеяла.
— Командир приказал укрыть капитана. Наверху холодно будет.
Мечетному до этого случая не приходилось ни разу подниматься в воздух, и, когда самолет, пробивая облака, проваливался в воздушные ямы, он испытывал страх, весь сжимался, судорожно держась за алюминиевую скамеечку, а на одном таком ухабе даже вскрикнул. Вскрикнул, застыдился, но страха подавить в себе не мог.
Анюта обняла его за плечи, прижала к себе.
Но и сама она испытывала тягостное чувство, как на качелях, когда доска стремительно идет вниз: холодело в животе, комок подступал к горлу, клейкая слюна заполняла рот. Она едва успевала ее сглатывать и все-таки продолжала прижимать Мечетного и непослушными губами бормотала:
— Ничего, ничего, товарищ капитан, привыкнете, все пройдет.
Летчик снова вышел в салон. Критически осмотрел своих пассажиров — и сидящих и лежащих на носилках.
— Ну как вы тут у меня?
— Все в порядке, товарищ командир, — ответила за всех Анюта.
— Вижу, вижу, какой порядок, — усмехнулся пилот, глядя на ее побледневшее лицо, на котором просто-таки сияли крупные зеленые теперь веснушки. Она безуспешно старалась проглотить подступавший к горлу ком.
— Мы спим, товарищ командир.
— Вижу, вижу, как ты спишь, старший сержант! — Заглянув в пилотский отсек, он принес пробирку с таблетками. — Проглоти и ему дай. В случае если не поможет, своди его в хвост — пусть там за занавеской облегчит душу. Ступай, ступай, я возле него посижу.
Анюта выполнила этот совет — «облегчила душу». А когда, осторожно пробираясь между ранеными, вернулась в салон, летчик еще сидел около Мечетного, поддерживая его за плечи.
— Ну, смена караула, — сказал он и, мягко ступая в своих собачьих унтах, скрылся за дверью.
Мечетный похрапывал. Девушка тоже ненадолго задремала, и когда наконец машина, снизившись, побежала по бетонным плитам московского аэродрома, Анюта была совершенно измотана: подламывались колени, кружилась голова. Теперь уже не она вела Мечетного, а он вел ее, крепко придерживая за талию.
Она уже не была «сопровождающим лицом», а только его глазами.
До войны Мечетный жил в своем далеком уральском городе, растянувшемся вдоль великой реки, там кончил школу, учился в институте, готовясь стать инженером-металлургом, и почти уже окончил его, но началась война. Студенты их курса имели бронь. Но он был комсомольцем и с группой комсомольцев-однокашников прервал учебу и добровольно отправился на фронт, на пополнение своей уральской дивизии, отбивавшей в те дни яростные атаки неприятеля недалеко от Москвы, в лесах под городом Калинином. Столицу их эшелон проходил ночью, и повидать ее в тот раз ему так и не привелось. А когда потом в огромной битве на подступах к Москве был сокрушен гитлеровский «Тайфун», как по разбойничьему коду захватчиков именовалась запланированная операция по захвату и уничтожению Москвы, дивизия, в которой воевал Мечетный, пошла вперед в западном направлении, и столица осталась далеко за спиной.
А теперь, когда санитарная машина везла их по улицам, он не мог видеть. Он только слушал Москву, и она входила в его сознание рыком встречных машин, звоном трамваев, шуршанием шин, бойким говором москвичей, доносившимся до него, когда машина останавливалась у светофоров. Москва врывалась под брезент запахом талого снега и бензиновой гарью. Да и не до московских красот и диковин ему было. Приближался час, когда на самой высокой медицинской инстанции в клинике знаменитого окулиста будет решаться судьба его глаз: пан или пропал.
Поэтому длинная дорога с аэродрома прошла для него незаметно.
В приемном покое снова ударил в нос тяжелый госпитальный запах. И эта привычная теперь атмосфера успокоила его. Анюта провела его в комнату, где стучала машинка, шуршали бумаги. Капитан Мечетный, тот самый Мечетный, что бесстрашно поднял за Одером свою роту и повел против атакующих эсэсовцев, боялся этого стука пишущих машинок и шуршания бумаг. И хотя они с Анютой уже пережили не одну процедуру нелегкого оформления, он снова растерялся и, как бы отступив на второй план, предоставил действовать Анюте. И та действовала с прежним напором.
— Вот вам карта передового района. Вот направление из санупра армии. Видите, сам генерал-майор подписал. А вот еще письмо. Я должна его передать лично полковнику медицинской службы Преображенскому от подполковника медицинской службы Щербины. Он тут все о нас докладывает.
— Письмо потом... Капитана принимаем, а вас, милочка, направим в обычный госпиталь. Мы с такими ранениями не лечим. В нашей клинике, голубушка моя, только глазами занимаются.
— Я не раненая, я сопровождающее лицо. Так в письме от генерал-майора медицинской службы и написано. Прочитайте.
— Вижу. Приказ вы, милочка, выполнили, капитана доставили в целости и сохранности, за то вам спасибо. А сейчас займитесь-ка вы собственной рукой.
— Мне приказано сопровождать капитана и быть при нем.
— Кто приказал быть при нем? Из чего это видно? Вы, голубушка, мне голову морочите.
— Я не «милочка» и не «голубушка» — я старший сержант медицинской службы. И вам ничего я не морочу. Наша рота мне приказала.
Мечетный молча слушал эту уже знакомую ему словесную дуэль и в спор не вступал. Он, разумеется, не видел собеседника Анюты. Но по голосу, по манере говорить, по этим самым ласковым обращениям «голубушка», «милочка» он нарисовал его старым бюрократом из тех, которых трудно переспорить и нельзя убедить.
Но Анюта не сдавалась. Она выбросила на стол свой главный козырь.
— Капитан Мечетный — Герой Советского Союза. Он первый вступил на землю врага.
— Он-то да, а не вы, милуша. Вы-то Одера не форсировали.
— Как раз форсировала. Вместе с ротой. Я с самой передовой его везу. Не верите?
Собеседник вздохнул.
— Верю, милуша, верю. Но не можем, понимаете, не можем. Все койки заполнены. В коридорах, на лестничных клетках стоят. Не можем мы, права не имеем принимать раненых не по нашему профилю.
Мечетный услышал, как Анюта тяжело задышала, зашмыгала носом. Испугался: неужели заплачет?
— Мда, история. — Мечетный услышал, как забулькала наливаемая из графина вода. — Выпейте-ка, голубушка. Выпейте и успокойтесь. И поймите — не могу... Мы вас на машине в хороший госпиталь переправим. Ну как мы с вами можем нарушать правила?
— А вы сделайте исключение. Я же ваша — медичка, я же вашему персоналу помогать буду.
— С раненой рукой, с повязкой на шее?
— Да, с раненой рукой и с повязкой на шее. — После нескольких глотков воды голос Анюты снова обрел прежнюю напористость. — Помогала же я сестричкам во Львове. Еще как помогала-то. Запросите Львов. Ведь так, товарищ капитан?
— И этому, голубушка, верю. И все-таки вы не наш профиль.
И тут Мечетный услышал явный тоненький плач.
— Ну вот те на... Говорит, что Одер форсировала. Выпейте-ка, выпейте-ка водички. И не плачьте. Деды наши говорили: Москва слезам не верит. Увы, милая моя, не верит и до сих пор.
Зажужжал телефонный диск.
— Пришлите в приемный покой санитара взять больного.
Хлопок двери. Стук тяжелых сапог.
— Проводите капитана в третью палату.
— Подождите! — выкрикнула Анюта. — Подождите, а письмо? Мне же поручено вручить пакет лично полковнику медицинской службы. В собственные руки...
Что было дальше, Мечетный уже не слышал. В какой-то другой комнате с устойчивым запахом несвежей солдатской одежды его переоблачили в больничное. Отвели в палату, подвели к застеленной койке. Прохладное, жестковатое, пахнувшее мылом белье облекло его. Он односложно отвечал на вопросы, какие обычно задают новичку в любой госпитальной палате: как звать, где ранен, какое звание. Ответив, он сделал вид, что уснул, но не спал. Обдумывал свое новое положение.
Вот он тут, в клинике, где, по словам львовских врачей, «бог окулистики» вершит свои чудеса. И он, Мечетный, сейчас в таком положении, о котором человек с его ранением может только мечтать. Шансы сохранить зрение повысились. Но он лишился Анюты, которая была его глазами, его надеждой, его утешением. Только теперь вот, когда Анюты рядом не было, он понял, какой необходимой стала ему эта девушка, прошедшая с ним весь нелегкий путь от немецкой реки Одер до Москвы-реки. Трудный путь. Полюбил ли он ее? Нет. Это, наверное, не любовь. И относился он к ней не как к женщине, а как к девочке — с осторожностью, с боязнью ее обидеть словом или жестом, и все же при всем том сердце его сжималось, лицо полыхало жаром, когда кто-нибудь из окружающих принимал ее за его жену или когда случайно соприкасались их руки или колени.
Про себя он даже загадал: если единственный глаз будет спасен и он будет видеть, он, как это писали в старых книгах, предложит ей руку и сердце. Но только в этом случае, не раньше. Даже в мыслях не допускал, чтобы Анюта по жизненной неопытности или из жалости связала свою судьбу со слепцом. Но вот если зрение восстановится, тогда...
И вот не будет этого тогда. Случай развел их внезапно, сразу. Растерявшись, он даже не успел с ней проститься. И в душе образовалась пустота. Он чувствовал: эту пустоту уже не заполнишь. После ранения, после операции, лишившей его левого глаза, это было третье крушение. Третье крушение за один год. А может быть, и лучше вот так сразу? Может, и хорошо, что судьба твердой рукой разъединила их.
Это был вывод разума, но не сердца. А сердце вопреки всему еще жило ожиданием. А может быть... А вдруг... С этим «вдруг» он уже по-настоящему уснул, сломленный усталостью и переживаниями этого битком набитого событиями дня.
10
Спал он крепко. Ни шум в палате, ни разговоры новых соседей, на все лады обсуждавших новичка, не нарушили его сон. Но сразу разбудил его тихий звук такой знакомой легкой походки. Ухо сразу отличило его среди других звуков, наполнявших палату. Анюта? Мечетный сразу же сел на койке. Сна как и не бывало. Действительно, пришла Анюта. И не одна. Кто-то пришел вместе с ней. У этого кого-то была скользящая походка и один ботинок легким скрипом отмечал шаг.
— Владимир Онуфриевич, — начала было Анюта.
Но раскатистый бас человека со скрипучим ботинком перебил ее:
— Ну, как себя чувствует у нас достопочтенный Ромео? Как перенес дорогу? Глаз не болит, не дергает?
— Владимир Онуфриевич, это полковник медицинской службы, профессор...
— Хватит, хватит чинов и званий. Просто старый русский лекарь Преображенский. Виталий Аркадьевич Преображенский. Будем знакомы. Милая Джульетта в сержантском звании ввела меня в ситуацию. А мой ученик Платоша Щербина вас весьма живо описал в своем послании.
У профессора Преображенского был вкусный поволжский говорок, и круглое, как бублик, «О» так и выкатывалось из его речи: «ЖивО Описал». И грохотал этот голос, будто исторгался из глубины кувшина. Профессор привычным жестом взял руку Мечетного, нашел пульс.
— Ну, а как самочувствие?
— Нормальное.
— Действительно, нормальное. Пульс семьдесят два. Как и полагается герою Одера. Ну-с, измерим давление. Нет-нет, Джульетточка, я сам. Разве вам справиться одной рукой? Ого, ну вы просто жонглер...
— Меня здесь оставили. Он приказал, — послышался заговорщический шепот Анюты.
— Ну что же, отличное давление. Такое, наверное, и у Ильи Муромца было. Только он об этом не знал, тогда еще Риворочи не изобрел этот хитрый прибор... Ну что ж, витязь, мне мой ученик Платоша Щербина о вас все доложил. Не скрою, написал о том, что от вас отказался мой высокоуважаемый львовский коллега... Так-то вот. А мы все-таки попробуем побороться за ваш глаз. Сталин-то ведь недаром сказал: нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Но терпение, Ромео, терпение! Будем вас исследовать и готовить к операции. Отдыхайте, набирайтесь сил и о Джульетточке своей не беспокойтесь. Она девица ученая, ускоренные курсы военных фельдшеров кончила, мы ее на подхват к сестрам. А теперь, как это там у поэта, «...пора, мой друг, пора, покоя сердце просит».
И профессор ушел, поскрипывая подошвой и сопровождаемый запахом хорошего табака и кофе.
А Анюта осталась. Присела на койку и вдохновенно затараторила, больше, чем всегда, пересыпая свою речь любимым присловьем: мамочки-тетечки.
— Тот старый бюрократ, ну который все «милочка» да «голубушка», чуть было мне от ворот поворот не сделал. Не наш профиль — и все. Канцелярская промокашка. А я как заору: сперва письмо профессору Преображенскому дайте вручить, а потом гоните... Без этого не уйду, хоть комендантский взвод вызывайте... Я ведь и не знала, что там, в письме, думала, так, какие-нибудь анализы. Мне бы только до профессора добраться, сказать, что не смеют они выкидывать раненую на улицу. Ну эта «промокашка» профессору все-таки доложил. И вдруг, мамочки-тетечки, сам профессор. И басит: кто тут бунтует, кому я нужен? Он ведь в цивильном ходит, однако ж все вскочили, и «промокашка» навытяжку. Ну и я, конечно, здоровую руку по швам, рапортую по форме: старший сержант Анна Лихобаба, согласно приказу, доставила раненого Героя Советского Союза капитана Владимира Мечетного.
Анюта просто захлебывалась, рассказывая.
— А он, только подумайте, Владимир Онуфриевич, он улыбнулся, спросил вдруг: как вы назвали свою фамилию? Рубаю по уставу: старший сержант Анна Лихобаба, товарищ полковник. Засмеялся и говорит: какая же вы Лихобаба? Нет, нет, не по вас фамилия. Вам бы Тихомировой или Милосердовой именоваться.
Анюта засмеялась.
— Сколько я из-за этой дурацкой фамилии горя хватила. А тут она мне вроде бы даже и помогла. Ну, говорит, Лихобаба так Лихобаба. Пойдемте-ка ко мне в кабинет, почитаем, что там Платоша пишет. Он ведь меня по телефону о вас предупредил. Ну, как он там в своем госпитале командует?.. Все такой же щеголь?.. Владимир Онуфриевич, вы не спите, нет?
Мечетный, разумеется, не спал. Он лежал сомкнув веки, стараясь представить себе все, о чем рассказывала девушка.
— Пришли мы в кабинет, чудной кабинет: по стенам картинки, стол цивильный, кабинетный, на столе плитка, на плитке кофейник. Усадил в кресло, вскрыл письмо, читает и ухмыляется. На меня поглядывает. И вдруг: знаете, Лихобаба, как вас во Львове эскулапы называли? Ромео и Джульетта. Дальше читает и опять ко мне: а Ромео-то ваш, оказывается, опасный человек. За ним глаз да глаз нужен. И о вас тоже сообщает, что вы весьма опасная особа, что вы Сталину жаловаться собрались, когда вашему Ромео в операции отказали...
Тут Анюта прервала рассказ, поняв, что сболтнула лишнее.
— А ты действительно Сталину писать собиралась?
— Ну собиралась не собиралась, а припугнула их.
— Он, что же, и историю с таблетками профессору сообщил?
— Да, — чуть слышно ответила Анюта.
— Стало быть, и подполковник Щербина об этом знал?
— А как же, знал, конечно.
— Кто же ему рассказал?
— Мамочки-тетечки, ну я же. Кто же еще?.. Даром, что ли, тогда вашу койку к самым дверям поставили, мне велели возле самых дверей с той стороны на расклад душке спать. Слушать вас.
— И ты спала в коридоре у двери?
— Ну ясно... Мамочки-тетечки, дура я дура, как это я проболталась.
Мечетный нашел руку девушки и приложился к ней губами. Руку она отдернула.
— Не надо... Он странный, этот дядечка профессор. Его тут никто не боится, но все слушаются. Говорят, никого никогда не ругает, даром что по званию полковник.
— Ну, а ты, Анюта, как? Как тебя устроили?
— Разрешил оставаться. Приказал принять у меня аттестат, а дислоцироваться меня определили в сестринской. Там уж одна беспризорная сестричка из вольнонаемных обитает. Тоже на заячьих правах. На лицо симпатичная, но ядовитая, прямо уксус. Едва познакомилась и сразу съехидничала: я тебе завидую. С фронта, прямо в Москву да еще при своем хахале. Ну. я, конечно, мамочки-тетечки, показала ей «хахаля»... Будьте спокойны. Не забудет. Меня этот профессор все Джульетточка да Джульетточка, и опять эта новая знакомая съязвила: ты, говорит, ловкая и к старику уже подкатилась... Только тут, говорит, не выйдет. У него жена молодая. Он и с ней-то не управляется... Вот ведь какая язва, чего придумывает. Калерией ее звать. И имя-то ядовитое — Калерия...
11
Джульетта... Ромео... За что же это их так именовали во Львове? — раздумывал Мечетный. Смутно он помнил пьесу Шекспира, в которой вроде бы говорилось о каких-то средневековых девчонке и парнишке, но при чем тут он, капитан Мечетный, человек зрелого возраста? Но все же приятно: Ромео и Джульетта. Звучит хорошо.
И вообще как все здорово устроилось, как ловко решились все мучившие Мечетного вопросы. А может, и верно этот профессор с грохочущим голосом и поскрипывающим ботинком спасет-таки ему глаз?..
Весь день Анюты не было. С фронта, уже из глубины Германии, пришел поезд с ранеными. Среди них оказалось немало с глазными травмами. Были тяжелые. И Анюта со свойственной ей неугомонностью включившись в жизнь клиники, помогала сестрам и санитарам. Она как-то быстро и здесь прижилась, стала нужной. И опять с разных концов слышалось:
— Анюта!
— Аннушка!
— Старший сержант Лихобаба! Куда она делась?
И даже:
— Нюша!
И опять как-то на всех хватало ее заботливости, доброжелательства. Для каждого припасено доброе слово или шутка. Мечетный стал даже ее ревновать. Весь день в чужих делах, а о нем, к которому она прикомандирована, из-за кого ее и оставили здесь, о нем забывает.
Только после ужина выкроилось время и для него. Она помогла ему одеться и повела гулять в старый парк, окружавший здание клиники. Из всех времен года Мечетный любил именно раннюю весну, когда на припеке греет, но в тени еще прячется острый зимний холодок когда тут и там белеют горбы нестаявшего снега, обсосанного солнцем, а небесная синева становится особенно густой. Красок этой весны он уже не мог видеть. Но с тем большей жадностью слушал весенние звуки — тихий шорох еще голых древесных крон, ласково перебираемых теплым ветром, возбужденный птичий щебет и звон шагов прохожих, как-то особенно четко раздающийся в весеннем воздухе. И весенние запахи он ощущал теперь особенно отчетливо. Они заменяли ему краски — запах оттаявшей земли, крупитчатого последнего снега и этот властвующий над всем запах распускавшихся тополей, которые толпой подошли к самой клинике. Тут, в старом парке, этот тополиный аромат побеждал бензиновую гарь, и солоноватый сернистый запах подмосковного угля, и вонь нечистот, которыми дышали мусорные баки, выставленные во дворе.
Мечетный наслаждался весной, прислушиваясь к звонким девичьим голосам студенток, стайками выбегавших порой из институтских, забитых ранеными коридоров глотнуть свежего воздуха. Он молчал, а Анюта все говорила, говорила. Рассказывала о том, что последний эшелон с ранеными пришел уже из глубины Германии, откуда будто бы и сам Берлин уже виден. Рассказывала, что, по словам вновь прибывших, земля и воздух дрожат не смолкая, столько там артиллерии, авиации, и о том, что немцы в занятых городах вывешивают из окон белые простыни, а по дорогам куда-то на запад бредут вереницы беженцев, катят велосипеды и детские коляски, груженные разным житейским скарбом, ведут и уносят детей.
— ...Ну как мы когда-то от них уходили, — вдохновенно повествовала Анюта. — А летчик один, его в воздухе подожгли, он до своих все-таки дотянул, но при посадке лицо себе разбил, так этот парень говорит, что теперь наши полные хозяева в воздухе, что хотят, то и делают. А противник, говорит, хоть в последние дни с козыря пошел, пустив какие-то самолеты без винтов, а ничего против нас поделать уже не может: хенде хох, и все тут.
Мечетный не очень вникал в рассказ. Просто приятно было слушать ее голосок.
— ...А наш профессор меня увидел и поздоровался. Спрашивает, как вы, Джульетточка, у нас адаптировались? Как ваш Ромео? На днях, говорит, оперировать его буду. Может быть, глаз ему и починю, у меня, говорит, рука легкая.
— Так и сказал? Сказал «починю»?
— Так и сказал. А потом даже байку рассказал. Приходит будто к нему на консультацию больной. Вот, говорит, профессор, помогите. Свет в глазах меркнуть стал. Вокруг туман, с каждым днем вижу все хуже и хуже. А я его, говорит, сразу вылечил. Я говорю: милый друг, стекла очков протрите, грязные они у вас. Протер и сразу все видеть стал. Вот, говорит, милая Джульетточка, какие чудеса исцеления старик Преображенский совершает...
— Это он с тобой такие разговоры ведет?
— Да. А что? И не только разговоры. К себе приглашал. Заходите, говорит, в перерыв. Кофе угощу. Такого, говорит, кофе тебе нигде не предложат, мне, говорит, один армянин, которому я свет вернул, такую кастрюлечку подарил, в которой кофе по-особому варится...
— А ты пойдешь? — ревниво спросил Мечетный.
— А почему не пойти? И кофе попью, и за вас похлопочу. Между прочим, спросил, какого цвета у вас глаза. А я и не знаю. Поругал: нехорошо, говорит, товарищ Джульетточка. Ваша тезка, наверное, знала, какие у Ромео глаза были... А какие в самом деле у вас, Владимир Онуфриевич, глаза?
— Пока что никаких нет, — нервно ответил Мечетный, но почувствовал, как дрогнула рука Анюты, добавил: — Карие, карие... были.
Девушка поняла, что прикоснулась к больному месту, и уже спешила увести разговор в сторону:
— Он меня все Джульетточка, Джульетточка, а я ведь и не знаю путем, кто такая Джульетта была. Вы знаете?
— Пьеса такая. О парнишке и девчонке, которые так любили друг друга, что потом вместе и умерли.
Знаешь, Анюта, интересно было бы эту пьесу почитать.
— А что же, почитаем. Здесь в клинике есть библиотека. А не найдем, я в Ленинскую библиотеку съезжу. Там все книжки, какие только есть на свете.
Так с томика Шекспира чтение и вошло у них в обычай. Большинство пациентов этой клиники сами читать не могли. Ходячие весь день толпились у черных тарелок репродукторов. Через радио приходили к ним все новости. Дважды в день над всеми звуками и шумами этого большого старого здания господствовал голос диктора Юрия Левитана, читавшего сводку Советского Информбюро. В эти минуты в клинике все замирало, стихали боли, на самом интересном месте обрывались споры, кости домино застывали в руках играющих. Наступала тишина, которую никто не смел нарушить ни словом, ни вздохом.
Все события жизни воспринимались на слух. А вот теперь, после того как в палате, где лежал Мечетный, появилась Анюта с томиком Шекспира и обитатели палаты, слушая ее, мысленно пропутешествовали в итальянский город Верону и вместе погоревали о печальной судьбе средневековых парня и девушки, чтение вслух как бы вошло в обиход. Приходили раненые из соседних палат, рассаживались на койках, а то и на корточках вдоль стен. Слушали. Учтя столь ярко проявленный интерес к литературе, комиссар госпиталя перенес громкие читки в зал, где по утрам устраивались врачебные пятиминутки. Но слишком много горя было в те дни в палатах клиники, и вслед за шекспировской трагедией Анюта, по совету комиссара, стала читать рассказы Зощенко и тоненькие книжечки из библиотечки «Крокодила». Слушателей становилось все больше.
Эти чтения попали в сводку политической информации. Были одобрены свыше как ценное начинание, рекомендованы в другие госпитали. После вечернего обхода люди теперь ждали Анюту с очередной порцией юмора.
— Золотая девка! — доложил о ней комиссар начальству.
12
Наконец в госпитале прошел слух, что сам Преображенский будет делать операцию капитану Мечетному.
Вечером Анюта была приглашена в кабинет руководителя института. Он все еще жил, как тогда говорили, на казарменном положении.
— Я сейчас как флотоводец Ушаков перед сражением у острова Фидониси, — сказал профессор, усаживаясь в кресло напротив девушки. — Слишком уж велики шансы противника и мало, очень мало шансов для победы.
— Товарищ полковник, вы победите. Обязательно победите! Должны победить.
— Одной уверенности, Джульетточка, увы, мало.
— Но про вас говорят, что вы «бог окулистики».
— Бог. Богу легко. Предполагается, что он сидит высоко, где-то там, куда не достигают страсти и боли человеческие. Ой, девочка, богу хорошо, он все знает наперед. А я вот сейчас не знаю, не ведаю. — Профессор волновался, и потому волжское, круглое «О» особенно выделялось в его речи. — Таких операций не только мне, но и никому, наверное, не доводилось проводить. И вот в иной час думаю, не отказаться ли, пока не поздно. Неудача в моем возрасте — незаживающая рана. У молодого рана быстро затягивается, а у меня будет кровоточить до гроба. Стоит ли рисковать?
— Товарищ полковник, миленький, умоляю, вы же знаете, что с ним было там, во Львове, вам же товарищ подполковник Щербина писал про люминал.
— Я очень к вам обоим привязался. Вы удивительная пара. Ромео и Джульетта Отечественной войны. Но ведь вы знаете, чем закончился их роман.
— Знаю, только что прочитали. Пусть и так кончится, но вы от нас не отказывайтесь... Мамочки-тетечки, ну как мне вас уговорить? Я готова, ну на все готова...
О том, как происходил этот разговор, как девушке удалось заставить ученого бросить вызов львовскому коллеге и пойти на почти4 безнадежную операцию, Мечетный узнает лишь много лет спустя. Тогда он узнал лишь о финале этого ночного разговора. Утром Анюта объявила, что его берут на операцию, что операция будет в четырнадцать ноль-ноль и что ее будет делать сам.
В положенный срок профессор явился в палату в сопровождении стаи ассистентов, сам проверил пульс у больного, измерил давление.
— В операционную! — скомандовал он, и из слова этого явственнее, чем всегда, выкатились округлые нижневолжские «О».
Операция шла под местной анестезией. Мечетный слышал все, что происходило. Сомнения и колебания, которые Анюта услышала в ночном разговоре, исчезли, по-видимому, не оставив и следа. Уверенно, даже воинственно звучал бас профессора. Короткие слова летели, как полководческие команды на поле боя:
— Поднять стол... Свет, точнее свет... Лупу...
«Зачем ему лупа?» — подумал Мечетный, отчетливо слышавший все, что происходило вокруг. И тяжелое дыхание оперирующего, и позвякивание инструментов, и незнакомые слова: векорасширитель... Пинцет... Не тот, для роговицы... Ножницы роговичные... — И наконец, сложное слово «криоэкстректор».
«Что это такое криоэкстректор?» — думал Мечетный, стараясь отвлечься от происходящего. Особых ощущений он не испытывал. Боль была тупая, приглушенная. Но вот звуки, улавливаемые обостренным слухом, пугали. Тяжело дышал профессор. Точно нес какую-то тяжесть. Слышно было, как нервно переступает он с ноги на ногу, как все чаще раздается команда: «Сестра, уберите пот с лица».
Операция шла уже третий час.
— Гарпун! — скомандовал наконец профессор, скомандовал властно, резко, но его точно из глубины кувшина исторгающийся голос явно дрожал от усталости.
«Гарпун... Какой гарпун? Зачем здесь, в операционной, гарпун?» — думал Мечетный, отвлекая себя от тревожной мысли, рожденной сознанием, что вот сейчас решается, видеть ему или не видеть, вернуться в строй нормальных людей или навсегда остаться калекой. Отгоняя от себя страх за исход операции, он старался думать о мелочах: что такое гарпун, что значит копье, крючок.
Время от времени профессор спрашивал:
— Как себя чувствуете?
— Нормально.
— Что испытываете? Болит?
— Терпимо.
— Если очень больно, скажите.
— Скажу.
И опять сквозь вязкий полусон звучали непонятные слова: векорасширитель... криоэкстректор... гарпун. Скоро ли это кончится?
Кончилось через три с лишним часа.
— Ух! — раздалось наконец. — Воды... Нет, простой... Терпеть не могу эту газированную дрянь!
Тяжелые, медленные глотки.
— У вас, Виталий Аркадьевич, вся спина черная.
— Еще бы... тремя потами омылся... Ну, друг капитан, задали вы мне работенку. Как себя чувствуете?
— Нормально.
— А я вот нет. Я подняться с табуретки боюсь. Ноги подламываются. Такая операция не жук на палочке. — На этот раз голос был слабым.
— Товарищ профессор, ну как, есть надежда?
— Надежда? Что значит надежда? Абстрактное понятие. Могу только сказать, как тот древний римлянин: я сделал, что мог, пусть больше сделают могущие... А надеяться, капитан, всегда надо надеяться на лучшее. Вот когда ваш глаз, который я, можно сказать, из лоскутьев сшил, увидит свет, в тот день старику Преображенскому можно* будет вручить медаль за отвагу. — И распорядился: — Увезите больного.
Каталка мягко поскрипывала. Ее вывезли в коридор. Тут к поскрипыванию ее колес приобщились легкие шаги Анюты. Она шла рядом, шла молча. Но на своих руках, лежащих поверх одеяла, Мечетный чувствовал тепло ее ладони.
13
В эти последние дни палата тяжелых травм, как, впрочем, и все остальные палаты, просыпалась задолго до восьми часов, когда раздавали термометры и начинался официальный больничный день.
Даже самые слабые, даже завзятые любители поспать поднимались словно по сигналу в шесть часов, когда передавалась утренняя сводка Советского Информбюро. Новости она приносила теперь только хорошие. Объявлялось об успешном развитии наступления по всему гигантскому фронту, о форсировании новых рек, о взятии новых городов. Профессор Преображенский шутил: сводка эта в его клинике стала самым действенным лекарством. И сам следил за тем, чтобы черные тарелки репродукторов, развешанные по всем палатам, были всегда в порядке, действовали безотказно.
Искалеченные и часто совсем ослепленные люди, лежавшие на койках, были опытными солдатами, знали, что такое война, и не без основания считали каждую победу, на каком бы участке гигантского фронта она ни происходила, своей победой, каждый салют — своим салютом, и потому сразу же после этой утренней передачи в клинику вступало радостное волнение.
В коридоре висела большая карта Европы. Ежеутренне на ней перекалывались красные флажки. И те, кто мог ходить и видеть, целый день толпились возле этой карты, азартно обсуждая передвижение фронтов, гадая, как дальше будет развиваться наступление, куда пойдет Жуков, что предпримет Конев, что сделает Рокоссовский или какой-нибудь другой командующий, причем каждый болел за своего полководца с тем же азартом и страстью, с какими до войны любители футбола болели за свою команду.
Мечетный не видел карты. Оперированный глаз был закрыт плотной повязкой. Ему сказали: пройдет немало времени, прежде чем можно будет его открыть и узнать результаты уникальной операции. К карте он не подходил, но подробно допрашивал своих зрячих соседей о всех происходивших на ней изменениях и мысленно представлял картину войны.
В солнечное утро, когда в открытые окна палаты врывался свежий запах умытой вешним дождем земли и галочий грай, на карте обозначилось берлинское направление. Ведь это только подумать — берлинское направление! Форсирована Шпрее — самая немецкая из всех немецких рек! В это утро всем показалось, что голос Юрия Левитана, который в дни войны звучал как вечевой колокол, возвещавший народу и о бедах и о торжествах, этот такой знакомый всем голос звучал как-то особенно торжественно.
Берлинское направление — ведь это только подумать!
Мечетный в составе своей гвардейской уральской дивизии вступил в войну, когда бои шли на близких подступах к Москве. Но и тогда вся огромная, терзаемая фашистскими дивизиями страна мечтала и страстно мечтала о том далеком, очень далеком дне, когда советские дивизии подойдут к Берлину. Мечтали, верили и, веря, сражались и работали, не зная устали, покоя, не щадя себя. Мечтали четыре тяжелых года. И вот оно обозначилось — берлинское направление! Красные флажки на карте, висевшей в коридоре, подвинулись к самой столице гитлеровского рейха, охватывали, окружали ее.
В этот день в клинике все говорили громко, возбужденно, как будто все приложились к стаканчику, хотя строжайшие порядки, установленные профессором Преображенским, исключали всякую возможность проникновения спиртного.
Никто не стонал, не охал, не ворчал, и Мечетный, у которого все время не выходило из ума, будет он видеть или не будет, захваченный этой новостью, в этот день почему-то проникся уверенностью, что да, видеть будет. И думал он в этот день не о своем несчастном глазе, а все старался представить карту Европы, по ней мысленно провести разгранлинию своего Первого Украинского фронта и вообразить, как далеко прошла его рота от того первого клочка чужой земли за Одером, в бою за который для него, капитана Мечетного, погас свет.
Ну, а вечером, в час очередного салюта, все, в том числе и незрячие, толпились у окон, откуда были видны многоцветные сверкающие огненные всплески. Слушали раскаты пушечных выстрелов и даже с удовольствием ощущали, как залпы слегка встряхивают стены старой клиники и как позванивают мензурки па тумбочках.
В этот день, совершая традиционный обход, профессор Преображенский остановился у койки Мечетного.
— Ну как, герой Одера?
И даже обиделся, услышав обычное «нормально». Обиделся и тихонько сказал:
— Нормально. Что значит нормально? Вам сделана уникальнейшая операция, которая, может быть, войдет в историю окулистики, о ней можно научную статью писать. А он — нормально! Теперь вы сами, друг мой, являетесь отступлением от любой до сих пор известной нормы. Ваш глаз, если он прозреет, может стать лучшим моим шедевром.
— Если прозреет... А когда я узнаю, прозреет он или нет?
— Терпение, мой друг, терпение! Как говорил небезызвестный Козьма Прутков, торопливость показана лишь при ловле блох, а народ еще точнее сказал: поспешишь — людей насмешишь.
— Ну, а надежда-то, есть хоть надежда?
— Как поется в одном жестоком романсе: верь, надейся и жди... Ладно, капитан, будем считать, что этот вопрос мы с вами выжали досуха. — И повторил: — Верь, надейся и жди.
Хотя одна рука у Анюты была все еще забинтована, девушка все-таки ухитрялась заменять то одну, то другую из сестер и еще продолжала по вечерам свои громкие читки. Урывала она и время погулять с Мечетным. Они бродили по больничному парку, ощущая на лицах ласковое прикосновение солнечных лучей, слушали мягкий шелест молодой, нежно зазеленевшей листвы. Бродившие по парку больные, студенты, выбегавшие на воздух подышать, привыкли видеть эту неразлучную пару.
В день, когда было объявлено, что Первый Белорусский фронт завязал бои на окраине Берлина, а Первый Украинский охватывает столицу Германии с юго-запада, Мечетный с Анютой грелись па солнышке, сидя на старой, шелушащейся скамейке. Испытывая веселый подъем, капитан неожиданно для себя обнял, прижал к себе и поцеловал Анюту.
Она не противилась, но и не ответила. Лишь слегка отодвинувшись от него, сказала:
— Сюда идут.
Потом встгбла и потянула Мечетного за собой.
— Пойдемте. Солнце скрылось, я что-то озябла.
Вернувшись в палату, Мечетный принялся обдумывать это «сюда идут». Действительно, кто-то шел или это было сказано, чтобы вежливо одернуть его. Если действительно шли, значит, она не возражает, чтобы все повторилось в более благоприятных условиях. Если это хитрость, выдумка, тогда?.. Что тогда?
Это надо обязательно выяснить.
Теперь он уже не сомневался, что любит, любит по-настоящему, крепко любит эту девушку, с которой свела его судьба. И именно любовь, настоящая любовь делала его в обращении с ней неуверенным, застенчивым, даже робким.
В своем чувстве Мечетный был уверен. Испытывал радость, когда хотя бы издали слышал ее голос, ее шаги. Ревновал, когда девушка присаживалась на койку к кому-нибудь из его соседей и болтала с ними. Ревновал к профессору Преображенскому, с которым у нее, на удивление всей клиники, установились отношения шутливой дружбы. Ревновал к тому, что этот пожилой человек с ухающим, будто из кувшина доносящимся голосом иногда вечером, когда клиника стихала, приглашал Анюту к себе в свое, как он выражался, «бомбоубежище», поил кофе, угощал конфетами.
О личной жизни «бога окулистики» в клинике поговаривали разное. Точно знали, что он, у которого старший сын был уже доктор наук, женат на женщине втрое моложе его. Знали, что в доме его сама — сам, и потому профессор в грозный военный год, как и весь персонал, живший на казарменном положении, до сих пор продолжал обитать в своем кабинете и редко уезжал к себе домой. Злословили, что, спасаясь от вздорной молодой жены, он все же был не прочь пригласить в свое «бомбоубежище» какую-нибудь пригожую медицинскую сестру. Слухи эти доходили до Мечетного, и потому, когда Анюта простодушно рассказывала, что опять побывала у Виталия Аркадьевича и говорила с ним о том-то и о том-то, Мечетный весь каменел. И она, эта ревность, не имея выхода, росла. В иные дни ему казалось, что он начинает ненавидеть человека, сделавшего ему столько добра.
Но от Анюты он тщательно скрывал и ревность и любовь. Ах, если бы он был уверен, что его глаз будет спасен! А пока это неясно, разве он имеет право на долгие годы обрекать это юное существо, эту девушку, которая спасла ему жизнь и столько делает теперь для него, на роль домашней сестры милосердия при слепом муже, требующем только забот и не могущем обеспечить жене даже сносного существования?.. Вот почему маленькое происшествие в парке, когда его не отвергли, нет, но и не ответили на его объятия и поцелуй, так смутило его.
Нет, он не имеет права больше допускать что-нибудь подобное! Вот снимут повязку, выяснится, что глаз видит, тогда он прямо предложит ей стать его женой...
14
И вот Берлин был взят.
Нацистский рейх капитулировал. Черные картонные тарелки репродукторов с самого утра исторгали в тишину палат марши, песни, и дикторы всех передач на разные голоса снова и снова читали мужественный, энергичный приказ Верховного Главнокомандующего и рассказывали о том, как Красное знамя было водружено над рейхстагом. Никто не уставал слушать эти повторы. Слушали и глубже осмысливали значение огромной новости: победа! Да это же конец войны!
В тот день, неожиданный для всех, в час обеда по приказу самого профессора Преображенского по палатам разнесли и выдали всем без изъятия по «ворошиловской дозе» водки. Подходящей посуды не оказалось, подносили в кружках из-под компота, и это служило предметом всяческих соленых шуток. Суровая госпитальная тишина, всегда царившая в клинике, была разрушена. Все говорили. Говорили громко, возбужденно, не слушая и стараясь перекричать друг друга. В коридор врывались песни, а в одной из палат, где у танкиста с обожженным лицом нашелся под кроватью трофейный аккордеон, затеяли даже лихой пляс.
В этот день профессор и сам нарушал строжайшие традиции своего всемирно известного учреждения. Ходил вроде бы даже и под хмельком, и его бас звучал то в одной, то в другой, то в третьей палате. Говорили, что где-то он даже и пел вместе со своими пациентами.
А вечером разнесся слух, что по его приглашению к раненым приедет певица Лидия Русланова и даже будто бы будет петь в большом зале, где по утрам происходили врачебные пятиминутки. И хотя в зал этот отовсюду таскали стулья и табуретки, в слух этот не сразу поверили. Русланова! Ну кто из фронтовиков не знал ее песен! Ее пластинки заигрывались в землянках до полнейшей хрипоты. Умельцы из войск связи ухитрялись их размножать на старых рентгеновских снимках. И самодельные эти диски были почти обязательной принадлежностью всех ленинских уголков. И вдруг приедет, запросто приедет. И они не только услышат, но и увидят Русланову. Как это может быть?
А время шло, поужинали, полюбовались в окно грандиозным праздничным салютом, прослушали вечерние известия, очень даже радостные известия, и в разочаровании стали уже готовиться ко сну, когда в коридоре послышался громкий стук сапог.
— Едет!
И снова была нарушена вернувшаяся было в палаты тишина. Анюта подбежала к койке Мечетного.
— Мамочки-тетечки, приехала, Русланова приехала! — И, схватив его за рукав халата, потянула к выходу. — Приехала со своим аккомпаниатором, будет петь. Идемте вниз, в вестибюль.
Артистка прибыла с какого-то концерта, не переодеваясь, и когда она скинула на руки своего аккомпаниатора — цветущего молодца с русым волнистым чубом — пальто, то оказалась в бархатном полусачке, в паневе и богато расшитом сарафане. И тут Мечетный, которого Анюта протащила вперед, услышал, как ее низкий, такой характерный голос произнес кому-то:
— Ну, здравствуй, земляк. Откликнулась-таки на твой зов, прибыла. После четвертого праздничного концерта к твоим раненым пожаловала. Цени. Мне бы сейчас в самую пору рюмочку да на боковую, но разве тебе откажешь? Невозможно в такой день отказывать.
Глубокое ее контральто звучало устало, но весело.
— Ну показывай, куда тут у вас идти. Забыла я уж твою знаменитую клинику.
— Сюда, сюда, на второй этаж, в зал, Лидия Андреевна. Ну, а как глаза-то ваши глядят?
— Как у молоденькой, Виталий Аркадьевич, как у молоденькой. Я уж и забывать стала про ту беду, от которой ты меня избавил. И очки даже потеряла. Мне они теперь и не нужны, очки... Ну, а ты все глаза чинишь, все гудишь, как дьякон на амвоне?
— Да все вот гужу или гудю, не знаю уж, как это слово и произнести.
— Ну, а что мне петь-то твоим, посоветуй. Что вы тут любите?
— А пойте наши волжские, Лидия Андреевна, лучше вас их никто, даже сам Федор Шаляпин, не пел.
— Ну и льстец ты, Виталий Аркадьевич... Шаляпин. Эк хватил! Шаляпин — гора, а если мы все хоть холмики или пригорочки, и то бога благодарить должны.
Мечетный слушал и поражался: знаменитый врач и известнейшая певица беседовали как друзья, встретившиеся после долгой разлуки, и в разговоре их так и перекатывалось, выпадая из любой фразы, круглое, звучное волжское «О».
— Ну, молодцы, пошли, что ли, на сцену? Чего время-то зря терять?
И начался этот импровизированный праздничный концерт.
Певица и ее розовощекий аккомпаниатор, прижимавший к себе баян, как любимую подругу, поднялись на сцену. Остановившись посредине, Русланова торжественно отвесила в зал глубокий земной поклон.
— Спасибо вам, доблестные воины, спасибо за спасение Отечества, за славную победу вашу!
Потом, не объявляя номера, запела, и будто разом раздались толстые стены старой больницы, раздались до необозримых просторов, и в атмосферу, перенасыщенную тяжелыми госпитальными запахами, точно бы ворвался волнами волжский ветер.
Самые свои любимые песни пела в этот вечер Лидия Русланова для притихшей замершей аудитории: и «Вниз по Волге-реке», и «Ты подуй, ветер низовой», и «Выйду ль я на реченьку», и, конечно, о волжском «Утесе». И хотя это был у нее уже пятый по счету праздничный концерт, певица была необыкновенно щедра, песни звучали не затихая, будто бы загорались одна от другой.
— Мамочки-тетечки, полковник-то наш плачет! — шептала Анюта на ухо Мечетному. Впрочем, все сидели с растроганными лицами и потому, вероятно, никто не аплодировал.
А когда певица, опять-таки без всяких объявлений перешла на частушки, она так разошлась, что Мечетный услышал ритмичную дробь ее каблуков. Чувствовалось, что не только слушатели, но и она сама увлечена, сама радуется силе, тембру своего голоса, радуется, чувствуя, как загрубевшие за годы войны солдатские сердца людей, израненных и искалеченных, широко раскрываются навстречу ее песне.
Все жадно следили за каждым движением этой немолодой уже, полной женщины с круглым, таким русским лицом, естественный румянец которого подчеркивали густо насурмленные брови и темные, с легкой проседью волосы, зачесанные без затей со строгим пробором. Мечетный не видел артистки. Ее образ доходил до него через песни, и она казалась ему то мудрой пожилой крестьянкой, скорбящей о судьбе замерзающего ямщика, то волжанкой, любующейся с крутого берега на всклокоченные ветром просторы родной реки, то разудалой вдовушкой, которой сам черт не брат, то лукавой сельской девчонкой, не унывающей ни при каких обстоятельствах.
Говорят, я некрасива, Знаю, не красавица, Но не все красивых любят, А кому что нравится...
Разные женские облики рисовали Мечетному песни, но в любом своем облике Русланова была такой русской, такой народной, будто в необычный этот день сама матушка Россия пришла к своим раненым воинам.
Сколько продолжался необычный этот концерт, Мечетный не знал, и закончился он внезапно.
— Ух, — шумно вздохнула певица, — уморилась я с вами. Феденька, разверни-ка мехи пошире. Твоя очередь.
Баянист заиграл, но зал взорвался такой овацией, что мелодия утонула в нем, и в этом внезапно возникшем громоподобном шуме, возбужденном соприкосновением с настоящим искусством, как бы вырвалась из больных, измученных ранами сердец вся радость, поднятая в народе известием о том, что далеко, в неведомой никому из них столице Гитлера, над куполом не виденного никем здания под наименованием рейхстаг взвилось, развернулось и развевается родное Красное знамя.
Лишь немалое время спустя баянисту удалось начать свой номер. Он заиграл им самим сочиненное комическое попурри из любимых фронтовых песен, и тут произошло то, что навсегда запомнил Мечетный. Ловкий и, несомненно, даровитый парень этот, отлично управлявшийся со своим многоголосым инструментом, играл эти отрывки в самом развеселом, джазовом темпе, и все песни в его исполнении, даже нежный «Синий платочек», даже торжественная песня о Днепре, приобретали шутливое, комическое звучание. И по мере того, как развивалась мелодия, в восторженный несколько минут назад зал входила сначала настороженная, потом недоуменная и, наконец, зловещая тишина.
И тут вдруг раздалось:
— Стой, не смей!
Баянист, пародировавший в этот момент знаменитую «Землянку», ничего не понимая, смотрел в зал.
— Стой, прекрати!
И какой-то солдатик, маленький, щуплый, с забинтованной головой, расталкивая соседей, рвался через ряды к сцене. Лица его не было видно. Из марлевого тюрбана торчал лишь клок рыжих волос.
— Сволочь, паскуда, не смей наши песни поганить!
Этого человека пытались утихомирить, держали за халат, но он вырвался из рук и, оставив халат, в одном белье рвался к сцене.
— Успокойся, угомонись... Ну что тут такого?.. Чего психуешь?..
— Мы эту песню как молитву пели, а он?.. Мы ее в бой несли, а он?.. Разве он видел бой, этот Феденька... С этакой-то будкой всю войну от боя за баян прятался, тыловая крыса!
Он уже прорвался на сцену, но тут певица встала между ними. Заступив дорогу, она как-то по-матерински обняла и прижала к себе маленького солдатика, продолжавшего еще дрожать от возбуждения.
— Ну полно, полно. Угомонись, сынок... Разбушевался. Федю моего ты зря тыловой крысой обозвал. Он со мной по всем фронтам ездил. На передовой пели, пулям не кланялись, ясно? Сколько раз пели под пушечный аккомпанемент... А песня... песню, родимый, опохабить нельзя. Затаскают, залапают, захватают скверным исполнением, а она, песня, если она действительно хорошая песня, любую грязь с себя отряхнет... Давай-ка напоследок я вам вашу «Землянку» спою. Не мой репертуар, конечно, не для моего голоса, но в такой день попробую. Федор, заводи.
И запела она не в обычной своей манере, а тихо, как бы притушив свой богатый и звучный голос, запела раздумчиво и последние слова произнесла почти шепотом. И тогда вместо бурных аплодисментов снова услышала благоговейную тишину и, сходя с подмостков в зал, сама смахивала со щек слезы.
— Вот, Виталий Аркадьевич, что значит песня для русского человека, — тихо сказала она, отвечая на взволнованное рукопожатие профессора.
— Вы, Лидия Андреевна, сегодня превзошли саму себя.
— Такой день сегодня. Мы с тобой, землячок, об этом дне четыре года мечтали, мы с тобой да и весь народ с нами.
— Устали, Лидия Андреевна?
— Будто на пристани соль грузила, да в такой день нельзя уставать. Всю себя отдать не жалко.
Потом, обращаясь к кому-то, и Мечетному показалось, что именно к нему, она сказала:
— Вот я все вашего главнокомандующего: «землячок» да «землячок». Удивляетесь, поди? Вы к нему по чину да по званию, а я — «землячок». Так вот мы с ним — старые знакомые. Односельцы, из села, что над самой Волгой, на крутизне стоит. Он сын нашего священника отца Аркадия, а я сельская сирота, которую мир призрел, в церковном хоре пела. Отец Аркадий, профессора вашего тятя, меня в уезд в приют определил, а при приюте хороший хор был, и я там девчонкой солировала. Купцы семьями ходили слушать, как я пела. Так вот с того и стала Лидка Приютская человеком благодаря тому самому отцу Аркадию, как говорили раньше, царство ему небесное. Чуете, какие мы с ним знакомые?
— Ну, к чему вы об этом, Лидия Андреевна? Вы нас сегодня таким концертом угостили, не знаю уж, как и благодарить вас.
— А ты, Виталий Аркадьевич, не благодари, я у Преображенских должница вечная: отец голос мой разгадал, а сын глаза мне вернул. Чем благодарить, ты бы, землячок, накормил бы нас как следует, так ведь нас в воинских частях приучили. Это у Островского, что ли: мы артисты, наше место в буфете.
— Накормим, Лидия Андреевна, накормим. Пошли ко мне в «бомбоубежище».
— Это какое же такое «бомбоубежище»? Какие сейчас бомбежки?
— Житейские, Лидия Андреевна, житейские. От житейских бомбежек я там прячусь.
— Ну в «бомбоубежище» так в «бомбоубежище», только скорей. У нас с Федей сегодня с утра маковой росинки во рту не было.
— И вы пойдете с нами, — пророкотал профессор, подхватывая Мечетного за талию. — Рекомендую, Лидия Андреевна, — герой Одера, первым свою роту на землю врага вывел. А зовем мы его Ромео. А вот его Джульетта в сержантском звании. Пошли, Джульет-точка. Пошли и вы тоже с нами, защитник песни. Только чтобы у меня больше истерик не закатывать...
Так в сопровождении целой толпы они дошли до кабинета, и Мечетный очутился в комнате, где аромат хороших папирос и кофе побеждал стойкие больничные запахи.
— А ты все живописью увлекаешься, Виталий Аркадьевич, — сказала артистка, шурша своим жестким, густо расшитым сарафаном.
— Где тут живописью, на стенах все старье. Четыре года война свободной минутки не давала. Попробовал я как-то вот эту нашу Джульетточку изобразить — только хорошую бумагу испортил. А вы садитесь, садитесь кто где.
— Можно разуться? — спросила вдруг артистка. — Ноги гудут, спасу нет.
— Разувайтесь, разувайтесь, Лидия Андреевна, будьте как дома, в нашем селе, где мы оба босиком бегали. И доспехи эти ваши театральные можете снять, там за ширмочкой висит красивый халат, из Средней Азии один мой подопечный прислал...
Все в этот день поражало Мечетного: и этот неожиданный концерт, и сила этого низкого, гибкого, сочного голоса, и истерика, которую закатил маленький солдатик перед финишем концерта, и строй беседы певицы с профессором, и это волжское «О», так прочно живущее в них обоих, и, наконец, новость о том, что профессор пытался рисовать Анюту, и все это так неожиданно... Герой Одера сидел молчаливый, настороженный.
Под конец трапезы, сдобренной отличным «фирменно» изготовленным кофе и ароматным коньяком, певица, будто сбросив усталость и превратившись в задорную волжскую молодуху, без приглашений вдруг запела волжские припевки:
Ох, уж эти мне подружки, Отбивают друг у дружки. Я сама гляжу того, Как отбить бы у кого.
— Наша, саратовская, — гудел бас профессора. — Знаете, кого вы сейчас мне напоминаете, Лидия Андреевна? Княгиню Марию Дмитриевну из «Войны и мира». Помните, там у Толстого Мария Дмитриевна в разгар веселья пустилась в пляс?
— Так то ж старуха была, Мария Дмитриевна, у Толстого, а я хоть и в годах, еще ничего себе, а? Как?.. Еще могу?
Эх, в лодке вода
И под лодкой вода.
Девки юбки промочили, Перевозчику беда.
Подтягивай, Виталий Аркадьевич, не забыл наши волжские?
И уже два голоса: глубокое сопрано и сипловатый бас — вывели припев:
Ростов-на-Дону, Саратов-на-Волге. Я тебя не догоню, У тя ноги долги.
И вдруг без всяких переходов:
— Эх, разгулялась я у вас, земляк! Все медицинские ваши запреты — к чертям, ничего не страшно: день-то, день-то какой! Как подумаешь, что война кончилась, что наш флаг над рейхстагом, какие тут медицинские запреты, ничего мне не страшно, мечтаю в этом самом Берлине перед этим самым рейхстагом русские песни спеть... А? Как?
За столом Мечетный выпил всего лишь маленькую рюмочку коньяка, но в голове радостно шумело, и все вокруг казалось ему сулящим только хорошее. В этот день он, сам не зная почему, поверил, что развеется столько времени окружавшая его тьма, что он будет видеть, вернется в строй нормальных людей и, став полноценным человеком, в тот же день предложит Анюте стать его женой.
15
Но до того, как с глаза его сняли плотную шторку и решилась его судьба, прошли еще дни, и в жизни его за это время произошло немало и радостных и печальных событий.
На место удаленного глаза ему вставили протез, отличный, как его уверяли, глаз, который закрыл образовавшуюся после операции пустоту. Несколько дней организм привыкал к этому инородному, мертвому, втиснутому в него телу, а когда протез как бы прижился и опала первоначально окружившая его опухоль, все зрячие сопалатники нашли, что глаз хоть куда, ничем не отличается от живых. И Анюта, которая одна могла помнить его здоровые глаза, громче и старательнее всех уверяла, что «глаз, как живой».
Сосед по палате, сапер, пострадавший при взрыве мины и лежавший с такой ясе травмой, как Мечетный, ушел. Ушел горестно, так и не прозрев, несмотря на то что ему два раза делали операцию. Он тоже терпеливо ждал приговора, и приговор этот вышел не в его пользу. Сняли повязку — он ничего не увидел, по-прежнему его окружала тьма. Когда его вернули в палату, там настала тишина, которая так и продержалась до самой ночи. Сапер не жаловался. Не вздыхал. Молчал. И лишь ночью Мечетный услышал глухие мужские рыдания.
Сапер был москвич. .На следующий день за ним приехала жена — пожилая женщина. Она уводила его под руку, с наигранной бодростью бормоча:
— Ничего, Колюшка, ничего. Главное, жив, вернулся... Ребятишки-то как тебя ждут... Они там в садике, их не пустили. Вот поглядишь, как они тут без тебя выросли. Вот увидишь.
— Ничего, ничего я больше не увижу! — крикнул сапер, и хриплый негромкий этот вскрик, как ножом, резанул Мечетного. Но сапер уже взял себя в руки, тихо сказал жене: — Извини, Машенька... — А в дверях бодро бросил всем: — До свидания, братцы!
Когда шаги их стихли в коридоре, в палату опять вошла томящая тишина. Лишь несколько минут спустя кто-то как бы выдохнул:
— Да-а!..
И вот пришел день, когда настала очередь Мечетного определить свою судьбу. Профессор сам пришел за ним в палату, сам под руку довел его до операционной. Рука его лежала на руке Мечетного. Сзади слышались шаги медицинской свиты, и среди этих шагов Мечетный отличал легкую походку Анюты. Потом шаги Анюты перестали звучать. За Мечетным закрылась дверь какой-то комнаты.
Его усадили в кресло. Голову заключили в жесткое изголовье. Легкими прикосновениями проворная и осторожная рука стала отклеивать марлевый щиток, закрывавший глаз. Боли не было, но Мечетный весь вжался в подлокотники. Сейчас... Сейчас... Вот сейчас все узнается. Его просто трясло от волнения, и он никак не мог подавить в себе эту дрожь...
Щелкнул выключатель. К лицу поднесли что-то источавшее мягкое тепло. Лампочка? Да, наверное, лампочка. И вдруг в плотной тьме, окутывавшей Мечетного столько дней, мелькнул свет.
— Вижу! — закричал он не своим голосом.
— Тише, капитан. Спокойно, — пророкотало над ухом, и, как всегда, у профессора в минуту волнения как бы выкатилось из горла три круглых «О».
Теперь Мечетный различил контуры большой головы, пряди седеющих волос, выбивавшихся из-под колпачка, усы, небольшую бородку клинышком. Так вот он какой, этот «бог окулистики»! И почему-то показалось ему, что когда-то и где-то он уже видел эту голову, этот широкий, утиный нос, эту уютную бородку.
— Ну, герой Одера, здесь бы нам с тобой самая пора перекреститься и возблагодарить бога, которого, увы, нет. А надо бы перекреститься и мне и тебе.
Голова исчезла. Мечетный довольно четко отличил во тьме сверкающие контуры какого-то прибора.
— Ну что, видишь?
Мечетный молчал.
— Он в обмороке, — произнес чей-то мужской голос, и к носу Мечетного поднесли пузырек с нашатырем.
— Ну что, хлопцы, есть еще порох в пороховницах? Не иссякла казачья сила у старика Преображенского! — с детским нескрываемым самодовольством произнес профессор. — Этот старый черт Преображенский еще покажет вам, молодые люди, на что он способен! Ведь видит, видит наш герой Одера... Ну что, очнулся, вояка? Чего морщишься?
— Глаз больно.
— Это ничего, это пройдет. На первый раз нагляделся, и хватит! — И на лицо Мечетного плотно опустилась марлевая шторка, и вновь обступила его непроглядная тьма. Но он ее уже не боялся.
А профессор продолжал хвастать, обращаясь не то к нему, не то к каким-то своим помощникам или ассистентам, находившимся в комнате, не то к самому себе:
— Ведь случай-то, случай-то какой! Из ничего, можно сказать, глаз собрал. Из клочков. А ведь видит, видит! Злорадство — качество противное, но обязательно отстукаю телеграмму во Львов этому венскому низкопоклоннику Недоле. Дескать, где немцу смерть, там русскому здорово... Или наоборот, что ли.
Мечетный сразу ощутил в себе прилив сил. Хотел было сам идти, но наткнулся на дверь. Его остановили, взяли под руки, и опять над ухом послышалось:
— Не торопись наперед батьки в пекло, потерпи. Походите недельку-другую с повязкой. Раньше снимете — под хвост собачий все мои труды... Нет, други мои, как операция-то проведена! Старый Преображенский превзошел сам себя, премия ему за такую операцию полагается.
Сразу же, как только открылась дверь, послышался возбужденный голос Анюты:
— Ну что, ну как?
— Нормально, — ответил Мечетный своим любимым словом, которое в это мгновение было явно не к месту. Но он был так полон своей радостью, что кружилась голова, и не мог он взвешивать слова.
— Видите?
— Немного видел...
— Ой, здорово! — Анюта обняла Мечетного, влепила ему в щеку громкий поцелуй.
Все в том же состоянии полусна Мечетный вошел в лифт. Вместе с ним и Анютой поднимались какие-то врачи, по-видимому, свидетели его прозрения.
— Ну, наш старик от скромности не умрет. Он каждую фразу начинает с «я», а кончает «меня», «мне».
— Расхвастался! И ведь, наверное, из озорства отстукает во Львов свою телеграмму. Он из тех, кто на каждой свадьбе чувствует себя женихом, и на каждых похоронах покойником...
И тут Мечетного из его наркотической рассеянности вывел голос Анюты:
— Как вам не стыдно. Это ведь такой... такой человек.
Собеседники притихли.
— Старший сержант, не стоило бы вам вмешиваться в разговоры офицеров.
— На нас белые халаты, погонов не видать. А офицерам судачить, как бабам, и вовсе не к лицу!
А когда лифт остановился и щелкнул дверью, Мечетный успел еще услышать:
— Эта пэпэжонка совсем обнаглела!
— Не связывайтесь с ней, еще настукает.
Мечетный дернулся было к обидчикам, но дверца лифта уже щелкнула, Анюта, крепко сжав его руку, довела до койки.
Сон схватил Мечетного сразу. Он уснул, не успев ничего рассказать товарищам по палате. Проснулся он только поздно вечером, проснулся с ощущением большой, просто-таки распиравшей его радости. И все-таки не сразу вспомнил, чему же он радуется. Потом вдруг дошло: вижу, вижу. Глаз смотрит, черт его возьми! Вспомнил, как во тьме занавешенной комнаты разглядел свет лампы, вспомнил, как на фоне этого света вырисовывались контуры пожилого человека, волосы, выбивавшиеся из-под шапочки и падающие на лоб, усы, маленькая бородка. Вон он какой, этот «бог окулистики»! И где же, где он, Мечетный, мог его видеть раньше?
Где? Когда? При каких обстоятельствах?
16
В таком счастливом настроении и отправился он с Анютой на прогулку.
День с утра завязался жаркий. Солнце грело на совесть. Шум шагов гасил размягченный асфальт. Листва на липах лишилась нежной весенней желтизны, и листья уже шумели от прикосновения теплого ветра. Решено было на этот раз оторваться от больничного парка, где они всегда гуляли, пешком пройтись до Москвы-реки.
Уверенность, что теперь он будет видеть, совсем переродила Мечетного. Шаг из робкого, нащупывающего стал твердым. Теперь уже Анюте не надо было его вести. Хотя по-прежнему для него все было погружено во тьму, он шел уверенно, ориентируясь на звуки шагов.
Радуясь этому жаркому, почти летнему дню, солнцу, теплому ветру, девушка неумолчно болтала, всему удивляясь: ох, какая красивая церквушка, прямо из сказки... А улицы широченные. Мне никогда не приходилось ходить по таким улицам... А машин, машин! Владимир Онуфриевич... Тут и зрячему надо ходить осторожно, а то как раз и угодишь под колеса...
Ну, а Мечетный молчал и думал, про себя: все, теперь уж недолго ждать. Не сегодня-завтра вернется зрение, и тогда, в первый же день, когда с глаз снимут повязку, он прямо скажет Анюте, что любит ее и просит выйти за него замуж. Откажет? Почему? Вряд ли откажет. Не так уж он теперь плох, капитан Мечетный. И как они вдвоем заживут! Ведь за время, что они провели вместе, узнали друг друга, притерлись характерами. Она будет хорошей женой, Анюта, и матерью, наверное, будет хорошей, и дети у них обязательно будут. Ох, скорей бы уж!
Москва-река показалась как бы внезапно. Для Анюты открылась сразу с крутого берега широкая водная гладь, млевшая под солнцем в крутых, закованных в гранит берегах. Мечетному река повеяла в лицо своей влагой.
— Ой, как тут хорошо-то! — воскликнула девушка, улыбаясь реке, водным трамваям, большому теплоход ду, неторопливо плывшему вверх по течению.
Сколько они простояли тут, у гранитного парапета, Мечетный не запомнил. Стояли до момента, пока Анюта тревожно не воскликнула:
— Ой, гроза идет, Владимир Онуфриевич, — и заторопила: — Пошли, пошли...
Из-за огромного серого, будто сложенного из гигантских кубов здания выползала тяжелая, свинцовая туча.
Мечетный не увидел этой, надвигавшейся на Москву тучи, но слышал далекие раскаты грома, так напомнившие ему орудийные залпы, какие звучат при артиллерийской подготовке. И залпы гремели все ближе и ближе.
Теперь молодые люди уже бежали. Анюта тянула Мечетного за руку.
— Молния, молния-то какая! — со страхом вскрикивала на ходу девушка. — Они, как снаряды «катюш», будто тучи вспахивают!
Раскаты артиллерии, казалось, звучали уже над головой. Потом рванул ветер. Об асфальт застучали увесистые капли. Девушка затолкала Мечетного в какую-то подворотню.
— От такой бомбежки не убежишь, давай окапываться, — сказал он, снимая плащ и накрывая им спутницу. И действительно, когда дождь припустил, вдруг пахнуло холодом. Ветер порывами заносил в подворотню брызги, стало сыро, зябко, неуютно.
— Мамочки-тетечки, вот. это дождище! Вода вдоль тротуаров ручьями бежит.
Мечетный попытался закутать Анюту плащом, но она запротестовала:
— А вы? В одной гимнастерке... Ну нет!
Она развернула плащ и накрыла их обоих. Теперь они стояли, прижавшись друг к другу. Мечетный ощущал теплоту ее тела, мягкую округлость груди. Он стоял неподвижно и, боясь спугнуть это ощущение близости, старался не шевелиться. Девушка не отстранялась и будто бы даже крепче прижималась к нему, но, может быть, это только казалось.
— Вот бы где настоящая плащ-палатка пригодилась, — сказал он хрипловатым голосом только для того, чтобы нарушить молчание, становившееся уже многозначительным и тягостным.
— Дождь-то, дождь, потоком хлещет...
И действительно, дождь хлестал вовсю, и обостренный слух Мечетного отмечал не только порывистые всплески падающего на землю дробного водного потока, но и журчание ручья, несущегося вдоль тротуара. Гром теперь раскатывался прямо над головой, так что земля вздрагивала, и напоминал он уже не залпы далекой артиллерийской подготовки, а разрывы снарядов большого калибра.
Под плащом, хотя он и не накрывал их совсем, а только окутывал головы, Мечетному было необыкновенно хорошо. Сквозь шум дождя он слышал дыхание девушки, чувствовал аромат ее мокрых волос. Хотелось обнять ее, прижать к себе, целовать ее повлажневшее лицо, находившееся от него так близко. Усилием воли он подавлял это все крепнувшее влечение и говорил себе: нет, нет, это будет нечестная игра, вот снимут повязку, тогда.
Шум грозы как бы изменил свой ритм.
— Дождь стихает, да?
— Стихает, — ответила Анюта, и в ответе этом Мечетный услышал не то огорчение, не то недовольство.
Потом девушка резко отстранилась, вышла из-под плаща.
— Дождь кончился. Чего же стоять? Пошли.
Потоки воды еще стекали с крыш, по водосточным трубам будто колотили палками, ручьи журчали вдоль тротуаров, а воздух был так чист, так свеж, что хотелось дышать как можно глубже.
«Чего она похолодела? Будто бы даже рассердилась. Почему идет молча и так резко тащит за руку. Может быть?.. Нет-нет... Ну день, ну два, снимут повязку, прозрею, раз видел свет, раз различил, довольно четко различил эту странно знакомую голову «бога окулистики», значит, вижу, значит, все будет хорошо, и это хорошо наступит совсем скоро».
В этот день мечты об Анюте начали приобретать практические очертания. Они поженятся еще тут, в Москве. А потом вместе — на Урал. Он вернется в свой институт. Как демобилизованного воина его обязательно восстановят на последний курс, с которого он ушел. Правда, за четыре года все позабыл. Ну и что? Не страшно, нагонит. А Анюта? Она теперь медик. Наверное, мечтает о врачебном дипломе. Ну, что же, в городе есть медицинский институт... Или пока поступит в больницу. Она умница, настойчивая, она свое место в жизни найдет!
С этими мыслями расхаживал Мечетный по коридору, что-то даже напевая себе под нос. И тут послышался голос Анюты:
— Владимир Онуфриевич, вы что же, позабыли, сегодня же ваш день рождения. Сами говорили. Вот вам мой подарок. — И она протянула ему что-то, что он на ощупь определил как какую-то четырехугольную сумочку.
— Это несессер. Пригодится, когда поедете домой. Хорошая штучка. Их сегодня по случаю Победы выкинули в военторге, ну один я схватила. Тут шесть отделений: и для зубной щетки, и для кисточки, и для бритвы, а еще не знаю для чего. Он красивый, увидите.
Растроганный Мечетный обнял девушку и расцеловал.
— Ну вот, война кончилась, начинаем вещами обзаводиться... Спасибо.
Теперь счастье было совсем рядом, к этому счастью можно было притронуться рукой.
17
Если раньше госпитальное время тащилось, как обозная кляча, теперь оно неслось кавалерийским галопом. Для Мечетного наступила пора везения. Искусственный глаз прижился, и то ли по случайности, то ли по счастью, он, по свидетельству профессора, оказался хорошей парой своему живому прозревшему соседу. В затемненной комнате снимали повязку, давали посмотреть несколько минут, Мечетный жадно рассматривал вырисовывавшиеся в полутьме приборы, висевшую на стене табличку с буквами разных размеров. Смотрел радостно: различал все до пятой строчки.
А потом ему дали детскую, крупным шрифтом набранную книгу, и он прочел несколько страниц из смешной сказочки о похождениях мистера Твистера в Ленинграде.
Профессор Преображенский, называвший его, как он выражался, собранный из кусков глаз своим лучшим произведением, сам возился с Мечетным. К великому удивлению пациента, он оказался совсем не таким, каким прежде рисовался из-за его глухого хрипловатого баса. По голосу он казался могучим, крепким стариком, каких много в старых городах Урала. А на поверку оказался невысок, узок в плечах, и вихор, выбивавшийся из-под шапочки, и усы, приютившиеся под широким носом, и козлиная бородка — уже побелило изморозью проседи. Но глаза сохраняли чистую голубизну и были такими живыми, какие бывают у детей.
Приглядевшись к своему спасителю в минуты, когда снимали повязку, Мечетный разгадал, почему это лицо кажется ему знакомым. «Бог оку листики» напоминал по облику Михаила Ивановича Калинина, портреты которого были почти обязательной принадлежностью всех сельских изб на Урале.
Профессор по-прежнему называл капитана Ромео, Анюту — Джульеттой, Джульетточкой и даже Джульеттушкой и держался с ними попросту, даже по-товарищески, интересовался их делами.
— Ну, а как мы, капитан, жить будем? — спросил он однажды. — Какие планы у героя Одера?
— Поеду домой доучиваться, Виталий Аркадьевич.
— Так, дело. Ну, значит, война не все еще из головы вытрясла! Но ведь нелегко, наверное, будет?
— Догоню.
— Ну, а Джульеттушка куда собирается?
— Не знаю, — ответила Анюта, вопросительно посмотрев на Мечетного. В голубых глазах профессора засветился такой лукавый огонек, что. девушка опустила взгляд.
Разговор происходил в том же кабинете ученого, в «бомбоубежище», где специфические медицинские запахи перемешивались с домашними запахами хорошего табака, свежего кофе. Профессор как раз в эту минуту и варил этот кофе на электрической плитке, в медной кованой старинной кастрюлечке.
Когда кофе был готов, он разлил его в три чашечки, маленькие, как раковинки.
— Пейте. Такого кофе, какой варит старик Преображенский, никто вам в Москве не сварит. Знаете, молодые люди, я ведь с вами отдыхаю. Ей-богу!
Достал папиросу с длинным мундштуком, погремел спичками.
— Ничего, что курю? Дама разрешает?.. Вот никак не могу отвыкнуть. А надо бы, надо бы. А то так вот с папироской в зубах и умрешь однажды... Так как же, молодые люди? Ведь вы на мой вопрос так и не ответили. Как жизнь-то дальше потечет: вместе или порознь?
Мечетный почувствовал, что даже ладони у него вспотели от волнения. Человек, который бежал впереди своей роты на автоматы эсэсовцев, растерялся и даже испугался этого неожиданного вопроса:
— Я как-то... Мы как-то... То есть, в общем...
— В общем, не обсудили, времени не было. — Голубые глаза откровенно смеялись. — Что же вы это так, други мои? Мой ученик Платоша Щербина написал, что еще во Львове вас молва сосватала. Но по свидетельству Вильяма Шекспира, этот самый Ромео был посмелее и попредприимчивее, чем наш герой Одера, да и Джульетта, как мне помнится, была решительная девица. — И вдруг ни с того ни с сего перевел разговор на другие рельсы. — Знаете, какая разница между шизофреником и истериком? Не знаете? Так вот, как медик сообщаю вам, что шизофреник считает, что дважды два — пять, и очень этим доволен, а истерик знает, что дважды два — четыре, и это его страшно раздражает. Ну, так как же все-таки мой вопрос? Может Джульеттушка ответит, ее тезка и у Шекспира была побойчее своего любимого.
— Товарищ полковник, так, может, капитан не хочет?..
— Анюта, как ты можешь? Ты, ты... Я столько об этом... — Мечетный схватил девушку, прижал к себе. Он все еще не видел ее лица, не видел ее взгляда. Но по тому, как она сразу подалась вперед, как прижалась к нему, он понял, что это его так и не высказанное предложение принято.
Профессор держал перед носом чашечку кофе и, казалось, был весь поглощен его ароматом.
— Ну вот и ладно. Сватовство — опасное дело. Как говорят, свату первая чарка, но и первая палка. Ничего, рискнул... Ну, а эго вам свадебный подарок... — Он достал из стола два билета из жесткого лакированного картона. — Завтра — парад Победы. Это билеты на Красную площадь. Там на трибунах будут особые места для раненых воинов. На мою .клинику прислали один билет с просьбой вручить самому достойному. Но вы у меня два самых достойных. Другой билет я выскулил у горвоенкома. Он у меня тоже полежал с глаукомой. Берите... Только уговор, герой, повязку не снимать. Джульеттушка будет вашими глазами. — Профессор встал. — Ну вот, операция под кодовым названием «сватовство» завершена. Старшему сержанту позаботиться об экипировке, чтобы завтра все блистало и сверкало. Не посрамите знаменитую клинику Преображенского.
18
Госпитальная машина с красным крестом довезла молодых людей почти до Манежа.
Дальше они пошли пешком. Анюта не вела Мечетного. Они шли под руку. Шагали в ногу, прижимаясь друг к другу. И хотя серая дымка плотно затягивала небо Москвы, погода казалась Анюте прекрасной.
В проходах оцеплений, преграждавших путь к площади, девушка с гордостью предъявляла пропуска. Бинты на голове Мечетного и рука Анюты, все еще висевшая на свежей повязке, производили впечатление. Контролеры оцеплений козыряли дружески, даже почтительно.
Пройдя вдоль Александровского сада к Кремлевской стене, они миновали несколько оцеплений. И вот из-за кирпичной махины Исторического музея перед ними открылась такая знакомая площадь, на которой ни он, ни она никогда не были. Анюта прошептала свои «мамочки-тетечки» и остановилась.
— Что, не туда зашли? — спросил Мечетный.
— Нет, туда. Именно туда.
— Так что же?
— Какая большая-то... И Мавзолей, и башня, и вон часы, те самые, которые по радио полночь отбивают. Мамочки-тетечки, а Мавзолей-то, он маленький... — Она говорила, а Мечетный словно сам увидел простор Красной площади, брусчатку, отполированную подошвами многих поколений, тускло лоснящуюся под хмурым небом, и людные уже трибуны по обе стороны Мавзолея. Анюта испугалась и сказала Мечетному, как, мол, они, по-видимому, все же опоздавшие, найдут свои места. Но милицейский начальник, снова проверивший их пропуска, видя темную повязку на голове Мечетного, распорядился милиционеру:
— Товарищ не видит. Отведите их на места, предоставленные инвалидам Отечественной войны.
Раненые, которых привезли из госпиталей, оказались на левом крыле правой трибуны, совсем близко от Мавзолея. Мечетный их не видел, но Анюта — его глаза, рассказывала, и он все это представлял живо, в красках, словно видел сам: люди с забинтованными головами, люди на костылях, люди с руками, висящими на повязках. Сверкали праздничные погоны, начищенные ордена, медали, пуговицы мундиров. В первой шеренге стояло санитарное кресло, в котором сидел человек с ефрейторскими погонами. На груди его соседствовали три ордена Славы.
— Отсюда вы все увидите, — тоном радушного хозяина, угощавшего гостей, сказал совсем молоденький милиционер. — Вы сразу за дипломатическим корпусом. Почетные места. — И, щелкнув каблуками, простился: — Здравия желаю...
Торопливо подходили и занимали свои места дипломаты и в штатском и в парадной военной форме. Анюта, освоившись с ролью комментатора, все замечала и тут же рассказывала Мечетному.
— Эти, их военные, как петухи. И ордена, и золотые галуны, и эти самые висюльки, как их... Один в юбочке, ей-богу, в коротенькой клетчатой юбочке, и колени голые... Как елки разукрашены, честное комсомольское.
— Что верно, то верно. Чем армия хуже воюет, тем шире у нее фуражки, тем больше на груди этих самых побрякушек и блях, — отозвался их сосед слева, офицер с худым, нервным лицом, на выцветшей гимнастерке которого алели два ордена Красного Знамени. Один старый, привинченный, другой — на колодке. — Теперь вот стоят на почетном месте и не вспоминают, как в Арденнах от немцев драпали.
— Оно всегда так бывает. Один с сошкой, а семеро с ложкой, — поддержал коренастый, коротко остриженный старшина, тоже при орденах с пуговицами, надраенными до ослепительного блеска, и следами зубного порошка на кителе.
— Ладно, нашли время счеты сводить! Нехорошо так разговаривать... Наверное, кто-нибудь из них нас слушает...
— Ну и пусть слушают. Неверно, что ли? Мы всю войну на своем горбу вынесли, а они к третьему блюду пожаловали.
Спор разгорался, но здесь по трибунам прошел сдержанный гул.
— Ой, мамочки-тетечки, Сталин! — громко воскликнула Анюта. — Владимир Онуфриевич, и совсем близко... Молотов, Ворошилов... и Михаил Иванович с палочкой. — Голос девушки срывался от возбуждения.
В эту минуту по всем огромным трибунам, битком набитым людьми, пронесся шквал аплодисментов, и Мечетный, тоже аплодируя до боли в ладонях, слушал, как Анюта возбужденно сыпала свои комментарии.
— А Сталин-то совсем невысокий, пониже других. И одет простенько. Военный плащ, фуражка и усы, здоровенные усы и совсем не черные, а рыжеватые.
А тем временем за спиной часы на башне стали медленно, неторопливо ронять свои густые, знакомые всему миру удары. Звуки падали в абсолютно настороженную тишину, проносились над застывшими трибунами, раскатывались по простору площади и возвращались эхом.
— Под башней раскрылись ворота, — комментировала Анюта. — Ага, стучат копыта... Кто-то выехал на белой лошади.
— Не кто-то, а Маршал Советского Союза Жуков, — строго поправил старшина, сверкающий своими регалиями. — Надо знать, старший сержант. Из всех первых — первый.
— Ладно вы, кончай спорить!
Мечетному передавалось волнение Анюты, он чувствовал, как она жадно вбирала в себя все происходящее, все казалось ей важным, и обо всем хотелось рассказывать: и о том, какая лошадь под маршалом Жуковым, и о том, какой огромный оркестр, от звуков которого ощутительно вздрагивал гранит трибун, и о том, как один за другим из проходящих колонн, сменявших друг друга на площади, выходили командующие фронтами, как подходили они к Мавзолею и, отсалютовав шашкой трибунам, поднимались на его правое крыло. Она рассказывала, тараторя со скоростью работающего пулемета, боясь что-нибудь пропустить. Может быть, в эти мгновения ей казалось, сама история тут, рядом, и как могла ока что-нибудь прозевать, обделить его, Мечетного, который не мог всего этого видеть!
— Ну и шпаришь ты, старший сержант! — сказал старшина с медалями. — Не завидую твоему мужику. Заговоришь ты его до смерти.
Мечетный услышал, как девушка засмеялась, словно отмахнулась, продолжая свой индивидуальный репортаж.
А тем временем из-за Исторического музея на площадь наплывала лохматая туча. Анюта сказала ему и об этом. Туча совсем закрыла солнце, дунул ветер, и стал сыпать нечастый, некрупный дождик. Капли его застучали о козырек новой фуражки Мечетного. Гранитные торцы площади почернели, залоснились, но парад продолжался как ни в чем не бывало, гремела музыка, слышался дружный топот ног проходящих колонн. Дождика просто не замечали. Колонны фронтов проходили через площадь и, уйдя за пестрый храм Василия Блаженного, строго сохраняя строй, стекали вниз к Москве-реке. Один за другим проходили фронты — части гигантского фронта, протянувшегося от севера к югу. Смену фронтов Мечетный, не видя, узнавал по смене мелодий, ибо всезнающий старшина с медалями сообщил, что каждый фронт пойдет под свой марш.
— Владимир Онуфриевич, наши! — громко вскричала Анюта. — Первый Украинский. Наш Конев впереди. Ух, как рубит, мамочки-тетечки, лучше всех. Шашку поднял, сапоги бутылками, блестят... Вы ж его знаете, Владимир Онуфриевич?
— Видел. Он к нам в полк приезжал, когда мы на Сандоммрском плацдарме наступление отрабатывали. Стоял, наблюдал. Наша рота как раз по-пластунски на локтях ползла. Подошел к одному бойцу, а тот толстый, неповоротливый. «Как ползете? Вашу казенную часть неприятель за километр заметит». Лег на землю и показал, как ползти... Где он сейчас, наш командующий?
— Поднялся на трибуну. Совсем рядом от нас... Его, видать, уважают. Все с ним здороваются...
Гремела музыка, исторгаемая громадным оркестром. Слушая Анюту, Мечетный по доносившимся к нему звукам старался представить себе картину того, что происходит на площади, старался и не мог. Слишком все было необыкновенно. Не хватало воображения. И в то же время он думал о себе, думал о том, сколько пришлось ему пройти, сколько боев выдержать, скольких товарищей потерять, прежде чем попасть на этот парад. Думал о своей роте: где-то она закончила войну, где, в каком немецком городе дислоцируется сейчас? Думал о своем замполите, всего на несколько минут заместившем его в бою и награжденном уже посмертно. Думал о Митриче, похороненном на польской земле, на холме, над рекой Вислой, рядом со статуэткой чужеземной мадонны, увенчавшей холм. И об увечье своем думал. О глазе, спасенном «богом окулистики». И о тех, кому зрение не вернет уже никакое медицинское мастерство, для которых на войне свет погас на веки вечные. Всю гигантскую, нечеловечески трудную войну, весь невиданный еще народный героизм как бы подытоживал этот парад, и, вспоминая о друзьях — живых и мертвых, — Мечетный в эти минуты ощущал, что жизнь свою он прожил не напрасно, что был хорошим солдатом и сделал для победы все, что мог.
И будто в ответ на свои мысли Мечетный услышал хрипловатый голос, донесшийся сзади:
— Вот так подумаешь, ребята, какую же мы войни-щу выиграли, какого врага победили. Первая Отечественная, когда Россия Наполеону накостыляла, что она по сравнению с этой нашей. Наша, Отечественная, куда больше и злее. Со всем фашизмом воевали... Кутузов, Барклай, Раевский, Давыдов — кто их сейчас, сто лет спустя, не знает. А Жуков, Конев, Рокоссовский или там, скажем, наш Исидор Артемович Ковпак, — они же в десять раз больше сражений выиграли. И вот мы их видим. Вон они перед нами на Мавзолее стоят... Можно сказать, рядом.
Говоривший не закончил мысль. По правому крылу трибуны прошла волна аплодисментов.
— Сталин подошел к краю Мавзолея, — взволнованно говорит Анюта. — Вон стоит, улыбается, показал на небо, головой покачал, дескать, дождь не по программе... поднял воротник плаща. Сейчас на нас, на нас глядит, усмехнулся, дескать, что нам дождь...
Аплодисменты, продолжая раскатываться, волнами ходили по трибунам...
— ...Он тоже в ладоши хлопает.
Вот когда Мечетный особенно горько пожалел, что нельзя нарушить запрет, сорвать повязку.
— ...Ушел... Встал с другими. Что-то говорит Ворошилову, и оба смеются... А Климент-то Ефремович тоже невысокий.
Вся захваченная впечатлениями, Анюта перестала рассказывать. Мечетный ее и не торопил. Слушал гром оркестра, слушал четкий шаг проходящих частей. Потом гром танков. Потом шуршание орудийных шин и совсем уже тихий проезд механизированных частей, следовавших на машинах.
Анюта замолчала потому, что заметила, что какой-то майор с костылем под мышкой и с палкой в руке, с мальчишеским льняным чубом, выбившимся из-под фуражки, стоявший впереди почти у самой веревки, отделявшей группу раненых от иностранных дипломатов, все время оглядывается и смотрит на Мечетного. Был майор плотный, веселый и обликом своим напоминал артиста Михаила Жарова, которого Анюта видела недавно в фильме «Воздушный извозчик». Чего ему надо, этому майору с озорным мальчишеским лицом? Почему он так смотрит на Мечетного и на нее?
Конечно. Мечетный всего этого не видел, и не мог догадаться, почему замолчала Анюта. Лишь потом, припоминая до мелочей все, что произошло тогда на Красной площади, каким-то обостренным чувством понял и представил, как это было. Тогда же он лишь почувствовал непонятное беспокойство Анюты. Майор снова оглянулся и весело подмигнул ей; ну точь-в-точь как Жаров в фильме. И ее беспокойство переросло в тревогу. Она этого майора никогда раньше не видела, а подмигнул он, несомненно, ей.
Как раз в это время на площадь вступила колонна солдат, каждый из которых нес опущенное к земле знамя или древко с блестящим и непонятным знаком на конце. Когда эта колонна поравнялась с Мавзолеем, раздалась команда, колонна остановилась, развернулась. Музыка оркестра рассыпала тревожную барабанную дробь. Тут уж трибуны разглядели, что несли эти солдаты.
— Гитлеровские знамена несут! — вскрикнула девушка. — Ой, мамочки-тетечки, сотни знамен. Шеренгами подходят к Мавзолею.
Барабаны усилили дробь. Теперь дробь эта как бы заполнила до краев огромную чашу площади. Мечетный вытянул вперед голову, как будто что-то мог рассмотреть сквозь повязку. Зазвучал стук дерева и металла о камень.
— Бросают... У Мавзолея бросают. Мамочки-тетечки, сколько их!..
Знамена, штандарты с эмблемами и символами фашизма, реликвии разбитых дивизий, корпусов образовали у подножия Мавзолея уже целый и довольно высокий ворох, а солдаты подходили шеренга за шеренгой и все бросали и, бросив, будто избавившись от неприятного груза, развертывались и продолжали шагать по площади к пестрому, будто ситцевому храму.
Тут Анюта увидела, что майор, которого она для себя называла Жаровым, стал пробиваться к ним, протискиваясь сквозь плотно стоявшую толпу. Теперь видно было, что у него на груди несколько рядов пестрых ленточек.
Майор пробирался прямо к ним, рассыпая направо и налево:
— Простите... Виноват... Извините... Позвольте пройти.
И хотя нагловатое лицо его было добродушным и с полных губ не сходила улыбка, Анюта почему-то почувствовала безотчетную тревогу, даже страх. Мечетный держал ее руку в своей и тоже заволновался.
19
А площадь между тем вся засверкала медью труб огромного сводного оркестра. Широкими, почти на все пространство площади развернутыми рядами надвигался этот оркестрище на опустевшее, омытое дождем и потому потемневшее пространство брусчатки. Сотни, может быть, тысячи труб согласно исторгали звуки торжественного марша, и две шеренги музыкантов с турецкими барабанами производили такой грохот, что казалось, вздрагивает и сама крепостная башня.
Но девушка рассказывала об этом как-то вяло, словно рассеянно, смотрела перед собой и не обращала внимания на это сверкающее медное великолепие. По трибунам снова раскатились аплодисменты.
— Что такое? Анюта, что происходит?
— Сталин и другие руководители сходят с трибуны, спускаются куда-то вниз...
И в этот момент Мечетный услышал радостный и очень знакомый голос:
— Володька?
Мечетный вздрогнул.
— Владимир Мечетный? Владимир Онуфриевич?
— Славка! — крикнул Мечетный. — Славка Воронов. Откуда ты взялся, черт полосатый?
— Оттуда же, откуда и ты, из госпиталя... Раненый воин. Что с тобой, почему тебе так котелок забинтовали?
— Глаз. Один глаз выбили, а другой — кто его знает, может, и уцелел. А у тебя?
— Нога, брат, нога. Коленная чашечка. Обещают починить, и вот уж третий месяц чинят... А я тебя, несмотря на бинты, сразу издали узнал. Смотрю — Володька Мечетный с каким-то весьма симпатичным старшим сержантом... А ты меня не углядел?
— Мне, Славушка, пока нечем глядеть.
— Ах, да, глаза, понимаю. Однако ты, брат, и вслепую хорошенькую спутницу себе выбрал. У тебя губа не дура... Может, представишь?
— Мой однокашник по институту Станислав Воронов, по уличному прозвищу «Колобок», — радостно произнес Мечетный и удивился, не услышав в голосе Анюты ответной радости. Она холодно рекомендовалась по полной форме:
— Старший сержант Анна Лихобаба.
— Как, как? — вскричал Воронов.
— Так, как вы слышали, товарищ майор.
— Ух и фамильице! Не страшно тебе, Володька, с такой спутницей ходить? — Мечетный слышал легкий звук костыля Воронова и представлял, как майор проворно прыгал на своем костыле, будто даже весело неся свою забинтованную ногу: костыль и палка бойко постукивали об асфальт.
Как и всегда это бывает при встрече давно не видевших друг друга однокашников, разговор шел по заведенному для таких случаев обычаю: «А помнишь?», «А знаешь?», «Такой-то теперь там-то», «Такой-то женился». При этом ни тот, ни другой не давали друг другу ответить на заданный вопрос, новые фамилии и факты наползали один на другой.
И вдруг майор спросил:
— Володька, а как твои? Как Наташка? Как Вовка?.. Сколько ему сейчас? Лет пять? Наверное, совсем уже мужичок стал?
Мечетный почувствовал, как Анюта насторожилась, но не придал этому значения. Не отвечая на вопрос, он торопливо заговорил:
— ...А Лешку Капустина я, представляешь себе, на Висле встретил. Командует БАО* в дивизии Александра Покрышкина. Майор технической службы. Маститый стал, разъелся, даже картавит для солидности.
* БАО — батальон аэродромного обслуживания.
Он явно уводил разговор в сторону.
— Ну, о Наташке-то, о Наташке ты не ответил, — перебил его майор, не поняв маневра Мечетного. — Знаешь же, я ведь тоже по ней до самого четвертого курса сох... Всю войну вы так и не видались?
— Видались... Один раз.
Мечетный слегка, но не очень аккуратно толкнул локтем майора. Но тогда не обратил внимания и на эту свою неловкость.
— Вас понял, перехожу на прием, — ответил тот и стал торопливо рассказывать, как и где приходилось ему воевать, где и сколько раз его ранило, где он лежал в госпиталях, в каком из них самые симпатичные сестры и какая это коварная штука — коленная чашечка, черт ее побери...
Анюта шла, как всегда, спокойно, только не дала Мечетному взять себя под руку, а вела его, как раньше во время прогулок. Увлеченный воспоминаниями и беседой с однокашником, капитан этого не заметил. Не обратил внимания и на ее молчаливость. Впрочем, все это можно было легко объяснить: такой день, столько впечатлений, и ей столько пришлось говорить.
— Ну, а как дальше будем жить? — спросил майор.
— Дальше демобилизуюсь, вернусь в институт. Думаю, примут. Мы ведь с тобой с последнего курса на войну подались. А ты?
— А я уж и не знаю. Может, переметнусь в авиационный. Я ведь теперь специальность приобрел — истребитель, летчик экстра-класса. Думаю, закончу авиационный, может, в начальство выгребу. А что? Очень свободно: ас второй мировой. Только вот нога, чашечка эта, черт ее возьми, заживет али нет?.. А ты знаешь, как меня в госпитале прозвали? «Гуляй-нога», ей-богу.
На улице Горького простились. Майор весело заковылял в дверь метро, Анюта повела Мечетного к Библиотеке Ленина, где их должна была ждать госпитальная машина.
— Ты чего все молчишь? — спросил Мечетный. — Надоели мы тебе своей болтовней? Соскучилась?.. Славка не понравился?
— Нет, почему же, он симпатичный, веселый.
— Устала, да? А может, простудилась на дождике?
— Нет, все нормально, как вы любите выражаться...
Захваченный впечатлениями дня, Мечетный прозевал и это «вы». Он все еще продолжал жить парадом, в ушах еще звучали оркестры, слышался шаг проходящих частей, лязг танковых траков, аплодисменты, которыми трибуны встречали руководителей партии и знаменитых полководцев, слышал особый звук древков поверженных неприятельских знамен и штандартов, стукающихся о камень.
Обо всем этом он, вернувшись в госпиталь, рассказывал своим соседям, рассказывал, не уставая. Сменялись слушатели, подходили новые, и он снова принимался рассказывать. Вдруг потянуло запахом кофе и папирос «Герцеговина Флор». Пришел профессор. Он тоже заставил все повторить, а потом сказал:
— Примите-ка на ночь снотворное, герой. Выспитесь как следует. Завтра снимаю вам повязку, с завтрашнего дня будете видеть, если старик Преображенский что-нибудь еще стоит,
— Завтра? Неужели завтра?
— Именно. И, как любите вы выражаться, в четыре ноль-ноль... Не волнуйтесь... Это мне надо волноваться, завтра я буду форсировать свой Одер и, как видите, бодр и весел...
Мечетный принял снотворное, заснул в радостном ожидании, и снились ему в эту ночь хорошие цветные сны, главной героиней которых была Анюта.
20
Проснулся он в том же настроении, с ощущением, что его ожидает что-то очень хорошее. Что? Ах, да, профессор обещал сегодня расшторить глаз... Видеть, видеть... Он, Мечетный, будет видеть. Он увидит ее лицо... И потом, сегодня, завтра, в ближайшие дни они с Анютой станут мужем и женой.
Но где же она, Анюта? Куда она делась? Всегда до утреннего обхода забегала к нему. Хоть на минутку, хоть только пожелать доброго утра. А вот сегодня где-то и застряла. И в одиннадцать часов, когда она, обычно управившись с утренними сестринскими делами, приходила поболтать, сидя на его койке, тоже не пришла.
Весь занятый мыслью об обещанном ему сегодня прозрении, Мечетный и на это не обратил особого внимания. Но когда Анюта не заглянула и после обеда, это всерьез обеспокоило его. Так где же она? Что с ней? Не заболела ли после того, как они вчера стояли под дождем?.. Упрямая! Ни за что, как он ее ни убеждал, не захотела надевать свой старенький, фронтовой, закопченный у костров бушлат. Пошла в новой, наглаженной гимнастерке, а ведь был дождик. Короткий, небольшой, а все-таки дождик. Да и день был прохладный.
Обеспокоенный Мечетный пошел на сестринский пост, дорогу к которому знал по памяти.
— Не знаете, куда делась Анюта?
— Вам, капитан, лучше знать, где пребывает старший сёржант Лихобаба, — не без яда ответили ему, и по голосу он отгадал, что это была та самая сестра Калерия, которая, не имея квартиры, делила с Анютой отведенный для них, как они говорили, медицинский чуланчик.
— Заболела?
— Нет, здоровехонька.
— Так где же она сейчас?
— Говорю, вам лучше знать. Ушла, и все!
— То есть как ушла?
— Обыкновенно. Ногами. Пришла с парада вроде бы расстроенная, ничего мне не сказала, сложила свои вещички. Мешок за плечи — и ушла. Со мной даже и не попрощалась, на что я, конечно, плюю с высокого дерева.
— Но куда, куда же ушла-то?
— Откуда мне знать? Говорю же, мне ничего не сказала. Она вообще какая-то ненормальная, эта ваша Нюшка.
Мечетный вцепился руками в стол, будто его внезапно ударили по голове. Новость была такая неожиданная, что трудно было сразу и поверить. Ушла? Как это ушла! Может быть, эта недобрая женщина просто разыгрывает его. Они с Анютой постоянно не ладили. Калерия завидовала девушке, не скупилась на ядовитые слова.
— Даже не попрощалась...
— Может, с кем и простилась, — многозначительно сказала Калерия, явно на что-то намекая. — Спросите-ка у профессора. Может, с ним простилась. — Потом, встав из-за стола, Калерия приблизилась к Мечетному вплотную. — А вы не переживайте, плюньте на нее, товарищ капитан, на Нюшку на эту. Она ведь вовсе не такая, как вы о ней думаете. Она не только к вам, она вон и к профессору подъехала, да как еще подъехала, старичок с нее глаз не сводил. Вы-то не видите, а у меня оба глаза, слава богу, здоровые...
— Глупости.
— Так зачем вы с глупой разговариваете? Вы спрашиваете, я отвечаю. А насчет профессора вся клиника знает. Спросите кого угодно. — И уже разудалым тоном добавила: — Эх, капитан, капитан, вспомните, как в песне поется: была без радости любовь, разлука будет без печали... Нашего брата, баб, нынче большой переизбыток. Только свистните — сразу сбегутся: бери любую на выбор. Вот хоть бы и я. Не видите вы меня, а я ведь красивая. Нюшка передо мной замухрышка... Смотреть и то не на что...
Ничего не ответив, Мечетный зашагал в палату и от волнения наткнулся на стенку и больно ушибся. Он и сейчас не до конца поверил в это известие. Анюта ушла... Почему, почему? Вынесла из боя, рискуя собственной жизнью, вынесла. Столько с ним возилась. Столько препятствий преодолела, борясь за него. И вот ушла. Ушла накануне того самого дня, когда он должен прозреть. Как это просто: собрала вещички и ушла. Даже не посоветовавшись. Даже не попрощавшись.
Нет-нет, тут какое-то недоразумение. Врет, наверное, эта скверная завистливая баба... Уложила вещевой мешок, оформила аттестат... Не может быть, Анюта не могла поступить так жестоко. Это не в ее характере. Ведь после того странного разговора в профессорском «бомбоубежище» отношения выяснились. Она тогда не ответила «нет», она радовалась, явно радовалась. И на парад они шагали под руку, прижавшись друг к другу, как молодожены. Эта Калерия конечно же наврала или все извратила. Тут что-то не так...
Когда ординатор зашел, чтобы предупредить Мечетного, что через час его поведут снимать повязку, он неподвижно лежал на койке поверх одеяла, не сбросив тапочек. На сообщение врача не отозвался, даже не переменил позы и только спросил:
— Куда делась сестра Анюта?
— Как, вы не знаете? Ушла вчера вечером, — ответил врач, огорченный тем, что его сообщение имело такую слабую реакцию.
— Куда же, куда ушла?
— Да, наверное, в отдел кадров. Из клиники выписалась. Мы вчера многих выписали, и она с ними.
— Да почему же?
— А я вот как раз вас собирался спросить об этом. Наш главнокомандующий, узнав, пришел в ярость: кто выдал документы, почему не доложили?.. Он и сейчас шумит. Несколько человек вылетели из его «бомбоубежища», как пробки... Стало быть, и вы не знаете. Странно... Ну, будьте готовы, за вами через час придут.
Как ждал Мечетный того, что должно было произойти! Как мечтал о дне, о часе, когда он снова сможет увидеть не приглушенный электрический, а настоящий дневной свет, когда он убедится окончательно, что страшная беда миновала и он снова стал человеком, деятельным человеком среди людей.
Сколько раз разговаривали они об этом дне, об этом часе с Анютой! И вот этот час настал, а Анюты-то и нет. Исчезла. Испарилась. Что бы это могло значить? Почему исчезла? Ведь не может же быть, чтобы она столько возилась с ним лишь для того, чтобы выполнить поручение роты?.. А что, все может быть и так. Возможно. И чувства свои, может быть, как бы жертвовала ему, чтобы утешить его в трудные минуты. Неужели ушла навсегда?.. Нет, нет, наверное, просто отлучилась по какому-то своему, неизвестному ему делу...
А как было вчера хорошо! Парад Победы, гром музыки, громовые шаги победителей, стук древков вражеских знамен, повергаемых к подножию Мавзолея. И этот тоненький детский голосок, с восторгом повествующий о том, что вокруг происходит. Она была его глазами, и парад был для него неотделим от этой девушки, от ее голоса. Так что же, черт возьми, произошло?
Почти позабыв о том, что ожидало его сегодня, он перебирал впечатления вчерашнего дня, обдумывал каждую его минуту, ища среди этих минут ту, что толкнула девушку на ее поступок. И вдруг его осенило. Просто-таки прозвучал в памяти вопрос майора: а как твои? Как Наташка, Вовка?.. Ну да, это самое. Он не мог вспомнить, что он ответил, но ему тогда казалось, что вопрос этот Анюта как бы пропустила мимо ушей. Продолжала молча идти, не вмешиваясь в беседу старых приятелей... Конечно, он не видел в эту минуту ее лица, но ему думалось, что она даже не обратила внимания на не очень ловкий ответ майора: вас понял, перехожу на прием.
Восстанавливая подробности минувшего дня, Мечетный вспомнил, что, расставшись с майором у входа в метро, дальше продолжали путь уже не под руку. Она снова вела его, как водила раньше гулять, этак по-сестрински.
Да-да-да. Вчера, весь захваченный впечатлениями парада, он не обратил внимания и на это, потом, весь вечер повествуя все новым и новым слушателям о том, что происходило на Красной площади, он даже и не заметил, что Анюты-то рядом не было. Так вот оно что!
Теперь Мечетный был убежден, что беда произошла из-за болтовни майора, что, услышав этот вопрос о Наташе и Вовке, девушка решила, что где-то у него есть семья, которую он от нее тщательно скрывает. Обиделась? Испугалась? А может быть, решила не разрушать эту несуществующую его семью, не оставлять неведомого ей Вовку без отца. Ну да, это в ее характере. И со свойственной ей смелостью и прямотой она тут же приняла решение и, чтобы избежать тяжелого разговора, объяснений, увещеваний, решила разом уйти из его жизни. Ведь была уже уверена, что он не слепой и не нуждается больше в опеке и уходе... Да к тому же еще, наверное, и обиделась на то, что он никогда в разговорах с ней не упоминал этих, неожиданно прозвучавших для нее имен, и ничего не рассказывал о существовании этих людей.
Логично восстановив по минутам вчерашний день, Мечетный пришел к выводу: да, именно так и было.
21
Придя к такому заключению, он даже успокоился. Ведь ничего не стоило объяснить Анюте эту печальную, но в общем-то простую историю, каких, увы, немало случалось в дни войны. И он ее, эту историю, вовсе не прятал. Просто не любил он раскрывать уже давнюю страницу своей жизни, которую и сам старался забыть.
Да, была такая Наташа. Студентка, с которой Мечетный учился на одном курсе, в одном потоке, весьма способная студентка, к тому же еще отличавшаяся редкой красотой. Все в ней было хорошо: и фигура, и голос, и строгие, правильные черты лица. Чуть ли не половина студентов из их потока по очереди перевлюблялись в нее, впрочем, без особого успеха
Мечетному — видному, широкоплечему парню с карими глазами и русым чубом, отличнику, спортсмену, не раз защищавшему честь института на разных городских и областных соревнованиях, повезло. После долгих сравнений и взвешиваний Наташа остановила на нем свой выбор.
Они поженились. И не в пример многим студенческим парам, зажили вроде бы и неплохо. Когда учились на третьем курсе, у них появился сын. В честь отца его назвали Владимиром, Вовкой. У них была комната, к Владимиру-младшему Наташа вызвала из маленького уральского городка свою тетку — ворчливую, добродушную бобылку, взявшую на себя все заботы о двоюродном внуке и о хозяйстве молодой семьи. Владимир-старший, отказавшись от всех развлечений и даже от спорта, по ночам подрабатывал, делая чертежи для одного из местных заводов. Нелегко приходилось, конечно. Но он души не чаял в своей красивой жене и не жалел сил, чтобы она могла учиться, ни в чем не испытывая нужды. И жили, не ссорились, хотя особой теплоты в их отношениях не было. Он помогал Наташе в учебе, и они оба недурно перешли на последний курс.
Супружескую пару Мечетных студентам ставили даже в пример. И фотографии их не раз оказывались рядом на доске отличников...
Первое серьезное семейное недоразумение произошло, когда началась война. В дни, когда немецкие дивизии подступали к Москве, в городе из коммунистов и комсомольцев срочно формировалась одна из знаменитых впоследствии уральских дивизий. Как студент-выпускник Владимир Мечетный имел право на отсрочку. Но правом этим решил не воспользоваться и заявил своему семейству: идет проситься на фронт. Наташа этого не поняла: семейный человек, жена, сын, сам без пяти минут инженер, он не может, не имеет права бросить учебу, семью, рисковать их общим будущим. После ночи бурных объяснений, когда Наташа вслух пожалела, что вышла замуж за такого дурака, Владимир утром пошел в военкомат.
Простились все-таки сердечно. Наташа плакала на вокзале, маленький Вовка, хотя ничего и не понимал, тоже плакал, цепляясь за новенький полушубок отца. Обещали друг другу писать. И действительно, он аккуратнейшим образом посылал домой солдатские треугольнички, уверял Наташу в своей любви, мечтал о возвращении и о том, как славно заживут они, когда победят немца. Наташа аккуратно отвечала. Со свойственным ей педантизмом Наташа нумеровала свои письма и, когда Мечетного, уже лейтенанта, ранило подо Ржевом, ему как раз и пришло двадцать восьмое письмо: маленькая, всего в несколько строк открытка, в которой сообщалось, что дома все хорошо, Вовка растет здоровенький и крепкий. Сообщались обычные домашние пустяки, которые всегда так дороги сердцу солдата.
Раненого Мечетного отправили в тыловой госпиталь, в город Калинин, который, хотя и сильно пострадал в дни оккупации, был уже глубоким тылом, раненых принимал гостеприимно. Госпитали этого города были известны хорошим, квалифицированным уходом.
Ранение Мечетного оказалось серьезным. Оно осложнилось тем, что в пылу наступления санитары не сразу его отыскали и при полевой обработке раны не было принято достаточных антисептических мер. Рана воспалилась. Опасались заражения крови. Однако квалифицированный уход и крепкий организм Мечетного победили недуг. Письма из госпиталя продолжали идти на Урал. Поврежденная рука плохо слушалась, Мечетный не мог еще писать и диктовал свои треугольнички соседу по палате. Чужой рукой повествовал он о госпитальном житье-бытье, о том, что получил он орден Красного Знамени за штурм Ржева, и о своей мечте скорее поправиться, с боями дойти до Берлина и с победой вернуться домой. Сообщил и о том, что изменился номер его полевой почты.
Наташа ответила и на новый номер. В письме была весть о том, что ей, как жене орденоносца, удалось получить вместо маленькой студенческой комнатки приличное жилье в новом доме, где он, вернувшись с победой, хорошо и удобно отдохнет. Мечетный порадовался. Уже своей рукой написал пространный ответ и сообщил, что, возможно, его отпустят долечиваться на родной Урал. Ответа на это письмо получить не успел. Его устроили в эшелон, отвозивший раненых в госпитали глубокого тыла. Обрадовался: обеспечен хороший медицинский надзор, а главное, в поезде хорошо кормят: не придется разменивать продовольственный аттестат. Это было счастьем, ибо не хотелось приезжать к жене и сыну с пустыми руками.
Очутившись в родном городе, он первым делом реализовал этот свой многодневный аттестат, набил вещевой мешок всяческими продуктами и, взволнованный, предвкушая радость встречи, пошел искать семью по новому адресу. Жила она теперь в новом районе, в поселке военных. Перепрыгивая через две ступеньки, Мечетный влетел на третий этаж. Едва переведя дух, нетерпеливо застучал в дверь.
Открыл ему невысокий плотный мужчина с круглой лысоватой головой. Он был в пижаме и тапках. Поправив на носу очки, он спросил:
— Вам кого, товарищ старший лейтенант?
— Наташу. Что, она здесь не живет?
— Почему же не живет, живет... Она сейчас сына кормит. — И громко: — Наташа, к тебе пришли.
Мечетный успел заметить на вешалке шинель. Офицерские, до блеска начищенные сапоги стояли под вешалкой. Ничего не понимая, он продолжал топтаться в дверях, когда появилась Наташа в халатике с ложкой в руках. Ложка была измазана в манной каше. Увидела его, застыла и только спросила:
— Ты?
На ее малоподвижном лице с очень правильными чертами было удивление и, как ему показалось, испуг.
Да, конечно, испуг. И испуг этот был обозначен особенно четко.
Так и стояли они молча: мужчина в пижаме и тапках, испуганная женщина и он, ничего не понимающий Мечетный.
— Так сразу... Даже не предупредил... Ты разве не читал моего последнего письма? — бормотала женщина. — Письма за номером тридцать.
А пока они так стояли в дверях, появился мальчик лет четырех, здоровый, румяный, с круглой рожицей, перепачканной в манной каше. Он с удивлением смотрел на незнакомого военного в старой шинели, с мешком за плечами, на испуганное лицо матери. Должно быть, учуяв сердцем что-то недоброе, страшное, он бросился к мужчине в пижаме и уткнулся к нему в колени.
— Вовка! — бросился к нему Мечетный. — Вовка, сынок! Не узнаешь? Я же твой папка.
Мальчик, продолжавший прижиматься к мужчине в пижагле, вдруг заревел, закричал:
— Уйди, уйди, нехороший дядька! — И, обращаясь к человеку в пижаме: — Папочка, гони его, пусть он уйдет.
— Вовочка, Вовочка, — растерянно бормотала мать.
— Уйди, пусть уйдет этот дядька!
Человек в пижаме растерянно гладил русую головку ребенка и переступал с ноги на ногу.
Потом мужчины посмотрели друг другу в глаза. Обоим было тягостно, страшно. Но они не произносили ни слова.
— Ты скажи, где ты остановился. Позвони. У нас с Анатолием есть телефон. Я к тебе забегу, все объясню, — бормотала женщина побледневшими губами, и красивое, правильное лицо ее, смятое страхом, в это мгновение потеряло всю свою привлекательность.
Ничего не ответив, Мечетный повернулся и вышел.
Вышел, не произнеся ни слова, но так при этом хлопнул дверью, что с потолка этого нового, еще пахнущего сырой известкой дома упало несколько увесистых кусков штукатурки.
На ночлег военный комендант направил его в огромный рабочий клуб, взятый под общежитие транзитников. Звонить Наташе Мечетный не стал. К чему? Все было ясно. Но она сама ночью отыскала его, ворвалась в комнату, где в разных углах на топчанах храпело человек десять. Ворвалась, заплакала по-бабьи, в голос, не обращая внимания на сонные головы, поднявшиеся с набитых сеном блинообразных подушек.
Мечетный быстро оделся. Они пошли по улицам города, где ему был знаком каждый уголок, города, который сразу стал для него чужим, неуютным. Он шагал с виду спокойно, четко отсчитывая шаг, и лицо его тоже было спокойным. Оно будто окаменело. А она, обычно такая немногословная, все говорила, говорила, вытирая слезы рукавом пальто и заправляя выбивавшиеся из-под платка волосы. И почему-то все повторяла: неужели ты не получил моего письма за номером тридцать? Там я все, все разъяснила. Наверное, он, Владимир, не знает, как живется тут, в глубоком тылу. Они же на фронте получают пайки, одеты и сыты, а ему к тому же дают офицерский, дополнительный. А тут карточки, какие-то граммы несчастные... Да еще настоишься за ними в очередях. Ей ничего, она хоть пообедает в институте, а Вовка. Вовка цвета молока не знал... А Анатолий, он такой добрый, такой заботливый. Они переехали к нему в его хорошую, теплую квартиру, Анатолий — инженер-майор. Он военпред на заводе. Теперь они хоть вздохнули свободно. Ведь у Вовки все есть, ты же видел, какой он крепенький.
— Ах, если бы вы, фронтовики, знали, как нам тут, в тылу, живется. Ведь все мы вам пишем: живы, здоровы, живем хорошо. Так это в письмах, а на деле...
У меня с Анатолием не как у некоторых девчонок... У нас с ним всерьез. Как только ты дашь развод, мы поженимся, а Вовку Анатолий усыновит. Он добрый, в Вовке души не чает. Ты же сам видел... У Анатолия семья погибла в Ленинграде. Он хочет дать Вовке свою фамилию... Ну что, что ты молчишь? Презираешь, да? Ненавидишь, да? Ты меня слышишь?
Мечетный слушал и не слышал. Он уже мысленно вычеркнул эту женщину из своей жизни. Не разлюбил, нет. Вычеркнул. Она была ему чужой. Если бы не было на свете цветущего карапуза с русой круглой головкой и толстыми губами, перепачканными в манной каше. И он не мог забыть, как этот карапуз со страхом глядел на отца, а другого мужчину называл папой и просил у него защиты.
Мечетный шагал по асфальту, и на пустынной улице слышно было, как поскрипывают подошвы его новых, полученных после госпиталя сапог.
— Ну что же ты молчишь? Скажи хоть, что ты обо всем этом думаешь? Ну?
— Наташа, ты не помнишь, какой это поэт сказал: «...так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат»?
— При чем тут какой-то поэт?.. Дашь ты мне развод?
— Война — великое испытание. Одни его выдерживают, укрепляются духом, а другие...
— Ну, как же насчет развода?
— Развода? Так мы уже разошлись...
В эту ночь комендантский патруль подобрал на окраине города офицера-фронтовика. Он был так пьян, что по дороге в комендатуру только мычал, бормотал что-то непонятное. По документам установили, что это старший лейтенант Владимир Мечетный, направленный в этот город для долечивания после ранения...
Документы, необходимые для развода, Мечетный послал уже с фронта. Переписал денежный аттестат с Наташи на имя сына и прервал с ней всякую связь. Он действительно вычеркнул ее из своей жизни. Не раскрывая, рвал письма, которые некоторое время еще догоняли его в наступлении, и заставлял себя не думать, не вспоминать даже о сыне, который, как он узнал от какого-то земляка, значился теперь сыном того инженер-майора и носил теперь его фамилию...
И вот столько времени спустя старая заржавевшая мина замедленного действия взорвалась. Наташа вдруг возникла из прошлого и снова сломала его наладившуюся было жизнь.
22
В день, когда стало известно об исчезновении Анюты, Мечетному и сняли шторку с глаза. Глаз видел. Видел неплохо. Как-то сразу вернулись все краски мира, и когда сестра Калерия вывела его в больничный парк, зелень вдруг показалась ему такой зеленой, голубизна неба такой яркой, что он, ошеломленный, зашатался и, возможно, упал бы, если бы спутница сильной рукой не подхватила его и не довела до скамейки.
Все, что вновь открывалось ему в этот день, поражало. Калерия, которую он с Анютиных слов представлял себе тощей, злой уродиной, оказалась совсем не такой. Это была крупная шатенка с грубоватым, но привлекательным лицом, с яркими припухлыми губами. Голубые глаза ее смотрели из-под пшеничных бровей вызывающе, насмешливо, а пожалуй, и печально. Старенький, стираный-перестираный больничный халат свой она, видимо, сама перешила, и он хорошо обрисовывал ее сильную фигуру.
Мечетный смотрел на нее с некоторым удивлением, и она, приметив это его удивление, усмехнулась:
— Ну что, не такой вам меня Нюшка рисовала? Говорила ж я вам, капитан, что я красивая. А я ведь никогда не вру.
Но, может быть, потому, что контраст между ожидаемым и увиденным был слишком велик, Мечетный без особых на то оснований проникся к Калерии неприязнью и даже отодвинулся, когда она, как ему показалось, слишком близко села рядом с ним на скамью.
— Не бойтесь, капитан. Я к вам на колени без приглашения не прыгну.
Сидел Мечетный на знакомой скамье с пригожей женщиной, а думал о другой: вот если бы вместо этой Калерии была рядом Анюта. Увидел бы ее лицо. Как сблизил бы их этот день... Анюта. Куда же она ушла, где прячется? Теперь он не слепец, он полноценный человек. По пути в парк взглянул на себя в зеркало, висевшее в вестибюле: небольшие шрамы не испортили лица, глаза выглядели неплохо, только в том, который был настоящий, радужная оболочка казалась разорванной. Но это можно было заметить, лишь приблизив лицо к самому стеклу. Куда же ты делась, Анюта? Где тебя искать?
Эти мысли отравляли радость возвращения в строй нормальных, полноценных людей.
— Вы теперь, Владимир Онуфриевич, вольная птица, куда хотите, туда и летите. Я сегодня вечером свободна от дежурства. Пойдемте в кино, а? Идет что-то английское, какой-то «Джордж из Динки-джаза», говорят, смешной. А потом можно зайти в ресторанчик, омыть ваш глаз, тогда вы меня лучше разглядите, — весело болтала Калерия, но веселье ее почему-то казалось напускным. Не дождавшись ответа, она вздохнула: — Не слушаете вы меня, Владимир Онуфриевич...
Мечетный действительно не слушал. Все думал о своем. Ведь и верно: теперь он может идти куда глаза глядят, вернее, куда глаз глядит, что в сущности, оказывается, одно и то же. Мирное время, он штатский человек. Но как, как найти Анюту? Пойти в районный или даже в городской военкомат? Ведь она еще на учете. Наверное, там можно будет узнать, куда направился или где находится старший сержант Лихобаба. И он решил посоветоваться с профессором Преображенским. Ведь он принимал такое участие в их судьбе...
— Так как же насчет ресторанчика? Музыку бы послушали, потанцевали.
— Пошли в палату, — грубовато прервал Мечетный свою спутницу, все еще продолжавшую развивать тему омовения отремонтированного глаза.
— Да посидите, куда вам торопиться, день-то, день-то какой, словно специально для вас выдался.
Мечетный поднялся и ушел, оставив Калерию на скамейке.
Профессора в кабинете не оказалось. Сообщили, что он выехал в санаторий Архангельское для консультации. Только уже к ночи, несмотря на поздний час, в палате послышалось знакомое поскрипывание ботинок профессора. Он подошел к койке Мечетного, как всегда окруженный запахом кофе и хорошего табака. Мечетный лежал поверх одеяла, заложив руки за голову, и смотрел в потолок, по которому ходила муха. Глаза у него были широко открыты — искусственный и живой. Он внимательно следил за этой мухой, точно бы принимая экзамен у своего отремонтированного глаза. Профессор улыбнулся.
— Видите муху?
— Вижу.
— Глядит?
— Глядит.
— Ну и как дела?
— Нормально.
— Хорош он, белый свет-то, а?
— Хорош.
— Так чего же не радуетесь? Ладно, можете не отвечать, у меня информация хорошо поставлена... Исчезла? И вышло по Шекспиру: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». Так?.. Вот что, герой Одера, пойдемте-ка ко мне в мое «бомбоубежище», я на свое произведение, то есть на ваш глаз, полюбуюсь и таким вас кофе угощу, какой когда-то разве что турецкому султану готовили. — Профессор был в преотличном настроении. — Надо мной тут один армянин шефствует, я уж говорил вам, мой бывший пациент. Тоже вроде вас, моя удача. Сейчас он где-то на Востоке, в Монголии. Так он мне и оттуда кулечек отличного бразильского кофе прислал, не забывает... Ну, пойдете?
— Пойду.
Мечетный шел за ним и удивлялся, что все кругом оказывалось не таким, каким он раньше представлял. Глазную клинику знаменитого института воображение рисовало светлым зданием самых современных форм, а оказалась она большой темноватой больницей с толстыми стенами, с длинными сводчатыми коридорами, где, как в туннеле, лишь в самом конце виднелся дневной свет. В полутьме, слабо освещенной тусклыми лампочками, тут и там встречались раненые, они почтительно приветствовали профессора, иные при его приближении вставали во фрунт, и он с той же мальчишеской чудинкой в голубых глазах весело рассыпал направо и налево: привет, привет.
Ну а кабинет Мечетного просто поразил. Он совсем не напоминал кабинет ученого, а больше смахивал на жилье старого интеллигента: цветы на окнах, книги на этажерках, диван с лежащими на нем пледом и подушкой. Горка. За стеклом такой горки из резного красного дерева красоваться бы фамильному сервизу или фарфоровым безделушкам, а не хирургическим инструментам. И кругом акварели, рисунки, пришпиленные кнопками прямо к стене. И в комнате этой, имевшей такой жилой вид, у входной двери на вешалке — шинель с полковничьими погонами, папаха, а на распялке — тщательно расправленный китель, на котором ордена, медали и золотой знак Сталинской премии.
Вскользь осмотрев пейзажи, Мечетный невольно остановил взгляд на одном из них: речка, крутой песчаный обрыв, сосны с золотыми стволами. Это напомнило ему тот уголок подо Ржевом, где в волжский откос был врыт блиндаж, возле которого Мечетный получил свое первое ранение.
— Заинтересовались? Нравится? — прогрохотал бас хозяина диковинного этого кабинета. — Это мое хобби. Если хотите, дурь, а интеллигентно говоря, увлечение. — Профессор священнодействовал у диковинной кастрюлечки, в которой уже начала пузыриться коричневая масса, исторгавшая острый кофейный аромат. — Нравится вам моя мазня? Когда-то ведь каждое воскресенье на этюды ездил. Но это все старье, старье. За войну ни разу и вырваться не удалось.
Надев перчатку, он снял с плитки кастрюлечку и осторожно, чтобы не сбить пену, наполнил две маленькие чашечки. Одну придвинул к Мечетному:
— Ну что вы, капитан, сидите как сыч? Я, можно сказать, подвиг совершил — из ничего вам глаз смастерил, кофе вас угощаю, какого турецкий султан не пробовал, пока ему Кемаль по шее не дал, а вы не радуетесь. — Встал с кресла, передвинул на полке какие-то книги, достал из-за книг графинчик и крошечные стопочки. — Вот с чего надо разговор начинать. Вы там в палатах, поди-ка, думаете: старик Преображенский сухарь, зверь, от запаха алкоголя в бешенство впадает. Впадаю. Но бывают, капитан, в жизни обстоятельства, когда сие просто необходимо. Вот сегодня мы с вами этим и воспользуемся. За ваше прозрение и за мою великолепную работу.
С непривычки даже малая доза алкоголя ударила Мечетному в голову, развязала язык, и он торопливо, будто боясь, что его прервут, принялся рассказывать о своей беде, о болтливом майоре по имени Славка, о Наташе, о сцене на лестничной площадке возле незнакомой квартиры, о сыне, который уже не его сын, и о том, как однажды он очнулся на жестком топчане на гауптвахте комендатуры.
Услышала Анюта про Наташу и Вовку, но даже виду не подала. Ничего не спросила и исчезла, не дав ничего себе объяснить.
Хозяин слушал гостя молча, смакуя маленькие глотки кофе. Не торопил, не перебивал вопросами. Только когда, выговорившись, Мечетный замолчал, он отодвинул свою чашечку.
— Все ясно, капитан. Диагноз такой: ситуация сложная. Ну, а вы эту самую Анюту здорово любите? Можете не отвечать. Давно это знаю.
Профессор встал, заходил по кабинету, один из его ботинков по-прежнему при каждом шаге поскрипывал, и скрип этот сейчас почему-то казался Мечетному печальным.
— Таких, как вы, капитан, не утешают. Вы не из тех, кто говорит, что, дескать, мне из того, что мир широк, когда у меня сапог тесен... Не из тех. Начинайте искать. Человек не иголка, пропасть не может. Ищите. В Библии сказано: стучите — и отверзнется. Стучите и не теряйтесь.
— Легко так говорить, Виталий Аркадьевич, когда у вас семья, дети.
— Есть одно дитя — сын. Сейчас сам профессор, видный клиницист в Казани. И не виделись мы с этим клиницистом с начала войны. А семья? Домой-то я только помыться в ванне да переоблачиться хожу. Понимаете?
— Виноват, не совсем.
— Эх, капитан, черт меня дернул жениться на девчонке. И вот, извольте видеть, спасаюсь в своем «бомбоубежище». — Он вновь наполнил чашечки кофе, вздохнул, покачал головой: — Не понимаю, и чего я с вами сегодня разболтался. Все, наверное, потому, что вы, капитан, лучшая удача старого лекаря Преображенского. — И тут, плутовато сверкнув голубыми глазами, засмеялся вслух: — Я сегодня даже Платоше во Львов телеграмму отстукал, рапортовал: видит капитан Ромео, можете об этом доложить достопочтенному профессору Неходе. Так-то...
Отставил чашечку, встал, повторил:
— Так-то вот, капитан. — И тоном приказа: — Ну, ступайте, а то, наверное, сестра Калерия хватилась: куда ее трофей делся... Или еще не трофей? Держите стойкую оборону? — А когда Мечетный был уже в дверях, крикнул ему вслед: — Стучите — и отверзнется.
Мечетный вернулся в палату, когда все уже спали, увидел на своей тумбочке несессер — подарок, сделанный ему Анютой в день рождения. Несессер был воен-торговский, стандартный, торопливо сшитый, как делались в военное время все бытовые вещи. Но это было единственное, что оставалось ему от Анюты, и, убедившись, что в палате все спят, он, укрывшись одеялом, прижал несессер к лицу и тихо, беззвучно заплакал.
23
...Стучите — и отверзнется. Мечетный стучал. Стучал упорно, ходил по эвакопунктам, по учреждениям, ведающим учетом военных, звонил по разным телефонам, наводил справки даже в милиции, добился приема у военкома города Москвы. Все удивленно смотрели на него. Кто выражал сочувствие, кто насмешливо разводил руками. Старший сержант Анна Лихобаба так ине нашлась. Удалось лишь узнать, что из армии она демобилизовалась, получила деньги по аттестату, выправило право на бесплатный проезд. А вот куда — узнать так и не удалось. Исчезла. Исчезла, будто растворилась в огромных потоках людей, которые по окончании войны двигались в разных направлениях, заполняя все поезда.
Усталый, разбитый возвращался он после этих тщетных поисков в клинику, где еще числился на долечивании. Все знали о его беде. Сочувствовали, удивлялись его упорству. И больше всех сестра Калерия, которая, как казалось, заинтересовалась им не на шутку.
— Чего зеваешь, капитан? — укоряли его доброхоты. — Мишень верная, баба что надо. Вперед, в атаку!
И когда Калерия предложила ему вечером пойти к ее подружке, у которой, по ее словам, была и своя отдельная комната и патефон с пластинками, он пошел, снабдив предварительно Калерию деньгами на покупку угощения.
Подружка Калерии оказалась маленькой толстушкой с пухлым круглым детским лицом и огненно-рыжими крашеными волосами. Жила она в продолговатой комнатушке коммунальной квартиры, куда ее когда-то наскоро вселили после того, как сгорел ее дом, подожженный зажигательной бомбой. Заняв эту комнату, она обставила ее как могла, да с тех пор так ничего из настоящей обстановки и не сумела приобрести. Несколько разнокалиберных стульев и табуретов, пожертвованных ей когда-то соседями, тахта, устроенная на пружинном матраце, да длинный фанерный ящик, стоявший в углу и выполнявший обязанности буфета, — вот и вся обстановка.
Но веселая толстушка эта, работавшая в конторе какого-то завода, сохранила стремление к уюту. От пожара она спасла только патефон с пластинками да разные вышитые штучки: салфеточки, накидочки, занавесочки собственной работы. Все это теперь и было пристроено на спинках стульев, разложено на тахте, даже на подоконнике. Тахту отгораживала от комнаты причудливая занавеска, на которой крестиком (и не без искусства) было вышито озеро с плавающими лебедями и какие-то кавалеры и дамы в париках, кормящие гордых птиц.
Когда Калерия, проведя Мечетного по коридору, заставленному сундуками, шкафами, с висящими на крюках велосипедами и детскими ванночками, к третьей по счету двери, остановилась возле нее, горластый патефон исторгал из жестяных своих недр игривый мотивчик «У самовара я и моя Маша». Занавес с лебедями был откинут, на тахте сидел огромный дядя с обритой наголо головой. Китель его висел на стуле, и по измятым погонам, по рядам засаленных орденских ленточек Мечетный сразу угадал в нем бывалого фронтовика.
— Майор Дроздов, — отрекомендовался он тоненьким и таким неподходящим к его мощной фигуре голосом. — Подкрепления подошли, а боеприпасы на исходе. Там у нас, Капитолина, что-нибудь еще осталось?
— Мы со своим пришли, не беспокойтесь, — сказала Калерия, вынимая из сумки и ставя на стол водку, портвейн, маленькие свертки с колбасой, сыром и банку шпрот. — Вот на двести рублей товару... Глядеть не на что.
— Мы уж с Капкой за сутки пятую сотню проедаем... Вот, капитан, как они тут в тылу живут, пишут нам: живы, здоровы, живем хорошо, а на полтыщи горсть еды. Садись, садись, друг милый. — Майор был в самом благодушном настроении. — Капка говорила, ты уж отвоевался, а я, брат, еще нет. Мой победный салют еще не грянул. Из эшелона я... Нам, должно быть, с самураями беседовать придется.
Мощной рукой, поросшей рыжим пружинистым волосом, майор сгреб со стола бутылку, одним ударом вышиб пробку и разлил водку по четырем стаканам.
— Ну, капитан, не теряя времени, за тех, кому еще воевать.
Выпил. Сморщился. Брезгливо отодвинул стакан и даже передернул своими массивными плечами. Женщины тоже выпили. Мечетный, сидевший на уголке тахты, продолжал держать свой стакан в руке.
— Ну что же ты, капитан?
— Не пью.
— Как не пьешь?
— Не пью, и все.
Все трое с удивлением смотрели на Мечетного.
— Ты зачем же тогда сюда пришел? — В голосе майора было простодушное удивление.
— Танцевать, будем танцевать, — торопливо защебетала хозяйка квартиры, чтобы как-то сгладить наступившую неловкую тишину.
Порылась в пластинках. Сквозь хрип и треск просочился сладчайший тенор, и как бы из давних довоенных дней в эту комнату, убогую обстановку которой лишь подчеркивали эти салфеточки, накидочки, шторки, вплыли слова старинного курортного танго:
...Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось, В этот час ты призналась, Что нет любви.
Тяжело приподнявшись, майор подхватил толстушку, и они попытались танцевать, теснясь в узком проходе между самодельной тахтой и импровизированным шкафом. Калерия несколько растерянно смотрела на Мечетного. Он продолжал сидеть все в той же напряженной позе.
— Ну, а вы? — В стареньком пестром платье из легкого крепдешина с пышными волосами, топорщившимися перманентными завитками, Калерия как-то очень гармонировала со смешными словами старинного танго, которые пел сладчайший тенор. Платье ей было узко, оно облегало, как перчатка, ее плотную фигуру.
— Смешное платье, да? — сказала Калерия, перехватив взгляд Мечетного. — Оно у меня одно — и в пир, и в мир, и в добрые люди. До войны еще служило... Не беда, было бы на что платье надевать, а у меня, капитан, есть на что. — Она нервно усмехнулась. Круглые колени ее сильных ног выглядывали из-под короткой юбчонки, грудь просто разрывала легкую материю, так что на швах белели нитки. — Берегу это платье, чтоб голой не ходить. — И, засмеявшись грудным смехом, еще нервнее сказала: — А впрочем, говорят, что настоящие бабы без одежды выглядят лучше, чем в самом красивом платье. Верно это, капитан? — Встав, она шагнула к Мечетному, протягивая к нему руки: — Ну, пошли, что ли, потанцуем?
— Не танцую, — ответил тот, продолжая сидеть на краешке тахты.
Руки женщины опустились.
— Не пьет, не танцует. А любить-то вы хоть умеете, а? Тоже нет?..
Калерия стояла против Мечетного, в упор смотря на него. В глазах ее была растерянность, и вдруг они наполнились слезами.
— Я пошла, — сказала она, решительно направляясь к двери.
— Как пошла? Куда пошла? А еда, вон ее еще сколько... И бутылки не пустые! — Толстенькая Капитолина растерянно смотрела на подругу, и на пухлом детском лице ее было недоумение.
— Прощайте. — На ходу Калерия чмокнула ее в щеку, потом оттолкнула от себя, ловко пронесла свою массивную фигуру меж шкафов, ларей, велосипедов, вышла на лестничную площадку и, не дожидаясь Мечетного, сбежала по лестнице. Он догнал ее уже на улице. Они пошли рядом.
— Вам стало противно, да? Я ж вижу. Думаете, разгулялись бабоньки... Презираете?.. На шею вам бросаюсь, так? — И с истерическими нотками, которые так не шли к ее осанистой фигуре, так не вязались с ее яркой красотой, зачастила: — Да, бросаюсь... А вы когда-нибудь там, у себя на фронте, думали, что война не только убивает, не только города разрушает и деревни жжет?.. Она тут, в тылу, жизнь людям калечит. Сколько баб война без судьбы оставила... Думали, ну?.. Видела, видела, как вы на меня смотрели!
Шаг у нее был тверд, крупную свою фигуру она несла легко, уверенно.
— Разве вы, мужчины, представляете себе, что это значит для такой, как я, без судьбы остаться, без надежды судьбу устроить, всю жизнь хватать куски с чужих столов, да и в этом куске тебе отказывают, еще губы кривят... Чистюля поганая, зазнайка!.. Что, не думал об этом, герой Одера?.. А нас таких не тысячи — миллионы...
Мечетный еле поспевал за Калерией. Ведь действительно, охваченные фронтовыми заботами, они как-то никогда и не задумывались о том, о чем сейчас почти кричала ему разъяренная спутница, не размышляли над трагедией, которую готовила война множеству женщин. Ему стало жалко Калерию, но он не решился лезть к ней с сочувствием или утешением, понимая, что сочувствием он только оскорбит ее, а в утешениях она не нуждается.
Шли молча, а когда он попытался взять Калерию под руку, она с силой оттолкнула его.
— Не смей!.. Если кусок от души подадут, принимаю. А чтобы выпрашивать, чтобы из жалости, — нет, таким куском подавишься! — И вдруг уже перед самым подъездом сказала: — Эх, завидую я вашей Нюшке! По трамвайному билету десять тысяч выиграла и кобенится, черт те что из себя выламывает — побегай за ней, поищи ее... Дура... Набитая дура!
24
Отчаявшись отыскать следы Анюты, Мечетный выправил себе билет в тот самый уральский город, откуда ушел когда-то в армию, и, добравшись до этого города, пришел прямо в свой институт. И хотя в профессуре мало кто его помнил, героя Одера, вернувшегося с орденами и Золотой Звездой, тотчас же восстановили на последний курс, с которого он ушел на войну. Разумеется, многие знания он порастерял, но до начала занятий было целое лето. Мечетный засел за книги в институтской библиотеке. Потерянное наверстал и, будучи человеком упорным и способным, окончил весною курс не хуже других. Ему предложили остаться в аспирантуре. Лестно было институту иметь аспирантом Героя Советского Союза. Он понял причину такого неожиданного предложения, отказался и попросил направить его на строительство металлургического комбината, еще только начинавшего подниматься в нерубленой тайге, у безымянной станции, не имевшей еще своего наименования, а так и называвшейся «Остановка». Это была одна из первых больших послевоенных строек. Она особенно опекалась государством.
Как известно, на стройках в постоянном преодолении новых и новых трудностей люди растут необыкновенно быстро, а малодушные, что не выдерживают суровых условий, неустроенного быта, попытав свои силы, бегут. И получается как в золотодобыче: вода уносит песок и камешки, а остаются золотые крупицы. Зато выдержавший все испытания человек стоит десятерых новичков.
Мечетный прошел немалую фронтовую школу, был неглуп, работы не боялся. Он стал быстро расти вместе со своим поднимавшимся в тайге заводом.
В дни учебы в родном городе он ни разу не встретился с Наташей. Знал, однако, что, окончив институт, на работу по специальности она уже не пошла, что замужем, живет благополучно и что сын Мечетного, имеющий теперь другую фамилию, здоров и уже учится. Мечетный начисто вырвал их из своей жизни, не искал встреч и старался о прошлом не вспоминать. Постепенно в труде и заботах на новом заводе, который стал для него самым родным местом на земле, стал он забывать и Анюту, хотя безликий образ этой девушки изредка приходил к нему в снах. А сама Анюта если и вспоминалась, то тоже лишь как хороший, давно увиденный сон.
Встречались в его жизни и женщины, но ни одной из них он по-настоящему не увлекся, ни одну не полюбил и был вполне доволен своим положением одинокого холостяка, способного, преуспевающего ученого, погруженного в свои труды и производственные заботы.
И вдруг этот Указ о награждении геолога Лихобабы Анны Алексеевны. И снова, как это уже было однажды, в его жизни будто бы взорвалась старая, покрытая ржавчиной мина, пролежавшая в земле столько лет. Взорвалась. Оглушила. Потрясла. Разбудила воспоминания.
Анна Алексеевна Лихобаба! Геолог. А ведь Анюта, кажется, мечтала быть медиком... И все-таки вряд ли может встретиться еще такое сочетание имени, отчества и редкостной фамилии...
Автобус нес Мечетного теперь по знакомым ему старым улицам. Но он не смотрел в окно. Он даже не думал ни о столице, которая постепенно открывалась за окнами, ни о неведомой ему Гагре, ни о теплом море, на котором он так мечтал отдохнуть. Даже о своей почти готовой докторской диссертации, которую он вез в чемодане, надеясь на отдыхе доработать, а может быть, и закончить, он тоже не думал. То и дело вынимал из кармана «Известия» с правительственным Указом и заметкой о героическом поступке геолога со странной фамилией, снова читал и опять начинал прикидывать.
«И все-таки она, наверное, она!» — думал. Думал, вспоминал, как бы перелистывая давние, пожелтевшие страницы своего бытия, и как это бывает с целеустремленными людьми в минуты особых нравственных возмущений, вся жизнь его пронеслась в уме за то небольшое время, пока автобус вез его с Внуковского аэродрома до Московского аэровокзала на Ленинградском проспекте.
Погруженный в эти воспоминания и мысли, он как-то машинально вышел из машины. Вышел и остановился. Куда пойти? До отлета оставалось еще десять часов. Целый большой день. Чем его заполнить? Что посмотреть в Москве?
И вдруг пришла мысль: съездить в институт профессора Преображенского, он жив. Совсем недавно в газетах было широко отмечено его восьмидесятипятилетие. Был Указ о присвоении ему звания Героя Социалистического Труда. Мечетный сам посылал поздравления. Да, да, конечно же к нему! Старик, наверное, вспомнит, недаром же когда-то называл спасенный его глаз своим лучшим произведением. Как хорошо было бы посидеть в его «бомбоубежище», повспоминать!
Мечетный торопливо окликнул такси. Назвал институт.
— Знаете?
Таксист усмехнулся: ну кто ж, мол, не знает? Заехали на Центральный рынок. Мечетный купил букет роз. Жилой коммунальный запах, живший в кабине старой машины, был побежден вкрадчивым, но настойчивым ароматом цветов. Такси пронесло Мечетного по мосту над сверкающей на вешнем солнце Москвой-рекой. По peкe сновали бойкие катера; плыли солидные белые теплоходы, их палубы битком набиты народом, будто намазаны черной икрой; двигалась неповоротливая бокастая баржа, толкаемая маленьким коренастым буксиром. Наверное, они с Анютой и стояли у реки вот на этом самом месте, а потом шли по этой улице. И Мечетный снова пережил волнение, которое испытал, когда они с девушкой, прижавшись друг к другу, пережидали дождь в подворотне, накрытые одним плащом.
Проплыли мимо красивые массивные стены Донского монастыря, из-за которых виднелись сизые главы, упиравшиеся своими облезшими крестами в московское небо. Почему-то вспомнился попик, объявивший Христа посланцем других, высокоразвитых, совершенных инопланетных цивилизаций, где «царит мир и в человецех благоволение». Но воспоминания о смешном этом попике сразу отсекла внезапно пришедшая мысль: а вдруг профессор что-то знает об Анюте, возможно, она заходила потом к нему или писала? А что? Все может быть. Ах, почему таксист едет так медленно!..
И вот такое знакомое место. Знакомое и незнакомое. Те же старые тополя обступили громоздкое здание клиники института. Но сама эта клиника неузнаваемо изменилась. Раньше она вырисовывалась среди листвы темной громадой старого кирпича. Корпус ее остался тот же. Но здание покрасили, белым выделили проемы окон, барельефы, карнизы. Все это придало старой больнице вид франтоватой, молодящейся старухи. Машина остановилась у знакомого подъезда, над которым теперь нависал современный козырек. Облупившуюся деревянную скамью, на которой когда-то Мечетный в первый раз попытался обнять Анюту, уютную старую скамью сменила другая — красивая, вероятно, удобная, но безликая.
Вступив в знакомое, можно сказать, родное здание, Мечетный не узнал его и изнутри. За большой из сплошного стекла дверью справа, за металлическим письменным столиком сидела девушка в накрахмаленном халате, и твердая, тоже крепко накрахмаленная косынка топорщилась у нее на голове, как труба.
— Простите, вы к кому? — вежливым, но каким-то, как показалось Мечетному, механическим голосом спросила она.
— К профессору Преображенскому. Он здесь?
— Да, здесь. Как ваша фамилия?
— Мечетный. Владимир Мечетный.
— Мечетный. Мечетный, — повторяла про себя накрахмаленная девица, шаря глазами по длинному списку, лежавшему под стеклом стола. — Мечетного здесь нет. Вы когда записывались?
— Я не записывался... Только что прилетел, я прямо с самолета. Пропустите, пожалуйста.
— К сожалению, не могу, — твердо произнесла девица. — Разве вы не знаете, к нам записываются задолго. У нас очередь,
— Но я издалека, с Урала.
— Ну и что же что с Урала? К нам и из-за границы записываются, из Франции, из ФРГ, из Англии. И вы могли бы записаться, заранее протелеграфировав. Все так делают. У нас правила.
Девица, «сидящая на пропусках», рассуждала резонно, говорила спокойно, убедительно и, может быть, именно поэтому показалась Мечетному накрахмаленной куклой. Он как-то сразу невзлюбил ее.
— Тогда соедините меня с академиком по телефону.
— Не могу. Это внутренний телефон. По нему могут говорить только сотрудники.
— Ну позвоните сами. Скажите: к нему Владимир Мечетный. Герой Советского Союза. Я тут у него лежал.
— Хоть вы и Герой, но порядок есть порядок. Его все обязаны соблюдать.
Мечетный не вытерпел. Не раздеваясь, не набросив даже халата, он, как был, в берете, плаще, отодвинул накрахмаленную девицу и прошел в дверь клиники. Дорогу в «бомбоубежище» он помнил.
Девица бежала за ним, шурша своими доспехами и возмущенно выкрикивая:
— Это безобразие... вы нарушаете... я сейчас вызову коменданта... позвоню в милицию!..
Мечетный упрямо шагал по коридору, шагал наобум, ибо и изнутри клиника стала неузнаваемой: все блестело и сверкало при лампах дневного света, звук шагов заглушало пластмассовое покрытие полов. Все было перепланировано, по-новому размещались палаты. В этой обновленной и тоже будто накрахмаленной клинике Мечетный ничего не узнавал, и скорее инстинкт, чем память, привел его к двери, на которой висела голубая табличка «Научный руководитель, академик В. А. Преображенский».
Дверь была тоже незнакомая. Но Мечетный открыл ее, открыл и остановился удивленно. «Бомбоубежище» оказалось в этой перестроенной клинике как бы заповедным уголком. Тут ничего не изменилось. На прежних местах стояли и письменный стол на львиных лапах, и цветы на окнах, и домашняя горка, за стеклом которой все так же поблескивали какие-то инструменты. И запах был тот же — пахло кофе и хорошим табаком. И акварели на стенах. Только они как-то поблекли, пожелтели.
Хозяин кабинета сидел у маленького, накрытого скатеркой столика и, по-видимому, завтракал. Опередив Мечетного, накрахмаленная девица бросилась к нему.
— Виталий Аркадьевич, я не виновата... Я ему говорила про наши правила. Этот гражданин сам...
При этом неожиданном вторжении хозяин даже выронил рюмочку с недоеденным яйцом. На лице его появилось гневное выражение, гнев быстро сменился удивлением и, наконец, радостью.
— Ба-ба-ба, кто пришел-то?.. Герой Одера... Постойте, постойте, как же ваша фамилия? — пророкотал бас хозяина кабинета.
— Мечетный,
— Да-да, именно, именно Мечетный. Ромео, да?.. Ромео без Джульетты?
Старик выскочил из-за стола, вырвал из-за воротничка заткнутую туда салфетку, отодвинул тарелку.
— Не шумите, Галя. Бесполезное дело. Капитан Мечетный нас с вами все равно не послушает. Не такой человек. Он первым через Одер на немецкую землю перепрыгнул... А вы ступайте, ступайте на свой пост...
— Но, Виталий Аркадьевич, наши же правила...
— Усвойте: правила существуют для человека, а не человек для правил. Мы с капитаном никогда не жили по правилам. Ведь так? — И строго: — Ступайте.
И когда накрахмаленная девица, недоуменно пожав плечами, скрылась за дверью, старик обнял Мечетного.
— Ну, садитесь. — Он показал на одно из старых кресел, стоявших перед письменным столом, а сам сел в такое же напротив. — Ну как глаз?.. О, глаз в отличном состоянии. Так какой же недуг вас ко мне привел?
— Никаких недугов, Виталий Аркадьевич, у меня нет. — Мечетный положил на стол тяжелые розы.
— Ну, а что же вас загнало в мое «бомбоубежище»? Сюда нынче попасть не так-то просто. Ну, рассказывайте: кто вы, что вы, где вы?..
В странном этом кабинете, как казалось, жизнь законсервировалась. Да и хозяин кабинета на первый взгляд остался тем же. Все та же седая прядь выбивалась на лоб, теперь уж из-под черной академической шапочки, седые усы и бородка даже отдают в прозелень. И так как на его плоском носу теперь были очки, он еще больше напоминал Михаила Ивановича Калинина. Но когда Мечетный, подойдя, посмотрел на него почти в упор, он разглядел, что старик как бы усох: его руки с длинными «хирургическими» пальцами точно обтянуты компрессной клеенкой, синие вены на них вздулись, а лицо покрылось невидной издали сеткой мелких морщинок. Шея и веки были в морщинах глубоких, как у черепахи.
Да, время не прошло и мимо этого человека. Только вот глаза под седыми бровями не потеряли своей живости и голубизны.
— Ну, Мечетный, рассказывайте, что же вас ко мне все-таки привело? Чем, как говорится, обязан? Увы, без дела сейчас в гости никто не ходит.
Мечетный вынул из кармана уже изрядно потертый номер газеты «Известия» и, протянув собеседнику, указал на заметку.
Старик стал читать, и по мере чтения морщинки на его бескровном, как бы пергаментном лице постепенно разглаживались.
— Так, так-так... Ну что ж, молодец девка! Как говорят актеры, «из своего образа не вышла».
— Думаете, она?
— А вы не знаете?.. Стало быть, вы так ее тогда и не нашли?.. Теперь понимаю, что не воспоминания и не благодарность вас ко мне привели.
— Честно говоря, да.
Старик снова перечитал и Указ и заметку,
— Ну что ж, по-моему, она.
— Мне тоже так кажется.
— Ну что же, теперь Ромео мчится искать Джульетту?
— Нет. Лечу в Гагру, на курорт.
— Ах так! — разочарованно сказал старик, сразу будто бы охладев. — Счастливого отдыха. — И спросил: — Так зачем же вы ко мне пожаловали?.. Кстати, вы женаты?
— Нет... То есть не совсем.
— Стало быть, все-таки не совсем. Что же вы теперь намерены делать после этого? — Старик похлопал себя по руке свернутой газетой. — Собираетесь искать эту самую Анну Алексеевну?
Мечетный смутился. До этого вопроса он как-то об этом всерьез и не думал, но ответил твердо, будто говорил о чем-то обдуманном и решенном:
— Буду искать.
— Выдающаяся была девица. Скольких лекарь Преображенский на своем веку людей перевидал! Перевидал и позабыл. А вот эту вашу Джульетту с широкой лычкой на погонах хорошо помню. Ведь как она за этот ваш глаз боролась!.. Что там греха таить, когда мы провели первое серьезное обследование, мне показалось, что он совсем безнадежен. Как и этому самому, львовскому коллеге, профессору, как его... Неходе. Взять вас на операцию значило бросить Неходе вызов. А тот ведь у себя дома светило. Можно ли бросать вызов, не веря в победу? Больше того, будучи почти уверенным в бесполезности операции. Все мои белые халаты говорили хором: не надо, откажитесь, ведь удач-то ваших никто не считает, а неудачу раздуют, ударят по вашему авторитету.
Вот так я этой девочке все откровенно и изложил, когда она однажды поздно вечером ворвалась ко мне в «бомбоубежище». Объясняю по-дружески, так и этак, не могу. Права не имею срамить Москву перёд Львовом. А она никаких доводов не слушает: ну попробуйте, ну попытайтесь, это же такой человек, мне для него ничего не жалко! Сидит, слезы льет, и сквозь слезы глаза смотрят жестко, зло: неужели вы, знаменитый человек, трус? Трусите? Да? Трусите... Посмел бы мне кто такое сказать!
Мечетный напряженно слушал. Анюта, почти забытая им Анюта, возвращалась к нему из прошлого и как бы продолжала свою жизнь. Вспоминать ее, узнавать какие-то детали ее характера, ее жизни было необыкновенно радостно. Старик между тем достал из коробки папиросу с длинным мундштуком, постучал по крышке, покатал в пальцах табачную ее часть, а когда подносил к папиросе золотую зажигалку с какой-то выгравированной на ней дарственной надписью, рука его заметно дрожала.
— Так ведь и влепила мне: «Трус!» Тут взяла меня досада. Об этом мне теперь стыдно вспоминать. Решил я перейти в контратаку. Вот ты сказала: для него тебе ничего не жалко. Отвечает: да, не жалко. И зеленые глаза смотрят прямо в упор. Повторила: ничего. Дело идет о его жизни. И вот тут я и спросил: если, говорю, для этого потребуется пересадить ему твой живой глаз, отдашь? И она не задумываясь: берите, хоть сейчас берите, и поскорей. Признаюсь вам, капитан, мне при этом стыдно стало. Я почувствовал себя тем самым некрасовским губернатором из «Русских женщин», который мучил молодую княгиню Трубецкую, расписывая ужасы каторжного пути, помните там, у поэта: «...но, муча вас, я мучался и сам». И я, как тот губернатор, закричал: буду оперировать, завтра же буду оперировать. Вот так все тогда было. Не знали? Знайте...
Жизнь в институте шла своим чередом. Звонил телефон, но старик не поднимал трубку. Без стука залетел в кабинет какой-то важного вида человек в белом халате. Огрызнулся: не видите, я занят! А сам тем временем, повторяя весь, уже знакомый Мечетному, ритуал кофеварения, вскипятил в джезеле воду, засыпал кофе, поколдовал над этой своей покрытой чеканкой кастрюлечкой и наполнил две крошечные прозрачные чашечки.
— Я вот помню: возьмите мой глаз. Хоть сейчас! И лицо ее, каким оно было в ту минуту, помню. В глазах слезы, а смотрит сердито, в них и надежда, и требование, и злость... Черт его знает, шекспировские страсти!
— А какая она была... Анюта? Какое у нее лицо?
— То есть как это какое? Вы что же, забыли?
— Я ее не видел.
— Не видели?.. Не понимаю.
— То есть видел, конечно, там, на фронте, но не обращал внимания.
— Ах да, вы прозрели после ее исчезновения!
— Так какая же она?
— Да ничего особенного. Простое такое лицо, очень русское, круглое, осыпанное веснушками. Густо так осыпано, особенно по переносью. Волосы, кажется, рыжеватые, помню, короткие, под мальчишку. И никакая она была не Джульетта, скорее этакий твеновский Том Сойер в военной форме. Вам тогда на фронте это не бросалось в глаза, не помните?
— Не помню. Лица не помню.
— Постойте, Мечетный. Когда она исчезла, я попытался ее по памяти нарисовать. Может, наброски и сохранились. Только вот плохо получилось. Я же пейзажист.
По-стариковски кряхтя, не без труда присел возле одной из тумб своего громоздкого стола. Достал папку и, пошарив в ней, развернул перед Мечетным несколько набросков. Кто-то постучал.
— Занят! — свирепо отозвался старик.
Немолодой солидный человек в халате все же приоткрыл дверь.
— Виталий Аркадьевич, тут у меня...
— После, после, — рявкнул старик хриплым басом. — Минуты покоя не дадут... Как видите, Мечетный, ничего у меня не вышло. Несколько вариантов, и все разные.
Действительно, с кусков ватмана на Мечетного смотрели совсем разные девичьи лица. Общим на набросках был разве только вихор, вырвавшийся из-под белой медицинской шапочки.
— Ни на одном не похожа. Ускользнула... Не нашел я ее. А хотелось. Очень хотелось запечатлеть себе на память!.. А она вот, пожалуйте, не далась... Есть такие лица. Простое-то, дорогой мой капитан, всегда не просто, вам это в голову не приходило?
Мечетный все еще перебирал наброски. Перебирал с удивлением. Прежде, когда он пытался представить себе облик Анюты, она рисовалась ему красивой, тоненькой, нежной, какой и полагалось быть Джульетте. А из отдельных черт, запечатленных на листах бумаги, складывалось действительно нечто похожее на озорного мальчишку.
Старик снова подошел к книжному шкафу и, как уже было когда-то, отодвинув толстые тома, добыл граненый графинчик и стопочки-наперсточки.
— Давайте-ка мы, брат Мечетный, выпьем с вами за нашу Анюту, пожелаем ей здоровья и счастья, где бы она ни была.
Выпили. Мечетный забрал плащ и, осторожно пожимая худую холодную руку старика, был поражен, какой сильной она оказалась.
— Так будете ее искать, Мечетный?
— Буду. Вот приеду на курорт и начну розыски.
— Ну что же, найдете, передайте ей привет и обязательно сообщите, кто она, где она, адрес мне сообщите.
И когда Мечетный уже шел к двери, он услышал, как старик тихо сказал:
— А ведь я тоже ее любил, вашу Анюту. Да, вот так... Ну, идите, идите...
25
Накрахмаленная сестра, восседавшая у входа, проводила Мечетного любопытным взглядом. Взглянула на часы, должно быть, поразившись, сколько времени потратил академик на этакого грубияна, и пожала плечами. Он этого, впрочем, не заметил. В ушах его все еще звучала последняя, шепотом произнесенная стариком фраза. Любил! Это, конечно, отнюдь не значило, что и она любила его. И все же неужели правду говорила та женщина, которую, кажется, звали Калерией, когда намекала, что, мол, недаром старик поит Анюту по вечерам кофе в своем «бомбоубежище»? Недаром. А может быть, она заставила ученого пойти на операцию не только силою своего убеждения? Но он сердито оттолкнул это предположение: нет-нет, не может быть!..
Посмотрел на часы. До отлета было еще уйма времени. И чтобы обдумать все то новое, что он узнал об Анюте, Мечетный решил идти до аэровокзала пешком.
Москва, новая — знакомая и в то же время незнакомая Москва, открывалась перед ним. Она поражала шириной улиц, бетонными квадратами и параллелепипедами новых, неведомых ему домов, возникших за последнее десятилетие. Да и старые отремонтированные, точно бы помолодевшие, теснились возле этих кубов и параллелепипедов, как веселые, моложавые пенсионеры среди молодых рослых акселератов. Поражали Мечетного и подземные переходы, и щеголеватые милиционеры в фуражках с огромными напружиненными тульями, и густое, но организованное движение машин, и, увы, резкий запах бензиновой гари.
Даже древний Кремль как бы посвежел, приободрился. Пройдя мост, Мечетный сошел вниз в Александровский сад, к могиле Неизвестного солдата, которую он видел только в кино. У какой-то старушки купил букетик ландышей. Положил их у Вечного огня и долго стоял, смотря на его неторопливо трепещущее пламя, вспоминая своего замполита, старшего сержанта Митрича и многих других солдат и офицеров своей роты, не вернувшихся с войны...
Настроение у него было приподнятое. В беседе с академиком он, не подумав, сказал, что будет разыскивать Анюту. Да, будет! И это, наверное, не так уж сложно. Действительно, райком заполярного городка конечно же должен знать и имя и адрес человека, совершившего такой незаурядный поступок. Приедет в Гагру. Напишет в райком запрос. Получит ответ, спишется с этой самой Анной Алексеевной Лихобабой. Одно только туманило его радостное настроение: последняя фраза Преображенского. Неужели?..
Но он отгонял эту мысль: нет-нет. Ведь если бы что-то подобное было, старик не вспоминал бы ее так, не пытался бы после ее исчезновения восстанавливать на бумаге ее облик, не хранил бы эти свои наброски. Ведь романы-поденки забываются на следующий день.
Вот так, обдумывая все детали разговора, Мечетный и шел по саду, дышавшему в его лицо зацветающей сиренью. Задумавшись, он как-то не обратил внимания на погромыхивание в небе и заметил надвинувшуюся грозу, лишь когда тяжелая, хмурая, лохматая туча наплыла на Кремль со стороны Москвы-реки и уже роняла на дорожки редкие, увесистые, теплые капли. Потом полыхнула молния и раздался такой раскат, будто рядом рванула сброшенная с самолета торпеда. Мечетный взглянул на небо. Туча была уже над ним. Солнце подсвечивало ее по краям, эти края золотились, и на фоне свинцовой хмари, сверкая крыльями, кружилась стая голубей.
Рванул ветер, взвихривая песок, остро жалящий лицо. Дождь хлынул такой, будто наверху опрокинули над землей огромную лейку. Мечетный растерянно огляделся, заметил невдалеке стрелку, указывающую на подземный переход, и бросился туда. Он изрядно промок, прежде чем достиг спуска в туннель. Но внутрь туннеля не пошел, встал с краю и стал наблюдать всю эту водную круговерть. Дождь хлестал порывами, то ослабевал, то припускал, водная пыль залетала в туннель, освежая лицо, мутные потоки неслись вдоль тротуара.
И вдруг с необычной яркостью возникла в памяти Мечетного картина такой же вот шумной весенней грозы, которая накрыла их с Анютой, заставив искать убежище в какой-то подворотне. Так же, точно залпы тяжелой артиллерии, гремели над головой громы, с тем же веселым торопливым шумом барабанил по асфальту дождь, по тротуару неслись потоки, и водная пыль, залетая в подворотню, так же вот освежала лицо и заносила бражный аромат влажного воздуха. Вспомнилось, как стояли они с Анютой, прикрывшись плащом, стояли, прижавшись друг к другу. Он чувствовал ее дыхание, запах ее волос...
Ведь ничего, ничего не забыто, и захотелось Мечетному, неудержимо захотелось поскорее ее повидать. Что письма? Почта нетороплива. Если даже направить письма авиасвязью в те далекие края, оно пробродит дней пять — восемь. Восемь туда, восемь обратно. В лучшем случае две с лишним недели уйдет только на то, чтобы установить ее адрес. А там снова письма. Пройдут недели, кончится отпуск, нагрянут весьма неотложные дела, и будет не до поисков...
А что, если сейчас отщипнуть от отпуска неделю и вылететь туда, на Крайний Север, за Полярный круг? Путевка... Да что такое путевка? Путевку, наверное, можно продлить. А билет сдать и сразу же купить другой, на заполярный самолет.
Когда гроза прошла, уронив последние крупные, как бы заключительные капли, и в промытом воздухе стало тихо, так тихо, что Мечетный вдруг расслышал и гудки автомобилей, и журчание вновь рожденных ручейков, он уже принял решение: немедленно вылетит туда, где живет и работает Анюта.
Теперь он уже торопился. У Исторического музея схватил такси и, рассеянно глядя по сторонам, думал о том, часты ли рейсы самолетов туда, в высокие широты. В какие дни вылетают? Есть ли на них билеты? Удастся ли ему этот билет добыть? Как все мальчишки его поколения, он в дни спасения челюскинцев, в дни исторических перелетов Чкалова и Громова через полюс на память знал карту Севера. Названия Амдерма, Ванкаурем, Тикси были для него знакомы. Он даже представлял себе, где в устье великой реки находится тот городок или город, вблизи которого геолог Анна Алексеевна Лихобаба спасала каких-то школьников. Далеко, очень далеко! Но ведь и сам он за несколько часов долетел до Москвы со своего Урала, жители которого встают на два часа раньше, чем москвичи.
Нет, в век авиации даже на карте огромной нашей страны не существует непреодолимых расстояний! А когда Мечетный очутился в здании аэровокзала, лежавшего, как стеклянный кирпич, рядом с Ленинградским проспектом, и посмотрел на табло расписаний, все оказалось даже проще, чем он думал. Самолет вылетал в Заполярный круг завтра утром. Билет на юг у него приняли, только взыскали неустойку и какие-то сборы. Выписали новый на Север. Даже удалось как транзитному пассажиру да еще Герою Советского Союза получить номер в неплохой гостинице Аэрофлота, тоже напоминавшей стеклянный кирпич, но не лежащий боком, а поставленный на попа.
Автобус-экспресс доставил Мечетного в Шереметьево-11. Он прибыл вовремя, зарегистрировал билет. Вместе с толпой попутчиков девушка в форме Аэрофлота отвела его к самолету, отлетавшему в Арктику.
В Арктику! Одно это слово так много говорило ему — мальчишке тридцатых годов. Арктика — это бородатый Отто Юльевич Шмидт, это скромный героический Молоков, подтянутый Ляпидевский. Это кругленький Папанин со своей командой из первого ледового десанта на полюс. Все интересное, значительное, почти легендарное. Герой Одера, что там греха таить, теперь волновался перед неожиданным для него самого полетом в те неведомые ему, как когда-то писали в газетах, края белого безмолвия и неизученных просторов.
Но толпа, подошедшая вместе с ним к трапу авиалайнера, удивила и даже несколько разочаровала Мечетного: обычные, совсем не героические лица пассажиров, какие могли лететь и в Сибирь, и в Прибалтику, и на юг.
Но при ближайшем рассмотрении в этом обычном оказалось и необычное: группа дюжих, загорелых молодцов без шапок, но в мохнатых унтах и широченных куртках из чертовой кожи, что-то пела, окружив своего гитариста. В этой молодой толпе особенно выделялись два седых старика, одетых столь же небрежно. Еще один человек в такой же куртке и унтах, широкоплечий, с тяжелым загаром на круглом лице расхаживал возле самолета. Он был такой большой и грузный, что походил на матерого медведя среди медвежат.
У трапа стояла молодая женщина в легком цветастом платье. Она ухитрялась держать на руках ребенка, букет красных тюльпанов и веник. Обычный березовый веник. Впрочем, веники, как заметил Мечетный, были у нескольких пассажиров. А там, где лежали рюкзаки, из одного из них торчал целый пук... «Веники, к чему им веники?» — подумал Мечетный. И еще подумал, что люди, несмотря на майскую влажную жару, были тепло одеты. А у него — берет, плащик да небольшой чемодан, в котором шорты, плавки да папки с его неоконченной диссертацией. Впрочем, женщина с ребенком была и вовсе без верхней одежды. А ведь летит туда же. А вот ребенок был погружен в пушистый меховой кокон: ребенок в мехах, а мать в легком маркизетовом платьице. Они представляли собой удивительный контраст.
Самолет стоял у самой кромки огромного аэродрома, невдалеке от веселого березового леска, деревья которого простирали ветки над крайними бетонными плитами. Промытый вчерашним ливнем лес выглядел ярко и красочно, будто был нарисован на рекламном плакате. Внизу сплошной стеной белели стволы берез, а сверху их накрывала курчавая, еще не загрубевшая на солнце листва. Там, в этом лесу, буйствовала весна, и когда ветер трогал макушки берез, оттуда, из этой молодой рощи, неслись ароматы распустившейся листвы, влажной травы, и ароматы эти побеждали даже аэродромные запахи керосина и смазочных масел.
Просто не верилось, что самолет, взмыв ввысь, за какие-нибудь пять часов перенесет пассажиров из этой вешней благодати в край снегов, льдов, в край холода и вечной мерзлоты. И сам город, куда летел Мечетный, представлялся ему толпою круглых яранг из тюленьих шкур. Что он, Мечетный, будет там делать в своем пижонском плаще и тонких шевровых ботинках?
Жалел ли он о том, что так вот сразу, увлеченный порывом, рожденным грохочущей весенней грозой, променял теплую душистую Гагру на ледяной Север? Он так мечтал об этом отпуске, о том, чтобы, хоть на месяц освободившись от захлестывавшей его деловой толкучки, обдумать последнюю, самую трудную, главу своей диссертации, на которую ему всегда не хватало времени... Нет, все-таки не жалел. Что сделано, то сделано! После беседы с Преображенским он уже верил, что геолог Анна Лихобаба — действительно его Анюта и что он обязательно должен найти и найдет ее...
Но какова она теперь? Столько лет прошло! Помнит ли она его вообще? А может быть, так же вот вычеркнула его из своего сердца, как он когда-то даже из воспоминаний вычеркнул Наташу? И Анюта, может быть, не вспоминает, начисто забыла его. Может, даже и не узнает: какой такой Мечетный, откуда? Ах да, тот... Может быть, она замужем. Нет-нет, выйдя замуж, она обязательно сменила бы фамилию, которая всегда тяготила ее. Да и вряд ли замужняя, семейная женщина осталась бы геологом-поисковиком.
Где-то в дальней своей мысли Мечетный рассчитывал, что, может быть, вместе вернутся они из Арктики, что привезет ее к себе в свой молодой город, на завод, выросший у него на глазах, ставший для него самым родным местом на земле, родным настолько, что он уже не мыслил себя вне его... Как знать, может, летит он сейчас в Арктику за своей судьбой...
Металлический голос радиодиктора то и дело объявлял посадку на различные рейсы — на Лондон и Киев, на Токио и Кострому, на Хабаровск, на Вену. А рейса, на котором летел Мечетный, все не объявляли. Ребята в черных бушлатах, перепев свои песни, сидели на рюкзаках и подремывали. Человек, похожий на матерого медведя, перестав ходить, достал книжку и, пристроившись на ступеньках трапа, читал и даже что-то подчеркивал, женщина в пестром маркизетовом платьице уселась на принесенный ей стул, извлекла своего вспотевшего младенца из мехового кокона и кормила его грудью. Какой-то пассажир брюзжал:
— Известное дело, где начинается Аэрофлот, там кончается порядок...
Мечетный переступал с ноги на ногу. Скорее бы уже! Соблазн махнуть рукой на неожиданную полярную экспедицию был велик и рос с каждой минутой ожидания. Ну куда, куда он летит так налегке? Вот как все они одеты, полярники. Но смотрел на кормящую молодую мать, и становилось стыдно: трусишь, ищешь повод дать задний ход? И вспомнился рассказ академика о том, как Анюта с презрением бросила тому в лицо: трусите, да?.. Трусите?..
Наконец в дверях машины показалась дородная стюардесса. Густые русые волосы выбивались у нее из-под форменной пилотки и падали на плечи. Глубоким звучным голосом, как-то по-домашнему сказала она:
— Заждались? Ничего-ничего, в пути наверстаем, прибудем вовремя. Ветер нам в спину.
Загорелые ребята в черных бушлатах сразу оживились.
— Здравствуйте, Тамарочка.
— Мы тут без вас истосковались.
— Тамара с нами, значит, будет хороший рейс.
Стюардесса улыбалась широкой, добродушной улыбкой, показывая два ряда безукоризненно белых крупных зубов.
Она бережно взяла у молодой мамаши кокон с младенцем и как-то очень ловко понесла его по трапу.
— А он у вас за месяц вырос. Честное слово!..
Стало очевидным, что эта Тамара была в Арктике своим человеком: все знали ее и она знала многих.
27
В самолете оказалось много свободных мест. Тамара опустила со стены сетчатую люлечку и уложила в нее мохнатый кокон. Мамаша смогла занять все три кресла. Тамара принесла подушку, накрыла ее пледом, и та сразу заснула.
Загорелые ребята уселись все вместе в хвостовой части салона, поснимали свои тяжелые бушлаты и стали вдруг разными и непохожими друг на друга. Рядом с Мечетным оказался широкоплечий, немолодой уже человек, напоминавший матерого медведя. Когда он снял свой бушлат, на груди его оказалась Звезда Героя Советского Союза.
— Трофимов Александр Федорович, — отрекомендовался он и крепко тряхнул руку Мечетного своей большой рукой.
Мечетный назвал себя.
Трофимов показал на его Звезду.
— За что?
— За Одер. А у вас?
— За Арктику.
— Вы, собственно, кто же будете-то?
— Директор института, доктор географических наук. А вы?
— Инженер, кандидат наук технических.
— Александр Федорович, вы, по-видимому, тут человек свой. Скажите, бога ради, почему многие везут веники? Вон эта блондинка с ребенком и тюльпаны и веник. И у других.
— А-а, дорогой Владимир Онуфриевич. Сразу видно, что вы высоких широт не нюхали. Веник там лучший подарок. Новая книга и веник. Там ни деревца, ни лесочка, кустика — и того не увидите. А что может быть для полярника слаще, чем попариться вволю в бане с березовым, а лучше — с дубовым веничком. Вот вы-то, скажите, как это вы, дорогой мой, в Арктику направились в такой экипировке? Арктика — не Сочи и не Гагра.
— А я ведь как раз и собирался в Гагру. Но судьба — пришлось изменить маршрут.
— Что ж это так?
Несмотря на то что сосед занимал почти полтора кресла, голос у него был высокий, мелодичный, и было в незнакомом этом человеке что-то такое, что сразу располагало к нему. И Мечетный, суровый, немногословный человек, не терпевший людей, которые на стандартный вопрос «как поживаете?» принимаются за подробный рассказ о своих личных делах, вдруг сам пустился рассказывать соседу об Анюте, о своей неудачной любви и о том, почему он так неожиданно изменил маршрут поездки.
Новый знакомый обладал ценнейшим и редчайшим человеческим даром: он умел слушать. Слушал, не задавая вопросов, не перебивая, не торопя, не бросая поощряющих реплик. Он только кивал своей большой круглой и тоже будто медвежьей головой. Лишь потом, когда Мечетный закончил свое обстоятельное повествование и замолчал, он сказал приятным тенорком:
— Да, Владимир Онуфриевич, чую, ваш барометр показывает бурю. — И, подумав, добавил: — Сложные обстоятельства.
— Вылетел сгоряча, а теперь уж и не знаю, как я в этом обмундировании у вас по льдам ходить буду.
— Об этом меньше всего думайте. Полярники — народ дружный, на морозе голого не оставят. Не в этом сложность, Владимир Онуфриевич, — сложность, я бы сказал, в другом — в плане психологическом. Ведь сколько времени-то прошло! Целое поколение поднялось. У нас ведь как порою бывает — уедет человек на зимовку, а вернется — жена от него отвыкла, сам от нее отвык. За один год. А тут столько лет!.. Ну да чего там. Прилетите, увидите.
— Секретарь горкома у вас какой? Поможет?
— Мой секретарь горкома в Ленинграде. Я в Арктику на гастроли. Но тамошнего знаю. Душевный, толковый, только в силу того, что он душевный и толковый, вы его, наверное, в городе-то и не застанете. Наверняка в тундре. Май, оленеводы стада перегоняют. Страдная пора: как у нас в России в августе. На горкоме может висеть замок, все уехали на перегоны оленей... Ну ничего, Арктика не без добрых людей, помогут.
А потом, когда Тамара разносила по самолету обед, (в котором конечно же была неистребимая и вездесущая курица, неизменно появляющаяся к обеду, независимо о того, летите ли вы в Кострому или в Нью-Йорк, сосед извлек из заднего кармана фляжку, отвинтил пробку и, выплеснув из стаканчиков боржоми, наполнил их коньяком.
— Ох, сосед, и царапнули вы мне сердце своей историей! Давайте-ка, Владимир Онуфриевич, за вашу удачу. А?
Выпили, повторили. Теперь, когда плотину как бы прорвало, Мечетному не терпелось говорить об Анюте, благо полярник умел так хорошо слушать.
— А как вы полагаете, она... свободна?
— Да как вам сказать... Вы-то сами не женаты?
— И да и нет.
— Выходит, семьи нет?
— Выходит, нет. Не знаю почему, не получилось у меня с семьей. Была когда-то, но это особая история. Военная. А после войны с семьей не повезло. Характер, что ли, стал скверный. Пытался, но все не то...
— Любви настоящей не чувствуете. Поэтому. Лю-бовь-то вы свою на нее, на Анюту эту, всю израсходовали. Есть ведь однолюбы. Знавал я одного...
Моторы самолета источали мягкий и не очень громкий свист. Молодые загорелые ребята, отправлявшиеся в Арктику на зимовку, снова взялись за гитару. И вместе с ними пели два седых старика, на которых Мечетный обратил внимание в аэропорту. Со всеми в самолете — и с этими певунами, и с соседом Мечетного, и с этими стариками — стюардесса Тамара была знакома и вела себя с ними, как хозяйка с гостями. Старики тоже чувствовали себя в самолете как дома. Заговаривали, заходили даже в пилотскую кабину.
— Кто такие? — : поинтересовался Мечетный.
— О, это наши знаменитые старожилы! Этот вот, что поплотнее, полярный летчик. Может, слышали? — И он назвал весьма известную еще по довоенным газетам фамилию. — А длинный бородач, это тоже наша знаменитость. Один из первых зимовщиков.
— А куда летят? Ведь, наверное, оба давно уже на пенсии?
— На пенсии. Да еще на какой. Оба — генеральские получают, да вот не могут дома сидеть, болеют Арктикой. А эта болезнь неизлечимая, до гробовой доски.
Мечетный понимал, что несет его сейчас судьба в какой-то особый, неизвестный ему мир. И все, что произошло за последние сутки — и эта газета с Указом, которую он везет с собой, и встреча с академиком, и веселая гроза над Москвой, и то, что он, Владимир Мечетный, усталый, стосковавшийся по отпуску и по своей многострадальной диссертации человек, вместо теплых черноморских берегов летит в неведомую ему страну льдов, — все это было будто сном, странным, тревожным сном, от которого все же не хотелось просыпаться.
— Извините, я вас потревожу. — :Трофимов встали направился по проходу к поющим. Его встретили веселым шумом. Еще громче, перебивая свист моторов, зазвучала гитара, и приятный тенорок полярника заметно вплелся в разноголосый хор.
28
А холодные эти края, в которые авиалайнер через несколько часов занес Мечетного, продолжали удивлять.
Во время короткой стоянки на аэродроме большого заполярного города в самолет ввалилась компания дюжих громкоголосых парней. В салоне стало тесно. Запахло крепким мужским потом, нестираной одеждой и сивушным духом. Новые пассажиры были странно, почти одинаково одеты: в меховых куртках, в шапках с длинными, опущенными вниз наушниками, в штанах черного бархата, заправленных в сапоги, голенища которых были сосборены гармошкой. Один под мышкой прижимал транзисторный приемник, исторгавший во всю свою электронную мощь какой-то концерт.
Вновь прибывшие расселись тоже кучно и, громко переговариваясь, наполнили чинный салон прекрасного авиалайнера хмельным бестолковым шумом.
— : А это что за птицы? — ■ спросил Мечетный у соседа, вернувшегося на свое место.
— Бичи, — усмехнулся тот. — Не слышали такого слова?.. Бичи за длинным рублем летят.
— Бичи? Что это такое?
— Так их тут зовут. Портовое словцо. Вероятно, происходит от английского бич — пляж, — пояснил сосед. — Перезимовали в благоустроенном городе, капиталы свои порастрясли, и вот весной к ледоходу летят в Арктику. Там ведь с началом навигации рабочие руки дороже золота. Ребята дюжие, большие деньги зашибают... Как птицы. Осенью на юг, весной на север.
— И всерьез работают?
— А как же. Сначала всю водку, какая есть, выпьют, потом одеколон, потом лекарства, что на спирту, а когда и это кончится да карманы опустеют, еще как работать-то примутся.
А между тем те, кого Трофимов назвал «бичами», расстегнули свои синие аэрофлотские сумки, и бутылки пошли по кругу. Поднявшийся шум совсем заглушил тихий свист моторов, взметнулась разудалая песня, и один из парней вдруг пошел вприсядку в проходе между кресел. В сетчатой своей люлечке проснулся и запищал младенец. Молодая мать, прижав его к себе, со страхом поглядывала на разгулявшуюся компанию. Мечетный вскочил было, чтобы прекратить хмельное безобразие, но многоопытный сосед остановил его:
— Не надо, не вмешивайтесь. Ничего хорошего не выйдет, Тамара их сейчас без вас успокоит.
И действительно, из пилотской кабины вышла статная белокурая красавица. Решительным шагом подошла она к веселящейся компании, встретившей ее, как старую знакомую.
— Тамара... Все летаем, на приданое зарабатываем? — послышалось со всех сторон.
— Прекратить! — скомандовала она своим густым контральто.
Как изваяние, стояла она в проходе. И произошло невероятное: компания вдруг стихла.
— Тамарочка, детка, зачем так строго? Мы же хорошие, мы пассажиры Аэрофлота. Нас любить и холить надо, — пропищал плясун, протягивая к ней руки.
— Сядь! — Стюардесса неуловимым движением своих больших рук бросила его в кресло. — Сядь и сиди. Слышишь?.. И вы, чтобы сидеть у меня тихо, а то всех выброшу в следующем аэропорту.
Должно быть, угроза была реальной. Новые пассажиры стихли и даже попытались завести с девушкой разговор.
— Как там, на реке?.. Не рано мы поднялись? Работа есть?
Стюардесса присела на ручку кресла и спокойным, доброжелательным голосом поддержала деловой разговор.
— Видели, что такое Тамара? — не без гордости, даже будто хвастая, сказал Трофимов. — Ее весь Север знает. Спортсменка. Какой-то там рекорд держит. А между прочим, что особенно удивительно, но и важно, знает приемы самбо.
А Мечетный думал: да, в суровом этом краю Тамарам только и жить. А каково-то тут маленькой Анюте с ее детским голоском? Что же это занесло ее сюда, где полгода день, полгода ночь? Как она может жить и работать среди таких вот «бичей»?
Он смотрел в окно: синь, синь, синь до горизонта, до самого того места, где снежные пустыни почти незримо сливались с таким же небом. Ни дорог, ни домов, ни деревьев... Какие обстоятельства заставили Анюту ехать сюда, в этот холодный край, кажущийся сверху мертвым?
И еще думал Мечетный, поглядывая на своего соседа, который мирно спал и даже прихрапывал, сложив в трубочку свои толстые губы. Думал, как же это он, Мечетный, никогда не пускавший постороннего в свою душу, Мечетный, считавший себя гордым, привыкшим в одиночку переживать свои радости и горести, так вот, вдруг, раскрылся перед этим полярником, ввел его в курс своих сердечных дел? Что же такое с ним, Мечетным, творится? Неужели стал меняться характер? Почему? К добру ли это?
Он никогда как-то не задумывался, над тем, почему, собственно, живет бобылем? Почему так яростно дорожит мужской свободой? Имеет благоустроенную квартиру, но не имеет гнезда. Почему не женился, хотя теперешнего его заработка хватило бы и на большую семью? Почему даже не привязался ни к одной из женщин, с которыми сводил случай? А ведь не одна была на его пути. Разной внешности, разных характеров. Они ненадолго входили в его жизнь, но так же легко и выходили, не оставив следа. Почему?
И вот теперь эта Серафима. Умна. Заботлива. Даже слишком заботлива и недурна собой... Живут на разных квартирах, ведут разное хозяйство. Совсем ведь недавно, вчера, думалось: вот и хорошо. Не примелькаешься, не надоешь... У нее определенные способности к точным наукам. В его лаборатории она не последний человек. Мечетный помогает ей работать над кандидатской. А она помогает ему при случае проводить сложные расчеты. Полное согласие. О чем еще мечтать? Чем не пара? Лабораторная общественность их давно уже поженила и даже объясняет их жизнь врозь нежеланием терять одну из квартир. Лабораторный вахтер иногда подзывает его к телефону.
— Владимир Онуфриевич, вас супруга требует...
Да и сама Серафима. Сколько уж раз заводила разговор о том, что не пора ли им съехаться, хотя бы для удобства совместной работы. Но он резко встречал эти ее попытки. Он даже боялся, что их странный холодный роман, который он для себя научно определял как «симбиоз взаимополезных существ», станет браком, а Серафима превратится в жену. К чему нарушать равновесие их отношений, которое казалось ему устойчивым и вполне его удовлетворяло?
Так все-таки почему же, проживший уже половину жизни, он до сих пор не устроил эту жизнь, как все люди? Он никогда не горевал об этом. И в первый раз всерьез задумался лишь после того, как этот «полярный медведь» дал на это, должно быть, единственно правильный ответ: любить по-настоящему человеку дано один раз. Да-да, наверное, так и есть. Тут, в самолете, несущем его над далеким северным краем, он понял: Анюта, все ушло в Анюту! В последние годы он в сутолоке жизни и дел своих ее даже и не вспоминал.
Но, должно быть, подсознательно мерил всех женщин Анютиной меркой... Эх, только бы ее отыскать, увезти из этого пустого, холодного края!.. Вот тогда он, может быть, и заживет, как все люди.
С этой мыслью Мечетный уснул, а во сне он увидел Анюту в пушистой меховой парке, в унтах. Она шла по снегу ему навстречу, вытянув руки. Он знал, это Анюта, он различал даже кожаную аппликацию и вышивки по подолу парки, но лица не видел. Вместо лица в капюшоне парки вырисовывалось белое пятно. И все-таки это была Анюта, он это знал, и она шла ему навстречу.
Когда самолет, погасив скорость, коснулся колесами мерзлой земли и, подрагивая крыльями, побежал по не очень ровной посадочной площадке, Мечетный проснулся с ощущением большой радости. Ну да, скоро, может быть, сегодня или завтра или послезавтра он увидит Анюту уже не во сне!
В этом краю, куда авиалайнер доставил Мечетного за пять с половиной часов, было, должно быть, все необычно. Необычное начиналось уже на трапе. В белесом небе невысоко стояло бледное, будто пригвожденное к этому небу малокровное солнце. Кругом бело. Ничто не нарушает и не разнообразит этой девственной белизны, разве что посадочная полоса, выутюженная бульдозерами и разъезженная колесами отлетавших и приземлявшихся машин.
В дверях у трапа возвышалась, именно возвышалась Тамара. В своем складном синем мундире, хорошо обрисовывавшем ее фигуру, в форменной пилотке, надетой набок и едва державшейся на кипе волос, в белых перчатках, она мило улыбалась положенной по правилам Аэрофлота улыбкой, провожая пассажиров. Когда мимо нее очередью проходили протрезвевшие и притихшие «бичи», она и им отвесила такую же точно улыбку, и парень с транзистором, которого она столь энергично усадила в кресло, с опаской прошел мимо нее и уже снизу, с земли, крикнул:
— Летайте самолетами Аэрофлота — быстро, комфортабельно и удобно! — и, подмигнув, добавил уже издали: — Благодарю за внимание.
И встречающие, толпой подошедшие прямо к трапу, были необыкновенные. Молодую мамашу в маркизетовом платье с ребенком, погруженным в меховой кокон, встретил офицер. Тут же у трапа он набросил ей на плечи пушистую меховую шубку, надел ей на голову шапку и, получив от нее в подарок березовый веник и несколько тюльпанов, еще сохраняющих московскую свежесть, растроганно и благодарно поцеловал ее.
Парни в черных бушлатах из чертовой кожи прямо-таки повысыпали из самолета и, минуя трап, спрыгивали на землю с ловкостью обезьян. Соседа Мечетного, который был, по-видимому, в этих краях крупной фигурой, встретило несколько человек.
Они обнимали его, целовали со щеки на щеку, трясли ему руку так, будто хотели ее оторвать.
Еще в самолете Трофимов достал из рюкзака унты, шапку с длинными ушами и сразу стал похож на всех тех, кто его встречал. Он тут же вручил всем по венику, и один из встречавших, прижав к сердцу веник, растроганно проговорил:
— Не забыл нас, Александр Федорович: обычаев наших не забыл. А я тут как раз финскую сауну соорудил. Таких саун и у вас, в Ленинграде, нет. Такой температуркой угощу, сразу кило-два оставишь. Всласть попотеем вместе,
— Тянет она-то, тянет, Арктика, — сипел немолодой человек с костистым, будто состоящим из углов лицом, у которого на голове была старая морская фуражка с большим крабом. Все называли его капитаном...
Мечетный в своем щегольском плащике и берете одиноко и растерянно стоял у трапа. Военный вездеход увез молодую мамашу с младенцем. На грузовой полуторке уехали полярники. Кого-то умчала оленья упряжка, а Мечетный, о котором все позабыли, топтался с чемоданчиком в руке и, чтобы согреть уже замерзающие ноги, притоптывал в своих тонких туфлях, одинокий и странный среди этих загорелых тяжелым арктическим загаром людей, знавших и понимавших друг друга с полуслова, связанных делами или судьбой, он чувствовал себя белой вороной и не знал, что ему делать.
Но когда были произнесены все приветственные слова, закончился обмен поцелуями и звучными шлепками, Трофимов рекомендовал его встретившей компании:
— Мечетный, Владимир Онуфриевич Мечетный, герой Одера. В Арктике, как видите, салага. Прибыл с весьма деликатной миссией. Хороший человек, прошу любить и жаловать.
Крепко, очень крепко умели жать руку эти арктические люди. Последним подошел к нему костистый человек в морской фуражке с крабом, которого все называли капитаном, и надсадно просипел:
— Садитесь со мной, довезу.
— Мне бы, знаете ли, куда-нибудь в гостиницу или какое-то общежитие, что у вас тут есть для приезжих?
— Довезу, куда надо, — сипел капитан и протянул Мечетному шапку и меховую куртку. — Оденьтесь, Арктика — старуха серьезная, шуток не любит.
— Но у вас же у самого?..
— Я не новичок, я с Арктикой на «ты», я здешний аборигенец, — сипел капитан.
— Аборигенец, аборигенец, — смеялся Трофимов, с трудом втиснувшийся в тот же вездеход. — У этого або-ригенца судьба такая, какую и Джеку Лондону не доводилось описывать.
— Куда? — спросил шофер, молодой парень со смуглым плоским лицом и узкими раскосыми глазами.
— К Цишевскому, Ваня, к Цишевскому.
— Мне бы в гостиницу... Если, конечно, по пути, — деликатно попросил Мечетный.
— К Цишевскому! — даже не поглядев на него, повторил свое приказание капитан.
Они с Трофимовым оживленно разговаривали о каких-то непонятных Мечетному вещах, о ледовой обстановке, о ледоломе, который вот-вот может начаться на основных руслах дельты. Обсуждали весенние прогнозы погоды. Мечетный в разговоре участия не принимал. Он наклонился к слюдяному окошку машины и смотрел на странный, непривычный пейзаж. Вездеход шел на большой скорости по прочной снежной дороге, едва различимой на целине. Обогнали тех, кого Трофимов назвал «бичи». Они цепочкой тянулись по этой едва видимой тропе. Впереди шел парень с транзистором под мышкой. Приемник оглушительно ревел, возмущая снежную тишину Арктики.
— Раньше-то с гармошкой ходили, а теперь вон — электроника! — надсадно прохрипел капитан и скомандовал шоферу: — Ваня, притормози! — Высунувшись, он крикнул ребятам: — Давайте прямо в порт, к Щербакову.
— А какие деньги платить будешь, начальник?
— Хорошие деньги. Советский рубль.
— Сирот не обидите?
— Что же вы, меня не знаете?
— Знаем, знаем... А как у вас насчет пожевать?
— С голоду не помрете.
— А выпить?
— До начала навигации хватит... Трогай, Ваня! — Капитан усмехнулся: — Слетаются гуси-лебеди... Работать умеют, а вот настоящего пролетариата из них никак не сделаю, сплошные пережитки.
Поселок, который Мечетный представлял себе как скопление яранг, показался настоящим, хотя и своеобразным городком.
Двухэтажные бревенчатые дома стояли как бы на цыпочках, приподнятые над землей. «Вечная мерзлота», — догадался Мечетный. На снежной равнине тренировалась футбольная команда, обычно тренировалась, как, скажем, в Москве или в Киеве. Но футболки и трусы игроков были надеты поверх лыжных костюмов, а вратарь топтался у ворот в мягких собачьих унтах. Из большого и тоже приподнятого над землей на сваях здания выплеснула на улицу детвора. Мальчишки, как все мальчишки на земле, шумели, толкались, радуясь окончанию школьного дня. На большинстве были шубки, раскрасневшиеся от мороза лица выглядывали из меховых пушистых капюшонов. На перекрестке стоял милиционер, у которого поверх мундира была наброшена доха.
— К Цишевскому, Ваня, не забыл? — напомнил капитан, отрываясь от спора о ледовой обстановке этой весны.
— Александр Федорович, мне бы лучше прямо в райком, — попросил Мечетный, еще в Москве решивший начать поиски с районного комитета партии.
— А сейчас там только разве дежурный. Все в тундре. Весна. Оленей перегоняют. Первый еще третьего дня уехал «на оленей»...
— Но мне надо устроиться с ночлегом.
— На ночлег я вас сейчас и отвезу. Хороший ночлег. Можно сказать, московский. И машину завтра дам. До Рыбного тут не очень далеко. Вон Ваня вас и отвезет. Не бросим, не бросим! В высоких широтах людей бросать не принято.
Должно быть, Трофимов уже успел рассказать капитану о цели путешествия Мечетного. Во всяком случае, этот загорелый сиплоголосый моряк явно проникся к нему симпатией и интересом.
Заполярный городок напоминал Мечетному молодые городки, рождавшиеся в последние годы во множестве в его родных краях. Да и город, где он теперь жил, город с высокими домами, троллейбусом, торговым центром и всякими учреждениями, приличествующими каждому новому советскому поселению, пять лет назад был таким же, как этот, — стандартные рубленые двухэтажные дома, улицы, едва намеченные строем этих домов, и конечно же огромная пустынная площадь, которую обступали такие же деревянные здания размером побольше, райком, райисполком, универмаг, книжный магазин, клуб, школа. Но в отличие от своих уральских сверстников, прочно стоявших на земле, заполярный городок этот был весь как бы на ходулях, и все коммунальные коммуникации — водопровод, канализация, газ — тянулись над землей на деревянных стойках, окутанные войлочными кожухами.
Машина остановилась около одного из таких стандартных домов.
— А Цишевский когда отбыл? — спросил Трофимов, мягко вываливаясь из машины и разминаясь с дороги.
— Недели две назад, — просипел капитан, поправляя на голове свою морскую фуражку.
— С семьей?
— Ну, конечно, с женой и детишками... У него полярный двухмесячный отпуск.
— И куда же?
— Да куда-то на юг, на Кавказ — в Сочи или Гагру. Теплой водичкой кости отпаривать.
— А то, что мы к нему без спросу, ничего?
— У нас, Александр Федорович, порядок прежний.
Вошли в подъезд, поднялись по лестнице. Капитан приподнялся на носки, откуда-то сверху, из щели в бревнах, извлек ключ и отпер дверь.
— Ну, как говорится, милости прошу от имени Ци-шевского.
Они оказались в современной и немаленькой квартире, обставленной новой мебелью. На столе под торшером лежала записка: «В холодильнике кое-что есть, не стесняйтесь. Радиолой прошу не баловаться».
— Ну вот мы и дома, — сказал Трофимов, стаскивая в прихожей свои полярные доспехи: бушлат, шапку и унты. — Здорово замерзли? Ничего, сейчас согреемся.
Он вышел, и сразу же электрическая печка, стоявшая в комнате, которая, вероятно, служила гостиной, стала интенсивно источать тепло.
— Как же это без хозяев... Вроде бы не полагается. — Мечетный все еще нерешительно топтался в прихожей.
— Вы где? В Арктике. Тут свои законы. Читали у Джека Лондона, как всякие там золотишники останавливались в попутных хижинах, где для них всегда были припасены дрова. Дров-то, видно, Цишевский не запас.
— Электричество электричеством, а за дровами сходить придется. Это мы сейчас и сделаем! — Но в дверях Трофимов столкнулся с маленькой женщиной в пестром байковом халатике.
— Александр Федорович, вы? — радостно воскликнула она. — А я слышу, у Цишевских ходят. Думаю, кто бы это такое пожаловал. Они уехали...
— Знаю, знаю, Зоенька, знаю. Мне в Ленинград звонили, приказали вам кланяться... А это вот Владимир Онуфриевич Мечетный, прилетел к нам судьбу искать...
— Вам тут ничего не нужно?
— Нет, нет, спасибо, не беспокойтесь. Здесь все на ходу. Закуска есть, а штопор и все, что к нему положено, с собой возим.
— Только если дрова сожжете, чур опять наколете.
— Непременно, а как же? Законы Арктики не забыты.
Маленькая женщина исчезла за дверью.
— Кто такая? — спросил Мечетный. Голос этой женщины своими инфантильными интонациями напомнил ему Анютин.
— Соседка. Жена механика с электростанции. Учительница.
Трофимов принес несколько охапок дров, ловко с одной спички затопил заледеневшую печь, принес из магазина всякой снеди. Полированный стол был тщательно застелен газетами. Квартира без хозяев, стол, накрытый газетами, поллитровка, извлеченная из рюкзака и тут же вспотевшая на столе, — все это напомнило Мечетному безыскусные гостевания в чужих квартирах, оставленных хозяевами во фронтовой полосе, и мысли его снова вернулись к Анюте. Она была где-то здесь, недалеко, рядом. От нее отделяли всего несколько часов езды. Хотелось, очень хотелось говорить об Анюте, порасспросить о ее житье-бытье, но полярники были увлечены своими делами, своими новостями, своими заботами, и просто неудобно было их перебивать.
После того, как бутылка опустела, капитан, который, как оказалось, вовсе и не был капитаном, а руководил большим заполярным портом, прервав разговор, сказал сам:
— Слышали, слышали мы об этой вашей симпатии. В газетах о ней писали. Действительно, лихая баба: школьников из ледяной полыньи вытащила.
— Вы ее знаете? — заволновался Мечетный, бросая на моряка благодарный взгляд.
— Знать не знаю, но наслышан... Они, геологи, тут уже второй сезон копаются и что-то такое, неназываемое, но весьма полезное нашли.
— А что в газете писали?
— Да уж и не помню подробностей, признаюсь, читал рассеянно. В эти дни у меня горячка на пристанях была, в самый ледостав это случилось. Уж потерпите как-нибудь, а завтра утром Ваня вас в Рыбачий доставит. Все и узнаете.
Трофимов зевнул, потянулся так, что затрещали кости, пошуровал в печке угли, закрыл трубу и, извинившись, направился в другую комнату.
— Пора и на покой, глухая ночь на дворе, — сказал он, открывая дверь, хотя в окно все так же светило белесое малокровное солнце. Только светило теперь в окно с другой стороны комнаты. Через минуту из спальни донесся богатырский храп. А моряк задавал вопросы, поощряя Мечетного к разговору.
— Не надоел я вам? — спросил Мечетный.
— Нет-нет, что вы! Так вы и не знаете, какова собой-то была эта ваша Анюта? Как же это все так?
— Так я ее видел только на фронте, но, признаться, не обращал на нее внимания, вот и не запомнил.
— Увидите, может, и не узнаете?
— Все может быть, все может быть!
— Да, ситуация... Я бы и сам с вами поехал. Очень захотелось мне ее повидать, да нельзя отлучаться, лед уже поголубел, вот-вот тронется. Работы невпроворот.
— Давно вы здесь?
— Давненько. После войны. Воевал на Севере. С флота сюда и пришел. Здесь он теперь, мой дом.
— И на Большую землю, как здесь у вас говорят, не ездите?
— Нек кому ездить.
— Вы женаты?
— Да как вам сказать...
И, отвечая на откровенность откровенностью, сиплоголосый этот человек рассказал Мечетному свою историю. Демобилизовавшись, вернулся в Мурманск к жене, ютившейся в довоенной маленькой комнатке. Завербовался в Арктику подкопить на домашнюю обстановку, на покупку кооперативной квартиры. Поднакопил, квартиру купил и обставил. Казалось бы, что еще? Но вдруг заболел болезнью, считавшейся неизлечимой. Почти лишился голоса. Врачи только вздыхали, давали уклончивые ответы, предписывали строгий режим, покой. А тут весна. Начиналась полярная навигация, пора, когда истинных полярников неудержимо тянет в высокие широты. Не стерпел. Плюнул на предписание врачей и уехал вот в этот самый город. И как это ни странно, к удивлению медиков, то ли полярный пронзительный морозный воздух, то ли нелегкое существование не вылечили, конечно, а приостановили болезнь. Только голос вот не вернулся. И теперь который год здесь, работает, командует большими делами, сипит, конечно, как паршивый гудок на старом катере, но ведь ему не петь арии Ленского, а для общения с портовым народом сипение не помеха.
— Даже и помогает в разговорах с такими вот молодцами, как ваши сегодняшние спутники.
— А как же семья? Жена, дети тут, с вами?
— А семьи нет! — Моряк сидел, задумчиво постукивая ногтями пальцев по крышке стола. — Жена мне сказала: всю войну я была хорошей солдаткой, а в мирное время не желаю. Не выдержу... Я на нее не в обиде. Понимаю. Не каждая женщина такое выдержит. — Моряк встал, надел свою фуражку, темную форменную шинель. — Ну вот и я вам свое рассказал. Поздно. Вернее, рано. Три утра. Увидите свою Анюту, передайте ей привет от старого кадрового бобыля. Ложитесь-ка спать, я сейчас вам окно зашторю.
Три утра! А за окном все так же светло, за окном жил день, круглосуточный весенний день Арктики.
29
Шофер Ваня, как и условились, разбудил Мечетного в девять часов.
Разбудив, он бросил на диван целый ворох меховой одежды.
— Вам начальник прислал.
Мечетный надел черный топорщившийся бушлат, ушанку и просто-таки утонул в огромных мягких унтах. Проходя мимо зеркала, сам поразился своему преображению. Трофимов ушел или уехал куда-то по своим делам. На столе лежала записка-инструктаж, как запереть дверь и куда положить ключ. В конце записки было пожелание: чем позавтракать, где взять еду, ни пуха ни пера.
Выполнив инструкцию, Мечетный спустился к машине и оглянулся на дом, где ночевал. Обычный стандартный двухэтажный дом, такой же, как все на этой улице, как все в этом городке, возникшем на вечной мерзлоте. Из окна на нижнем этаже, слегка затянутого морозными узорами, на него смотрели черные глаза соседки Зои. Она махала ему рукой и что-то неслышно говорила, очевидно, желая доброго пути. Было светло и как-то неестественно тихо.
Как только машина миновала последние дома, шофер свернул с ледяной, едва намеченной дороги и погнал ее по белой снежной отполированной метелями целине. Далеко вокруг, как только мог окинуть взгляд, лежала снежная пустыня, и лед ее был отполирован метелями так, что слепило глаза. Снег казался желтоватым, а тень, отбрасываемая машиной, густо-синей. И хотя на небе не было ни тучки, ни облачка, сверху медленно, посверкивая и искрясь, опускалась колючая пыль.
Снег, снег и снег. И Мечетный дивился, как это Ваня находит дорогу. Но машина бежала уверенно, резво, и шофер, небрежно бросив руки на баранку, негромко тянул какую-то однообразную песенку на незнакомом пассажиру языке. И хотя у песенки этой был баюкающий мотив, а Мечетный ночью не сомкнул глаз — сказывалась пятичасовая разница во времени, — ему и сейчас было не до сна: ведь он у цели, через какой-нибудь час или два он увидит Анюту.
Снега, снега, снега. До самого горизонта, где они почти незаметно сливались с белесым небом. Пустыня. Снежная целина, и никаких следов жизни. Множество геологических партий бродит сейчас по стране от этих вот высоких широт до благословенных субтропиков, где растут пальмы, вызревают цитрусы. Что заставило Анюту уехать именно сюда? Север — для таких вот сильных, закаленных людей, как Трофимов. Как же занесло сюда маленькую женщину с тонким детским голоском? Какой поворот судьбы, какие обстоятельства?
И опять пришла мысль: а что, если она его забыла? Забыла начисто? Удивится. Пожмет плечами: кто такой, откуда, зачем? И в самом деле, стоит ли ехать? Не повернуть ли назад, пока не поздно? Вечером как раз самолет уходит в обратный рейс, и курортная путевка еще в кармане и диссертация ждет его.
Нет-нет, не помнить его она не может! Такие не забывают. Вспомнит-то она его, конечно, вспомнит. Но как? Возможно, тогда, в день своего побега, она вычеркнула его из памяти…
Так незаметно и промолчали они всю дорогу. И только когда машину затрясло на наезженной колее, Мечетный оторвался от своих мыслей, выглянул в окно. Они въезжали в какой-то поселок. Четырехугольные сборные домики из утепленной фанеры образовали как бы улицу. Было в уличном ряду даже что-то вроде площади, где дома эти как бы раздвинулись пошире, на противоположных концах этой площади стояли два двухэтажных бревенчатых здания, одно из которых было, несомненно, школой, ибо перед ней возилась и бегала детвора в меховых одеждах, а в другом — напротив, как явствовало из вывески, был рыбокоптильный завод. Вдоль улицы этой стояли столбы, и к каждому домику тянулись провода.
Но была у этой улицы и своя странность. За спиной каждого домика возвышалась круглая, обложенная звериными шкурами яранга, и над этими кожаными конусами стояли дымные пушистые, как лисьи хвосты, столбы. Пахло смолой, рыбой, и тишину сотрясал работающий движок.
— Вы из газеты? — спросил вдруг шофер Ваня, промолчавший всю дорогу.
— Почему из газеты?
— А к ней, к геологине этой, из газет ездят. Она орден получила.
— Так она здесь? — воскликнул Мечетный.
— Может, здесь, а может, не здесь. Геологи в тундре ходят. Палатки их далеко. Сюда только баниться ездят. Тут баня хорошая есть. А она, начальница их, она болеть сюда приехала.
— Как болеть? Чем болеть? — встревожился Мечетный.
— Не знаю. Жаркая была. Горячая была.
— А геологи где работают?
— Сегодня здесь работают, завтра там работают. Копают. Веселые люди. Песни поют.
Машина остановилась у плоского рубленого домика, у крыльца которого стояли две оленьи упряжки. Стеклянная вывеска сообщала, что это правление промысловой артели имени Первого мая. Машина остановилась.
— Все. Приехали. Капитан приказал доставить вас прямо к правлению.
Нетерпеливо выпрыгнув из машины, Мечетный, мягко ступая в унтах, взбежал на крыльцо. Правление было как правление: выгоревшие плакаты на стенах, покрашенная под золото доска и на ней фотографии, Доска почета. Было и зальце с трибункой на сцене и длинным столом, покрытым выгоревшим кумачом, и вереница портретов на стенах, и комнатка, на двери которой было написано «Председатель». Но напоминала эта комнатка скорее капитанский кубрик на каком-нибудь рыболовном баркасе: скатки сетей в углу. Барометр. Термометр за окном. На гвозде брезентовая непромокаемая роба и шляпа-зюйдвестка.
Из-за стола навстречу вошедшим поднялся немолодой уже человек, невысокий, но такой толстый, что, как казалось, заполнял половину своего кабинетика. Раскосые глаза у него были маленькие, занимали на его широком лице небольшое место, но это были цепкие, хитрые, умные глаза. И они охватывали, как казалось, не только внешность, но и заглядывали человеку в душу.
Втиснувшись вместе с Мечетным в крохотный этот кабинетик, шофер доложил:
— Вот человека привез. Из Москвы человек... ту самую геологиню Анну ищет человек.
— Раздевайтесь, грейтесь, — сказал председатель, хорошо говоривший по-русски. — Есть хотите?
— Анна Алексеевна Лихобаба здесь живет? — нетерпеливо перебил его Мечетный, чувствуя, что сейчас вот, в это мгновение, может быть, и решается его судьба.
— Вы тоже из газеты? — спросил председатель. Плоское его лицо оставалось совершенно неподвижным, не выражало никаких чувств, а вот косо поставленные глаза уже изучали поситителя, заметили и Звезду Героя и необычную взволнованность человека и очень всем этим заинтересовались.
— Лихобаба Анна Алексеевна сейчас здесь не живет. Не у нас сейчас Лихобаба Анна Алексеевна.
— Как не у вас? — почти выкрикнул Мечетный. — Где она? Что с ней?
— Улетела Лихобаба Анна Алексеевна.
— Как? Куда улетела?
— Не знаем, куда улетела. Садитесь. Ваанге, дай приезжему воды.
Шофер Ваня, которого тут звали Ваанге, принес стакан воды, и Мечетный, присев на стул, жадно ее выпил. От волнения он весь вспотел, и у него закружилась голова.
— Так куда же она улетела?
— Не знаем, куда улетела. Улетела, и все. За ней вертолет приходил. Тут садился. Ваанге, принеси еще воды. Вы ей кто: муж? Брат? Начальник?
— Не муж, не брат и не начальник... Так что произошло? Почему улетела? Ваня говорит, что геологическая партия здесь.
— Заболела Лихобаба Анна Алексеевна. Детей спасала. Простудилась. Ее к нам из тундры на оленях привезли. Лежала у нас. Болела. Кровью плевала. Наш фельдшер лечил. И старик Омя лечил. Не вылечили. Вертолет прислали. Увезли Лихобабу Анну Алексеевну.
— Куда?
— Может, в Москву, может, в Ленинград, может, в Мурманск.
Мечетный бессильно опустился в роскошное, похожее на раковину кресло, неведомо как, кем и для чего занесенное в этот далекий рыбачий поселок. Новости обрушивались на него одна за другой. Они словно били его по голове. Все, о чем думал и мечтал в часы неблизкого пути в Арктику, все лопнуло: заболела... плевала кровью... не вылечили... увезли...
— Но куда же, куда?
— Не знаем, куда, не оставила адреса. Может быть, у Тыгрев, матери Ваанге, есть адрес. — Председатель показал на Ваню, который стоял в дверях, теребя свои меховые перчатки. — Она болела у Тыгрев, Лихобаба Анна Алексеевна. Может быть, и сказала Тыгрев свой адрес. Ваанге, отвези приезжего к своей матери. Скажи, чтоб она помогла Герою Советского Союза.
— Идемте, — сказал Ваня. — Идемте к моей матери.
30
Ваня, или, как его называли в родном поселке, Ваанге, провел Мечетного по улице. Они обошли один из фанерных стандартных домиков, и он подвел его к стоящей позади домика яранге, куда вела протоптанная в снегу тропка. Откинул тяжелую полость, и оба они разом окунулись в жаркую, даже душную полутьму, тускло освещенную фитильком, плавающим в жидком жире. Посреди круглой этой яранги в очаге краснели угли, а над ними что-то кипело в подвешенном на проволоке котелке. Возле, на скрещенных ногах, сидела женщина с морщинистым лицом и что-то помешивала в котелке.
— Ваанге? — сказала она, поднимая глаза и даже не удивившись внезапному появлению сына с незнакомым человеком.
— Я, мать. Здравствуй. Прислал председатель. Вот у него к тебе дело.
— Кого ты привел, Ваанге?
— Владимир Мечетный, — немного церемонно рекомендовался гость, не зная, как ему держать себя в столь необычной обстановке.
— У этого человека к тебе дело, мать. Он Герой Советского Союза.
Женщина поднялась и подала Мечетному маленькую шершавую руку.
— Тыгрев приветствует Героя Советского Союза, — сказала она по-русски и перешла на родной, непонятный Мечетному язык, по-видимому, давая сыну какие-то распоряжения.
— Идемте, — сказал тот Мечетному. Взял его за руку, вывел из душной, пропахшей рыбьим жиром полутьмы на воздух и повел к тому из домиков, что стоял впереди яранги. Они остановились у крылечка. На крылечко, должно быть, давно никто не поднимался, и метель намела перед входом острый косой сугроб. Парень ногой откинул снег, открыл дверь. Она не была заперта, и, когда они вошли в домик, где было так же холодно, как и на улице, Мечетный удивился. В полутьме единственной комнаты, окна которой были затянуты слоем изморози, вырисовалась обстановка обычной малогабаритной квартиры со всеми полагающимися в ней предметами.
Пока Ваня возился с голландской печкой, растапливая ее и раскочегаривая угли, Мечетный, присев в кресло, осматривался. Диван у стены был застелен простыней, одеялом, и лежащая на нем подушка как бы еще хранила след — вмятину от чьей-то головы. Перед диваном стоял журнальный столик, а на нем лекарства в пузырьках, коробочках и термометр.
То ли печка была какой-то особенно хорошей, то ли Ваня был умелым кочегаром, но промерзшая комната начала быстро наполняться животворным теплом. Начала оттаивать на окнах изморозь, в помещении стало светлее. Мечетный снял свой бушлат, подошел к столику, рассмотрел лекарства — на сигнатурках рецептов значилось: Анне Лихобабе. Так, стало быть, она совсем недавно была здесь, лежала на этом диване. Значит, оттиск ее головы еще виделся на подушке. Мечетный приложил к подушке ладонь. Она была холодна, ладонь ощутила сырость. Он отдернул руку и сел в сторонке. Совсем, совсем недавно она была здесь! И вот не застал. Улетела. Снова исчезла, будто испарилась. Хотя с того часа, когда из радиопередачи он узнал об Анюте, прошло менее суток, хотя еще вчера он любовался на нежно-зеленый, омытый грозою березовый лесок в Москве, ему казалось теперь, что добирался он сюда много дней и что очень устал от этой безрезультатной погони. Неужели она снова исчезла в большом пестром мире огромной страны? Иголка в стоге сена. Маленькая неяркая звездочка в гигантской галактической россыпи. Почему? Ну почему ему так не везет?
Вошла Тыгрев. Ради гостя она успела переодеться. На ней уже была праздничная парка, расшитая по подолу, украшенная аппликациями из кожи, с вышитым шерстяными нитками цветным узором у воротника и на рукавах.
— Тыгрев приветствует Героя Советского Союза, — сказала она, упорно называя себя почему-то в третьем лице. — Тыгрев спрашивает тебя, как твое имя?
— Владимир.
— Хорошее имя Владимир... Что тебе надо, Владимир, от старой женщины?
— Председатель сказал, что у вас жила начальница партии геологов Анна Лихобаба.
— Да, у Тыгрев жила Анна Лихобаба. Вот в этом доме жила. Она здесь болела, Анна.
— Так где же она теперь?
— Тыгрев не знает, где теперь Анна. Ее унес вертолет. Ты из газеты, Владимир?
— Почему из газеты?
— Тут приезжали из газеты. Записывали, карточку ее забрали. Она наших детей спасла, Анна, ты это знаешь?
— Знаю.
— Тыгрев спрашивает, зачем ты прилетел из Москвы? Ты муж Анны?
— Нет, я ей друг. Друг по войне. Мы вместе с ней воевали.
— Друг — это хорошо, друг. У ней много друзей. У хорошего человека всегда много друзей.
— Ну, а где она сейчас? Она не оставила вам адрес?
— Анна не оставила адрес. Анна не знала адрес. Анна сказала: пришлет адрес. Но Тыгрев не получила письма. А ты из Москвы летел к Анне?
— Да, летел к ней.
— Нехорошо. Столько летел, а Анны нет. Адреса нет. Тыгрев не знает адрес.
Домик быстро нагревался. Потрескивали стены, потрескивал пол, с окон текло, и большая лужа расплывалась под ногами. Старая женщина принесла из прихожей тряпку и принялась вытирать пол. Вернулась, села на стул перед Мечетным и застыла в неподвижной, будто каменной, позе.
— А геологи, те, что с ней работали, где они?.. Как к ним проехать?
— Тыгрев не знает. Ушли. Уехали. Они заезжали к Анне. Хорошие люди, веселые люди. Ее друзья. Нет-нет, Тыгрев не знает, где сейчас геологи.
— А она что-нибудь вам о себе рассказывала?.. Не говорила, где живет, как у вас тут выражаются, на Большой земле?
— Не рассказывала об этом Анна.
— А не знаете, как она сейчас: замужем или нет?
Старая женщина повернула к Мечетному неподвижное свое лицо, и ему показалось, что в первый раз за их беседу, при этом вопросе он уловил на этом лице удивление. Почувствовал, что краснеет под этим вопрошающим взглядом, и отвернулся к окну, за которым в это мгновение проносилась оленья упряжка. Четверо маленьких человечков в мехах сидели боком на длинных саночках. Будто все поняв, старая женщина улыбнулась одними своими черными узкими глазами.
— Она не замужем, Владимир... Нет мужа у Анны.
Друзья есть, геологи друзья. Мужа нет. Детей нет. Она говорила Тыгрев.
— А какая она из себя, Анна? — спросил Мечетный, сознавая всю странность и даже нелепость этого вопроса.
Старая женщина и ее сын, сидевший на корточках у печки и шуровавший угли маленькой кочережкой, обменялись недоуменными взглядами. Ответа на свой вопрос Мечетный не получил. И тут снова, в который уже раз за эти дни, стал рассказывать незнакомой старой женщине свою невеселую историю.
Мать и сын сидели неподвижно. Каждый на своем месте. Слушали молча. И лица их не выражали ни интереса, ни сочувствия. Даже нельзя было установить, слушают ли они его, понимают ли его речь. Но оказалось, слушали и понимали. И когда он закончил рассказ свой словами: «Вот почему я не знаю ее лица», — старая женщина сказала:
— Ваанге, поди в ярангу, на ридоприемнике, не на том, что говорит, и на том, что молчит, на большом, возьми карточку. Принеси сюда. И посмотри, готово ли мясо.
Когда сын ушел, женщина сказала:
— Она красивая, Анна. Она хорошая, Анна. — А когда малое время спустя сын принес фотографию, добавила: — Вот она тут, Анна Лихобаба.
В обтянутую мехом рамку, инкрустированную узором из рыбьей чешуи, была вставлена фотография. На фоне знакомого уже Мечетному поселка рядком сидели дюжие люди с заросшими лицами, с бородами и усами самых разнообразных фасонов. А в центре группы — маленькая немолодая уже женщина в унтах, в расшитой узорами, украшенной кусочками кожи парке. Сидела, зябко засунув руки в рукава, но с непокрытой головой. Сидела и улыбалась ласково и, как показалось Мечетному, насмешливо.
Мечетный впился глазами в ее лицо. Тыгрев только что назвала эту женщину красивой. Нет, оно красивым не было, это ее лицо. При случайной встрече на улице оно не бросилось бы в глаза. К тому же на фотографии оно было усталое и худое. Единственно, что было на нем примечательно, это веснушки, осыпавшие переносицу, тупой небольшой нос, и высокий просторный лоб, который не могла спрятать шапка коротко остриженных вьющихся волос.
Да, оно не было красиво, не было броско, и в то же время в нем было что-то неуловимо притягательное, не поддающееся рассудочному анатомированию, но что делало это лицо милым, привлекательным.
Мечетный смотрел на фотографию, не мог оторвать глаз. Ему не мешали. Тыгрев развернула топорщившуюся по углам скатерть, с которой не снята была еще магазинная этикетка, бросила на стол, расправила. Достала из шкафа вспотевшие в тепле тарелки, поставила два прибора.
— Тебе, Владимир, и тебе, Ваанге, обед.
Хотя с утра Мечетный ничего не ел, да и дорога была неблизкой, есть ему не хотелось. Побыть бы одному, обдумать все, что он узнал, решить, что делать дальше.
Он извинился, надел бушлат, шапку и, мягко ступая в непривычной обуви, пошел к двери. Перед этим еще раз внимательно посмотрел на фотографию.
— Извините, я скоро вернусь.
Ни мать, ни сын не удивились тому, что человек вот так уходит от обеда. В клубах пара Мечетный вышел из дома, прошел по пустынной улице, вышел на берег, где на кольях сушились растянутые на многие метры огромные сети. Сел на перевернутый старый баркас и, рассеянно смотря на открывшиеся перед ним покрытые торошенным льдом просторы, стал приводить в порядок свои мысли.
Ну вот, теперь он знает, какая она, Анюта. Летя сюда, старался нарисовать ее в своем воображении и как бы примерял ей разные облики, как это делают криминалисты, воспроизводящие словесные портреты. И хотя по смутным фронтовым воспоминаниям он знал, что это не так, она вопреки всему представлялась ему красивой. И вот он увидел это лицо, отнюдь не блещущее красотой, лицо уже немолодой, умной, работящей женщины, которую по совершенно непонятной причине хорошо знавшая ее Тыгрев называла красавицей. А ведь она повидала людей, эта старая Тыгрев с острыми черными глазами. Разочаровался ли он, Мечетный, увидев это лицо? Да нет же, конечно же нет, наоборот, в нем окрепло желание обязательно найти вот эту самую немолодую, усталую женщину. Пусть это будет стоить любых хлопот, пусть на это уйдет весь отпуск, пусть окончание диссертации снова оттянется на неопределенное время, пусть; но он обязательно, он непременно ее найдет.
Круглосуточный весенний день стоял над Арктикой. Не забираясь особенно высоко, солнце как бы ходило по кругу. Сверкали снега, синели взъерошенные весенними передвижками льды. С бледного неба летела, посверкивая, острая снежная пыль и, хотя лицо смутно чувствовало прикосновение солнечных лучей, было холодно и тихо. Так тихо, что казалось — все звуки замерзали на лету. И все же крохотная птичка, похожая на воробья, с белой грудкой, прилетев откуда-то, присела у самого берега на лед и стала пить воду из проталинки.
Весна. Это была уже третья весна, которую довелось наблюдать Владимиру Мечетному за три беспокойных, столько вместивших в себя дня: крупитчатый, жухлый снег, замусоренный корой и хвоей, лежал еще местами в его родной уральской тайге, когда такси везло Мечетного на аэродром. Омытая буйной весенней грозой березовая роща приветствовала его на московском аэродроме. А тут, среди этих отполированных метелями снегов и всторошенных льдов, весна заявляла о себе пока что лишь маленьким белогрудым полярным воробьем. Он, этот воробей, сидел у воды и при каждом глотке приподнимал свою крохотную головку. Три весны... Огромная страна. Четверть миллиарда граждан. И в этой стране, в этой массе людей предстояло найти ту единственную, которая была желанна и необходима Мечетному.
И он найдет ее. Будет искать и обязательно найдет! Непременно найдет! Так он решил, сидя на опрокинутом баркасе на берегу хмурого океана, вдыхая аромат снега, воды и смолы.
Где ты, Анюта?
_________________
Распознавание текста — sheba.spb.ru
|