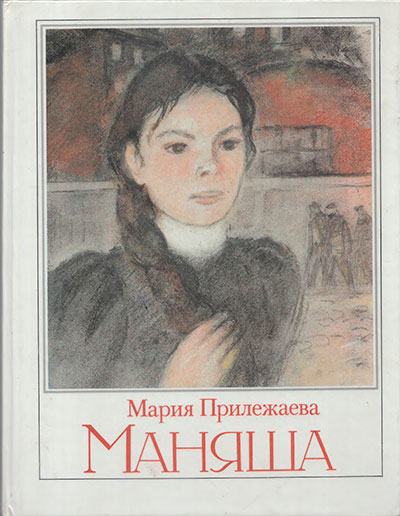Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
ОГЛАВЛЕНИЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Утреннее солнышко светит вовсю 5
ГЛАВА ВТОРАЯ
Беда 7
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Учитель учителей 11
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Ещё ужасней беда 15
ГЛАВА МЯТАЯ
Ненавижу Ивана Кузьмича! 17
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Самарские годы 20
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Удивительный брат 23
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Помним об отце 27
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Лад, любовь на Алакаевском хуторе 30
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Лети, птенец! 34
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Расстанная улица 38
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Кем быть? 44
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Хочется чего-то большого 46
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Не судьба ли к тебе постучалась? 54
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Будет трудно? Осилю 56
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
«Союз борьбы» зовёт в поход 60
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Ждём, ждём писем из Петербурга 64
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Холодом обливается сердце 67
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Ни единого лишнего слова! 69
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Встреча с товарищем Павлом 73
ГЛАВА ПЕРВАЯ
УТРЕННЕЕ СОЛНЫШКО СВЕТИТ ВОВСЮ
Маняша просыпается, когда пол исчертили золотые дорожки, тёплые солнечные пятна расплескались по стене. В доме тихо. Не хлопнет дверь. Не скрипнет половица.
Маняша любит утро. Еорячее солнышко светит вовсю. Можно и в зайчики поиграть.
Дождик Маняша тоже любит: стёкла окошек заливают поспешные струи, слышно, как шлёпает — хлюп-хлюп — по крыше вода.
Недолго понежившись в постели, Маняша зовёт:
— Мамочка, ау!
— Ау! — И входит мама. Нежное лицо, алые губы манят целовать, и прехорошенький тонкий нос, не то, что широкий Маняшин.
В маминой маленькой комнате у кровати на комоде свеча в высоком бронзовом подсвечнике, две-гри книги, плетённая из соломки рукодельная корзиночка для ножниц, пуговиц и разных необходимых мелочей и небольшое овальное зеркало. Маняша внимательно разглядывает свою физиономию в мамино зеркало.
— Мамочка, я дурна?
— Нисколько, — серьёзно отвечает мама. — А если бы и да, суть не в том. Суть в том, добра ли, умна ли.
— Ладно, постараюсь. А всё-таки хочется быть покрасивее. Хорошо быть красивой. Все любуются.
— А умных уважают и любят. Но ты и не дурнушка. Ты миленькая.
Мама всегда успокоит.
В доме тихо. Папа кочует по сельским школам, помогает учителям лучше учить ребят; старшие дети — Саша-студент, Аня-курсистка — в Петербурге, Володя, Оля, Митя на уроках в гимназии. Маняша не доросла до гимназии, утром она одна с мамой. Дел много. Сначала занятия. Мама учит Маняшу писать. Читать она сама научилась, никто не заметил, когда и как. Теперь учится красивым почерком выводить буквы и целые слова. Затем разговор с мамой, сегодня по-французски, завтра по-немецки. Мама рассказывает о своём детстве. Ей тоже когда-то было шесть лет. Однажды она растила двух сироток-воробышков.
— Наверно, сестрёнка и братишка, — вставляет Маняша.
— Выкормила крошек. Звали их Чики-Чик. Представь, Маняша, откликались! Позовёшь: «Чики-Чик», — они тут как тут, два сереньких комочка.
День за днём, слушая мамины рассказы, Маняша постепенно научается немного понимать французскую и немецкую речь. Кроме того, мама учит Маняшу вязать. Маняша связала пёстрый, как цветочная клумба, шерстяной шарф, такой уютный, что даже хочется, скорее бы наступила зима.
Затем они спускаются в сад. Сад, в общем-то, невелик, но чудес в нём — нет краю. Каждое утро Маняшу встречает на дорожке трясогузка. Изящная, серебристо-белая в пёстрых крапинках птичка-невеличка, крылышки прижаты к бочкам, а длинный хвостик покачивается вверх-вниз. Прыг-скок, нрыг-скок, вперёд-назад но дорожке бежит трясогузка.
— Мамочка, она радуется, она нас любит, как раньше тебя Чики-Чик. Должно быть, её гнёздышко близко.
Мама пропалывает и поливает цветы, на ней передник с оборочками, кармашками.
— Вот бы мне такой фартучек! Мамочка, научи меня шить. Я сошью себе и всем — Оле, Володе, Мите.
— Мальчики не носят фартуки.
— А как же дворники?
Мама смеётся. А Маняша отправляется путешествовать в джунгли. Тенистая, узенькая темноватая аллея акаций скрывает в зарослях, может быть, тигра. Маняша вооружена. В руках у неё палка, в то же время это рхжьё. Маняша крадётся, приглядывается, выжидает. Трясогузка беспечно прыгает по солнечной песчаной дорожке, а Маняша храбро исследует джунгли. Тигра ни разу не удаётся встретить.
Наступает час, и шум, голоса, смех врываются в дом и сад. Вернулись из гимназии Володя, Оля, — Митя.
— Дети, мыть руки, — зовёт мама, снимая передник.
Скоро все за столом. И папа, если закончил на этот день к обеду дела в школах. За обедом не полагается слишком громко болтать и шалить. Разговоры, шалости, возня, игры после.
Маняшу, самую маленькую, любят, ласкают все. И она любит всех. Володя играет с ней в разные игры, даже в куклы или в налочку-выручалочку. Володя зовёт Маняшу Пичужкой.
— И где же у меня крылышки?
И Володя рассказывает сказку о девочке, которая летала без крылышек. Или придумает что-то другое.
Потом гимназисты расходятся готовить уроки на завтрашний день. Маняша опять одна с мамой.
И уже на землю опускается вечер. Огненно иылает закат, провожая солнце на ночлег. В саду, в черёмухах, слышен первый, ещё робкий соловьиный голос. Соловей пробует силы, чтобы позднее на весь сад раскатиться трелями, щёлканьем. свистом
Мама укладывает Маняшу в постель.
— А музыка, мама?
Вечерами мама играет. Старшие дети, если управились с уроками, заданными на завтра, собираются в гостиной, где половин} комнаты занимает чёрный рояль, одним уже видом своим настраивая на торжественный лад. Щемяще родные, печальные и счастливые звуки прилетают к детской кроватке. Чудятся Маняше сказки. Вот гномики Андерсена, неслышно проникнув сквозь шёлку в двери, усаживаются в кружок и качают под музыку головками в цветных колпачках, дружески подмигивая Маняше. Или вот она в берёзовой роще Стройные берёзки танцуют, ветви сплетаются, веет резвый ветерок, шепчутся листья.
Но круглая, жёлтая до блеска луна важно всходит на ночное дежурство, и её медный лик глядит с неба на Маняшино окошко с укором: «Ай, девочка, спать нора, пора спать, баю-бай».
Маняша засыпает.
аждый день — радости. Каждый день — новости. Радость: почтальон принёс журнал «Светлячок», папа выписал его специально для Маняши. Когда случится читать и разглядывать картинки в журнале на глазах папы, он непременно пошутит:
— Умники-разумники, читаем, пальчиком по строчкам не спеша ведя.
— Вовсе и без пальчика, — притворно надует губы Маняша.
Новость: вчера Володя с Олей расчистили в саду снег, залили водой, ночью подморозило — тото будет веселья скользить на коньках по ледяному катку!
А солнце стало дольше г}лять в чистом небе, будто недалеко и весна. Но старая няня Варвара Григорьевна, жившая смолоду в семье Ульяновых, зябко кутаясь в пуховый платок, не верит обманчивому зимнему солнцу: «Солнышко на лето, зима на мороз».
Пусть мороз, пусть не спешит весна, славно живётся Маняше
Гром грянул вдруг, на семью обрушились беды.
Вечером в рождественские каникулы 1886 года все занимались своими делами. Маняша писала упражнение на грамматические правила. Скоро и гимназия. Маняша очень старалась хорошо написать упражнение, даже кончик языка от усердия высунула. Точка, закончила. Понесла показать работу Володе. Он на миг оторвался от киши, бегло глянул на исписанную страничку, хмыкнул: «Эгм-гм», что означало одобрение, и вернулся к книге.
ГЛАВА ВТОРАЯ
БЕДА
Маняша на цыпочках вошла в кабинет отца, подсунула под локоть ему тетрадь в косую линейку. Папа придвинул тетрадь, опустил на голову Маняши тёплую широкую ладонь и прочитал её упражнение от первой до последней строки.
— Надеюсь, ты будешь учиться не хуже старших.
— Надеюсь, — обещала Маняша.
Потом вечерний чай. Как обычно, все собрались за длинным столом, мама во главе, у самовара. Уютно в столовой, празднично от цветов, фикусы и олеандры зеленеют, будто и не зима. Папы нет за чаем. Папа занят, пишет отчёт о работе учителей сельских школ Симбирской губернии.
Среди чая заглянул в столовую. Не присел, как-то странно молча постоял в дверях и через мгновение удалился. Дети подумали: папе некогда, папа занят. А мама что-то угадала. Вскочила, быстрыми шажками последовала за отцом.
— Дети! — послышался из кабинета отца её отчаянный крик.
Папа лежал на диване, с чужим незрячим взглядом стекленеющих глаз.
Маняша не знала, что такое смерть. Кто-то умирает, но мама, папа, мы?.. Разве может папа умереть? Сейчас очнётся, кончится непонятное.
Но оно не кончалось. Когда её подвели к гробу поцеловать руку отца, она не закричала, не заплакала. Ей стало только ещё страшнее — такой ледяной была отцовская рука. Совсем недавно она была тёплой, лаская Маняшу за то, что хорошо сделала грамматическое упражнение.
Три дня не закрывались входные двери дома Ульяновых на Московской улице. Люди шли, шли проститься с Ильёй Николаевичем, директором народных школ Симбирской губернии. Три дня вдова Мария Александровна стояла без звука у изголовья гроба. Вдова! Маняша впервые услышала это пугающее слово, произнесённое шёпотом. Сердечко больно затрепыхалось. Она жалась в углу передней. Мимо вереницей медленно шли поклониться гробу знакомые и незнакомые симбирцы и пригородные учителя, школьники.
— Встречаются благородные люди, а другого Ильи Николаевича нет и не будет, — услыхала Маняша.
Молодой человек, с взлохмаченной головой, в потёртом пальтишке, в очках, исполнив долг прощания, задержался в передней, говорил нервно срывающимся голосом:
— Что он создал? «Ульяновское племя учителей» вырастил наш Илья Николаевич. Его время стало «ульяновским временем» для школ и учителей. Так и запомним. Братцы учителя-ульяновцы, так и будем, обещаем не клонить головы перед чинушами
Кто-то тронул юношу за локоть, остерегая:
— Тсс! Об этом в тесном кружке.
— Маняша, ступай в детскую, займись чем-нибудь, — велела сестра Оля. Оля старалась держаться, но веки набухли от слёз.
— Пускай слушает, как народ отца почитает, — строго остановила няня Варвара Григорьевна. — Заслуженно Илью Николаевича славят.
А Маняша помнит: одним воскресным утром она привычно направилась исследовать аллею акаций в их симбирском саду. На этот раз без ружья, охота предстояла не на тигра. Вчера мама прочитала вслух младшим детям страницу из Брема. Маняшу увлекла крохотная резвая птичка колибри, о которой рассказал Брем. Могла бы прилететь к ним колибри из далёких южных стран? Они с мамой проследили по карте её возможный путь, добрались до Средиземного моря, а там рукой подать до нашего Чёрного. Таким образом, мама интересно преподала Маняше географический урок.
На следующее утро Маняша проснулась уверенная, что колибри уже прилетела в их симбирский сад и прячется или, напротив, поджидает её в аллейке акаций. Ветви акаций так плотно сплелись, что не сразу разглядишь в чащобе малютку. Зато Маняша увидела папу и брата Сашу. Они расхаживали в саду по песчаной дорожке, где любила бегать Маняшина трясогузка. 11апа и Саша о чём-то очень всерьёз рассуждали. Говорил папа. Саша слушал с таким вниманием, что его высокий бледный лоб пересекала морщина. Приблизясь к аллейке, они остановились случайно или. увлечённые беседой, не заметили, что остановились. Держа одной рукой Сашу за пуговицу рубашки, страстно жестикулируя другой, папа читал:
— «Жизни вольным впечатлениям Душу вольную отдай,
Человеческим стремлениям В ней проснуться не мешай.
С ними ты рождён природою —
Возлелей их, сохрани!
Братством, Равенством, Свободою Называются они».
Некрасов, — закончил отец.
— Программа жизни. — ответил Саша.
Папа пристально на него посмотрел. Они пошагали дальше.
«Душу вольную отдай», — врезалось в память Манящи.
Остальное она поймёт и почувствует позднее. «Душу вольную» Она не стала искать колибри. «Пусть живёт вольно. Буду посыпать ей зёрнышки, а напиться — в саду кадка с водой».
Эго было при пане. Папы нет. Всё изменилось в доме. Не слышно вечерами пленительных звуков Шопена, героических мотивов Бетховена. Рояль умолк. Тишина.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
О УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ
сенью 1869 года Илья Николаевич Ульянов получил назначение инспектором народных училищ Симбирской губернии и приехал с семьёй на жительство в город Симбирск. Тогдашний Симбирск — захолустный городишко. Тротуары из досок, там и тут прогнивших. Мостовые, точнее, проезжие дороги осенними ненастьями тонут в грязи. Улочки кривы и узки. Неказисты домишки. Хороша только Волга — широка, привольна. Вся жизнь Ильи Николаевича протекла на Волге: Астрахань, Казань, Нижний Новгород, теперь и до конца дней Симбирск на высоком волжском берегу. «Волга, Волга! Весной многоводной ты не так заливаешь ноля, как великою скорбью народной переполнилась наша земля »
Илья Николаевич отказался от преподавания физики, которую превосходно знал. Ушёл из гимназий и институтов. Отказался потому, что чужды были ему гимназические порядки и правила. В гимназии принимались в первую очередь дворянские и вообще богатых родителей дети. Крестьянские дети и вся деревня сплошь были неграмотны. Илья Николаевич мечтал нести свет знаний народу, вырывать народ из темноты. Широко просвещённый, он едва ли не наизусть знал педагогические произведения Льва Толстого, восхищался толстовской школой для деревенской ребятни в Ясной Поляне. Сам хотел создавать новые народные школы. В новых школах не будет зубрёжки, там научат ребят думать, ценить книгу, просветится их разум. Из этих школ, которые Илья Николаевич хотел создавать. напрочь будет изгнана розга, а ведь в те времена порка считалась первым методом воспитания. За малейшую провинность пороли солдат, арестантов, пороли школьников. О, как ненавистны Илье Николаевичу рабские порядки!
Первое время он был единственным инспектором народных школ на всю Симбирскую губернию. Сельские учителя с опаской ожидали приезда инспектора в школу. Кто он? Каков он? Что потребует от учителя? Нагонит, как все чиновники, страху, распушит ни за что ни про что. а помочь?.. Чем поможет и захочет ли помогать?
Илью Николаевича волновал, даже пугал его первый выезд в сельскую школу.
Пала зима, навалило снегу на ноля, замостило льдом речушки, сковало Волгу. Укутанный в тулуп поверх форменной шинели, Илья Николаевич трясётся в возке но ухабам переметённых позёмкой дорог. Вёрсты, вёрсты
— И-их, барин, маетна твоя служба, — сочувствует ямщик.
Выехали до света, к обеду добрались в нужное еело. В два порядка вытянулись вдоль улицы избы под соломенными кровлями.
— Еде школа?
— Эвон! — указывает мальчонка лет пяти-шести, запряжённый вместо санок в деревянный конёк, воображая себя лихим возницей.
«Мужичок с ноготок», — улыбается Илья Николаевич.
Где же школа? Вблизи церкви притулилась кособокая избушка, сугробы привалились под самые оконца, замороженные до слепоты. N зенькая тропка ведёт к крыльцу. Вот вам школа. Холодно, хотя треть избы занимает печь. К шестку, как водится, прислонился ухват. У порога ведро с водой, за дужку подвешен ковшик — напиться ученикам. Ученики, десять мальчиков, в красном углу, под иконой, за дощатым столом склонили головы над букварями. Молоденький учитель, в шубейке от холода, как и ученики, растерянным взглядом встретил инспектора:
— Здравия желаю, господин инспектор! Ребята, ста-ать!
Ребята вскочили:
— Здрасс-те-с!
— Продолжайте. Пожалуйста, продолжайте урок. Вы долго их учите, время уже обеденное, — обратился Илья Николаевич к учителю.
— К обеду только и собрались. Силком в класс загоняешь. Осенью всего десяток из цельного села учиться набрал, — винился учитель. — Ну, чего рты затворили? Читайте.
Ученики вслух затянули вразнобой:
— Мыа-шыа, Маша, мыы-лыа, мыла, рыа-мыу, раму.
— Что получилось? — строго спросил учитель.
Ученики молчали.
— Долбишь, долбишь им, ни на грош не смыслят, — пожаловался учитель.
«Плохи дела, совеем плохи», — подумал инспектор.
— Позвольте, я потолкую с ними немного.
Илья Николаевич снял шинель — тулуп оставлен в возке, — присел к ребятам на кончик скамьи.
— Стало быть, Маша мыла раму. Какая она, сколько ей лет?
— Почём мы знаем, — буркнул кто-то.
— Лет десять, я думаю, — как бы советуясь, промолвил Илья Николаевич. И начал рассказ: — Хороша Маша, уроки выучила и давай помогать матери избу к весне прибирать. А жаворонки заливаются в небе. Мычит корова в хлеву.
— Почуяла, выгон скоро, — сказал, радуясь, один ученик.
— Заскучала по травке, — подхватил другой.
«А ведь они живые, разбудить только надо», — подумал Илья Николаевич.
До поздней ночи проговорил он после уроков с учителем.
— Охота душевно работать, а как? — открывался учитель. — Никто не подскажет. От попа подмоги не жди, сам за всю зиму одну молитву в башки ребятам вдолбит, и спасибо. Худо учительское житьишко: восемь целковых в месяц, и те не в срок, на новые сапоги в полгода не скопишь.
Учитель жаловался, но Илья Николаевич видел, как нужна и дорога ему встреча с господином инспектором. «Господином» Илья Николаевич запретил себя называть.
— Не зубрить их заставляйте — важно, чтобы голова работала. Талдычат: дважды — два. А что означает, не смыслят. Вы возьмите палочки, ребятишки
ворох настрогают, только вели. На палочках и вычитание и умножение враз усвоят.
— Батюшки, ведь и верно, наглядного легче понять, а запомнится крепко, — удивился учитель мудрому и такому вроде простому совету Ильи Николаевича.
Ночевали в школе-избе: инспектор на скамье, учитель на печке. Ребята притащили поленьев, затопили печь. На скамью постелили дерюгу, в изголовье взбили подушку, наволочка ситцевая в розовых цветочках. Ребята изо всех сил старались угодить Илье Николаевичу, звали к себе ночевать, у кого побогаче изба, но он остался здесь, благо печь протопили, потеплело.
А утром учитель пошёл сзывать крестьян на сход, Илья Николаевич сам повёл уроки. Ребята не слыхивали таких уроков. «Занятно, однако, учиться. Каждый бы день так учили!»
На сход собрались мужики, бабы не посмели. Бородатые, темнолицые от несошедшего летнего загара, неулыбчивые, больше пожилые, видно, и не отцы, а деды. Сидели, опираясь на толстые сучковатые палки. Речь держал староста, что, мол, учение крестьянским ребятам ни к чему, от хозяйства отрывает, а толку? Землю пахать испокон веку без книжек умеем. Мы не баре, наука не про нас, мы податное сословие, знай, подать плати
— Я тоже из податного сословия, — сказал Илья Николаевич. — Крестьяне и мещане обложены податью, мой отец мещанин, детство моё небарское было. В детстве и юности и холодать и голодать приходилось, а своего добился, выучился.
Мужики слушали.
И про Ломоносова рассказал Илья Николаевич. Слушали мужики урок инспектора, как утром ребята.
Лёд тронулся. Мужицкое недоверие к учению поколебалось. Илья Николаевич кое-чего добился. Обязались мужики завезти на зиму дров в школу, обещали помочь учителю провести дополнительный набор учеников.
«А там и о специальном школьном помещении задумаемся, чтобы парты были, классная доска, географическая карта», — мечталось Илье Николаевичу. Уезжая, он оставлял какую-то, пусть невеликую на первый раз, поддержку своим планам. И особенно радостно, что оставлял как бы вновь родившегося учителя, воодушевлённого встречей с инспектором.
После схода инспектор отправился в соседнюю школу за тридцать вёрст. Там нашёл то же, что в первой. Возвращаясь домой, завернул в третью, и лишь в конце месяца дождались Илью Николаевича дома. Усталый вернулся, промёрзший, но довольный, обнадёженный: небольших, а добился успехов. И будет добиваться дальше.
Гак из месяца в месяц, из года в год.
Морозы, метели, ненастья — ничто не могло удержать Илью Николаевича от разъездов по школам. Были в губернии и неплохие школы, и учителя встречались, преданные делу, пытливо жаждущие новых знаний. — все благодарно внимали советам инспектора, его педагогическому опыту. А сколько новых школ
добился он открыть не только для русских — для чувашских, татарских детей! Вся губерния знала инспектора, а потом уже и директора народных училищ Илью Николаевича Ульянова. Он делал то, что до него никем не делалось.
Не бывало до Ильи Николаевича учительских курсов в Симбирской губернии. Инспектор Ульянов организовал такие курсы — детище Ильи Николаевича, его надежда и гордость. Едва выпадет свободный от объездов и обследований школ по губернии час, Илья Николаевич бежит на свои педагогические курсы. Он желает видеть в учителях, своих питомцах, не ремесленников, а художников, творцов. Такая была у него большая задача. Так исполнял большое дело своё.
Маняша помнит любимые папой стихи Некрасова:«Когда придёшь ты времечко, приди, приди, желанное, когда народ не Блюхера и не Милорда глупого, Белинского и Гоголя с базара понесёт»
Пришло то «желанное времечко». Школы, библиотеки, институты, музеи, театры в Советской стране — всё для народа. Начальные шаги к этому делали передовые люди прошлых лет. Среди них выдающийся педагог-просветитель Илья Николаевич Ульянов, отец Ленина.
ГААВА ЧЕТВЁРТАЯ
МЕЩЁ УЖАСНЕЙ БЕДА
иновало чуть больше года, ещё ужаснее свалилась на осиротевшую семью беда. Сашу казнили в Петербурге.
Гнетуще умолк дом. Маняша притихла. Ступала бесшумно, как мышка. Говорила шёпотом. Никто её не утешал. Ни Оля, ни даже Володя. Только обнимет:
— Пичужка-
Мама уезжала в Петербург повидать в последний раз Сашу, проститься. Вернулась. Та и не та. Стройна, не горбится, ни слезинки. Только очень уж худенькая, и белые, совсем белые волосы, и грустные, очень грустные глаза.
Маняшу обхватила, прижала:
— Наша самая маленькая.
— Я вырасту, мамочка. Я выучила Для тебя французское стихотворение и ещё много грамматических правил.
Ей было девять лет. Вечерами она долго не умела уснуть. Ей не снились больше берёзовые сны. Она думала о Саше.
Потекли одинокие тоскливые дни. «Почему к нам никто не приходит? Все точно разлюбили нас, почему?» Маняша не решалась спросить. Что-то понимала и не понимала. Иван Яковлевич, чуваш, учитель и инспектор чувашских училищ, давний папин друг, приходил. Папа называл его талантливым
^ '
просветителем и защитником своего маленького народа. Внимательный к людям, душевный, он неторопливо входил в дом. Они подолгу беседовали с мамой наедине. Приходы Ивана Яковлевича оживляли маму, поддерживали. Маняше Иван Яковлевич сказал:
— Твой отец был замечательный педагог и благороднейший человек.
— А Саша?
— Саша талантлив, смел и прекрасен! — пылко воскликнул Иван Яковлевич.
— Почему же?..
— До свидания, детка! — поцеловал он её в лоб.
Она не решилась договорить вопрос. Позднее спросила Володю:
— Саша был прекрасен, почему они казнили его?
— Он ненавидел царя.
— Почему?
— Видишь ли — Володя привлёк её, обнял за плечи, посадил рядом на стул. — Видишь ли. пичужка
Порылся в бумагах на столе, нашёл «Самарскую газету».
— Здесь сообщают о пожаре на одном самарском заводе. Прочитай.
« Во время этого пожара сгорел рабочий — мальчик Сумароков, находившийся в комнате, в которой происходит клеймение пробок Сумароков мог бы спастись, если бы не был заперт на замок в той комнате, в которой работал. Запирание рабочих на замок практиковалось на заводе уже два года».
Маняша закрыла ладонями лицо. Узенькие плечики вздрагивали.
Володя переждал и отвёл от лица её руки.
— Не плачь. Мама не плачет. Поняла, почему Саша ненавидел царя, царских чиновников, жандармов?
— Володя, ты ненавидишь царя, как Саша?
— Да. Но мы по-другому будем бороться с царём.
Маняша помнит Володины слова после Сашиной казни.
— Мы пойдём другим путём, — сказал маме Володя. Строго, сурово сказал.
«Другой путь? Что это?»
пятидесяти верстах от губернского приволжского города Самары ютится деревенька Алакаевка. Избы крыты соломой, иные к весне остаются голыми — солому скормят корове. Стени вокруг. Земли тощие, нехлебородные. Налетит ураганный ветер, вздыбит тучу пыли, повянут в полях едва взошедшие колоски. Голод — частый гость Поволжья.
ГЛАВА ПЯТАЯ
НЕНАВИЖУ ИВАНА КУЗЬМИЧА!
Невдалеке от деревни небольшой хутор, зовётся тоже Алакаевкой. Ветхий от прожитых лет, деревянный дом в один этаж окружён старым, запущенным садом. Сад круто обрывается над быстротечным ручьём. Вершины столетних лип в аллее сходятся куполом над головой, пряча небо. В берёзовой аллее чуть не у каждого дерева гриб, а то и семейство подберёзовиков. А в лесу, вблизи хутора, грибов такая тьма-тьмущая, Маняша насилу дотащит полную корзину до дома.
После Сашиной казни из Симбирска уехали. Жаль ушедшее счастливое детство, жаль родной симбирский дом, но тяжело стало там жить. На полученные за проданный дом деньги купили Алакаевский хутор.
Маняша полюбила Алакаевский хутор, тенистый сад, зелёные озёрца весёлых лужаек между престарелыми деревьями, гремящий птичьими хорами осенний лес, с зарослями малинника, стаями грибов.
Все полюбили Алакаевку. В саду у каждого свой уголок. Горделиво высится Олин клён, в его широколистой тени она с утра до вечера клонит умненькую головку над книгой. Анюту ищите в берёзовой аллее. Володя в глубине сада, в уединённом местечке, сколотил из досок стол, скамейку и трапецию для разминки посреди занятий. Маняша каждого проведает за день, а Володю и не раз. К нему она заявляется с французской или немецкой книгой.
— Володя, послушай мой перевод.
В один из Маняшиных набегов на его пристанище он протянул ей журнал «Отечественные записки» номер 4 за 1876 год.
— Слышала о писателе Глебе Успенском?
— Что-то не очень, — замялась Маняша.
— Знакомься.
Она полистала журнал.
— Это для взрослых.
— Тебе тринадцатый год, Маняша. Можешь считать себя почти взрослой Прочитай. Мальчик Сумароков, сгоревший во время пожара под замком на работе у хозяина, наверное, был не старше тебя. Прочитай в журнале очерк Глеба Успенского «Книжка чеков». Пойми.
Маняшино самолюбие взыграло: «Почти взрослая! Прочитаю. Пойму».
Поняла с первых страниц. Фабрикант Иван Кузьмич из очерка Глеба Успенского и есть тот самый хозяин, который запирал рабочих на замок, из-за которого мальчик Сумароков погиб. Петя Сумароков. Наверное, его звали Петя. У него был облупленный от загара нос и на макушке волосы росли веерочком. Бедный Петя!
Маняша спряталась читать в глушь кустарника, никто не видит её стиснутые кулаки, жалобную гримасу, скривившую лицо. Она впилась в очерк Глеба Успенского, глотает страницу за страницей, и губитель Иван Кузьмич вызывает в ней ненависть. «Прикоснётся он со своими капиталами к дремучему тёмному бору дававшему приют тысячам зверей и птиц, и — глядишь лес исчез, и уже больше нет этого дремучего богатыря! Разбежался зверь; с шумом, карканьем и плачем разлетелись птицы, и остались одни брёвна »
«Мальчик Петя Сумароков, он убил тебя, убивает всех. Из-за денег», — думает Маняша.
Он складывает деньги на хранение в банк и получает книжку чеков на пятнадцать, двадцать, сто тысяч рублей. И со своими книжками чеков приезжает в деревню Распоясово. Подкупает чиновников, судей, начальство, и Распоясово вслед за лесом обречено на гибель. «Через три недели где прежде были дома, амбары, сараи, от домов остались завалинки, от погребов — ямы, от сараев кое-где торчали столбы »
Десятки лет распоясовские крестьяне пахали землю сохой, засевали рожью, поливали тяжёлым, солёным потом, и, пусть вполсыта, кормила их родимая земля. Теперь земля во владении Ивана Кузьмича. Здесь, на месте прежней деревни, воздвигнет он доходное предприятие и трактир для спаивания мужиков, и пойдёт жизнь распоясовцев под откос, а Ивану Кузьмичу прибавится новая книжка чеков.
А ведь и на алакаевский лес, Алакаевку может напасть такой Иван Кузьмич! И никто не спасёт, не поможет. Никто?!
— Милая пичужка, — отвечает Володя, — ты узнала трудное.
— Ненавижу Ивана Кузьмича, грабителя, ненавижу царя! Правильно, что его убивают.
— Убийством царя ничего не добьёшься. Убьёшь одного, на его место встанет другой, такой же. И мститель вдобавок. Убьёшь капиталиста Ивана Кузьмича — на его место десять, сто Иванов Кузьмичей
— Что же делать?
— Совсем изменить жизнь.
— Как?
— Об этом надо думать.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
САМАРСКИЕ ГОДЫ
Зимами жили в Самаре. Митя, Маняша учились в самарских гимназиях. Володя занимался дома. Его исключили из Казанского университета за участие в студенческой забастовке и теперь ни в какое учебное заведение не принимали. Он самостоятельно изучал науки, готовясь сдавать экстерном экзамены за весь университетский курс.
Самара — большой купеческий город. Улицы аккуратно ровны, словно циркулем размерены, каменные дома на сто, двести лет прочны, обнесены наподобие крепости заборами. По двору за заборами бегают, гремя цепями, сторожевые 20 псы, зло рычат, заслышав прохожих. Калитки на запоре.
Большинство населения Самары купцы.
У причалов самарской пристани с весны до поздней осени толпятся баржи, гружённые зерном, мукой, кожами, забитым и живым скотом. Отчаливают вверх по Волге торговать. Торговля кипит. А фабрик в Самаре мало, и рабочих, конечно, мало.
В Самаре у Володи очень скоро появились друзья и знакомые. Он часто уходил из дома, часто приходили к нему. Вечерами до ночи в комнате брата велись разговоры. Порой Маняше случалось услышать отрывки речей. Маняша улавливает: разговоры ведутся о жизни, философии, учении Маркса. Все знакомые брата думают об улучшении жизни народа. Но судят по-разному и разно зовутся. Одни народники, другие марксисты. «Народникам и марксистам не но пути», — понимает Маняша, когда в комнате брата разгорячённые голоса возвысятся в яростном споре. О чём они спорят'' Все понимают, как тяжело живётся рабочим в городе, крестьянам в деревне. Все за изменение жизни, преобразование общества — и спорят. О чём? Туманны представления Маняпти.
— Подрастёшь, придёт настоящее знание, — заверяет Володя, когда Маняша его осаждает вопросами.
Но кое-что разъяснит и теперь:
— Фабрик в Самаре мало и рабочих мало, то же и в других городах. Потому поднадзорные политические ссыльные и передовая учащаяся молодёжь, зовущие себя народниками, не верят в силу рабочего класса. Рабочих малосильная кучка. Сила за крестьянством. Россия — страна крестьянская. Десять, двадцать лет назад, когда движение начиналось, народники ставили задачей поднимать крестьян на революционные восстания против царя и самодержавного строя. Нынешние народники утеряли революционный дух.
Нынешние народники проповедуют добиваться улучшения жизни народа, не свергая царя. Не руша, а постепенно, в согласии с царским правительством, чиновниками, жандармами, преобразовывать старое общество. Возможно ли это? В союзе с царским правительством создавать новое общество, где фабрикантов не будет, а рабочие будут жить по-человечески?! Выйди на окраины города, погляди, как им сейчас, — говорит Маняше Володя.
Хибары рабочих на окраинах Самары хилы. Ни кусточка, ни деревца. Летом частые ветры вздымают, слепя глаза, тучи пыли, осенью на улицах по колено слякоть, грязь, зимами до окон наметает сугробы. Вечером и ночью окраины Самары непроглядно темны, редко-редко загорится тусклый керосиновый фонарь. Малые ребята с осенней студёной слякоти до весенних ручьёв сидят босые по домам. Еда — пустые щи да тюря раз в день. Нельзя так жить! Надо бороться.
— Но ты говорил, рабочих мало, — несмело молвит Маняша.
— Рабочие — сплочённая масса. Их будет больше. Капитализм в России растёт, с ним растёт и его могильщик — рабочий класс, что марксизм научно доказывает! Не-о-про-вержимо доказывает!
Маняше ясно: Володя — марксист. Значит, марксизм — самое верное учение.
— Почему ты водишь знакомство с народниками?
— Пичужка, пойми, стараюсь вовлечь их в свой лагерь. Они честные люди, но их взгляды ошибочны. Надо их переубедить и убедить: марксизм — правда и сила, марксизму нужны бесстрашные умные борцы, агитаторы. Мы должны вооружить рабочий класс марксизмом. А спорим? Да в спорах рождается истина.
Маняша начинает внимательно приглядываться к посетителям брата, знает многих в лицо. Володя редко ей сообщает биографию, житейские и иные обстоятельства того или другого товарища; тогда она сама сочиняет историю каждого. Детство, юность, книги какие читал, любимые писатели, раздумья об устройстве общества.
Однажды она заметила из окна во дворе направляющегося к их крыльцу человека. Молодой, лёгкий, высокий, а опирается на суковатую палку, глаза кроются под тёмным пенсне. «Маскировка от шпиков», — сообразила Маняша и, будучи особой любопытной, мигом очутилась в передней, как бы случайно. Пришедший был уже там. Представился — Алексей Павлович Скляренко. Смущённая его взрослым с ней обхождением, Маняша слегка присела в реверансе.
— Можно видеть Владимира Ильича?
— Да, пожалуйста, сюда
В это время Володя сам вышел из комнаты и довольно строго приказал Маняше — иди, иди к себе, — а гостю дружески протянул обе руки.
Алексей Павлович Скляренко стал постоянным посетителем дома. Мама, сдержанная с людьми, мало ей симпатичными, к Скляренко питала добрые чувства, радовалась его дружбе с Володей. Они были ровесниками, обоим по девятнадцати лет, оба уже подверглись немилости начальства за вольные мысли и действия. Владимир Ульянов исключён из университета, выслан из Казани в деревню, отдан под полицейский надзор. Алексей Скляренко исключён из гимназии, после года тюрьмы выслан в Самару под полицейский надзор. Оба талантливы, смелы. Хорошо они дружат! Непрестанные споры, примирения и в конце радостное для обоих согласие взглядов и мыслей.
— Мамочка, едва ли я тебя сегодня до ночи увижу, ложись, пожалуйста, спать, не дожидайся меня, — скажет под вечер Володя.
— К Скляренко? — кивнёт знающе мама. — Иди. дружок. Будь осторожен.
В её тихом взоре Маняша читает любовь и тревогу. Не петь под гитару, не
веселиться отправляется к товарищу сын. Там, как и у него в иные вечера, собирается передовая, революционно настроенная молодёжь Самары. И хотя Володя скупо делится, дома знают, в чём суть и смысл их тайиых встреч.
— Мамочка, мы надумали организовать прогулку на лодке, путешествие на три-четыре дня по Волге, Самарке, полюбуемся Жигулями, утёсом Степана Разина. Чудесный отдых!
Снова в глазах матери тревога, тревога.
— Будьте осторожны, Володя!
— Анюта, неужели они не могли взять нас? Какие-то у них секреты? — пытается разузнать Маняша.
— Не суй свой любопытный нос в чужие дела, — отвечает Анюта. И с улыбкой грозит пальцем: — Прева-а-жнейшие!
— Э-э, знаю я их преважнейшие дела! Будут день и ночь обсуждать, как мыслят народники, что думают марксисты. И планы на будущее.
Она не ошибалась.
Четыре дня на лодке и о Волге, речке Самарке, снова по Волге путешественники наслаждались видами раздольных волжских берегов, сиянием майского неба, соловьиными хорами вечером, но главное делалось. В пути, на остановках, в прибрежной берёзовой роще, у ночного костра велись занятия марксистского кружка. Беседы, обсуждения, споры
Руководил Владимир Ильич. С поразительным искусством, талантом, вдохновением, ясностью и простотой открывал революционное учение марксизма друзьям. Убеждал.
В самарские годы Маняшин брат, учась и уча других, стал выдающимся марксистом.
аняша бродит по саду, заглядывая в укромные уголки, палочкой ворошит под деревьями прошлогоднюю, опавшую листву и нынешнюю, ещё ярко-зелёную траву. Попадаются сыроежки с розовыми шляпками, снизу подбитыми как бы оборчатой белой подкладкой. Сыроежка — съедобный, но не первосортный гриб. Первосортный — боровик. За боровиками Маняша охотится, радуясь толстеньким кругляшам с тёмно-коричневыми головками. Ножиком срежет кругляш, довольна
А краеноголовые подосиновики? В саду подосиновики и боровики попадаются, но не так часто. То ли дело в лесу! Здесь и там встретишь многодетную семью боровиков. Лесные поляны красны от подосиновиков.
— И-их! — взвизгивает в азарте Маняша.
— Барышня, — слышится за садовой изгородью тоненький несмелый голосок.
Деревенская девчушка, лет десяти, в длинной залатанной юбке, дырявой кофте, подзывает Маняшу. Маняша спешит к калитке.
— Купите ягоду, ради Христа, — девчушка протягивает глиняное блюдо, с верхом полное лесной земляники.
— Почему ради Христа?
— Мамка наказывала, поклонись, грит, уж больно деньги нужны, соли не на что купить, а про сахар, как он и выглядит, забыли.
«Много ли ей надо, есть ли у мамы деньги?» — на секунду берёт Маняшу сомнение.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
УДИВИТЕЛЬНЫЙ БРАТ
— Пятак за ягоду-то невелика цена! — просительно молвит девочка.
Маняша ведёт её к маме.
— Спаеибочка, вот уж сиаеибочка, — в пояс кланяется девчушка, принимая монету.
— Как тебя зовут?
— Машкой. По бабке окрестили, в одной семье две Марьи, старая да молодая, — охотно отвечает девочка, крепко сжимая в потной ладони пятак.
— Тёзки, — улыбается мама, кивая на Маняшу.
Алакаевская девочка вздыхает:
— Ишь ты, ишь ты! Марьячо, Марья, да жизня иная.
— Мамочка, я ей свою куклу отдам? — мгновенно решает Маняша.
— Кукла неплохо, но думаю, ещё кое-что ей нужно, — говорит мама, окидывая взглядом юбчонку в заплатах и старенькую, с порванными локтями кофточку на девочке.
Девочка cmvi не на.
— Кукла-то у вас небось городская, с кудрями, глазастая, дико ей будет в нашей избе. Л у меня и своя есть, тряпичная, зато родная.
«Гордая, — думает Маняша, — вся в заплатах, а гордая».
Ей нравится, что девочка гордая, и самостоятельность её нравится Маняше. Она приводит девочку в комнату, где стоят две кровати, её и сестры Оли. Вынимает из шкафа одно своё летнее платье, другое плюс бумазейное на зимние холода. И себе остаётся три.
— Богач качо. богачка! — ахает, охает алакаевская Маша. Щёки у неё распылались, дыхание спёрло от счастья, некоторое время даже «спаеибочка» выговорить не смеет.
Наконец, собравшись с духом:
— Твоего брательника Владимира Ильича на деревне знают. Он к нам ходит, с мужиками беседы ведёт. Мужики его умным почитают. Люди сказывают, он хозяйством желает заняться. На деревне судят: вроде справедливый человек, а заделается хозяином, кто его знает, как повернётся.
— Он справедливый, умный и всегда будет справедливым и умным, — вскипает Маняша. И, растроганная встречей с алакаевской тёзкой, довольная, что обрадовала её подарком, не жаль ей отданных платьев, соображает, что бы ещё хорошее для девочки сделать.
— Слушай, приходи к нам. Я научу тебя играть в лото.
— Во-о-на! — дивится алакаевская Маша. — Что это за штука лото? Игра-ать! У нас покос начался. Мамка с тятькой в лугах. Мамка малого на бабку Марью кинула, покамест я по ягоды сбегаю, а бабка наша почитай что незряча, как бы не упустила мальца, вывалится из люльки, далёко ль до греха? Спаеибочка вам, видать, вы люди хорошие. А позавидуют девчонки платьямчо!
И она убегает, а Маняша отправляется к Володе в его зелёный кабинет.
Конечно, Володя занят, что-то пишет. Не поднимая головы, жестом показывает: посиди, подожди.
Маняша усаживается на пенёк, невдалеке от скамейки, сложив на коленях руки, ждёт. Нужно Володе рассказать о встрече с алакаевской девочкой. Именно Володе! Какие-то неспокойные мысли разбудила в ней эта встреча.
Володя отодвигает в сторону тетрадь.
— Итак, Маняша?..
— Итак — вторит она.
Прежде всего сообщить, что алакаевские мужики думают видеть Володю хозяином хутора и небольшого надела земли, прилежащего к нему. Сено косить, жать и вообще делать на земле всё, что требуется.
— И ты так думаешь, Володя?
— Нет, Маняша, не так. Мы с мамой обсудили вопрос о моём хозяйствовании в Алакаевке. У меня нет хозяйственных способностей и наклонностей. А ещё помнишь Ивана Кузьмича?
— Неужели, если хозяин, значит, непременно Иван Кузьмич? — испуганно восклицает Маняша.
— Так устроено наше общество: фабрикант, купец, кулак, чиновник, помещик — все на свой лад Иваны Кузьмичи. Давят, душат, угнетают народ.
Маняше грустно. Маняша верит: жизнь может быть хороша для всех. Для всех!
— Если бы люди, все до единого, у кого чточо есть, ну например, у меня было шесть платьев, я поделилась с алакаевской девочкой Если бы все ненищие отдавали половину нищим, тогда
— Что тогда?
— Изменилась бы жизнь, стала лучше.
— Милый философ, — усмехается Володя. — Есть философы постарше и пообразованнее тебя, а рассуждают, как ты.
— Ну и что?
— То. что, представь, разодрался чулок, порвалось платье, ты штопаешь, чинишь, но, как ни штопай, как ни чини, старое новым не сделаешь, заплатами платье не улучшить. А некоторые философы проповедуют улучшать именно «штопаньем» бедственное положение народа. Но ведь общество-то не изменится, останется прежним. У алакаевцев нет земли, земля помещичья, крестьяне арендуют помещичью и кулацкие земли, а платить нечем, хлеба впроголодь хватает на ползимы, в доме нет ни гроша соли купить. Нужда беепроеветная по всей России. Твоё платье, Маняша, — доброе дело. Но добрыми делами, как бы они ни были добры, общество не перестроишь. Не малые — большие нужны дела.
— Какие?
Володя быстро, с охотой роется в стопке книг и бумаг на столе. Вынимает небольшую рукопись «К. Маркс. Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии».
— Великое учение, показавшее и доказавшее единственно верный путь переустройства общества, — торжественно и с какой-то застенчивой нежностью и вместе гордостью произносит Володя.
Этот первый перевод марксистского труда с немецкого на русский сделал он сам. Втайне от шпиков и жандармов самарские товарищи и передовые рабочие читают «Коммунистический манифест», учатся марксизму.
Несколько дней спустя Володя позвал Маняшу в свою комнату. Накинул на дверь крючок и достал книгу не со стола, не из шкафа — из-под матраца, чем немало сестрёнку удивил.
— Абсолютная. Попадись жандарму в лапы — тюрьма. Роман Чернышевского «Что делать?». Я прочитал ещё раньше, и ещё Он меня всего перепахал. Эта книга даёт заряд на вею жизнь.
После таких слов Маняша с замиранием сердца приняла из рук брата книгу. «Даёт заряд на всю жизнь. Спасибо. Володя. Ты такой такой Если бы хоть чуть-чуть, самую малость походить на тебя. Знать то, что знаешь ты, милый, удивительный брат!»
Конечно, Маняша не высказала свои чувства вслух. Она застенчива.
Книга е первых страниц захватчтла её. И смутила. Таинственное самоубийство: неизвестно почему хороший человек Лопухов кончает с жизнью. Не приключенческий ли это роман? Где же заряд?
— Читай медленно, внимательно, — велел Володя.
Маняша читает внимательно, медленно. И страница за страницей, глава за главой уму и сердцу девочки, растущей, жаждущей идеала и истины, открываются новые знания.
Не столько разумом, сколько чутьём Маняша постигала, угадывала пока неполно, пока лишь приблизительно тот путь борьбы с Иванами Кузьмичами, какой искал и находил её брат.
егодня 12 июля, дети, — напоминает мама за завтраком.
— Знаем! — дружно отвечает многоголосый хор.
12 июля день рождения отца. Месяц июль, макушка лета. Маняша помнит папину шутку: «В макушку лета я и угодил».
Лучезарные жаркие дни. Небо густо напоено синевой. В саду царственно высятся светло-розовые, белые, малиновые пионы. Жаркими фонариками горят скромные гвоздики. Скромные, а не заметить нельзя, так ярки и радостны.
Обычно день рождения папы встречали в бывшем дедовом доме в деревне
— Тайна?
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ПОМНИМ ОБ ОТЦЕ
Кокушкино. Туда приезжали на лето, как теперь приезжают в Алакаевку, только теперь без папы, без Саши.
В папин день рождения вее готовили ему подарки. Ни в коем случае покупные — сочиняйте своим умом и руками. Мама вышивала отцу поясок, рубашку. Аня писала стихотворное поздравление. Володя и Саша мастерили из картона, жестянки, дощечек какой-нибудь полезный предмет — ящичек для перьев, подставку для карандашей. Маняша рисовала картинки: ива клонит ветви над узенькой речушкой, и хочется посидеть на бережку, полюбоваться, как играют в воде пескари.
Или явится фантазия изобразить дивный дворец, увитый кокушкинскими лозами хмеля.
— Папочка, ты будешь здесь жить.
— Спасибо, дочура, чудесное ты мне устроила под старость жильё. Но один во дворце я жить не согласен.
— Нет, конечно, мы будем все е тобой, папа
— Дети, оставим сегодня занятия и всей компанией отправимся в лес, — предлагает мама. — В память о папе. Он любил природу, луга, лес. А какой был грибник! А как любил цветы! Наберём папе букет полевых цветов.
— Мама, я не могу, — виновато признаётся Маняша.
— Что такое? Ты не здорова?
Маняша, потупившись, молчит.
— A-а! Знаю, знаю! — хлопает в ладоши Митя. — У неё тайный замысел. Открывай!
— Если тайный замысел, нельзя добиваться, чтобы открывали, — резонно рассуждает Оля. Она посвящена в Маняшин замысел.
— Всегда всё всерьёз поворачивают, — ворчит Митя.
— Но если и правда всерьёз!
Все уходят в лес, Маняша остаётся дома.
Комнатки на Алакаевском хуторе небольшие, потолки невысокие, стены бревенчатые. Еде бы ни жили Ульяновы, в доме нет богатой мебели, дорогих украшений. картин, но непременно книжный шкаф и музыкальный инструмент. Мама музыкантша. Море бурных и тихих, горьких, радостных чувств полнит её музыку. Последние годы мамина музыка часто безысходно печальна. Мама молчит об утратах, навек ранивших сердце. Говорит музыка, Маняша слушает. Тоскует. Как помочь маме?
Самая близкая мамина помощница Аня. Понятно: старшая, старше Маняши на четырнадцать лет. Маняша уверена, Аню в будущем ждёт судьба знаменитой писательницы.
Ночь давно уж, всё-то дремлет,
Всё кругом молчит.
Мрак ночной поля объемлет,
И деревня спит.
В хуторе лишь, на крылечке,
Светит огонёк,
И за чтением серьёзный Собрался кружок.
Все сидят, уткнувшись в книги,
Строго все молчат,
Хоть Маняшины глазёнки Больно спать хотят
— Вот уж нет, вот уж нет, ничуть не хочу епать! — спорит Маняша. — Ещё, ещё, Аня, почитай стихи.
Попробуйте сочините такие. Об Алакаевском хуторе, серьёзном кружке на крылечке. Маняша нипочём не сумеет.
Она размышляет о будущем. Оля будет музыкантшей, великолепной пианисткой. Про Володю ясно — учёным. Маняша любит воображать Володины научные открытия и подвиги.
Однако она отвлеклась от своего сегодняшнего замысла. Подходит к пианино.
Сегодня день рождения папы. Заветная цель Маняши — сыграть в этот день для мамы, для всех «Первую балладу» Шопена. Баллада трудна. Много часов потратила Маняша на разучивание только начальной темы. Почему именно это произведение выбирает она?
Маняша помнит, иногда зимним вечером, когда гимназисты ещё не окончили готовить уроки, отец после долгого рабочего дня за письменным столом выходит из кабинета и, потягиваясь, прямя уставшую спину, говорит маме:
— Отдохнём?
И они — мама, папа, Маняша — направляются в гостиную. Единственное украшение гостиной — цветы и большой чёрный рояль. Он кажется Маняше великаном, добрым волшебником, как бы членом семьи. Невозможно представить жизнь без него.
— Сыграй моё, — говорит папа. Улыбка счастья сгоняет ранние морщины с его немного скуластого, большелобого, светлевшего при звуках музыки лица.
Папино «моё» — это «Первая баллада» Шопена. Мама часто её играет отцу и Маняше, иногда всей семье.
Маняша забирается с ногами на диван, прильнув к папе.
В подсвечниках на рояле неярко горят свечи. Ледяными узорами разрисованы оконные стёкла. Хорошо с папой и мамой. Из их рассказов Маняша узнаёт о гениальном польском музыканте.
— С молод} и всю жизнь Шопен изгнанник. Тоскует о покинутой родине. Напевна, душевна шопеновская баллада о родине. Любимая Польша! О надеждах и нежности, печали и ласке, запахах полевых цветов, тишине говорит музыка. Вдруг!.. Восстание. Польские повстанцы объявили войну царским чиновникам, жандармам, царю Николаю — властелину Польши. Поднялся весь польский народ.
Музыка резко меняется, Маняша слышит: звуки гремят, вихрь гнева и бури слышит Маняша.
Но вот что-то новое вливается в музыку. Скорбь, отчаяние. Восстание подавлено. Сотни людей расстреляны по приказу российского императора Николая. Сотни насмерть забиты кнутом. Тысячи сосланы на вечную каторгу в ледяные окраины Сибири.
Маняша наизусть знает и чувствует балладу Шопена о польском восстании. Но играть в силах только первую часть о тишине, напевности Польши. Дальше буря. Буря ей не под силу. Гнев, ярость и гибель восстания играть будет Оля.
Папа говорил: «Наша Оля-музыкант божьей милостью».
Балладу в память папы ко дню его рождения Маняша и Оля готовили вместе.
Скоро грибники вернутся из леса. Сёстры будут играть.
аконец наступает тот праздничный день, который с радостным нетерпением ожидали обитатели Алакаевского хутора. Ранним июньским утром из ворот хутора выезжает первая упряжка в одну светло-рыжую лошадь с чёрным хвостом и гривой, а весь парадный поезд составляют несколько тарантасов и подвод, взятых напрокат у соседних крестьян. Во главе поезда Буланка. Когда мама с помощью Марка Тимофеевича Елизарова покупала Алакаевский хутор, по его совету приобрела и Буланку. Съездить за пятьдесят вёрст в город, на станцию, на почту за газетами — мало ли дел. Нерезвая и даже, как судили старшие, ленивенькая лошадёнка глядела задумчивым взглядом, будто какая-то забота тяготила её.
Маняша и Оля приносили ей после обеда кусок посоленного хлеба. Съев хлеб, Буланка благодарно ласкалась, облизывая девочкам щёку или шею шершавым языком. Но главным покровителем Буланки был Митя. Он умел запрягать и распрягать Буланку, накашивал для неё свежей цветистой травы, расчёсывал гриву и трусил верхом на почту за газетами или куда-нибудь по разным нужным делам. Посоленным хлебом он её не баловал или редко, по секрету ото всех, опасаясь, как бы не назвали сентиментальным, что для мальчика обиднее «дурака».
— Буланка, Буланка, сегодня замечательный день! — говорила Маняша, вплетая в гриву лошади васильки, собранные в овсяном поле. — Угадай, что будет?
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ЛАД, ЛЮБОВЬ НА АЛАКАЕВСКОМ ХУТОРЕ
Сегодня? Ни за что не угадаешь. Венчание. Аня выходит замуж. Спросишь, кто жених? Марк Тимофеевич Елизаров.
Имя Марка Тимофеевича Маняша произносит с особым чувством. Он представляется Маняше несгибаемым, прочным, сильным, как столетний дуб на опушке леса. Еордо высится, раскинув едва не над всей поляной могучие сучья. Никто и ничто его не страшит. Спокоен. Так и Марк Тимофеевич силен, спокоен. Давно близок с семьёй Ульяновых. Живёт с ними на Алакаевском хуторе и в Самаре на общей квартире.
— Анюта, Марк очень хорош.
Порывистая, вмиг воспламеняющаяся Аня бессчётно целует Маняшу.
— Хорош, хорош, хорош!
— Понимаешь, Буланка, какой у нас прекрасный жених, — делится Маняша с Буланкой.
А жених лёгок на помине, тут как тут.
— Умница-разумница Маняша, на славу украсила Буланку!
Марк Тимофеевич, крестьянский сын, знающим жестом одобрительно похлопав Буланку по крупу, на что та ответила негромким приветливым ржанием, усаживается в тарантас, покрытый чистейшей белизны простынёй. С ним его брат и Анин брат Володя. Невеста и другие родственники её и жениха на следующих тарантасах поезда. Мария Александровна остаётся дома. Так положено. Мать не должна присутствовать в церкви на венчании дочери. Всё делается согласно крестьянским и церковным обычаям.
Крестьянских сыновей в университеты принимали туго. Марк очень способен, но и он попал е трудом. Однако на старших курсах за блестящие успехи был даже освобождён от платы.
В студенческие годы он познакомился с Сашей Ульяновым, тоже студентом. Тогда же узнал и Аню, она училась на Высших женских курсах в столице. Марк дружил с обоими. Просвещённость, талантливость, благородное сердце, волевой характер юного Саши поражали и страстно привлекали его. Марк буквально преклонялся перед Александром Ульяновым. Вначале это более всего сближало и роднило его с Аней. Казнь Саши потрясла и ещё крепче связала их. Следом за Сашей арестовали Аню. Ни за что. В то время она не была ещё революционеркой. Но была сестрой политического преступника, покушавшегося на священную особу императора. Её заключили в одиночную камеру тюрьмы.
Опасно держать связи с арестованной, которую полицейские занесли в списки политически неблагонадёжных. Именно в это время Марк открыто объявляет Аню своей невестой, делит все беды Ульяновых, становится прочной опорой убитой горем семьи.
«Чудесный жених у Анюты, — ликует Маняша. — Лучше не может быть жениха, нет другого такого! А она? Образованная. А красива! У Ани одухотворённое лицо. А как хорошо падает на лоб тёмная прядка волнистых волос. А стихи!»
Естественно, Маняше особенно нравятся Анины стихи, посвящённые ей:
Встречаю ль я взгляд твой, серьёзный и кроткий,
О, милая крошка моя!
Звучит ли своей мелодической ноткой Твой голое, лаская меня
Я думой крылатой вперёд улетаю В туманную тёмную даль.
Грядущее, я о тебе вопрошаю,
Мне страшно чего-то и жаль!
Боюсь за тебя и желаю я страстно,
О. милая крошка моя,
Чтобы за тебя я страшилась напрасно,
Чтоб жизнь пощадила тебя
И чтобы в сознаньи душевного счастья
И высшей святой красоты
Служила для всех бы звездою участья.
Отрадою светлою ты!
Маняша тронута и горда, но прячет свою гордость даже от Ани. Аня — переводчица детских книг е итальянского. Аня — поэт, Маняша понимает, Аня из любви к ней, младшей сестрёнке, так нежно и поэтично рисует «милую крошку». «Не такая уж я милая, и давно уж не крошка, а у нашей Ани доброе сердце. Взгляните, как её приветствуют люди».
Проезжая деревней на тарантасе, Маняша видит: вдоль дороги, у завалинок и крылец почти всех алакаевских изб стоят женщины, старики, дети, иногда даже мужики.
Сегодня воскресенье, рожь убрана, овёс ещё дозревает, поэтому люди дома и вышли полюбоваться Аниным свадебным поездом. Иные машут платками. Одна женщина, Маняша видит, утирает слезу. Мальчишки с гиком и свистом сопровождают поезд далеко за околицу.
Алакаевские крестьяне не знают, что Аню забирали в тюрьму. И ещё два года будет состоять под надзором полиции: власти неусыпно за нею следят. Иногда самарский уездный исправник пожалует на Алакаевский хутор убедиться, на месте ли высланная под его наблюдение «политическая неблагонадёжная» личность.
Чтобы оформить венчанием брак с Елизаровым, Аня должна была подать прошение властям, добиться их разрешения.
«У-у, подлые полицейские! У, подлый царь. А ну их! Не хочу думать о них», — гневается Маняша.
Но думалось. «Аня, Марк, Володя чистые, честные, славить бы их, учиться их идеалам, а за ними следят, каждый шаг проверяют. Даже когда люди хотят обвенчаться, унижают: просите у начальства разрешение».
Маняше нравится чинность и торжественность свадебного поезда. Лошади идут не вскачь, движение тарантасов медленно. Важно вышагивает передняя Буланка, мотая головой и отхлёстываясь хвостом от слепней. Тихи поля. Безветренно. Степь не пылит. Скоро и село Тростянки Самарского уезда, где
в церкви уже готов совершать обряд священник, облачённый в парадную, расписанную золотыми узорами ризу.
Маняша впервые на венчании, церковная церемония занимает её. Как мила, мила Аня! Волнуется. Щёки порозовели, глаза потуплены, чуть подрагивает в руке свеча. Священник раскачивает кадило, куря ароматным дымом и запахом ладана. Громогласно басит дьякон. Священник ласковым тенорком нараспев произносит моления и ведёт вокруг аналоя взявшихся за руки Марка и Аню, объявляет их мужем и женой.
Дома, после венчания, Маняша делится с Володей:
— Интересно, похоже на спектакль.
— Спектакль и есть. — улыбается Володя.
— А вы не грешите, — ворчит старая няня Варвара Григорьевна. — Господь нашей Анечке счастье послал, радоваться надо.
— Мы радуемся, — весело соглашается Володя и тихо Маняше: — Без этого спектакля Аня и Марк не могли бы жить вместе спокойно. Невенчанные не признаются мужем и женой, таков закон.
— Как услышишь слово «закон», так и знай: нехорошо от него людям.
— Чаще плохо, — отвечает Володя. — Однако пора к столу.
Стол каким-то образом удлинённый, видимо, подставили второй, накрыт в самой просторной комнате, застелен новёхонькой скатертью с вышитой крестиком каймой. Перед маминым и молодожёнов приборами — цветы. Ваз в Ала-каевке нет, цветы в глиняных, ярко раскрашенных крынках, и так это идёт к бревенчатым стенам. На одной стене подвешена гирлянда из дубовых и кленовых ветвей.
За столом пир горой. Студень с хреном, маринованные и солёные грибы, пупырчатые огурчики прямо с грядки, кулебяка, уха, волжский осётр, едва ли не накануне выловленный, а на сладкое лесная малина.
— Где мы? Не у Собакевича ли в гостях! — хохочет Володя.
— Далеко до нас Собакевичу! Жалко, не каждый день у нас пир! — в тон ему веселится Оля.
Маняша видит, мамины глаза потеплели, слабая улыбка трогает губы. Володя неистощимо остёр и шутлив. Оля играет на пианино в другой комнате, рядом. Дверь распахнута, Олю видно и слышно. Она исполняет бравурный и в то же время лиричный, ласкающий, нежащий «Свадебный марш» Мендельсона. Митя, в такт музыке притоптывая, подпевает: «Тара-тара-тара-ра. Туру-ру». Все подхватывают. Старая няня Варвара Григорьевна, в белой косынке, белой же, по случаю свадьбы, по-старушечьи навыпуск кофточке, вконец растроганная, смеётся, и всхлипывает, и любовно бормочет: «Без солнышка не пробыть, без милого не прожить».
Аня и Марк счастливы.
Лад, дружба, любовь на Алакаевском хуторе.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ЛЕТИ, ПТЕНЕЦ!
В малолетстве, средненькие наши, Володя с Олей, баловники были, ох выдумщики! Друг перед дружкой будто выхвалялись, кто затейливей игру придумает: и в прятки, и в индейцев каких-то, а ещё брыкаски у них были придуманы, вроде леших, что ли. Иной раз мамаша с папашей со двора куда-нибудь в гости, что тут в доме творится! Я так и так: уймитесь, разбойники, — куда там!
Старенькая няня, сидя на сундуке, где хранится её одежда и «смертное», приготовленное на кончину, рассуждает длинно, душевно, покачивая головой из стороны в сторону.
Постоянная её слушательница Маняша неутомимо внимательна. И няне хочется без устали рисовать и описывать пытливой девочке дорогое минувшее. Чует старое сердце Варвары Еригорьевны: недолог остаётся срок обихаживать издавна родную ей семью Ульяновых, лелеять милых деток.
— Давно ли скакали и прыгали? Оленька, красотка, и нынче танцевать бы танцы, а она с утра дотемна над книгой лоб хмурит. Про Володимира и говорить не приходится. Рано вышли из детства, родименькие, — толкует старая няня. — Вам бы ещё погулять, а у вас одна думка — науки учить, ум точить. Папаша ваш, Илья Николаевич, большого ума был человек, видать, и вы за ним тянетесь.
Маняша была малышом, когда «средненькие», окончив уроки, шумно играли. Иногда и Маняше доставалось с ними поиграть, но не угонишься за Олей, которая, соорудив из огромного лопуха шляпу, нацепив на пояс рябиновую ветку, пылающую кроваво-красными ягодами, превращалась в индейца и скакала в погоне за каким-нибудь динозавром, не меньше. Теперь Оля с утра до ночи хмурит, как выражается няня, лоб над книгами. Хотя и теперь временами нападёт беспричинное веселье, и она и споёт, и попляшет, и за роялем посидит час-другой.
— Ольгуша, может, всё же изберёшь профессию музыкантши — ты так любишь и знаешь музыку, — - советует мама.
Оля колеблется, сомнения терзают её. Но в конце концов решение принято.
— Мамочка, музыка — моё счастье и опора в горестях, но кругом так много бедности, возьми хотя бы Алакаевку. Бедным и несчастным нужна музыка, но хочется приносить людям более существенную пользу.
— Кем же ты будешь?
Володя твёрдо:
— Учёной. У Оли отличные способности к математике, превосходно владеет языками: английским, немецким, французским, шведским. Нельзя допустить, чтобы все эти таланты и знания пропадали даром.
— И золотая медаль, — подхватывает Маняша, если разговор происходит 34 при ней.
Оба её брата и сестра Оля золотые медалисты. «Если бы хоть каплю быть похожей на них! — мечтает Маняша. — Почему я уродилась такой обыкновенной? Никаких талантов. Никакого призвания».
— У тебя высокое призвание быть Человеком, — говорит Володя.
Маняша со вздохом молчит. Все всегда её бодрят. Она-то знает о себе, что заурядна. Однако не будем вешать голову. И заурядный человек может жить интересно и приносить пользу людям.
Между тем летят дни, недели, месяцы. Миновал год. Оля и Володя неотрывно готовятся к поступлению в высшие учебные заведения. Мало знаний, ума, таланта — надо преодолевать препятствия. Володю, состоящего под надзором полиции, не допускают ни в один институт. Ну а Оля? Не поднадзорная. В тюрьму за решётку не запирали. Почему же ей так трудно поступить на Высшие женские курсы? Почему русской женщине почти невозможно стать математиком, физиком, медиком, будь ты хоть сто раз умна и способна? Снова ничего не объясняющий ответ: таковы наши российские законы. Впрочем, ответ объясняет: таковы наши законы.
Жизнь не устаёт преподносить Маняше уроки. Один, второй, третий И Маняша растёт.
Оказывается, Оля не может поступить на Высшие курсы без разрешения мамы. Отца нет, пусть мать подаст заявление о том, что не возражает против высшего образования дочери. «Так способна, так жаждет учиться, и ей уже 18 лет, неужели Оля не вправе сама выбрать себе дорогу?» — думает, спрашивает, недоумевает Маняша.
Анюте потребовалось разрешение властей на венчание, Оле — на образование. Что за жизнь! Прав Володя, надо изменять жизнь. Как?
В доме тревожно. Даже няня, которая не очень-то одобряет, когда дети рано покидают родительский кров, даже она пригорюнилась: «Оленька, неужто откажут?»
Маняша знает, гениальному математику Софье Ковалевской пришлось вступить в фиктивный брак, то есть только для вида, чтобы освободиться от родительского деспотизма. А то Володя рассказывал об одной замечательной учёной, её отец, важный генерал, заявил: «Пусть хоть в гроб ляжет дочь — в университет не пущу».
Мамочка, а ты?
Мария Александровна направляет в канцелярию Высших женских курсов заявление: «Я, нижеподписавшаяся, удостоверяю, что не имею препятствий к поступлению дочери моей Ольги Ильиничны Ульяновой на Высшие женские курсы».
Ну, всё. Формальности выполнены. Семафор открыт. Нет, не всё. Семафор не открыт. Требуется второе заявление матери. «Я, нижеподписавшаяся, удостоверяю, что имею средства для содержания дочери моей Ольги Ульяновой в интернате при Высших женских курсах в продолжение четырёх лет».
Ольга допущена к поступлению на Высшие женские курсы на физико-математическое отделение.
— Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит, — торжествующе распевает Володя. — Импровизация, прошу публику отнестись снисходительно.
Публика — Оля, Лия, Марк, Митя, конечно, Маняша. Оля мгновенно подбирает аккомпанемент на рояле к Володиной импровизации, будь она хоть в одну фразу.
— Бежит, бежит — с упоением подхватывает публика. Поются и другие песни. Ведутся разговоры, главным образом об Олином будущем.
— Ты мечтала о медицинском курсе, но разве для женщин это вероятно? — с горечью говорит Аня.
— Журнал «Гражданин» читали? Прочтите. Просветитесь, — иронично продолжает Володя.
Из обсуждений старших Маняша улавливает: в журнале «Гражданин» ведётся яростная борьба против естественнонаучного и медицинского образования женщин. «Девушка, порезавши досыта лягушек, теряет способность полюбить мир таинственных прелестей матери и жены». Тщательное охранение женской стыдливости, вечной женственности проповедует журнал «Гражданин». Медицинское образование убьёт в женщине материнство, чувство прекрасного, проповедует журнал «Гражданин».
— Стоп! — останавливает Марк Тимофеевич, взглядом указывая на Маняшу.
— Поговорим о более оптимистическом, — соглашается Аня. — Оля, музыку не бросишь?
— Никогда!
— Переводы?
— И переводить непременно буду! Надо хоть немного зарабатывать деньги в помощь маме.
— Да, гм чёрт знает, — бормочет Марк Тимофеевич в тёмные густые усы.
— На чёрта не сваливай, есть вполне реальные люди и учреждения, что мешают тебе получить приличную работу.
— Ах, Аня
После Сашиной казни полиция взяла под наблюдение Марка Тимофеевича. Вина: Елизаров в близких отношениях с опасной семьёй Ульяновых. Ни в Петербурге, ни в Самаре Марк Тимофеевич не может найти подходящей работы. Полиция чинит препятствия. Губернатор одобряет полицейские действия. Марк Тимофеевич терпит мытарства. При университетском образовании, способностях, страстном желании исполнять интересное дело он добивается должности только писца с грошовой оплатой. Переписывать казённые бумажки. Скучно, обидно. И стыдно: вон и Оля понимает, как необходимо помогать маме. И как мало может он!
Враждебность властей к хорошим людям не новость для Маняши. Всё яснее она понимает: пропасть делит общество на два лагеря — угнетателей и угнетённых. Всё чаще слышит негромко произносимое в доме слово «марксизм». Она помнит книжечку «Манифест Коммунистической партии», переведённую с немецкого на русский Володей. Володя с гордостью показал книжечку и спрятал. Скоро Маняша будет её читать.
Близится Олин отъезд. Наступил день.
— Присесть надобно. Обычай, — распоряжается няня Варвара Григорьевна.
Все сели. Помолчали.
— Эх, и жалко, Оленька, тебя отпускать. Семья вместе, и душа на месте, — пытается попричитать Варвара Григорьевна.
— Няня! — останавливает Володя. — Не успели, Оля, мы с тобой одолеть Фукидида. Приеду в Петербург экзамены держать, дочитаем.
— Милостивый боже! Они за Фукидида взялись, — в непритворном изумлении восклицает Марк Тимофеевич. — История I [елопонесской войны. Судьба Афинской державы. Проведал бы «Гражданин», досталось бы, Оленька, тебе на орехи!
Оля, смеясь, встряхивает тёмной головкой, с пучком завязанных на затылке волос. Весела, рада, будущее манит её.
— Опиши Петербург, все достопримечательности, — юношески ломким голосом наказывает Митя.
— Хватил! Все достопримечательности. Их обозреть года не хватит.
— А ты не год будешь в Питере.
— Лети, птенец, крепи крылья, — мечтательно произносит Аня.
— Ура! Зреет или уже созрел замысел нового поэтического произведения в честь покорительницы столицы Ольги Ульяновой.
Мама берёт Олю обеими руками за виски. Долго глядит в глаза:
— Будь счастлива, девочка! Наша милая умница, будь счастлива!
Все выходят из дома проводить Олю.
Лети, птенец!
лодей! Ты задумал меня погубить! — восклицает Володя, когда вечером в его алакаевский зелёный кабинет преувеличенно осторожными шагами -входит Марк. Под мышкой шахматная доска.
— Так или иначе пора отдохнуть. Или хотя бы сменить род занятий. Десять часов без передышки над философией. Как бы ум за разум не зашёл, а, Володя? Сразимся?
Устоять от соблазна трудно, Володя отчаянный шахматист и только усилием воли заставляет себя иногда уклониться от шахматной партии с Марком. Необходимо готовиться и готовиться к университетским экзаменам. Чем дальше в лес, тем больше дров — чем глубже вникает Володя в науки, тем сильнее втяги-38 вается, тем больше и больше хочет узнавать.
РАССТАННАЯ УЛИЦА
— Однако сразимся.
Сразиться с Марком интересно и опасно. В доме Ульяновых все владеют шахматами, даже мама. Папа, тот был весьма серьёзным игроком. Володя, будучи солидным партнёром папы, всё же порой ему уступал, иной раз партия кончалась вничью, а то и хуже. Что же касается Марка Тимофеевича Елизарова, он отменный шахматист, посильнее и Володи и папы. Увлечённый, азартный. Он родом из недалёкой от Алакаевки деревни Бестужевка. Там изба и большая семья брата. Иногда нагрянут племянники. Обступят дядю.
— Сыграем, окажи милость, сыграем!
— Да что толку, ведь знаете, обыграю.
— А может, нет! Может, споткнёшься. Мы во как тренировались, вовсю!
С племянниками Марк Тимофеевич из весёлого любопытства играет вслепую
несколько партий. Три-четыре противника, всё равно, к общему восторгу, Марк Тимофеевич выигрывает все партии, не глядя на доски.
Впоследствии он выиграет партии у знаменитого на весь мир немецкого шахматиста Ласкера, русского Чигорина. Победы над Ласкером и Чигориным ещё впереди, но зрелый, интереснейший мастер угадывается в нём и сейчас.
Не зря Володя, скрепя сердце, отложил в сторону науку и так увлёкся, что готов сражаться до поздней ночи, пока в ту или иную пользу не окончится многочасовая партия.
— Володя, Володенька, Марк! — слышен радостный зов. Со всех ног мчится Маняша. — Письмо!
Каждое Олино письмо для дома событие. Обычно мама получает его утром. Читает наедине, перечитывает, вдумывается в каждую фразу.
Оля немногословна, но подробное, деловое описание обстановки, быта, занятий, знакомств рисует картину жизни дочери на чужбине, и сердце матери бьётся спокойней до следующего письма. Нет, никогда мамино сердце не бывает спокойно. Недостаёт в доме Оли, грустно недостаёт! Её музыки, порой заливчатого смеха, страстных обсуждений с Володей прочитанных книг, строгих проверок гимназических заданий на дом Маняши и всегда милой ласки ко всем. Нескладно поворачивается жизнь. Могли бы не отпускать девочку одну в Петербург, всей семьёй переселиться туда. Как переселиться? Володя под полицейским надзором, Аня под надзором. Марк под надзором. Сидите в Самаре.
За вечерним чаем семья собирается вокруг стола. Аня вслух читает письмо. «Читай не так, как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой», — цитирует Володя Ерибоедова, сразу внося в беседу весёлый тон.
Узнают из письма: Оля прилежно учится, живёт замкнуто, в гости не ходит. «Вечера я обыкновенно сама дома и читаю или занимаюсь, книг здесь хороших много».
Почему-то мама вдруг запечалится. Володя тотчас понимает:
— Мамочка, ведь первые дни, всего несколько дней, не светская барышня наша Оля, чтобы сразу пуститься по гостям. Общительная, со временем друзья найдутся. Непременно найдутся.
Маняша подойдёт к маме, положит голову ей на плечо.
Зато из следующего письма узнаётся: Оля очень занята, по-прежнему свободное время проводит дома за книгами, но всё же удаётся послушать пение и музыку.
О музыке Оля не однажды пишет:
«Музыку я не бросаю, дорогая мамочка».
«После обеда иногда остаюсь на курсах играть».
« Играю иногда на курсах при публике».
Ого-го! При публике — не шутка!
Добрая, не просто добрая, деятельно любящая, щедро внимательная, Оля думает не только о себе, заботится и помнит о Маняше. Вместе они исполняли в память папы Шопена — незабываемый день! Оля ищет для Маняши в магазинах ноты. « Маня сейчас как раз играет так, что ей очень трудно найти хорошие вещи, от детских она уже выросла; классические вещи, как Бетховена и Моцарта, начинать ей трудно Пусть она попробует разучить сонату Гайдна »
Конечно, не только о музыке Олины письма. Как приятно, что ожидает её и, может быть, не так далеко исполнение мечты. «Сообщаю тебе, мама, радостную для меня весть: кажется, уже теперь решено, что на будущий год осенью откроются медицинские курсы, и тогда я могу перейти на них».
Мама, как дитя, радуется Олиной радости. Её отец, Александр Дмитриевич Бланк — доктор, скольким людям сохранил жизнь, сколько разумных мыслей о воспитании и лечении оставил в наследство молодому поколению врачей.
Мама любит рассказывать о врачебной деятельности отца чаще Маняше. Маняша умеет слушать. Усядется на скамеечку возле маминого кресла, обхватит кольцом рук колени и не мигнёт, вся внимание! Мама читает в глазах дочки благодарное любопытство, горячее участие. После Олиного письма о медицинских курсах Маняше хочется стремглав мчаться в деревню — помочь, напоить больного, перевязать рану, накапать в стакан лекарство.
— Наша Ольгуша будет великолепным врачом, — мечтает мама. — Будет не только лечить, а просвещать малограмотных людей. Все русские передовые врачи всегда просветители. Твой дед, Маняша, был известным на всю округу доктором, он и воспитатель. Учил, как воспитывать детей, закалять. Любя, не нежить излишне, не баловать, но будить в человеке душевную щедрость, чувство доброты и долга Ты понимаешь, Маняша?
— Да, да!
— В нашей Оле наисильнейше развито чувство долга. Как бы ни была она занята, обойдёт все магазины, ища Володе нужную книгу, обследует все редакции для Ани. Аня переводит с итальянского. Одно из её произведений печатается в самарской газете. Оля обращается в редакции различных петербургских журналов, предлагая опубликовать ту или иную Анину работу. Всюду её постигает неудача. Горько признать, но, не имея знакомств в редакциях, то есть протекции, трудно, почти невозможно пробиться, пишет Оля.
— Особенно такой скромнице, как она. Франтихе, кокетке, вообще светской даме легче добиться успеха. А Оля
Мама перечитывает письмо:
— «Конечно, мамурочка, я не скучаю на праздниках: для меня они не отличаются от будней почти ничем — только на лекции не ходишь». Ты слышишь, Маняша?
— Да.
— « Сдаётся, что вы не все мои письма получаете Посылать же свои письма заказными я не могу: пишу я их всё же очень много Этак придётся совсем разориться на марки».
И ещё, и дальше: она бывает в редакциях, милая девочка! Уж очень хочется ей помочь Ане опубликоваться в солидном журнале, а у самой курсы, лекции, книги, занятия, и это не в Симбирске или Самаре — в столице: «Концы здесь огромные, и приходится ходить пешком».
— На марки — экономия, на конку — экономия, ты слышишь, Маняша? А как обстоит дело с нарядами? «Ношу чёрное платье, но неряшливо никогда не хожу, потому что всегда чищу его щёткой и делаю некоторые улучшения».
Скромная Оля, могла бы в праздники пофорсить. Нет, «серое платье никогда не надеваю, потому что оно слишком парадно».
Мама складывает письма в шкатулку, сделанную и покрашенную для неё ещё Сашей. Мало судьба посылает нам радостей: всё занятия, ученье, разлуки.
А радость вскоре и подоспела. Правда, отчасти тоже связанная с разлукой — Володя уезжает в Петербург держать экстерном экзамены в университет. Володя здоров, бодр, полон сил, уверен в себе, ни тени сомнений. И домашние уверены: всё будет у него хорошо. И как чудесно! «Встретится с Олей, одинокой нашей былинкой. Побеседуют — они любят вести разговоры вдвоём, вместе приедут домой на каникулы», — мечтает мама, расцветая от счастливых предчувствий. Оля соскучилась о доме, уже полгода назад в январском письме делилась: «Надеюсь в начале мая приехать в Самару».
Нынче апрель, до мая недалеко.
Маняша с мамой приводят Олину комнату в образцовый порядок. Маняша сшила лёгкие бледно-розового цвета занавески на окна, Оля будет просыпаться розовым утром. Впрочем, скоро они переедут на Алакаевский хутор. Ах, нет рядом с Самарой алакаевского леса! Маняша собрала бы для Оли к её приезду букет лесных цветов.
— Апрель-затейник, — говорит няня, — приглядеться: милее апрельского цвета ничего нет на земле. В лесу набредёшь на кустарничек, «волчьим лыком» зовётся — мало кто и слыхал про него, а он, чуть снег сойдёт, распустит лиловые колокольчики, глаз не оторвёшь. Кругом голо, а его колокольчики огоньками горят.
«Скорее бы, скорее приехала Оля, пойдём в лес», — думает Маняша.
По-прежнему она слушает Олины письма.
Мама сначала читает про себя, потом вслух ей, напоследок всем.
— Смотрите-ка, дети, каждое Олино письмо — отчёт о прибытии Володи в Петербург, Володином житье-бытье и здоровье.
«Комната, которую он снял, мне нравится, особенно хорошо для него, мне кажется, то, что в квартире его тихо, так что ему удобно будет заниматься».
«Мне кажется, дорогая мамочка, что ты напрасно беспокоишься, что он надорвёт здоровье. Володя олицетворённое благоразумие Он уже сдал два предмета и из обоих получил по 5».
« После обеда пришёл ко мне, и мы ходили с ним гулять по набережной Невы, смотрели ледоход »
— Завидую, — вырвалось у Маняши. — Вот бы мне погулять на невской набережной с Олей и Володей! Есть же счастливцы!
Восьмого апреля 1891 года Оля сообщила: «Ровно через месяц выезжаю домой».
— Через месяц, значит, 8 мая. Не очень долго, верно, мамочка? Выучу к Олиному приезду сонату Еайдна, что она посоветовала. Без единой запинки сыграю, она у нас строгий критик. Мамочка, мамочка, как хорошо!
А ровно через месяц, вызванная в Петербург телеграммой, Мария Александровна стояла у Олиного гроба. В белом, усыпанном цветами, гробу, в белом платье лежала её дочь. Её красивая, умная Оля.
Они виделись постоянно е Володей после его приезда в Петербург для сдачи экзаменов. Чаще Оля прибегала к нему. Должна была прийти и в тот день. Не пришла. Обеспокоенный Володя, оставив занятия, поехал к сестре в общежитие. Оля металась в жару.
— Володенька, не волнуйся. Я встану. Пить, пить, — чуть слышно шевелились потрескавшиеся губы.
Всё возможное, выше возможного делал Володя для спасения сестры. Ничего не помогло. Она умерла от тифа.
Как величаво, спокойно её лицо. Мама слышит плач подруг и Володи. И молчит.
Ножом по сердцу ударила мысль: «Восьмое мая. Четыре года назад восьмого мая погиб Саша. День в день». Мать больно стиснула пальцы у горла и молчит. Только когда в начале Рассганной улицы, ведущей к кладбищу, гроб сняли с похоронных дрог и понесли на руках, словно очнулась от забытья. «Расстанная улица. Расстаёмся».
Вырос на Волковом кладбище свежий могильный холмик.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ДНЕМ БЫТЬ?
Долги чёрные дни, нет конца.
Маму ни на минуту не оставляют одну. Утро обычно проводит с ней Володя. Экзамены в Петербургском университете выдержаны, получен диплом 1-й степени. Володя, теперь Владимир Ильич, зачислен помощником присяжного поверенного самарского суда. Пока ему необязательно бывать в суде каждый день. Любую свободную минуту он с мамой.
Семья переезжает на лето в Алакаевку. Неизменная собеседница, слушательница и сиделка при маме — Маняша. '
Лета 1891-го и 1892 года страшны. Жесточайшая засуха, голод, холера обрушились на Поволжье. Самара будто вымерла. Умолк многолюдный базар, бойкие лавчонки закрыты. Улицы пусты. Пассажирские волжские пароходы прибывают к пристани с жёлтым флагом — знак зловещей беды: на пароходе холера. В деревнях и сёлах никакой медицинской помощи больным. Тысячи людей умирают.
Анюта шла в деревню Алакаевку с лекарствами, советами, шла сестрой милосердия. Люди низко кланялись ей.
Страшные тысяча восемьсот девяносто первый и девяносто второй годы!
Маняша говорит с мамой об алакаевских и всего Поволжья бедах, рассказывает о прочитанных книгах. Всеми способами отвлечь маму от губительных мыслей об Оле!
С мамой, Анютой и Марком они обсуждают дела Володи в самарском суде. Адвокат может стать богачом, иметь роскошную обстановку, карету, держать лакея. Чтобы таким богатством владеть, необходимо завести выгодную клиен-туру: купцов, помещиков, получать от них большие гонорары, войти в знакомства с «полезными» людьми и так далее. Ничего подобного у Володи нет и не будет.
Вот он направляется в суд защищать своего клиента, дело которого тщательно перед тем изучил. Кого сегодня он будет защищать? Крестьянин-«вольно-дум», конечно, бедняк — богачи вольно не мыслят, рассуждают, как угодно начальству, — а этот сегодняшний Володин подзащитный, только послушайте, против кого он агитирует!
— Мамочка, мамочка! — дивится Маняша. — Он ругает бога, богородицу, цер^ ковные службы, императора
— Император приказал казнить нашего Сашу, бог не заступился, — тихо отвечает мама.
В детские годы Маняша засыпала мгновенно, лишь явит свой красный лик 44 в окошке луна и дивно разольются соловьиные трели. Теперь долго, грустно
не засыпается Маняше. Она знает, Володя ещё в гимназические годы сорвал с груди крест, объявил себя богопротивником. Где ты, бог? Как допускаешь, чтобы люди гибли от голода, а другие в это время роскошествовали? Как допускаешь, чтобы казнили благородных людей? Тебя нет, бог! Тогда что же?
Володя знает Маняшины думы. «Пичужка!» — говорит он однажды Он ещё называет иногда её так, хотя она не только подросла, но и выросла умом и душой.
— Я рвусь в Питер, Маняша. Зачем? Там много заводов, силен рабочий класс. Изменить жизнь, перестроить общество может только рабочий класс. Крестьяне-бедняки пойдут в союзе с рабочими
— Куда?
— К новой жизни, Маняша, новому обществу.
Маняша размышляет над Володиными словами, делится с мамой:
— Мамочка, Володе очень, очень нужно уехать в Петербург.
— Догадываюсь, Маняша. Знаю, задерживается он в Самаре из-за меня, жалеет меня. Печаль моя навечно. Надо вам, дети, идти, куда зовёт совесть.
Тысяча восемьсот девяносто третий год приносит в семью Ульяновых большие изменения. Кончились сроки гласных и негласных полицейских надзоров за Володей, Аней и Марком. Полиция, понятно, не упускает их из-под наблюдения, но теперь они вправе оставить Самару, выбрать удобное им местожительство.
Кстати, Митя оканчивает самарскую гимназию, предстоит поступать в университет. Митин выбор решён — медицинский факультет. Призвание определено: Митя будет доктором. Впечатление холерной эпидемии, гибель сотен и тысяч людей, человеческие страдания, беспомощность и подлое равнодушие властей к мучениям и вымиранию народа жестоким грузом легло на Митину душу. Нельзя забыть, нельзя простить. Юноша твёрдо выбрал свой путь и навсегда посвятит себя труду врачевания. Немало способствуют Митиным планам воспоминания мамы о деде-докторе. Дед был талантливым доктором, человеком страстной натуры, ничего не делал вполовину. Когда надо кому-то помочь, отдавал свои опыт и знания целиком, даже в старости не щадя сил, не ища покоя.
Слушая мамины рассказы, Маняша думает: «Может, и мне быть доктором? Кем быть? Когда-то Володя сказал: будь Человеком. Да, но у человека должно быть дело. Какое дело буду делать я? Все мои братья и сёстры одарены, у всех свой, путь- А я? Подскажите, кем мне быть?»
Отныне вечера протекают в обсуждениях будущего. На семейном совете решено, вернее, семейный совет соглашается: Володя едет в Петербург. Там его ожидает обширная адвокатская практика. Но все, кто больше, кто меньше, понимают: иной, большой и опасный труд зовёт его в столицу. К выполнению его надо приступить немедленно, завтра же. Володя — весь в завтрашнем дне.
Мария Александровна, Аня, Марк, Митя, Маняша переселятся в Москву.
Август. Лето ещё горячо. Наливаются соками и красками фрукты в садах, на базарах и в лавочках высятся горы спелых груш, яблок, овощей, но опавшие жёлтые листья у подножия клёнов и берёз говорят — осень близка: низко навис-
нут сизые тучи, завесят небо, посыплют дожди, а там и льды закуют Волгу в зимний плен.
Но пока ещё август. Белый парадный пароход общества «Кавказ и Меркурий» причалил к пристани. Праздничны палубы, до блеска надраены обшивка, иллюминаторы и всё, что можно надраить, важен капитан, матросы ловки и быстры.
Семья Ульяновых отбывает из Самары.
— Многое важное пережито и узнано здесь, — говорит Володя. Он покидает Самару убеждённым революционером, исполненным сил и воли к борьбе. Всё, без чьей-либо помощи, достигнуто своим неустанным трудом.
Маняша не знает, что её брат гениален. «Умный, добрый, весёлый, любимый» — вот что знает Маняша.
Идёт белый пароход. Проплывают мимо волжские берега. То пологие, окаймляя зелёными луговинами песчаные отмели. Лениво набегают на песок мерные волны. То крутой стеной прямо в воду падает красновато-глинистый обрыв, сплошь изрытый ласточкиными гнёздами. То едва не к небу поднимается царственный сосновый бор, зовёт и манит под тенистые своды. Вынырнет из леса зайчишка, последит за движением парохода и юркнёт обратно в спасительный лесной сумрак. То длинной чередой протянется деревня, избы под соломенными крышами обращены окнами к реке, возле крылец вытянулись тонкоствольные рябины, багряно рдеют кисти зреющих ягод, ряд рыбачьих лодок на привязи к колышкам уткнулись носами в песчаный берег. Или сверкнёт позолоченной главой церковка на высоком холме, обнесённая пышной изгородью кустов сиреней
Волга, Волга! Твои вольные, глубинные тихие воды, твои плавные медлительные плоты, нарядные пассажирские пароходы, рабочие судёнышки, снующие вдоль и поперёк рыбачьи лодчонки — всё любимо.
С Самарой простились. Впереди новая жизнь в незнакомой Маняше Москве.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
И ХОЧЕТСЯ ЧЕГО-ТО БОЛЬШОГО
Идёт пароход. Второй день путешествия близится к концу. Мама почти не покидает палубу. Невыразимая печаль и нежность в маминых глазах.
Низкий бархатный гудок парохода извещает прибытие: Симбирск, Казань. Скоро Нижний. Родные города! В памяти встаёт пережитое: любовь, семья, дети, счастье, горе
Маняша жадно ловит скупые мамины слова, каждое больно отзывается в сердце. Порою не стерпев жалости, убежит ненадолго в каюту, упадёт в подушку 46 лицом и горько плачет.
Наконец, долгий, густой гудок: прибываем в Нижний. Живописна нижнегородская набережная, ярко-зелёный откос круто падает вниз, поодаль видны тяжёлые стены кремля, уступами идущие с горы на гору.
— Володя! — в тревоге тянется к брату Маняша.
— Не хнычь, пичужка, задержусь ненадолго в Нижнем, а там скоро увидимся. Перед Питером явлюсь к вам в Москву.
«Зачем ему Нижний? Давно он не был так приподнят. Какое-то просветлённое лицо, надежды, предчувствия, нетерпеливые ожидания Неужели будущая судебная должность в Санкт-Петербурге так его вдохновляет? Что ты! Или забыла?»
Нет. Крепко помнится одно алакаевское утро.
Оля подбирает на рояле незнакомый мотив, Володя с,начала напевает без слов, потом вместе с Олей они поют по-французски слова гимна, изданного нелегально во французском городе Лилле. На русском языке этих необыкновенных слов ещё нет:
Вставай, проклятьем заклеймённый.
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим
Маняша понимает смысл гимна. Из переговоров старших узнаёт — это «Интернационал», призыв рабочих к революционной борьбе.
Вот зачем её брат остаётся в Нижнем. Чтобы тайно от полиции и чиновников встретиться с товарищами, как встречался в Самаре. Вот зачем едет в Петербург, гам много заводов и фабрик, могучий рабочий класс.
Мы нага, мы новый мир построим
Наступает день и час, когда поезд отправится из Нижнего в Москву. Первый звонок, второй. Отъезжающие теснятся у окон вагона, машут провожающим платками, шлют поцелуи.
— Владимир Ильич! — кричит Митя на платформу в опущенное окно вагона. — Господин чиновник Владимир Ильич, желаем успеха на поприще До свидания!
— До свидания, дорогие, будьте здоровы. Скоро увидимся.
Поезд медленно, как бы нехотя трогается. «Владимир Ильич, — раздумывает Маняша, — наш Володя теперь только дома будет так зваться, для всех он — Владимир Ильич».
Мама, поникнув, смотрит в окно, пока не миновали платформу.
Погромыхивая на стыках рельсов, поезд набирает скорость. По обе стороны рельсового пути лес, изредка полустанок помигает зелёным огоньком, паровоз шлёт приветствие раскатистым басом, мчит дальше. Оживлённо в купе второго класса, где у мамы собралась семья Ульяновых-Елизаровых.
— Ребята! Не Москва ль пред нами? Умрёмте ж под Москвой! — актёрски вскинув руку, декламирует Митя.
— У Лермонтова Москва за нами, — поправляет Аня, — но ты прав, Митя, для нас Москва перед нами. И умирать нам ни к чему.
— А мне позвольте народным языком выразить наши добрые чувства: «Москва — всем столицам голова».
— Марк пословицей кланяется Москве, и я пословицей: «Кто в Москве не бывал, красоты не видал».
— Анюта, ты от няни эту пословицу взяла, — помнит Маняша. — Она и мне её говорила, когда совсем заболела. Всё мечтала, что с нами поедет.
На минуту в купе смолкают. Потом снова врывается Митя:
— «Эх, братцы! Как я был доволен, когда церквей и колоколен, садов, чертогов полукруг передо мной открылся вдруг».
«Что такое! — мысленно досадует Маняша. — Я эти стихи готовилась сказать. Всегда кто-нибудь перегонит, всегда я последняя».
— Постойте, вспомнила! Жуковский.
Лодку вижу где ж вожатый?
Едем!.. будь, что суждено
Паруса её крылаты,
И весло оживлено.
Марк встаёт, плечистый, высокий, затылком едва не упирается в потолок купе.
— Где вожатый? Вот. — И бережно целует руку Марии Александровны.
— Умник, Марк, угадал! Именно это я хотела сказать, — ликует Маняша.
— Мамочка, мамочка, — растроганно вторит Аня, — как себя помню, ты наш вожатый.
— Ах, дети! — только и находит вымолвить мать.
В закрытую дверь слышится негромкий стук.
— Прибываем в Москву, — объявляет проводник вагона. — Прикажете носильщика?
Поезд замедляет ход. Шумно дышит, отдыхая, паровоз.
Прибыли.
Первый, второй, третий день суета, хлопоты, устройство в снятой Марком квартире. Здесь будет мамина комната, рядом Ани и Марка, Мите выделяется кабинет, тесненький, скажем прямо, не очень солидный, но отдельный, в чём и ценность: Митя студент, предстоит много заниматься.
— Где поселим Маняшу?
— Мамочка, я с тобой. Я буду неслышно спать, забьюсь в уголок. А уроки учить и играть в столовой.
Где бы ни приходилось Ульяновым жить, музыкальный инструмент — непременный спутник дома. Раньше был рояль. В Москве мама купила пианино. Как будто новый друг вошёл в дом. Маняше кажется, она не одна в комнате, если к стене прислонилось их пианино с барельефом Моцарта. У Моцарта высокий, покатый лоб, устремлённый вдаль взгляд. Маняше кажется, пианино знает их беды и радости. Иногда, прежде чем тронуть клавиши, тихонько с ним поговорит, как с живым, поделится мыслями.
В доме ещё не вполне закончено устройство. Повесить занавески на окна, приколотить к стене две-три картины и непременно большую географическую карту, как велось, когда дети росли, и прочее и прочее — хозяйственными делами под руководством мамы занимаются Аня и Марк. А Маняша и Митя отпущены исследовать «святые места» Москвы.
— В Москве много святых мест, исследуйте! — наказал на прощание Володя.
Москва белокаменная! Нет дивнее в мире столицы. Ни в одном городе мира
нет стен, храмов, зданий, сложенных из белого камня. Только в Москве! Разны её улицы, уютны кривые переулки, тенисты сады и бульвары, величественны башни. Многолики дома: одноэтажный особнячок, с затейливыми наличниками над невысокими окнами, а в нескольких шагах вельможный дворец, с флигелями по бокам для гостей и прислуги. Литой из чугуна, узорчатой решёткой обнесён широкий двор-сад, с газонами и парадной въездной дорогой, вымощенной торцовыми шашками.
Поближе к окраинам домишки ремесленников, мещан, мелких чиновников. В палисадниках цветут мальвы и золотые шары, на задворках квохчут куры, голосит петух. А совсем уж на окраинах угрюмятся невзрачные рабочие хибары, казармы.
Вся история России, все испытания России, все победы России связаны с Москвой — сердцем страны.
Святые места Москвы! Их много. Понятно, в первую очередь Митя привёл Маняшу к Московскому государственному университету. Могучий купол венчает монументальное трёхэтажное здание с колоннами, барельефом, львиными лепными масками, полукружием строгого, без росписей входа, ведущего в храм науки.
— Торжественно, даже немножко боязно, — шепчет Маняша.
— Представь, Маняша, далёкий Север, Белое и Баренцево моря, Ледовитый океан, Заполярье. Коротко здесь лето, редко солнце. Бесконечна зима. Жгучие морозы режут лицо. Или ветер нанесёт тяжёлые туманы с морей, в белёсой мгле незрячи глаза: не видно неба, утонули очертания домов, не найдёшь родного крыльца. Там, в деревне Денисовке, Архангельской губернии, под свист ноябрьских метелей в семье крестьянина-помора Ломоносова родился сын Михаил. Рос пытливый, смышлёный мальчишка. С отцом ходил в море на рыбный и зверобойный промыслы. С малолетства хотел всё на свете понять. Отчего зимой полыхает северное сияние, а летом грохочет гроза? Отчего там на сотни вёрст боло-
тистая непроходимая тундра с полчищами комаров, а там множество разного зверья обитает в нехоженой тайге? Как, когда, почему образовалась Земля? Отчего звёзды на небе?
Знать, знать, знать!
Каждую зиму из селений Поморья шли обозы с мороженой рыбой в Москву. Сквозь вьюги, морозы сутки за сутками движутся, достигая столицы. С одним таким обозом прибыл в Москву девятнадцатилетний Михаил Ломоносов. Высшее учебное заведение в Москве называлось тогда академией. Принимали только дворянских сыновей. Ломоносов сказался дворянским сыном. Не стыдился, что ложь: будь ты стократно умён и талантлив, нет тебе хода, если из низшего класса, такие в матушке-России законы. Ломоносов поборол препятствия, стал известным всему миру учёным — физиком, химиком, естествоиспытателем — нет науки, в которой не был бы Ломоносов велик.
— Митя, значит, чтобы победить, надо очень, очень хотеть?
— Важно знать, чего хочешь. Ты знаешь?
Маняша молчит.
— Неполных полтораста лет назад по проекту Ломоносова был создан Московский университет. При нём публичная библиотека, типография, издававшая первую газету России «Московские ведомости», книжные лавки, научные лаборатории, музеи. Заграница подивилась: считали Россию тёмной, вдруг такой ошеломительный взлёт! Выдающиеся учёные вышли из стен Московского университета — химики, физики, биологи, медики, философы, литераторы: Радищев, Фонвизин, Жуковский, Грибоедов, Лермонтов, Герцен, Огарёв, Чехов.
— И ты будешь учиться здесь! — в изумлении восклицает Маняша. — Воображаю: ты, наш Митя, входишь в аудиторию, в которую, может быть, входил Чехов.
— Ну, писатель-то из меня не получится.
— А доктор? Ты счастливый, Митя, у тебя цель.
— Теперь Кремль, — объявляет Митя. — Вот он, рядом. В давние времена Кремль был крепостью. Мощные дубовые стены опоясывали крепость. Позднее Дмитрий Донской впервые в России заменил дубовые стены каменными. Потом на их месте воздвигнуты новые, такие необыкновенные, что народ назвал их «Стенным видением». Башни на стенах разные, ни одна не повторяет другую, у каждой своя форма, своё украшение. «Дивным узорочьем» назвал народ украшение башен.
— Митя! Мы будто в сказке. И слова-то какие — узорочье дивное! Не слышала таких чарующих слов.
— Да, Маняша. В Кремле так много чудес, за один день всего не ухватишь, а запомни особо вон тот белоснежный столп в центре. Колокольня Ивана Великого. Заграничные архитекторы восхищаются. «Чудо! Строгая простота и величие», — говорят архитекторы всего мира, как приедут, посмотрят.
Когда-то это самое высокое здание в России было сторожевой сигнальной башней. С неё на тридцать — сорок вёрст обозревались окрестности. На колокольне двадцать один колокол. Сторожевые люди дежурят день и ночь. Завидели неприятеля, бьют в кремлёвские всполошные колокола.
Тёмная ночь, мирно спит Москва, вдруг тишину ночи обрывает грозный, властный зов колокола: «Вставай, поднимайся, народ, защищать родную землю!»
— Митя! Откуда ты это всё знаешь?
— Ещё бы мне не знать! — самолюбиво удивляется Митя. — Готовился стать московским студентом. Как выпадет свободный от занятий час, читал о Москве. Что можно в Самаре достать, прочитал.
— Ты очень образованный, Митя. Я даже не подозревала, я даже стыжусь за себя.
— Э, Маняша! Володя, вот кто образованный! И Оля была Далеко мне до них. Но пошагаем дальше.
Через торжественные въездные ворота Спасской башни они выходят на Красную площадь. «Красная» — по-славянски значит «красивая». Верно, красива! Зубчатая кремлёвская стена вдоль площади с одной стороны, с другой — длинное здание торговых рядов со шпилями, кокошниками узорчатых арок не теснят простора Красной площади. Пара кляч тащит по рельсам бренчащую звоночками конку, рысак лихо мчит лакированную коляску с дамой в широченной, как зонт, шляпе. Не спеша везёт телегу с грузом коренастый битюг, несколько прохожих нерабочего вида пересекают вдоль и поперёк площадь.
— Митя, это что? А это что?
— Погоди, не стрекочи, Маняша, не будем разбрасываться, оставим до другого раза. Сегодня да, узнаю да, точь-в-точь видел в книге, но как поражает в натуре! Смотри, Маняша, жемчужина Красной площади — так называют храм Василия Блаженного. Построен во славу русского оружия, отражавшего в разные времена нашествия врагов. Смотри, церкви и церковки, а вместе храм — памятник. У каждой церкви своё значение. Разные формы, какое богатство фантазии, как ярки краски, смотри, смотри, Маняша! А ведь строили не учёные архитекторы, а народные умельцы, мастера каменных дел. Талантлив народ, а, Маняша? Но ты устала
Они прибрели домой, в полном смысле слова еле волоча ноги. Но в упоении увиденным, растроганные, побогатевшие.
— «Москва, как много в этом звуке!» — восклицает Митя.
«Довольны, мои дорогие. И слава богу, сдружились ещё больше, чем раньше», — думает мать, любуясь детьми, молодым румянцем щёк, ярким сиянием глаз.
День за днём жизнь входит в свою колею. Марк добился, получил довольно хорошую службу счетовода в управлении железной дороги. Аня занимается переводами, но не всегда удаётся напечатать, а если — да, денег перепадает немного. Средства на жизнь дают порядочная доля жалованья Марка и целиком мамина пенсия.
— Отец и теперь нас кормит, — делится мама с детьми. — Если бы была загробная жизнь, он любил бы нас оттуда, знал каждый наш день. Но загробной жизни нет, и отец живёт лишь в нашей памяти и памяти народной. Он много сделал для народа. Много за это терпел. Начальство опасалось его влияния на людей, авторитета, передовых педагогических взглядов. И за то преследовало, мешало
святому — да, святому! — труду твоего отца, Маняша. — Г лаза матери сияют тихим светом.
Чувства бурной любви, нежности закипают в сердце Маняши. Она гордится отцом, своей семьёй. Отец и мама шаг за шагом готовили детей к жизни разумной, будили стремления благородные. «Спасибо вам! Чем отблагодарить мне вас?»
Маняша учится в гимназии. Учителя хвалят её, ставят хорошие отметки. Есть в классе подруги. Всё вроде бы есть. А чего-то не хватает. Хочется чего-то большого, что до краёв полнило бы душу, возвышало, счастливило.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
НЫЕ СУДЬБА ЛИ К ТЕБЕ ПОСТУЧАЛАСЬ?
Небольшая лекция о местности. Здесь предстоит нам пожить. Хотелось бы дольше. Местечко живописное, почти в центре, а рядом симпатичные переулочки, у каждого своя история, впрочем, в Москве что ни шаг, то история.
Так начал Митя лекцию о Собачьей площадке, где, сменив после Самары несколько московских адресов, поселилась семья Ульяновых-Елизаровых. Маняше нравилось в обществе Мити, когда выпадет час, знакомиться с Москвой. Студент медицинского факультета, он по натуре путешественник и, где бы ни случалось жить, исследует городские и сельские пейзажи, любя природу в любое время года — сверкание снега в солнечном луче, свист метели, лепет весенних ручьёв, щебет птиц, задумчивый шум леса в багрянце осени. Кроме того, ему нравится читать лекции Маняше. Видимо, в наследство от отца досталась долька педагогического дара.
— Итак, откуда взялось название — Собачья площадка? Представь, в древние времена здесь стоял псарный двор для царской охоты. Представь своры отборных, ухоженных охотничьих псов! Эх, одного бы такого красавца в Алакаевку, когда мы с Володей иной раз ходили на уток!.. Так вот, мы на Собачьей площадке.
Маняша невольно фыркает, раесмешившиеь профессорским Митиным тоном. Однако преинтересны истории окрестных улиц! Их много: улицы, улочки, переулки для царских развлечений и нужд. На Кречетниковском переулке царский Кречетный двор, где содержались для охоты кречеты — соколы. Трубниковcкий заселён был печниками и трубочистами царского двора. На Скатертном — умельцы-скатертники. На Столовом — прислужники царского стола. А Поварская для поваров, не вообще поваров — исключительно царских.
— Воображаю, какие аппетитные для их высочеств готовились кушанья! — 54 смеётся Митя.
Уютные улицы! Не все московские улицы уютны. Маняша не бывала на Хит-ровом рынке, но о нём и вообще о площадях, дорогах, окраинах, закоулках, бесчисленных рынках Москвы знала из газетных очерков журналиста-бывальца Гиляровского. Хитров рынок — трущоба. В беспорядке теснятся лавки, лавчонки, лотки с дешёвыми товарами, палатки с подержанным и краденым хламом: грязные торговки сиплыми голосами зазывают купить протухшую печёнку, селёдку. Толкутся нищие, оборванцы, калеки, воры. Мелкие воришки шныряют, норовя утянуть что придётся. Шум, гам, пьяные крики, брань.
— Мамочка, это тоже Москва? Какая разная жизнь!
Мама под вечер нередко выходит с детьми погулять, утрами — одна. Митя предписал ежедневный прогулочный режим. Мамочка слабенькая, ей необходим свежий воздух. Собачья площадка застроена деревянными одноэтажными домами. Возле каждого сад, липы и ясени кидают прохладную тень, веют благоуханием цветы — воздух свеж и душист почти как в деревне.
— Мамочка, гуляла? — первый Митин вопрос по возвращении с лекций.
— Спасибо, доктор, отлично прошлась.
Дальше Собачьей площадки она не рискует в одиночку прогуливаться, зато случалось во время прогулки познакомиться со старожилами, знающими историю чуть не каждого дома. И что же оказывается?! Во флигеле возле дома №12, где снимают квартиру Ульяновы-Елизаровы, однажды, приехав из Петербурга, останавливался молодой Пушкин. В этом флигеле впервые прочитал друзьям только законченного, ещё не опубликованного «Бориса Годунова».
— Чудо, чудо! Рядом с нами! Мы могли стать соседями Пушкина!
Маняше воображается Пушкин живым. Она ясно видит его. Вот он шагает
двором. Его ноги ступали по этим плитам! Он вдыхал аромат этого сада и, может быть, пробудившись ранним утром, собирал к завтраку цветы для хозяйки дома. Вот, прознав о приезде Пушкина, съезжаются друзья во флигель, этот еамый флигель, что и сейчас видим мы.
«Минувшее проходит предо мною —
Давно ль оно неслось, событий полно,
Волнуяся, как море-окиян?»
Пушкин читает. Друзья безмолвствуют. Минута восхищённой тишины и гром рукоплесканий, объятия, слёзы восторга.
Маняша любит Пушкина, страдая. Каждый час его жизни бесценен. Мысль о гибели разрывает сердце. «Ненавижу дантееов всех обличий!» Поглощённая мыслями, она не спеша возвращается из гимназии. Наизусть известны все дома, калитки, крыльца. Всё привычно, ничто не меняется. Но что это? На той стороне улицы над крыльцом одноэтажного с антресолями дома появилась вывеска. О чём? Маняша пересекает улицу и в изумлении читает: «Музыкальное училище сестёр Е. и М. Енесиных».
— Мама, Митя! Не угадаете, что случилось у нас, на Собачьей площадке!
— Надеюсь, не пожар, — улыбается Митя.
— Наискосок от нас, в двух шагах, открыто музыкальное училище. Совсем недавно. Я только сегодня углядела. Разве не замечательно! - ликует Маняша, сама не совсем понимая, отчего ей так радостно.
— Ну и ну? — удивляется Митя и возглашает торжественно: — Маняша, к тебе постучалась судьба.
— В самом деле, ты музыкальна, Маняша, — говорит мама. — В Самаре ты занималась с учительницей. Училище уже выше ступень. К тому же рядом. Напрасно упускать случай. Попробуй.
Маняша попробовала и через некоторое время была принята в училище сестёр Гнесиных.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
БУДЕТ ТРУДНО? ОСИЛЮ
Их было пять. Евгения. Елена, Мария, Елизавета, Ольга. Все превосходные музыкантши-консерваторки. Особо среди сестёр выделялась вторая, ярко талантливая пианистка Елена Фабиановна. Окончив консерваторию девятнадцати лет, с огромным успехом давая концерты, она задумалась о более широком поле деятельности. Не слава манила её — страстное желание шире, глубже нести музыкальную культуру в народ. Мечтала открыть музыкальное училище, где могли бы учиться музыке все: и дети и юноши. Но только способные. Барышень из богатых семейств, кому музыка нужна лишь для светского престижа, в училище не принимать. Платить за обучение ученика родители будут по средствам: зажиточные больше, бедные меньше; если талантливый ученик неимущий, то и вовсе бесплатно.
Вырастет обученное, воспитанное племя музыкантов, для которых музыка составит смысл и счастье жизни. Енесинские ученики будут делить с людьми это счастье.
Так мечтали сёстры. Много переговорено разговоров, обсуждено планов, потрачено на хлопоты времени! Добиться разрешения властей нелегко, найти подходящее помещение, приобрести инструменты, наконец, подобрать учеников- всё нелегко. Общее дело, большие планы, прочная дружба связывали сестёр. Сёстры отдавали любимому делу всё время, все силы и вдохновение. Авторитет Енесиных рос, известные музыканты и композиторы отзывались с почтением:
— Училище Енесиных, о-о!
Маняша с радостью поднималась по лестнице крытого крыльца. Сени. Обыкновенные сени, как их симбирские и самарские и другие в провинциальных 56 домах. В прихожей на стене зеркало в деревянной раме с выдвижным ящичком для писем. Венский диванчик с соломенным сиденьем. И у нас ведь такой! В комнатах изразцовые печи, цветы. Всюду цветы — в горшках, кадушках, вазонах. Как у нас! Ничего казённого, все домашнее.
Незаметно из соседней комнаты появилась Елена Фабиановна. В тёмном платье, с накинутой на плечи белой кружевной косынкой, стройна, изящна. Волнистые волосы короной поднимаются надо лбом. Чёрные глаза молодо блестят. Кажется, насквозь читают.
— Хотите быть музыкантшей? — пристально разглядывая Маняшу, говорит Елена Фабиановна.
— Хотелось бы.
— Надо хотеть без «бы».
Сказано строго, Маняша неистово краснеет от смущения.
— Ничего, не каждое слово в строку, — ободряет Елена Фабиановна и смеётся, и от её смеха Маняше становится свободно и легко.
Но Елена Фабиановна снова строга.
— Идём к роялю.
В училище Гнесиных к роялю подходят без шуток, с праздничной, полной волнения душой.
Все комнаты дома отданы под занятия. В них и живут, и ведутся уроки. Одна, просторнее др> гих, называется залом, два роскошных рояля знаменитой фирмы Бехштейн — единственная меблировка зала.
В доме Гнесиных обстановка скромнейшая, превосходны лишь инструменты. Худенький, тонкоплечий, с жидкой бородкой бессменный настройщик содержит их в идеальном порядке. Он патриот училища Г несиных.
Маняша садится за рояль.
— Держитесь прямо. Совсем прямо, — приказывает учительница. — Сыграйте любимое.
Секунду Маняша колеблется и играет начальную часть баллады Шопена о польском восстании, горькая и светлая память о ней связана с отцом, с алакаевскими днями, Олей.
— Меняйте педаль. Добивайтесь чистой педализации. Не выколачивайте концы фраз, — диктует Елена Фабиановна.
У Маняши падает сердце.
— Смелее. Не трусьте. Сыграйте гамму до мажор в противоположном движении.
Этого Маняша не умеет. Плохо. Не сказавши училищу Гнесиных «здравствуй», приходится сказать «прощай».
Елена Фабиановна трогает клавишу:
— Повторите.
Трогает другую. Пробегает по клавиатуре:
— Повторите мелодию.
И неожиданно:
— N вас отличный слух. И пальчики хороши.
Маняша млеет от счастья. «Значит, останусь учиться у Гнесиных. Буду
учиться, учиться. Стану настоящей музыкантшей. Мама-то как будет довольна! II Аня, и Митя. Напишу Володе, обрадуется!»
— Вам будет тяжело, — остерегает Елена Фабиановна. — Утра в гимназии, два-три раза в неделю училище и ежедневно пять-шесть часов игры дома. Ежедневно! Осилите?
— Да.
— В гаком случае будем друзьями. Вы вселяете в меня надежды. Но знайте. ежедневно шесть часов игры, иомимо прочих обязанностей по гимназии, дому.
— Осилю.
Елена Фабиановна пожимает Маняше руку, хорошо улыбается.
Маняша уходит от Гнесиных, влюблённая в их несмолкаемо звучащий дом и Елену Фабиановну. Царственно величавая, она пленительно проста. Строгая, порой до суровости, приветлива, весела. Часто в весёлости её шаловливость. Пушистая, чёрная без пятнышка, зеленоглазая кошка расхаживает из комнаты в комнату, открывая мордочкой дверь.
— Пчёлка! — зовёт Елена Фабиановна, теребит, ласкает. Хвастает: — Гляньте на нашу красавицу!
Повезло Маняше, что попала в училище — талантливый дом сестёр Гне-синых.
— Взяли аль нет? — участливо спрашивает в раздевалке гардеробщица тётя Лина. У неё сморщенное, как печёное яблоко, лицо, чем-то, наверное ласковостью, она напоминает Маняше няню Варвару Григорьевну. На самом деле её зовут Акулиной, но Елена Фабиановна находит, что имя Лина произносится благозвучней и легче.
И это нравится Маняше, всё нравится.
Дни стали быстры, неделя за неделей бегут. Радостно жить бегом, когда ты молода, увлечена до самозабвения, здорова. Но Митя, озабоченно поглядывая на сестру, прописывает ей принимать железо от малокровия и хотя бы час в день гулять.
— Сопровождай маму.
— Мамочка, всё бы превосходно, жаль только, меньше удаётся быть с тобой. Я очень люблю тебя, мамочка! А в училище так интересно, необычно, не похоже ни на одну школ>.
Например, экзамен в училище Гнесиных не испытание, а праздник. Пз всех комнат приносятся стулья, ставятся в зале рядами. Преподаватели занимают места среди учеников, начинается концерт. Елена Фабиановна приглашает друзей, знакомых актёров, музыкантов. Однажды после концерта Маняша услышала:
— Летом жду, Елена Фабиановна, всех сестёр к себе в деревню.
Говорил гость, человек среди их лет, с внимательным взглядом светло-серых глаз из-под высокого лба. В костюме, манере держаться что-то неуловиую его отличало от прочих. Маняща впервые его заметила в гнесинском зальце, видимо, он был нечастым гостем, но, должно быть, желанным.
— Спасибо, Дмитрий Дмитриевич, — отвечала Елена Фабиановна. — Бывать у вас — одно наслаждение, всё дорого на вашем I [олотняном заводе, каждое дерево помнит
Маняша вся обратилась в слух и внимание. «Полотняный завод? Не тот ли?» Оказывается, именно тот, родовое имение предков Натали Гончаровой. А гость сестёр Гнесиных Дмитрий Дмитриевич Гончаров — внучатый племянник Натали. Маняша винила Натали в судьбе Пушкина: светская красавица, эгоистка, не умела ценить Пушкина, не понимала. Но она его жена. Он её любил: «Моя Мадонна, чистейшей прелести чистейший образец».
Кто же племянник её, нынешний владелец Полотняного завода? Светский жуир? Нет, не похоже Капиталист, как тот, погубивший Петю Сумарокова Иван Кузьмич, разоритель народа, душитель? Нет, он не Иван Кузьмич, он иной. Нынешний владелец Полотняного завода установил для рабочих восьмичасовой рабочий день. Сам освоил все рабочие профессии на своём заводе, может стать за любой станок. На его Полотняном заводе скрываются революционеры от слежки жандармов. Молодой друг Елены Фабиановны, 4иатолий Васильевич Луначарский, находил там убежище. Вот что такое нынешний Полотняный завод!
«Если бы мог знать Пушкин! — в волненье думает Маняша. — Что сказал бы он? Конечно, гордился бы, что потомок Натали человечен и смел. И я горжусь, и даже Натали стала мне милей, и всё дороже и ближе Пушкин».
— Вы умеете чувствовать, значит, способны стать музыкантшей, — сказала Елена Фабиановна. Добавила строго: — Мало работаете. Меньше, чем надо. Оставить всё. Только музыка.
«Неужели пуп. избран? — спрашивала себя Маняша, верила п сомневалась. — Оля была способнее музыкально. У Оли были другие таланты. А у меня? Что у меня? Буду ли я? Смогу ли? Но приказываю себе: не сдаваться! Работать. Может быть, и добьюсь. Может быть, это и верно мой путь?»
Наступил декабрь 1895 года.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
СОЮЗ БОРЬБЫ ЗОВЕТ В ПОХОД
Негромко звякнул колокольчик входной двери. Маняша. не успев снять форменное платье и передник после гимназии, побежала в прихожую отворить. Молодая женщина, разрумянившаяся на морозе, в котиковой шапочке и недлинной зимней жакетке, на которой ещё не остыли снежинки, перешагнула порог. — Надежда Константиновна?!
Маняша никогда не видела её, слышала от Ани, но не видела.
Чутьё подсказало: она.
— Надежда Константиновна! — повторила, пугаясь её встревоженного взгляда. — Беда?
— Нет. Неприятность, но не беда. Можно видеть Марию Александровну? Очень срочное дело.
— Мамочка, мамочка! К нам из Питера. Пожалуйста, раздевайтесь, Надежда Константиновна, давайте жакетку сюда, на вешалку. Ах, как мы рады, я рада! Володя не болен? Что с Володей?
Она забросала нежданную гостью вопросами. Надежда Константиновна понравилась ей с первого взгляда. Володина невеста! Никто не говорил ей, что невеста, но она уверена, как хотите, уверена! Маняша во все глаза разглядывала её, чем дальше, сильнее располагаясь симпатией. «Как просто держится, как естественно говорит! Не красавица, а что-то в ней неотразимо притягивающее. Открытый взгляд, раздумье, чуть строгость и вместе доверчивость в выражении лица. Она любит Володю».
Вошла мама, смертельно побледнев при виде Надежды Константиновны. Та вскочила со стула.
— Успокойтесь, Мария Александровна! Случилось, но не самое страшное. Владимир Ильич арестован, в тюрьме, в Доме предварительного заключения, это легче Петропавловской крепости: за решёткой, но не самое страшное. Я приехала вас известить и но делу.
— Расскажите.
— В Петербурге Владимир Ильич, вы знаете, сразу нашёл товарищей, — заспешила, заволновалась Надежда Константиновна. — У него всегда У него всегда товарищи. С первых встреч все поняли, он особенный человек. Удивительный Прозвали «Стариком». Старик, а ему двадцать три Поражаешься, сколько нового внёс он в рабочее движение! А дело, с каким я приехала, заключается в следующем. Когда этим летом, под осень, Владимир Ильич вернулся из-за границы
— Да. И раньше Петербурга заехал к нам, — перебила Аня.
— И привёз чемоданы, — продолжала Надежда Константиновна.
— Помним, помним! Такой красивый жёлтый чемодан!
Мария Александровна, нервно теребя на кофточке пуговицу, упавшим голосом спросила:
— Что же в том такого? Что-то опасное? Чую, опасное. Надежда Константиновна, скажите откровенно.
— Только откровенно! Возвращаясь из-за границы, Владимир Ильич вёз домой порядочно литературы, всё нелегальное, политическое. Знает, нельзя, но соблазнился. Заказал в тамошней мастерской чемодан с двойным дном и упрятал запрещённые в России книги. На нашей пограничной станции при таможенном осмотре чиновники — цап! Повертели, постучали. Владимир Ильич понял: уловили по звуку второе дно. «Влетел!» Но его не задержали в тот чае. Специально отпустили, чтобы вести наблюдение. Шпики и раньше следили за ним, а теперь уж вовсе: чемодан с двойным дном — для жандармов улика. Выследили,
с кем связан, у кого из рабочих бывает, что агитирует. Ну и девятого декабря арестован.
— И что нужно? — тихо уронила Мария Александровна.
— Купить похожий чемодан и, если к вам придут с обыском, что вполне вероятно, сказать, что да, это и есть тот, который Владимир Ильич, возвращаясь из-за границы, оставил дома, в Москве.
Аня быстро вышла из комнаты, мигом вернулась в шубе и шапке.
— Иду искать чемодан.
— Важно, чтобы более или менее похожий. Я с вами, — поднялась Надежда Ко нстантиновна.
Всё делалось скоро, без лишних слов, без ахов и охов.
А Маняша проводила маму в её комнату:
— Мамочка, тебе надо лечь.
— Не хватает заболеть, самое время. Ничего, пустяки, стариковские штучки, — пыталась улыбнуться мама.
Но какие уж там улыбки! Не до улыбок. У неё еле шевелились губы.
Маняша капала в рюмку капли Зеленина, поила с ложечки чаем, Митя побежал за врачом. Маняша поминутно поглядывала в окно:
— Как медленно тянется время. Как долго они не идут с чемоданом. Несносно ждать!
— Напрасно нервничаешь, не сразу найдёшь, что ищешь, — урезонивал Митя.
До прихода врача он проверял мамин пульс, ставил градусник, озабоченно
хмурил брови и не переставал повторять:
— Мамочка, спокойно полежи два дня, от силы три, не больше. Немного откроем форточку, дохнём свежим воздухом
Наконец чемодан принесён. Новёхонький, жёлтый, как и требуется — ни пятнышка, ни царапинки.
Нет, так не годится, ведь он приехал издалека и ничуть не постарел, и бока не помяты. По-до-зрительно
— Маняша, за дело! — скомандовал Митя.
Досталось бедному чемодану. Его тузили кулаками, швыряли, запихивали под кровать, пока не убавили в нём щегольства — теперь подозрений не вызовет.
А потом вечер сидели в столовой тихо-нретихо. чтобы не беспокоить маму, и Надежда Константиновна рассказывала о петербургской жизни Володи.
Владимир Ильич приехал в Петербург с явками, то есть секретными от полиции адресами верных людей. Явки дали самарские друзья, сначала в Нижний Новгород, зачем он и останавливался гам по дороге в 11етербург. В Нижнем Новгороде Владимир Ильич повидался с товарищами, студентами Петербургского политехнического института. Они проводили каникулы в Нижнем, а осенью возвратились в Петербург на занятия. Все марксисты. В скромной комнатке на Васильевском острове произошло совещание: решено было организовать рабочие революционные кружки, изучать марксистскую науку. Позже эти кружки получат название «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».
Маняша замерла, услышав эти большие слова. «Союз борьбы» Как набат, зовущий в поход против несправедливостей, насилий фабрикантов, купцов, помещиков. В поход за правду, народное счастье.
«Володя, это ты!» — восхищённо думала Маняша.
И Надежда Константиновна сказала: да. Открывать рабочим марксистскую науку революционной борьбы учит Владимир Ильич. Готовиться к свержению царя, созданию рабочей и крестьянской власти.
На фабриках, заводах в Петербурге, скоро и в других промышленных городах и в Москве образовались кружки «Союза борьбы».
Давно глубокая ночь. В соседних домах погасли огни. Улица погрузилась в темноту.
— Вы устали? — застенчиво спросила Надежда Константиновна.
— Нет, нет! Говорите!
— До утра! Пожалуйста, всю ночь, до утра! — сложив просительно руки, взмолилась Маняттта.
Они и просидели при свете слабенькой лампы почти до рассвета.
Узнала Маняша то, о чём смутно догадывалась ещё в Самаре, слыша иногда беседы Володи с товарищами. Она прочитала «Коммунистический манифест», но его призывы казались ей непостижимо далёкими. И вдруг брат Володя поднимает сотни, тысячи рабочих, вдохновляет верой и знанием. Пишет листовки, книгу. Надежда Константиновна наизусть прочитала конец книги, написанной Маняшиным братом:
— « Русский рабочий, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведёт РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с пролетариатом ВСЕХ СТРАН) прямой дорогой открытой политической борьбы к ПОБЕДОНОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ».
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
ЖДЁМ, ЖДЁМ ПИСЕМ ИЗ ПЕТЕРБУРГА
На следующий день Надежда Константиновна и Аня уехали в Петербург.
Маняша посещала гимназию. Без подъёма. Неинтересны уроки, нет охоты побыть с подругами. Училище сестёр Гнесиных, занятия там интересны захватывающе! Каким счастьем было бы стать музыкантшей, жить в этом волшебном мире! Но последнее время Елена Фабиановна, хмуря брови, иногда замечала: «Дружок, ты не всю себя отдаёшь музыке. Музыка требует труда неустанного».
Маняша трудилась, но не могла отдавать себя музыке всю. Многое другое 64 требовало времени. «Вот кончу гимназию, тогда уж » А теперь, когда с Володей
случилась беда, тревога о маме захватила полностью душу. Домой, домой, к маме! Мама слабенькая, худенькая, утомлялась говорить, ей лучше слушать Маняшу. О своей сегодняшней жизни Маняше скучно рассказывать. Скорее бы поправилась мама, поедем в Петербург, увидим Володю, услышим голос, чем-то поможем.
— Ведь я и раньше помогала, хоть немного, ещё в Самаре. Кто доставал ему книги, помнишь, мама? Бывало, притащишь целую кипу «Историю французской революции» сама хотела прочитать, но трудно. Теперь прочитала. И ещё много книг, Володя составил мне список. Мама, мне кажется я поняла понимаю Володино новое, что он принёс, что Надежда Константиновна сказала Может, не до конца, но главное понимаю.
Снова смысл жизни всего дома в ожидании писем. Аня писала из Петербурга маме и Марку. Нечасто, скупо, намёками. Письма читались, перечитывались вслух и наедине. Сообщалось в письмах, что «больной» выглядит бодро, и мамино лицо озарялось нежной улыбкой, все оживлялись, как будто в комнате светлеет, словно солнечный луч прорвался сквозь ледяные узоры зимних окон. «Но надеяться на скорый выход из больницы нельзя».
«Из тюрьмы», — мысленно переводит Маняша. Тюрьма Само слово страшит. Решётка, железная дверь камеры, узкая щель окна под потолком, ни на секунду солнца, полумрак, одиночество. Как подумаешь, зябкая дрожь побежит по телу, холодом обольёт сердце. Что там с Володей?
Михаил Александрович Сильвин, Володин петербургский товарищ, второй после Надежды Константиновны вестник беды, горячий и громкий, не мог усидеть на месте двух минут, срывался со стула, бегал по комнате.
— Гиганта заперли в клетку! Что делать за решёткой человеку силищи непомерной, закованной в цепи? Чем жить? Как жить под семью замками великану, которому дан огромный талант действовать?
Но иногда Анюта напишет: «С В. поболтала нынче целый час, он бодр по-прежнему».
— «Поболтали» — повторит мама.
Она вдумывается в каждое слово с надеждой и страхом. Взвешивает, строит догадки. Аня всячески оберегает её, дурное скроет или смягчит, но если бы было очень уж худо, не написала бы «поболтали».
— Верно, дети? Верно, Маняша?
Маняша согласно кивает, а мама, оглядываясь по сторонам и на дверь, словно кто-то может услышать, опасливо:
— Никогда, ни с кем чужим ни слова о том, что с Володей, и о том прошлом.
— Конечно, мама.
Так и не посвятила Маняша ни маму, ни кого другого из семьи в одну историю. Это случилось вскоре после Самары и уже позабылось, тем более что последствий ведь не было. Какие могли быть последствия?! Ничего не могло быть, однако
Среди одноклассниц Маняши выделялась одна по имени Тата. Имя поначалу немного царапнуло. Вообще Маняша не сразу сближалась е людьми. Живая и разговорчивая дома, при чужих сжималась, уходила в себя. Застенчивость мешала быстро завязывать знакомства, тем более дружбы. Но к Тате любопытно приглядывалась. Улыбчивая, с ямочками на розовых щёчках, светлой косой, узенькими дужками чёрных бровей, Тата была прехорошенькой. Маняше хотелось делить её веселье и смех. Как все девочки в классе, она любовалась грациозностью Таты, когда на уроке танцев она вырисовывала ножками на паркете замысловатые па. Учительница танцев, в прошлом балерина Большого императорского театра, при своей полноте и солидном возрасте лёгкая, как мотылёк, хвалила способную ученицу: «Прелестно! С вашей внешностью и происхождением, Тата, — я слышала папу приглашают с повышением в столицу? — с вашими данными вы можете в Петербурге стать фрейлиной императорского двора, я надеюсь, при связях Раз-и, два-и »
В первые дни поступления Маняши в московскую гимназию «фрейлина» бросила на ходу: «Новенькая? Из Самары? Перевели папу? Ах, умер »
Она сочувственно качнула головкой и упорхнула. И как ни странно, продолжала издали нравиться Маняше. Странно, потому что случалось Маняше услышать Татину болтовню с подружками о туалетах, модных причёсках, кавалерах, званых вечерах Темы для Маняши чужие до непонятности. Странно потому, что опять же случай, но узнала Маняша, что Татин отец немалый чин в жандармском управлении. Это смутило, хотя разве обязательно дочь повторяет отца? Помните Софью Перовскую?
Но довольно скоро, на перемене Тата необычно замедленной поступью приблизилась к Маняше и, похолодевший взгляд устремив в упор, произнесла заученно: «Папа в разговоре заинтересовался твоей фамилией. Ты не из тех Ульяновых, у которых был сын преступник, его повесили, покушался на государя? Неужели твой брат?»
Голубенькие стёклышки Татиных глаз кололи, выпытывая. Маняша оцепенела.
«Ну, конечно! — с привычной беспечностью поняла по-своему Тата. — Слава богу, слава богу, вы не те Ульяновы. Однофамильцы. А я испугалась, неужели брат преступник? Ужас, стыд, если бы брат!»
Задребезжал звонок, приглашая к уроку. Подружки угодливо подхватили «фрейлину» Тату, увлекли в класс.
Маняша не помнит, как шли и кончились уроки. Как шла и вернулась домой Машинально переоделась в домашнее платье. Все собрались к обеду, кроме Мити, он жил в вольном, вернее, трудовом студенческом ритме, огорчая маму беспорядочностью питания и сна.
Маняша молча села за стол.
— Ты странная сегодня, — заметила мама.
— Тебе кажется, мамочка, — не поднимая головы, отозвалась Маняша, пряча растерянность. Она смятенно решала, стыдно или не стыдно, правильно или неправильно, что промолчала на Татин вопрос. Но ведь помнила же она открыв-
шееся ей однажды: «Конспирация». Давая ей книгу Чернышевского, очерк Успенского, статьи Добролюбова, «Коммунистический манифест», Володя приказывал: «Конспиративно!»
Маняшино молчание о братьях и есть конспирация.
До глубины души её поразило другое. В книгах она нередко встречала враждебных Володиному делу людей, то есть врагов рабочего народа, карателей свободы мысли, хищников, как Иван Кузьмич из повести «Книжка чеков». Володя называл их классовыми врагами. Маняша знала их но книгам, в жизни встретила впервые. Да, хорошенькая, чистенькая, улыбчивая Тата — классовый враг. Не в том её вина, что дочь жандарма, она, сама она, чужда и враждебна Маняше. Достаточно вспомнить вонзившийся, как осиное жало, взгляд Таты, убийственный тон.
«Рассказать маме? — терзалась Маняша. — Из Татиных вопросов ясно: не только самарские и здешние сыщики знают, помнят, следят. Сказать маме? Лишний раз бередить рану?»
Она не сказала.
Вскоре Татиного отца, жандарма, перевели, повысив чином, в столицу, он уехал с семьёй.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
ХОЛОДОМ ОБЛИВАЕТСЯ СЕРДЦЕ
Марк взял билеты в двухместное купе на поезд Москва — Петербург. Помог собрать вещи, проводил на извозчике до вокзала. Легко, как бы без всяких усилий, просто.
— Марк, вы опора нашей семьи, — сказала мама.
— Моей семьи, — ответил он.
— Милый! — обняла его мама.
Войдя в купе, она молча легла, сомкнула веки. Маняша села напротив, приткнувшись в уголок, не отводя взгляда от мамы. У мамы подрагивают веки, значит, не спит. Понимает Маняша: две тягостные дороги мучительно видятся маме. Девять лет назад такой же ночью она ехала в Петербург проститься с Сашей, приговорённым к казни. «Где ты нашла силы, дорогая, бесценная мама, не рыдать навзрыд, не вопить по-бабьи о гибели сына? Где нашла силы проститься без стона, не споткнувшись, выйти из камеры? С поднятой головой миновать в тюремном коридоре смотрителей!»
Через четыре года та же дорога на похороны дочери, щедро, как братья, одарённой талантами. «Нет тебя, Оля. До отчаяния несправедливо оборвалась твоя юная жизнь».
Что ждёт теперь? Какая кара готовится третьему ребёнку?
Поезд мчит. Из окна видно, летят леса, шатровые ели дремуче раскинули низко над землёй широколапые ветви, весело зеленеют молодые рощи — летят навстречу поезду.
К ночи изредка мигнёт огонёк полустанка. Весенний день долог, ночь коротка, бледны звёзды на чуть темнеющем небе.
Аня, уже с полгода поселившаяся в Петербурге для заботы о брате, встретила их на вокзале. Оживлена, ни хмуринки, и страх немного отпускает маму.
— Здоров?
— Вполне. Представьте, даже поправился. Читает, работает. Только поспевай таскать ему книги, да толстенные, прямо умаялась. Ладно, Маняша на подмогу приехала. Устраивайтесь, дорогие гости!
Аня заказала им номер в гостинице. Они подгадали приехать в день тюремных посещений. Сегодня же к назначенному часу Аня повела маму на свидание.
Маняша осталась одна. Гостиничный номер неуютен, обстановка казённая, занавески на окнах пропитаны пылью. Они здесь ненадолго, Аня устроит их где-нибудь лучше. Но сейчас так всё не располагает, так чужеродно.
Сцепив на груди руки, Маняша меряет вдоль и поперёк комнату. На дворе солнце, а ей зябко. И грустно. «Пойду, погляжу Петербург», — решает она.
Петербург ей нов. Она знает о нём из гимназических учебников и из Пушкина. «Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное теченье »
Но у Маняши, как у мамы, с Петербургом связаны лишь горькие воспоминания. Она идёт Невским проспектом, холодно обозревая роскошные дворцы и особняки с фронтонами, лепными украшениями. Ничто не радует взора. «Я лишена эстетического вкуса», — выносит Маняша себе приговор. В самом деле, как не поразиться парадному зрелищу античных скульптур в Летнем саду и вздыбленных коней у Аничкова моста, поэтичной простоте улицы Росси, Невы «державному теченью»! Строгая торжественноеть архитектурной мысли во всём.
Маняша остановилась на Невской набережной. День безветренный. Смирно лежит в гранитных берегах, не колебля волн, могучая река. Маняша глядит. На том берегу Петропавловская крепость. Каменные стены отвесно падают в Неву. Зловеще вскинулся острый шпиль крепости. Безмятежно голубое небо над ним. И страшно, и ледяным холодом обливается сердце. Там, за осклизлыми от вечного плеска волн крепостными стенами, был Саша. Мама приходила сюда на набережную и смотрела на крепость. Гй долго не давали свидания. Она приходила сюда и смотрела.
Теперь за решёткой Володя
Маняша неистово жалела его! Но разве можно жалеть человека, которого люди называют гигантом? Разве позволит себя жалеть гигант? А слёзы стоят в груди.
«Нюня, чувствительная барышня! Нет, я не барышня. Я преклоняюсь перед ним, его делом, и я буду » Маняша не осмеливалась даже мысленно назвать себя революционеркой. Много перечитано, узнано, передумано, а где дело? Большое?
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
НИ ЕДИНОГО ЛИШНЕГО СЛОВА!
Мама вернулась со свидания усталая, потрясённая и счастливая.
— Здоров. И такой, Маняша, живой, ничуть не подавлен, даже шутит. Какое мужество, верно, Аня?
— Твоё мужество, мамочка! Не забуду, как ты навестила меня в тюрьме Маняша, ты слышишь, приходит на свидание после Знает и ни слова. Щадит меня. Как силы хватило! Только крепко обняла. Это ли не мужество? Мама, святая
— Страшное свалилось на нас, — тихо выронила мама.
Опустилась в кресло, откинулась на спинку, худенькая, хрупкая, откуда силы?
Маняша встала на колени, расшнуровала ей башмаки, сняла.
— Мамочка!.. — всхлипнула.
— Летом будем жить на даче, — заторопилась Аня. — Я обследовала окрестности, нашла вроде подходящую дачку, верстах в тридцати от города. Главное, печка есть, хозяйка согласилась топить. Петербургский климат сырой, не дадим тебе, мамочка, мёрзнуть.
— Печка? Чудесно! — похвалила мама. — Будем с Маняшей стряпать для Володи обеды, по очереди будем носить, да, Аня?
— Да, конечно, да! Тюремный врач разрешил, у Володи катар желудка, не пугайся, мама, не острее, чем раньше. Тюремный врач оказался человеком, и вообще Володя как ни в чём не бывало читает, читает
— Не слишком ли много?
— Не тревожься, мамочка, Володя осторожен и благоразумен: ежедневно зарядка, приседания, наклоны-всё что полагается. Важно, настроение бодрое. Ульяновский оптимизм. Папа был оптимистом. Маняша, послезавтра пойдёшь на свидание, смотри у меня, не хныкать!
— Я? Хныкать? Когда я хныкала?!
Неделя, месяц протекут быстрей, чем один день — послезавтра. Маняша изнывала от нетерпения. Аня, сочувствуя её неспокойствию, равно как и для будущего, задала ей урок:
— Берёшь любую книгу, отмечаешь точечками буквы в словах, которыми намерена что-то мне сообщить. Я по точечкам прочитаю. Это называется «тайнопись».
Маняша взяла книгу. Не так-то легко справиться с тайнописью, тем более в первый раз. Порядочно попыхтела Маняша. зато на время вылетела из головы томительная мысль о послезавтрашнем походе в тюрьму.
— «Последняя туча рассеянной бури», — прочитала по точкам Аня. Качнула головой.
— Плохо?
— Напротив, хорошо. Быстро усвоила тайнопись.
— Что же головой качаешь? A-а, «туча» — тревожно?
— Тес — Аня взглядом указала на маму. — На свидании, и с мамой, и вообще не говорить лишнего.
В неделю разрешалось два свидания. Одно за железной решёткой, через которую и вёлся разговор заключённого с посетителями, а надзиратель прохаживался мимо, слушая, что говорят. На это свидание пускали двух человек. Второе называлось личным. Допускался один посетитель из родственников.
Мама и Аня виделись с Володей через решётку. Маняше выпало идти одной.
— Детка, подожди следующего раза, — уговаривала мама, — пойдёте с Аней вдвоём. Одной грустно.
— Подождать? Ни за что!
Сумасшедше бухало сердце, когда, следуя за тюремным служителем, Маняша шагала длинным, узким коридором с каменными стенами. Каменные плиты пола гулким эхом повторяли шаги. Приземистая фигура, тяжёлые плечи и гнетущее безмолвие служителя пугали. Казалось, ведёт её какая-то механическая машина, бездушный истукан в человеческом обличье.
«Спокойно», — мысленно приказывала себе Маняша, но сердце не слушалось. Приёмная камера для свиданий, обставленная несколькими табуретками, была пуста. Служитель внезапно исчез. Маняша стояла, ждала. Через какое-то, Маняше показалось, нестерпимо долгое время исчезавший тюремный надзиратель появился. За ним Володя.
— Пичужка!
Он назвал её детским, радостным, им, Володей, придуманным прозвищем.
Она кинулась ему на грудь, обвила шею руками и, чтобы надзиратель не понял, залепетала по-французски:
— Милый, милый, как мы соскучились, милый
— На чужом языке говорить не положено, — оборвал надзиратель не то чтобы грубо, но с внушительной строгостью.
— Противный, — шепнула Маняша на ухо брату.
— Шептать тайные секреты не положено, — раздалось так же внушительно строго.
Владимир Ильич улыбнулся Маняше, глаза его искрились, он действительно — права мама — совсем не подавлен, жив, бодр. Володя, брат!
— Говори громко, Маняша, не стесняйся, какие могут быть тайны? Рассказывай, чем дышишь. Как идёт музыка?
— Я оставила училище Гнесиных.
— Жаль. Наверное, мама огорчена.
— Жаль, но музыка требует всего человека, делить с чем-то нельзя.
— У тебя есть, с чем делить? Ты знаешь?
— Пока не совсем, но перейдём к другой теме, — схитрила она, чтобы усыпить бдительность надзирателя. — Я больше люблю, чем не люблю людей, а некоторых ужасно как не люблю Ивана Кузьмича ненавижу.
— У тебя давнее чувство нелюбви к нему, — ответил он, догадываясь, что она хочет сказать, кого подразумевает под Иваном Кузьмичом.
— Ненавижу сильней и сильней! — с яростным жаром повторила она.
— Ну, рассказывай подробно о доме, где бываешь, есть ли друзья?
Маняша поняла: опасается, как бы она не хватила лишку в своей исповеди,
не вызвала бы подозрений надзирателя. И она перешла к недавним впечатлениям и мечтам, когда ей казалось, волшебный мир музыки станет навсегда её миром. Рассказала о флигеле Пушкина и вспыхнувшей в ней е новой силой восхищённой любви к поэту. О беглой, но поразившей её встрече с внучатым племянником Натали Гончаровой, нынешним владельцем Полотняного завода, передовым человеком, и «представь, сочувствует вам, — чуть не сказала — революционерам, но спохватилась, — вам, хорошим людям, сочувствует». Рассказала о том, как они славно живут на Собачьей площадке, только уж очень скучают по нему.
Он ласково слушал.
— Хочу большого настоящего дела, чтобы горела душа! — бурно вырвалось у неё.
Минутная пауза. Долгий внимательный, изучающий взгляд. И ответ:
— Музыка требует всего человека. Всерьёз. Навсегда.
«Что такое? Ведь я призналась ему», — оторопела Маняша. Но Владимир Ильич, лукаво подмигивая, косится в сторону надзирателя, сидящего на табурете у противоположной стены. Тупое выражение лица, украшенного щёголь-ски закрученными усиками. Расставлены ноги, ладонями опёрся на колени.
«О музыке для отвода глаз», — поняла Маняша.
— Свидание окончено, — объявил надзиратель, поднимаясь с табурета, шумно его оттолкнув.
— До следующей встречи, Маняша, — простился Владимир Ильич. И с тем же долгим, нежно внимательным взглядом: — Аня передаст тебе мою просьбу.
Каменный коридор, отвечаюший гулким эхом шагам. Слепящее после тюремного мрака сияние солнца. Шум, говор, движение улицы. Жизнь.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
ВСТРЕЧА С ТОВАРИЩЕМ ПАВЛОМ
Время тянется, Аня ни слова о Володиной просьбе. Маняша не задаёт вопросов, догадываясь, Аня молчит неспроста: обучает младшую сестру конспирации. Не говорить, не спрашивать лишнего, держать язык за зубами.
«Когда наконец им станет ясно, да, младшая, но не маленькая, поймите! Весной окончила гимназию, пора начинать взрослую жизнь. Ту, какой живёт Володя. Пусть не сразу в полную силу, но пора начинать! Как? Где? Должно быть, когда Аня передаст Володину просьбу, это и будет подсказкой — как, где».
Канул день, второй, третий Маняша помогала маме готовить для Володи диетическую еду — молочную кашу, тушёную свёклу, картофельное и морковное пюре. Аня отвозила передачу, доставала в библиотеках для Володи статистические сборники, тащила в тюрьму, провожала маму на очередное свидание. Аня по горло занята, а Маняша со своими мыслями, мечтами, неясными планами нетерпеливо ожидала Володину просьбу. Бродила дорожками тихого посёлка. Аня сняла там в бревенчатом флигеле две комнаты с крылечком, заменявшим террасу. С крылечка ступени вели в садик, где на круглой клумбе цвели лиловые ирисы да пяток сосенок стояли кружком, словно девочки в зелёных платьицах ведут хоровод. Всё по-фински аккуратно — хозяйка дачи финка — и крошечно. Где наш тенистый алакаевский сад, дремучий лес — печальное кукование весенней кукушки, птичий гам, мелькание среди ветвей резвых белок?
— Получай, — объявила однажды Аня, передавая Маняше толстенный статистический сборник, полный таблиц, сводов, цифр о числе заводов и фабрик, количество рабочих в Тверской губернии. — Тебе здесь письмо. Найди, прочитай, узнаешь, что делать.
И никаких объяснений. Маняша полистала сборник, ища письмо. О! Бестолковая. Научили тебя тайнописи?
Принялась искать точки. Читать оказалось труднее, чем писать точками. Много часов просидела Маняша над статистическим сборником, пока поняла Володину просьбу.
Надо отнести записку от Николая Петровича. Адрес: Огородный переулок близ Путиловского завода, третий дом по левой стороне с краю. Спросить Павла. Сказать пароль, а дальше: «Товарищ Павел, союз активно продолжает работу: листовки, стачки ведутся. Но мало одних экономических требований, настало время неустанно звать рабочих к политической борьбе против самодержавия. Листовки должны объяснять политические задачи, революция — наша цель. Рабочих надо готовить к завоеванию цели».
Застать товарища Павла дома надёжнее всего воскресным утром, пораньше, объяснила Аня. Посоветовались, говорить ли маме о предстоящем визите Маняши на Огородный переулок. Решили, не надо. Будет волноваться: девочка
идёт к незнакомому человеку, каков он? Пусть его рекомендует Володя, но всё же удобно ли девочке идти в чужой дом, к чужим людям? А в чём состоит поручение? А если Маняша попадёт в лапы жандармов? Товарищ Павел, безусловно, политический деятель, безусловно, под полицейским надзором. Маняша и жандармы — страшно подумать! Нет, не будем пугать маму.
Маняша добралась до Нарвской заставы. Величественные Триумфальные ворота с шестёркой взвившихся на дыбы бронзовых коней на минутку задержали внимание. Всего минутку. Дальше, дальше. Скорее.
Грязный, захламлённый тракт вёл к Путиловскому от Нарвских ворот. Казёнки, мясные, булочные и другие лавчонки, затрапезные домишки теснились но обе стороны пыльного тракта. Лишь изредка дохнёт прохладой старый, запущенный парк, глянет из-за столетних лип бывший княжеский особняк, проданный обедневшими хозяевами нажившемуся купцу, какому-нибудь Ивану Кузьмичу, презрительно подумала Маняша.
За Нарвской заставой Петербург не тот, что в центре. Нет дворцов, античных скульптур, знаменитых памятников, узорчатых решёток — заборы, заборы. Хибары. Здесь не великодержавная столица — окраина.
Огородный переулок, в десяти минутах от Путиловского завода, воскресным утром молчал, трубы не дымили, не слышен гром заводских пушек на полигоне, где их испытывают, ни гудков, и похожи, как близнецы, друг на друга двухэтажные дома, обшитые тёсом, тёмным от дождей и годов. Скучно на них смотреть, так одинаковы. Садов и палисадников под окнами нет, торчат возле крылец две-три тонкостволые осинки. Это доходные дома, хозяева сдают каморки рабочим. Есть и «угловые» жильцы, снимают угол, тут их топчан для спанья. Можно заблудиться в унылых — не отличишь от сараев — домах. Но Маняша твёрдо помнила: третий дом слева, постучаться в такую-то дверь. Спросить Павла. Сказать пароль: «Тётенька Агаша велит кланяться». В ответ услышать: «Спасибо за добрую весть».
Дверь отворил молодой человек в белой, по случаю воскресного дня, рубашке, с распахнутым воротом. Волнистые волосы откинуты назад, открывая высокий чистый лоб, а в общем-то внешность обыкновенная, ничем не примечательная. Но улыбнулся, и лицо посветлело.
Он провёл её в свою комнатку — стол, два стула, железная кровать, в горшке на подоконнике пламенно полыхает цветок, на сколоченной из досок полке десятка два книг. Зоркий Маняшин глаз вмиг разглядел: Толстой, Чехов, Писемский
— У меня к вам записка, — после пароля сказала она.
Никакой записки не было. Маняша должна была вытвердить её наизусть, чтобы не нарваться на жандарма. Тогда верная решётка.
— Николай Петрович поручил передать
И Маняша слово в слово, из осторожности полушёпотом пересказала написанное точками на страницах статистического сборника о состоянии промышленности в Тверской губернии.
— Мы сами об этом догадывались, - задумчиво вымолвил Павел. ЗакурИлл.- Можно?
— Можно, курите. О чём вы догадывались?
— О политике. Тесно стало в старых рамках. Разоблачаем хозяев, эксплуатацию вскроешь, вырвешь кроху: со штрафами полегчает, двенадцать часов спину над станком гнёшь, часок скинут — считай, победа.
— Я тоже раньше так думала, — почему-то вдруг открылась Павлу Маняша.
Он вопрошающе вскинул брови. А она вспомнила, как подарила алакаевской тёзке три платья, а Володя сказал: полумерами новую жизнь не построишь.
«Что я! — похолодела она. — Назвала ему имя Володи. Как можно, как можно?! Ведь учила Аня: ни единого лишнего слова! Ведь приказано называть Николаем Петровичем».
Он угадал её испуг, понял, чего она испугалась. Надо девчушку успокоить.
— Мы Николая Петровича вот как уважаем, — начал он почти торжественно. — Он для нас авторитет и великий человек. А что на самом-то деле он Владимир Ильич, нам давно узналось, с тех пор как его книгу «Друзья народа » нелегально прочли. Глаза нам открыл Владимир Ильич, мысль разбудил. Призыв-то какой: коммунистическая революция! Передайте, готовятся стачки на заводах Называть не стану. С непривычки не упомните. Передайте, рабочий класс к политике тянется, и ждём мы его слов. Владимира Ильичёвы слова дух поднимают, направление дают. Нам без них непосильно. А как тебя звать?
— Мария, — с запинкой ответила она. Внезапность вопроса смутила её.
— Мария Ильинична, — в раздумье произнёс он. — Я и понял, что сродствен-ница. Лицом схожи, не так чтобы много, а схожесть есть. Молоденькая ты, Мария Ильинична, опытом революционной работы навряд ли шибко владеешь. Опыт придёт. Рядом с таким братом как не научиться революционной науке! Была бы душа преданная. Рабочему вот как нужны учёные интеллигенты, чтобы с преданной революционной задаче душой, так-то, Мария Ильинична!
— Спасибо, товарищ Павел. В моей жизни сегодня важное, как никогда.
— Связь давно с рабочими держишь, Мария Ильинична?
— Я я сегодня впервые узнала рабочий класс.
— Эк, хватила! Узнала? Тебе рабочий класс узнавать да узнавать, Мария Ильинична!
— Да, правда, — смутилась она. — Удачно как меня к вам прислали. Я многое от вас получила. А что, товарищ Павел, — с запинкой продолжала она, — кто ваш любимый писатель?
Он усмехнулся насмешливо:
— Изучаете?
— Нет, нет, не сердитесь, пожалуйста! Просто увидела у вас мои любимые книги. О Толстом и говорить не приходится, а я и Писемского люблю.
— Ещё бы! Взять рассказ «Старая барыня», истинно «барство дикое», как Пушкин сказал.
— И цветы у вас, — продолжала она наблюдения.
— Герань. Девушка, подружка, точнее сказать. Её цветок, пожелала, чтобы тут, у меня, цвёл. А вы небось думаете, у пролетария одна политика да забастовки на уме, а чувства интеллигентам, — вдруг дерзко обронил он, нахмурился, весь как-то отдалился.
— Боже мой, видно, я не туда повернула, не сердитесь, пожалуйста, товарищ Павел! — Она привычным жестом сложила руки и прижала к груди как бы просительно.
— Боженьку призывать на помощь не будем, а сердиться мне не на что. В тебе я своего человека увидел. Верю, с пути не свернёшь, не оступишься. А пора нам, однако, распрощаться до будущего, на первый раз задержались. До свидания, товарищ связная! Ладно в шляпке пришла, не в платочке. Тут у нас в Огородном всё путиловцы квартируют, в декабре девяносто пятого много политических похватали, нынче-то полицейские да шпики захаживают. Как же, наблюдение надо вести. Новенькая барышня появилась, в шляпке, пригожая да тихая, — опасности уж тут, наверное, нет. А она. в шляпке-то, из центра большую весть принесла. Поклон, Мария Ильинична, знаете кому. Скажите, листок напишем, пустим по заводам. Доброго тебе, товарищ связная!
Серьёзное, небывалое совершалось и ликовало в её душе. На губах играла улыбка. Так, с улыбкой, она и взобралась на империал конки, заняла место.
— Чему радуешься, барышня? — послышалось рядом. Сидящий возле щупленький старичок, по виду отработавший срок рабочий, в косоворотке, поношенном пиджачке, спрашивал дребезжащим старческим голосом.
— Радости радуюсь, — ответила она со счастливым смехом.
— Добро. Вьюность веселит.
«Не во «выоности» суть, — думала Маняша, — а суть в том, что, я чувствую и знаю, начинается то настоящее дело, что я искала и теперь нашла. Это путь, которым идёт Володя, идут Аня и Марк, и Надя, и нынешний товарищ Павел, и самарский умник и затейник Скляренко, и — чуть не забыла — Сильвин, приезжал к нам в Москву! Замечательные люди, их много, они цвет земли, их жизненная задача смела, благородна, и я клянусь » Последнее слово она говорила и повторяла себе, уже сойдя с конки и шагая набережной Невы поспешно, будто что-то очень важное торопило её.
Нева слегка волновалась, длинные волны медленно набегали к гранитным берегам и, нешумно о них ударяясь, смирно опадали. Но глубь и непокорство могучей реки угадывались и в её тихий час.
Маняша остановилась и, опершись на парапет, глядела. Здесь она задержалась оттого, что на том берегу, прямо напротив, Петропавловская крепость. Её Маняша и торопилась увидеть. Тонкий шпиль крепости вскинулся к небу, как штык, грозя, казалось, пронзить плывущее над ним облако. Каменные стены отвесно падали в воду, волны лизали их день и ночь, и Маняша видела или представляла, что видит, зеленовато-серую, склизкую плесень, вползавшую по стенам всё выше. Здесь, за каменной оградой в одиночной камере, под замком, брат Саша, не сдаваясь, ожидал свой смертный час
— Клянусь, — шёпотом повторила Маняша. — Но не буду плакать. Начинается дело, настоящая жизнь.
В вагоне поезда, отправлявшегося с Финляндского вокзала до Белоострова — на полдороге платформа Маняшиного дачного посёлка, — она обдумывала, как передаст Володе порученное товарищем Павлом.
«Не буду писать послание точками. Много времени уйдёт на разыскивание точек. Володино время надо беречь. Поведу конспиративную беседу, даже интересно. «Ты хочешь знать, как я живу? Отлично живу! Повидалась с одним знакомым. Условились встретиться у его приятеля, организуют вечеринку. Соберётся много гостей, все друзья. И ещё приглашают в другие дома. Знакомых порядочно. Разговоры о литературе. О рассказе «Белый пудель» Куприна. Такой спор разгорелся! Занятно и содержательно».
Всю дорогу Маняша обдумывала план беседы с братом, ответственной беседы! Конечно, он поймёт, что и кто подразумеваетея под вечеринками и гостями. Будет рад: «Союз борьбы» не сник, действует. Таким образом, главное Маняша сообщит.
Но есть одно, о чём на тюремном свидании не скажешь. Маняша гордо поделилась бы с братом: рабочий Павел назвал её Марией Ильиничной и товарищем связной. Понял бы её гордость Володя.
Детство и отрочество позади. Не девочка Маняша, а навек преданная великой задаче Мария Ильинична вступает в пору боевой молодости и всей своей будущей жизни.
А что же музыка? А музыка до последних дней будет верным спутником жизни.
Май 1985 года — май 1986 года
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) — студия БК-МТГК.
|