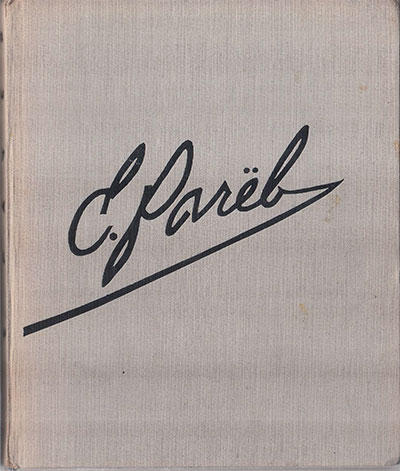Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
Евгений Михайлович Рачёв (1906-1997).
Заслуженный деятель искусств РСФСР,
Народный художник Российской Федерации.

Если у вас есть маленькие дети, советую, не откладывая, начать собирать для них библиотечку иллюстрированных детских книг. Каждый по себе знает, какую огромную роль в детском сознании играют любимые книжки с картинками: их страницы являются широко распахнутыми воротами в большой мир, с которым ребёнок жадно начинает знакомиться. Такие книжки воспитывают у ребёнка вкус, прививают правильный взгляд на окружающее, развивают его духовно.
В последнее время детская литература издаётся у нас разнообразно, красочно и интересно. Но достать хорошую книгу всё же нелегко: уж очень большой на неё спрос.
Лучше всего, мне кажется, в нашей детской литературе иллюстрируются сказки и книги о животных. Превосходные знатоки жизни природы М. Пришвин, В. Бианки и другие писатели имеют среди наших художников достойных иллюстраторов своих произведений.
Я полюбил книжки с рисунками истинного поэта русской сказки К. Кузнецова, с увлечением и радостью рассматривал забавных пушистых зверушек Е. Чарушина, восхищался мастерством и красочностью рисунков В. Лебедева, полными весёлой выдумки иллюстрациями В. Конашевича и А. Лаптева, точностью изображения зверей у В. Ватагина и Г. Никольского. Но особенно нравились мне забавные рисунки к сказкам и басням, подписанные тогда ещё не известным мне именем — Е. Рачёв. Вскоре я стал узнавать «в лицо» героев этого своеобразного художника — его забавных воинственных зайцев, хитроумную коварную лису, простака-медведя, жадного и глупого волка.
Меня привлекал какой-то удивительно народный склад этих рисунков, их декоративность, сочетающаяся с большой психологической выразительностью и, особенно, свойственная Рачёву манера басенного иносказания, когда в облике сказочных зверей ясно различаешь человеческие характеры, а порой и социальные типы.
Я не знал лично художника, но, судя по его рисункам, был уверен, что их автор — жизнерадостный, полный лукавого юмора человек, большой любитель природы, обладающий острым чувством национального, русского.
Впервые я увидел Рачёва в Доме творчества художников в Хосте. В этот «бархатный сезон» на Чёрном море мало кто был занят работой. Рачёв тоже, насколько я мог заметить, специально не ходил на этюды, но я часто встречал его на пляже с огромным полотняным зонтиком, по которому ещё издали можно узнать художников. Большинство обладателей таких зонтов просто прятались под ними от жгучего южного солнца. Но Рачёв приходил к морю не для обычного «пляжного» времяпрепровождения. Он оказался страстным рыболовом, и в любую погоду, в зной и ветер, часами мог просиживать на берегу, не спуская глаз с колокольчика, привязанного к концу лески. Здесь мы впервые и познакомились.
Рачёв оказался большим выдумщиком и превосходным рассказчиком. Но серьёзного разговора об искусстве у нас как-то не получалось. Может быть, потому, что я знал Рачёва лишь по отдельным, случайно попавшим мне на глаза работам.
Впервые этот художник предстал передо мной во всей полноте лишь на персональной выставке 1956 года, с большим успехом прошедшей в Москве. Здесь были собраны работы послевоенного десятилетия. Наряду с уже известными мне иллюстрациями к русским и украинским сказкам, я увидел замечательные циклы сатирических рисунков к сказкам Салтыкова-Щедрина, басням Михалкова; здесь я впервые смог заглянуть в творческую лабораторию Рачёва, увидел его пейзажные наброски с натуры, зарисовки зверей, диковинные анималистические скульптуры из корней деревьев.
Его красочные остроумные рисунки к сказкам и басням, показанные в последние годы на выставках советской графики за рубежом — в Польше, Германской Демократической Республике. Болгарии, Китае, Вьетнаме, Индонезии, Франции, Греции, Югославии и других странах, — неизменно вызывали положительный, а порой и восторженный отклик со стороны самых различных зарубежных зрителей.
К сожалению, прочесть о Рачёве, о его творческом пути было почти нечего, за исключением нескольких интересных, но кратких рецензий, появившихся в связи с его персональной выставкой.
Зимой 1957 года мы вновь встретились с Рачёвым. Я приехал к нему в Тарусу, где он в то время работал над иллюстрациями к русским сказкам. Стояли ясные январские дни. Ослепительно сверкала под солнцем снежная целина за Окой. Днём мы ходили на лыжах или отправлялись вместе на этюды. Рачёв устраивался с альбомом где-нибудь на опушке и рисовал нужный ему для работы пейзаж или отдельные его детали: маленькую ёлочку, уютно укутанную снегом, глянцевитую еловую шишку, лежащую на снегу, или аккуратную дорожку беличьих следов, вьющихся, как орнамент, между деревьями. Увидев эти зарисовки, я понял, что в основе очень лаконичных пейзажных фонов, встречающихся в рисунках Рачёва, лежит большой запас конкретных жизненных наблюдений, большой натурный материал.
Рачёв почти никогда не делает этюд ради этюда, превращая его в станковый лист, имеющий самостоятельное значение. К работе с натуры он относится деловито и целеустремлённо, рассматривая этюд как необходимый подготовительный материал для рисунков и иллюстраций на темы сказок и басен. Это для него своего рода упражнения на развитие зрительной памяти и творческого воображения. Вот почему в этих набросках уже в подходе к натуре, в выборе того или иного пейзажного мотива, той или иной детали чувствуется известная односторонность. В пейзажных зарисовках он ищет необычного, «сказочного» состояния, а в живых набросках животных, сделанных с натуры, пытается разгадать характерные черты своих будущих персонажей. Такая односторонность в подходе к натуре, может быть, и нехороша сама по себе, так как не позволяет со всей непосредственностью воспринимать впечатления о г окружающей действительности и передавать их с достаточной полнотой и многогранностью. Зато этот метод даёт Рачёву обильный материал для основной работы, для его анималистических рисунков. Натурные зарисовки, так же как и постоянные зрительные впечатления и наблюдения жизни природы, являются для художника необходимой основой творческого воображения, служат надёжным материалом для создания, казалось бы, самых фантастических и сказочных образов.
Очень трудно заглянуть в творческую лабораторию художника Мне посчастливилось видеть, как работает Рачёв. Когда он приступает к какой-нибудь тематической композиции — будь то иллюстрация или станковый лист, — он уже не держит перед собой весь тот этюдный материал, который тщательно собирал и накапливал в процессе подготовки к работе и использовал при создании эскизов. Знание натуры во всей её образной конкретности и характерности уже органично вошло в сознание художника, и он может свободно рисовать и компоновать вещь, следуя лишь своему творческому воображению. Но при этом Рачёв не нарушает законов реалистического отражения действительности, так как сам образ, рождённый творческим воображением, вырастает и кристаллизуется у него в процессе внимательного и любовного изучения натуры.
Зимние дни, проведённые вместе с Рачёвым в Тарусе, наше постоянное общение и беседы позволили мне лучше познакомиться с художником.
Уборка сена. 1948 г.
По вечерам, когда мы сидели возле уютно потрескивающей печки, заходил разговор о виденном и пережитом, о том, что нам было особенно близко. Эти задушевные беседы помогли мне по-настоящему познакомиться с Рачёвым.
В этой небольшой книжке мне хочется поделиться с читателями своими наблюдениями и мыслями о творчестве этого замечательного художника-сказочника и рассказать о том, что было мной почерпнуто из наших бесед. Хотелось возможно точнее передать мысли и слова Рачёва, разумеется, не претендуя на дословную их запись.
Как-то у нас с Рачёвым зашла речь о природе творческого своеобразия художника. Я высказал убеждение, что острота и непосредственность первых детских впечатлений играют важную роль в творчестве художника на всём протяжении его жизни, что этому первому знакомству с миром художник главным образом и обязан тем, что умеет воплотить общезначимое и знакомое каждому в неповторимо-своеобразной форме, по-своему, и что такой тонкий и острый анималист, как Рачёв, безусловно, имел в детстве какие-то первоначальные сильные впечатления от соприкосновения с природой.
И действительно, жизнь Рачёва сложилась так, что хотя он н родился в городе, в семье интеллигентов, фактически всё своё раннее детство, лет до четырнадцати, провёл в деревне. Е. М. Рачёв родился 8 февраля 1906 года в городе Томске. Рано потерял отца. Мать была врачом, отчим — инженером-строителем. Детство провёл у деда со стороны матери, в селе Юдино, в Барабинской степи. Это были края, богатые всякой дичью, известные охотничьи угодья.
Ему шёл 12-й год, когда свершилась Октябрьская революция. Значения её, он, конечно, тогда не понимал, да и события докатывались в сибирскую глушь с опозданием. Но в памяти мальчика ярко запечатлелся образ взбудораженной поднявшейся России, когда в 1920 году по семейным обстоятельствам ему пришлось одному добираться из Сибири к матери в Новороссийск, где она тогда жила.
Рачёв рассказывал мне про это путешествие, длившееся два с половиной месяца. Приходилось ехать на крыше вагона, и потому попасть в переполненную людьми скрипучую теплушку было уже верхом блаженства. Он хорошо помнит бесконечные стоянки на станциях, толпы оборванных голодных людей, митинги, лихорадочно горящие глаза людей, просящих хлеба. Его поразили резкие контрасты тех лет, когда он проезжал сначала через голодающее Поволжье, а потом через хлебную изобильную Кубань. Чудесным и
незабываемым было первое впечатление от моря: сначала оно показалось мальчику до того неправдоподобным, что он не мог удержаться — подошёл, сунул руку в прозрачную солёную воду и попробовал её на вкус.
Даже самому Рачёву трудно сказать, когда пробудился в нём художник. Может быть, тогда, когда он впервые познакомился с природой Сибири и узнал её первые тайны. Или тогда, когда он начал рисовать, как и все мальчики его возраста, солдатиков и военные схватки: ведь время-то было военное — первая мировая война. В те годы он даже дважды пытался убежать на фронт, да недалеко уходил — ловили. Нет, в те годы мальчик ещё не думал стать художником. Стремление к искусству пробудилось гораздо позже, когда он жил в Новороссийске.
Время тогда было тяжёлое, голодное: нужно было и учиться и зарабатывать на хлеб. По приезде в Новороссийск Рачёв поступил в мореходную профтехшколу, учился в ней два года. Одновременно работал в порту — сначала просто грузчиком, потом машинистом на лебёдке. Когда мореходную школу расформировали, перешёл в паровозный политехникум, но работу в порту не бросал. Потом заболел тифом, работать больше не смог. К этому времени уже ясно определились его склонности: всё больше влекло искусство. Он начал писать стихи, а главное — у него пробудился живой интерес к рисованию. Отчим подарил будущему художнику масляные краски, и он с увлечением копировал открытки, главным образом, морские виды.
В 1924 году Рачёв поступил в Кубанский художественно-педагогический техникум в Краснодаре. В те годы сюда, на юг, из Питера и из Москвы съехалось немало художников, воспитанников Академии художеств. Некоторые из них преподавали в техникуме. Учили они по старой академической методе: заставляли много рисовать с гипсов, осваивать реалистические основы живописи. С благодарностью вспоминает Рачёв скромных, бескорыстно преданных своему делу художников, своих первых учителей — Мочалова, Краснова и
других: «Работали мы много — часов около восьми в день — утром и вечером. И все главным образом практические занятия по рисунку и живописи. Словом, в этом техникуме, в отличие от иных столичных художественных школ того времени, молодёжи давали в руки главное — хорошее профессиональное ремесло. Ну, а новыми идеями у неё и без того была полна голова.
В среде учащихся, естественно, отражалась та острая борьба, которая шла между различными группировками художников. Боль-
шннство из них были почему-то сторонниками «левых», хотя школа была сугубо реалистическая. А, может быть, именно поэтому-то и «бунтовали». Силы-то молодёжь ощущала в себе необъятные, да не знала как следует, куда их приложить. Много и страстно спорили. А, главное, у всех было твёрдое убеждение, что вот сейчас, на глазах — и непременно с нашим участием! — должно родиться совершенно новое, невиданное революционное искусство. Об этом мечтали, независимо от личных пристрастий, к такому искусству стремились. Многим из тогдашней художественной молодёжи казалось, что старые «станковые» формы отжили свой век, и на смену им пришло искусство полезных вещей, инженерных конструкций и форм».
На 4-м курсе техникума «левацкие» увлечения захватили Рачёва и привели его к серьёзному конфликту с администрацией. Рачёв
уже не хотел просто рисовать и писать с натуры — он жаждал «претворять» натуру. Увлекался «фактурными исканиями», для чего нередко вклеивал в свои этюды клочки материи, обрывки газет и т. д.
За подобное «левачество» и, как было сформулировано, «неуважение к жюри ученической выставки» Рачёва и ещё нескольких студентов решили исключить из техникума. Среди товарищей по несчастью был и Е. Голяховский — ныне известный график, мастер книжной ксилографии. Правда, изгнание их длилось недолго. Вскоре Рачёва и его товарищей восстановили, и в 1928 году он окончил техникум, причём даже с отличием.
Сразу же по окончании отправился в Киев и поступил на полиграфический факультет Киевского художественного института. В то время там задавали тон футурист Пальмов, Бойчук, Татлин и другие художники такого же рода. Уже на приёмных экзаменах молодой художник столкнулся с непривычным методом преподавания. Все его навыки академического рисования здесь ничего не стоили — признавался лишь сугубо условный рисунок, не имеющий ничего общего с натурой. Его «левачество» оказалось просто детской игрой рядом с тем, что здесь преподавалось.
Здесь процветал так называемый «фортехметод» (формальнотехнический аналитический метод), согласно которому в рисунке нужно было передавать не то, что видишь в натуре, а «конструкцию формы» в виде пересекающихся линий-осей. Вместо навыков живописной передачи природы здесь задавались упражнения на «растяжение цвета». Студентов заставляли писать, употребляя не более двух-трёх красок. Пользы это никакой не приносило, но зато давало широкое поле для всяческой отсебятины, а то и просто злостного шарлатанства, кое-кому заменявшего талант. Учиться в институте было скучно. Пожалуй, здесь-то Рачёв впервые осознал бесперспективность и фальшь формалистического творчества, которым ещё недавно так горячо увлекался. Проучившись год, он бросил институт.
В это время — примерно с 1930 года — Рачёв начал сотрудничать в киевском издательстве «Культура»: рисовал картинки для книжек без текста, иллюстрировал рассказы каких-то малоизвестных и забытых теперь авторов.
Художественным редактором был тогда А. Бутник-Сиверский, он же заведовал кабинетом детского творчества в Академии наук УССР. «Этот человек по-настоящему был увлечён своим делом и умел зажечь всех, кто с ним работал, — вспоминает Рачёв. — Для меня он стал настоящим учителем, приобщившим меня к пониманию детской литературы и особенностям иллюстраций для детей. Он учил нас, иллюстраторов, двум важным вещам: во-первых, вниманию и любви к маленькому читателю и, во-вторых, уважению к тому литературному тексту, который взялся иллюстрировать.
С тех пор я твёрдо усвоил эти две заповеди и никогда не позволяю себе даже в деталях идти вразрез с автором, «опровергать»
его своими рисунками. Другое дело — развить то, о чём пишет автор, или даже чего нет, но подразумевается в книге. Воссоздать во всей зрительной конкретности облик героев и обстоятельства, в которых они действуют, — отнюдь не означает отойти от текста. Дополнить и развить — это и есть главная задача иллюстратора, открывающая перед ним огромные возможности для творчества
Несмотря на многие явные уступки примитивизму и формализму, которые допускали в те годы, ценным в этих исканиях было то, что мы стремились быть возможно ближе к детскому восприятию. А теперь при иллюстрировании детской литературы, к сожалению, эта задача подчас просто забывается.
Ведь чем младше зритель, для которого работаешь, и, следовательно, чем меньше его жизненный опыт, тем ответственнее роль художника. Ребёнок впитывает все впечатления, как губка, без отбора. Многоплановый сложный образ может отвлечь его от главного и направить внимание по ложному пути. Взять, например, рисунок, построенный по всем правилам перспективы, где на переднем плане изображены крупные фигуры людей, а вдали — дома и деревья. Покажите его ребёнку младшего возраста. Он скажет: вот боль-шой-большой дядя (или тётя), а вот маленькие деревья, маленький домик. Дело в том, что ребёнок, глядя на рисунок, ещё не привык мыслить пространственно. Ведь применяемая нами линейная перспектива представляет собой известную условность изображения, а чтобы узнать какой-нибудь предмет в необычном ракурсе, тоже необходим известный жизненный опыт, предварительное знание этого предмета.
Сама задача детской иллюстрации в какой-то степени ограничивает её изобразительные средства. Но зато союзником иллюстратора становятся необычайная непосредственность детского восприятия и абсолютное доверие юного зрителя к тому, что изображает художник».
Простота и ясность средств для выражения мысли автора — вот к чему стремится Рачёв, чтобы быть понятным своим малень-
ким зрителям. Поэтому он предпочитает несложные, но выразительные композиции с простым пространственным построением, силуэтную чёткость фигур и определённость цветовой характеристики.
Приёмы эти подсказывает не только его собственный опыт. Ведь и у Льва Толстого в его коротких рассказах и баснях, предназначенных для деревенских ребятишек, имеется строго отобранный словарь общеупотребительных в народе слов. Речь его проста и лаконична, лишена сложных метафор и сравнений. Великий мастер слова сознательно ограничивает себя, чтобы быть ближе и понятнее своим читателям.
«Подобное самоограничение необходимо и нам — художникам детской книги, — говорит Рачёв. — Разумеется, нельзя это пони-
мать прямолинейно. Я отнюдь не стою за упрощенчество, подражание наивным детским каракулям. Речь идёт о реалистической, ясной и простой манере рисунка. Для меня реализм — это, прежде всего, искусство, рассчитанное на естественное человеческое восприятие. Реалистическая детская иллюстрация должна правдиво и безыскусственно рассказывать о человеке и быть рассчитана на восприятие здорового, нормально развитого ребёнка. Впрочем, осознание этих истин, как бы ни казались они банальными, пришло ко мне гораздо позднее, вместе с накоплением опыта. Существенную роль в моей судьбе как детского иллюстратора сыграла известная статья в «Правде» в 1936 году, направленная против формалистических уродств в тогдашней иллюстрации для детей».
Начинал же Рачёв свою деятельность совсем с другого. Его первые детские иллюстрации были многословными и при этом схема-тически-упрощёнными. На первых порах он никак не мог найти свою манеру рисунка, собственную интонацию и, не находя их, невольно впадал в нарочитую оригинальность, «примерял» к себе различные чужие манеры: то, под влиянием В. Лебедева, увлекался фактурными «проблемами», то, подражая Е. Чарушину, рисовал «тычками» сухой кисти.
Но даже в несовершенных и наивных рисунках, которые делал Рачёв в начале 30-х годов, можно найти подчас интересную выдумку или своеобразный поворот темы.
Вот, например, одна из самых ранних его работ — иллюстрации к детской книжке «Колгоспний ставок», сделанные в плоскостной манере, имитирующей наивный детский рисунок. Мне понравился один из рисунков, на котором лаконичными силуэтами изображены деревенские мальчишки, удящие рыбу в пруду. Пруд распластан на плоскости листа, пейзаж передан условно, но в движениях и позах мальчишек, в очертании их фигур есть много живого, наблюдённого.
Познакомился я и с первыми анималистическими рисунками Е. Рачёва. На голубой обложке книжки М. Трублаини «Лови белого медведя» (Харьков — Одесса, 1933) довольно стилизованно, но выразительно изображён силуэт белого медведя, придавившего
тяжёлой лапой тюленя. На обложке журнала «Жовтень» за 1935 год № 5 очень живо нарисованы скворцы на берёзе.
В некоторых акварелях того же времени ещё явственнее сказываются качества будущего анималиста. На одном листе мы видим забавную сценку: неуклюже пляшущего медведя и танцующих вокруг него изящных журавлей — вероятно, это иллюстрация к какой-нибудь сказке. В литографиях середины 30-х годов «Олени», «Утки-кряквы» привлекает декоративность чёрно-белого рисунка. Манера моделировки — тычками кисти — напоминает рисунки ленинградских графиков В. Лебедева и Е. Чарушина.
Порой в рисунках Рачёва проявляются драматические ноты. Большой напряжённостью отличается, например, рисунок, посвящённый теме коллективизации, точнее, тому перелому частнособственнической психологии крестьянина, которую так ярко показал Шолохов в образе Кондрата Майданникова из «Поднятой целины». В этом рисунке на первом плане изображён у пустого хлева плачущий крестьянин, а вдали — уходящие женская и мужская фигуры. Даже не зная сюжета этой сцены, нельзя не проникнуться драматизмом её настроения. Ощущение большого человеческого горя художник сумел передать энергичной светотеневой манерой тушёвки, с резкими контрастами чёрного и белого.
В этом и в некоторых других рисунках Рачёва начала 30-х годов чувствуется влияние остовской графики, особенно Дейнеки и Пименова. Рисунки Рачёва тех лет отличаются условной плоскостностью, подчёркнутой декоративностью и экспрессивным ритмом. Но в то же время, особенно в изображении животных, проглядывает нечто своё, «рачевское», сказывающееся то в выборе весёлой остроумной ситуации, то в декоративности рисунка.
Постепенно анималистическая тема всё больше захватывала молодого художника. Важным событием в его творческой биографии был заказ из Москвы иллюстраций для книги рассказов Иогансена «Хитрые утки». Это было в 1935 году, когда он жил в Харькове и работал в «Детвидавстве» ЦК ЛКСМУ. В Москве никто ещё не знал Рачёва, но в Детгизе по его первым рисункам как-то распознали в нём анималиста. Иллюстрации к «Хитрым уткам», которые тогда сделал Рачёв, понравились. С тех пор, т. е. примерно с 1937 года, и по сей день Рачёв систематически работает для Детгиза.
С благодарностью вспоминает Рачёв, как внимательно отнеслись к нему, начинающему провинциальному художнику, такие опытные художественные редакторы и мастера своего дела, как П. И. Суворов и В. В. Пахомов. Они тактично и бережно направляли его искания в области детской иллюстрации, и, в частности, в анималистическом жанре.
После успешного завершения первой книги для Детгиза Рачёву были заказаны иллюстрации к большой книге Виталия Бианки «Где раки зимуют». Напряжённая работа над этими двумя книгами окончательно решила его судьбу: он понял своё призвание анималиста и сказочника.
Правда, сказками и баснями Рачёв начал интересоваться ещё раньше. На Украине в 1936 — 1937 годах были изданы с его иллюстрациями «Африканские сказки» и южноамериканские «Басни дедушки Памбо», а позднее (уже в Москве) — басни Крылова.
С 1937 года до начала войны Рачёв работал исключительно в Детгизе, делая в основном анималистические рисунки. Тогда же он начал заниматься автолитографией, главным образом, на те же «звериные» сюжеты. Но случались в те годы и другие работы: например, в Детгизе вышли с иллюстрациями Рачёва роман А. Первенцева «Кочубей» и повесть Льва Кассиля «Агитмедведь особого отряда».
Рисунки к этим книгам удались Рачёву гораздо меньше.
Например, его иллюстрациям к роману «Кочубей» свойственна суховатая и неуверенная манера карандашного рисунка. В композициях, позах и жестах фигур чувствуется известная нарочитость, скованность. В них нет романтики и размаха, свойственных этому волнующему повествованию о герое гражданской войны на Кубани.
Переехав в Москву и вступив в 1938 году в Московский Союз советских художников, Е. М. Рачёв начинает принимать участие почти во всех выставках московской графики, показывая свои литографии и книжные иллюстрации на анималистические темы. Однако это участие было ещё очень скромным, и работы Рачёва проходят почти не замеченными критикой.
В эти годы Рачёв сближается с художником-сказочником Константином Кузнецовым, личность и творчество которого оказали на Рачёва большое влияние.
«Мне очень нравилось, как он работал, — рассказывал Евгений Михайлович. — Изучая какое-нибудь животное, Кузнецов делал много набросков с натуры, а потом свободно рисовал его по памяти, в любом положении. Константин Васильевич был общителен, хотя и немногословен, и охотно делился со мной «секретами» своего мастерства».
Рачёва прельщала художественная фантазия Кузнецова, изобразительность, удивительно тонко почувствованный национальный характер его рисунков к русским сказкам. Если Е. Чарушин. В. Лебедев и другие ленинградские графики-анималисты привлекали молодого художника декоративной стороной своих рисунков, то Константин Кузнецов был ему гораздо ближе внутренне. Особенно ценил Рачёв его стремление создавать «психологические» образы героев русской сказки. Этот превосходный художник-сказочник в произведениях китайских и японских анималистов почерпнул много ценного в смысле остроты и зоркости передачи «характера» данного животного.
По-видимому, творчество китайских и японских анималистов оказало влияние и на Рачёва, хотя он и не стремился им подражать.
«Я очень люблю и ценю необычайную поэтичность образов и острую характерность в изображении животных, свойственную старинной китайской живописи и японской ксилографии, — говорил мне Рачёв. — Эти изумительные мастера умели в скупо намеченной обстановке тонко и поэтично передать не только красоту и пластику животного, но и выразить в своём рисунке определённые настроения, свойственные человеку, созерцающему природу.
Надо сказать, меня никогда не привлекало скрупулёзно точное изображение животных, как в атласе Брема. Никогда в своих рисунках я не стремился быть естествоиспытателем, который с предельной точностью и научной достоверностью изучает и фиксирует внешний вид и повадки животного и только в этом видит цель своих стараний».
Чужда Е. М. Рачёву и другая крайность — изображение животных лишь для того, чтобы полюбоваться пластикой их движений, красотой силуэтов, необычайностью и красочностью расцветки — всем тем, что обычно привлекает художников декоративного склада.
Рачёва всегда привлекала возможность передавать в повадке и облике зверей и птиц «психологические» состояния и ситуации, которые напоминают людей, их характеры и манеру держаться. Изображая животное, любуясь его природной грацией, Рачёв всегда стремится выразить в образе «человеческое» содержание, придать ему иносказательный смысл. Вот почему он так любит иллюстрировать басни, где животные выступают как носители определённых человеческих качеств.
Рисунок для фронтовой газеты. 1942 г.
Однако обстоятельства сложились так, что к басенной и сказочной темам, над которыми Рачёв начал работать ещё в конце 30-.\ годов и которые ещё тогда его увлекали, художнику довелось по-настоящему обратиться только лет десять спустя, в конце 40-х годов, уже после Великой Отечественной войны.
Как и в жизни всего нашего народа, период войны явился чётким рубежом в судьбе Рачёва. Война прервала мирное течение жизни и наложила отпечаток на последующее творчество художника.
Начало войны с гитлеровской Германией застало Рачёва за работой над иллюстрациями к научно-фантастическим романам А. Казанцева «Пылающий остров» и «Арктический мост».
7 ноября 1941 года, в 24-ю годовщину Октября, Рачёв вступил в народное ополчение и в составе пулемётного батальона участвовал в обороне Москвы.
В январе 1942 года, когда развернулось победоносное наступление советских войск под Москвой, Рачёв был прикомандирован к редакции армейской газеты «Боевая тревога» в качестве военного художника. Здесь он работал до мая 1943 года, находясь всё время на Западном фронте, в армии Рокоссовского. Рачёв рисовал
Осёдланные кони. 1942 г.
Бранденбургские ворота. Берлин. 1945 г.
портреты бойцов, отличившихся в боях, делал линогравюры, плакаты и карикатуры — словом, занимался всем, что требовалось в боевой обстановке от художника фронтовой газеты.
В 1943 году Рачёв был направлен в Главное дорожное управление Советской Армии. В составе бригады (взвода) художников Рачёв начал работать по наглядной агитации. Художники рисовали или увеличивали до огромных размеров плакаты и рисунки, которые затем укреплялись на щитах вдоль военных автомобильных дорог. Работа эта была связана с частыми выездами на фронт, а затем в освобождённые страны Восточной Европы, что дало Рачёву много незабываемых впечатлений.
Во время этих поездок художнику удалось делать немало зарисовок. В его рисунках мы видим характерные черты военных лет: оживлённые фронтовые дороги, взорванные мосты, разорённые оккупантами русские сёла, фигуры отдыхающих солдат.
Далее, ближе к концу войны, в альбоме Рачёва появляются зарисовки немецкой земли: необычные очертания домов с высокими
У рейхстага. Берлин. 1945 г.
черепичными крышами, готические здания, прямые ровные дороги, обсаженные фруктовыми деревьями, советские сапёры, наводящие мост через широкую реку. Эти фронтовые зарисовки, вместе с работами художника Трофимова, были показаны в 1946 году на выставке в Московском Союзе советских художников.
Среди фронтовых рисунков Рачёва, часто сделанных эскизно или, наоборот, чрезмерно сухих, словно художник сознательно не хотел отступать от строгой документальности, выделяется цикл очень проникновенных лирических карандашных рисунков, сделанных на фронте в 1942 году («Смоленщина»; «Выпал первый снег», 16 сентября 1942; «Осёдланные кони»; «Деревня Болдырево», 19 сентября 1942, и другие).
Эти рисунки отличаются мягкой живописной манерой. Они глубоко национальны, полны любви к русской земле. В некоторых рисунках проглядывает знакомая нам добрая ласковая интонация Рачёва-анималиста. В рисунках «Два осёдланных коня» и «Конь с телегой» художник создал выразительный образ доброго живот-ного-работяги, не за страх, а за совесть служащего людям на войне.
Из произведений военных лет следует отметить и такие удачные листы Рачёва, как «Таможня в Бресте», «Переправа у моста в Варшаве» (июнь 1945), выразительные рисунки «Мост через Прегель», «Взорванная эстакада под Кёнигсбергом» и «Освобождение репатриированных в г. Гумбинене» (апрель 1945). Очень интересны беглые зарисовки берлинцев на велосипедах (июль 1945), глубоко трогает полный драматизма рисунок убитой лошади у орудия (Кёнигсберг, 10 апреля 1945).
По окончании войны, в 1945 году, Рачёв по ходатайству Министерства просвещения был демобилизован из армии и вернулся к работе детского иллюстратора.
Сначала Рачёву как анималисту поручили в Детгизе сделать иллюстрации к книгам М. Пришвина «Кладовая солнца» и «Золотой луч».
Потом в течение нескольких лет Рачёв был занят иллюстрированием украинских, башкирских, венгерских и русских народных сказок, издаваемых в Детгизе.
Начиная с 50-х годов, и особенно в последние годы, художник всё чаще обращается к иллюстрированию басен и создаёт превосходные рисунки к басням Михалкова и сатирическим сказкам Салтыкова-Щедрина. В последнее время Рачёв выполнил также серию больших цветных литографий, посвящённых персонажам русских народных сказок. Здесь ему впервые пришлось столкнуться с целым рядом сложных проблем. Ведь иллюстрациям сказок и басен присуща метафорически-иносказательная передача идеи произведения.
Буквицы к книге М. Пришвина «Кладовая солнца» 1947 г.
Иллюстрация к книге М. Пришвина «Кладовая солнца» 1947 г.
Другое дело анималистические рисунки к книгам писателей, изображающих жизнь природы, как она есть, В этих книгах поведение животных, их характеры, равно как и окружающий пейзаж, не имеют такого двоякого иносказательного смысла, как в баснях и сказках.
Именно в документальной точности и глубине поэтического проникновения в жизнь природы заключаются основной пафос, философия Пришвина-художника. Передать читателю особое, непосредственное и радостно просветлённое отношение к природе, дать почувствовать восхищённое отношение писателя к каждой живой твари — такова, прежде всего, задача иллюстратора поэтических книг Пришвина. Поэтому в рисунках к «Кладовой солнца» главное состоит отнюдь не в иллюстрировании внешней фабулы — истории о том, как, отправившись за ягодами на болото, деревенский мальчик Митраша заблудился в страшной Слепой Елани и попал в бе-
ду. Ведь этот незамысловатый сюжет — лишь предлог для того, чтобы показать жизнь дикого глухого болота и его обитателей.
Рачёв согласился со мной, когда я изложил ему эти соображения. Он признался, что и сам внутренне сознавал, что идёт по неверному пути, когда пытался выискать для своих иллюстраций к «Кладовой солнца» острые сюжетные положения, драматические эпизоды, что, конечно, не является главным как для этой книги, так и вообще для прозы Пришвина. Очевидно, для того, чтобы создать по-настоящему «пришвинские» рисунки, необходимо было проникнуться его созерцательно-философским мировосприятием. А Рачёву такое отношение к природе было чуждо и даже, пожалуй, враждебно. Вот почему иллюстрации к Пришвину, несмотря на то, что художник работал над ними старательно и долго, оказались неудачными.
По правде говоря, и я испытывал неудовлетворённость, когда читал «Кладовую солнца» или «Золотой луг». Глядя на иллюстрации Рачёва, я не мог сначала разобраться, в чём же суть неудачи: в неглубоком ли прочтении текста, в отсутствии ли у художника «поэтической жилки» или просто в вялости рисунка? Только после разговора с Речевым я понял, что в данном случае причина заключается в принципиально разном подходе писателя и художника к природе, к изображению животных.
Вспомним, например, как ярко описаны Пришвиным маленькие корявые ёлочки-старушки, с трудом выросшие на кислой болотной почве Слепой Елани: «Чем старше старушка на болоте, тем кажется она чуднее. То вот одна голый сук подняла, как руку,
чтобы обнять тебя на ходу, а у другой палка в руке, и она ждёт тебя, чтобы хлопнуть; третья присела зачем-то; четвёртая стоя вяжет чулок. И так всё: что ни ёлочка, то непременно на что-то похожа» («Кладовая солнца», Детгиз, 1948, стр. 55 — 56). А на рисунке, сопровождающем текст, мы видим обыкновенные ёлки, без всякой попытки найти зрительный метафорический образ этих фантастических старушек, вставших на пути заблудившегося мальчика.
Или сравним рисунки Рачёва с тем, как описаны Пришвиным зловещий ворон, кружащийся над провалившимся в трясину Митрашей, или рогатый великан-лось, словно видение, внезапно выросший в осиннике: «Посмотреть на него с одной стороны — покажется, он похож на быка, посмотреть с дру гой — лошадь и лошадь а может быть и нет ничего, ни быка, ни коня, а так складывается что-то боль шее, серое в частом сером осинике » (там же, стр. 71 — 72). В рисунках же Рачёва вместо этих поэтичных и немного фантастических образов мы находим прозаическое изображение ворона и лося, отнюдь не передающее самой художественной ткани приш-винского повествования и не позволяющее увидеть описываемых зверей и птиц глазами героев.
Это не значит, что все без исключения рисунки Рачёва к Пришвину оказались неудачными. В иллюстрациях к «Кладовой солнца» и к «Золотому лугу» хороши красочные декоративные обложки, выразительны также и титульные листы с лаконичным изображением птиц и животных. Особенно удались художнику некоторые спуски с буквицами: например, буква К, изображающая кочку, поросшую клюквой, с сидящей на букве полевой мышкой.
В книге В. Дурова «Мои звери» (Детгиз, 1950) на титульном листе удачно использован хоровод зверей, создающий своеобразную орнаментальную композицию. Хороши также некоторые текстовые иллюстрации, буквицы и концовки — например, «Звериная школа», барсучонок с соской, ворона в цилиндре и другие.
Но и в этой книге Рачёв, как правило, не идёт дальше простого сопровождения текста. Сюжеты для иллюстраций выбраны довольно случайно, в них нет запоминающихся ситуаций, редки яркие композиционные решения. А главное — в этих рисунках мало творческой фантазии, позволяющей художнику изобразительными средствами обогащать текст и тем самым развивать замысел автора.
Работая над иллюстрациями к книгам Пришвина и близкими ему по духу рассказами Виталия Бианки, И. Арамилёва и других, Рачёв убедился, что больше всего привлекает его не сам по себе анималистический жанр, а особая, трудная и увлекательная область — иллюстрации сказок и басен о животных, олицетворяющих собой разнообразные человеческие качества.
Рачёв считает, что к иллюстрированию сказок нужен различный подход в зависимости от характера сказки. Бывают сказки волшебные, фантастические, а бывают и бытовые, сатирические, которые сближаются с баснями и притчами. В первом случае необходимым качеством сказочной иллюстрации должны быть фантастика, полёт воображения, сознательное преодоление обыденного житейского правдоподобия. К иллюстрациям же сказок жанрово-бытовых должны быть предъявлены другие требования. Здесь необходима правдивая передача народного быта, подробная реалистическая обрисовка характеров и реальных жизненных положений, окрашенных юмором, порой заключающих в себе острую социальную сатиру. Ведь сказки — это продукт народной поэзии. Недаром А. М. Горький говорил: «В сказке народ выражал свои чаяния, свои мечты, свою веру в победу добра над злом, правды — над кривдой».
Иллюстрация к книге М. Пришвина «Золотой луг». 1947 г.
Иллюстрация к книге М. Пришвина «Золотой ЛУГ». 1947 г.
Было бы неправильно требовать от всех без исключения иллюстраций к сказкам фантастического «нереального» изображения. Но есть нечто общее и главное, что свойственно всем сказкам и отличает этот жанр от остальных. Всякой сказке свойствен вольный полёт мечты, не стесняемый рамками обычного житейского «здравого смысла». Отсюда необычность сюжетных ситуаций, возможность фантастических превращений, допустимость различного рода условностей, например, когда животные или даже вещи в сказке начинают вести себя по-особому, не как в жизни: говорят на человечьем языке и, что ещё важнее, мыслят и поступают как люди — добрые, беспечные, злые или завистливые, трусливые или отважные.
У Владимира Ильича Ленина в одном из его выступлений есть очень интересное замечание о реалистической сущности сказки, подчёркивающее особое свойство отражать жизнь. Он говорил: «Во всякой сказке есть элементы действительности: если бы вы детям преподнесли сказку, где петух и кошка не разговаривают на человеческом языке, они не стали бы ею интересоваться».
Действительно, всякая народная сказка, при всей её внешней фантастичности и нереальности, всегда исходит из жизни, высмеивая человеческие пороки и утверждая добрые человеческие качества. Она говорит о социальной несправедливости и, пусть в иллюзорной, сказочной форме, принимая желаемое за сущее, исправляет зло и несправедливость, царящие в том мире, где господствуют цари, бояре и толстосумы. Не случайно ведь положительным героем народной сказки всегда является простой и честный труженик, всеми обиженный и презираемый бедняк, а доброта, отзывчивость к людям, народный ум и смекалка всегда одерживают верх над корыстолюбием, злобой и коварством.
1 В. И. Ленин, Доклад о войне и мире 7 марта 1918 г. на VII съезде РКП (б), Соч., изд. 4, т. 27, стр. 79.
Иллюстрация «Алёнушкиным сказкам» . Мамина-Сибиряка. 1947 г.
«Рассматривая многие иллюстрации к сказкам и басням, — говорит Рачёв, — я редко находил в них убеждающие типичные образы героев сказки, — такие, чтобы зритель мог сразу понять суть их характеров и побуждений. Обычно в иллюстрациях к сказкам преобладает желание передать её сюжетные перипетии, показать фантастическую декоративность обстановки, в которой происходят сказочные превращения. А ведь настоящая цель и смысл народной сказки состоит в раскрытии человеческих характеров и социальных отношений, скрытых под личиной аллегорических, условных персонажей».
Очень остро ощущая этот недостаток иллюстраций к сказкам и басням, Рачёв в своей работе по мере сил стремился его избежать.
Одной из первых сказок, которые довелось иллюстрировать Рачёву в первые послевоенные годы, в 1947 году, были забавные и трогательные «Алёнушкины сказки» Мамина-Сибиряка, со свойственной им народной эпической интонацией и тонким чувством юмора. В иллюстрациях к этим сказкам, может быть, впервые появляются некоторые «рачёвские» персонажи, впоследствии ставшие столь популярными: добродушный неуклюжий медведь, задиристый и трусливый заяц, хищный волк.
Рачёвские персонажи — это отнюдь не простое аллегорическое олицетворение в образе животного тех или иных людских качеств, а целостные, ясно очерченные характеры, отличающиеся необык-
новенной жизненностью, порой неподражаемо комичные и забавные, когда по сюжету они попадают в неожиданные смешные положения. Таков, например, образ онемевшего от ужаса хвастунишки-зайца, внезапно увидевшего перед собой огромного волка (в «Сказке про храброго зайца Длинные уши — Косые глаза — Короткий хвост»). Персонажи этой сказки — прямые предшественники героев михалковской сказки «Зайка-зазнайка», с неподражаемым юмором нарисованных Рачёвым несколькими годами позже. Или обескураженный Медведь из сказки «Про Комара Комаровича» с дубиной в лапах, бессильный перед бесчисленным комариным войском. Что касается изредка встречающихся здесь изображений людей (засыпающая в своей кроватке Алёнушка, весёлый трубочист Яша из сказки «Про Воробья Воробеича и Ерша Ершовича»), то они получились у Рачёва значительно слабее и банальнее по характеристике, нежели его герои-животные.
Следует отметить и ещё одну интересную черту иллюстраций Рачёва к «Алёнушкиным сказкам» — необычное расположение рисунков на страницах книги, свободную вёрстку текста и иллюстраций. Особенно выразительны здесь такие развороты, как уже упоминавшиеся изображения громадного страшного Волка на одной странице и оцепеневшего от ужаса Зайца — на другой или изображение на разворотах несметного комариного войска, летящего навстречу непрошенному гостю, забравшемуся в болото.
В иллюстрациях к «Сказке про Комара Комаровича» есть много точек соприкосновения с иллюстрациями старейшего мастера детской книги В. Конашевича, например, с его рисунками к «Мухе-Цокотухе» К. Чуковского. Но если весь комизм и занимательность рисунков Конашевича построены на сопоставлении типичных черт купеческого быта и обстановки с забавными
козявками и букашками, ведущими себя, как «взаправдашние люди», то в рисунках Рачёва к «Сказке про Комара Комаровича» нет такого прямо и последовательно проводимого переноса бытового уклада людей в мир животных и насекомых. Аллегорический
Иллюстрация к «Алёнушкиным сказкам» Д. Мамина-Сибиряка. 1947 г.
характер рисунков Рачёва ограничивается здесь введением лишь некоторых условных атрибутов, например, ружей со штыками, длинных труб и знамени из листочка — -у комариного войска, или прогулочных тросточек у Ерша Ершовича и Воробья Воробеича. Главным же художественным средством раскрытия содержания в этих рисунках является чёткая и немного юмористическая обрисовка характеров персонажей сказок о животных, изображаемых в своём «натуральном виде», без одевания их в человеческие наряды, как это часто впоследствии делает и Рачёв. Сравнивая рисунки Конашевича и Рачёва, надо учитывать и стилевую разницу литературных произведений: в сказке Мамина-Сибиряка сами животные и их действия более естественны и натуральны, если можно так выразиться, по сравнению с «Мухой-Цокотухой» К. Чуковского. Поэтому Рачёву в данном случае не понадобилось прибегать к такой подробной бытовой обрисовке и одевать своих персонажей в одежды людей.
«Башкирские сказки», над которыми начал работать Рачёв немного позже, наоборот, отличались подчёркнутостью и остротой социальных характеристик персонажей, что повлекло за собой необходимость как можно больше их «очеловечить». Тогда-то Рачёв впервые начал «одевать» своих героев-животных в человеческие одежды. Это нужно было художнику не столько для того, чтобы придать своим персонажам больше комической занимательности, а, главным образом, для того, чтобы заострить социальную характеристику образов и лучше выразить в своих рисунках национальный колорит.
Как и всякое новшество, приём одевания животных в человеческие одежды вначале встретил непонимание и даже активное противодействие со стороны некоторых ревнителей «чистоты анималистического жанра». Отчасти это, по-видимому, объяснялось недостаточной органичностью данного приёма в первых рисунках Рачёва, так как впоследствии одевание в человеческие одежды животных и введение прочих бытовых деталей стало в его рисун-
Заставка к книге И. Франко «Мурка и Бурка». 1948 г.
ках настолько естественным и само собой разумеющимся, что все сомнения и возражения отпали.
Первым крупным произведением Рачёва, в котором можно проследить кристаллизацию этого своеобразного приёма иллюстрирования сказок о животных, была большая серия рисунков к украинским народным сказкам.
Это была серьёзная работа, которая началась в 1947 году и продолжалась более двух лет.
Неизгладимые впечатления молодости давали богатый материал для работы над «Украинскими народными сказками», но Рачёв не хотел ограничиться случайными воспоминаниями. Он побывал на Украине, чтобы обновить свои впечатления и сделать специальные этюды и зарисовки украинского быта.
Помогла Рачёву предыдущая работа по иллюстрированию украинской литературы в начале 30-х годов, и, особенно, выпол-
ненные им в 1948 году иллюстрации к сказке Ивана Франка «Мурка и Бурка», отличающиеся национальной самобытностью.
Разглядывая объёмистую книгу «Украинских народных сказок», замечаешь, что иллюстрации Рачёва распадаются на две неравноценные по своим достоинствам части: иллюстрации сказок о животных и рисунки, относящиеся, главным образом, к фантастическим сказкам, действующими лицами которых являются люди. Эта вторая группа удалась Рачёву значительно меньше первой, хотя и здесь художник хорошо передал чувства героев и общий образный украинский колорит сказки. Эти рисунки нередко являются лишь пассивно-иллюстративным повторением текста, не помогая вскрыть внутренний подтекст сказки. В этом отношении показательны иллюстрации к сказке «Летучий корабль». При всём своеобразии эта сказка по своему сюжету и образам близка русской сказке «Об Иванушке-дурачке и Коньке-Горбунке». В рисунках Рачёва есть остро почувствованный национальный украинский колорит, а в некоторых листах, например, в изображении бедного Дурня перед грубым толстопузым гетманом, окружённым коварной и злой шляхтой, явственно выражен социальный подтекст сказки. Но там, где художник изображает фантастические эпизоды: сказочного коня, выходящего по волшебству из расщелины векового дерева, или летящий над украинской степью золотой корабль с шёлковыми парусами, — рисункам Рачёва недостаёт сказочной фантастики и поэтичности.
Вообще самой сильной стороной рисунков Рачёва на темы украинских народных сказок является бытовая, жанровая, порой слегка юмористическая характеристика образов во всём их национальном своеобразии. В этом отношении показательны, например, иллюстрации к сказке «Кошелёчек» («Мена»), полные настоящего украинского юмора. В рисунке, изображающем двух казаков, меняющих овцу на гусака, чувствуется лукавая добрая усмешка художника, очень тонко передавшего национальные черты характера действующих лиц: тяжелодумного простака-кре-
Иллюстрация к сказке «Летучий корабль». 1947 — 1949 гг.
стьянина и хитроватого «дидка» с гусаком под мышкой. Глядя на этот рисунок, не только ясно видишь, кто кого «обдурил», но и почему случилось так, что незадачливый крестьянин пришёл домой с пустыми руками. Встреча и разговор двух казаков в рисунке Рачёва — это целая новелла, близкая по духу украинским повестям Гоголя.
Даже сказки с фантастическими превращениями и «потусторонней силой» Рачёв трактует в плане безыскусственного бытового повествования (см., например, иллюстрации к сказкам «Разумница». «Ох», «Покатигорошек», «Пастушок»). Естественно поэтому, что наиболее удачными среди иллюстраций Рачёва к украинским народным сказкам оказались те, в которых показан народный уклад жизни, вроде «Сказки о стариковой дочке и старухиной дочке». В одной из иллюстраций к этой сказке мы видим хорошую добрую девушку украинку, которая кормит животных, сбежавшихся к ней со всего леса: здесь и барсук, и лань, и хорёк, и забавные пушистые белочки, и сороки, и даже осторожная ящерица. Рисунок лёгкий, солнечный, превосходно передающий лирический и несколько сентиментальный колорит сказки.
В лучших иллюстрациях к «Украинским народным сказкам» ясно сказалась одна из сильных сторон Рачёва-иллюстратора: умение передать национальный колорит произведения не только в выборе типажа и одежды персонажей, но в самом характере своих героев. Национальные особенности текста Рачёв умело подчёркивает и в окружающей обстановке (пейзаже, архитектурных деталях), а также и в орнаментально-декоративных элементах оформления книги: выразительных концовках, изображающих
предметы украинского народного быта, в мотивах сочного растительного орнамента, украшающего заставки, шмуцтитулы и концовки. Вследствие всего этого книга, иллюстрированная Рачёвым, приобретает художественную целостность, единство стиля.
Как уже говорилось, в серии «Украинских народных сказок» более всего удались Рачёву иллюстрации сказок о животных.
Иллюстрация к сказке «Летучий корабль». 1917 — 1949 гг.
Правда, и здесь не всё находится на одинаковом уровне, да к тому же одним-двумя рисунками часто трудно раскрыть смысл сказки с достаточной глубиной. Но зато лучшие иллюстрации сказок этого типа можно по праву поставить в один ряд с такими яркими и зрелыми работами Рачёва, как его рисунки к басням Михалкова и к сказкам Салтыкова-Щедрина. Мы имеем в виду иллюстрации к сказкам «Пан Котофей», «Серко», «Коза-дереза», «Бедный волк» и др. Достаточно взглянуть, например, на чванного важного Пана Котофея, который был выброшен хозяином за свою лень и бесполезность, но, благодаря умению казаться важным и сердитым, был принят лесными зверями за важную персону и зажил припеваючи «в мужьях» у лисы. На красочном рисунке мы видим пузатого Котофея в богатом красном кафтане, важно выходящего из дома в сопровождении своей супруги-лисы навстречу оробевшему бед-няге-зайчику, пришедшему было свататься к лисе. В этой сценке превосходно передан социально-обличительный смысл сказки, выразительно обрисован характер и психология каждого персонажа: бедняка, готового ломать шапку перед «власть имущим», самодовольного богача и угодливой хитрой лисы.
Чрезвычайно характерен и выразителен также образ верного старого сторожа Серко — лохматого дворового пса, который, несмотря на то, что хозяин хотел от него избавиться, остался ему верен и предан. Верный пёс Серко — это прямой предшественник великолепного по глубине характеристики Трезора в одном из рисунков Рачёва к сказкам Салтыкова-Щедрина.
В некоторых иллюстрациях Рачёва к «Украинским народным сказкам» предвосхищена сатирическая острота и меткость будущих его рисунков к Щедрину. Таков, например, рисунок к сказке «Бедный Волк», где верхом на свинье изображён тщеславный и глупый волк, захотевший стать начальником. Фронтальная поза «всадника», его величавая осанка, нарочитая симметрия композиции — всё это далеко не случайно: перед нами, в сущности говоря, весёлая и меткая пародия на монументальный конный памятник.
Глядя на этот рисунок, мы ясно видим, каким грозным начальником воображает себя в этот момент глупый волк, и, в то же время, как нелепо и комично выглядит он на самом деле. В этом двойственном смысле образа, в его метафоричности кроется секрет остроты и выразительности рисунка.
Сатирическая направленность, сочетающаяся с сочным народным юмором и превосходно переданным национальным колоритом, определила успех иллюстраций Рачёва к «Украинским народным сказкам», выдержавшим в последующие годы ряд переизданий в Детгизе и Гослитиздате. При этом художник вновь и вновь обращался к своим рисункам, стараясь их улучшить, а подчас и ввести новые цветные листы.
Работа эта получила признание художественной общественности: в 1950 году на Всесоюзной выставке книги и графики в Ленинграде за иллюстрации к «Украинским народным сказкам» Рачёву был присуждён диплом II степени.
1949 год в какой-то мере явился знаменательным в творчестве художника: начиная с этого времени, Рачёв обращается в своих иллюстрациях к цвету. Всё, что делал он раньше, было чёрно-белыми рисунками, выполненными, как правило, углём на шероховатой ватманской бумаге, и потому несколько однообразными по фактуре и манере исполнения. Теперь же, когда иллюстрации обогатились ещё и в цвете, детские книги, оформленные им, стали более радостными и привлекательными.
Первыми цветными работами Рачёва были иллюстрации к русской народной сказке «Петушок — золотой гребешок» (1949) и очаровательной украинской народной сказке «Рукавичка», вышедшей отдельным изданием в 1950 году.
«Рукавичке», входившей в сборник «Украинских народных сказок», Рачёв посвятил в своё время два рисунка: заставку и лист, изображающий мышку, зайца и- лягушку, выглядывающих из рукавицы. Тот же, но только переработанный и выполненный в красках рисунок, он поместил на обложке отдельного издания
«Рукавички» в обрамлении сочного украинского народного орнамента, наподобие тех цветочных узоров, которыми украинские женщины расписывают свои хаты или вышивают на сорочках и рушниках. Красочный орнаментальный венок в виде стилизованного вазона с пышно разросшимися цветами обрамляет название сказки на титульном листе; аналогичный же, — но опять не повторяющийся — мотив орнамента украшает заднюю обложку книги.
Правда, в титульном листе есть некоторое несоответствие между стилизованным плоскостным орнаментом и очень «натуральной» и крайне «прозаичной» рукавицей, нарисованной Рачёвым даже с намёком на тень. Подобная «натуральность» вряд ли уместна в иллюстрациях к сказке. Глядя на эту обычную «всамделишную» и потому весьма несказочную рукавицу, никак нельзя поверить, что она могла вместить всё то великое множество лесных зверей и зверушек, когда её потерял хозяин. Но все эти недостатки — лишь частности, не могущие заслонить большого успеха, достигнутого Рачёвым-иллюстратором.
Благодаря его красочным рисункам эта короткая сказка-притча обрастает множеством забавных и милых подробностей, реальных, бытовых и в то же время необыкновенно поэтичных, согретых мягким юмором и щедрой фантазией настоящего сказочника.
Интересно проследить, как от рисунка к рисунку изменяется, обрастает хозяйством сказочный домик-рукавичка. В первом рисунке рукавица лежит прямо на снегу, зацепившись за какой-то сучок. Во втором и третьем рисунках она уже поднята на «фундамент» из палочек н подпёрта со всех сторон сучками, а в уютную меховую норку ведёт приставная лестница. В четвёртом рисунке мы уже видим деревянное крылечко, крытое соломой, а в следующем замечаем новые изменения: вот в пальце рукавицы появилась труба от печки, потом — оконца с резными наличниками, из которых выглядывают зверушки, а на крыльце, при входе, колокольчик для приходящих: уже очень часто начали стучаться в гостеприимный домик разные гости. Жильцов в ней прибавляется, и поэтому рукавица от рисунка к рисунку пухнет, толстеет и начинает даже расходиться кое-где по швам.
И ещё одна любопытная и весьма многозначительная деталь: от рисунка к рисунку видно, как первые обитатели рукавички — малые лесные зверюшки — мышки-норушки, лягушки-квакушки, зайчики-побегайчики оттесняются более крупным и зубастым зверьём. Вначале они вместе с лисой ещё встречают на крылечке гостей, а потом им уже на крыльце не остаётся места, и они только выглядывают из оконца. А в последнем рисунке мышка-норушка, которая в сущности была хозяйкой этого гостеприимного домика, оказалась вовсе вытесненной из него — кое-как, ёжась от мороза, она приютилась снаружи, на заснеженной соломенной крыше крылечка Так очень тактично, без ненужной «отсебятины» художник доносит в своих рисунках основную мораль этой сказки, согретой сочувствием к «малым мира сего» — добрым, отзывчивым и трудолюбивым, но всегда обижаемым более сильными. Благодаря иллюстрациям Рачёва эта демократическая идея народной сказки становится наглядной и убедительной.
В иллюстрациях к «Рукавичке» Рачёву удалось передать национальный украинский колорит, хотя возможности здесь были более ограниченными, чем при иллюстрировании сборника «Украинских народных сказок»: ведь зимний лесной пейзаж, проходящий через все страницы «Рукавички», не несёт в себе специфических украинских особенностей, он помогает только воссоздать общее эмоциональное состояние природы и подчеркнуть по контрасту уют и тепло домика-рукавички. Национальный характер сказки выражен здесь, прежде всего, в самих персонажах, превосходно охарактеризованных не только по своему внешнему виду, но и внутренне, психологически. В облике жителей сказочного домика-рукавички, в их одежде Рачёв подчёркивает и их социальное различие и общие национальные черты, которые можно уловить и в скромном кожушке мышки-норушки и в красочной плахте, вышитой кофте и переднике лисички-сестрички; в залатанном армяке.
перепоясанном цветным поясом, и нарядной барашковой шапке Волка, в тулупе и соломенной шляпе кабана-клыкана. Большую роль в создании такого национального колорита в иллюстрациях Рачёва играет, несомненно, цвет, который придаёт этим рисункам ещё большую образную выразительность и занимательность, а также ту яркую декоративность, которая характерна для народного украинского искусства.
Иллюстрации Рачёва к «Рукавичке» по праву снискали широкую популярность в нашей стране, они хорошо известны и за рубежом. Эта небольшая детская книжка уже выдержала более двадцати переизданий во многих странах мира и везде получила высокую оценку. Так, например, в краткой аннотации к английскому изданию Максона и К° говорится: «Превосходнейшие иллюстрации Рачёва целиком завладевают вниманием детей. Эти великолепные рисунки поистине достигают уровня «классических» и бесспорно относятся к числу лучших детских иллюстраций».
Умение выразить в своих рисунках к сказкам их национальный характер и придать всему декоративному оформлению книги неповторимое своеобразие — превосходное свойство Рачёва — иллюстратора детской книги. Об этом свидетельствуют не только его рисунки на темы украинского фольклора, но и иллюстрации к сказкам других народов.
Это ясно сказалось, например, в нарядном и радостном оформлении венгерской народной сказки «Два жадных медвежонка» (Детгиз, 1954). Рачёв одевает своих героев — непослушных маленьких медвежат, их рассудительную мать и плутовку лису — в яркие, расшитые узорами венгерские костюмы и шляпы с перьями.
Иллюстрация к сказке «Рукавичка». 1950 г.
Как и в «Украинских сказках», важную роль в этой книге играют нарядные орнаменты, пламенеющие радостной чистой гаммой огненно-красных, жёлтых и голубых цветов.
Превосходна по своей красочной экспрессии обложка: на ярко-жёлтом фоне какого-то необыкновенно «солнечного» оттенка изображены два медвежонка со странническими посохами. Тот, что постарше, — в белом, расшитом цветной шерстью кунтуше, другой — в фиолетовой безрукавке и белых штанишках. Сверху и снизу центральное поле обложки обрамлено широкими красными полосами, украшенными растительным орнаментом.
Эти два медвежонка — герои сказки, отправившиеся по свету искать счастья, — в рисунках Рачёва проходят через все перипетии сюжета. Вот они смиренно слушают наставления матери-медведицы, и только озорной взгляд старшего и непослушно вздёрнутый «любопытный» хвостик младшего братишки позволяют понять, каковы на самом деле эти шалуны и проказники — нечто вроде «медвежачьих» Чука и Гека.
В последующих страницах книжки друг за другом проходят эти маленькие наивные герои сказки: вот они безуспешно пытаются разделить найденную головку сыра; вот к ним «на помощь» приходит хитрая лиса и, отъедая то от одной, то от другой неравной половинки, съедает почти весь сыр. В фигурах маленьких медвежат при этом можно наблюдать целую шкалу чувств — то враждебноиспуганное выражение при встрече с лисой, то удовлетворённое, когда она берётся разрешить их спор, то растерянное и озадаченное, когда буквально на их глазах сыр исчезает во рту у лисы. Последний рисунок этой серии, где в подчёркнуто-симметричной композиции изображена на пне раздобревшая и торжествующая лиса и у его подножия — одураченные медвежата с крошечными, но зато равными кусочками сыра, выглядит как наглядное выражение морали сказки: глупость и жадность, над которыми торжествуют хитрость и коварство.
Большое и важное место в творчестве Рачёва послевоенных лет занимала работа над иллюстрациями к русским народным
Иллюстрация к сказке «Рукавичка». 1950 г.
сказкам. Начало этой работы, как мы знаем, восходит ещё к довоенному периоду, но вовсю она развернулась только в недавние годы, когда после ряда удачно оформленных небольших книжечек русских сказок («Петушок-золотой гребешок», 1949; «Лисичка-сестричка и серый волк», 1952; «Жили-были», 1952, и другие) Рачёв выполнил в 1956 — 1957 гг. ряд больших настенных цветных литографий с изображением зверей — героев русских народных сказок, а затем к 1958 году создал обобщающий цикл иллюстраций для большой книги русских народных сказок, издаваемой в Детгизе. В рисунках Рачёва к русским сказкам во всю силу раскрылся его талант иллюстратора-сказочника. Рисунки эти привлекают глубоко почувствованным национальным характером, психологической меткостью, щедрой фантазией и выдумкой.
Черты эти были уже ясно видны в рисунках к небольшой, но красочно оформленной книжке «Жили-были» (Детгиз, 1952), содержащей несколько русских сказок: «Волк и семеро козлят». «Лисичка-сестричка и серый волк», «Кот — серый лоб, козёл да баран», «Маша и медведь» и другие, украшенной декоративными заставками в духе древнерусской книжной миниатюры.
Уже на яркой синей обложке этой книги мы встречаемся с некоторыми её героями: подняв лапу, читателя приветствует кот, взобравшийся на плечи барана и козла — на нём красная косоворотка и лапоточки На шмуцтитуле появляется ещё один персонаж — хитрая Лиса Патрикеевна, а на первой полосной иллюстрации, служащей своего рода поэтическим зачином книги, мы видим ворона в причудливо-пёстрой скоморошьей одежде и островерхом колпаке Он сидит «на дубовом суку и играет во трубу — трубу точёную, позолоченную», как говорится в присказке. Этот фантастический образ сулит читателю нечто невиданное, чудесное, вводя его в мир сказки.
В иллюстрациях к книжке «Жили-были» можно встретить немало красочных, поэтических, остроумных рисунков; в них, пожалуй, окончательно сложился типаж целого ряда «рачёвских» героев — волка, лисы, кота и других.
Особенно удались художнику рисунки к сказке «Волк и семеро козлят». В заставке к этой сказке изображена отягчённая заботами мать-коза, идущая с корзинкой на базар. Последующие два цветных рисунка показывают, что произошло в её отсутствие. В первом из них мы видим, как перед запертыми дверьми маленького, но крепко сколоченного домика появился непрошенный гость — волк, в заплатанном кафтане, с кистенём под мышкой — ни дать ни взять лихой разбойник, вышедший из тёмного леса. Художник нарочно выбрал для этого рисунка необычную точку зрения — немного сверху и сбоку, как бы из-за деревьев, окружающих домик, благодаря чему создаётся впечатление, что мы, зрители, остаёмся невидимыми для действующих лиц.
Иллюстрация к сказке «Рукавичка». 1950 г.
Осёл в львиной шкуре. Лиса и козёл.
Иллюстрации к басням Л. Н. Толстого. 1949 г.
В следующем рисунке изображён момент, когда волку хитростью удалось проникнуть в дом козы. Здесь, наоборот, зритель является активным участником сцены; вместе с козлятами он как бы находится внутри избы, в тот момент, когда вдруг дверь с треском раскрылась и в неё просунулась огромная волчья морда. Бедные маленькие козлята, увидев его, врассыпную бросились кто куда: один забился под лавку, другой со всех ног пустился наутёк, третий от неожиданности опрокинулся навзничь, четвёртый в панике сунулся головой в кадку, пятый полез в печку, шестой мигом взлетел на полати и забился в уголок, а седьмой, самый неуклюжий, всё ещё карабкается на печку, срываясь и беспомощно суча в пустоте ногами.
Рачёв превосходно изобразил суматоху, поднявшуюся в избе при появлении разбойника-волка. Причём художник умело «индивидуализирует» каждого козлёнка, передавая особенности его характера и поведения в этот момент. С большой любовью рисует, например, художник забавного малыша, карабкающегося на печку: мы видим его крутой упрямый лобик, испуганно вытаращенный жёлтый глаз, вздрагивающий пушистый хвостик. Или другого козлёнка — того, что опрокинулся назад при виде волка. Сколько в его позе и угрюмо-насторожённом взгляде детски-непосредствен-ного, несомненно увиденного художником в жизни! А как умеет Рачёв в этом, да и во многих других своих рисунках к сказкам передать живые бытовые подробности! Всё это говорит о хорошем знании народной жизни. Так проникновенно, точно и в то же время любовно и просто мог рассказать детям русскую сказку только
Лисицы. Кот и мыши. Иллюстрации к басням Л. Н. Толстого. 1949 г.
тот, кто глубоко чувствует её народную поэзию и глубоко понимает духовный мир детей. Для художника каждый из его героев — это индивидуальный образ, живой характер, а не лросто носитель тех или иных качеств, полагающихся ему по сюжету.
Важно отметить, что у Рачёва удачно найденные образы героев сказки не превращаются в привычный, неизменный штамп, в своего рода маску, кочующую из одной иллюстрации в другую.
Иллюстрация к книге В. Дурова «Мои звери». 1950 г.
В соответствии с идеей и характером каждой сказки образ одного и того же животного видоизменяется, приобретает новые черты.
Если в иллюстрации к сказке о семи козлятах волк выступает в облике разбойника и злодея, то в рисунках ко второй сказке — «Лисичка-сестричка и серый волк» — он сам уже предстаёт если не в качестве положительного, то, во всяком случае, страдательного персонажа, обманутого и осмеянного коварной лисой. В первом рисунке к этой сказке мы видим, как в морозном зимнем лесу, у дороги, голодный озябший волк встретился с довольной лисой, которая лакомилась обронённой с воза рыбой. На рисунке Рачёва видно, как неуютно и холодно волку в его худом сером зипунишке и шапке-гречишнике — традиционной крестьянской одежде. И хотя мы знаем недобрую природу волка, и он сам не внушает нам особой симпатии, невольно становится его жалко. Это сочувствие усиливается в следующем рисунке, когда мы видим обманутого беднягу сидящим студёной лунной ночью на реке: он опустил хвост в прорубь и тщетно ждёт обещанной лисой добычи. Голодный блеск его жёлтых глаз, латаная одежонка, пар от дыхания, которым он тщетно пытается согреть свои лапы и, главное, ощущение безнадёжного одиночества, которое кажется ещё острее по контрасту с виднеющимися вдали деревенскими избами, с их уютными огоньками и подымающимися к небу дымками от печей — всё в этой иллюстрации рисует образ волка-неудачника, бедняка, озлобленного и одураченного теми, кто ловок и преуспевает в жизни.
Не случайно, что концовкой этой сказки Рачёв сделал выразительную группу: лиса в богатой душегрейке, восседающая на горбу у измученного и затравленного волка, который по простоте душевной ещё раз поддался на обман. Высунув язык и поджав остаток своего хвоста, он тащит на плечах обидчицу, прикинувшуюся больной. А обманщица лиса к тому же ещё и приговаривает: «Битый небитого везёт!»
Если в названных рисунках можно ясно проследить такие важнейшие качества Рачёва-иллюстратора, как умение обрисовать конкретную бытовую обстановку и передать живые народные характеры с ясно выраженной социальной окраской, то в других рисунках к книге «Жили-были» выступает ещё одно их ценное качество: сказочность и поэтическая фантастика. Особенно в этом отношении удачен рисунок, изображающий кота, барана и козла, скачущих «по горам, по долам, по сыпучим пескам», так что только «пыль столбом подымается и трава к земле приклоняется».
Шмуцтитул книги И. Арамилёва «На охотничьей тропе». 1951 г.
Обложка книги сказок «Жили-были». 1952 г.
Иллюстрация к сказке «Лисичка-сестричка и серый волк». 1952 г.
Стремительность движения этих трёх путников, торопящихся к ночи найти себе приют, передана всем ритмическим строем этого рисунка. Движение чувствуется даже в очертаниях деревьев и травы, словно согнувшихся под ветром, поднявшимся от их стремительного бега. Сказочный характер рисунка подчёркнут и в скупо, но выразительно намеченном пейзаже, очень эмоциональном по цвету. Пепельно-сиреневые сумерки в лесу, торная дорога с примятыми и поднимающимися кое-где столбиками конского щавеля и неправдоподобно огромная зловещая жёлтая луна, повисшая над тёмной зубчатой стеной леса, — всё здесь пронизано таинственностью и беспокойством, которые охватили в поздний вечерний час усталых путников на лесной дороге. В этой эмоциональной картине природы чувствуются традиции русского искусства, особенно влияние сказочных картин Виктора Васнецова, Е. Поленовой, а может быть, и «Ночного» М. Врубеля. Так творчество талантливого советского иллюстратора естественно и органично входит в широкое русло национальной русской традиции, которая одна только и может дать верный ключ к раскрытию сокровенной поэзии русской сказки и научить понимать подлинно народный язык её образов.
Ценные качества этих иллюстраций Рачёва своё дальнейшее развитие получили в цикле больших литографий (39x50 см), посвящённых животным — героям русских народных сказок. Листы эти репродуцируются в издательстве «Советский художник» тиражом 5 тысяч экземпляров. За 1956 — 1959 гг. Рачёв выполнил семь рисунков: «Серый волк», «Зайчик-побегайчик», «Петя-петушок», «Котофей Иванович», «Кума-лиса», «Коза-дереза» и «Медведь Михаил Иванович».
В них художник поставил себе целью не просто проиллюстрировать ту или иную сказку, а создать собирательный, обобщённый образ. Поэтому для каждого персонажа Рачёв выбирал только определяющие, наиболее характерные и типичные качества. Например, серого волка художник представил в облике «татя ночного» с ненасытным жадным блеском глаз, в драном кафтане, с кистенём под мышкой. Такому образу под стать и лесной пейзаж, изображённый в самую жуткую «воровскую» пору: над тёмной стеной леса едва подымается зловещий оранжевый месяц, отражающийся в застывшем зеркале лесного озера. Таинственно светятся в сумерках красные столбики гигантского конского щавеля.
Иллюстрация к сказке «Кот и лиса». 1950 г.
Иллюстрация к сказке «Колобок». 1955 г.
Не менее метко и точно охарактеризовал Рачёв и других героев. Так, например, зайчика-побегайчика он изобразил приплясывающим, в домотканом армячке с красными отворотами и балалайкой в руках на фоне бесприютного зимнего пейзажа с голыми деревьями. По довольной улыбающейся мордочке зайца видно, что он никогда не унывает, живёт легко и беззаботно. «Хвастливый и пустой мужичонко», — сказал о нём художник.
А вот петя-петушок, золотой гребешок — это совсем другой характер. Пёстро и нарядно одетый, он важно шествует через мосток. У петуха нарядный жёлтый воротник, красные сапоги со шпорами, пышный зелёный хвост и коса на плече. Видно, он отчаянный драчун и забияка. И хотя нередко в сказке ему солоно приходится, да и гонору у него хоть отбавляй, это, несомненно, фигура положительная, даже героическая, если хотите, но никак не смешная Таким и изобразил его Рачёв.
И ещё один персонаж, тоже важный, напыщенный, но в народной сказке к нему совсем другое, явно ироническое отношение. Это «Котофей Иванович, сибирских лесов воевода», как его не без ехидства именуют в сказке. В своём богатом красном кафтане, с саблей на боку, с грозно торчащими в стороны усами, он чванен и неприступен, как настоящий вельможа. Недаром перед ним угодливо приплясывает и играет на дудке трусливый заяц. Но грозен он только на первый взгляд. Ведь неспроста так подчёркнуто почтительно подсаживает на пенёк низкорослого кота его хитрая, умная жена — Лиса Патрикеевна. Пусть, дескать, все думают, что её кот самый грозный и важный зверь в лесу, тогда и ей кое-что перепадёт от его славы. И только узкие злые глазки да ехидная
Иллюстрация к книге О. Иваненко «Куда летал журавлик». 1951 г.
улыбка хищной мордочки выдают, кто действительный хозяин положения. Разве в этом рисунке не заключён целый рассказ о напыщенном ничтожестве и хитроумном льстеце, переданный в образной басенной форме?
А в другом листе, специально посвящённом лисе, её образ приобретает несколько иной оттенок. Здесь лиса изображена в сарафане, душегрейке и кокошнике, словно это рачительная хозяйка, несущая с базара припасы — петуха в корзинке да лукошко с яичками. И здесь ясно виден её характер — хитрый, пронырливый и коварный. Но все эти качества носят в этом рисунке более безобидный, я бы сказал, бытовой оттенок. Перед нами тип хитрой кумушки-лицемерки, а не коварного льстеца, как в предыдущем листе. Вспомним, что хитрость в русской сказке часто выступает не как порок, а как законное оружие умного против глупого.
А рядом с этим- — совсем иной, тоже очень характерный для русских сказок тип — медведь Михайло Иванович — неуклюжий увалень, добряк и лакомка, своего рода «русский Фальстаф». Он черпает полной ложкой мёд из колоды и полон блаженства. Медведь — это один из самых симпатичных положительных героев русской сказки. Он сильнее всех, но никогда не употребляет во зло свою силу, потому что незлобив и доверчив по своей природе. И все уважают его за это, а хитрые нередко и эксплуатируют его силу, пользуясь его слабостями и ленью.
Иллюстрация к сказке «Два жадных медвежонка». 1954 г.
Иллюстрация к сказке «Два жадных медвежонка». 1954 г.
Кума-лиса. 1956 — 1958 гг.
В литографиях Рачёв не ограничивался острой и меткой характеристикой типажа и костюма, но и старался каждого своего героя изобразить в определённой сюжетной ситуации и наиболее соответствующей ему пейзажной среде. Большую роль при этом играет колорит. Помимо своей декоративной функции, он создаёт в каждом листе определённое настроение: лису сопровождает зловещий лесной пейзаж с густым тёмным ельником, чётко рисующимся на оранжевом закатном небе; волк дан в глухую «разбойничью» ночь в лесу; зайчик-побегайчик — в неуютный серый зимний денёк — голые обдуваемые ветром деревья и растрёпанная ворона, сидящая на суку, создают настроение бездомности, бесприютности.
В колорите Рачёв, по его собственным словам, следуя традициям русского народного лубка, стремился к простоте и ясности открытого цвета. Художник не ищет тонких цветовых отношений, изысканных и сложных пейзажных мотивов, что было бы чуждо характеру народной сказки.
К сожалению, в цветной литографии простые, но хорошо найденные цветовые отношения оригинала были искажены и огрублены, что придало одним листам некоторую пестроту или блёклость, в то время как другие получились слишком тёмными.
Выполнены эти литографии в обычной для Рачёва манере штрихового контурного рисунка толстой линией с последующей подкраской каким-нибудь локальным цветом. Учитывая декоративное назначение этих больших настенных листов, Рачёв строил композиции на обобщённых массах и простых пространственных отношениях, сводящихся в основном к крупным фигурам переднего плана и пейзажному фону — на заднем. Художник избегает при этом сильных пространственных «прорывов», строя перспективу с помощью спокойных планов, параллельных передней плоскости. Условность пространственных отношений, простота цветового решения и лаконизм рисунка отнюдь не привели к схематизму и условности образов.
Образная чёткость и превосходные декоративные качества этих станковых литографий, а также многих других рисунков Рачёва позволяют в дальнейшем ожидать от художника расширения его творческого диапазона. В частности, весьма полезно было бы применить дарование Рачёва не только в книжной иллюстрации, но и в мультипликационном кино, а, может быть, и в декоративной стенной живописи для детей.
В рисунках, посвящённых русским сказкам, Рачёв наследует и по-своему развивает ценные качества знаменитых русских художников-сказочников. Особенно это чувствуется в общем эмоциональном строе его иллюстраций, в обострённом чувстве русского национального характера, знании народного быта и деревянной народной архитектуры, в красочной декоративности и, наконец, в той, если можно так выразиться, «правдивой фантастичности», которая столь присуща поэтике русской народной сказки.
Сказочность и поэтическая фантастика, свойственные дарованию Рачёва, особенно ярко проявились ещё в одном своеобразном жанре его творчества — деревянной скульптуре. Строго говоря, то, что делает Рачёв из разнообразных корневищ и обломков деревьев, даже нельзя назвать скульптурой в прямом смысле этого слова: ведь формы его фантастических зверей, птиц и рыб созданы главным образом не рукой ваятеля, а самой природой. Причудливость и фантастичность этих форм определяются теми или иными условиями роста дерева, действием воды, ветра и солнца, а художник только как бы помогает природе «выражать» самое себя, выявляя в случайных извивах и сплетениях корней и сучьев фантастические образы людей, животных или доисторических чудовищ.
Кажется, только природа с её безграничным многообразием могла создать все эти странные, причудливые, но всегда необыкновенно жизненные, мускулистые и пластичные живые существа, иногда нелепые и чудовищные, а иногда неожиданно грациозные и чувственные. Разумеется, дело здесь не в каком-то таинственном «самовыражении» природы, а в богатой творческой фантазии художника, в его умении по малейшим намёкам формы, движения или фактуры дерева воссоздавать целостный и органичный художественный образ, исполненный огромной жизненной силы, экспрессии и пластической красоты.
Болотная птица. 1956 г.
Фигурка из корпя бамбука. 1957 г.
Козлик 1956 г.
Птица. 1958 г.
В деревянных скульптурах Рачёва перед нами проходит целая вереница фантастических животных и птиц: вот страус с манерно поднятой ножкой; вот «обтекаемой» формы пингвин с массивным длинным клювом; вот жилистый и мускулистый горный козёл с большими изогнутыми рогами, запечатлённый в необыкновенно жизненном и энергичном прыжке, и тут же рядом какое-то нелепое
химерическое существо, напоминающее доисторическое ископаемое, с массивным туловищем, длинными лапами и змеиной головой.
Плавные и энергичные изгибы корней и сучьев сообщают необычайную убедительность движениям этих деревянных фигур. Не связанный задачей непосредственного изображения того или иного реального зверя или птицы, Рачёв даёт здесь полную волю своему творческому воображению. На основе знания законов природы он создаёт фантастические образы, наиболее остро выражающие те или иные природные качества — силу, ловкость, грацию, или, наоборот, неповоротливость, первобытную силу.
Деревянные скульптуры Рачёва не имеют определённого прикладного характера, но они в высшей степени декоративны по своей форме, силуэту и фактуре, иногда обогащённой цветом. Особенно удачны в этом отношении такие его вещи, как фигура полуобнажённой женщины, изображённой в плавном изгибе восточного танца, уже упоминавшийся «Горный козёл» или две композиции «Рыбы». В одной из этих композиций художник в качестве подставки взял мохнатую сосновую ветку, удивительно напоминающую какую-то водяную траву, в дебрях которой притаилась большая зелёная рыба со зловещим жёлтым глазом.
Деревянная скульптура Рачёва с её жизненной экспрессией и декоративностью превосходно вписывается в современный жилой интерьер и украшает его. Созданные художником образы при всей своей фантастичности и субъективности правдивы и реалистичны в своей основе, так как фантазия Рачёва исходит из живой натуры и опирается на хорошее знание строения тела, повадок, характера различных животных.
* * *
Рачёв никогда не считал, что главное в сказке заключается в её нереальности и декоративной красочности, понимаемых как нечто противоположное обыденной жизни. Как мы знаем, главное внимание в своём творчестве он уделяет реальной — психологической
и социальной основе сказки. А поскольку это так, то в центре его иллюстраций всегда находится образ героя сказки. Часто сущность сказочного героя не совпадает с его внешним обликом. Взять хотя бы популярного персонажа русской сказки Ивана-дурака, над образом которого много работал Рачёв в последние годы в связи с подготовкой иллюстраций к большой книге «Русские народные сказки». Ведь это, несомненно, один из самых симпатичных положительных героев русского фольклора — простодушный, добрый, доверчивый, но в то же время смекалистый и «себе на уме». Этот герой сказки олицетворяет в себе многие черты русского народного характера. Изображать его буквально таким, каким он чаще всего предстаёт в сказке — придурковатым увальнем, — это значит погрешить против её основного смысла и идеи.
Рачёв считает, что образ героя сказки нужно трактовать с нашей современной точки зрения, вкладывая в него живое актуальное содержание. Только это избавит иллюстрации к сказкам от налёта музейной экзотичности и насытит их боевым духом современности.
Звери в сказке — это, по сути говоря, только внешняя личина её героев. А суть всех этих образов — человеческая, социальная. Вот почему в иллюстрациях к сказкам художник не может ограничиваться просто изображением «натуральных» животных. Ведь в сказке есть немало явно аллегорических черт, переносимых с людей. Всё это даёт право иллюстратору изображать сказочных зверей и птиц в человеческом облике, причём не просто одевать их в людские одежды, указывающие на принадлежность героя к тому или иному сословию, но и ставить их в определённые социальные и психологические отношения.
Какова мера и предел такой условной аллегоричности в рисунках к сказкам и басням — вопрос другой. Он всегда должен решаться конкретно, ибо не для всех сказок нужна одинаковая «антропоморфность». Тут дело в чутье и такте самого художника, в глубине понимания им литературного текста. Особенно это относится к басне.
Обложка сказки С. Михалкова «Зайка-зазнайка» (для второго издания).
Надо сказать, что иллюстрация к сказке и к басне — это не совсем одно и то же. Дело в том, что в сказке животные олицетворяют собой какие-то общие, абстрагированные от того или иного конкретного характера моральные качества — коварство и алчность, силу и доброту, трусость и хвастливость и т. д. В басне же чаще всего изображается конкретный характер, даётся, я бы сказал, портретный образ, хотя и в форме аллегории. Если сказка — это жанр эпический, то басня стоит ближе к публицистике: её «эзопов язык» очень прозрачен и всегда направлен в определённую конкретную цель. Недаром в басне мораль чаще всего даётся в прямой обнажённой форме в виде меткого афоризма в конце. Все эти особенности басенного жанра накладывают отпечаток и на иллюстрации к ним. Пересказывать в рисунке внешнюю форму басенного иносказания — это значит принимать «за чистую монету» её эзопов язык. А ведь он служит лишь для маскировки того острого публицистического обличения, которое и является целью всякой настоящей басни. Вот почему, по глубокому убеждению Рачёва, Валентин Серов в своих превосходных рисунках к басням Крылова все же шёл по неверному пути. Басенный смысл он хотел передать лишь с помощью острохарактерного изображения не сказочных, а «обычных», реальных животных, избегая приёмов изобразительного иносказания, фантазии, аллегории.
В своих иллюстрациях к басням Рачёв не стремится к точному пересказу басенного текста: скрытое человеческое содержание описываемых в басне сцен он выявляет в образах животных.
Правда, в иллюстрировании басен существует и другая крайность, когда художник, игнорируя специфику этого жанра, выражает смысл басни в обнажённой форме языком политической публицистики в виде карикатуры или шаржа. Таковы были, например, иллюстрации Трутовского к басням Крылова, когда в рисунке к басне «Волк на псарне» художник, например, прямо изображал Наполеона, бегущего из своего бесславного похода на Россию.
Иллюстрация к сказке С. Михалкова «Зайка-зазнайка». 1952 г.
Рачёв в своих иллюстрациях к басням избегает обеих этих крайностей. Он стремится сохранить поэтику басни, её иносказательный образный язык, фабулу и даже внешний облик героев такими, как они описаны в басне. И в то же время за этой внешней басенной оболочкой художник умело вскрывает её смысл, социальное и психологическое содержание образов. Это Рачёву потому удаётся, что в его творчестве счастливо сочетаются талант анималиста и острый дар сатирика
К серьёзной работе над баснями Рачёв обратился сравнительно недавно (во второй половине 50-х годов), хотя отдельные его работы в этом жанре относятся и к более раннему времени. Одной из таких ранних работ Рачёва была небольшая книга басен Л. Н. Толстого с литографиями, впервые изданная в 1949 году. В этих иллюстрациях басенное начало ещё слабо выражено. Это просто анималистические, слегка подцвеченные рисунки на сюжеты басен, какие мы встречали и во многих других детских книгах Рачёва. Животные, особенно лев и кот, очень метко и выразительно нарисованы, но художник чаще всего не идёт дальше иллюстрирования того, что собственно уже сказано в тексте. Только кое-где начинает явственно выступать то чисто изобразительное, басенное начало, которое впоследствии так ярко разовьётся в творчестве Рачёва. Это сказалось здесь, например, в рисунке к басне «Осёл в львиной шкуре», где дан выразительный контраст величественнной, но безжизненной головы льва и глупой физиономии осла с торчащими из-под львиной шкуры длинными ушами
В другом рисунке (к басне «Волк и коза») Рачёв ещё смелее отходит от буквального иллюстрирования текста: он представил волка в виде коварного искусителя с букетом в руке и с ножом, спрятанным за спиной, а козу — в виде кокетливой барышни с цветочком в зубах. Однако в этом рисунке раскрытие смысла басни выглядит ещё слишком «лобовым». Да и сами образы волка и козы не получили ещё того тонкого психологического истолкования, которым мы восхищаемся в более зрелых рисунках Рачёва.
Суперобложка к «Басням» С. Михалкова. 1955
Титул (разворот) к «Басням» С. Михалкова. 1955 г.
Наиболее значительные успехи Рачёва в этом жанре связаны с его работой над иллюстрированием сатирических произведений Сергея Михалкова. Сначала это были рисунки не к басням, а к шуточным детским стихам и пьескам Михалкова. Однако и этим небольшим произведениям талантливого советского сатирика свойственны многие басенные черты, что не могло не сказаться и на иллюстрациях к ним. Я имею в виду, прежде всего, замечательную по своей выразительности и тонкому юмору серию рисунков Рачёва к пьесе-сказке С. Михалкова «Зайка-зазнайка» (1952), а также красочные иллюстрации к сказке «Как медведь трубку нашёл» (1954).
Можно смело сказать, что «Зайка-зазнайка» — это одна из лучших работ Рачёва. Уже на светло-зелёной обложке книги читатель знакомится с героем пьесы — «храбрым» зайцем, который в победоносной позе, с ружьём в руках, красуется перед своими собратьями — любопытными маленькими зайчишками. Не менее выразительны мордочки старых и молодых зайцев, нарисованные Рачёвым на титульном листе этой книжки.
В рисунках к «Зайке-зазнайке» ясно обозначился басенный характер образов животных, созданных Рачёвым. Об этом говорит «психологическая» характерность персонажей, тонкий юмор и ясный «человеческий» подтекст изображённой художником забавной истории о том, как Зайка-зазнайка случайно получил в руки ружьё и до того возгордился своей мнимой силой, что отказался от своих собратьев, за что и был в конце концов наказан и посрамлён.
Правда, не все иллюстрации к этой сказке одинаково удались художнику — некоторые ещё не выходят за рамки простого «сопровождения» текста. Но зато лучшие из них — такие, например, где изображено, как Зайка-зазнайка со своей женой хозяйничает в лисьем доме, разговаривает с лисой, и особенно рисунок, в котором показано, как семейство старого зайца пришло в гости в новый дом Зазнайки, поражают своей меткостью и замечательным даром весело и увлекательно рассказывать. Сколько в этом рисунке характерного, остро наблюдённого в жизни! Этот и многие другие листы серии интересно подолгу рассматривать, потому что в них много и обстоятельно рассказано о героях сказки, причём рассказано сугубо изобразительными пластическими средствами, зримо и убедительно. Достаточно взглянуть на чванно-снисходительную позу Зазнайки, заложившего руки за спину и свысока взирающего на гостей, и на немного заискивающее, искательное выражение лица и позы старого зайца, смущённого таким нелюбезным приёмом, или посмотреть на присмиревших озорников-зайчишек и на то, как оживлённо судачат у дверей зайчихи, чтобы понять не только смысл этой сцены, но и суть характера каждого действующего лица.
Такими же ценными качествами «изобразительной повествовательности» отличаются и другие лучшие рисунки этой сказки, например, лист, в котором изображено, как расхрабрившийся Зазнайка, заняв лисий дом, наводит в нём свои порядки: вместо сорванных со стены портретов лисьих родственников он прибивает изображения каких-то важных старых зайцев, вероятно, своих родителей, в то время как уже освоившаяся в новом доме зайчиха по-хозяйски хлопочет около печки.
Очень выразительны и по-человечески «психологичны» в рисунках Рачёва к этой сказке образы Зазнайки, его жены, старого зайца, маленьких зайчишек. У каждого из них свой характер, своё выражение. Вот, например, маленький зайчишка, с любопытством рассматривающий страшное ружьё. В этом листе перед нами опять предстаёт обстановка предыдущего рисунка: огромная русская печь, на стене — портреты заячьих предков и пучок морковки, повешенный на гвоздик. В мягкой лисьей кровати, расписанной петухами (меткая деталь, делающая честь остроумной выдумке Рачёва!) храпит новый «хозяин» — Зазнайка, а возле его кровати, на полу, притулилась на коврике его жена. Маленький зайчишка, взобравшись на табурет, глядит в тёмное дуло огромной двустволки.
Не менее выразительны и остроумны рисунки, в которых с неподражаемым юмором изображён Зайка-зазнайка и его бедная зайчиха, стремительно выскакивающие из «своего» дома через окно, а также старый заяц, который хитростью запер в доме забравшихся туда хищников.
Очень хорош также заключительный рисунок этой серии, где изображён старый заяц, конвоирующий лису и волка. Нельзя без улыбки смотреть на идущих на задних ногах с поднятыми вверх лапами двух пристыженных хищников и деловито ковыляющего за ними старого зайца с ружьём наперевес. Хотя все трое изображены со спины, они очень метко и выразительно охарактеризованы. Здесь совершенно ясно сказывается басенный характер рисунков Рачёва: их морализирующее значение и явно «человеческий»
подтекст.
Иллюстрации Рачёва к «Зайке-зазнайке» выполнены в выразительной графической манере: это контурный рисунок с чёткой «скульптурной» моделировкой формы внутри силуэта фигуры и лёгкой подцветкой. Вместе с чёрными штрихами угля и белым фоном бумаги тёплый желтовато-коричневый тон сепии придаёт рисункам спокойную и мягкую живописность. Благодаря такой графической манере кажется, что эти листы насыщены солнечным светом и воздухом.
Следующим этапом творческого содружества поэта и художника были красочные иллюстрации Рачёва к сказке С. Михалкова «Как медведь трубку нашёл» (1954). Новым качеством этих рисунков были не только значительно более разнообразно и тонко использованные возможности цвета, взятого в тональных отношениях, но и более разнообразное оформление всей книги в целом. Рачёв создач здесь художественно цельные композиции разворотов книги, объединяющие все элементы её оформления и текст воедино.
Особенно же важным и характерным для творческого развития Рачёва как мастера басенно-сатирического рисунка было дальнейшее углубление н совершенствование умения передавать в образе того или иного животного различные оттенки его настроений, переживаний и даже, кажется, подчас интонаций его голоса. Причём всё это достигается здесь отнюдь не за счёт усиления «антропоморфных» черт в образе животного (т. е. одевания его в человеческие одежды, помещения в несвойственную ему бытовую среду и т. д.). Изображая животное в его естественном «натуральном» виде, художнику удаётся передать оттенки его психологического
состояния почти без всяких «басенных» аллегорических атрибутов. Тем острее и ярче, так сказать, в своём чистом виде выступает в этих рисунках замечательное свойство Рачёва — мастера жанровобытового юмористического рисунка из жизни животных. Перелистывая страницы небольшой красочной книжки «Как медведь трубку нашёл», зритель словно в мультипликационном фильме последовательно видит поучительную историю о том, как однажды медведь наткнулся в лесу на трубку и кисет с табаком и пристрастился к курению.
На титульном развороте этой книги дана как бы завязка этой истории: несколько любопытных сорок прыгают по снежному полю листа вокруг не виданной в лесу диковины — красного кисета и трубки.
В последующих рисунках мы видим, с каким любопытством разглядывает трубку медведь, как он затем, развалясь, с явным наслаждением, словно завзятый курильщик, пускает изо рта кольца дыма. От рисунка к рисунку видно, как он худеет и слабеет, так что знакомые — лиса и волк — с наигранным ужасом шарахаются от него. Далее мы видим его уже совсем обессилевшим, опирающимся на берёзовые костыли. В последнем листе изображено, как, взвалив хворого медведя на сани и прикрыв тулупом, охотник увозит его из леса.
Меткость и характерность в передаче мимики, жестов и поз изображаемых животных здесь поистине поразительны. Это относит-
ся не только к образу главного героя, но и к изображению эпизодических персонажей — болтливых и непоседливых кумушек-сорок, испуганной и притворно-участливой лисы, любопытных, но боязливых обывателей-зайцев, всегда издали следящих за происходящим.
Свободное владение техникой анималистического рисунка, умение рисовать зверей на память и в любом положении, помноженное на весёлый и остроумный дар баснописца-сказочника, умеющего вдохнуть живое «человеческое» содержание в изображаемых им
зверей и птиц, — вот что обеспечило Рачёву успех, когда он приступил в 1955 году к иллюстрированию басен Михалкова.
Талантливые, меткие, наполненные острым злободневным содержанием басни Михалкова не раз привлекали к себе художников самого различного склада. Их иллюстрировали выдающиеся деятели советского сатирического рисунка — Кукрыниксы, А. Каневский, Борис Ефимов, К. Елисеев, И. Семёнов, мастера советской иллюстрации — В. Еоряев, А. Лаптев, В. Милашевский и даже некоторые наши живописцы, например, С. Герасимов и Ф. Решетников.
Среди всех этих работ — подчас очень ярких и талантливых — одно из самых видных мест принадлежит рисункам Е. Рачёва. Он не ограничился иллюстрированием отдельных басен Михалкова, а создал большой и целостный графический цикл, который по своему значению далеко перешагнул за пределы простого сопровождения литературного текста. Посетители персональной выставки Рачёва не раз отмечали в книге отзывов это ценное качество его рисунков. «Иллюстрации настолько выразительны, что текст почти излишен», — писала одна из посетительниц. Другой посетитель выставки Рачёва, как бы продолжая ту же мысль, говорил об иллюстрациях к произведениям Салтыкова-Щедрина, Михалкова и к народным сказкам: «Это даже не иллюстрации, а самостоятельные рисунки — весёлые и злые, грустные и остро сатирические »
В 1957 году Гослитиздатом была выпущена в свет иллюстрированная Рачёвым книга «Басни Михалкова», как бы подводящая итог этой работы. Начиная с красочной суперобложки и титульного разворота, мы сразу же попадаем в особый мир басен. Мы видим здесь не животных, наделённых некоторыми чертами сходства с людьми, а почти портретное изображение людей, поразительно смахивающих на того или иного представителя животного мира. Изображённые здесь популярные герои Михалкова — лиса и бобёр, словоохотливый осёл, вертлявый подхалим заяц, тупая «дама из общества» свинья и некоторые другие персонажи проходят через
многие иллюстрации Рачёва, каждый раз обогащая психологический рисунок образа новыми оттенками. В результате у читателя остаётся в памяти некий синтетический образ данного персонажа, более глубокий и богатый по содержанию, чем тот, который мы находим в той или иной иллюстрации в отдельности.
Взять, например, очень удавшийся художнику образ лисы из басни «Лиса и бобёр» — этакой миловидной кокетливой хищницы, охотницы до седых бобров. На суперобложке мы видим эту пару шествующей под руку. У лисы гордо вскинутая голова, высоко «задранный нос», на макушке — модная шляпка: она достигла того, что желала. На титульном листе они встречают вас, словно молодожёны, принимающие поздравления. Долговязая лиса кокетливо и несколько иронически поглядывает с высоты своего роста на сво-
его плешивого старого бобра. А в иллюстрациях к самой басне мы видим лису в тот момент, когда она, применяя всё своё женское
обаяние, охотится за бобром:
Знай вертит перед ним хвостом,
Знай шепчет нежные слова О том, о сём
Всё в её облике рассчитано на обольщение: и «грациозная» поза, и томный взор из-под ресниц, и туалет по «последнему крику моды». И как завершение всего — деталь, подчёркивающая лицемерие и ложь этого «нежного» дуэта: позади лисицы и бобра художник изобразил на дереве двух соловьёв, заливающихся в любовном
экстазе, как будто и их хитрая лиса наняла для того, чтобы обольстить бобра. В этих трёх рисунках события показаны как бы в обратной хронологической последовательности. Благодаря этому особенно рельефно выступает холодный расчёт очаровательной хищницы и глупая роль седого бобра в этой истории.
К числу наиболее удавшихся Рачёву персонажей серии несомненно принадлежит также осёл — тип болтливого, оторванного от жизни кабинетного «эрудита». На титульном развороте мы встречаем его среди других героев Михалкова с бокалом в руке. В рисунке к басне «Нужный осёл» мы видим его в роли застольного оратора, который уморил гостей своей нескончаемой речью. Этот профессиональный болтун, полный уверенности в себе, не видит ничего вокруг — ни зовущего к себе пиршественного стола, ни того, что его речь нагнала на всех томительную дремоту Уточняя цель.
в которую направлено сатирическое остриё образа, Рачёв стремится охарактеризовать осла как существо самодовольное и ограниченное. Это сказывается даже в таких мелочах, как нацепленные явно для публики внешние атрибуты «учёности» — университетский значок и авторучка.
В третьем рисунке — к басне «Седой осёл» — перед нами как бы логическое продолжение того же образа. Наш осёл здесь очень состарился и одряхлел. Теперь он уже не произносит нескончаемых речей, а просто тихо дремлет на бесконечных заседаниях, где по привычке его всё ещё считают «непременным членом». Но как ни изменился наш прежний знакомец, его легко узнать по неуловимотонким индивидуальным признакам: характерно отвисшей губе, старомодному пенсне на длинном носу и, главное, по тому равнодушию ко всему окружающему, которое свидетельствует о непроходимом самомнении. В этом образе Рачёв вместе с поэтом зло и метко высмеял оторванного от жизни пустопорожнего и бесплодного интеллигента.
А рядом — другой сатирический образ «работника умственного труда» в рисунке к басне «Самостоятельный баран». Это образ догматика, не имеющего собственных суждений и всю свою мудрость черпающего из апробированных цитат. Грызя авторучку и вперив глаза в потолок, он высасывает из пальца свой очередной критический «опус». Разбросанные повсюду книги с закладками показывают источник его «мудрости», а девственная пустота в глазах — полное отсутствие мыслей.
На страницах книги басен, оформленной Рачёвым, можно встретить много других ярких сатирических портретов. Вот, например, зловещая, раздувшаяся от спеси фигурка тушканчика на тонких ножках (басня «Дутый авторитет») и не менее страшная, почти щедринская фигура матёрого бюрократа из басни «Енот, да не тот», отгородившегося от всего мира письменным столом и креслом с высокой спинкой.
Рядом с этими типами деляг и бюрократов на страницах книги можно увидеть и других отрицательных персонажей, метко и зло обличаемых в баснях Михалкова. Здесь и сластёна-казнокрад, залезающий в сейф с деньгами с такой же жадной бесцеремонностью, как медведь лезет в улей за сладким мёдом (басня «Медвежий зарок»); здесь и опытный бандит-рецидивист, нахально расположившийся на скамье подсудимых, будто он сидит не перед судьями, а на скамейке в парке (басня «Бешеный пёс»), В этой коллекции можно также встретить лицемера и хищника, прикидывающегося овечкой (басня «Волк-травоед»), и эгоистичную, презирающую семейные узы кукушку (басня «Кукушка и скворец»), и «обольстительную» с тонкой осиной талией и огромными накрашенными ресницами секретаршу большого начальника, самочинно заправляющую всеми его делами (басня «Лев и муха»). Здесь и жадные мещанки, подобно крысам рыскающие за всем «заграничным» (басня «Две подруги»), и множество других, не менее ярко обрисованных персонажей.
Даже такие небольшие декоративные элементы оформления книги, как концовки, Рачёв умеет тонко и тактично обыграть для того, чтобы раскрыть мораль той или иной басни. Так, например, в конце басни «Колос и василёк» Рачёв поместил изображение василька в виде манерно изломанного стиляги в модном пиджаке и с кудлатой шевелюрой, тем самым указывая своим рисунком конкретный адрес басни, направленной против тех, «которые хотя и синеоки, и украшают девичьи венки, но, как известно, все же сорняки!»
Вся обширная серия иллюстраций Рачёва к басням Михалкова ясно делится на два основных вида: рисунки, в которых даются яркие сатирические портреты басенных персонажей, и более сложные бытовые сатирические сценки, где характеры персонажей раскрываются в живом действии, неожиданной ситуации. Рисунков второго рода в книге меньше, чем сатирических портретов, зато среди них есть очень интересные. Ведь именно к их числу принадлежат уже упоминавшиеся иллюстрации к басням «Лиса и бобёр», «Нуж-
Иллюстрация к басне «Заяц и ёж». 1955 г.
ный осёл», «Седой осёл» и другие. К числу лучших сюжетных рисунков принадлежит, на мой взгляд, и иллюстрация к басне «Осторожные птицы», изображающая консилиум врачей у постели Топтыгина, у которого «вскочил чиряк на шее». На переднем плане, за круглым столом, восседают три медицинских светила: горделиво надувшийся петух, сонно-равнодушный и флегматичный филин и маленький вертлявый дятел В осанке, типаже и «мимике» этих персонажей так много наблюдённого, характерного для этих птиц и в то же время столько профессионального, они так поразительно похожи на хорошо вам знакомых людей, что нельзя без улыбки смотреть на эту забавную бытовую сценку. Особую остроту этому-рисунку придаёт изображённый позади медведь с грелкой на голове. Его страдающая, искажённая болью морда ещё сильнее подчёркивает олимпийское спокойствие и равнодушие к больному осторожных и нерешительных эскулапов.
Рачёв поистине неистощим на выдумки, когда он изображает сценки, действующими лицами которых являются птицы. Так, например, в иллюстрации к басне «Непьющий воробей» каждый персонаж — это своеобразный, полный жизни характер, будь то обрюзгшая старая сова в шляпе с перьями, или подвыпивший и «осовевший» плешивый ворон, или неугомонный дятел-тамада.
В другом рисунке особенно хорош заезжий морской индюк, распустивший свой красивый хвост и красующийся перед провинциальными курочками. Вот где иллюстрация к басне становится острым целеустремлённым шаржем, приобретающим лучшие качества поистине кукрыниксовской сатирической образности.
Несомненно, творчество этих замечательных советских сатириков оказало благотворное воздействие на Рачёва при работе над рисунками к басням. Оно помогло художнику-анималисту отточить сатирическое жало его прежних добродушных и милых рисунков, наушило выбирать только главное и характерное в натуре, прибегать к смелым гиперболам, находить неожиданные пикантные ассоциации, достигая всеми этими средствами сатирической остроты и безукоризненной точности попадания в цель. Но плодотворно усвоенный опыт сатирической советской графики, особенно Кукры-никсов, не сделал эти рисунки Рачёва, так же как и более поздние его иллюстрации к сатирическим сказкам Салтыкова-Щедрина, менее своеобразными и оригинальными. И в них мы ясно видим острый ум и ту особую, «рачевскую» интонацию, которая так привлекает в его рисунках на темы народных сказок.
Эти своеобразные, неповторимо-индивидуальные особенности художника можно наблюдать во всех рисунках к басням Михалкова, о которых уже шла речь, а также в других ущачных листах этого цикла, например, в неподражаемой по тонкости психологической характеристике иллюстрации к басне «Коты и мыши». Рисунок Рачёва к этой басне по глубине проникновения в сущность образа и сатирической остроте, мне кажется, превосходит михалковский текст. В этом рисунке, по существу говоря, дано сопоставление двух различных характеров, подобных чеховским Толстому и Тонкому. Кот Василий, раздобревший на казённых харчах, гладкий, самодовольный, одетый в добротные бурки и украинскую рубаху под пиджаком (дескать, «так-то ближе к наро ду») с явно наигранным радушием хозяина-хлебосола встречает нежданного гостя. Кот Тимофей — худой, застенчивый, нескладный в своих бумажных полосатых брюках и стареньком пиджачке, из которого он явно вырос. Тимофей принёс своему влиятельному собрату подарок — мышку с бантиком на хвосте — и смотрит на него немного заискивающе и, в то же время, с некоторой завистью, как может смотреть бедняк и неудачник на баловня судьбы. В сопоставлении этих различных характеров скрыто многое. Может быть, это встреча былых друзей, пути которых разошлись: один вступил на соблазнительный, но скользкий путь и преуспел в жизни, другой остался скромным, но честным бедняком. И вот теперь «знающий жизнь» делец и хапуга с высоты своего сытого довольства учит «у^му^-разуму» своего неудачливого товарища. Можно представить себе и другую ситуацию. Сила басни в том-то и заключается, что в её аллегорических образах и абстрагированных ситуациях заключено так много жизненно-типического, что зритель сам легко находит конкретную расшифровку изображённого. Это позволяет выразить различные характеры и обстоятельства наглядно и зримо, с полной определённостью. Вот почему этот, как и другие лучшие рисунки Рачёва на темы басен Михалкова, переросли рамки простого иллюстрирования литературного текста. Они оказались вполне оригинальными произведениями, очень ёмкими и широкими по содержанию, многогранными и тонкими по своим психологическим оттенкам, необычайно острыми и язвительными, сатирическими и смешными одновременно.
Смех — оружие очень сильное, — говорил великий сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин, « ибо ничто так не обескураживает порока, как сознание, что он угадан и что по поводу его уже раздался смех».
Несомненно, работа над сатирически-злободневными баснями Михалкова во многом подготовила успех последующей большой работы Рачёва — иллюстраций к некоторым сатирическим сказкам М. Е. Салтыкова-Щедрина. К этой работе художник приступил в 1956 году.
В рачёвских рисунках на темы Салтыкова-Щедрина ясно прослеживаются нити преемственности с его иллюстрациями народных сказок и особенно басен Михалкова. Это сказывается как в типаже аллегорических персонажей — животных, так и в самой художественной манере этих рисунков — чёткой и декоративной, сдержанной и тонкой по своему живописному решению.
Обратившись к непривычному для себя жанру острой политической сатиры, художник столкнулся с целым рядом новых творческих проблем. Правда, сказки Салтыкова-Щедрина были облечены в хорошо знакомую Рачёву «зооморфную» аллегорическую форму и имели некоторые традиционные черты народных сказок, но всё же они обладали целым рядом особенностей, свя занных с неповторимо-индивидуальным стилем Салтыкова-Щедрина, а именно откровенной публицистичностью и полемичностью его политических намёков, убийственной иронией и «злым юмором», по меткому выражению И. С. Тургенева.
В «Сказках» Щедрина со всей наглядностью проявилась важнейшая закономерность его «величавой сатиры», которая вырастает на истинно народной почве. Закономерность эту прекрасно сформулировал сам Щедрин. Он говорил: « чтоб сатира была действительною сатирою и достигала своей цели, надобно, во-первых, чтоб она давала почувствовать читателю тот идеал, из которого отправляется творец её, и во-вторых, чтоб она вполне ясно сознавала тот предмет, против которого направлено её жало»1. И действительно, в «Сказках» Салтыкова-Щедрина постоянно чувствуешь убеждённость революционного демократа, верящего в неизбежную победу народа над мрачными силами самодержавия и крепостничества. Именно этот положительный идеал придаёт произведениям Салтыкова-Щедрина меткость и остроту сатирического обличения, а также тот глубоко народный оптимистический дух. который столь свойствен его «Сказкам».
Великий сатирик подчёркивал, что злодейство и разбой, царившие в обществе его времени, зависят не столько от личных качеств тех или иных владык, а от общественного положения, от их, так сказать, функции в государственном механизме угнетения. Волк и другие хищники, по словам Щедрина, «не по своей воле так жестоки, а потому, что комплекция у них каверзная: ничего, кроме мясного, есть не могут». Поэтому-то великий сатирик с такой беспощадностью и последовательностью обрушивался не на отдельных лиц, а на сам несправедливый общественный строй, на его столпов и вольных или невольных его защитников из числа либеральных краснобаев.
В «Сказках» Щедрина перед читателями проходит целая галерея отрицательных типов русского общества 80-х годов прошлого века, начиная с самого самодержца («Орёл-меценат»), его высших сановников («Ворон-челобитчик»), матёрых крепостников-мракобесов («Дикий помещик»), кончая различного рода прихлебателями и холопами, добровольными жертвами паразитического строя — всеми этими верными трезорами, здравомысленными и самоотверженными зайцами, карасями-идеалистами, премудрыми пискарями и пустоплясами.
В ту пору, когда русский народ стонал под гнётом реакции, Салтыков-Щедрин считал своим важнейшим долгом возбуждать общественную мысль против несправедливостей социального устройства и бороться с распространившимися среди части интеллигенции настроениями безверия, уныния, скептицизма и обывательской философией «применительно к подлости».
Обратившись к иллюстрированию сатирических «Сказок» Салтыкова-Щедрина, Рачёв на первых порах не ставил себе задачей передать в цикле своих рисунков всё богатство политического и образно-художественного содержания «Сказок». Сначала он выбрал для иллюстрирования только те сказки, действующими лицами которых были хорошо знакомые по прежним его работам персонажи — заяц, лиса, волк и другие герои1. Учитывая опыт иллюстрирования басен Михалкова, Рачёв выбрал для «Сказок» Салтыкова-Щедрина по преимуществу тот тип рисунков, который можно назвать сатирическим портретом. Это не значит, что все двенадцать иллюстраций Рачёва к Салтыкову-Щедрину представляют собой однофигурные композиции портретного характера. Есть среди них и повествовательные сценки, передающие ту или иную сюжетную ситуацию сказки. Таковы, например, рисунки «Ворон-челобитчик», «Самоотверженный заяц», «Орёл-меценат» и некоторые другие. Но и в этих листах главное заключается в раскрытии социальной и психологической сущности образов героев. С другой стороны, и такие портретные рисунки, как иллюстрации к «Верному Трезору» или «Премудрому пискарю», сюжет-но осмысливаются художником: они даны не просто как портрет, а скорее как жанровая сценка.
В соответствии с природой щедринской сатиры в своих рисунках к «Сказкам» Рачёв значительно усиливает остроту социальной и сословной характеристики героев, как бы говоря вслед за писателем, что корни того или иного представленного типа — не в его личных моральных качествах, а в социальной природе данного персонажа, делающей его или хищником или беззащитной жертвой. Трудность заключалась в том, чтобы социальные и морально-психологические черты суметь передать в метафорической, басенной форме, в изображении того или иного животного, рыбы или птицы. Неоценимую услугу оказал здесь Рачёву накопленный опыт худож-ника-анималиста и сказочника. Для лучшей передачи смысла Рачёв умело пользуется некоторыми характерными чертами быта, обстановки и одежды людей — изобразив, например, на коршуне мундир и звёзды важного сановника, а на вороне-челобитчике — драный крестьянский армячишко. Проблема передачи человеческого содержания через аллегорическую «зооморфную» оболочку вставала перед каждым художником, иллюстрировавшим щедринские «Сказки». А мы знаем, что к ним обращались многие талантливые художники как в дореволюционное, так особенно в советское время. В их числе — Кукрыниксы и Каневский, создавшие в 1939 году ряд своеобразных иллюстраций к наиболее популярным «Сказкам».
Каждый из этих художников, как и Рачёв, по-своему решал проблему аллегорического рисунка.
В статье «Сказки Щедрина в рисунках» А. Каневский писал по поводу образа «премудрого пискаря»: «Всякому понятно, что Щедрин говорит о рыбе. Пискарь — трусливый обыватель, дрожащий за собственную шкуру. Он человек, но он и пескарь, в эту форму облёк его писатель, и я, художник, должен её сохранить. Задача моя — сочетать образ запутанного обывателя и пескаря, совместить рыбьи и человеческие свойства.
Очень трудно «осмыслить» рыбу, дать ей позу, движение, жест. Как отобразить на рыбьем «лице» навеки застывший страх?»1 И Каневский, и Кукрыниксы, и Рачёв решали эту задачу по-
1 А. Каневский, «Сказки Щедрина в рисунках», журнал «Смена», 1940, № 7.
своему, в соответствии со своей творческой индивидуальностью, в свойственной им графической манере.
Возьмём, например, иллюстрации этих художников к «Премудрому пискарю». У Кукрыниксов эта тема решена как пейзаж «подводного царства» со множеством забавных и остроумных подробностей. Здесь и деловитая востроносая рыба в очках н мрачный чиновник в форменной фуражке — рак с огромными, клешнями, привыкшими хватать, что попадётся под руку. Среди всей этой деловитой жизни подводного царства не сразу заметишь героя сказки — «премудрого пискаря», боязливо поглядывающего из своей глубокой норы под камнем. Несколькими меткими штрихами Кукрыниксы нарисовали облик насмерть перепутанного, постоянно дрожащего интеллигента-обывателя, замкнувшегося в
Премудрый пискарь. 1956 — 1957 гг.
своей скорлупе. Образ этот создан не столько с помощью портретной, физиономической характеристики, сколько благодаря передаче общей картины подводного царства, в котором «премудрый пискарь» занимает ничтожное место. Следуя тексту, Кукрыниксы в своей иллюстрации сохраняют условную иносказательную манеру повествования.
В иллюстрации Каневского также заметно стремление сохранить аллегорическую обстановку действия и передать подводную среду, хотя в своём рисунке он дальше отходит от «натуральной» картины подводного царства. Комната пискаря (ибо то, что мы видим здесь, нельзя назвать ни норой, ни как-либо иначе) заполнена водой с подымающимися кверху пузырьками воздуха, а в окне виднеется хищный профиль щуки. Однако, передавая подводную среду, Каневский, в отличие от Кукрыниксов, главное своё внимание уделяет психологическому состоянию пискаря. Зритель может ясно разглядеть и трусливо скорчившееся тельце, и выражение страха на его физиономии с выпученными глазами. Писка-риное «лицо» явно окарикатурено, и весь его образ подан Каневским юмористически, хотя в самом рисунке нет должной сатирической заострённости, публицистической остроты. Многие детали рисунка, вроде медуз на полу, ночных туфель на коврике у постели, портретов рыбьих предков, — забавны, но уводят внимание от сущности образа, тогда как другие детали, вроде профиля щуки за окном, слишком прямолинейны, Художнику не вполне удалось передать состояние постоянного и каждодневного трепета, в котором пискарь пребывал всю свою долгую и бесполезную жизнь. Акварельная иллюстрация Каневского красива по краскам, но колорит её независим от образной характеристики героя. Цветовое решение этой иллюстрации в основном направлено на то, чтобы передать плотную водяную среду с её размытыми контурами и призрачным зеленоватым светом, создать некое общее декоративное впечатление.
В акварельном рисунке Рачёва к сказке о «премудром пискаре», сделанном, правда, значительно позже Каневского, при общем сходстве сюжетного мотива с иллюстрацией этого художника, ясно видна существенная разница как в трактовке образа пискаря, так и в самом подходе к иллюстрированию щедринской сказки. Если Каневский и особенно Кукрыниксы стремились в своих иллюстрациях сохранить тот эзопов язык, в который облёк идейный смысл этой сказки сам автор, то Рачёв более откровенно и заострённо обнажает в своём рисунке сатирическую суть образа «премудрого пискаря». Перед нами типичный обыватель, не знающий ничего, кроме своего маленького комнатного мирка с его пошлым мещанским уютом, — ковриком на стене и веером, приколотыми «соблазнительными» картинками, старомодной кроватью с цветочками и привычным халатом, из которого хозяин, видимо, никогда
не вылезает. Сидит он на постели в своей привычной позе, ручки-плавники на животе скрестил и дрожит: день дрожит, ночь дрожит — прислушивается, беды ждёт, сам не знает откуда. Ничего человеческого нет в этом скрюченном от страха существе в зелёном халате, только очки на носу, да мещанская обстановка, а так всё рыбье, мелкое, пискариное.
У Рачёва пискарь нарисован, можно сказать, с полной зоологической точностью, даже есть пятнышки на чешуе и характерные опущенные вниз «усы». Но в то же время за этой рыбьей внешностью ясно видишь жалкую физиономию насмерть напуганного обывателя из тех, кто «обезумев от страха, сидят в норах и дрожат».
Казалось бы, Рачёв отошёл от точного иллюстрирования щедринского текста. В его рисунке нет даже намёка на то, что всё изображённое происходит под водой: нет здесь ни призрачного подводного освещения, ни причудливых обитателей подводного царства и прочих подробностей, которые мы видим в рисунках Кукрыниксов и Каневского. Не показал художник и раков и щук, которые заставляли «премудрого пискаря» пребывать в постоянном страхе. И тем не менее метафорический смысл рисунка от этого нисколько не пострадал. Напротив, удачный отбор красноречивых деталей обстановки, а главное, точно найденная художником образная характеристика пискаря-обывателя, помноженная на выразительную, декоративно-обобщённую манеру рисунка, обусловили сатирическую силу и остроту этой иллюстрации. В созданном Рачёвым портрете-типе с неподражаемым комизмом переплелись черты человеческого и рыбьего облика, говорящие о жалкой ограниченности, трусости и глупости этого, по меньшей мере, бесполезного мещанина, который мнил себя премудрым лишь на том основании, что сумел сохранить своё никому не нужное существование.
В отличие от иллюстраций Кукрыниксов и Каневского, Рачёв в своих рисунках к Салтыкову-Щедрину не ставил целью подробно
обрисовать все обстоятельства дела и передать графическими средствами «эзопов язык» Щедрина, его иронически-саркастиче-скую интонацию. Рачёв сосредоточивает всё своё внимание на портретно-психологической обрисовке образов героев сказки. В этом и сила и некоторая ограниченность этих его иллюстраций. Благодаря своему таланту анималиста, он необыкновенно изобретательно и остроумно умеет сочетать в своих сатирических басенных образах черты людей и животных. Вот почему в аллегорической форме так ясно проступают конкретные черты того человеческого прообраза, против которого направлена разящая сатира Щедрина. Эта особенность иллюстраций Рачёва свойственна и другим его рисункам, что подтйерждается сравнением их с работами других иллюстраторов «Сказок».
Так, например, в иллюстрации Кукрыниксов к «Дикому помещику» изображена аллея запущенного помещичьего парка со стоящими вдоль неё поломанными античными статуями. По этой красивой аллее бежит на четвереньках волосатое гориллоподобное существо в дворянской фуражке. Благодаря контрастности фигуры и пейзажа, возникает сатирический образ «дикого помещика».
В рисунке Рачёва сюжет этот передан менее повествовательно. Всё внимание в нём сосредоточено на фигуре «дикого помещика», изображённого крупным планом. Мы видим перед собой полу-обезьяну-получеловека, с ног до головы обросшего клочковатой шерстью и сидящего на дереве. Если судить по фуражке с околышем, остаткам бакенбардов, длинной трубке, зажатой под мышкой, и разложенному на суку пасьянсу — это одичавший в вынужденном одиночестве помещик. Но если принять в расчёт его звериную обезьянью повадку и несчастную галку, зажатую между пальцами ног, — перед нами, несомненно, животное, а не человек.
Характерно, что в самой пластике этого рисунка, во всём его образном строе превосходно выражена мысль о дикой антиобщественной сущности помещика-крепостника. Сила сатирического сарказма, вложенного художником в этот образ, особенно явственно выявилась в тупом лице дикого помещика, полном какой-то звериной тоски и оцепенения.
В своих иллюстрациях к Салтыкову-Щедрину Рачёв создал целый ряд сатирических портретов обобщающего характера. К их числу, наряду с уже названными рисунками к «Премудрому пис-карю» и «Дикому помещику», принадлежит также образ верного Трезора.
Трезор — это тип верного до гроба сторожа чужих богатств, добровольного холопа. Он стоит перед коваными дверями купеческого амбара, жалкий, сгорбившийся, с навсегда застывшим на лице и во всей фигуре выражением рабской покорности и смирения. В облике старого дворового пса, с лохматой мордой и искривлёнными ревматизмом ногами, с поразительным мастерством вопло-
щен художником образ человека, одряхлевшего на хозяйской службе. Образ Трезора, созданный Рачёвым, в отличие от его щедринского прототипа, вызывает скорее жалость и сострадание, чем презрение к его ревностному, не знающему предела холопству перед неблагодарным хозяином. Здесь художник, быть может, невольно отошёл от резкой бичующей сатиры Салтыкова-Щедрина.
Зато другой созданный Рачёвым образ — тайного осведомителя в омерзительном облике гиены — исполнен поистине щедринской остроты и жёлчи. Достаточно взглянуть на эту коротконогую фигуру, лишённую шеи, с опущенной к земле мордой и колючим взглядом из-под очков, с плотоядными губами, лоснящимся принюхивающимся ко всему носом и торчащими мясистыми ушами, чтобы понять, что за субъект стоит перед нами. Это, с виду хан-жески-смиренное, но злобное и жестокое по своей природе существо, вызывает чувство гадливости и отвращения. Рачёв и здесь сумел через зоологически верный облик гиены передать омерзительную моральную сущность подлеца и доносчика, живущего чужой бедой. Свойственные такому человеку качества Щедрин называл «гиенскими» и противопоставлял их «человеческим», глубоко веря в конечную победу светлого, гуманного начала над всем подлым и человеконенавистническим.
В своих иллюстрациях Рачёв не ограничился только созданием ярких социальных портретов-типов щедринских героев — он сумел наглядно и образно воплотить острые социальные вопросы того времени, в частности, проблему взаимоотношения интеллигенции и «властей предержащих» самодержавно-крепостнического режима. Речь идёт не о передовой демократической интеллигенции, к которой принадлежал сам Салтыков-Щедрин, а о той либерально-краснобайской и откровенно реакционной части русской интеллигенции, которая по существу оправдывала социальную несправедливость государственного строя. Именно таких интеллигентов без снисхождения и жалости бичует Щедрин в своих сказках «Орёл-меценат», «Коняга», «Карась-идеалист» и другие. Так же
сатирически-остро и карикатурно характеризует либеральных краснобаев и прямых прислужников «грубой силы» и Рачёв в своих рисунках к этим сказкам.
В иллюстрации к «Карасю-идеалисту» мы видим некоего пузатенького толстогубого господина, с округлившимися от страха глазами, которого за шиворот тащат два дюжих жандарма-головля на «свободный диспут» со щукой. Эта «жертва насилия», однако, не вызывает у зрителя сострадания, потому что перед нами тип буржуа-обывателя, словно специально созданного, чтобы служить поживой для тех, кто посильнее и более приспособлен к жизни. Первое же столкновение «карася-идеалиста» с грубой действительностью доказало всю никчёмность и лживость его «теорий». В иллюстрации к сказке «Орёл-меценат» Рачёв превосходно показал, насколько иллюзорна и смешна пресловутая «свобода творчества» в условиях самодержавного строя. В этом рисунке в сущности дана злая пародия на льстивый парадный портрет мецената. На специальном постаменте, окружённом со всех четырёх сторон стражей, изображена огромная, вдвое превышающая нормальные размеры фигура орла-самодержца, с короной на голове и в горностаевой матттии. Подле него, в почтительной, полной значительности позе стоят подлинный управитель всех дел царя — министр сокол и первая советница царя сова — тучная дама в розовом платье с оборками.
Перед грозными очами «орла-мецената» демонстрируют свои таланты три представителя «наук и искусств»: пузатый «придворный пиит» щегол с пухлой книгой под мышкой, схоластик-учёный дятел, притащивший с собой таблицу с какими-то бесполезными выкладками и, наконец, соловей, сидящий на пюпитре с нотами и во всё своё малое соловьиное горло воспевающий великодушие коронованного мецената. Каждый из них лезет вон из кожи, чтобы понравиться монарху, а орёл смотрит перед собой бессмысленным оловянным взглядом да изредка «циркает». Поистине красноречивая картина положения «свободных наук и искусств», которые
содержат при дворе лишь потому, что « при них и орлам занятнее живётся, да и со стороны посмотреть не зазорно». В образах прислужников и духовных лакеев «властей предержащих», созданных Рачёвым, мы не найдём ни тени сочувствия и снисхождения к их незавидному положению: дескать, и поделом вам — сами виноваты.
Совсем иное отношение видим мы в иллюстрациях Рачёва, когда он изображает тех персонажей «Сказок», которым явно симпатизирует Щедрин. Речь идёт об аллегорических образах крестьян — скромных и честных тружеников, несущих на себе все тяготы эксплуататорского общества. Таков, например, замечательный по своей эпической силе образ русского мужика, олицетворяемого в замученном работой Коняге, или образ старого «ворона-челобитчика» — ходатая по крестьянским делам, искателя настоящей «мужицкой» правды, или, наконец, образы тёмных забитых крестьян, обираемых и притесняемых помещиками, судейскими и прочими чиновниками (иллюстрации к сказкам «Самоотверженный заяц» и «Здравомысленный заяц»). В этих иллюстрациях Рачёв сумел ярко и убедительно показать положительный идеал сатирических сказок Салтыкова-Щедрина, подчеркнув характерное для них противопоставление тех, кто трудится и ничего не имеет, и тех, кто пользуется богатством и благополучием, создаваемым чужим трудом.
Особенно сильно и образно это противопоставление звучит в иллюстрации к «Коняге», глядя на которую невольно приходит на память известная народная поговорка: «один с сошкой — семеро с ложкой».
Вокруг упавшего от усталости крестьянского Коняги, о бедняцком происхождении которого недвусмысленно говорят его рваная домотканая одежонка, крестьянский гречишник на голове да серп, собрались его богатые родственники-пустоплясы, в образах которых художник показал представителей привилегированных сословий — тут и пузатый мироед-лавочник, и аристократ, высокомерно рассматривающий несчастного Конягу в лорнет, и похожий на осла пустопляс в дворянской фуражке, и другой, партикулярный «мышиный жеребчик», с рыжим коком и с тросточкой в руках, по-видимому, один из тех «либералов», которых зло высмеивал Щедрин. Конкретность и социальная определённость образов пустоплясов — не досужий вымысел художника, а результат глубокого прочтения щедринской сказки. Не случайно ведь в рассуждениях пустоплясов, пытающихся разгадать «тайну» несокрушимой силы и бессмертия народа, слышны ясные отзвуки различных идей, имевших в то время хождение среди привилегированных слоёв общества. «И так как все эти разговоры, — писал Щедрин, — не от настоящего дела завелись, а от грусти, то поговорят-поговорят пустоплясы, а потом и перекоряться начнут. Но, на счастье, как раз в самую пору проснётся мужик и разрешит все споры » С
По своей социальной остроте и определённости иллюстрация Рачёва идёт гораздо дальше того, что мы видим в аналогичном рисунке Кукрыниксов, хотя принципиально образы пустоплясов у Рачёва решены в том же плане.
Зато образ самого Коняги у Рачёва получился гораздо убедительней. В рисунке Кукрыниксов перед нами просто обыкновенная замученная мужицкая кляча без всякого намёка на аллегорический характер образа. У Рачёва же образ Коняги приобретает ясные социальные черты крестьянина-бедняка. Тем самым достигается более острое и наглядное противопоставление двух основных классов русского общества того времени.
Большую роль в акварельной иллюстрации Рачёва играет цвет. Он имеет не только декоративно-эмоциональное, но и смысловое значение, усиливая противопоставление двух чуждых социальных миров. Изображённые на втором плане пустоплясы выдержаны в светлых и деликатных акварельных тонах — ведь они «чистая публика», привилегированная каста. Коняга же дан более плотными и тёмными красками, усиливающими осязательную вещественность и реальность его фигуры. Благодаря такому цветовому контрасту, художнику удалось создать впечатление, что пустоплясы, собравшиеся вокруг Коняги, дремлющего в «мучительной агонии, которая заменяет ему отдых», — не что иное, как сновидение, «бессвязная подавляющая хмара», по выражению Щедрина. Тем самым Рачёву в своей иллюстрации удалось ближе подойти к характеру и стилю щедринского текста, подчеркнув одиночество и заброшенность бедного Коняги среди бескрайнего поля, которое « как головоног, присосалось к нему бесчисленными щупальцами и не спускает его с урочной полосы»
Но, передав в образе Коняги состояние бесконечного умирания и одиночества в мире, Рачёв не показал те скрытые народные силы, о которых говорил Щедрин: «Целая масса живёт в нём, — писал он о Коняге, — не умирающая, не расчлснимая и не истрсби-мая. Нет конца жизни — только одно это для этой массы и ясно. Но что такое сама эта жизнь? зачем она опутала Конягу узами бессмертия? откуда она пришла и куда идёт? — вероятно, когда-нибудь на эти вопросы ответит будущее ».
Советский иллюстратор, создавая свои рисунки к «Сказкам» Щедрина, хорошо знает, какой ответ дало будущее, и потому должен подходить к созданию положительного образа щедринской сказки с высоты достижений настоящего и ещё более высоких целей будущего, т. е. в исторической перспективе. Однако в образе Коняги, созданном Рачёвым (как, впрочем, в ещё большей степени в рисунках других иллюстраторов этой сказки), не чувствуется той внутренней народной мощи и того обобщающего значения, которое придавал Щедрин этому образу, хотя в те годы писатель и не мог выразить это более определённо и открыто. По-видимому, это не случайный просчёт художника, так как и в других аллегорических образах крестьян, встречающихся в его иллюстрациях: в старом вороне, пришедшем к царскому сановнику искать правду («Ворон-челобитчик»), в зайцах, стоящих на коленях перед господским крыльцом и ждущих милости от волка (иллюстрации к «Самоотверженному зайцу») — мы не находим у Рачёва той, хотя и скрытой, но явственно чувствуемой мощи народной и веры в его скорое освобождение, которыми пронизан «весь воздух» щедринских сказок.
Зато в другом Рачёв неподражаем и, можно сказать, никем не превзойдён: в умении создавать глубокие типические образы в обличье рыб, зверей и птиц. Один из лучших примеров тому (наряду с уже названными рисунками) — иллюстрации к «Ворону-чело-битчику», где в облике трёх разных птиц поразительно живо охарактеризованы образы плешивого старика-крестьянина, важного неприступного сановника и бойкого нахального лакея, прислуживающего ему за столом.
Превосходен также образ растерянного и запуганного бедня-ка-крестьянина, стоящего перед столом какого-то «начальника» — этакой прожжённой лисы в мундире (иллюстрация к «Здравомысленному зайцу»). По характеру образа и психологической выразительности ситуации этот «дуэт» чем-то напоминает чеховского «Злоумышленника». Бедный зайчишка в выгоревшей и заплатанной розовой рубахе, с шапкой в руках, так же простодушен и наивен со своим вопросом: «А может быть, ты и помилуешь?». А хищный взгляд и весь облик прожжённой судейской бестии красноречивее слов говорят: «где ты это слыхал, чтобы лисицы миловали, а зайцы помилование получали?».
Оглядывая в широкой исторической перспективе всё то, что сделано почти за столетие иллюстраторами бессмертных сатирических сказок Салтыкова-Щедрина, приходишь к выводу, что, несмотря на существенные индивидуальные отличия в графической манере, понимании текста и трактовке образа, лучшие советские художники поднялись на новую, гораздо более высокую ступень по сравнению а своими предшественниками. Если дореволюционные иллюстрато! Щедрина (М. Башилов, А. Лебедев и другие) довольствовались правдивой передачей типажа и бытовой обстановки, то лучшие советские иллюстраторы, в числе которых несомненно следует на вать и имя Е. М. Рачёва, добились гораздо большего: они сумел- воссоздать средствами самобытного графического искусства ярг образы-типы величавой щедринской сатиры, передав в своих тюстрациях не только глубокий идейный смысл его «Сказок», но особенности их поэтики, их художественного языка, со свойственным Щедрину солёным народным юмором и разящей публицист! еской остротой.
Последней по времени и притом весьма значительной работой Рачёва явились иллюстрации к «Басням» И. А. Крылова. Работа эта, начатая в 1958 году, пока ещё не закончена, так что ещё рано говорить о ней как о целостной серии. Однако уже готовые шестнадцать больших иллюстраций позволяют судить не только о достоинствах и недостатках отдельных листов, но и о характере общего замысла художника, отличающегося оригинальностью и новизной.
В своих иллюстрациях Рачёв поставил целью восстановить во всей первоначальной публицистической остроте реальную историческую подоплёку ряда известных басен Крылова, ставших теперь хрестоматийными, но в своё время звучавших весьма и весьма смело и злободневно. Ведь известно, что замечательный русский баснописец писал их, имея в виду совершенно конкретных и часто весьма высокопоставленных лиц и реальные события тех дней, так что современники без особого труда узнавали их даже в форме условно-аллегорического иносказания.
Известно, например, что басню «Волк на псарне», написанную в разгар Отечественной войны 1812 года, Кутузов читал перед строем своих войск, и при словах Ловчего, обращённых к загнанному в угол Волку: «Ты сер, а я, приятель, сед и волчью вашу я давно натуру знаю» , старый фельдмаршал снял фуражку, показав свои седины. Ясно, что смысл этой басни был понятен и близок каждому русскому патриоту, потому что она выражала чувства народа, поднявшегося на освободительную борьбу.
Намёки Крылова были более или менее зашифрованы: ведь он метил порой в очень высокие придворные сферы, но и тогда современники понимали, что, изображая незадачливых музыкантов в «Квартете» или «Лебедя, рака и щуку», тщетно пытающихся стронуть воз, Крылов имеет в виду членов Государственного Совета, а в облике глупых гусей, кичащихся своими предками, но годных только на жаркое, высмеивает чванливую и ни к чему не пригодную сановную знать. Эту-то реальную подоплёку басен и стремился раскрыть в своих рисунках Рачёв.
Правда, идейное содержание многих басен Крылова перерастает то, что послужило первоначальным поводом к их написанию, — мораль таких басен настолько народна и общезначима, что является весьма актуальной и в наше время. В этом нет ничего странного — такая «постоянная злободневность» басни вытекает из самой её
Кошка и соловей. 1958 — 1959 гг.
жанровой природы: каждая эпоха, каждый человек вкладывает свой конкретный смысл в обобщённо-аллегорические образы и ситуации басни, наделяет их новым содержанием. Однако, каким бы ни было восприятие той или иной басни последующими поколениями, этим отнюдь не снимается главная и притом весьма интересная для иллюстратора задача — раскрыть первоначальный смысл басен Крылова, показать ту реальную социально-политическую почву, на которой они выросли.
С помощью изысканий советских литературоведов Рачёв глубоко вникал в текст басен, пытаясь образно раскрыть то, что подразумевал автор под внешне безобидными забавными сценками из жизни зверушек. Известно, что гениальный русский баснописец по остроте и смелости своей сатиры порой не уступает Салтыкову-Щедрину, хотя, конечно, остаётся при этом самим собой.
Вот почему в своих иллюстрациях к басням Крылова Рачёв в основных чертах сохранил образный строй и даже манеру рисунка, удачно найденную в иллюстрациях к сказкам Салтыкова-Щедрина.
Иллюстрации представляют собой большие станковые листы, выполненные углём и подцвеченные акварелью. Все иллюстрации имеют явно выраженный сюжетный характер, они лаконичны по композициям, декоративны и, как всегда у Рачёва, полны живой наблюдательности и лукавой иронии в обрисовке басенных персонажей — будь то неуклюжий увалень-медведь из «Квартета», или вертлявая модница-мартышка из иллюстрации к басне «Мартышка перед зеркалом», или уже упоминавшиеся нами «Гуси».
Замечательный «эзопов язык» крыловских басен Рачёв умеет переводить на такой же меткий и лукавый басенно-метафорический язык пластических образов. Тем самым художник помогает каждому, кто смотрит его иллюстрации, постичь тот скрытый, иносказательно выраженный смысл, который вкладывал Крылов в свою басню. Причём смысл этот постигается нами не умозрительно, а в непосредственном художественном восприятии, путём живого образного познания. Благодаря этому политический смысл и остро-
Квартет. 1958 — 1959 гг.
та художественного иносказания, положенная в основу басни, выступает наглядно и убедительно.
Особенно удались Рачёву некоторые персонажи басен, олицетворяемые в виде животных, рыб и птиц, но притом с поразительным «портретным» сходством. Незабываем Наполеон в виде кота Васьки из басни «Кот и повар», кромсающий на карте свою очередную жертву, несмотря на увещевания повара, или злополучный вояка — адмирал Чичагов в виде щуки в треуголке и с общипанным хвостом (иллюстрация к басне «Щука и кот»), тот самый Чичагов, который упустил Наполеона с остатками его разбитой армии под Березиной.
В своих рисунках к басням Крылова Рачёв проявляет большую изобретательность, находя всё новые сюжетные ходы и изобразительные приёмы для того, чтобы, не отступая от текста, совместить в едином пластическом образе и «букву» и «дух» басни. Так, например, известно, что в басне о соловье, который не смог показать своё искусство, находясь в лапах у кошки, Крылов метил в цензуру. Плотоядно жмурясь и легонько когтя свою жертву, жирный кот-цензор держит в своей огромной лапе маленькую птичку. Превосходно передав лицемерно-хищную повадку кота, составляющую сущность его натуры, Рачёв тем самым как нельзя лучше выразил мораль сей басни — «худые песни соловью в когтях у кошки».
Не менее выразительна и другая иллюстрация Рачёва тоже на тему литературной «злобы дня» того времени — о Грече и Булгарине, — к басне «Кукушка и петух». У стола, на котором лежит газета «Сын отечества», умильно закатив глаза и сложив на груди свои жирные ручки-крылышки, любезничают петух и кукушка, необыкновенно внешне похожие на этих литераторов. Всё это зритель может легко «прочесть», глядя на басенные персонажи Рачёва, нарисованные с большой иронией.
Решая подобную трудную и новую для нашей советской иллюстрационной графики задачу, Рачёв, разумеется, не во всех листах достигает успеха. Иногда ему не удаётся найти достаточно убедительный и в то же время не уходящий далеко от текста «изобрази-
Кукушка и петух. 1958 — 1959 гг.
тельный эквивалент» тому или иному образу крыловской басни. Так, например, неубедительно, на мой взгляд, выглядит иллюстрация к басне «Волк на псарне», представляющая собой парафраз известной картины Верещагина «В Кремле — пожар!», не найден выразительный пластический образ и в иллюстрации к басне «Листы и корни».
Но когда речь идёт о ещё не законченной работе, дело не в этих частных неудачах, которые, вероятно, будут исправлены, а в принципиальном решении задачи. Правильно взятое направление в иллюстрировании басен Крылова позволило Рачёву сказать своё оригинальное и интересное слово в столь трудном деле, а ведь здесь уже успешно пробовали свои силы многие дореволюционные и советские мастера иллюстрации. И тем не менее среди обширного круга произведений, посвящённых басням Крылова, неожиданные, полные язвительного сарказма и политической остроты, красочные и занимательные рисунки Рачёва, несомненно, привлекут внимание и симпатию. В этих иллюстрациях, мне кажется, художнику удалось достичь того, о чём он мечтал, приступая к работе. Он говорил: «Хочу показать Крылова во всей его революционно-прогрессивной значимости. Пора, наконец, покончить с легендой о «добром дедушке Крылове» — этаком беззубом моралисте и лежебоке, сочиняющем милые побасёнки для детей. Крылов — это передовой деятель своего времени, живо откликающийся на окружающие события. Его басни превосходно выражают русский национальный характер, они — настоящий кладезь народной мудрости. Именно в этом причина их невиданной популярности и подлинной народности».
Работа над иллюстрациями к сатирическим произведениям классиков русской литературы Салтыкова-Щедрина и Крылова знаменует важный этап в творчестве Рачёва. Именно в них окончательно кристаллизуется выразительный и неповторимо индивидуальный графический язык его рисунков, Свидетельствующий о зрелости мастерства художника. Этим произведениям свойственны простота
и ясность композиции, выразительность силуэтного рисунка, чёткая и твёрдая, без всякой изысканности и любования орнаментальной игрой линия, наносимая толстым углём на шероховатую поверхность ватманской бумаги. В работах Рачёва последнего времени ясно видна всё более возрастающая любовь к декоративной красочности листа. Цвет берётся им большим локальным красочным пятном, без сложных внутренних нюансов и переходов. Акварельную краску Рачёв любит класть тонким прозрачным слоем, не скрывающим графического костяка рисунка. Такова, в общих чертах, та своеобразная графическая манера Рачёва, какой она сложилась в наиболее зрелых произведениях.
Окидывая мысленным взором всё лучшее, что сделал Рачёв, хочется присоединиться к словам искренней благодарности, записанным многими посетителями выставки Рачёва в книгах отзывов. «Да, — пишут студентки МГУ, — это действительно народное, действительно реалистическое искусство». «Вы, — обращается к Рачёву другой зритель, — возрождаете прекрасное народное искусство». А некто, назвавший себя «пессимистом от рождения», признал, что на выставке Рачёва он «улыбался и радовался жизни». «А здоровое большое искусство, — справедливо прибавляет он, — это великая жизнеутверждающая сила».
В 1957 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в развитии советского изобразительного искусства Е. М. Рачёву было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Его работам неоднократно присуждались почётные награды на международных и всесоюзных выставках книги.
Рисунки Рачёва к сказкам и басням широко разошлись в книгах, изданных огромными тиражами у нас в стране и за рубежом. И эти и будущие его произведения, которые пока ещё лежат на его рабочем столе или только ещё зарождаются в творческом воображении художника, обещают дать людям много истинной радости.
ИЛЛЮСТРАЦИИ, СТАНКОВАЯ ГРАФИКА
1930-е годы.
Книга «Колгоспний ставок».
М. Трублаинм. «Лови белого медведя», г. Харьков.
Иогансен. «Хитрые утки». Детгиз.
«Олени». Литография.
«Утки-кряквы». Литография.
Обложка для журнала «Жовтепь».
Пляшущий медведь и журавли. Б., акварель.
«Басни дедушки Памбо» (Южноамериканские сказки), г. Харьког «Африканские сказки», г. Харьков.
В. Бнапкп. «Где раки зимуют».
1940 год.
А. Первенцев. «Кочубей».
Л. Кассиль. «Агитмедведь особого отряда».
1941 год.
А. Казанцев. «Арктический мост».
1942 — 1945 годы.
Рисунки для фронтовой газеты, фронтовые зарисовки.
1947 год.
«Башкирские сказки».
Д. Н. Мамнн-Сибиряк. «Алёнушкины сказки». Б., уголь.
М. М. Пришвин. Книга рассказов «Золотой луг». Б., гуашь.
М. М. Пришвин. «Кладовая солнца». Б., уголь.
1948 год.
«Мурка и Бурка». Книга сказок, рассказанных для детей Иваном Франко.
1947 — 1949 годы.
«Украинские народные сказки». Б., уголь.
1949 год.
Л. Н. Толстой. «Басни». Подцвеченная автолитография.
Русская народная сказка «Петушок-золотой гребешок».
1950 год.
В. Бианки. «Лесные сказки и рассказы». Б., уголь.
B. Дуров. «Мои звери». Б., уголь.
Украинская народная сказка «Рукавичка». Б., гуашь, уголь.
1951 год.
О. Иваненко. «Куда летал журавлик». Б., уголь.
Сказка «Что случилось в саду».
И. Арамилёв. «На охотничьей тропе». Б., уголь.
1952 год.
C. Михалков. Пьеса-сказка «Зайка-зазнайка». Б., акв.. уголь.
Русские народные сказки «Жили-были». Б., акв., уголь.
1953 — 1954 годы.
«Украинские народные сказки». Б., акв., гуашь, уголь.
1954 год.
Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка». Б., гуашь, уголь С. Михалков. Сказка «Как медведь трубку нашёл». Б., гуашь, уголь.
1955 год.
С. Михалков. «Басни». Б., акв., уголь.
1956 — 1957 годы.
М. Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки». Б., акв., уголь.
1952 — 1958 годы.
Скульптура из корней дерева.
1956 — 1958 годы.
Серия рисунков «Герои русских народных сказок». Б., акв., гуашь, уголь.
1958 — 1959 годы.
И. А. Крылов. «Басни». Б., кар., гуашь.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Oceнний день на юге. 1947 г.
Ручей. 1948 г.
Уборка сена. 1948 г.
Рисунки с натуры. 1950 г.
Рисунки с натуры. 1950 г.
Декабрь. Грузия. 1947 г.
Молодой лес. 1948 г.
Крестьянин. Рисунок. 1930 г.
Иллюстрация к книге «Колгоспнин ставок». 1931 г.
Обложка книги М. Трубланпи «Лови белого медведя». 1933 г Обложка журнала «Жовтень». 1935 г.
Пляшущий медведь и журавли. 1935 г.
Олени. 1935 г.
Иллюстрация к кнше В. Биапки «Где раки зимуют». 1937 г. Кряквы. 1935 г.
Иллюстрация к роману А. Первенцева «Кочубеи». 1940 г. Линогравюра. 1942 г.
Рисунок для фронтовой газеты. 1942 г.
Мост через Прегель. Кёнигсберг. 1945 г.
Осёдланные кони. 1942 г.
Бранденбургские ворота. Берлин. 1945 г.
Таможня на границе. Брест. 1945 г.
У рейхстага. Берлин. 1945 г.
Иллюстрация к книге М. Пришвина «Кладовая солнца». 1947 г. Буквицы к книге М. Пришвина «Кладовая солнца». 1947 г. Иллюстрация к книге М. Пришвина «Золотой луг». 1947 г.
Иллюстрация к книге М. Пришвина «Золотой луг». 1947 г.
Иллюстрация к «Алёнушкиным сказкам» Д. Мамина-Сибиряка. 1947 г.
Иллюстрация к «Алёнушкиным сказкам» Д. Мамина-Сибиряка. 1947 г.
Иллюстрация к «Алёнушкиным сказкам» Д. Мамина-Сибиряка. 1947 г.
Заставка к книге И. Франко «Мурка и Бурка». 1948 г.
Иллюстрации к «Украинским народным сказкам» 1947—1949 гг.
Иллюстрация к сказке «Летучий корабль».
Иллюстрация к сказке «Летучий корабль».
Иллюстрация к сказке «Кошелёчек».
Иллюстрация к сказке «Старикова дочка и старухина дочка». Иллюстрация к сказке «Серко». 1954 г.
Иллюстрация к сказке «Бедный волк». 1954 г.
Иллюстрация к сказке «Пан Котофей». 1953 г.
Иллюстрация к сказке «Волчья колядка». 1953 г.
Иллюстрация к сказке «Рукавичка». 1950 г.
Иллюстрация к сказке «Рукавичка». 1950 г.
Иллюстрации к басням Л. И. Толстого. 1949
Осёл в львиной шкуре.
Лиса и козёл.
Лисицы.
Кот и мыши.
Иллюстрация к книге В. Дурова «Мои звери». 1950 г.
Иллюстрация к книге В. Дурова «Мои звери». 1950 г.
Шмуцтитул книги И. Арамилёва «На охотничьей тропе». 1951 Обложка книги сказок «Жили-были». 1952 г.
Иллюстрация к сказке «Лисичка-сестричка и серый волк». 1952 i. Иллюстрация к сказке «Лисичка-сестричка и серый волк». 1952 г Иллюстрация к сказке «Кот и лиса». 1950 г.
Иллюстрация к сказке «Колобок». 1955 г.
Иллюстрация к сказке «Волк и семеро козлят». 1952 г.
Иллюстрация к сказке «Лисичка со скалочкой». 1952 г.
Иллюстрация к книге О. Иваненко «Куда летал журавлик». 1951 i Иллюстрация к сказке «Два жадных медвежонка». 1954 I. Иллюстрация к сказке «Два жадных медвежонка». 1954 г.
Из серии «Герои русских народных сказок» 1956 — 1958 гг.
Серый волк.
Зайчнк-побегайчик.
Петя-петушок — золотой гребешок.
Кума-лиса.
Коза-дереза.
Медведь Михаил Иванович.
Фигурка из корня бамбука. 1957 г.
Болотная птица. 1956 г.
Птица. 1958 г.
Козлик. 1956 г.
Козья голова. 1957 г.
Антилопа. 1955 г.
Рыба. 1958 г.
Обложка сказки С. Михалкова «Заика-зазнайка» (для второго издания).
Иллюстрация к сказке С. Михалкова «Запка-зазнанка». 1952 г.
Иллюстрация к сказке С. Михалкова «Занка-зазпайка». 1952 г.
Иллюстрации к сказке С. Михалкова «Зайка-зазнайка». 1952 г.
Иллюстрации к «Басням» С. Михалкова. 1955 г. Суперобложка.
Титул (разворот).
Иллюстрация к басне «Седой осёл».
Иллюстрация к басне «Енот, да не тот».
Иллюстрация к басне «Дутый авторитет».
Иллюстрация к басне «Лев и муха».
Иллюстрация к басне «Бешеный пёс».
Иллюстрация к басне «Осторожные птицы».
Иллюстрация к басне «Морской индюк».
Иллюстрация к басне «Хитрая мышка».
Иллюстрация к басне «Петух-болтун».
Иллюстрация к басне «Заяц и ёж».
Иллюстрации к сказкам М. Салтыкова-Щедрина. 1956—1957 гг.
Ворон-челобитчик.
Орёл-меценат.
Самоотверженный заяц.
Верный Трезор.
Здравомысленный заяц.
Премудрый пискарь.
Гиена.
Дикий помещик.
Карась-идеалист.
Иллюстрации к басням И. Крылова. 1958 — 1959 гг. Кошка и соловей.
Квартет.
Кукушка и петух.
Цветные вклейки:
Иллюстрация к сказке «Рукавичка». 1950 г.
Иллюстрация к сказке «Лисичка-сестричка и серый волк». 1952 г.
Иллюстрация к сказке «Кот, козёл да баран». 1952 г.
Иллюстрация к сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Коняга». 1956-1957 г .
_____________________
Распознавание, ёфикация и форматирование — БК-МТГК.
|