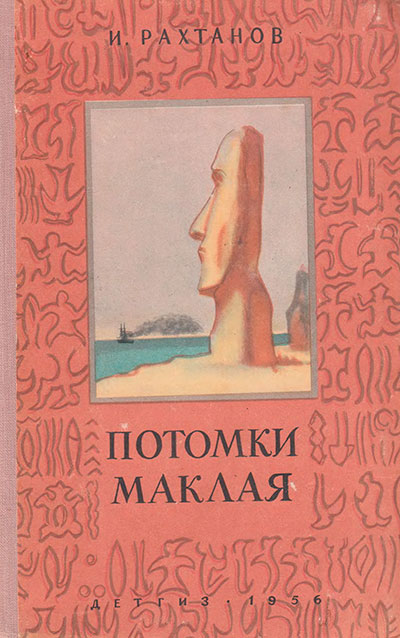Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
Документальная повесть Исая Рахтанова «Потомки Маклая» рассказывает о ленинградском школьнике Борисе Кудрявцеве, нашедшем ключ к разгадке клинописи на таблицах острова Пасхи. Борис Кудрявцев, безвременно погибший в 1941 году, первым заметил сходство табличек, привезённых из Полинезии Миклухо Маклаем, с табличками из Чили и Бельгии.
Автор, И. Рахтанов (Лейзерман; 1907–79), до 15-летнего возраста жил в Китае; многочисленные книги для детей сочетаются в его творчестве со статьями и очерками о детской литературе и воспоминаниями о писателях.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава I. Первый разговор о далёком острове 3
Глава II. В актовом зале 147-й школы 14
Глава III. Чудеса ближнего острова 21
Глава IV. Доклад и стихи 31
Глава V. Таинственные таблицы 39
Глава VI. Отчего говорящее дерево онемело 45
Глава VII. Все народы имеют право на слово 53
Глава VIII. Озеро и небо 58
Глава IX. Флаг поднят — выставка открыта! 69
Глава X. «Он», «она», «эта», «этот» 77
Глава XI. Письменность острова Пасхи 84
Глава XII. Последняя 97
Послесловие 102
Глава I
ПЕРВЫЙ РАЗГОВОР О ДАЛЁКОМ ОСТРОВЕ
Неистово красного цвета паркет был натёрт так, что ноги разъезжались в стороны. Чтобы подойти к ванной, Зое Сергеевне пришлось держаться за стол и стулья. Конечно, всё это придумал Борис! Вчера вечером, пока она была ещё в школе, он сварил немыслимую мастику из смеси красного стрептоцида, воска, хозяйственного мыла и ещё какой-то скользкой пакости, а сегодня сегодня с самого утра натирал пол её не очень старой плюшевой шляпой. И всё это называется помощью маме! Теперь он заперся с Лерой в ванной, и что они там делают — одному богу известно
Впрочем, Зоя Сергеевна отлично знала, что мальчики в ванной занимаются фотографией. Для этого они и занавесили дверь одеялом.
— Боря! Лера! — крикнула Зоя Сергеевна, стараясь придать своему голосу как можно больше строгости. — Выходите немедленно — обед стынет.
Фотография была очередным увлечением сына. Сегодня у него фотография, вчера Индия и санскрит. Всё свободное время уходило на чтение географических книг и заучивание санскритских слов. Началось это тогда, когда Лерин старший брат, штурман дальнего плавания, привёз из Бомбея газеты и журналы. Борис взялся их прочесть. В поисках словаря или учебника он обегал всех букинистов на Литейном, не нашёл ничего, кроме грамматики древнеиндусского языка — санскрита. И пошло-поехало!
Зоя Сергеевна, преподаватель иностранных языков, отлично знала, что штурмом нельзя выучиться никакому языку. Нужны планомерность, режим; надо знать, где поставить точку, когда захлопнуть книгу. Не просто это. Тут соображать надо, думать, работать, а работать Боря не умеет. И хотя он чуть ли не полиглот — вполне владеет тремя языками: немецким, английским и французским, — но об этом уж она сама позаботилась. С детства подсовывала ему книжки с картинками на разных языках. Вот он и выучился играя, незаметно для себя. А работать последовательно — нет, так и не научился: увлекается! И ведёт за собой Лерку, Олега — всех, кто даже случайно окажется рядом с ним. Но Шурку Зазубрина Зоя Сергеевна сумела отстоять — сама направляла их совместные занятия — и вот результат: Шурка, кажется, начинает подтягиваться, да и Борису это пошло на пользу. Исчезла у него досадная тройка по алгебре.
В учительской только вчера Максимилиан Ферапонтович говорил Зое Сергеевне о талантах её сына. Слушать его было приятно, в особенности потому, что она сознавала и свою долю труда в этом успехе
— Боря! Лера! — крикнула она. — Я приказываю вам выйти наконец! Всему своё время
— Сейчас, мамуся, сейчас! — послышался приглушённый дверью и одеялом Борин голос. — Мы ещё только одну пластинку, последнюю
И голос смолк. Зоя Сергеевна отошла от двери, села к обеденному столу. Конечно, не худо, что мальчики узнали санскрит, что они занимались Индией. И фотография у них теперь более серьёзная, чем раньше. Прежде они снимали кошек, руку на просвет и какие-то крупные снимки, где не разберёшь, что там изображено. А сейчас из книг переснимают, и всё это для школы. Выставку о знаменитом путешественнике Миклухо-Маклае будут готовить. Но нельзя же за этим проводить целые дни
— Лера, — крикнула Зоя Сергеевна, — я с Борисом говорить больше не стану! Но ты-то ведь умнее. Слышишь, Лера? Я
— Вот, мамочка, и готово, — сказал Борис, показываясь в дверях.
Он белокур и не по годам высок — в девятом классе выше его мальчиков нет. Голубые близорукие глаза его, уменьшенные толстыми стёклами выпуклых круглых очков, после затемнённой ванной щурятся на свет.
Следом за ним — торжествующий Лера, чернявенький, худощавый, в лыжных брюках, в куртке из толстой фланели, со множеством карманов, поблёскивающих замками «молния». Про Леру школьные остряки говорят, что он весь в сверкании молний.
— Получилось, Зоя Сергеевна! Ещё как здорово получилось! — крикнул он.
— Мамочка, мы садимся!
— А руки? — спросила Зоя Сергеевна.
— Всё вышло замечательно, — не отвечая на её вопрос, проговорил Борис. — Лерка в совершенстве освоил экспозицию.
Голос у него ломался, поэтому фраза, которую он произнёс, прозвучала так забавно, что Зоя Сергеевна рассмеялась.
— Я спросила, кто из учёных забыл вымыть свои противные мальчишеские руки? — не сдаваясь, повторила она вопрос.
Мальчикам не хотелось мыть руки. С недавних пор они начали гордиться своими коричневыми, испачканными химикалиями пальцами. Ведь это были руки людей, имеющих дело с едкими проявителями!
— Марш, марш в ванную! — сказала Зоя Сергеевна. — И непременно мыть щёткой и мылом.
И так как мальчики твёрдо знали, что здесь Зоя Сергеевна не отступит, они пошли на кухню.
— А ванная на что? — спросила Зоя Сергеевна.
— Теперь это не ванная, — ответил из кухни Борис. — Это фотолаборатория, там сейчас промываются пластинки. Там Леркин увеличитель установлен. Нужен порядок, мамуся!
— Порядок всё же тогда, когда в ванной — ванная, — сказала Зоя Сергеевна, садясь за стол. — Не забудьте про щётку.
Наконец сели к столу.
— Когда руки в проявителе — начал Борис, любуясь своими пальцами.
— это придаёт им производственный оттенок, — досказал Лера.
— Сам ты, к сожалению, только оттенок своего друга, — заметила Зоя Сергеевна. — Пусть хоть бы один куролесил, так нет — оба! Ну, что вы там напроявляли? Получилось что-нибудь?..
Воскресенье Лера обычно проводил у Бориса. Ему нравилось бывать здесь. Зоя Сергеевна, такая строгая в
школе на уроках французского языка, вдруг превращается в добрую и заботливую Борину маму. За девять школьных лет он привык к этой приветливой комнате и даже перестал замечать её, она стала для него родной — и это мягкое-мягкое глубокое кресло тёмно-зелёного сафьяна с пюпитром для книги, и этот книжный шкаф красного дерева, и в особенности бамбуковая этажерка, на которой книги менялись по мере того, как он и Боря вырастали: сперва там стояли сказки и весёлые стихи Маршака, потом повести Кассиля и Гайдара
Лера жил в том же доме на Третьей Советской улице, где и Борис, только этажом выше, и учился в той же 147-й школе, в которой Борина мама преподавала французский язык, и в том же девятом классе.
— Мы переснимали из книги Миклухо-Маклая его рисунки на Новой Гвинее. Знаете, как трудно, Зоя Сергеевна! Совсем мы не куролесили, — сказал Лера.
— А потом, уже для собственного удовольствия, из той же книги дневников Маклая сняли странные такие таблички Хочешь, я тебе их покажу, мамуся?
— Сиди и ешь. Знаешь поговорку: «Когда я ем, я глух и нем».
— Эта поговорка в младших классах осталась.
— Ах, какие мы уже взрослые, даже умнее пословиц стали! — сказала Зоя Сергеевна. — А вот суп надо есть с хлебом.
— Я буду с хлебом, только разреши принести таблички, пускай они будут здесь Они же чистые, уже промыты.
И Зое Сергеевне пришлось капитулировать. Мальчики разом оставили ложки и глянули на неё такими умоляющими глазами, что она кивнула головой. Боря, вскочив из-за стола, бросился в ванную. Через мгновение он уже вернулся.
Вот негатив лежит перед Зоей Сергеевной. Конечно, он совершенно неинтересный: изображено что-то серое, похожее на мочалку из люфы, но с мелким, ровным плетением рисунка.
— И это вы сняли для своего удовольствия? — спросила она, подчёркивая последние слова.
— Да, мама, — ответил Борис. — Конечно.
Зоя Сергеевна подумала, что ей никогда до конца не понять своих мальчишек.
— Что же это такое? — снова спросила она.
— Это мы наклеим под статьёй о Миклухо-Маклае, — сказал Лера.
— Ну, а что это?
— Это такие таблички Миклухо-Маклай привёз с острова Пасхи. Там их называли «кохау ронго-ронго» — «говорящее дерево».
И Зоя Сергеевна опять подумала, как осторожен должен быть в своих заключениях педагог и как много ему, надо знать.
— А что же оно говорит, это ваше дерево? — спросила Зоя Сергеевна.
— Оно молчит, — в тон ей сказал Борис. — Англичане я американцы считают, что оно так никогда и не говорило, что это только виньетка, штамп для оттисков на тапе
— А что это — тапа? — спросила Зоя Сергеевна.
— Туземная материя из луба, — быстро сказал Лера и посмотрел на Бориса.
— И всё-таки я думаю, что все эти таблички — ваша очередная блажь, — не сдаваясь, заключила Зоя Сергеевна. — Ешьте лучше суп.
Обед продолжался. Мальчики ели суп, но ели по-разному. Борис не торопился; он любил этот воскресный суп с кореньями и приправами, который мама готовила по ей одной ведомому рецепту. Лера глотал ложку за ложкой, не замечая толком, какое кулинарное чудо он небрежно уничтожает.
— Под фотографией надо дать объяснение, — сказал Лера. — Нужны две-три строки пояснительного текста. Вот мы пойдём в музей, расспросим подробно
— Ты, пожалуйста, разъясни мне, — сказала Зоя Сергеевна: — какое значение сегодня имеет ваша мочалка, когда в Европе уже война и в Германии Гитлер?
Вместо Леры ответил Борис:
— А это, если хочешь, имеет прямое отношение именно к Гитлеру! Он ведь что говорит? Есть великие народы и народы — трава, которые подлежат уничтожению. Всё это основано, мама, на расовой теории — злой и вздорной. Печатают фашисты свой бред на бумаге, которую изобрели китайцы, водят корабли по китайскому компасу, смотрят в небо, которое изучали египтяне, узбеки и арабы, и, как свинья под дубом, не видят, что дали им народы, которых они презирают. А Миклухо-Маклай на Новой Гвинее боролся со всей этой ахинеей. На остров Пасхи пришли гитлеры девятнадцатого века и уничтожили народ, который тоже мог дать что-то миру. Сумели же эти люди изваять гигантские статуи, создать письменность!
И мальчики начали рассказывать Зое Сергеевне всё, что они уже знали об острове Пасхи и Миклухо-Маклае.
Суп теперь стыл и стыл — всем уже было не до него
— В дневниках Миклухо-Маклая, — продолжал Борис, — есть одно место Совсем безоружный, только с карандашом и записной книжкой в руках, он пошёл знакомиться с местными жителями. Они окружили путешественника, потрясали копьями, хотели убить. Они боялись, что белый причинит им зло
— Вы только послушайте, Зоя Сергеевна, — перебил его Лера, — как Миклухо-Маклай им объяснил, что он друг и пришёл не со злыми намерениями. Он снял башмаки, расстелил циновку, лёг спать и действительно проспал два часа.
— Ну что же, — сказала Зоя Сергеевна, — он поступил находчиво и смело, но я не вижу связи между этим поступком и вашим говорящим деревом.
— А зачем Миклухо-Маклай отправился на Новую Гвинею? — спросил тогда Лера.
— Да-да, мама, зачем?
— Его толкал туда этнографический интерес, — нерешительно произнесла Зоя Сергеевна.
Она была уже не рада, что завела этот разговор. Видимо, мальчики решили забить её своей образованностью. Так с ними, в особенности с Борисом, случалось довольно часто. Хотела Зоя Сергеевна признать это или не хотела, а знал он многое такое, о чём она имела лишь самое смутное представление.
— Безусловно этнографический интерес, — сказал Борис, — но в основе путешествия Маклая лежала идея о равноценности народов и племён. И если бы мы серьёзно занялись островом Пасхи
— К лицу ли комсомольцам возиться с островом, у которого такое религиозное название? — попробовала пошутить Зоя Сергеевна. — Не лучше ли им повторить абсолютные и относительные времена из французской грамматики? Где, кстати, этот остров Пасхи? И почему он так странно называется?
Лера начал объяснять:
— Настоящее название этого острова Мата-ки-теран-ге. На местном языке это значит «глаза, смотрящие в небо». Ещё остров называли «Те-пито-те-генна», то-естъ «пуп земли». Видите ли, Зоя Сергеевна, тамошние жители уверены, что начало земли — первое человеческое существование — оттуда. А чаще всего — Рапа-нуи — Великий Рапа. По преданию, так назвали остров первые поселенцы, желая отличить его от другого маленького островка, называвшегося на полинезийском языке «Маленький Рапа». Европейское имя — остров Пасхи — было дано голландским адмиралом Якобом Роггевеном, потому что он в первый день праздника пасхи после долгих скитаний в Тихом океане увидел на горизонте узкую полоску земли
— Что же касается твоих грамматических времён, — перебил приятеля Борис, — то ты сама отлично знаешь, что для них у нас всегда оставлен час.
— Я думаю, что он уже пришёл, — сказала Зоя Сергеевна. — И мне хотелось бы поглядеть, так ли хорошо вы знаете французскую грамматику, как историю своих табличек.
— Мама, это не наши таблички, их привёз Миклухо-Маклай. А грамматику мы знаем, конечно, гораздо лучше, потому что в табличках мы пока ещё совсем ничего не понимаем. И не только мы одни. Эти таблички — загадка, тайна, одна из тайн, которые ещё стоят перед наукой.
В это время позвонили.
Боря рад был подняться из-за стола, потому что ему показалось, что он вот-вот станет говорить в слишком приподнятом тоне и что мама и даже Лера начнут улыбаться.
Боря пошёл в переднюю и открыл дверь.
Там стоял коренастый мальчик в чёрной сатиновой рубашке, в шерстяных стираных брюках и в коньковых ботинках на байке.
Это был Шурка Зазубрин — ученик седьмого класса, начинавший свой школьный путь с теперешними девятиклассниками, но по дороге отставший. Он пришёл к Борису заниматься.
— Сюда! — сказал Борис, показывая Зазубрину на дверь в мамину комнату. — Садись.
Шурка плюхнулся в мягкое кресло, развалился и посмотрел на Бориса, уже скучая.
— Опять учебник забыл? — спросил Борис, невольно думая, что не поспеет с Лерой в кино снова посмотреть «Чапаева».
— Позабыл, — небрежно сказал Шурка, доставая из брючного кармана никелированный портсигар с васнецовскими «Богатырями» и протягивая его Борису. — Закуривай.
— Не курю, богатырь, ты это знаешь.
— А я и про это позабыл. Скучно мне с тобой, Кудрявцев! Давай бросим эту волынку. Ничего у нас тут не выходит — я тупой, и мне охота закругляться на седьмом классе. И пойдём все вместе в киношку! Там сегодня опять «Чапаева» показывают. А я его сорок раз смотрел и всё думаю: вдруг не утонет, выплывет.
— Что это значит, Шурка?
— А то значит, что ты хороший ученик, а я шофёром буду, таксистом, и тогда мы ещё посмотрим, кто дальше уедет. Отцепись ты от меня!
— Не отцеплюсь! Ты на чём ехать собрался?
— На машине, не на лошади!
— «Не на лошади»! А ты знаешь законы термодинамики? А что такое бензин, ты понимаешь? Ты какого класса шофёром хочешь быть?
— Конечно, первого.
— Тогда тебе физику знать необходимо!
— А на что?
— Тебе нужно зажигание, надо понять, что в коробке скоростей делается. Между прочим, и химию надо знать, потому что бензин — это химия, углеводород
— Придётся, значит, голубей бросить. А я люблю их гонять, — откровенно сказал Шурка и вдруг широко улыбнулся: — Из-за них-то, из-за этих египетских, я отстал от тебя, от всех вас. Но голубей я не отдам! Слышишь, не от-
дам! И знаешь, Кудрявцев, чего мне в жизни больше всего не хочется?
— Чего? — спросил Борис.
— Учиться.
Пока Шурка говорил это, Борис внимательно и насторожённо приглядывался к нему. В озорном скуластом лице товарища ему почудилось что-то такое, что противоречило всем его словам, и Борис вдруг понял, что Шурка говорит не то, что думает, и не так уж он любит своих голубей. И это, видно, смущает его самого, потому что честнее и прямодушнее человека, чем Шурка Зазубрин, пожалуй, не существовало на свете. Нет, Шурка не безнадёжен, и не зря Борис возится с ним. Где-то глубоко внутри себя буйный и бесшабашный, Шурка уже находится в зависимости от него, Бориса Кудрявцева. Надо повлиять на Шурку решительнее, надо переломить его настроение. Но как это сделать?..
— Боря! — послышался голос из столовой. — Ты бы пообедал сначала. Лера уже кончает
— Подожди, мама! — ответил Боря. — У нас тут интересный разговор с товарищем
Глава II
В АКТОВОМ ЗАЛЕ 147-й ШКОЛЫ
За девять лет ребята, конечно, привыкли к своей школе и, казалось, уже наперёд знали всё, что должно было случиться на предстоящем собрании. И даже то, что сегодня ждали представителя райкома комсомола, ничего не меняло: ведь товарищ Ивашин бывал на собраниях и в прошлом году, когда они учились в восьмом.
Впрочем, и самые завзятые школьные скептики не могли не отметить, что сегодня их привычный актовый зал, куда они пришли на комсомольское собрание, выглядел особенно торжественно: были включены боковые бра, большая люстра под потолком светила во всю силу всеми лампами. И потому, что света было много, школьники притихли, сосредоточившись на том, ради чего они и собрались в этот вечер. Никто не кричал, не шумел, как обычно бывает перед началом урока.
Зал был полон молодого народа, который уже сменил детские книги на сочинения Пушкина, Тургенева и Горького и читает Толстого не только ради того, чтобы ответить на уроке.
В первом ряду девочки из девятого класса, в аккуратно выглаженных платьях, собрались вокруг Маруси Ильиной. Вся школа с недавних пор стала называть её Мариной: она играла «гордую полячку» в «Борисе Годунове» на последнем школьном вечере. От роли Марины у Маруси осталась привычка легко, без запинки цитировать Пушкина и причёска — она укладывала теперь свои русые косы короной.
Раздвинулся занавес. Покрытый красным сукном стол президиума, на котором стоял графин с водой и стакан, оказался в келье Чудова монастыря, оставшейся от спектакля. Декорации делал Олег Клитин — в школе он считался лучшим художником. И действительно, сцену в келье он оформил замечательно. Говорили, что он под руководством преподавателя истории много поработал над подлинными материалами времён польско-шведской интервенции начала XVII века.
— Комсомольское собрание сто сорок седьмой школы объявляю открытым! — сказал секретарь школьного комитета Петя Иванов.
Борис Кудрявцев, наклонившись к Олегу Клитину, с которым он сидел рядом, прошептал:
— Декорации всё-таки следовало бы убрать
— Ты думаешь? — спросил уязвлённый, но тем не менее отлично понимавший правоту своего приятеля художник.
Борис не успел ответить: в эту секунду кто-то назвал сначала его имя, потом имя Олега и ещё нескольких активных комсомольцев.
Петя Иванов предложил только что избранному президиуму занять свои места за столом.
Все формальности совершались необычайно быстро. И даже Петя Иванов, ученик десятого класса, оказался
сегодня на редкость немногословным. Наверно, всю часть доклада, относящуюся к международному положению, он оставил для представителя райкома, а сам сказал только о школьных делах.
Наступила середина учебного года, десятиклассникам пришла пора подумать о выпускных экзаменах, начать исподволь, потихоньку готовиться к ним. Вот почему в школьные общественные организации должна прийти свежая сила — девятый класс. Да, отныне девятые — ведущие в школе!
— Я предлагаю, — закончил Петя Иванов, — выбрать наиболее достойных. Со своей стороны, комитет, посовещавшись, наметил некоторые кандидатуры, но о них я скажу потом, а пока предоставлю слово товарищу Ивашину.
Представителя райкома встретили аплодисментами.
— Не надо, товарищи, — сказал он и поднял руку. — Мы собрались с вами для серьёзного разговора. Такие собрания бывают у нас ежегодно. Старшие уходят, на их место становятся те, кто ещё совсем недавно с новеньким букварём подмышкой впервые переступил школьный порог. Но всякий раз эти собрания проходят по-иному. Я имею в виду международную обстановку. Поглядите, что сегодня делается вокруг нас! Фашизм, товарищи, наступает. Одна за другой в войну втягиваются европейские страны. Вчера Польша, сегодня Франция. Конечно, советское правительство ведёт мирную политику, но, друзья, забывать об опасности войны мы не имеем права
Товарищ Ивашин умел говорить с ребятами так, что они разом становились взрослыми, забывали, что у них впереди ещё несколько лет школы, чувствовали себя солдатами армии нового мира.
Когда он кончил и под аплодисменты всего зала отошёл от трибуны, слово попросил Олег Клитин. Краснея, Олег вышел вперёд, положил руку на пюпитр и тут
заметил, насколько вырос с прошлого года, когда вот так же выступал на таком же перевыборном собрании. Тогда ему казалось, что из-за высокого пюпитра его почти не видно, а теперь пюпитр был ему чуть ли не до пояса.
— Действительно, мы выросли, — сказал он улыбаясь. — Есть у меня предложение. Все мы знаем Бориса Кудрявцева. Учится он хорошо. Правда, у него долго была тройка по алгебре. Но, товарищи, — начиная волноваться, продолжал Олег, — он её уже исправил. Кто тут из нашего класса «Б», тот это знает
— Знаем!.. Слышали, как он отвечал!.. — крикнули в зале.
— Сам Максимилиан Ферапонтович сказал, — продолжал Олег Клитин, — что у Бориса глубокое понимание математики Мы с Борисом, конечно, товарищи, но я предложил его не потому. Все знают, что Борис хороший общественник, настоящий комсомолец. Это всё.
— Понятно, — проговорил Петя Иванов. — Есть предложение избрать Бориса Кудрявцева в члены комитета. Кто ещё хочет сказать? Кто хочет выступить?
— Можно, я скажу? — раздался голос Шурки Зазубрина в задних рядах. — Только я не комсомолец
— Ничего, говори! — ответил Петя. — Иди сюда!
— Вы все меня знаете, товарищи — ещё на ходу начал Шурка слишком громким от смущения голосом.
— Знаем! — сказали в зале. — Первый голубятник!
— И ничего вы ещё не знаете. Был Был я первым голубятником. А сейчас меня Борис вроде как физиком сделал. Случилось это совсем недавно. Сперва я к нему по соседству заходил, к мамаше его, Зое Сергеевне, она мне как классный руководитель за неуспеваемость выговаривала. Потом он к нам Пришёл он к нам, когда папаня мой после смены дома был, принёс толстенную такую книгу, называется: «Академик Е. А. Чудаков. Теория автомобиля. Учебное пособие», и начал говорить про разные марки машин, будто всю жизнь за баранкой сидел. Отец сначала глядел на него неласково — он моих прежних приятелей не шибко жаловал ну, тех, с которыми мы голубей гоняли. А тут видит — другой, очкарик, с книгой! Таких он у меня не замечал. И стал мой папаня слушать, что Борис про автомобиль рассказывает. А в следующий раз подсел к нам и говорит Кудрявцеву: «Мне, ребята, с вами интересно. Я тут, пока вы в школе были, вашего академика Чудакова малость подчитал. Хочу вам, Борис, в натуре показать карбюратор. И хочется мне, чтобы бензина меньше шло. Как это сделать, я над этим уже год думаю». — «А я в этом деле ничего не понимаю», — отвечает Борис. Тут мой папаня рассердился: «А ты, говорит, не отмахивайся. Ты, говорит, за рабочую смекалку стой! Давайте втроём думать». И стали мы думать. Начали самовар ставить, чай пить. Как-то у нас по-семейному пошло. Отец мой решил готовиться на шофёра первого класса А я роздал голубей и вот теперь изживаю не только двойки, но и тройки. И даже в пушкинском спектакле сыграл роль Пимена. В общем, я за Бориса Кудрявцева!..
Борис сидел, пригнувшись к столу, уши у него горели. Шурка покровительственно ему улыбнулся и, тяжело ступая, сошёл в зал, но сел уже не в заднем, а в переднем ряду.
— Слово предоставляется Лере Чернушкову! — сказал Петя Иванов.
— Товарищи, — заговорил Лера высоким голосом, — я тоже не из приятельских отношений Только если мы выберем Кудрявцева, у меня к нему будет наказ. Всем нам известно, как он любит историю. Пусть прочитает нам доклад об основателе ленинградского комсомола Васе Алексееве, мы о нём ещё совсем мало знаем. А уж кто-кто, а Борис докопается. Тут в библиотеках придётся порыться. Но это же интересно! Я, например, знаю, что Вася Алексеев работал в пушечной мастерской Путиловского
завода В общем, я, как говорится, присоединяюсь к предыдущим товарищам и буду голосовать за Бориса Кудрявцева.
Лера кончил. Снова поднялся председатель собрания Петя Иванов:
— Значит, вопрос ясен. Я считаю, что мы сейчас предоставим слово самому Борису, — что он думает насчёт своей кандидатуры. Только самоотвода его мы — это заранее надо сказать — принимать не станем.
Борис поднялся, подошёл к пюпитру и посмотрел не в декоративное, а в настоящее окно. Уже взошла луна, сверкали знакомые купола старинных церквей, и вдалеке возвышалась стройная многоярусная колокольня собора. Здесь, в их районе, был штаб Октябрьской революции, здесь, в Смольном, выступал Ленин. Нет во всём городе места лучше!
— Товарищи, — сказал Борис, — я, конечно, благодарен вам и буду работать Тут выступал Зазубрин. Он меня перехвалил. А это неверно. Я не просто с Шуркой занимался: я и сам из-за него подтянулся. Олег правильно говорил, что с алгеброй у меня не ладно было. Нужно было мне физику своему подшефному объяснять, а без алгебры и физика не шла. А раз решил помогать, значит, надо помогать. Кроме того, тут и отец Шуркин смотрит: как у нас наладится? И начал я тянуться. Работали мы вместе, и Шурик мне очень помог О Васе Алексееве. Я считаю, что нам надо знать свою историю. Лера Чернушков сам уже большую часть этой работы сделал и молчит сейчас — видно, из скромности. Во всяком случае, он сидел над подшивками в библиотеке, читал газеты того времени. И если он поможет мне, мы вместе обещаем вам такой доклад. Я тоже хочу внести одно предложение. Нам с Олегом хочется сделать выставку, посвящённую Николаю Николаевичу Миклухо-Маклаю, тем более, что будет его юбилей. Гуляли мы как-то недавно по Невскому и вдруг
заметили — плывёт над Адмиралтейской иглой золотой кораблик. Захотелось узнать, что это. Пошли в морской музей. Оказалось, кораблик со шпиля — фрегат, старинное военное трёхмачтовое судно, нёсшее крейсерскую и разведывательную службу. Разве не интересно? А в другом музее, рядом, в Этнографическом, куда мы зашли потом, — коллекции Миклухо-Маклая. Это уже совсем замечательно. Понимаете, ребята, там в музее были как бы это вам сказать живые предметы, то, что он сам, своими руками держал. Вот давайте устроим выставку! Это прямое наше комсомольское дело. И надо, чтобы выставка наша была районной, передвижной, чтобы её можно было перевозить в разные школы
Лера Чернушков перебил его:
— Я когда говорил про Бориса, главное забыл сказать: он ужасный выдумщик, ребята. А насчёт выставки мне нравится. Я —
Но и Леру перебил Петя Иванов, который заметил, что нужно обсудить ещё несколько кандидатур, а времени уже много. Он предложил не откладывая проголосовать. И все, кто в этот час собрался в актовом зале, подняли руку за Бориса Кудрявцева. Но, пожалуй, больше других торжествовал Шурка Зазубрин: ведь никогда ещё ему не приходилось произносить такой удачной и длинной речи.
Глава III
ЧУДЕСА БЛИЖНЕГО ОСТРОВА
Трамвай слишком медленно полз по Невскому. Ну что бы ему взвиться на воздух, пересечь реку и спланировать у самых дверей музея?
Но переполненный людьми вагон не спеша катился по рельсам, а Борис, Лера и Олег/словно желая подтолкнуть его, не могли усидеть на месте. Иди, иди же быстрее!
Только сегодня мальчики выбрались наконец в музей. Пробежала целая неделя с того воскресенья, когда Борис и Лера занимались фотографией в ванной. С утра они сошлись на «ничейной территории», неподалёку от пожарной каланчи, в Овсянниковском садике, расположенном одинаково близко к домам всех трёх приятелей, и поехали смотреть коллекции Миклухо-Маклая.
Уже Дворцовый мост остался позади.
— Мы на траверсе Ростральной колонны, ребята! — сказал Олег. — Встать! Приготовиться! Выходи!
Незаметно он взял на себя роль командира. Так бывало всегда, едва друзья попадали на Васильевский остров. Здесь Академия художеств, здесь, по старой традиции, жили художники, и переехать сюда по окончании школы мечтал Олег.
Борис открыл дверь музея, снял очки и протёр запотевшие стёкла. Мальчики прошли в вестибюль, разделись и начали подниматься по мраморной лестнице, устланной красной плюшевой дорожкой.
Это здание, построенное при Петре, называлось тогда кунсткамерой. Сюда император собирал всё, что останавливало его внимание в чужих землях. Сюда же свозили всякие редкости, найденные на обширных просторах империи. Жили здесь удивительные шестипалые уроды, государевы карлики. Тут же, для обозрения россиян, на широких полках были выставлены склянки, где, анатомически препарированные, сохранялись в спирту страшные эмбрионы, части человеческого тела Таким богатством не обладали в те времена даже лучшие мировые собрания редкостей. В этом доме было положено начало русскому музейному делу. С тех пор миновало две сотни лет, кунсткамера превратилась в академический музей.
Коллекции Миклухо-Маклая находились на третьем этаже.
Тихонько, стараясь не греметь лыжными ботинками, мальчики вошли в зал, где хранились экспонаты Миклухо-Маклая. Весёлое воскресное оживление, не покидавшее их всю дорогу, тут сменилось сосредоточенным вниманием.
Около одной из стен, на которой были развешаны рисунки Маклая, сделанные им в папуасской деревне Горен-ду, остановилась группа школьников.
В центре её, почти не отличаясь от ребят ростом и быстротой движений, стоял румяный седоволосый человек в
золотых очках — видимо, профессор. В руках у него была длинная географическая указка. Рассказывал он, отчётливо строя фразу и ясно договаривая окончание каждого слова, как лектор, давно привыкший говорить для аудитории.
— Перед вами, друзья, хижина Маклая. Её построили 4 матросы корвета «Витязь», на котором путешественник прибыл в залив Астролябия, на северо-восточном берегу Новой Гвинеи. Офицеры корабля хотели на всякий случай
заминировать лес вокруг жилища учёного, но Николай Николаевич — так звали Миклухо-Маклая — этому воспротивился. Он решил действовать добром и был убеждён, что никогда у него не возникнет необходимости применить порох или оружие. Этнограф хотел подружиться с папуасами, для этого он и приехал сюда. Он хотел изучить их, узнать степень их развития. Для этого нужно было жить с ними рядом, жить с ними в мире. Это удалось ему вполне. Папуасы почувствовали в нём друга, хотя и были людьми каменного века. Но такова уж была сила обаяния русского путешественника, что, не показывая им своего превосходства, ни разу не выстрелив, он сумел завоевать среди них, я бы сказал, божественный авторитет. Они действительно верили, что «тамо русс» — человек из России, — как они его называли, бессмертен, точно бог Попрошу вас теперь перейти к другому экспонату
Борис, Лера и Олег давно присоединились к слушателям профессора. Вместе со всей группой они переходили от рисунка к рисунку, дивясь и восхищаясь умением Маклая.
Точный карандаш путешественника выхватывал из жизни далёкого острова самые характерные сцены. Природа, постройки, люди, хозяйственная утварь — всё-всё приближалось к зрителям. То, что рисунки эти были сделаны для себя и зачастую не закончены, лишь усиливало впечатление.
— Это быстрые зарисовки, но они дают гораздо больше, чем фотографии. Видно, как художник понимает человека, которого он рисует, — прошептал Борису Олег.
— Чем ближе вы будете узнавать Маклая, — продолжал профессор, — тем больше вы его полюбите. Подумайте только: он добровольно покинул родину, знакомых и друзей, культурный мир, победил страх, поселился один на неведомом берегу — там, где, по выражению поэта, «буря на просторе над пучиною шумит», — и стал спокойно заниматься своими исследованиями. Вёл дневник, в который записывал с одинаковым хладнокровием и то>, что нашёл в лесу грибы, и то, что захворал тропической лихорадкой. У него был глубоко научный подход ко всему виденному. Никогда не уставал он изучать. Вероятно, это происходило оттого, что всё ему было интересно. Он смотрел на мир жадными глазами, и ничто не могло укрыться от его взгляда
Профессор больше часа водил ребят по залам, говорил о Миклухо-Маклае, показывал предметы его этнографической коллекции
Миклухо-Маклай отплыл из Кронштадта 8 ноября 1870 года. По пути на Новую Гвинею он объехал полсвета: побывал в Копенгагене, на острове Мадейра, видел в подзорную трубу остров Пасхи, сошёл на берег острова Таити, рисовал типы туземцев Самоа и на триста сорок шестой день плавания, то-есть почти через год после того, как матросы корвета «Витязь» подняли якорь в Кронштадтском порту, высадился в заливе Астролябия. Отсюда начался его научный подвиг. Он выбрал Новую Гвинею потому, что она была «более трудной во всех отношениях», наименее исследована, как он пишет сам, не искажена насилием пришельцев, и нужно было торопиться, «пока силы мои постепенно не ослабели от других напряжений».
— Как видите, — сказал профессор, — Миклухо-Маклай не берег себя. Он сознательно выбирал труднейшее. Оно казалось ему самым интересным.
Ему важно было пробраться к папуасам, пока они ещё не столкнулись с европейской цивилизацией и сохранили свою самобытность Учёные, по мнению Миклухо-Маклая, обычно занимались собиранием коллекций, наблюдением за дикими животными, а на людей обращали мало внимания. Он решил, что поступит не так: будет изучать на острове именно жизнь человека. Ведь ему нужно было доказать как раз то, что папуасы такие же люди, как и всё, что кожа у них гладкая, как у всех людей, что говорят они на языке, хотя и менее разработанном, нежели, скажем, английский, но это человеческая речь, с помощью которой можно понимать друг друга, можно выражать свои чувства.
В спорах, которые велись тогда учёными вокруг вопроса о происхождении и развитии человеческих рас, — говорил профессор, — существовало два мнения. Первое, обоснованное десятками тысяч фактов, — что человечество едино по своему происхождению. И второе, лженаучное, — будто у разных рас разные прародители, а потому есть «передовые» народы и есть «неполноценные», которые уже самой природой назначены быть рабами. Всё это доказывали «просвещённые» колонизаторы, чтобы таким образом оправдать закабаление туземных народов.
Миклухо-Маклай ехал на остров за фактами. И факты, подтверждающие равноценность рас, атаковали его, едва он ступил на берег, едва встретился с первым же туземцем.
— Вот, например, думали, — продолжал профессор, — что у папуасов волосы не так растут, как у нас. — И старик притронулся к своим седым вискам. — Будто бы у папуасов волосы прядями, пучками растут. Вот такие мнения Миклухо-Маклай проверил и доказал, что всё это чепуха И полюбили папуасы Маклая не только потому, что он дал им гвозди и семена культурных растений, но и потому, что они увидели в нём своего верного защитника.
Профессор кончил, пристально поглядел на слушателей и только сейчас заметил, что ребят стало больше.
— «Откуда ты, прелестное дитя?» — улыбаясь, спросил он у белокурого мальчика в круглых очках.
— Из сто сорок седьмой школы, с Песков, — помолчав, сказал Борис и тихо добавил, отвечая на шутку шуткой: — Нас трое, прелестных.
— Отлично! — сказал, расхохотавшись, профессор. — Чего же ищут люди с Песков на нашем Васильевском острове?
— Знаний, — ответил Лера.
— Это хорошо, — сказал профессор. — Здесь собрались разные люди, из разных мест, но все они пришли за знаниями. Я хочу спросить людей с Песков: интересует ли их что-нибудь в частности или они заняты приобретением знаний вообще?
— Нас интересует Миклухо-Маклай, — ответил Олег. — Мы хотим сделать выставку, посвящённую его жизни и работе
— И чтобы эта выставка переходила из одной школы в другую, — добавил Лера.
— Тогда, други мои, — сказал профессор, — тогда, дорогие люди с Песков, мы приглашаем вас к нам, в наш кружок. Здесь занимаются юные друзья Музея антропологии и этнографии. Они приходят к нам со всех концов города, но до сих пор у нас не было ещё людей с Песков.
Кружок работает два раза в месяц, по воскресным, дням. Сегодня вы уже были на занятии.
Борис, Лера и Олег записались у старосты, попрощались с профессором, которого звали Петром Петровичем, и спустились в раздевалку.
Они вышли из музея. Было уже часа четыре, сгущались ранние ленинградские сумерки; вдоль набережной тускло светились терявшиеся в тумане фонари.
Олег повёл приятелей к Академии художеств. Бывая неподалёку от неё, он не мог отказать себе в удовольствии пройтись мимо заветного здания.
— Если ты решил стать учёным, приходится задумываться об этом с юности, — произнёс Лера. — Шампольон жил не в наше время, а уже четырнадцатилетним парнишкой задумал написать свой труд — «Египет при фараонах».
— Наука теперь как бы это сказать ушла, что ли, в глубину, — возразил Борис. — Шампольон делал только первые шаги. Он раскрыл египетскую письменность потому, что был найден «Розетский камень», где оказался перевод текста на три более современных языка. А вот попробуй прочесть, что написано на табличках Маклая, если к ним нет никакого ключа! Это, пожалуй, потруднее будет.
— А почему бы нам не спросить о табличках у Петра Петровича? — сказал Олег.
— Ещё рано, — ответил Борис. — Подождём, обживёмся. Мне кажется, что в кружке будет очень интересно. И Пётр Петрович молодец — настоящий профессор. Как это он придумал — «люди с Песков»! А знаешь, до меня только потом дошло, что наш. Васильевский остров — это настоящий остров, вроде острова Пасхи, только находится он не в Великом океане, а в дельте великой реки Невы.
— Да, — задумчиво промолвил Лера, — теперь куда труднее произнести новое слово в науке, чем во времена Шампольона
Мальчики остановились. Прямо перед ними золотился крутой купол Исаакиевского собора, немного поодаль скакал на вздыбленном коне Пётр, скорее угадываемый, чем видимый отсюда, с противоположной стороны реки. Это было любимое место всех трёх, и красота его была создана не только Монфераном и Фальконе, но гением тысяч безымённых русских умельцев в сермяжных кафтанах, шедших в Питер, чтобы своими руками воздвигать здесь, на болотах, чудеса зодчества.
— Верите ли вы в себя? — спросил Борис.
— Верим, — ответил Олег.
— То-то! — улыбаясь, сказал Борис. — Пошли
Они прибавили шагу. Было пусто кругом. Морской ветер с залива дул по невской набережной. Где-то на Среднем проспекте прогрохотал тяжёлый грузовик.
— Помнишь, как у Маяковского: «Но скажите вы, калеки и калекши, где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легче?» — прочитал на память Лера. — Мы не будем калеками, клянусь!
— Да-да, и произнесём мы это новое слово о том, о чём прежде говорить не хотели, — продолжал Борис. — Раньше история была родословной королей, царствующих домов. А нас, комсомольцев, конечно, интересует народ. Как он жил, как работал, какие памятники о своей жизни оставил, что внёс в жизнь мира. Как его истребляли империалисты. И как, несмотря на это, он победил.
Об этом и о многом другом думали и говорили друзья, возвращаясь из музея. Сесть сейчас в обыкновенный, громыхающий на стыках трамвай, разойтись спокойно по домам было просто невозможно.
И приятели продолжали шагать по Университетской набережной, всё дальше уходя от дома, направляясь к Академии художеств, туда, где установлены два египетских сфинкса.
От набережной с горки, хохоча, катались ребята на лыжах. На сфинксах лежал снег.
Борис, Лера и Олег остановились у их подножия, и Борис, в который раз в жизни, громко прочёл надпись, высеченную на розовом граните по старой орфографии — через «ять», «твёрдый знак» и «фиту»:
— «Сфинксъ изъ древнихъ Нивъ въ Египетъ перевезенъ въ градъ Святаго Петра въ 1832 году». Знаешь, что это? — спросил Борис.
— Сфинкс из древних Фив в Египте, — ответил Лера.
— Прекрасная скульптура, — сказал Олег. — Голова портретно сделана.
— Это фараон восемнадцатой династии Аменхотеп Третий, дорогой мой, — закончил Борис, — или, как его ещё называют, Аменхотеп Великолепный. Время его жизни отделено от нас более чем тридцатью тремя столетиями!
Глава IV
ДОКЛАД И СТИХИ
В среду после уроков школьный сторож дедушка Андрон открыл двери актового зала.
— Залетайте, залетайте, соколы! — встретил он мальчиков и девочек своим любимым возгласом.
В коридоре толпились ученики не только старших классов, не только комсомольцы, но и пионеры в красных галстуках. Да, послушать доклад Леры Чернушкова «Сынок пушечной мастерской» хотелось каждому.
Народу собралось сегодня особенно много. Передние ряды стульев теперь заняли шестиклассники и шестиклассницы. Пришло много ребят из пятого и даже четвёртого класса. Эти «малявки», как их называли старшие, раздражали серьёзных устроителей доклада, и те грозным шёпотом гоняли малышей, но они отвечали звонкими дискантами и оказывались совершенно неистребимыми.
Девятиклассницы сидели вокруг Маруси Ильиной. Сегодня она выглядела особенно нарядной — в шёлковой кофточке с короткими рукавами и шерстяной широкой клетчатой юбке. Маруся жила совсем близко от школы и, видимо, успела сбегать домой переодеться. Свои длинные русые косы она аккуратно уложила короной. В ожидании начала девочка о чём-то задумчиво говорила подругам.
— Ребята, — сказал председатель Борис Кудрявцев, когда все расселись и шум в зале наконец прекратился, — предоставим слово для доклада ученику девятого класса Валерию Чернушкову. Тут некоторые спрашивают: почему ему, а почему не мне, как условились на комсомольском собрании. — Он посмотрел в сторону Маруси Ильиной. — Отвечу. Когда я познакомился с тем, что сделал Лера, то увидел, что почти всё у него уже было готово и остаётся только систематизировать материал, чтобы получился доклад. В этом я ему помогал, не отлынивал А доклад его, целиком его, Леры Чернушкова!.. Пожалуйста, товарищ докладчик!.. Похлопаем, ребята! — закончил Борис и первый ударил в ладоши.
Худощавый, чернявенький Лера, в своей неизменной куртке с «молниями», спокойно встал из-за стола, посмотрел в зал. Пожалуй, Борису не надо было вносить своё предложение, потому что шум, едва смолкнувший, поднялся теперь с новой силой. Никому после пяти или шести часов, проведённых за партой, не сиделось на месте. Борису пришлось опять и опять повторять успокоительные слова, чтобы угомонить не в меру развеселившуюся аудиторию. Когда Лера подошёл к пюпитру, в зале снова раздались хлопки, но сейчас уже аплодировали действительно докладчику.
Лера поднял руку и произнёс первую фразу. Конечно, он заранее подготовил её.
— Те немногие сведения, которыми я хочу сегодня поделиться с уважаемым собранием, — сказал Лера, — никак нельзя назвать докладом — скорее, это предварительное сообщение
Откуда бралось у Леры это удивительное для ученика девятого класса умение говорить так гладко! Учёные фразы сами собой слетали с его языка. Никогда не приходилось ему бывать на учёных советах, слышать, как дискуссируют мужи науки, какие
они при этом отпускают друг другу комплименты, а вот поди ж ты! Лера Чернушков владел всем этим сложным церемониалом так, что его уже сейчас, прямо со второй парты справа девятого класса «Б», можно было пересадить на мягкое кресло в конференц-зале Академии наук. Так думали его благодарные слушатели.
— Страницы истории первых дней комсомола ещё не написаны, — сказал Лера, опуская руку, так как в зале стало совсем тихо, — вот почему мне захотелось заняться биографией Васи Алексеева, который, как известно, был одним из основателей петроградского комсомола. Не только я один готовил этот доклад — вместе с Борисом Кудрявцевым Боренька, встань, пожалуйста, чтобы ребята ещё раз увидели, какой ты есть Он мне очень много помогал, товарищи. Мы просмотрели горы библиотечного и архивного материала, ознакомились с комплектами журнала «Юный пролетарий», и постепенно в нашем сознании начал вырастать образ «сынка пушечной мастерской», как прозвали Васю путиловцы. Тут мне нужно рассказать об открытии, которое мы сделали попутно и которое, насколько я могу судить, нигде в специальной литературе пока не отмечено: Вася Алексеев писал стихи, он был поэтом. Стихи эти почти не сохранились, так же как, впрочем, и другие сведения о его жизни. Нам приходилось, как археологам, по осколкам, по черепкам восстанавливать весь сосуд. Так вот такой осколок — осколок, по-видимому, большой поэмы о безрадостном детстве пролетарского подростка — и найден нами:
Кончилась детская доля, Глянула в очи неволя.
Вася Алексеев работал подручным в пушечной мастерской на Путиловском заводе. Путиловский, ребята! Наш знаменитый, наш революционный завод! Там развивалось рабочее движение, стоял у станка сам Михаил Иванович Калинин. И там же, выражаясь словами поэта, кончилась его «детская доля»
Борис быстро посмотрел на часы: очень интересно говорит Лера, но уложится ли он в своё время?
— «Сынок пушечной мастерской», Вася Алексеев был не только сыном одной пушечной мастерской, он был сыном петербургского пролетариата, сыном Октябрьской революции. И стихи его, самое желание описать в стихах жизнь пролетарского подростка — явление небывалое прежде, немыслимое.
Лера замолчал, поглядел в зал. Русая голова Маруси Ильиной с причёской в виде короны одобряюще кивнула ему из-за спин малышей. Всё идёт хорошо, можно дальше
— Вы вот что представьте себе: каково было Васе Алексееву, пролетарскому подростку, оказавшемуся в самой гуще событий, разобраться, с кем идти и куда, по какой дороге повести за собой молодёжь! А именно это сделал наш Вася.
Существовала в Петрограде мелкобуржуазная молодёжная организация «Труд и свет». Основана она была в 1918 году студентом Швецовым. Это был эсеровский союз молодёжи. Его члены разглагольствовали о классовом сотрудничестве, выражали интересы старого мира. И Васе Алексееву приходилось прежде всего бороться с влиянием этой организации на молодой питерский пролетариат: он звал молодых рабочих идти за большевиками, потому, что был учеником Ленина. И вот за молодым парнем, почти ещё мальчиком, вроде нас с вами, пошла молодёжь с Путиловского, с Балтийского, с «Треугольника».
Делегаты Первой общегородской конференции молодёжи изгнали Швецова. И больше ни в каких архивных материалах мы не могли, как ни старались, найти его имя. Знаем только, что был такой Швецов и прошёл вместе с Временным правительством, потому что кончилось его время.
Алексеев выступал на Шестом съезде партии. Он встречался с Надеждой Константиновной Крупской, советовался с ней о воспитании молодёжи. Так превратился «сынок пушечной мастерской» в большого комсомольского организатора. Вот он основывает журнал «Юный пролетарий», первый советский юношеский журнал. При свете тусклой угольной лампочки, в большом редакторском кабинете, оставшемся от бывшей здесь во времена царизма редакции, сочиняет он стихи о жизни рабочего-подростка, о своей собственной жизни
Олег слушал Леру и быстро набрасывал в блокнот фигуру своего друга, придавая ему сходство с Зевсом-громовержцем. Лера на шарже был окружён зигзагами молний.
Доклад продолжался:
— Вася Алексеев умер, заразившись тифом, который свирепствовал тогда по всей стране. В нашем городе, за Нарвской заставой, в саду, ему поставлен памятник. Часто около него собираются комсомольцы с «Красного путиловца». Они хорошо знают своего Васю. Помним, его и мы, ленинградские школьники, комсомольцы, потому что организация, в создание которой вложены и его силы, живёт, крепнет и множится. Сегодня мы с вами, друзья, её члены. Мы — молодёжь — сказал Лера и остановился.
И зал замер вместе с ним.
Как приятно было услышать это слово! Да, мы — молодёжь, уже не дети, а молодые комсомольцы, почти взрослые. И даже ребята в красных галстуках, которым до этого ещё расти и расти, подумали вместе с докладчиком: «И мы — молодёжь, если ещё не сегодня, то завтра уж непременно».
— Мы, молодёжь, — продолжал Лера, — будем учиться у таких, как Вася, не стихотворному искусству, — если бы он дожил до наших дней и продолжал писать стихи, то они были бы теперь другими, — мы должны учиться у таких людей непримиримости в борьбе, ненависти к врагам и любви к друзьям!
Доклад закончен. Борис не прибавил к нему ни слова Он считал, что Лера сказал всё.
После доклада в коридоре Кудрявцева нагнал Шурка Зазубрин и, отведя в сторону, краснея, зашептал:
— Знаешь, Боря, я тоже, как Вася Алексеев, пишу теперь стихотворения Сегодня сочинил. Хочешь, прочитаю?
— Давай.
Такого действия доклада Борис никак не ожидал.
— Вот, слушай, — всё ещё шёпотом продолжал Шурка:
Шумит мотор,
Бежит мотор Во весь опор!
Сижу я за рулём.
Гонюсь не за рублём!
Гудит мотор.
Шумит мотор
И мчит во весь опор!
Он кончил и посмотрел на Бориса, по тот молчал.
— Ну как? — нетерпеливо спросил поэт.
— Стихи так себе, совсем плохие, — сказал Борис, который не умел лгать и не хотел притворяться. — У Васи Алексеева были поинтересней Да и наша Маруся Ильина пишет лучше.
Автор, впрочем, нисколько не обиделся.
— Зато свои, — ответил он, — и про мотор. А у вашей Маруськи стихотворения девчачьи, про природу да про любовь А ещё мы с папаней сделали тут одно дело.
— Какое? — спросил Борис, чувствуя, что именно это, а вовсе не стихи для друга главное.
— Вот, слушай, — уже не шёпотом, а громко сказал тот. — Папаня пришёл домой и говорит, что из мотора чёрный дым идёт. Я сказал ему: «Это богатая смесь, неполное сгорание». А он: «Не в этом вопрос. Смесь у меня первый сорт, хороший бензин, лёгкий». Разобрали мы с ним карбюратор. Смотрю, в нём поплавок. Тут я, Боря, тебя вспомнил, физику твою, удельный вес. Думаю, раз бензин лёгкий, высокой октановой очистки, значит, поплавок в нём тонет и смесь поступает слишком богатая, не такая, как нужно. Выходит, надо изменить вес поплавка, чтобы всё как по закону физики получалось. Ну, сделали мы это. И вышло у нас рационализаторское предложение. Так и висит в гараже, в стенгазете, на машинке напечатано: «Предложение Зазубриных, отца и сына». А стихотворение я тоже для стенгазеты написал, на заданную тему, для таксистов, потому и слова такие: «Сижу я за рулём,
гонюсь не за рублём!» Что теперь скажешь? — спросил Шурка улыбаясь.
— Скажу, что стихи очень хорошие, — тоже улыбаясь, ответил Борис, — целенаправленные.
В зале ещё хлопали Лере. Больше всего старались четвероклассники, возмещая усиленным шумом аплодисментов долгое молчание во время доклада.
Глава V
ТАИНСТВЕННЫЕ ТАБЛИЦЫ
Борис зачастил в Музей антропологии и этнографии Иногда он брал с собой Леру, но больше ездил на Васильевский остров один. Ему нравилось бродить по просторным залам музея, среди разнообразных вещей, свезённых сюда со всего света.
Музейные служители к нему уже привыкли; они знали, что он из кружка, и беспрепятственно пропускали даже в фонды, закрытые для обычных посетителей. Он приходил в библиотеку, брал книги, относящиеся к путешествию Николая Николаевича Миклухо-Маклая, чертил карту его пути. На карте было всё: и синий океан, более светлый у берегов и ультрамариновый в центре, и коричневые острова, и чёрный пунктир между ними — маршрут, по которому через эту беспредельность прошла маленькая скорлупка: винтовой трёхмачтовый корабль «Витязь».
Профессор оказался прав: чем ближе Борис узнавал Миклухо-Маклая, тем сильнее путешественник притягивал его к себе. У Маклая не было ни одной черты, которая не казалась бы привлекательной и милой. Быть может, такому восприятию способствовало и то, что вокруг Николая Николаевича в музее был создан своеобразный культ. Здесь все любили его так сильно, что он как бы продолжал жить среди своих вещей, бережно сохранявшихся в витринах и на стендах.
Борис изучал материалы для выставки, а рядом с ним работали другие ребята, удивительно тихие и настойчивые. Их интересовали черепки. Это были будущие археологи: они измеряли кривизну черепков, отбрасывали от них тень на специальный экран и потом, вычертив контуры сосуда, создавали его макет. Появлялась утварь древних славянских поселений, которые были здесь, в Ленинграде, в Старой Ладоге, и далеко у Чёрного моря, в исчезнувшей Тьму-Таракани. По черепкам ребята судили о том, как жил и как трудился тогдашний человек, узнавали о трипольской культуре, о людях, обитавших на территории нынешней Украины тогда, когда в Египте строились пирамиды, когда не существовало ещё Греции, когда по Ассиро-Вавилонии скитались дикие племена. В Триполье мотыгами возделывались поля, стояли мазанки, такие же белые и чистые, как сегодня, и паслись на берегах извилистого Днестра и широкого Днепра давно приручённые круторогие сильные быки и тучные коровы, и тяжёлые жернова мололи зерно.
Так, шаг за шагом, песчинка за песчинкой юные археологи восстанавливали картину прежней жизни. И Борис не раз вспоминал слова Горького о том, что «руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умные руки снова и уже сильнее способствуют развитию мозга».
Однажды Борис решился спросить у Петра Петровича про таблички Маклая. Он видел их довольно часто в витрине музея, но до поры сдерживал себя.
— Прямого отношения к Новой Гвинее и к Миклухо-Маклаю это не имеет, — сказал профессор. — На острове Пасхи, как вы знаете, Николай Николаевич не был. Он только проходил мимо него и наблюдал в подзорную трубу. Представьте себе клочок вулканической породы площадью сто восемнадцать километров. Немного! А тем не менее этот клочок земли нанесён на все карты мира, тогда как значительно большие острова на картах того же масштаба отсутствуют. А почему? Потому что на этой песчинке установлено четыреста шестьдесят гигантских идолов. Сегодня, как и во времена Миклухо-Маклая, на острове живёт двести пятьдесят — триста человек. Ясно, что не они проделали эту грандиозную работу. Если не они, так кто же? Это и непонятно. Тут уже начинаются всякие гипотезы. Есть мнение, что остров Пасхи — осколок затонувшего материка Пацифиды, существовавшего в Тихом океане подобно Атлантиде — в Атлантическом. Есть и другое предположение: что это был не материк, а архипелаг. Но ясно одно: сегодня вокруг острова — водная пустыня. И ещё одна особенность, кроме гигантских статуй, отличает эти скалы. У народа, который обитал там, была письменность — вот эти деревянные таблички, с которых и начался наш разговор. Они также загадочны, как и статуи. Никто не знает, сколько им лет, никто не ведает, что на них изображено. Обычно их сравнивают с разными другими знаками, которые попадаются при раскопках в различных концах земли. Вот недавно венгерский учёный Хевеши нашёл в них сходство с иероглифами, обнаруженными в развалинах Мохенджо-Даро, в долине Инда. Только, по-моему, они не похожи. Ведь Индия — в одной части света, а остров Пасхи — в другой. Я и сам пытался расшифровать таблички, но пока тоже тщетно. Боги острова крепко держат свои секреты! Весь мой успех — небольшая статейка «Две таблички с острова Пасхи». И всё. Она не лучше и не хуже других. Никому из исследователей до сих пор не удавалось проникнуть в эту тайну.
— А можно мне попытаться? — спросил Борис краснея.
— Смелость, говорят, города берёт, — ответил профессор. — И ещё есть пословица: «Попытка — не пытка». Но обнадёживать вас, мой молодой друг, не буду. Однако представьте себе, что на этих табличках неведомой нам системой письма записана история заселения острова. Ведь это возможно? Возможно или нет? Я вас спрашиваю, отвечайте!
— Конечно, — поспешил согласиться Борис.
Древняя индусская письменность, найденная при раскопках в Мохенджо-Даро, в долине Инда.
— Ну, а ежели возможно, то это даст нам ключ к пониманию происходившего до того, как первые европейские корабли появились в этих водах. Но должен предупредить: работа эта трудная, требующая терпения, трудолюбия, усидчивости, ну, и навыка, который, конечно, приходит в процессе освоения предмета. Это уже настоящая научная тема. За разработку её берутся учёные вроде вот Хевеши, на которого я имел честь уже сослаться, или вроде вашего покорного слуги — так сказать, мужи, убелённые сединами, и тем не менее попадают, как видите, впросак.
— Попробую, — сказал Борис.
— Ну что ж Исполать вам, как говорили в старину. Отвага и смелость — сёстры молодости. И прошу помнить, что я всегда к вашим услугам. Если смогу чем помочь — пожалуйста.
Он распорядился, чтобы Кудрявцеву, по его требованию, выдавали таблички Маклая.
И вот Борис впервые держит их в руках. Таблички изумительно, неправдоподобно легки — легки, как сухая губка. Они все в мелких знаках, будто их источили какие-то умные черви, полны загадок, словно тысяча ребусов, и кажется, что вот-вот они заговорят, быть может даже запоют.
Борис должен узнать о них и об острове Пасхи всё.
После разговора с профессором, ещё даже не повидавшись с приятелями, не рассказав им ничего, Борис отправился в библиотеку и заказал книги о далёком острове.
Отныне там будет жить его мечта. В библиотеку надо взять с собой Лерку и Олега. Без них ему не справиться с работой.
И в Овсянниковском садике, неподалёку от пожарной каланчи, на «ничейной территории», в тот же вечер произошла встреча друзей.
Борис рассказал о своём разговоре с профессором и о подлинной науке, к которой' он прикоснулся.
— Я предлагаю, — сказал Лера волнуясь, — основать научное общество.
— Как ты хочешь его назвать? — спросил Олег.
— «Общество трёх», — ответил Лера. — Триумвират, как в древнем Риме. И чтобы консул и проконсулы Так интересней
— Игра, — перебил его Борис, — детская игра. Надо не так. Проще Советую: «Потомки Маклая». Этим всё сказано.
И все согласились с ним.
Глава VI
ОТЧЕГО ГОВОРЯЩЕЕ ДЕРЕВО ОНЕМЕЛО
30 декабря 1886 года, за два года до смерти, измученный ревматизмом и острой невралгией, Николай Николаевич Миклухо-Маклай передал в дар Академии наук свои коллекции. Он собирал их во время первых путешествий по Тихому океану.
Предметов оказалось так много и они были так интересны, что специально для них пришлось поставить несколько новых стендов в музее.
В пёстром этом богатстве работники музея обнаружили две небольшие деревянные таблички с острова Пасхи: одну в форме ножа, другую в виде бумеранга. Таблички были густо покрыты знаками таинственной письменности.
К Миклухо-Маклаю таблички эти имели отношение
лишь косвенное — он привёз их в Россию. На остров Пасхи корвет «Витязь» не заходил, путешественник на берег не съезжал, хотя многое, конечно, влекло его туда.
На некоторых картах остров сохранил своё старое, таитянское название: «Рапа-нуи», что означает «Великий Рапа».
И уже первый европеец, посетивший остров 6 апреля 1722 года, голландский адмирал Якоб Роггевен, написал о чуде, представшем мореплавателям, едва они сделали первые шаги по каменистой земле.
С тех пор каждый, кто бывал здесь, писал о повёрнутых строго на север гигантских идолах, расставленных по склонам большого вулкана Рано Рараку.
Такого количества каменных истуканов нет больше нигде. Они поражают и численностью и неимоверными размерами. Кто, как, почему и когда установил их тут, среди океанской пустыни? Двести пятьдесят или триста рапануйцев, населяющих остров сегодня, конечно, как сказал Борису Пётр Петрович, не могли осуществить такие огромные работы.
Значит, прежде здесь была иная и куда более бурная жизнь. Каким образом она возникла? Ведь базальтовый остров скуден растительностью, красная ноздреватая почва его не даёт и намёка на плодородие.
И всё же головы исполинов, высящихся по склонам и в особенности в самом кратере погасшего вулкана Рано Рараку, рассказывают о многочисленных мастерах, живших или побывавших на острове.
Загадка? Тайна? Безусловно. И нетрудно поэтому понять досаду,
испытанную Миклухо-Маклаем, когда капитан сказал ему, что из-за отсутствия закрытых рейдов якорная стоянка здесь невозможна.
До тех пор пока Рапа-нуи не превратился в едва различимую полоску, Миклухо-Маклай не покидал палубы и не опускал подзорной трубы. Но и потом, в открытом море, он продолжал думать о только что оставленном острове.
За шесть лет до этого португальский миссионер Эжен Эйро обнаружил на острове то, что местные жители называли «кохау ронго-ронго» — «говорящее дерево». Это была письменность — таблицы, испещрённые иероглифами. Аккуратно завёрнутые в листья, таблицы висели под потолком почти в каждой хижине и были священны для жителей острова.
На маленьком куске земли жили не только гениальные скульпторы, но и единственные во всей Океании люди, умевшие писать, создавшие свою собственную систему письма.
На продолговатых досках длиной в метр или несколько меньше острым осколком обсидиана — вулканического стекла — или акульим зубом они умело выцарапывали ровные строчки иероглифов, густо покрывая ими обе стороны обломка дерева, выброшенного на их островок щедрым океаном.
Некоторые знаки походили на контуры людей, животных, рыб, растений, созвездий, на рыболовные крючки, вёсла; для того чтобы определить другие, нужны были время и воображение.
Миклухо-Маклай заинтересовался табличками с тех пор, как впервые увидел их в Этнологическом музее в Сант-Яго, в Чили.
Но тогда этот интерес был более или менее случайным. Теперь же, когда одинокий остров промелькнул перед ним, мысль о созданной там своеобразной культуре не оставляла учёного.
Вот почему он должен был обрадоваться встрече с Тепано Яуссеном, таитянским епископом, которая произошла в Папеити, где корвет простоял с 12 по 24 июля.
К сожалению, время пребывания на Таити составляет пробел в подробнейших и обстоятельнейших дневниках путешественника, там есть лишь самая беглая карандашная запись, из которой видно, что он себя тогда плохо чувствовал.
О своей встрече с русским учёным рассказывает в книге «Остров Пасхи» сам Яуссен. Он был первым, кто занялся таинственными знаками.
До него таблички безжалостно сжигали католические монахи. В особенности свирепствовал Эжен Эйро.
«Сожги, сожги то, чему прежде поклонялся во грехе! — кричал монах, взмахивая рукавами своей малиновой сутаны. — Да снизойдёт на идола огонь очистительный!»
И в костёр летели письмена, в пламени исчезали скрижали истории полинезийского народа.
Яуссен приказал прекратить это варварство. Он распорядился прислать оставшиеся после миссионерских костров «кохау ронго-роиго» в свою епископскую резиденцию
на Таити и начал изучать иероглифы. Дело оказалось не простым.
Тепано Яуссен считался знатоком полинезийских языков; он немало путешествовал по островам, встречался с рапануйцами, с канаками, с жителями островов Святого Феликса. Но вся его учёность кончалась здесь, у этих дощечек, к пониманию которых требовалось отыскать ключ, и тогда наука овладеет древними знаниями.
Яуссену поначалу даже повезло: он нашёл человека, умевшего читать «кохау».
Случилось это так. Преемник Эжена Эйро, миссионер Руссель, видя, что рапануйцы голодают, предложил нескольким семействам переселиться на плодородный остров Таити. Он действовал, правда, как агент богатейшего таитянского плантатора Брандера, испытывавшего недостаток в дешёвой рабочей силе. Перед тем, по приказу другого агента того же всесильного Брандера, были уничтожены посевы батата, составляющего единственную пищу рапа-нуйцев. И вот несчастным волей-неволей пришлось принять предложение отца Русселя и покинуть родные скалы.
Среди этих людей был некто Меторо Танауре — ученик уже умерших к тому времени знатоков священного письма: Нгаху, Реймиро и Паовса.
В молодости его учили читать и писать «ронго-ронго». Теперь он смело взял в руки предложенную Яуссеном табличку и запел:
«Он спустился с неба на землю, на обе земли Хоату-матуа, он возвратился к основанию неба, на обе земли старшего сына, на обе земли, на свою землю. Он приплыл на корабле своего младшего сына, своего лучшего сына. Он пришёл на землю с неба »
Епископ видел перед собой языческую ересь, и тем не менее он слушал её внимательно, даже больше — он записывал
А Меторо пел. Он вертел табличку, и глаза его бежали по ровным рядам знаков. Без сомнения это была письменность! Но какова система её? Как, по каким законам располагали знаки учёные-рапануйцы?
«На землю с неба » — вдохновляясь, пел Меторо.
«Подожди, сын мой, — прервал его Яуссен. — Я хочу знать вот этот знак, похожий на птицу со щитом в лапе. Что он означает?»
Как раз именно этого Меторо не знал. Он не знал точного соответствия каждого отдельного знака каждому отдельному слову или понятию. Повидимому, такого соответствия и не существовало в «кохау ронго-ронго», потому что Меторо не понял своего епископа. Для него таблицы были говорящим деревом, напоминающим о славе его народа, и его учёность заключалась в том, что он умел вспоминать слова, пропетые ему отцом, а тому — дедом, а тому — прадедом. Он смотрел на значки, они порождали в мозгу воспоминания, и с языка сам собой слетал стройный древний напев.
Но рассказать, почему при взгляде на определённый значок рождается представление о том или другом, Меторо не умел.
Несколько раз вызывал его к себе епископ. И всегда повторялось то же: Меторо брал в руку дощечку, вертел её, начинал петь, но тотчас же сбивался, едва Яуссен просил объяснения. А пел он всегда одно и то же.
Об этом при встрече епископ, повидимому, рассказал Николаю Николаевичу Миклухо-Маклаю, который так понравился ему, что он даже подарил путешественнику одну из пяти своих табличек.
Сейчас она лежала в руках у Бориса. На столе перед ним была раскрытая книга Яуссена.
С тех пор наука не продвинулась вперёд — тайна «кохау ронго-ронго» так и осталась тайной, несмотря на то что немецкие, английские, американские учёные после выхода книги Яуссена изучали письменность далёкого острова.
В 80-х годах американец Томсон и тридцать пять лет спустя, в год первой мировой войны, англичанка миссис Раутледж ездили на остров, надеясь найти там хоть кого-нибудь, кто ещё знал «кохау».
Но тщетно! Культура письма была забыта, никто не помнил песен «говорящего дерева».
После долгих поисков миссис Раутледж разыскала всё же одного старика. Она нашла его в лепрозории, где он умирал, разъедаемый проказой. И вот отважная англичанка смело переступила порог страшной больницы, вошла в палату. На койке, покрытый жалким тряпьём, лежал старик Томеиика. Разговор с ним шёл через переводчика.
«Ты скажи ей — говорил Томеника, — ты скажи ей: не будет петь я. Пусть, что наши люди знают, умрёт, Мой петь нет, нет, нет!» — повторял он на ломаном английском языке самой леди, должно быть не слишком доверяя метису-переводчику.
Он что-то ещё долго бормочет, этот человек, единственный во всём свете человек, могущий единым словом или жестом разрешить полувековые споры виднейших этнографов Лондона и Парижа, Берлина и Петербурга.
Томеника болен, у него мутится разум, путаются мысли, он начинает и не кончает фразу
Но настойчивость миссис Раутледж равна её терпению. Три раза приходит она в больницу, слушает причитания старого туземца, и сквозь бред до неё доходит одна фраза, которую она тщательно записывает сначала в своей полевой книжке, а потом повторяет в объёмистой книге, изданной несколькими годами позднее в Лондоне.
«Слова новые, знаки старые», — говорит туземец, закрывая глаза и поворачиваясь к стене.
Две недели спустя в лепрозории умирает последний рапануйский рапсод 1 и уносит с собой тайну островитян
1 Рапсод — певец народных эпических песен, сказитель.
Глава VII
ВСЕ НАРОДЫ ИМЕЮТ ПРАВО НА СЛОВО
Вот они лежат перед Борисом, две таблички: одна, полученная Миклухо-Маклаем в Папеити от Тепано Яуссе-на, и другая, приобретённая неизвестно где, когда и у кого. Одна похожа на нож, другая — на бумеранг или на мочалку. И обе скрывают тайну, которую так нужно открыть ему, Кудрявцеву Борису. Он должен сказать тут своё слово. Надо, обязательно надо опровергнуть домыслы Хевеши!
Борис вышел из музея на улицу. Гремел по мосту трамвай, шумел морской ветер, прорываясь под металлическими арками. Где-то далеко-далеко, возможно на островах, играла музыка, и юноше показалось, что в неё вплетается голос, невнятный и в то же время знакомый, как будто услышанный во сне, — голос «говорящего дерева»
Первые и очень неточные сведения о Полинезии начали появляться в виде сообщений пиратских капитанов и матросов — людей суеверных, склонных к фантазии, часто пьяниц.
И, конечно, наука не может основываться только на этих показаниях, она должна искать другие, более достоверные материалы. Но где они? Где их взять? Быть может, ровные ряды значков «кохау ронго-ронго» действительно скрывают записи какого-нибудь рапануйского летописца? Быть может, там изложена правда о жизни на острове, объяснено, почему тут так много каменных истуканов?
Если бы удалось проникнуть в сущность священного письма, понять, по какому принципу на дощечках сочетаются знаки — люди и животные, птицы и звёзды, рыбы и горы — и что они выражают!
На смену первым любителям пришли учёные — Хеве-ши, Хейне-Гельдерн и многие другие, но ни один из них не продвинулся в решении вопроса о таблицах. Миклухо-Маклай над табличками не работал. У него есть лишь небольшое сообщение о них, напечатанное в 70-х годах в одном из специальных журналов, да несколько заметок в тихоокеанских дневниках. И вот теперь к тайнам священного письма прикоснётся он, Борис Кудрявцев, ученик девятого класса 147 ленинградской средней школы. Однако, если честно признаться, как мало у него опыта и знаний! Ведь, в сущности, что он знает? Умеет читать по-французски, разбирается в английском, без словаря может переводить с немецкого И всем этим он обязан маме. Она с детства настаивала на изучении трёх языков. Что ещё? А ещё в прошлом году был санскрит. Однако это уже не имеет никакого отношения к острову Пасхи. Правда, он работает не один, ему помогает и профессор и ребята.
Но сейчас лето, как-то незаметно подошёл конец учебного года, промелькнули сданные на «отлично» экзамены, и Борис уже за Лугой, на озере Щир, на даче. Прежде эта местность называлась Струги Белые. Во время гражданской войны здесь проходили сражения, и Струги меняли свой цвет, становясь то Красными, то Белыми, в зависимости от того, кто побеждал, пока наконец не стали Красными навсегда. Об этом мальчикам рассказал дядя Ваня, инвалид, который торговал на станции мороженым.
— Было здесь в те поры делов! Не все сразу замирилось. А теперь, конечно, благодать. Дачники из Ленинграда, из Москвы приезжают Только вот ноги у меня нету. В том бою осталась. И выходит, ребята, что и моей родной кровью Струги Красные окрашены.
Он помолчал, свернул козью ножку, закурил и уже другим голосом, громко и бесшабашно, закричал:
— А вот подходи, налетай, какое хочешь выбирай! Земляничное, клубничное, сливочное, без обману мороженое!
Озеро Щир — большое, лежит оно широким разливом, плавать тут привольно, много простора.
Лера пока остался в городе. С Борисом один Олег, а это, конечно, не то. У Олега свой интерес. Едва на танцплощадке начнёт играть духовой оркестр, он — там. Уже его ждут девочки и. особенно нетерпеливо Катя Сливкина, ученица восьмого класса, соседка по даче. Любит танцевать с ней Олег! А как лихо отплясывает он порывистую мазурку! Ну как такого усадить за изучение иероглифов! Он увлекается карикатурами и теперь повсюду ищет для них объекты. Когда Борис приносит газеты, за которыми специально каждое утро по росе ходит на станцию, Олег выхватывает их у него из рук и читает первым. В заметках о зарубежной жизни он ищет темы для своих карикатур.
По Европе уже катятся германские танки, ревут немецкие броневики по французским дорогам, неистовствуют самолёты со свастикой на крыльях. Неужели фашизму не дадут отпора и он утвердится, как в Испании? Но республиканцы сражались, и здорово!
Конечно, у Бориса и Олега будут разные дороги в жизни, но пока их объединяет школа, класс, общие уроки. Когда всё это кончится, Олег пойдёт в Академию художеств; он уже учится рисовать гипс, заставляя себя точно воспроизводить на бумаге головы Геракла и Аполлона, хотя ему часто хочется при этом удлинить богу искусств его великолепный греческий нос. Он знает, что эта свобода придёт потом, пока же надо научиться как следует владеть карандашом. Вот он и учится, учится, преодолевая классическую скуку и собственную непоседливость.
Но именно потому, что Борис так не похож на него, он кажется ему существом совсем особым, и, думая о своей с ним дружбе, Олег вспоминает слова Пушкина из «Евгения Онегина»: « они сошлись: волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень не столь различны меж собой».
Как Олег относится к Борису, к его работе, верит ли в неё? Верит, но по-своему, не так как Лера. Усидчивость не в его характере. Он не может столько времени отдавать рассматриванию в лупу непонятных, похожих один на другой иероглифов.
Борису хочется ближе привлечь Олега к работе. То, что Олег умеет рисовать, может пригодиться для выставки. Ведь это Олег нарисовал каждый отдельный знак «кохау ронго-ронго» на отдельной карточке, потом сгруппировал их: звёзды к звёздам, рыб к рыбам, людей к людям. Ещё Николай Николаевич заметил, что человеческие фигуры на таблицах не одинаковы, они представлены в разных позах, иногда сдвоены. Что это должно означать? Вообще необходимо было выделить изображения и просмотреть их варианты.
— Историей возникновения орнамента я интересовался, — сказал Олег, когда они однажды пришли на озеро. — Первоначально орнамент был рисунком, имел содержание. На иомудских и текинских коврах, например, ковровщицы рассказывали о своей печальной судьбе. Магометанские законы, коран, запрещают реалистические изображения — нельзя создавать подобия созданному богом. Вот почему природа, животные, люди приобретали условные формы. Но в основе всегда было стремление к живому рассказу, к повести об участи мастера.
— А здесь — «кохау ронго-ронго» — уже самое название «говорящее дерево» подтверждает наличие рассказа, чтения вслух, — произнёс Борис. — Это письменность, и мы попытаемся её прочесть Ты мне поможешь?
— Идёт.
— Не надуешь?
— Выкурим трубку мира, — предложил Олег, доставая из кармана брошенных на песок штанов старую, обкуренную трубку своего отца, Владимира Васильевича Клитина, преподававшего в их школе литературу. Он набил её крепким самосадом.
— Не курю, ты знаешь
— А ты не затягивайся, больше для форсу. Табачок знатный! — сказал Олег, и глаза его сверкнули так весело, что Борис не выдержал, улыбнулся, взял зажжённую трубку и, поперхнувшись с непривычки, краснея от своей неловкости, выпустил клуб горького дыма.
Глава VIII
ОЗЕРО И НЕБО
Когда Лера наконец приехал в Струги Красные и поселился на сеновале, приятели решили освоить полинезийский способ плавания. Нет в мире быстрейшего стиля, чем кроль. Он создан людьми, привыкшими к широкой волне Великого океана. Впервые европейцы узнали о нём на олимпиаде 1912 года в Стокгольме, куда его привёз гаваец Дук Кохаманоку, установивший мировой рекорд на сто метров. Это был быстрый и шумный способ плавания. Он сразу понравился, стал популярным; многие спортсмены начали его улучшать, разрабатывать, добиваясь ещё большей скорости.
Теоретически Борис всё это знал, но плавать кролем не умел. Зато Лера хорошо владел этим стилем. Стоило поглядеть на него в такие минуты! Он превращался из ленинградского школьника в настоящего полинезийца, с детства привыкшего к гигантской водной стихии. И Лера
показывал, как вводить в воду правую руку, как она должна начинать скольжение, как отдыхать, как дышать во время рывка.
Окрестные ребята с интересом смотрели на ленинградцев, но сами плавали кто как — кто по-лягушечьи, кто саженками. Вскоре, однако, и среди них нашлись любители кроля. Движение за движением, вместе с Борисом они осваивали новый способ. Так продолжалось недели две. В конце второй Борис вдруг почувствовал себя если не самим Дуком Кохаманоку, то весьма близким его знакомым.
И тогда три приятеля вышли на озёрный простор.
Конечно, озеро Щир — не Великий океан, и волна в нём не та, и даже вода другая, но когда ляжешь на спину и уставишься в небо, может показаться, что ты среди океанской пустыни. А друзья именно этого и хотели. Вода и небо, небо и вода! Английская книга о Миклухо-Маклае, изданная в Сиднее, в Австралии, называется: «Тот, кто путешествовал в одиночку», но друзья путешествовали втроём.
Вдруг неподалёку от себя они услыхали ровные всплески вёсел.
— Здорово, ребята! — раздался знакомый голос.
— Эй, на лодке, — ответил Олег, — кто там?
— Шурка Зазубрин! — сказал Борис. — Ты откуда?
— А мы тут с папаней живём в шалаше на берегу. Чертежи делаем. У нас знаешь сколько рационализаторских предложений! Хорошо живём! Грибов кругом тьма. А вы что делаете?
— В небо смотрим
— Это хорошо, — сказал Шурка. — Небо-то отражается в озере — и вы будто лежите среди облаков. Я так в стихах напишу.
— Пиши прозу, Шурка, — сказал Лера, — а то рифма у тебя может получиться водянистая.
— А я попробую Я слыхал, сколько Борис учился, пока до середины озера доплыл. И я доплыву. А потом доплыву и до техникума. У меня теперь дорога ясная: буду держать
вступительный экзамен Прицепляйтесь к лодке, ребята, я вас немного подбуксирую.
Тихо на озере. Пролетают над водой белые облака. И кажется — всё застыло в неподвижности, и только ритмичный скрип уключин да всплеск поднимаемой вёслами волны нарушают покой этого летнего утра.
— Как поживают обитатели острова Пасхи? — спросил Шурка. — Как ваша выставка?
— А ты помнишь? — вопросом ответил Лера.
— А как же, недавно с папаней всю ночь говорили. Хотели даже к тебе, Борис, зайти. С собой у вас деревяшки?
— Что ты, Шурик! Они в музее. Это народное достояние. Никто их нам не даст, — ответил Борис.
— А фотографии с собой?
— Конечно.
— Большие?
— Да нет, маленькие.
— Ну, я поплыву, — сказал Шурка. — Мы с папаней к вам вечерком наведаемся. Охота ему посмотреть, как первые люди писали.
И лодка ушла. Облако закрыло солнце. Стало прохладно.
— Ребята, — вдруг закричал Борис, — я всё знаю! Скорее на берег! Необходимо увеличить наши фотографии и сопоставить их. Шампольон сравнивал три надписи на
Образец письма «кохау ронго-ронго».
разных языках. У нас одноязычные тексты, но мы тоже должны сравнить их. Не совпадают ли они? А если совпадают, то в какой степени?
— Ты задохнёшься, Борис, — наставительно сказал Лера. — Во время кроля нельзя так волноваться.
Громко бурлит вода под ударами ног. Говорят, полинезийцам, изобретшим кроль, шум был необходим, чтобы отпугивать акул, шныряющих в их тёплых морях. Вот уже видно песчаное дно, вот — берег. Там слышны обычные звуки, кричат ребята, и никому нет дела, что вот только что в воде Борис сделал своё первое научное открытие и сдвинул с мёртвой точки вопрос, застрявший на ней больше чем полстолетия назад.
Мальчики сидят на берегу, и Борис всё ещё под впечатлением пришедшей ему мысли, выжимая трусы, продолжает размышлять вслух:
— А если тексты не целиком совпадают, то, может быть, мы поймём, в чём закономерность этого несовпадения?.. Лера, смотался бы ты сейчас в город за увеличителем! Мы вечером развернули бы фотолабораторию
И вечером при свете красного фонаря они действительно приступили к работе. Однако при сильном увеличении знаки на фотоснимках расплывались, не было необходимой резкости изображения.
— Пока мы не пройдём полный курс фотографии, ничего у нас не выйдет, — отчаявшись, сказал Борис. — Для этого нужно время, а тут
Неожиданно приятелей выручил Шурка Зазубрин. Он, как и обещал на озере, пришёл с отцом. Ну, а дальше всё понятно. У Ивана Ильича, конечно, были золотые руки, он владел секретами многих профессий и не одну из них переменил, прежде чем пришёл в новый таксомоторный парк. Почти в каждом взрослом мужчине продолжает жить мальчик, и вот Иван Ильич увлёкся фотографией не меньше, чем сами потомки Маклая. Зоя Сергеевна звала его к столу, но разве могут сравниться любые, даже самые крепкие, чаи с чудом фотографии, в особенности когда этого чуда ждут от вас четыре пары насторожённых мальчишеских глаз!
Они вышли из сарая, только закончив увеличение табличек. На следующий день Иван Ильич обещал прийти опять. Он был в отпуску, и ребята могли располагать его временем. В эту ночь никому из них не спалось. Все ждали, пока высохнут снимки, чтоб можно было нарезать их по строчкам, наклеить одну под другой и рассмотреть детально, что изображено на «мочалке», что на «ноже».
После ужина, проведя весь день в волнении, они снова сошлись в сарае с ножницами в руках.
— Главное — не спешить, не торопиться, — сказал Иван Ильич, разглядывая фотографии. — Хочу я у вас, Борис, некоторые разъяснения получить. Как они так, эти рапануйцы, здесь писали?
— А это нам, Иван Ильич, выяснить и надо, — ответил Борис, беря толстую книгу. — Описание таблиц оставил Миклухо-Маклай. Вот что он пишет: «Обе стороны досок покрыты этими знаками, которые расположены рядами в длину доски; между строками не находится промежутков. Характеристично также то, что положительно вся поверхность таблиц покрыта этим шрифтом: все выемки, неровности, края показывают вырезанные фигуры. Особенность распределения строк состоит в том, что если захочешь проследить строку, приходится перевернуть всю таблицу, чтобы перейти к следующей (эту особенность легко найти, если обратить внимание на головы фигур). Знаки или фигуры на таблицах вырезаны или выдавлены острым инструментом. Очень многие из фигур представляют животных. Встречаются на таблицах многочисленные повторения той же фигуры, причём та же фигура остаётся неизменною или показывает изменение в положении частей фигуры (или голова повёрнута в другую сторону, или рука, или руки держат что-нибудь и т. д.). Некоторые фигуры соединены по две вместе, реже по три и более. Рассматривая ряды этих знаков, приходим к заключению, что здесь имеешь дело с самою низкою ступенью развития письменности, которую называют идейным шрифтом» Должен сказать, что хотя это и низкая ступень, — заметил Борис, прочитав этот отрывок, — но подняться на неё и теперь довольно трудно. Во всяком случае, до сих пор ещё никому из учёных этого толком не удавалось.
— А ты не дрейфь, — посоветовал Шурка.
Видимо, интерес к тайнам острова Пасхи начинал овладевать и им.
— Попробуем проследить строку, как советует Миклухо-Маклай, — предложил Олег.
— И это не просто, — сказал, поправляя очки, Борис. — Установлено, что таблички читались по методу «бустрофедон». А в переводе это значит: «поворачиваясь, как вол». Чтец вертел табличку в руках, потому что строка была бесконечная и переходила с одной стороны дощечки на другую, как бы наматываясь на неё. Ну, а дощечки не маленькие. Вот ты и вертишь их, как катушку, когда запускаешь змея. Это моё собственное сравнение.
Учёные сравнивают такое чтение с путём вола, пашущего холм снизу вверх, — отсюда и «бустрофедон».
— Действительно, воловья работа, — промолвил Иван Ильич.
— Читать по методу «бустрофедон», конечно, неудобно. Но прежде чем подойти к современному способу письма, человечество должно было пройти и через такой этап. И очень увлекательно поэтому разбираться в том, как люди искали самые простые и удобные способы письма. Произошло эго вовсе не сразу. Вот Миклухо-Маклай говорит: «идейный шрифт». А знаете вы, что это такое?
— Нет, — признался Лера. — Я и не думал, до чего нам просто живётся на свете: берёшь в руки книжку, зажигаешь над головой лампочку, и ты уже не дома, а на фрегате «Паллада», знай только листать страницу за страницей. Никакого тебе бустрофедоиа!
— «Идейный шрифт», или «идейное письмо», — продолжал Борис, — такое, в котором не было ещё точных обозначений не только для каждого звука, но и для слога или, ещё точнее, даже для слова или понятия, как это мы видим в китайской иероглифике. Оно предполагало, что значок определяет собой целый комплекс понятий, идей. Если бы мне нужно было «идейным шрифтом» передать мысль: «Мне нравится этот вечер», я нарисовал бы — именно нарисовал! — скажем, фотографический увеличитель, с которым у меня связано представление именно об этом вечере. Подчёркиваю: у меня, а у другого такого представления нет. И выходит, что «идейным шрифтом» я могу писать только для самого себя или для тех, кто
— очень близок к тебе, — закончил Лера. — Например, как мы, которые знают, что сегодня работали с увеличителем.
— Совершенно верно. Поэтому «идейным шрифтом» пользовались немногие, — сказал Борис, — жрецы, высшее сословие, летописцы.
— Интересно бы, — сказал Олег, — прочи
Он вдруг замолчал, прислушиваясь к принесённым ветром звукам польки — на танцплощадке, видимо, начались танцы.
— Пойдёшь? — с тревогой и ревностью в голосе спросил у него Борис. Он давно ждал этой минуты. — Там тебя Катя Сливкина ждёт
— Завтра с тобой пойду на озеро, — улыбаясь, ответил Олег. — А про Катю ты бы помолчал Я на неё, как на модель, смотрю: портрет её буду писать. Но сейчас мне не до этого А то и на тебя тоже одна такая Маруся найдётся
Борис покраснел.
— Ну, знаешь, — сказал он, — Маруся Ильина для меня и, надеюсь, для всех нас вовсе не бездушная модель! Нельзя даже подумать так о девочке, с которой в одном классе учишься. И я бы не советовал
— А тебя и не спрашивают! Рано тебе ещё мораль читать. Мои отношения с Катей никого не касаются. Это наше личное дело, и бестактно
— Ребята, не надо спорить, — сказал Лера. — Я в городе большой альбом для марок купил. Давайте наклеим туда строчки с разных табличек, как предлагает Борис, и посмотрим, что получится
Так они и сделали: наклеили первую строчку иероглифов с таблички «нож» под первой строчкой с таблички «мочалка». И знаки действительно почти совпали. Это были одни и те же изображения рыб, людей, животных. Знаки письменности острова Пасхи походили только на самих себя и больше ни на что другое. Культура этого письма, видимо, родилась здесь, на острове.
— Теперь будем думать, — сказал Борис. — Лучше на время оставить таблички и заняться выставкой. Пусть с неё начинается наш последний год в школе.
Наутро стол на веранде был заставлен батареей флакончиков с цветной тушью, стаканчиков с окрашенной акварельной краской водой. Листы александрийский и ватманской бумаги начали покрываться картами путешествий.
Олег копировал портреты папуасов, сделанные учёным; рядом с портретами — «таль Маклай» — дом Маклая, знаменитая хижина путешественника неподалёку от папуасской деревни Горенду.
— Ты заметил, Олег, что под каждым портретом Миклухо-Маклай старательно пишет имя того, кого рисует. Для него папуасы не подопытные кролики, не бездушный объект изучения — это его личные знакомые, друзья. Например, Туй, житель Горенду, ближайший сосед, — первый его учитель местного языка. И смотри, сколько страниц посвящено ему в дневнике!
— Нам следовало бы показать это на выставке, — сказал Олег, кончая перерисовывать голову Туя.
— У Николая Николаевича был глубоко человечный подход к туземцам. Другой исследователь написал бы: «Тип папуаса из деревни Горенду». А для Миклухо это не абстрактный тип, а именно Туй.
— Как же сделать, чтобы и ребята это поняли? — спросил Лера.
— Давайте выделим надписи красным шрифтом, — предложил Борис.
— Дело! — согласился Олег.
Они работали. Под их умелыми руками в последние дачные дни вырастал замечательный подарок школе.
Вечера стали длиннее, дни сократились, но приятели даже радовались наступлению августа: больше времени просиживали они на веранде над экспонатами выставки.
Они всё построили так, чтобы можно было получить ответ на вопрос, как проходили школьные и юношеские годы Миклухо-Маклая. Вот он, совсем приготовишка, входит
в класс знаменитой петербургской «Анненшуле» — немецкой школы св. Анны.
Это 1857 год.
В следующем году он переходит во 2-ю Санкт-Петербургскую гимназию. Вот он гимназист, в синем мундире с ясными пуговицами
До шестого класса исправно посещает он свою гимназию, а в шестом, тогда выпускном, классе впервые подходит к зданию на невской набережной, с коридором прямым и длинным, как верста.
Университет!
Но уже в следующем году за участие в студенческих волнениях его исключили из университета без права поступления в другие русские высшие учебные заведения.
После ареста и трёхдневной отсидки в одиночке Петропавловской крепости будущий учёный едет в Германию — слушать лекции в Гейдельберге, в Лейпциге, в Иене. Здесь он встречается с профессором Эрнстом Геккелем, проповедником дарвинизма, и становится его учеником и ассистентом
— Сколько ему было, когда он высадился на Новой Гвинее? — спросил Олег.
— Двадцать пять.
— Значит, через девять лет мы должны сделать нечто подобное. Пожалуй, не успеть — задумчиво произнёс Лера.
— Успеем!
— А Лермонтов в двадцать семь уже умер — сказал Олег.
— Отсюда следует только одно, и с этим я совершенно согласен: надо торопиться, — сказал Борис.
— Можно мне сегодня вечером пойти на танцплощадку? — вдруг спросил Олег. — Так хочется в последний раз
На следующий день они переезжали в город.
— Иди, — коротко сказал Борис, — но только и мы с тобой.
— Ура!
Сначала был вальс, потом фокстрот, потом па-дэс-пань, потом полька, потом мазурка, потом снова па-дэс-пань и снова вальс.
Ни одного танца не пропускал Олег.
На цементный пол танцплощадки падали первые золотые и багряные листья клёна.
Катя Сливкина уже уехала. Олег так и не успел написать её портрет Быть может, в Ленинграде зимой ещё напишет. Завтра Струги Красные покидают все ленинградские школьники, и об этом с тоской думал знакомый инвалид дядя Ваня, тот, что продавал на станции мороженое.
— А вот кому напоследок настоящее, горячее, жареное, земляничное, клубничное!
По пять порций съели они в тот чудесный вечер.
Большие звёзды светили друзьям, когда они в последний раз засыпали на веранде. Утром потомки Маклая собирались сходить на озеро, попрощаться с берегом.
Вода не успела ещё охладиться. Олег быстро разделся. Вот его загоревшее тело мелькнуло с обрыва, вот оно устремилось к омуту.
— Как водичка? — спросили Борис и Лера.
И Олег не ответил им классической шуткой всех купальщиков: «мокрая», а сказал неожиданно серьёзно:
— Ультрамариновая. Как небо
Глава IX
ФЛАГ ПОДНЯТ-ВЫСТАВКА ОТКРЫТА!
Выставку разместили в актовом зале. Развешивать экспонаты помогал Шура Зазубрин, так и не доплывший до техникума, но благополучно перешедший в следующий, восьмой класс.
На выставке были экспонаты, рассказывающие о путешествиях знаменитого русского этнографа Миклухо-Маклая. Тут же на отдельном столике лежал карбюратор со специальным приспособлением для перехода на смеси различного удельного веса, изобретённый самим Шурой Зазубриным.
Успех выставка имела такой, о котором друзья и не мечтали. О ней написали даже в вечерней «Красной газете»:
«В 147-й школе открыта выставка, посвящённая выдающемуся русскому этнографу Николаю Николаевичу Миклухо-Маклаю. Самое интересное, что все экспонаты — карты, портреты папуасов, рисунок хижины путешественника — выполнены учениками десятого класса Борисом Кудрявцевым, Олегом Клитиным и Валерием Чернушковым. Им же принадлежит план экспозиции материалов».
Эту заметку Борис вырезал из газеты и наклеил в толстую общую тетрадь в чёрной коленкоровой обложке, куда с некоторых пор заносил свои мысли и соображения, относящиеся к характеру письменности «кохау ронго-ронго». Там же были выписки из книг Яуссена и миссис Раутледж, из дневников Николая Николаевича, из работы советского учёного А. Б. Пиотровского, написавшего статью «Две таблички с острова Пасхи».
После этих заметок в тетради шёл пробел, отделённый от других страниц загнутым листком, а дальше начиналось святое святых, тайное тайных — первая фраза его будущей статьи «Письменность острова Пасхи». Эту фразу он обдумывал всю дорогу от Струг Красных до Ленинграда, и звучала она для него и музыкально и таинственно. Часто, идя в школу, Борис останавливался и повторял её про себя или, не стесняясь случайных прохожих, громко произносил вслух: «Много имеется неясного и спорного в истории племён, населяющих острова Тихого океана»
Действительно, всё, что касалось истории тихоокеан ских племён, составляло тайну, для европейцев, проникших в эти воды впервые сравнительно недавно.
И в особенности загадочным был остров Пасхи с его каменными истуканами и письменностью. Было совершенно ясно, что не теперешние рапануйцы создали это. Вулканический остров мог подвергнуться действию подземных
сил, вследствие катастрофы могла опуститься часть суши, и тот небольшой кусок скалистой земли, который мы наблюдаем сегодня, — остаток материка, какого-то огромного пространства, где, быть может, обитал могущественный и культурный народ.
Фантазировать на эту тему было увлекательно, но Борис не собирался писать фантастический роман, он не беллетрист, и каждый факт, раньше чем попадёт в его статью, будет-всесторонне проверен.
Все книги, в которых упоминалось слово «пасха», были Борисом если не прочтены, то просмотрены. Несколько раз ему в библиотеке даже приносили книги не об острове, а о празднике пасхи, хотя сотрудники научного зала отлично знали, над чем работает их молодой читатель.
— Как тайны? Раскрываются? — улыбаясь, спрашивала библиотекарша, принося очередную стопку книг.
— Не так это просто, на то они и тайны, — отвечал Борис, также улыбаясь, и шёл к своему столику в уголке.
Он продолжал заниматься таблицами. И вскоре у него была готова уже вторая фраза будущей статьи. Пожалуй, она получилась не хуже первой, потому что логически развивала и расширяла её: «Едва ли не самой спорной и неясной является история туземцев острова Пасхи, или, как его называют таитяне, Рапа-нуи».
Олегу не понравилось слово «является»:
— В нём есть что-то от протокола, что-то канцелярское.
— Ничего подобного, — сказал Лера. — Все научные статьи обычно пишутся так. Борис — учёный, он не должен писать, как поэт. Пусть будет «является», пусть «как его называют»! Прекрасно!
Мнения разделились, и Борис оставил слово «являет-
ся», тем более что оно, по его представлению, придавало статье вес, серьёзность.
В классе его единогласно, по предложению Олега, выбрали комсоргом. Доводы в пользу этого были те же, что и в прошлом году, те же, что во всё время пребывания Бориса в школе: отличная учёба, зрелость, политическая грамотность и неплохие организаторские способности.
Увлечение иероглификой острова Пасхи овладело всей 147-й школой — на партах начали вырезать фигурки людей, рыб, животных. И даже на парте Маруси Ильиной обнаружили иероглиф, в котором при очень детальном рассмотрении можно было узнать сердце, пронзённое стрелой.
Пионерские и комсомольские организаторы вынуждены были напоминать, что остров Пасхи далеко и что парты представляют собой социалистическую собственность.
Инструктор райкома Ивашин после осмотра выставки сказал Борису:
— Будь спокоен, Кудрявцев! Я приглашу сюда секретарей: пусть посмотрят, полюбуются, что делается у нас. в школах, на что наши ребята способны!
Слово он своё сдержал и вскоре действительно приехал снова вместе с первым секретарём. Тот внимательно осмотрел выставку в актовом зале и попросил вызвать авторов.
— Рад с вами познакомиться, друзья, — серьёзно сказал он. — Вы это замечательно придумали, а ещё лучше выполнили. Но, пожалуй, следует продолжить ваше начинание.
— Как? — спросил Олег.
— Очень просто, — ответил секретарь: — сделать такую же выставку, скажем, о Пржевальском. У него ведь тоже немало интересного и полезного для ребят.
— Не лучше ли, если это организует другая школа? — спросил Борис краснея.
— Дельная мысль, — сказал секретарь, — очень дельная, и зря вы так покраснели, товарищ. Но это не беда.
— У меня тоже есть предложение! — оживлённо сказал Олег. — Мне кажется, что мы можем вызвать эту другую школу на соревнование.
— Дело, дело! — промолвил инструктор райкома.
— А я знаю, какая это будет школа! — продолжал, вставляя и своё слово, Лера. — Пусть это будет сто тридцатая Там Катя Сливкина учится, — лукаво улыбаясь, шепнул он Борису и посмотрел на Олега.
— Ну что ж, пускай будет сто тридцатая Организационные формы мы выработаем после. Может быть, вам как авторам идеи даже придётся выступить со статьёй в «Смене»: «Об одном опыте организации школьной выставки, посвящённой великому русскому путешественнику».
С тех пор как Борис начал толстую тетрадь в коленкоровом переплёте, ему не терпелось продолжать работать над статьёй о письменности — ей, и только ей, он решил отдавать каждую свободную от школьных занятий минуту.
Из городского Дворца пионеров на выставку пришли работники секции «Кругосветные путешествия», чтобы перенять опыт; соседние школы проводили здесь экскурсии. О выставке заговорили и в районном и в городском отделах народного образования, и всем хотелось лично от самих авторов узнать, как им удалось в шесть рук построить этот музей.
Разговоры эти, а их было множество, отвлекали Бориса от того, что он считал для себя главным, и он без особого энтузиазма водил теперь по выставке отнимавших у него время посетителей.
У Олега тоже не было охоты отвечать на бесчисленные вопросы экскурсантов. Десятый класс — не поле, его просто не перейдёшь, здесь всё трудно: и литература, и математика, с которой, кстати сказать, у него были старые счёты
Олег был занят, и Борис снова обратился к Лере. Он знал, что всегда найдёт у него отклик, если только речь зайдёт о знаках «кохау ронго-ронго».
В самое последнее время ему удалось обнаружить, что на обеих дощечках Музея антропологии и этнографии — ножеобразной и бумерангообразной — группы знаков одинаковой формы следуют в одном и том же порядке.
— Я ещё не знаю, что это означает, но до сих пор об этом не было упомянуто в литературе.
— Ты сделал второе научное открытие, — сказал Лера.
Ему так хотелось, чтобы Борис и в самом деле совершил открытие, что он с охотой принимал желаемое за сущее. Ведь это было бы на самом деле здорово: школьник увидел то, чего не заметили учёные! Подумать, сколько седовласых профессоров держали в руках таблички Маклая, сколько раз рассматривали йхф лупу, но победили молодые, зоркие глаза! И принадлежат эти снайперские, хотя и очень близорукие, глаза его другу Борису Кудрявцеву. Всё это невероятно, но правда; правда, от которой хорошо до головокружения, до того, что хочется броситься Борьке на шею. Он спрашивает:
— Дальше что? Что дальше?
— Успокойся. Пока ещё ничего. Академик Павлов сказал: «Большого напряжения и великой страсти требует наука от человека». Сейчас я должен напрячься, мне необходимо сделать вывод из наблюдённого факта. Для этого нужна великая страсть.
— А она у тебя есть?
— Не уверен, но думаю
Никому другому не ответил бы он так, но тут был не просто друг, тут — его второе «я», и скромничать или лгать ему он не имел права.
; — Я хочу спросить тебя может быть, это глупый вопрос Как делают научные выводы? Как в учебнике геометрии: «Что дано и что требуется доказать», или как-нибудь иначе? — снова спросил Лера.
— Нет, не так. Там ты доказываешь то, что давно доказано Эвклидом. Здесь ты сам, как Эвклид, сам себе первоисточник.
— А чего тебе для этого не хватает?
— Это я уже знаю: мне нужно рассмотреть порядок сочетания знаков.
— И тогда?
— Тогда, если окажется то, что я предполагаю, я выведу некую закономерность.
Это были чудесные слова — «некая закономерность»! Как научно они звучат в устах Бориса!
Мальчики вышли на Невский, но Лера почти не замечал красоты открывшегося проспекта. Он вообще шагал сейчас не по земле — его несли рядом с Борисом сказочные духи науки, и он прислушивался к голосу друга, боясь пропустить хотя бы одно его слово.
Нет, не какие-то чужие, посторонние люди будут писать о Кудрявцеве. Он напишет о нём сам, и это прозвучит, как поэма, потому что можно ли презренной прозой говорить о таком человеке, который выводит «некую закономерность» и вот рядом с тобой пересекает Литейный, направляясь в научный зал Публичной библиотеки, а ты только провожаешь его туда! Лера не завидовал ему, он был упоён успехом Бориса и не чувствовал даже, что большая часть этого успеха существует пока лишь в его, Лерином воображении.
— А когда ты будешь её выводить, эту закономерность?
— Я сказал, что когда получится то, что я предполагаю.
— А чего ты хочешь?
— Чтобы раскрылись все тай рул, — смеясь, сказал Борис. — Это, конечно, в общем, а в частности
— Да-да, самое интересное: что в частности?
— В частности, мы поговорим с тобой в воскресенье, приходи. До свиданья!
И он скрылся за дверью научного зала.
Глава X
"ОН", "ОНА" "ЭХА", "ЭТОТ"
Борис, хотя он и не курил, прошёл в курительную. Сегодня ему нечего было делать в библиотеке, он пришёл просто потому, что любил бывать здесь. Ему нравились толстые красные ковровые дорожки, заглушающие шаги и создающие совсем особенную научную тишину. Тут было хорошо и удобно думать Думать и в начале работы и на каждом её переломном моменте.
А сейчас в его исканиях наступил именно такой этап.
«Большого напряжения и великой страсти требует наука от человека», — сказал гениальный русский физиолог. Он точно знал меру страсти и меру напряжения: страсть должна быть великая, напряжение — большое.
Если группы значков, одинаковых по форме, следуют в одинаковом порядке как на одной, так и на другой таблице, то здесь если не один и тот же текст, то, во всяком случае, рассказ об одном и том же событии. Ведь если мы поставим рыбу в одном месте и рыбу в другом — значит,
в обоих случаях мы хотели изобразить именно рыбу, или говорить о рыбе, или петь о рыбных промыслах, о морях, о реках, об озёрах — обо всём, что имеет отношение к тому, что мы только что нарисовали. И выражаем мы это одинаковым знаком: рыба здесь, рыба там.
Возможно, что тексты параллельны на обеих таблицах, но сами таблицы не одинаковы ни по форме, ни по величине. Ряды знаков на них тоже не совсем одинаковы. Однако, если мы установили, что рыба была здесь и рыба была там, мы можем восстановить текст, сличив таблицы знак за знаком, строку за строкой. Кроме того, если действительно перед нами параллельный текст — значит, содержание его имело большое значение для тех, кто писал. Ведь не зря с такой тщательностью покрывали свои доски знаками учёные-рапануйцы. О чём же говорил этот текст?
Борис прошёл в зал, сел за столик и записал в чёрной тетради:
«Внимательное изучение формы начертания знаков показало, что некоторые группы иероглифов повторяются на обеих таблицах. Более того: сличение показало их параллельность. Всё это весьма удивляет: ведь таблицы уже подвергались изучению, слепки их имеются и за границей, и такой факт параллельности текста не мог, казалось бы, остаться незамеченным Но сомнений быть не может: тексты явно параллельны!»
Это на двух табличках Музея антропологии и этнографии, а всего в мире, после сожжения табличек католическими миссионерами, осталось штук двадцать — двадцать пять, и наибольшее число их хранится в Бельгии, в музее Брэн ле Конт, близ Брюсселя, — там девять памятников; ещё в Сант-Яго — две таблицы. И вдруг все они содержат один или примерно один и тот же текст?
К сожалению, до сих пор таблички толком, по-научному ещё не изданы. Нельзя по уменьшенным, очень приблизительным фотографиям судить о каждом знаке. А если хочешь установить соответствие текста, надо сличать именно каждый знак.
Впрочем, пока ещё нет необходимости уходить так далеко. Останемся пока в Ленинграде, в Музее Академии наук, и мобилизуем на работу всех трёх потомков Маклая; самому очень трудно сличать: ведь даже цитаты в библиотеке считывают два сотрудника.
В ближайшее воскресенье друзья собрались в полном составе в доме по Третьей Советской.
Олег пришёл сияющий. Ему за эту неделю удалось победить Максимилиана Ферапонтовича: старинная тройка превратилась в новенькую четвёрку. Она стала бы пятёркой, если бы у него было побольше бойкости, если бы он отвечал на вопросы не запинаясь. И ещё наверняка помешало то, что он не мог во время уроков остановить свою руку и рисовал. Он рисовал Борьку Кудрявцева, самого Максимилиана Ферапонтовича. Стоило только карандашу или перу прикоснуться к бумаге, достаточно было провести линию — как к ней немедленно присоединялась другая, а там, глядишь, «точка, точка, запятая — вышла рожица кривая»! Но бороться с этим не было ни охоты, ни сил, тем более что таким образом рождались целые серии карикатурных и очень метких портретов для стенгазеты, над которыми потом немало смеялись ребята.
Лера все эти дни был под впечатлением разговора с Борисом, который сознательно избегал встречи с ним до воскресенья.
И вот наконец они сошлись. Их головы склонились над увеличенными фотографиями таблиц. Борис водил лупой, как указкой, по ровным рядам «кохау ронго-ронго».
— Похож? — спрашивал он, показывая иероглиф, напоминающий человека.
— Он самый, — говорил Лера.
— Человек, и никто другой, — говорил Олег.
— Я тоже так думаю, что человек, и вижу его на двух таблицах, но мне этого мало. Я хочу идти дальше и осмеливаюсь спросить: что выражает этот знак? Отвечаю: это «он», «она».
— Может быть, «эта», «этот» — сказал Олег.
— Ура! — прошептал Лера.
— Чему ты радуешься? — одновременно воскликнули оба.
— Ну как же! Слова появились слова: «он», «она», «эта», «этот». Знаки превратились в слова так же, как это было во время первого чтения Тепано Яус-сена, — ответил, выдавая своё сокровенное желание, Лера.
— Друг мой, у тебя нет научной объективности, — произнёс Борис. Но, пожалуй, именно это было ему сейчас особенно приятно.
До вечера работало научное общество потомков Маклая, сличая знаки на обеих таблицах. Напрасно Зоя Сергеевна звала мальчиков обедать, напрасно мимо окна трижды прошла Маруся Ильина. Они забыли о том, что собирались просидеть над письменами не больше двух часов и отправиться на острова, пройтись по первому снежку на лыжах. Им сейчас было не до того — наука в эти часы стала их общей страстью, и в радостном возбуждении они не чувствовали даже большого напряжения, которого она от них потребовала.
— Борис, я зашился! — вдруг сказал Олег. — Больше не могу. Прошу объявить перекур.
— А я, — робко заметил Лера, — советую вообще на сегодня кончить. Мне теперь повсюду эти знаки видятся. Но что скажет Борис?
— Я думаю, что надо ещё посидеть. В такой вот момент, когда наступает последняя усталость, у спортсменов, говорят, открывается «второе дыхание». Посидим ещё несколько минут. Подождём «второго дыхания», а там и усталость кончится.
— Я предлагаю другое, — ответил Лера. — Сделаем перерыв, а потом попробуем подставить знаки к фразе Тепано Яуссена: «Он спустился с неба на землю, на обе земли Хоатуматуа».
— Друзья, — сказал Борис, — мы доказали, что птица, которая здесь изображена, не просто птица, и человек — не просто человек. Это именно «он», «она», «эта», «этот» Мы начинаем понимать знаки.
Он поднял голову и посмотрел на ребят: устали! Борис представлял себе, насколько не в характере Олега просидеть целый день на месте, рассматривая какие-то закорючки, вместо того чтобы, как все люди, пользоваться воскресным отдыхом. Велика сила науки, но и она имеет предел.
— Я хочу только подвести итог сделанному нами и задержу вас ещё немного, — сказал Борис, — чтобы сообщить, что же мы установили сегодня. Должен сказать, что в результате нашей работы доказано, и доказано, мне кажется, совершенно бесспорно, что факт параллельности текстов на обеих таблицах существует, но, по-видимому, полного соответствия нет. Смотрите: на одной таблице семьсот двадцать восемь знаков, на другой их тысяча сто семьдесят один — значит, четырёхсот сорока трёх не хватает на бумеранге по сравнению с ножом
— И всё-таки текст одной таблицы, — перебил его Лера, — параллелен тексту другой, потому что знаки и там
и тут в большинстве своём совпадают по форме. И не только это: знаки следуют в одном и том же порядке, ряды их последовательны. Ясно, всё ясно!
— Ты очень точно нашёл это слово, Борис, — параллельность, — сказал Олег. — Тексты именно параллельны, а не идентичны. Ведь таблички совсем не одинаковые по форме и по размеру. Кроме того, мы не знаем, какими они были первоначально. В руки к нам они попали, уже прожив большую жизнь, побродив по свету. Быть может, во время этих скитаний куски от них отломились
Борис почувствовал, что у его помощников сейчас такое же нетерпение, какое возникает при чтении книги, когда приближается развязка. Сам он, однако, во многом ещё сомневался. Он знал, что это не конец, а лишь начало работы, что проведены только первые изыскания.
Факт параллельности текстов — это только возможность правильно изучать ряды значков «кохау», но не больше. Однако, может быть, именно здесь прячется тот ключ, посредством которого удастся проникнуть в секреты рапануйцев, умершие со стариком Томеникой. А ради этого стоило не походить на лыжах в воскресенье! Даже с Марусей Ильиной
Вот почему, отпустив товарищей и наскоро пообедав, Борис вернулся к табличкам.
Далёкий, затерянный в океане остров интересовал сейчас юношу больше всего на свете.
Он чувствовал, что к нему протянуты руки целого племени, растоптанного безжалостными колонизаторами, уничтожившими самобытную и, должно быть, прекрасную культуру, он, который с такой бережливостью относится к двум уцелевшим табличкам, ясно видел зажжённые католическим мракобесом костры, где сгорали древние письмена. Совсем недавно такие же костры из книг пылали в Лейпциге, Иене, в Гейдельберге, в университетских городах, в которых когда-то, давным-давно, в прошлом веке, слушал лекции просвещеннейших профессоров молодой студент из России Николай Николаевич Миклухо-Маклай. И свою работу сейчас, своё стремление понять и изучить малейшую чёрточку, выцарапанную акульим зубом, Борис считал своим ответом колонизаторам, попам и зажигателям костров, считал её продолжением работы Маклая на Новой Гвинее.
Миклухо-Маклай отличался от других европейцев тем, что не пришёл к папуасам под именем миссионера, прикрывая этим словом служение колониальной политике; он принёс людям каменного века стальной нож, топор, гвозди, и в папуасский язык, по свидетельству позднейших путешественников, вошли русские слова «таппор», «ножа». И к каждому такому слову, в знак благодарности, неизменно прибавлялось ещё одно слово — «Маклай»: «таппор-маклай», «ножа-маклай».
Не злыми и коварными нашёл папуасов Николай Николаевич Миклухо-Маклай. И было так потому, что он *не зажигал на их острове костров, не осквернял святынь, держал себя с людьми по-людски
И что удивительного в том, что русский комсомолец через сто лет занялся историей, изучая примерно те же места, где началась и развернулась слава великого русского гуманиста!
Глава XI
ПИСЬМЕННОСТЬ ОСТРОВА ПАСХИ
Борис мечтал о расширении работы. Он знал, что в Чили, в Этнологическом музее, хранятся две дощечки. Быть может, и они параллельны нашим. В книге Томсона «Остров Пасхи» он нашёл воспроизведение этих памятников.
И снова началась работа по сличению, и снова в доме по Третьей Советской улице заседал молодой научный триумвират. Теперь Борис уже действительно имел опыт. Ему не приходилось блуждать, раскладывать бессмысленные пасьянсы из карточек с иероглифами: он точно знал, чего хотел и что искал.
Параллельность!
Она доказала бы, что мы имеем дело с разработкой одного и того же древнейшего текста. Сравнивая форму
начертания отдельных знаков, мы получаем возможность установить основной иероглиф и проследить его варианты, а это подводит нас к системе письменности, и мы уже начинаем у себя в руках ощущать ключ к пониманию таинственных письмен.
Каждая книга, даже рукопись, напечатанная на машинке, имеет тираж. Каков был тираж рапануйских табличек? Какие варианты вносил от себя в текст переписчик, и был ли он только переписчиком, или всякий раз это — поэт, свободно создающий новые и новые сказания? Одновременно ли выцарапывался текст на всех известных Борису «говорящих деревьях»?
Так сделанное Борисом открытие поставило перед ним много новых вопросов, и если ему вначале показалось, что увиденный им луч освещает тайну, то теперь он понял, что луч этот не столько светит, сколько ослепляет исследователя. Однако это не означало отступления. Наоборот, чем больше неясностей вставало на его пути, тем интереснее казалась ему дорога к решению. И об этом он не замедлил сказать своим друзьям.
— А если бы здесь всё было гладко, чорта с два ты заставил бы меня заниматься всей этой мурой! — ответил Олег.
— Он прав, как потомок Миклухо-Маклая, — подтвердил Лера.
— Я тебе скажу, — продолжал Олег, — в чём для меня прелесть твоего острова Пасхи: в таинственности, о которой я уже однажды говорил вам.
— А наука? — спросил Лера.
— Зачем мне наука? — улыбаясь, вопросом ответил Олег. — Я — художник. Кончу школу, сожгу учебники и больше никогда не буду думать о многочленах.
— Ты неправ. И мало сказать: неправ! — торжественно произнёс Лера. — Наука и для художника имеет большое значение. Вспомни Ломоносова, Леонардо да Винчи
— Дело не только в одной науке, которая, конечно, имеет большое значение для художника, — серьёзно сказал Борис, — и, если хочешь знать, Олег, даже и не в одном острове Пасхи дело. Существует на свете империализм как высшая стадия капитализма. И есть на свете колониальная политика, ты это знаешь. Жил на острове Тасмания, неподалёку от Австралии, народ. Колонизаторы истребили его раньше, чем этнографы успели изучить. Туземное население вымирало с катастрофической быстротой. Умерла последняя тасманийка, королева Трукапини, от всего народа остались только черепа для антропологических изысканий. Сегодня об уничтожении народов мечтает Гитлер. Империализму нужно, всегда нужно очень большое и чужое «жизненное пространство». И художник не имеет права об этом забывать. На острове Пасхи, так же как в Тасмании, вымерло почти всё население. То же произошло в Африке с бушменами, лесными людьми. Я считаю своим долгом комсомольца
— Понимаю, — сказал Олег: — изучать то, что осталось от истреблённых империализмом народов. Об этом я и не подумал.
— А надо бы! — язвительно сказал Лера.
— Тебе слова не давалось! Молчал бы со своим Леонардо да Винчи! — быстро ответил Олег, поворачиваясь всем корпусом к Лере.
— Он был великий гений своего времени, и в особенности тебе ему поклоняться надо, художник! — воскликнул Лера. — Но дело, конечно, не в нём.
— Безусловно, не в нём, — сказал Борис. — Предлагаю не ссориться, мы уже не мальчики. Всё ясно. — И, улыбаясь, он продолжал: — Ветер наполняет наши паруса, мы отправляемся под скрип винтов в Сант-Яго, друзья. Там две таблицы, и сегодня мы их обследуем.
— Обе сегодня нам не успеть, — сказал Лера, помнивший, с какой тщательностью они работали в первый раз.
— Не будем терять времени, — сказал Олег, — в поход!
И снова, как и в первое воскресенье, Борис, показывая очередной знак двух таблиц Музея антропологии и этнографии и Чилийского этнологического музея, спрашивал:
— Похож?
— Он самый, — говорил Олег.
— Человек, и никто другой, — говорил Лера.
Так они сверяли знак за знаком, иероглиф за иероглифом на трёх таблицах: безусловно, большая из двух таблиц музея в Сант-Яго содержит текст, параллельный нашим. Таким образом, отыскана третья дощечка со сходным текстом. Чем их окажется больше, тем легче будет составить наиболее полный свод, в котором можно восстановить пропуски, встречающиеся на каждом памятнике в отдельности.
Но где искать новые таблицы? Известно, что они рассеяны по всему миру, хранятся в разных музеях и что приблизительное их количество равно двадцати — двадцати пяти.
Борис работает в библиотеке музея, в его фондах, в библиотеке иностранной литературы. Вот когда ему пригодилось знание немецкого, английского и французского языков! Опять и опять перелистывает он книги Яуссена, миссис Раутледж, Томсона, пока в одной из библиотек ему не выдают вышедшую недавно в Париже книгу доктора Стефана Шовё. В ней воспроизведена таблица, известная под туземным названием «тахуа» (что в переводе означает «весло»), находящаяся в музее Брэн ле Конт.
И снова собираются друзья. И ©пять идёт между юношами отрывистый, короткий обмен репликами. И снова, когда после многочасового сидения над письменами Олег требует перекура, все трое свидетельствуют параллельность, но уже не трёх, а четырёх текстов.
Таково было заключение потомков Маклая, и Борис записал его в свою заветную тетрадь:
«Мы не утверждаем, что таблица «тахуа» читается так же, как читаются тексты первой таблицы, хранящейся в Музее антропологии и этнографии, и второй, оттуда же, равно как и той, что в настоящее время находится в Чили, в Сант-Яго, так как каждый из текстов имеет вставки и добавления, характерные для него одного. Они не являются копиями, а представляют собой последовательную разработку древнейшего варианта»
Утром он перечёл эти строки; ему стало легко и радостно, как будто уже наступила весна. Он даже снял пальто, подставляя грудь тёплому ветру с моря.
Так он пошёл к профессору. Пётр Петрович встал из-за стола навстречу ему, внимательно посмотрел на юношу, пригласил садиться. И пока Борис говорил, профессор в такт кивал головой, улыбался. Чувствовалось, что рассказ Бориса интересует его самым живейшим образом.
— Но, милый, — сказал он, когда Борис заговорил об установленной им параллельности текстов, — это начало большой работы, большого учёного труда! Исследование непременно нужно продолжить и завершить. Да-да, завершить И сделать это, как я понимаю, в ваших силах. У вас есть талант, молодой человек, и талант недюжинный! Возможно, говорить вам это в лицо в ваши годы непедагогично, и я простите старика проговорился. Во всяком случае, примите поздравления. И непременно пишите статью. Не дожидаясь конечных результатов, сейчас же, немедленно! Вы — взрослый, и говорить с вами надо, как со взрослым Своим открытием вы дали новый способ изучения данной письменности. Вместо того чтобы, как все мы, рассматривать каждый знак в отдельности и гадать, что он может означать, вы взяли всю таблицу в целом. Весь комплекс. До сих пор это никому в голову не приходило. И тут, конечно, оказалось, что тексты параллельны. Здесь целиком ваш приоритет. Да-да, бесспорно! Мы сравнивали письмена острова Пасхи с протоиндийскими, с примитивными пиктограммами1 Соломоновых островов, с чем угодно, но только не одну табличку с другой такой же. А между тем, повидимому, — и вы это доказываете, — разгадка письменности лежит в ней самой. Здесь не надо прибегать к теории заимствования
Он замолчал, посмотрел на Бориса и продолжал:
— Мне кажется, что вам, как это часто случается, даже трудно понять, как много вы сделали. Дело ваше — дело советское. Ведь в основе его лежит вера в талант, в народный гений рапануйцев, которым империалисты всех стран отказывают в способности мыслить, чувствовать, творить. Я сказал бы, что вы сделали большое комсомольское дело. Поздравляю вас!
Борис не помнил, как спускался по лестнице, как проходил мимо стендов с экспонатами коллекций Миклухо-Маклая Всё теперь здесь было ему родным и близким
1 Пиктограмма — образный рисунок древних, передающий какое-либо событие.
Конечно, он, по совету профессора, напишет эту статью. Он начнёт с того, как случайно, благодаря этнографической любознательности Николая Николаевича Миклухо-Маклая, две таблички с текстами далёкого острова Пасхи попали к нам в Ленинград.
Какое негодование испытывал Борис при мысли о том, что большое количество табличек всё ещё скрыто от пытливого взгляда учёных в архивах Ватикана, что до сих пор закрыт доступ к бесценным записям епископа Тепано Яуссена, из которых лишь первые четыре строки известны мировой науке:
«Он спустился с неба на землю, на обе земли Хоатуматуа, он возвратился к основанию неба, на обе земли старшего сына, на обе земли, на свою землю. Он приплыл на корабле своего младшего сына, своего лучшего сына. Он пришёл на землю с неба »
Что следовало дальше, станет известным,' когда откроются подвалы Ватикана, когда всё человечество поймёт, что папа римский не наместник милосердного Христа на земле, а служитель самого злобного из дьяволов, имя которому — империализм.
Борис спускается сейчас по лестнице, проходит мимо выставленных в музее фигур яванцев и ненцев, ойротов и индейцев. Впереди у него ещё много работы.
Давно ли он впервые встретился с профессором, давно ли робко переступил порог «дома Маклая» на Университетской набережной и шагал вместе с Лерой и Олегом по обдуваемой морским ветром улице, читал надписи на розовом граните у подножия египетских сфинксов!
Давно, безусловно давно, хотя происходило это только в прошлом году, в девятом классе.
Но тогда они были ещё детьми, не знавшими точной цели в жизни. А сегодня, сейчас в школе выпускные экзамены. И даже в это горячее для каждого школьника время Борис продолжает свою статью: надо, чтобы её окончание совпало с окончанием школы.
— Ты прочтёшь о своём открытии на выпускном вечере, — сказала ему Маруся Ильина.
И всё происходит именно так: Борис рассказывает об острове Пасхи, о параллельности текстов, о выделении знаков и их вариантов, он говорит о юности и комсомоле, об учителях, о товарищах и о научном обществе «Потомки Маклая».
В руках у Бориса рукопись готовой статьи. Он получил её утром от машинистки. Там есть такие строки:
«Европейцы не только не уберегли от разрушения множество памятников туземной культуры, но и сами способствовали их уничтожению. Так, с приходом миссионеров, насаждавших христианство на островах Тихого океана, культура письма на острове Пасхи исчезла бесследно.
Особо отличился католический миссионер Эжен Эйро, открывший письменность рапануйцев: он сжёг из таблиц всё, что смог, так что этнографы располагают ныне лишь случайно сохранившимися после этого аутодафе экземплярами».
Когда Борис прочёл эти строки в школьном актовом зале, все задвигались и сдержанно зашумели.
— До нас дошло около двадцати таблиц — сказал Борис.
— Всё-таки двадцать у нас осталось! — воскликнул Шурка Зазубрин вскакивая.
Борис продолжал:
— Исчезли навсегда традиции письма, за которыми укоренился эпитет «загадочного», и вот уже более семидесяти лет (считая с 1868 года, когда таитянский епископ Тепано Яуссен, первый заинтересовавшийся чтением таблиц, получил обломок одной из них) учёные мира не только не могут прочесть того, что написано на «таинственных кусках дерева», но и выдвигают противоречивые гипотезы.
Некоторые из учёных совершенно отрицают существование письма островитян, видя в таблицах «кохау» лишь орнаментированные куски дерева, предназначенные для штамповки туземной материи из луба — тапы. Другие же считают эти таблицы следами высокоразвитой культуры.
Борис глянул в зал. Там, в третьем ряду, сидела Маруся Ильина. Несколько дней назад после экзамена по физике, гуляя по набережной Невы, Борис рассказывал ей об этом. Тогда Маруся сказала ему, что и она думает точно так же.
— - Нет недостатка и в попытках сопоставления знаков «кохау» с какими-либо другими, — продолжал Борис. — Сопоставляют их и с примитивными пиктограммами Соломоновых островов и островов Фиджи, а в последнее время ставят в связь и со знаками на глиняных табличках, найденных при раскопках памятников древней культуры долины Инда (раскопки Джона Маршала в Мохенджо-Даро). Это последнее сопоставление (Хевеши) является наименее правдоподобным, ибо культура Мохенджо-Даро существовала за тысячелетия до развития культуры на острове Пасхи, а форма начертания знаков из долины Инда значительно более совершенна, чем знаки «кохау».
Как уже упомянуто, первым по времени занявшимся изучением «кохау» был Тепано Яуссен, отыскавший островитянина Меторо Танауре, ученика знатоков священного письма Нгаху, Реймиро и Паовса.
Уже в шестидесятых годах Яуссен не застал учителей, писавших священные тексты: было слишком
поздно
К молодому исследователю подходит инструктор райкома и жмёт ему руку, как взрослому.
Это большой и необыкновенный день для Бориса Кудрявцева. Только что он окончил школу, знает иностранные языки и сегодня вплотную подошёл к книге, для прочтения которой требовалась новая грамотность. Опять ему предстояло учиться читать. Все его знания, весь опыт нужен был ему для того, чтобы знаки «кохау» превратились в слова и рассказали то же, что они говорили старику Томенике, Меторо Танауре, Нгаху, Реймиро и Паовсу — учёным знатокам ронго-ронго. Снова он учился читать. Теперь перед ним книга погибшего народа.
Переполненный впечатлениями от всего того, что было на выпускном вечере, от того, о чём он думал и что чувствовал, он долго не может заснуть в этот вечер.
И трудно сказать, снится ли ему океан — широкие непенные волны стучат о каменный вулканический берег — или он видит всё это наяву. Исполинские фигуры великанов высятся там
«Где это я?» — думает Борис.
«На Рапа-нуи, на Рапа-нуи, на острове Пасхи, — отвечает ему прибой. — Ты пришёл сюда, ты пришёл к основанию неба »
Истреблённые тасманийцы, бушмены, которых на земле осталось совсем мало, рапануйцы протягивают к нему
руки, и поют «говорящие деревья», они поют вместе с гулом прибоя. И сам Борис, как учёный-рапануец, как Мето-ро Танауре, вместе с ними начинает петь. И слушают его и Вася Алексеев, и епископ Яуссен, и слушает его Николай Николаевич. Он сидит под сенью «говорящих деревьев»; в руках у него не револьвер, а записная книжка и карандаш. Вот он поднимается навстречу Борису и обнимает его. А Борис всё поёт, поёт вековечную песнь «говорящего дерева»: «Возвратился к основанию неба на свою землю »
И все порабощённые народы в Азии и Европе, в Африке и Америке — яванцы, малайцы, негры, индейцы, эфиопы — вторят ему
Будит его Зоя Сергеевна. Вчера она тоже была в школе на выпускном вечере и слышала выступление Бориса. Теперь далёкий остров стал и для неё не таким далёким. Она понимает, что это увлечение Бориса уже не пройдёт. Быть может, здесь начало его будущей профессии, начало всей его взрослой жизни. Она оглядывает комнату и видит, что в ней почти ничего не переменилось: этажерка стоит на месте, так же неплотно закрывается дверца книжного шкафа, и только Борис уже другой. Совсем взрослый.
— Тебе письмо, — говорит она, протягивая голубой конверт. — Завтрак я приготовила, твоя любимая печёная картошка. Я пекла её в духовке, по твоему рецепту. Она сладкая, как батат. Садись есть. Только руки не забудь вымыть.
Борис аккуратно вскрывает конверт: внутри письмо, написанное на голубой бумаге в клеточку. Оно начинается стихами:
« не забывай
Высокого, святого назначенья:
Тебе твой сан дороже должен быть
Всех радостей, всех обольщений жизни,
Его ни с чем не можешь ты равнять
Дорогой Боря! — написано было под стихами другим, более свободным почерком. — Вчера я окончательно поняла, что твоё призвание — быть учёным.
P. S. Это письмо не любовное.
Маруся Ильина»
Глава XII
ПОСЛЕДНЯЯ
Раздался звонок. Борис открыл дверь: там стоял Лера, в белых брюках, с букетом сирени в руках.
— Сейчас прихватим Олега и пойдём гулять. Это замечательное утро, Боря, мы его никогда-никогда не забудем!
— Замечательное! — повторил Борис.
Они выходят из дому и неподалёку от пожарной каланчи, в Овсянниковском садике, как всегда на «ничейной территории», встречают Олега. Он уже ждёт их в новом костюме, в пёстроклетчатом галстуке и в белых парусиновых туфлях.
— Денег у нас столько, что мы все звеним! — говорит Лера.
— Сколько? — спрашивает Борис.
— Тридцатка, — отвечает Лера. — Брат прислал. Он теперь во Владивостоке на капитальном ремонте. Их здорово в Индийском океане тряхонуло! А я все деньги на мелочь разменял, так легче тратить! — смеясь добавляет он.
— Похоже на тебя, — замечает Олег.
Вот Галерная улица. Здесь, в доме номер восемнадцать, жил Миклухо-Маклай
— А мемориальной доски об этом почему-то ещё нет, — говорит Борис.
Они бродят по широким проспектам под голубым небом, высоким и безоблачным, подолгу останавливаясь у киосков с газированной водой и мороженым. «
— Всё это не то, не то! — восклицает Борис. — У Маяковского в «Человеке» сказано: «Так вот и буду в Летнем саду пить мой утренний кофе». Есть предложение — туда
— Отлично! — всё ещё продолжая смеяться, бренча серебром, отвечает Лера.
Они садятся в трамвай и едут к Лебяжьему мосту, туда, в Летний сад, где около окружённого басенными зверями дедушки Крылова степенные няни уже второе столетие гуляют с детьми.
Друзья идут по главной аллее под раскидистыми дубами и могучими липами, не догадываясь, что это последние в мире мгновения тишины, что вот сейчас в Москве диктор включает микрофон всех радиостанций страны, чтобы предоставить слово Вячеславу Михайловичу Молотову.
— Граждане и гражданки Советского Союза! — говорит Молотов спокойно и уверенно. — Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление: сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причём убито и ранено более двухсот человек
Не помня себя, друзья выбегают из сада. Голос из репродуктора продолжает так же мощно звучать и на улице.
— Эта война, — говорит Молотов, — навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии
Среди огромной Дворцовой площади на лавровом венке, как на пьедестале, возвышается розовая гранитная колонна, поставленная в память победы над Наполеоном. Город Ленинград никогда не был побеждён, не был занят врагом.
В этот летний день, в воскресный ленинградский день, деревья были ещё в молодой зелени. Люди шли, толпились около военных комиссариатов. В небо впервые медленно поднимались, всё уменьшаясь в размере, серебряные аэростаты.
Три товарища спешили по Невскому проспекту. Вот знакомые статуи Кутузова и Барклая де Толли. Они стоят, держа в руках свитки.
— Вероятно, это рапорты о русских победах, — сказал Борис. — Вот здесь, товарищи, остановимся, постоим, ещё раз взглянем на свой город.
— Здравствуйте, друзья! — раздался голос.
— Здравствуй, Шурка!
— Как ты думаешь, Борис, возьмут меня на фронт?
— Не возьмут, — сказал Борис. — И не надо сейчас. Ты, вероятно, останешься дома, в школе занятия будут. Передай ребятам, что, уходя на фронт, мы подаём свои голоса за тебя, как за нового члена комитета.
— А папа твой где? — спросил Олег.
— Папаня, как услышал по радио, пошёл в военкомат. Он ведь старшина запаса, танкист. У него мобилизационный листок
— Проводи и нас, Шурка, туда же.
Борис, Олег, Лера и Шурка по переполненным улицам пошли в военный комиссариат. Стояла жара; спокойное голубое небо, как и час назад, высоко простиралось над городом. Но на широких проспектах уже не было спокойствия: война вторглась в Ленинград, и каждый определял свою вдруг сразу перевернувшуюся судьбу.
У входа в военкомат Борис снял очки и, передав их Шурке, сказал:
— Возьми на память, Шурик.
— А они тебе на фронте не нужны?
— Они не нужны мне здесь, в военкомате.
— Борис, просись в танковые войска, туда, где папаня! Ты по автомобилю очень способный
— Нет, Шура, мы, наверно, в пехоту. Будь счастлив! За очками я зайду. А когда — не знаю
Через несколько дней Борис по увольнительной пошёл в город. Он шёл в музей, к профессору. Город за это время уже изменился, как и он сам, — стал таким же военным.
Профессор не узнал солдата: тот был без очков, наголо остриженный, в новенькой, ладно пригнанной гимнастёрке, подпоясанный новеньким же и поэтому скрипящим широким ремнём.
В сводках Совинформбюро тогда впервые появились Шауляйское и Барановичское направления — жестокие оборонительные бои шли у наших западных границ.
Стоя около карты Советского Союза, которую раньше Борис не видел в отделении Океании, профессор отмечал булавочными флажками линию фронта.
— Пришёл попрощаться, — сказал Борис совсем повзрослевшим и изменившимся голосом. — Зачислен в пехотное училище. Скоро, значит, на передовую. Спасибо вам за то, что показали мне дорогу в науку. А статью свою я тут у вас, на всякий случай, оставлю.
И он положил на стол свёрток бумаг, среди которых была и его заветная толстая тетрадь в чёрной коленкоровой обложке.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
На этом я прекращаю повествование. Конца здесь нет, как нет его и в работе молодого учёного Бориса Григорьевича Кудрявцева «Письменность острова Пасхи», напечатанной в одиннадцатом томе Сборника Музея антропологии и этнографии Академии наук СССР за 1949 год.
Одной из целей автора этой книги было заинтересовать вас тем, что начал Борис Кудрявцев и что завершить ему в рано оборвавшейся жизни не пришлось.
Конец этой достоверной истории — содержание загадочных текстов с острова Пасхи на четырёх, а может быть, и на большем числе таблиц — можно будет досказать лишь тогда, когда вы своей работой, продолженной по примеру Бориса Григорьевича Кудрявцева, допишете его
|