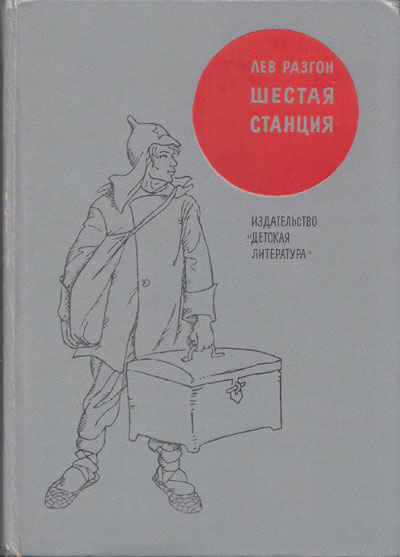Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
_____________________
Лев Эммануилович (Менделевич) Разгон родился в городе Горки Могилёвской губернии в рабочой семье. В 1932 году окончил историко-экономическое отделение Московского государственного педагогического института. В том же году вступил в ВКП(б). Два года проработал в спецотделе НКВД, которым руководил его тесть Г. И. Бокий. После окончания института стал работать в только что созданном (9 сентября 1933) Детиздате ЦК ВЛКСМ (в настоящее время издательство «Детская литература»). В апреле 1938 года арестован. Провёл в лагерях 17 лет. Освобождён в 1955 году, реабилитирован и восстановлен в партии. После освобождения вернулся к работе редактора, одновременно занимаясь созданием книг о путешественниках и учёных для детей. Тогда приступил к написанию мемуарной прозы, которая стала издаваться только в конце 80-х и принесла ему широкую известность.
В 1993 году подписал «Письмо 42-х». Был много лет членом Комиссии по вопросам помилования при Президенте Российской Федерации.
Первая жена — Оксана Глебовна Бокий, дочь партийного деятеля.
Вторая жена — Рика Ефремовна Берг (ум. 1991), дочь видного деятеля правых эсеров Ефрема Соломоновича Берга.
Брат — Израиль Менделевич Разгон, доктор исторических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
Дед Р., Абрам Менделевич, кантонист, в сер. XIX в. в поисках работы обосновался в Горках. Один из его сыновей, Мендель Абрамович (1878-1942), работал в кустарных мастерских. В годы Первой мировой войны он был призван в царскую армию и участвовал в боевых действиях. Демобилизовался в 1918. В нач. 20-х гг. в поисках заработка переехал в Москву, где устроился сначала в кожевенно-меховую мастерскую, а затем гардеробщиком в НКПС. До Октябрьской революции состоял в Бунде, а в 1924 вступил в ВКП(б). Мать Р., Глика Израилевна (дев. Шапиро, 1880-1955), происходила из обеспеченной семьи и получила образование. Она хорошо знала евр. лит., увлекалась поэзией и писала стихи, музицировала. Своим детям привила любовь книгам и тягу к знаниям. Помимо Р., это Илья (1906-1970), Лев (1908-1999) и Абрам (1917-1989). Абрам и Лев в 30-х гг. подвергались репрессиям. Их отец, не отказавшийся от своих сыновей, был исключен из партии. Лев, носивший впоследствии отчество Эммануилович, стал известным писателем, публицистом и обществ. деятелем. В 90-х гг. он состоял членом Комиссии по помилованию при Президенте РФ.
Первоначальное образование Р. начал получать в хедере. После конфликта с ребе (учителем) родители перевели в рус. школу.
В годы Первой мировой войны он вместе с матерью и братьями находился в Касимове Рязанской губ. В 1922 году переехали в Москву.
Имеется указ Президента Российской Федерации о награждении орденом За заслуги перед отечеством IV степени
Разгона Л.Э. - За личный вклад в отечественную литературу, активное участие в демократических преобразованиях в России
и в связи с 90-летием со дня рождения наградить орденом "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" IV степени
РАЗГОНА Льва Эммануиловича - писателя, город Москва.
Президент Российской Федерации Б.Ельцин
Москва, Кремль, 1 апреля 1998 года.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Основная специальность 3
Жарким летом 20
Домик без окон —
Здесь и будет станция 23
Война рядом 25
Первый пост 29
Взрывоопасно! 33
Двенадцатый талон 37
Гришин шкафчик —
Мешочники 41
Голодно 45
Один фунт верблюжатины 49
Екатеринослав — город железный .. 53
На мертвом якоре —
Письмо Ленину 57
Саша Точилин 59
Длинной дорогой 62
В железном городе 68
За подводным кладом 72
Наперекор чуду 78
Богородицыны слезки —
Часовня Михаила Архангела 83
Секрет Сени Соковннна 85
Чудесная механика 89
Перед обманщиками и обманутыми 93
Цена золота 98
Год жизни Юрия Кастрицына 103
Профессорский сын —
Черный мартовский день 109
Против Волховстроя 113
Режиссер Юрий Кастрниын 117
Катастрофа 121
Встречный план 124
Не забудем 129
Клавочка 134
Песенка —
Дни нашей жизни 140
На всю жизнь 149
Семнадцать метров в секунду 153
На пороге ночи —
Дело пахнет керосином 157
Над рекой 164
Бпизкие Холмы 158
Стенка —
Уклонисты 177
Вечером и днем 183
Первый блин 196
Поганое болото 200
Сын Крокодила 206
Первое дело экправа Морковкина —
Нэпманы и короли 212
На вилы 218
На окраине, где-то в городе 223
Почем фунт лиха? —
«Коммуна мозолистов» 234
«Халупа-малупа» 243
«Комсоглаз» 249
«Союз хулиганствующей молодежи» 255
Предательство 267
Дневник 274
Мальчик на чужбине 278
Шаляпин —
Жизнь артиста 281
На радиоволне 290
Оно горит и ярко рдеет 297
Смерть комсомольца —
Первый лагерь 304
Вы с нами, вы с нами 310
Чистка 316
Мститель Гена Ключников 320
Новый год 326
«Станция №6 Ленэнерго» — так сейчас скромно называется электрическая станция на полноводной и бурной реке Волхове около Ленинграда.
Но как часто вспоминают эту небольшую, незаметную станцию!
И есть за что. Она была первой, построенной по инициативе и плану Владимира Ильича Ленина. Ее строили долго и трудно. Близко к ней подходил враг; горели круго.и подожженные торфяные болота, и огонь уже подбирался к динамитному складу; утонул в море пароход, который вез оборудование для Волховстроя. Но никакие трудности не останавливали комсомольцев, приехавших на берега Волхова. Любовь к своей станции они пронесли через всю жизнь.
И эту книгу о молодежи, строившей Волховскую станцию, о ее трудной, но такой увлекательной и интересной жизни написал старый комсомолец, старый комсомольский журналист.
В ней он раскрывает романтику грозных и прекрасных двадцатых годов.
ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Такие города я видел раньше в кино На белесом экране возникали убегающие вдаль проспекты многоэтажных красивых домов. Зеленая листва кленов и лип заслоняла нижние балконы. Блестел только что политый асфальт. Съемочный аппарат наезжал на чистенькие, веселые подъезды, выхватывая крупным планом по-летнему нарядных девушек, улыбающиеся глаза молодых ребят, смеющихся детей, судачащих женщин Сейчас мы увидим героя или героиню картины, и перед нами начнут разворачиваться судьбы кинолюдей, живущих в этом киногороде
Но город был не на экране. Он был совершенно всамделишный — живой и настоящий. По-настоящему были широки его красивые улицы, настоящими были зеркальные витрины мага-
зинов, по-настоящему нарядны и веселы люди на тротуарах и просторных площадях. Никаких заборов не было в этом городе, его зеленые и чистые дворы, заполненные детворой, были открыты для всех глаз.
От главного проспекта расходились небольшие улички, зеленые, с сомкнувшимися кронами деревьев. Одна из таких уличек вывела меня к парку над крутым и высоким берегом реки. Парк был совсем молодой. Тоненькие деревья еще не давали тени. Они дрожали даже от легкого ветерка, а когда порывы ветра усиливались, за них становилось тревожно. Вероятно, не мне одному, потому что чьи-то заботливые руки обкопали их, покрасили известкой, натянули шнуры, поддерживавшие слабенькие тела деревьев. Пышные цветы росли на аккуратных клумбах, газоны были свежи и нетронуты, хотя никакие ограды и грозные надписи не охраняли их покой. Неподалеку от входа в парк была устроена горка из кактусов. В любовно продуманном беспорядке были расставлены десятки горшков — больших и маленьких, скромно-кирпичных и ярко разрисованных. И кактусы были все разные: огромные, осыпанные пламенем цветов, и малюсенькие, еле выклевывающиеся из своих крошечных гнезд, похожие на обомшелые камни. Сюда, в парк, принесли свои сокровища все любители этих милых колючих уродцев Посредине клумб стояли пальмы и фикусы — такие домашние, что от них становилось теплее и мягчал резкий ветер с Ладоги.
Был необыкновенно трогателен этот молодой парк, украшенный так, как украшает свою самую парадную комнату новосел. С высокого берега отчетливо была видна гладь большой северной реки. Косо накренившиеся "белые паруса яхт неслышно скользили по воде. Внизу, у яхт-клуба, на высоких башнях, ветер колыхал яркие цветные флаги, лодки ослепительно молочного цвета выстроились у причала. А рядом был пляж, отгороженные купальнн, строгий голос инструктора раздавался через репродукторы: «Мальчик в красных плавках! Зайди обратно в бассейн, иначе отберу у тебя круг!»
Я сидел на удобной деревянной скамейке, вслушивался в
смех и визг, несшиеся с реки, смотрел на детей, бегающих по дорожкам, и странные мысли проносились в голове. Я приехал в город, название которого навсегда было врезано в мою юность. Я никогда здесь не был раньше. Но многие годы то, что делалось на берегах этой реки, было источником забот, радостей и тревог моего поколения. Здесь строилась станция, что была задумана Лениным, от которой пошли станции на Свири, на Днепре, на Волге и Ангаре, на Енисее и Оби
Слово «Волховстрой» для нас было почти таким же близким и родным, как слова «революция», «Советская власть», «ячейка» По ночам мы, комсомольцы, шли на вокзалы разгружать дрова — заработок шел на Волховстрой В театрах и клубах мы устраивали спектакли, концерты и, не успев разгримироваться, тш,ательно подсчитывали выручку — она шла на Волховстрой И когда я забегал в лавку покупать молоко и хлеб, продавец спрашивал: «Сдачу дать или же волховстро-евские марки?» И вместо десяти — пятнадцати копеек сдачи я бережно укладывал в карман волховстроевские марки — и мои копейки шли на строительство станции
И каждое утро, открыв газету, я искал в ней свежие вести о том, что делается на берегах Волхова: забетонировано еще два бычка, заканчивается строительство шлюза, начали монтаж новой турбины И как же я завидовал тем моим товарищам, что ездили туда и своими глазами видели Волховстрой!
А я только сейчас, через десятки лет, попал сюда И — странное дело! — ничего кругом не напоминало мне об осуществленной мечте моего поколения Все, что я видел в этом красивом и уютном городе, было связано только с одним — с алюминиевым заводом, чьи дымящиеся трубы были видны отовсюду. Все эти большие и красивые дома были построены заводом, и Б них жили алюминщики. И большой Дворец культуры принадлежит заводу, и новая уютная гостиница была заводской. И заводскими были ясли, и детские сады, и стадион, и яхт-клуб. И в длинном здании с могучими колоннами помещался техникум, готовящий специалистов алюмин!1евой
промышленности И все разговоры людей, с которыми я ехал в автобусе, ходил по улицам, гулял по парку, — все были связаны только с алюминиевым заводом. И нигде я не слышал упоминания о моей станции!.. Но ведь она где-то здесь, рядом, она же не исчезла, не растворилась!.. И я ее сейчас увижу
Я встал со скамейки, вышел из белокаменных ворот парка и остановился в раздумье на тротуаре.
Куда идти? В какую сторону? Навстречу мне шел мужчина. Он вел за руку маленькую девочку в красном платьице и весело-укоризненно ей что-то выговаривал Я остановил его.
— Как мне пройти к станции?
— Это к какой?
— Как это — к какой? Ну к той, к электрической!..
— К какой же?..
И тут я не выдержал. Я почти закричал:
— К той самой!.. К Волховстрою! К самой первой!..
Мужчина внимательно на меня посмотрел и сказал:
— Так это вам на шестую станцию надо. Прямо, а потом напево свернете
И, снова ухватив руку своей дочери, ушел. А я остался в странной растерянности. Вот так так!.. Шестая!.. Прямо, а потом налево Почему она шестая?.. Ну хорошо, пойдем прямо, а потом налево.
Вот она! Станция лежала передо мною, знакомая до самых мельчайших подробностей. Она была точно такая, какой я ее видел на цветных обложках книг и журналов, на бесчисленных серых оттисках газетных клише, на марках, бонах, плакатах Все было здесь, ничего не пропало, ни одного нашего рубля, ни одной нашей копейки Они улеглись гигантским полукружием бетонной плотины, вечным гранитом стен, овалами колоссальных окон машинного зала. Сверху было видно, как с водосброса свергается стеклянная масса воды и разбивается в желтые кружева пены, в серебряный туман мельчайших брызг. Две большие баржи и приткнувшийся к ним маленький катер стояли у гранитных стен шлюза.
я спустился вниз. Шум падающей воды становился все громче, и это только подчеркивало тишину, царившую в огромном здании станции. У входа висела небольшая вывеска:
ЛЕНЭНЕРГО Станция № 6 имени
Владимира Ильича ЛЕНИНА
В колоссальном, почти дворцовом зале было пусто и тихо. Огромные корпуса генераторов блестели свежей краской. Сверкали начищенные вентили кранов, белая эмаль циферблатов измерительных приборов. Только по еле ощутимому, легкому, певуче.му звуку где-то внизу, под стерильно чистыми плитками пола, можно было догадаться, что станция работает. Молодой парень, выглядевший затерянным в звонкой пустоте машинного зала, отложил в сторону книжку и с любопытством посмотрел на меня. Наверху, у мраморных пультов, возле мозаики из многих сотен выключателей, колесиков, белых приборов, цветных лампочек, дежурили двое молодых ребят в кокетливых синих беретах. Они обрадовались случайному посетителю и увлеченно рассказывали ему о станции все, что они знали. Но мне все казалось, что знают они до смешного мало и что я, впервые сюда приехавший, знаю больше их
— Говорите, «Волховский проспект»?.. Нет, не слышали. У нас в городе главная улица называется «Проспект имени Кирова». Бетонный завод где был?.. Сань, ты не слышал где?.. Деревья? Так они всегда были! Ну, то есть, конечно, не всегда, но при нас всегда такие были. А мы тут и учились и выросли А это Степаныч, наверно, знает Он тут все знает, каждый камешек! Да, клуб волховстроевский был вот там, направо, где сейчас дома каменные И комсомольская организация там была иу, ячейка, как вы говорите Нам, когда еще мы пионерами были, об этом на сборе дружины Степаныч расска-
зывал Да вы про старых комсомольцев лучше у Степаныча спросите Как найти его? Так вы у любого человека в городе спросите — вам и скажут, где его найти Степаныча тут все знают, и большие и маленькие Кто он по специальности? Сань, ты не знаешь, какая специальность у Степаныча?.. Ну, какая же у него специальность? Так он тут все и делал И сделал Давно ли, спрашиваете?.. Так всегда тут Степаныч был Как мы все тут себя помним, так он всегда и был Хотите, мы вам покажем, как наша станция управляется? Интересно! Ее несколько лет назад сделали полностью автоматической У нас в смене всего три-четыре человека работают. А автоматизация у нас очень интересно сделана Сейчас мы вам все объясним!.. Графтио? Как же не знать — знаем! Это академик, что нашу станцию спроектировал и построил. А вот где он жил — это вам Степаныч расскажет
— А зовут меня Григорий Степанович. Григорий Степанович Омулев.
— Вы меня извините, что я вас Степанычем назвал
— А что ж тут плохого? Так меня все здесь и зовут. И большие и малые. И пионеры меня так кличут. Да и вы меня так зовите. Я еще когда в горсовете был, так секретарша написала в объявлении: «Сегодня приема не будет, Степаныч уехал в Ленинград» Наверно, с тех самых горсоветовских времен и привыкли ко мне посылать всех. А только я здесь не один такой, из старых Тут немало осталось из тех, что станцию строили. Выступаем частенько у рабочих и школьников, нано-минаем им про старое. Забывать это нельзя. И помнят здесь все, с чего началось. Вы напрасно обиделись за шестую. Ну, привык народ! А все равно знают — не шестая мы, а первая. Самая-самая первая. От нас все пошло.
Мы сидели со Степанычем в том самом молодом парке, откуда я вчера начинал свой путь к станции. Все было как вчера. Так же, гоняясь друг за другом, пробегали мимо дети, с раскрытыми книгами на коленях сидели студенты техникума,
готовясь к экзаменам; степенно гуляли рабочие, которым предстояло работать в ночной смене. Только все, проходя мимо нашей скамейки, здоровались, и, внимательно всматриваясь в каждого, Степаныч отвечал Худенький старичок в чистой, полинявшей от частых стирок рубашке в полоску, в пиджаке, мешковато висевшем на сухих плечах
— Ну как же вы такое можете спрашивать; «А это было?» Да ничего здесь этого не было. Тут вот, направо, у самой реки — под нами, значит, — была деревня Дубовики. Там рыбаки жили, сига ловили, плоты и баржи переправляли через пороги. А пороги тянулись на десять верст — от села Михаила Архангела до села Гостинополье. По ним провести хоть и маленькое суденышко — великое мастерство требовалось. Этим и жили
Нет, я сам не здешний. Из-под Пскова. Но вот повоевал, походил с Буденным по Донбассу, выбивал Мамонтова из Орла, до самого моря дошел. Отлежался в госпитале, залечил рану — уволился вчистую. Приехал в Питер, думаю — поступлю на завод, комнату получу, отдохну, начну жить поспокойнее. А мне говорят: «Чего тебе тут делать? Заводы стоят, коммунистов здесь хватает Поезжай-ка ты на Волховстройку. Не построим Волховской станции — и нам в Питере нечего будет делать. Разве только что зажигалки ладить да на базаре продавать » А был я тогда молодой, здоровый еще. Всю Россию почти проехал от моря до моря — все лежит мертвое, заводы травой заросли, а поля пыреем. Ну, сами понимаете — был я уже парнем обтертым, рабочим. Понимал, что и как крутит колеса на заводах. И что без этого ничего не будет, пропадем, ежели не подымем заводы И кому уж, как не нам, коммунистам, все это восстанавливать да строить! Сказал — поеду! Дали мне в губкоме направление. Кем будешь работать, не сказали. Устроишься по специальности — хорошо. А нет — так будешь делать все, что надобно: камни рвать, тачку возить, плотничать, если умеешь
Вот я и поехал. Слез на Званке — так раньше звалась наша станция на железной дороге, — мешок за плечи — и потопал на Волховстройку.
Кругом болота. Дождь идет, пусто кругом, людей не видно, одни лягушки кричат А дорога скорее была похожа на реку из грязи. Пришел сюда. Пара бараков, хибарки какие-то стоят Конечно, партийную ячейку ищу. Нашел. Обрадовались. Сказали — девятый коммунист будешь на стройке
— Это восемь коммунистов только было?!
— А что думали — восемьдесят или восемьсот? Нет, восемь человек. Сказали: осмотрись, устраивайся в бараке и завтра выходи на работу — плитоломом будешь
Ну, плиты ломать — дело нехитрое. Плотники из бревен рубят ряжи, а мы рвем камни и этим камнем ряжи забиваем. Конечно, работа тяжелая, меня потому туда и послали. Где же большевикам быть — там, где потяжельше!
Застал я самое трудное время. Станцию ведь начали строить еще в восемнадцатом Еще Ленин не переехал в Москву, а уже подписал постановление — начать строительство этой станции, дать, значит, рабочему Питеру энергию для заводов. И ведь начали! В такое-то время! Лес, материалы стали свозить, бараки первые построили, даже первые котлованы откопали. Ну, а потом было не до строительства. Люди работают, а хлеба нет, все, кто в силах винтовку держать, на фронт ушли. Коммунистов почти и не осталось.
В управлении несколько инженеров сидят, барышни в конторе что-то пописывают, пайки получают, отдыхают, словом, от революции Днем посидят, посплетничают, вечером в картишки поигрывают или для себя самих спектакли разыгрывают. Смотрят, как несколько рабочих-коммунистов, опухшие от голода н бессонницы, по стройке бегают, не дают растащить что есть — смотрят и посмеиваются. Плохо товарищам было! Мне на фронте куда было лучше!
Думали, что совсем уж Ильич забыл про Волхов. Нет! Только-только сбросили белых в море, как уже Ильич сказал вот эти самые слова: «Коммунизм — это есть Советская власт.) плюс электрификация всей страны». Сейчас про слова эти все пионеры знают, в учебниках они записаны. А ведь тогда они как из сказки были — электрификация!
в двадцать первом году и вышел приказ — строить Волхов1 И сразу пять тысяч пайков выделили строительству. Я теперь пионерам стараюсь объяснить, что тогда пять тысяч пайков было, — все равно не могут понять! Говорю им: Ленин ужинал черным хлебом, наркомы — это по-теперешнему министры — в обморок падали от голода! Нет, не влезает в них, что это было для страны — пять тысяч пайков!
Начали посылать рабочих на Волхов. Каждый день прибывают люди. Конечно, народ разный за пайками приехал. И работяги, и из кулачков которые, да и шпаны хватало. А тут нэп начался — вылезли из нор хозяйчики, что прятались раньше.
Меня тогда в рабочком выбрали. Стал я председателем. Да, несладкое было то время. Сначала голод. Ох, какой голод! Как люди могли работать?! Вспоминал потом и не понимал Вот когда началась Отечественная, тогда опять понял, как могут! Ну, а потом стало сытнее, да тоже,жизнь была не сахар — нэпманы полезли, дрянь всякая Всю стройку облепили ларьками, лабазами, трактирами. Ресторан устроили, «Нерыдай» назывался. «Нерыдай» — придумают ведь такое!.. Там другой рабочий всю получку оставляет, а жены и дети плачут голодные Самогонщики нахлынули, людей опаивают, драки, поножовщина Бандиты появились. «Бубновые короли» — так себя прозвали. Ну, да с «королями» мы уже знали, как надо обращаться. Научились. Днем работаем, а по ночам вместе с милиционерами бандитов вылавливаем. Комсомольцы — те объявили: «Все в кооперацию, долой рынок!» Сами за прилавки стали, товары из Питера привезли — гореть стали хозяйчики. Что комсомольцы — ребята, школьники и те ходили по частному базару, агитировали, чтобы покупали только в кооперации!.. В двадцать третьем году, восьмого сентября, наши вол-ховстроевские пионеры первую присягу давали — торжественное обещание, значит
Комсомольцы у нас были хорошие, сознательные. Коммунисты, значит, только что молодые Работать с ними было весело Ах, и весело же мы работали! Вы не думайте, что мы от рабочих только работу требовали. Ведь приходили к нам
вчерашние мужики, бедняки самые. А у нас они превращались в грамотных, настоящих рабочих. У нас к началу двадцать четвертого года несколько клубов было, кино, кружки, школы, ясли. Ликвидировали полностью неграмотность, обучили специальностям. Каждую неделю — постановка, свои актеры — любители, значит Не только работать — жить на стройке было интересно, весело.
Конечно, и страшно было Было. Понимаете, Волхов строила очень бедная, очень, скажем даже, нищая страна. На кровные пятаки строилась станция, от себя люди отнимали. Что, мы это не понимали? Бывало, соберемся в ячейку на собрание или так, о делах потолковать, да подумаем о том, как на нас страна надеется, как нам народ последнее отдает, так, поверите, мурашки по спине пробегают от страха перед людьми, перед партией — ведь на нас надеются, мы, коммунисты, за это ответственны! И, когда выходишь после такого разговора и видишь, как валяется под дождем моток проволоки, — как будто в душу плюнули, готов этого человека, что бросил провод ржаветь, за горло схватить
Но и на народ жаловаться нельзя, нет С душой работали и знали мы — рабочий класс поддержит! Из любой беды выручит! Дела у нас стали под.ходить к главному — машины надо ставить. Начало поступать оборудование. Много с ним было мороки. Закупали его в Швеции. А капиталисты погрузили его на такой пароход, который только на слом годился. Конечно, они его застраховали, знали, на что идут. Вышел пароход, попал в шторм и затонул Снова пришлось заказывать А на это время требуется. Но уж к этому времени наши питерцы на «Электросиле» решили строить генераторы для нас. Впервые за такое дело взялись. Шведы — они к нам приехали монтировать оборудование — носом крутили, не верили, что смогут большевики такие машины сделать В машинном зале нашем были?
— Был. Там восемь генераторов стоят.
— Четыре из них наши! Оказались лучше шведских! Сколько уже лет прошло — работают, как часы. И еще будут работать годы и годы. Вот что значит делать с душой, с пониманием, на что идет
Не умею я рассказывать, что ли Как начну вспоминать, так все у меня получается, что работа у нас катилась гладко да хорошо. Строили, строили да и построили Это, наверно, потому, что хорошее запоминается прочно, его как хороший бетон схватывает — навечно! А плохое, трудное где-то там, на задворках памяти, болтается. А его, плохого, у нас хватало.
Жили мы за Лениным, его словом, его силой жили. Чуть что не так, чуть заминка — к Ленину обращаемся. И работать от этого было как-то и весело и бодро. Сами молодые были, и казалось нам, что Ильич вечно будет жить. Ну, не вечно, конечно, но и станцию нашу увидит, и новые станции, и до коммунизма доживет. Советская власть есть, а электрификацию всей страны сделаем!
А как весной, в двадцать втором, появились эти бумажки на стенах — о том, что болен Ильич, что плохо ему, — так у нас в душе что-то порвалось Утром просыпаемся, идем на работу и все время думается: как там?.. Как с Ильичем?.. А тут еще поднялись против Волховстроя!
Нашлись такие И раньше были, и сейчас еще не перевелись люди, что думают по-торгашески: по одежке протягивай ножки Ну, и в центре нашлись мудрецы — считали, что не по силам мы замахнулись, не сумеем построить станцию. Дорого, дескать. Дешевле покупать за границей оборудование и ставить в Питере обыкновенную тепловую станцию. Начали придираться, комиссия за комиссией: это плохо, это не так. Пошли слухи — закроют строительство. Графтио почернел от горя, и мы ходим, трясемся от переживаний. А Ильич болен И невозможно пойти к нему, пожаловаться, что собираются с его детищем делать
Ну, выкрутились мы из этого дела Это пусть вам комсомольцы старые расскажут как Я вас здесь познакомлю с теми, кто все это помнит А тут Ильич пошел на поправку. На каждом собрании рабочие спрашивают: как Ильич? А мы с радостью отвечаем: хорошо! Фотографии в журналах показы-
ваем: Владимир Ильич уже гуляет по парку, рабочих принимает Каждый камень кладем, думаем — приедет Ильич, посмотрит на дело наших рук, увидит, как рабочий класс его идеи поддерживает. Не увидел Вы тогда, двадцать седьмого января, где были?
— На Красной площади
— А!.. Ну что ж тогда вам рассказывать Лютый мороз, стопм без шапок, слезы замерзают на щеках И клятву ему каждый в сердце своем дает: все равно по-твоему будет! Построим станцию, и социализм построим, и коммунизм построим — все сделаем, все по-нашему будет!..
Через два года закончили станцию. Ходим по машинному залу ошалевшие от радости, глядим на нашу красавицу и сами не верим: да неужели мы это сделали, своими руками? А жены наши дома уже вещички укладывают — уезжаем на Свирь, новую станцию строить. И построили. А потом еще волховцы на Днепр поехали — Днепрострой строить. Вы это поймите: от нас пошли все строители гидростанций. Я, когда читаю про Братскую, про Красноярскую станцию, знаю: нашей, волховской школы люди их строят!
Вот для чего Ленин задумал нашу станцию построить — не для шестидесяти тысяч киловатт, а для будущих миллиардов киловатт, для электрификации всей страны — для коммунизма, значит!
А шестой зовется она потому, что это ее номер в системе Ленэнерго. Ленинградскую промышленность питает много станций. Среди них наша — самая маленькая. Так мы на номер не обижаемся! На «Электросиле» сейчас строят генераторы — каждый во много раз сильнее, чем вся наша станция. А приезжают сюда — шапки снимают Знают, в чем наша сила и слава, — не в мощности!
Строил я и Свирскую станцию. А как построили, приехал сюда строить алюминиевый завод. Ведь тоже был первый завод, первый наш, советский алюминий. Завод строил, город строил, оборонял его от фашистов В горсовете долго работал. Словом, город этот — как дом свой А чего мы тут
сидим? Пойдем походим, погода хорошая Да и сидеть долго как-то непривычно Что на одном месте можно увидеть?..
Мы пошли. Он был бодрый и какой-то неутомимый. Степа-ныч шел без палочки неторопливо, но не уменьшая шага, задерживаясь всюду, где ему было важно и интересно. У Доски почета он всматривался в новые фотографии и медленно, про себя, беззвучно шевеля губами, читал фамилии Заходил в магазины, и продавцы кивали ему и, на минуту отрываясь от своей работы, кричали: «Привезли, привезли, Степаныч, — на складе нашлось »
И в столовой, куда мы зашли выпить чаю, он внимательно разглядывал меню и заботливо спрашивал:
— Не проголодались еще? Поесть чего не хотите? Тут холодные закуски у нас Гранина мастерица делать — хвалят ее люди А вот видите — вторые блюда Шестнпалова готовила, тоже дело свое знает Что строить, что кормить — все это надобно с душой делать! А иначе, что ж — пшик будет, а не дело
Он часто останавливался и, постукивая небольшой ладонью по стволу дерева или стене дома, рассказывал:
— А это вот Глиноземная улица. Ну, да она теперь Марата называется, а раньше была Глиноземной Тут глиноземщики жили и сейчас, почитай, живут А улица Пирогова раньше была Электролизной, и жили на ней рабочие, что у электролизных ванн работают Каждый цех заводской свою улицу имел да по своему вкусу ее и делал. Заметили — деревья-то разные Цементники — те тополя любят, ну вот, на своих улицах насадили тополей, какие на юге, в Новороссийске, растут. И представьте — чудно у нас растут, быстро так, только пуху много от них — хозяйки жалуются А дерево хорошее, ладное и красивое. А глиноземщики — те рябину любят. Свое, северное, милое дерево Был у нас инженер, Почивалов Владимир Петрович, любитель был страшный этого дела. Рано утром, до работы, обойдет все скверы, все улицы, осмотрит каждое дерево — как растет Поверите, он каждое дерево в лицо знал! Как увидят у нас сломанное дерево — сбегутся все, как на случай какой, на несчастье На заседаниях обсуждаем, вот
как Конечно, трудно привыкали. И ломали, и затаптывали. И огораживать при.ходилось. А теперь сняли все ограды и не упомним случая, чтобы молодое дерево поломали. Так ведь не примут у нас новый дом, рабочие не въедут, пока не насадят кругом дома деревья.
Вот зайдемте в эту уличку, направо. Там увидим последнее от старого Волхова.
И правда, уличка эта была совсем непохожей на другие — с их многоэтажными, каменными домами. Слева в густой зелени утопали деревянные коттеджи — аккуратно обшитые «вагонкой», выкрашенные веселыми красками. А направо стояли оштукатуренные двухэтажные дома. У них был жалкий и непривычный для этого города, заброшенный вид. Штукатурка осыпалась, и за ней виден был остов старого деревянного барака У некоторых из этих домов была сдернута кровля, вынуты рамы; пустые, покосившиеся, они ждали удар бульдозера, ворчавшего где-то неподалеку На углу одного из таких домов еще висела жестяная табличка, на которой полусмытон дождями и ветрами краской было написано: «Улица Красных Курсантов»
— Вот последние Здесь когда-то жили курсанты, приезжали помогать строить завод. После них так улицу и называли Поставят здесь новые, большие дома, и уж ничего пе будет напоминать о старом нашем поселке Да не то что от волховстроевских времен — от города, что при заводе строили, ничего почти что и не осталось. Видели на Волховском два серых четырехэтажных дома? Вот и все А все остальное уже после войны строили. Фашист нас бомбил нещадно, злился очень: не только Питер — наш маленький Волхов так и не мог взять! А ведь в трех километрах от нас фронт был. Рвались к нам всей силой — мы же были единственной станцией для Ленинграда, все остальное уже было отрезано. Как подошли немцы — поступил приказ разобрать на станции машины и увезти. Как работали, говорить не надо, сами знаете!.. Отправили. А потом, чуть стало полегче, снова привезли, смонтировали и запустили. Конечно, война — все гибнет, разрушается,
люди гибнут А все равно — так было больно и страшно за нашу станцию, за нашу Ленинскую Проходит день — и думаешь; смотри, и ты жив, и станция цела А немцы каждый день пускают на станцию бомбардировщики, обстреливают из пушек. И вот ведь как построено было! Несколько прямых попаданий выдержал бетон, не сдал! Работали под обстрелом, жили в землянках — дома почти все уже были разрушены Потом, как начали строить, — остановиться не можем. Видите — раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь
Поворачиваясь во все стороны, Степаныч считал башенные краны. Их было много, они росли в конце улиц, поднимались из зелени садов, их стальные руки неслышно и спокойно работали
— Что ж так много строите? Новые заводы тут есть?
— На нашем заводе и новые цеха появляются. Вот пускаем большой сернокислотный — просто как новый завод Удобрение будем делать фосфорное — очень это важный, очень нужный продукт. Да ведь дело не в том, что завод новый появляется, — дети новые появляются!.. Им жить надо как следует, им и ясли надобно строить, и детские сады, и школы. А потом, глядь, и уже квартиры им требуются Это хорошо! Ну, и строить нам сейчас легко. Направо посмотрите. Видите там вот эти длинные серые цеха?
— Вижу.
— Это наш домостроительный комбинат. Туда дальше, значит, цепочка наша тянется
— Это какая же цепочка?
— А та, что началась от нашей станции. Построили станцию. Стала она давать ток для алюминиевого завода. А из глинозема не только алюминий получается, но и самый лучший цемент. А цемент, значит, идет сюда — на домостроительный комбинат.
— Тут, значит, кончается цепочка, начатая станцией?
— Нет, цепочка кончается вот тут. — Степаныч показал на окружающие нас дома. — Вот тут, в этих домах, в детских садах, да школах, да в клубах и стадионах, она кончается. Да и
кончается ли она? Ведь не для домов старались — для людей, что в них живут. Вот для этих ребят. Вырастут, потянут они цепочку нашу дальше
Я понимал, что мне нельзя себя так вести, но я не мог глаз оторвать от этого старика. Сам я уже немолодой и многое повидал. Впдел станции куда большие, чем Волховская, видел и заводы, такие огромные, что Волховский алюминиевый по сравнению с ними выглядит небольшим цейсом. Видел и большие новые города, в которых одна улица была побольше всего Волхова Но никогда я еще не впдел кусочка земли, на котором вот так, наглядно, как на школьном макете, была бы раскрыта вся история нашей страны. Ее прошлое, ее настоящее, ее будущее!.. И все это было делом рук вот этого маленького человека, одетого в серый парусиновый пиджак, в ситцевую рубашку с полосками Его руки и руки его товарищей создали все красивое, прочное, человечески милое, что лежало вокруг меня
— А какая у вас основная специальность, Григорий Степанович?
— А основная моя специальность — коммунист. И плито-ломом я был и монтажником. И учился. И советским работником был. Но это все — дополнительные, что ли, специальности. А основная — коммунист я. Вот хожу по городу, и навстречу мне идут инженеры, мастера, машинисты, монтеры, учителя. А это все мои товарищи по основной специальности. И старые и молодые. Есть среди них такие — я у их отцов торжественное обещание принимал, когда они в пионеры вступали Вот, значит, как дело-то идет, какой человеческий след мы после себя оставляем
— Когда-нибудь, Григорий Степанович, вам и вашим товарищам здесь будет памятник поставлен
— Так он уже стоит, этот памятник. Вот он — станция, завод, город Раньше говорили: дерево человек посадил — память оставил. А мы не дерево одно — леса, парки, заводы, города оставим. Социализм оставим. Как это у хМаяков-ского про памятник сказано?
— «Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм».
— Вот-вот Это и будет самый красивый, самый правильный памятник. И не одному, а всем людям нашей специальности. И будет он называться почти так, как мы себя называем А вы что, писать хотите про Волхов, про станцию?
— Хочу. Чтобы самому вспомнить и другим напомнить про тех, кто все это сделал
— Ну, пишите Конечно, надобно это, великое время было, и нельзя про это забывать Тут и помоложе меня есть, из комсомольцев. Они вам порасскажут интереснее, чем я, больше помнят А только, знаете, не пишите вы наших фамилий Вот, бывает, читаешь — все правильно написано, правда все, а как-то неудобно, нехорошо себя чувствуешь Про одних написали, про других не написали А они такие же, столько же делали. А то и побольше Кто читать будет, тому ведь одинаково, как фамилия — Иванов ли, Петров ли. Люди делали. Коммунисты, комсомольцы Вот так. А?
— Хорошо, Григорий Степанович.
— Ну, пойду на шестую. Я еще сегодня там не был. Гуляйте — сказал он мне совсем по-домашнему.
И, как он хотел, так мы его и будем звать. Ну, скажем, Омулев. Григорий Степанович Омулев. Степаныч
ЖАРКИМ ЛЕТОМ
ДОМИК БЕЗ ОКОН
Из всех многочисленных надписей, плакатов и объявлений, которых насмотрелся Гриша Варенцов в свой первый день на Волховстройке, эта была вторая, наиболее поразившая его. Первая была выведена красивыми печатными буквами на куске жести, аккуратно и прочно прибитой к углу дощатого сарайчика, почти такого же, какой стоял во дворе дома в Тихвине, где жил Гриша. «Волховский проспект» — вот что было написано на этой дощечке. Варенцов был не только грамотным, он был сознательным парнем и перечитал почти всю укоыовскую библиотеку. Он знал, что проспект — это что-то очень большое, городское, красивое. Как самая большая улица в Петрограде, что называется гордо и величесгвенно — «Про-
спект 25-го Октября». А раньше эта улица называлась «Невский проспект», и рисунки этой улицы он видел в самых разных книжках.
А Волховский проспект был просто широкой и грязной дорогой, проложенной среди обыкновенного ржаного поля Рожь уже была налитой, высокой, только за ней плохо смотрели. Колосья перепутались, а само поле истоптано узенькими тропками, стекавшимися к Волховскому проспекту. Видно, ленятся жители проспекта обходить все поле, норовят прямиком пробежать А самый проспект состоял из двух рядов одноэтажных разнообразных домов. Были дома длинные, с десятком скучных окон, с двумя входами — бараки для рабочих. Были дома и поменьше и покрасивее — с резными наличниками и даже резвым коньком на гребне крыши. А были и просто неказистые сарайчики, вроде такого, где висела табличка со звонким и красивым названием.
Конечно, не из одного Волховского проспекта состояло место, где Грише Варенцову надо было построить самую большую, самую могучую электрическую станцию. Такой, какой и у капиталистов нету! Было еще много чего там нагорожено, разбросано, понатыкано. Немного в стороне, около чахлого и редкого леса, в беспорядке, будто из мешка просыпанные, стояли землянки. Иные были повыше, почти как домик, и только вниз надо было по ступенькам спускаться. А другие и вовсе в земле вырыты — как пещеры какие. Так это место и называлось: «Пещерный город» И еще какие-то строения разного и неизвестного назначения стояли в самых неожиданных местах.
И вот одно из них поразило Гришу еще больше, чем Волховский проспект. Небольшой рубленый домик без окон стоял одиноко на отлете, у самого края безбрежного болота. Был он отгорожен наспех сделанным забором из колючей проволоки. Колья забора покосились, ржавая проволока в нескольких местах провисла до земли, а то и была вбита каблуками в сухую глинистую землю. Через открытый проем двери в темной глубине домика были видны стоящие друг на друге деревянные
ящики. Такие же ящики лежали на земле у входа, и на них. Гак на деревенской завалинке, сидели двое рабочих. Все это было обычно и неинтересно. Интересен был только большой лист картона, висевший над дверью. На нем огромными кривыми буквами было красной краской написано: «Взрывоопасно!» А кто-то еще толстым черным карандашом прибавил к красному восклицательному знаку с полдесятка своих восклицательных знаков, а сбоку старательно нарисовал длинный, узкий череп, а под ним — две скрещенные кривые кости.
— Дяденька Товарищи! — поправился Гриша. — Что здесь опасного? Что в этих ящиках лежит?
Один из рабочих тронул рукой черный, смоляной ус и покосился на любопытствующего паренька. Нет, Гриша Варен-цов не походил на деревенского разиню, каких много тут шляется И пиджак на нем не деревенский, а галифе хотя и перешитые, да ладные, и сапоги городского покроя
— Новенький, что ли?
— Ага. Сегодня приехал.
— Из тихвинских комсомольцев?
— Да. Из самого Тихвина я один, остальные из уезда., А меня уком старшим назначил
— Это и видно, что самый старший Раз галифе А опасного, парень, здесь много пудов. Один такой ящичек грохнет — во-он где потроха твои будут висеть — Усатый повел глазом на далекую сосну. — Так что беги отсюда, ежели свои руки да ноги жалеешь. А то, видать, одну ногу ты где-то уж повредил За другой смотреть надо
Ух, как Гриша не любил, когда ему указывали на хромую ногу! Если бы не она, так он давно уже колчаковцев рубил бы! И с ним никто не посмел бы с такой ухмылкой разговаривать. Но уходить, ничего толком не узнав, было жалко.
— А в ящиках что?
— А в ящиках это самое и лежит. Динамит называется
Динамит! В Гришиной памяти сразу всколыхнулось все
прочитанное, где упоминалось это грозное слово. Степан Халгурин взрывает Зимний дворец На карательные отряды «Железной пяты» восставшие рабочие обрушивают шквал динамитных бомб И это вот лежит в самых обыкновенных ящиках, как мыло или гвозди
— Чего ж вы так на не.м, на динамите, сидите? А то ведь сосна — она любые кишки подхватит!..
— Ишь как в этом Тихвине у комсомольцев языки подвешены! Нет, от моего жара динамит не взорвется. А вот с куревом, с огнем сюда лучше не ходить. Пальнет — вся округа костей не соберет! Вот будем камень для стройки рвать — посмотришь, как это бывает.
— Вы будете рвать?
— Мы будем рвать.
— А как вы называетесь?
— А называемся мы взрывниками.
— А мне можно взрывником?
— Как же, конечно, можно. Как тебе стукнет лет сорок, приходи. Докажешь, что руки у тебя ловкие и в голове правильно шарики вертятся, и возьмем. Да ногу свою поправь — у нас бегать надо проворно
ЗДЕСЬ И БУДЕТ СТАНЦИЯ
Теперь Гриша не обиделся за ногу Шутки шутить мы умеем в Тихвине не хуже, чем на Волховстройке. А вот этот домик да эти ящики и дядьки эти, взрывники, — это, пожалуй, стоящее! В тихом Тихвине не только взрывников, рабочих-то настоящих было раз, два — и обчелся. Недаром веселый секретарь укоыа Ваня Селиверстов как-то невесело обмолвился, что у них в городе единственное настоящее производство — это монастырь с чудотворной иконой божьей матери «Там работают, да!»
Когда пришла бумажка из губкома, чтобы выделить на Волховстройку два десятка комсомольцев, Гриша Варенцов до самого председателя укома партии дошел — просил, чтобы
послали. В городе тихо, все стоящие ребята ушли на фронт. Как соберется Гришина ячейка заседать, всегда почти кто-либо из девчат, озоруя, запоет: «Восемь девок, один я». Ну, пусть у Гриши одна нога с изъянцем, — сила есть, голова варит, хочется настоящего дела!
Пока добирались до Звании, Варенцов рассказывал своим товарищам все, что он слышал и читал про большущие заводы, огромные электростанции. В его вдохновенных рассказах из могучих валов выползали огненные рельсы; по эстакадам бегали вагонетки с каменным углем; высоченные трубы извергали черный дым Все это Гриша вычитал в книгax Рубакина — единственных, где про это говорилось.
Гриша знал, что на Волховстройке еще нет ни труб, ни рудников, ни огромных машин. А все-таки у него екнуло сердце, когда они перешли мост через Волхов и поднялись на гору. Кроме стоявшей на рельсах какой-то похожей на странного жука машины с закопченной трубой и свисающим беспомощно ковшом, никаких других машин не было. Ничего, собственно, не было, кроме Волховского проспекта. Пещерного города, Лягушкиной дачи, кроме нескольких десятков тачек, мотков проволоки
Шумела широкая, суровая и бурная река, и рисунки плотин в книгах Рубакина не помогали представить себе, как можно ее перегородить. Редкий сосновый лес подступал к высокому и крутому берегу. За леском было небольшое поле, потом начинался чахлый кустарник, а дальше, куда ни погляди, тянулись унылые кочковатые болота
— «Здесь будет город заложен назло надменному соседу » — бодро продекламировал Гриша.
И, чтобы заглушить противное чувство растерянности, начал рассказывать о том, что будет, что они, тихвинские комсомольцы, здесь построят Река перегорожена огромной, во-от такой высокой плотиной Стоит электростанция — во-от такая высоченная!.. По проводам бежит электричество в Питер и сюда, видите, вот сюда А здесь будут заводы! Трубы во-от! А поодаль — город! Весь из во-от таких высоких домов,
как Б самом Питере! А вместо этого болота — парк! А на реке — моторки и эти с парусами как их? Яхты!
И пока они дошли до конторы, и потом — когда шли в барак, и тогда, когда устраивались в нем, а потом до поздней ночи сидели на бревнах под окнами барака, и на другой день, когда пошли на берег лес сортировать, Гриша не переставал рассказывать про то, что здесь будет И, по мере того как он, увлекаясь, перебивая самого себя, рисовал это будущее, Гриша все яснее и яснее представлял его себе. Да, и высокие каменные дома, и огромные каменные клубы, и гладкие каменные мостовые, и парк, и моторки, и белокрылые яхты И что для этого надо? Разбить белых и построить станцию!..
ВОИНА РЯДОМ
После работы Гриша забегал за газетой в красный уголок, садился с ребятами под окнами барака и начинал читать ее вслух. Он читал, и начинало казаться, что белые везде, что они, как черви, ползут со всех концов Генералы, генералы, адмирал Колчак, генерал Деникин, генерал Юденич Каждый день печатаются в «Новоладожской коммуне» короткие оперативные сводки, и каждая из них наполняет тревогой, желанием самому вмешаться в эти страшные и грозные события, быть там, с Красной Армией
— «Оперативная сводка от тридцать первого августа тысяча девятьсот девятнадцатого года, — читает громко Гриша. — Западный фронт. Севернее озера Сапро под натиском противника наши отошли к реке Саба. В двадцати трех верстах западнее Струги Белые мы заняли ряд селений. В Двинском районе бои у двинских предмостных укреплении. Восточнее наши под натиском противника отошли на правый берег Двины »
Сейчас ребята начнут расспрашивать про то, что непонятно. А Гриша и сам многого не понимает. Не понимает, где же находятся река Саба и место со странным названием «Бе-
лые Струги», и непонятно, что означает «предмостные укрепления», и непонятно, почему белогадов — белое офицерье, бандитов генералов — надо называть вежливым словом «противник» Ну да — они же против. Против их станции, против Ленина и большевиков, против красной Москвы и красного Питера, против него, Гриши, и всех его товарищей, против сирот из Ладожского детского дома — против всего своего, доброго, рабочего!
Генеральские фамилии напоминали луну. Они появлялись тоненьким узким серпом на серых страницах газет, потом с каждым днем и неделей раздувались, становились больше, грознее, они восходили на небосклон огромным красным, как кровью напоенным, чудовищем, а потом они начинали уменьшаться в объеме, становились всё меньше, сходили с газет, и на смену одной генеральской фамилии появлялась другая — опять становящаяся с каждым днем все грознее. Сначала самым страшным генералом был даже не генерал, а адмирал — адмирал Колчак. Он взошел где-то далеко, в Сибири, а потом стал расти и расти и, когда подошел к Волге, стал огромным и грозным Все тогда шли на Колчака, комсомольцев моби-лизовывали на Колчака, и они строем шли на вокзал и с посвистом пели:
в кровожадного бандита Мы вонзим свои штыки. Пролетариям защита — Наши красные полки
А потом Колчака стали бить, все меньше он стал упоминаться в сводках, и только в веселых частушках, которые печатал в «Новоладожской коммуне» поэт, подписывавшийся «Новоладожский пролетарий А. Прокофьев», еще иногда доставалось Колчаку:
Удирал Колчак от Волги, Хорошо, что ночи долги И сейчас не отдохнуть: Лупят в спину, лупят в грудь
Потом появилась фамилия генерала Деникина и стала расти, вытесняя из газет все остальное Этот поближе и по-страшнее Колчака! До сих пор идет с ним страшная борьба, и, если посмотреть на карту, выдранную Гришей из старого учебника географии и лежащую у него под подушкой, становится нехорошо: так близко он от Москвы, такой огромный кусок России в его белых генеральских руках
А сейчас появился еще один генерал, и он уже совсем близко от Питера, от Волхова, от Гриши и его товарищей. Генерал Юденич смотрит с плакатов обрюзгшей физиономией, его длинные усы — как узловатые веревки, на которых он вешает рабочих и коммунистов Уже который месяц идут под Петроградом бои с генеральской армией. И нельзя спокойно проходить мимо большого и тревожного плаката у конторы: бежит красноармеец с винтовкой в руках и криком зовет: «Все на защиту Петрограда!»
Не очень понятно Григорию Варенцову, почему здесь, на Волхове, в такое время — и он, и Петя Столбов, и крепкий Евстигнеич, и молчаливый взрывник Макеич. И почему лежит в одиноком домике динамит, а не дела.ют из него гранаты, для того чтобы сыпать их с крыш домов на белобандитов? Почему четыре сотни плотников-костромичей недавно приехали на стройку, вместо того чтобы из них целый отряд сделать и с динамитными бомбами послать в бой? Грише это непонятно, а ведь ребята его, комсомольца, спрашивают! В ячейке комсомольской уже ставил об этом Гриша вопрос, там все с ним согласились и даже предложили организовать комсомольский отряд «Красные бомбисты» А взрывника Макеи-ча — командиром Ходили с этим предложением в партийную ячейку. Там только посмеялись и сказали:
— Понадобятся бомбисты — вас первыми возьмут. А вы лучше подумайте: вот кончится война, вернутся люди с фронта, а делать им на заводах нечего — крутить машины нечем Думаете, зря от фронта людей отнимают, паек урезывают, чтобы вас тут кормить?.. Юденича отгоним, а наше дело — станцию построить, без нее обороняться нечем будет
Так Гриша и объяснил ребятам. Объяснить объяснил, а все равно с каждым днем тревожнее становится. Уже знакомые, близкие от Тихвина и Ладоги деревни и города упоминаются в военных сводках. Да и не только по сводкам можно догадаться, как обстоят дела на фронте. Все ближе и ближе усатый царский генерал — и на стройке становится душно, тревожно, как в Тихвине, когда горят деревянные дома на соседней улице Ночью снялась целая артель плогников и ушла со стройки. В конторе, куда каждый день заходит Гриша, бывшая барынька Аглая Петровна начала одеваться в яркие, красивые платья, стучит на машинке с ожесточением, поджав губы, и бросает на соседей торжествующие взгляды. А соседи ее, два каких-то старых инженера, уже не приходят на работу в серых толстовках и соломенных шляпах — на них чистенькие инженерские куртки с пуговицами, начищенным» кирпичом. Аккуратные фуражки — зеленые, с черным бархатным околышем, с кокардой из перекрещенных молотков — лежат на столе. Чего ждут?.. Думают, наденут эти фуражки и офицерье пойдут встречать!
И не работают ведь, а целый день хихикают, переговариваются, а зайдет кто-либо из рабочих — сразу же умолкают и с плохо скрытой усмешкой уткнутся в бумаги.
Огородники, что на той стороне, и вовсе взбесились. За свою морковку, да свеклу, да картошку готовы последнюю рубаху сиять с плеч. А то и вовсе не приносят ничего на глинистый пятачок у инструменталки, где они свой базар устраивают. Для белых берегут!
И все чаще появляются на стройке здоровые, мордатые, небритые мужики в шинели накидкой, в солдатских башмаках, в солдатских обмотках. Идет такой, самогоном от него разит за три аршина, руки в карманах, нахальные глаза высматривают, что можно стянуть со стройки И за ним ползет по поселку шепоток: дезертир Раньше эти дезертиры стороной обходили стройку, где на одной из конторских дверей висит страшная для них надпись: «Уполномоченный Уездкомдезер-тира». Там сидит в кожаной куртке, в ремнях, с наганом на
поясе человек из Ладоги. Время от времени вооруженные красноармейцы приводят к нему вот таких обросших дезертиров. Тогда все мальчишки с поселка сбегаются к этой двери, даже к окну подбираются. Никто не знает, что за разговоры идут за дверью. Знают только: если выйдет из конторы дезертир один, и шинель на нем в рукава надета, и пояс на шинели, и глаза веселые, — значит, прощен: повинился и идет служить в армию. А выведут под охраной и нет на нем никакой шинели, — значит, в уезд повели на трибунал А шинель осталась — она для тех, кто с белыми хочет биться!
А сейчас нет уполномоченного, сам, видно, на фронте, заперта дверь с грозной вывеской, и осмелели трусы да предатели. Открыто шатаются по поселку. Да и не только шатаются
ПЕРВЫЙ ПОСТ
Ночью Гриша проснулся оттого, что Петя Столбов тянул его за руку:
— Да проснись, черт сонный! Вставай, бежим в ячейку, всех комсомольцев кличут!
Гриша спросонья не попадал в рукава рубашки. Ночной барак был освещен слабым тревожным светом. Небо в окне было нехорошее, не по-утреннему розовое. На улице гулко и тревожно били о рельс, висевший неподалеку, у склада инструмента. Люди, торопливо переговариваясь, одевались и спешили к выходу.
— Пожар! Машинный склад горит! — хрипло крикнул ему Петька.
Машинным складом назывался большой сарай на задах Волховского проспекта. Там никаких машин ие было, хранились гвозди, проволока, кирки да лопаты. Гриша с Петром бежали по улице, на домах переливались яркие блики огня. В ячейке уже никого не было. Они побежали к машинному складу. Сквозь черную толпу обступавших сарай людей было видно, как огонь вываливается из всех щелей сарая. Какие-то
люди стояли на самом краю крыши; они с треском отрывали доски и кидали их на землю. У двух пожарных машин стояла очередь качальщиков. Толстые намокшие пожарные кишки путались в ногах. Пожарники в ярко начищенных касках суетились у дверей склада. Тугая водяная струя из брандспойтов билась в слабые доски стены, и под напором воды они с шумом ломались, за ними на свободе бушевало пламя. Гришка бросился к очереди у пожарной машины. Кто-то сильной рукой вытащил его из толпы. Это был Сапронов, из рабочкома.
— Нечего тебе, Варенцов, тут делать! Тут и так тушиль-щиков и зевак хватает! Беги к продовольственному складу, скажешь — я послал
Продовольственный склад был в другом конце поселка, огонь отсюда до него никак не мог дойти. Но Гриша послушно, оглядываясь на горящий сарай, побежал к продовольственному складу. Свет пожара до склада почти не доходил, около него было темно, и не сразу Гриша увидел нескольких человек. Среди них был и председатель рабочкома Омулев. Он стоял у самой двери, обняв руками сноп из нескольких винтовок. Гриша тронул его за рукав.
— Григорий Степанович! Меня к вам Сапронов послал. Что надо делать?
Омулев не сразу узнал Гришу.
— А, Варенцов! Винтовку в руках держал? Обращаться с ней умеешь?
— Григорий Степанович, я же в Тихвине в ЧОНе состоял, я тан взводным был!
— Тогда на, держи!
Варенцов вдруг переставшими слушаться руками взял винтовку. Омулев нагнулся к стоящему у него в ногах ящику, взял что-то оттуда и протянул Грише. Гриша почувствовал в своей руке знакомую тяжесть винтовочных обойм.
— Значит, так! Стоять на карауле до утра. Если увидишь — подходит незнакомый, приказывай остановиться. Не послушается — стреляй в воздух. Если после этого не остановится — ну, сам понимаешь!.. На месте не стой, обходи склад, у дверей
пусть сторож все время стоит, вот он Коли заметишь — кто-нибудь ползет к складу, подпускай поближе и бей в упор! Сигнал тревоги — два выстрела подряд. Все, Варенцов.
Омулев и другие рабочкомовцы забрали винтовки, ящик с патронами и двинулись дальше, сразу же растворившись в ночной теми. Старичок сторож со своей берданкой испуганно топтался рядом с Гришей. Григорий, не выпуская из руки винтовку, разорвал бумажную обертку и вынул скользкую, пахнущую маслом обойму. Как на учении в ЧОНе, он толкнул влево рукоятку затвора, потянул затвор на себя, всунул в паз жестянку обоймы и большим пальцем надавил на верхний патрон. Патроны послушно и легко ушли в магазин. Гриша двинул вперед затвор, верхний патрон ушел в ствол, он повернул рукоятку направо, закрыл затвор и, как его учили, поставил затвор на предохранитель. Потом, держа винтовку в руках, пошел вокруг склада.
Было очень тихо. В этой тишине отчетливо в той стороне, где горел машинный склад, слышался треск огня, шум людских голосов и чьи-то уверенно-командные выкрики. Зарево стало
меньше, и темнота вокруг Гриши еще гуще. Григорий медленно обходил склад, всматриваясь в темноту. Он не сомневался, что через несколько минут увидит черную подлую фигуру ползущего бандита. «Сначала сшибу его одним выстрелом, потом подыму тревогу Не забыть только опустить предохранитель »
Утром пришел Омулев и, забрав у него винтовку, отпустил Варенцова домой.
— На работу сегодня не пойдешь, — сказал ему Омулев. — ^ К шести часам придешь в рабочком, а потом пойдешь на пост.
За неделю после пожара много постов пришлось переменить Грише. Он стоял по ночам и у продовольственного склада, и у пожарища, где в стороне, под открытым небом, были, сложены уцелевшие инструменты, и у наплавного моста через Волхов, а одну ночь и у самой конторы. Пожалуй, эта ночь у конторы посредине поселка, на глазах у людей, была самая дурная, самая тревожная
В конторе было странно людно. Керосиновые лампы горели во всех комнатах, и везде были, как днем, и еще больше чем днем, люди. Только среди них не было ни надменной Аглаи Петровны, ни расфра[{тившихся инженеров. Были все комитетчики, были из партийной ячейки, был сам Графтио — таким его Гриша никогда не видел: сумрачный, ссутулившийся, молчаливый. Он все время сжимал и разжимал кулак и, глядя на ладонь, говорил:
— Да не может этого быть! Ведь человек как человек был Ну, не умный, не расторопный, просто суетливый Может, что случилось с ним?..
— Да ничего с ним не случилось, Генрих Осипович! — досадливо перебил главного инженера прораб Кандалов. — Просто сбежал, подлец! Сбежал к Юденичу или же к ревель-ским заводчикам. Он и раньше, еще до войны, у них работал. Посмотреть надо: не взял ли с собой что-либо из проекта. Такая гнида и непостроенную плотину попробует продать!
Не сразу Гриша догадался, кто сбежал. А потом понял: Фрид сбежал. Сам начальник Волховстройки! Был такой. Что
он начальник, можно было догадаться только потому, что разъезжал всегда на пролетке и лошадь его — серая в яблоках — была раскормлена не меньше, чем ее хозяин. Никогда начальник стройки не приходил вниз к реке смотреть, как сортируют лес, не встречал его Гриша в рабочкоме, да и в конторе он был редким гостем. Все время пропадал невесть где. «Согласовывает!» — говорили И вот этот начальник сбежал!.. Сбежал к самому Юденичу! Гриша сразу же представил себе, как толстенький Фрид, угодливо изгибаясь, стоит перед Юденичем и протягивает ему украденные бумаги Что в них? Может, чертежи станции, может, списки коммунистов и комсомольцев И среди них в этом списке, напечатанном на машинке — наверно, Аглая печатала, — фамилия: Варен-цов Г. И
Может быть, если бы Гриша подольше был в конторе, он бы и узнал точно, что с собой увез предатель. Но Гришу послали на пост, и до утра он стоял у дверей конторы и на вопросы редких прохожих, останавливавшихся у освещенных окон, сурово говорил:
— Значит, дело есть Проходи!..
Впрочем, через неделю забыли о Фриде, как будто вовсе его не было на свете. И стало спокойнее — Юденича начали оттеснять от Петрограда. И на Волховской стройке улеглась тревога, а Аглая перестала рядиться в яркие платья, и сняли парадные диагоналевые куртки два инженера в конторе. И Гриша перестал стоять с винтовкой по ночам, а днем спать тревожным, непрочным дневным сном в пустом и скучном бараке. И снова он с утра уходил на берег и весь день с багром в руках тащил из воды скользкие, тяжелые бревна и укатывал их в штабеля.
ВЗРЫВООПАСНО!
Лето и осень в тот год были жаркие, два месяца дождя не было. Уже август кончался, а все еще было по-летнему жарко, работали без рубах, в перерыв и после работы ребята с визгом залезали в холодную волховскую воду и ныряли под бревна, хватая друг друга за пятки. Солнце с утра всходило в мареве и в мареве заходило, суля на следующий день такую же жару. Возвращаясь с работы, Гриша посмотрел на солнце, уже опустившееся к самому краю дальнего болота. Оно было краснее обычного, горизонт растворился в палевой дымке, и по всей стройке, по всему поселку тянуло щекотавшим в носу терпким дымком.
— Слыхал, комсомолист? — сказал ему, разуваясь, Федосов. — Торф горит. Не иначе — дезертиры подожгли Пожар учинить — это у них первое дело.
— Ну и дураки! Сюда боятся сунуться, так болото жгут! С лягушками воюют!..
— Сам ты дурак! Ветер-то всегда с болота! А торф — он не сарай, его из кишки не зальешь Нет, они, дезертиры да беляки, свое дело знают. Бегал ты цельную неделю с винта-рем, да и не усмотрел за кем надо
Утром Гриша, проснувшись, долго не мог понять, где он Барак был наполнен едким дымом. Такой же дым стоял на Волховском проспекте. Он внсел плотной пеленой над всем поселком, над всей Волховстройкой. До выхода на работу было еще далеко, но барак уже весь проснулся, рабочие торопливо одевались.
Дверь барака распахнулась, вбежал Сапронов из рабочкома:
— Всем сейчас же к машинному складу за лопатами! — И тут же выбежал обратно.
Гриша кинулся к складу. Лопат уже не было. Люди хватали кирки, ломы, ведра — все, что было под руками. Цепочки размахивающих руками людей бежали все в одну сторону, к болоту, затянутому сплошным дымом. И сразу же сердце у Гриши учащенно забилось и противный холодок побежал по спине Там стоял тот самый домик без окон, на котором висел картон с загадочной и грозной надписью: «Взрывоопасно!»
Сотни людей копали узкую и глубокую траншею по краю болота. Они работали молча, ожесточенно, вытаскивая рука-
ми упругие кочки и гнилые пеньки. Огонь был уже неподалеку, он на первый взгляд казался беспомощным и невинным. Плотные струйки дыма тонкими жгутами стлались по низине. И, когда ветерок относил их в сторону, видны становились небольшие языки пламени, такие маленькие и вялые, что их можно было затоптать ногами, залить небольшим ковшиком воды Но этих язычков было много, их было несчетно, они ползли — как белые! — со всех сторон
Подобранной где-то лопатой Гриша копал, обливаясь потом, задыхаясь от дыма. Даже разгоряченное тело уже чувствовало другое тепло — жаркое, опасное, шедшее от горящего болота.
— Каюк, братцы! Бежать надо, сейчас как рванет — одна пыль от нас останется! — вскрикнул кто-то рядом
— А ну, давай сюда! Ящики будем таскать!..
Перед ниып был взрывник Макеич. Его черные усы повисли, мокрые от пота, запорошенные пылью и пеплом.
— Ну, чего вы? — ожесточенно крикнул Макеич. — Динамит надо перетаскивать, пока время есть!
Люди бросили лопаты и кирки. Они разогнулись, вытирали ладонями пот с лица, но никто не мог себя заставить сделать первый шаг. Гриша бросился вперед. Он больно укололся о проволоку забора, вырвал кол и оттащил проволоку в сторону. Дверь динамитного склада была раскрыта, несколько человек вытаскивали тяжелые ящики и складывали их на землю. Неподалеку стояла запряженная телега, на телеге лежали ящики с динамитом. Лошадь равнодушно отмахивалась хвостец»! от дыма, как от оводов. Ей было все равно, что возить: навоз или динамит Обливаясь потом, Гриша вытаскивал из склада ящики и передавал их рабочим.
— А возчик где? — крикнул Макеич. — Куда возчик подевался? Эх, удрал-таки, заячья душонка! Заслабило! — Он повернул голову и увидел Гришу. — О! Комсомольский начальник из Тихвина! Берись-ка за вожжи и вези динамит к реке, по нижней дороге. Вези потише, не тряхнись! Там разгрузят, и сразу же возвертайся!
Варенцов поднял с земли веревочные вожжи и стеганул лошадь. Та привычно натянула оглобли и тронулась с места. Только отъехав от динамитного склада, Гриша увидел, что никакой, собственно, дороги и нет. Колея, пробитая, видно, еще весной, шла по твердым глинистым буграм. На каждом бугре телегу вскидывало, и страшные динамитные ящики начинали сползать с краю телеги. Гриша останавливал лошадь и начинал поправлять ящики. Потом он кричал: «Н-но-о-о!» — и конь опять начинал неторопливо перебирать ногами.
Позже Варенцов никак не мог вспомнить, сколько раз в этот день он ездил от склада к реке и от реки к складу. Назад, порожняком, он гнал лошадь, стоя в телеге и размахивая вожжами. Шел час за часом, в горле першило от пыли, дыма, от крика «н-но-о-о» Только к вечеру Макеич дернул его з?, рубашку и сказал:
— Хватит! Кажись, уберегли склад
Гриша осмотрелся. Дым еще по-прежнему стлался густой пеленой, но в нем уже не было страшного нарастающего тепла. Вокруг склада тянулась глубокая черная траншея; она была как настоящий окоп, с землей, выброшенной на бровку. В глубине ее поблескивала вода. Люди уже не копали траншею, а затаптывали огонь, ставший бессильным, сникшим Варенцов опустился на динамитный ящик и вытянул вдруг заболевшую хромую ногу Лицо Макеича стало совсем грязным, уставшим.
— Вот видишь, тихвинец, как у нас бывает! Передохни, малец, немного. С утра начнем возить динамит обратно. А комсомолец ты, видать, настоящий. Я это еще по твоим галифе заприметил Ну, быть тебе взрывником! Не сразу, конечно, а все же быть!
И через пяток дней пошел Гриша Варенцов во взрывную команду бурильщиком.
ДВЕНАДЦАТЫЙ ТАЛОН
ГРИШИН ШКАФЧИК
Карточка лежала в правом углу верхней полочки Гришк-ного шкафчика. Когда-то Гриша очень гордился этими шкафчиками, сколоченными из тонкого, необструганного теса. Однажды, вернувшись с работы, споткнулся он о стоявшую на полу миску с остатками каши, — миска была костромича Федосова, самого степенного жителя барака. Федосов никогда не надеялся на столовский ужин — или будет, или нет Вернее недоесть за обедом и захватить кашу в барак — все же не ляжешь спать на голодное брюхо. Пока Федосов длинно и скучно объяснял Грише, что ему, комсомольцу, чужого не жалко, потому что его, Гришину, пайку никто из живота не вынет, Гриша с внезапной тоской посмотрел на своп узкий, неуютный
барак. Кое-как заправленные койки дыбились горбами, и Гриша, как и все остальные жители барака, знал, кто что хранит пол тонкими матрацами, под серыми и жесткими подушками. Плотник Федосов — тот всегда приносил с собой и тщательно прятал нехитрые приспособления своей профессии: напильник и обломок точильного камня, почерневший от угля шнур и толстый угольный карандаш. А Гришин приятель Петька Столбов, уходя на работу, быстро запихивал под подушку стопку книг и толстую конторскую книгу — в нее он переписывал все роли, которые играл в спектаклях в клубе Под койками самых хозяйственных людей стояли миски, погнутые ведра, остатки скарба, привезенного еще из деревни.
Вот тогда-то, на другой день после стычки с Федосовым, Гриша побежал в рабочком и начал уговаривать комитетчиков — надо рабочим шкафчики сделать. И сделали! Сам Графтио, у которого лишний гвоздь нельзя было выпросить, написал, чтобы отпустили на шкафчики тес, гвозди и даже большие оконные петли — других, поменьше, не было. Целую неделю плотники сколачивали шкафчики. И когда они были расставлены у каждой койки, то из других бараков приходили смотреть, как красиво стал выглядеть барак, как вдруг стройны и аккуратны стали кровати. И Паня, уборщица, теперь каждый день выметала пыль из-под кроватей и больше уже не ссылалась на то, что не приучена она в чужое хозяйство залезать Уже давно эти шкафчики перестали звать «Гришкиными», и уже стояли они во всех бараках, и каждый из них — если открыть дверцу — мог рассказать о характере и склонностях своего владельца.
Гришин шкафчик был почти пустой. На нижней полочке лежали запасные рукавицы да старый солдатский пояс с царским орлом на пряжке. А на верхней — жиденькая стопка книг, вырезанные из газет стихи и частушки. Все они были мятые, захватанные не мытыми после работы руками. Только карточка была свежей, чистой, как новенькая, хотя и выдали ее уже давно. Серая ломкая бумага была разделена типографскими линейками на шестнадцать частей, на каждом та-
ло-не стоял номер. Еще ни разу не было такого случая, чтобы пришлось отрывать шестнадцатый талон. Да что шестнадцатый! И до восьмого, до десятого редко когда доходило. На первые талоны еще выдавали по осьмушке хлеба, по пачке махорки, по полфунта соли. Один раз по седьмому талону выдали два куска резины — на подошвы. Но все равно новоладожская типография каждый раз аккуратно делила карточку на шестнадцать частей. А вдруг! Никто ведь не знал, что могут завтра привезти на Волховскую стройку, что удастся начальству достать
Вот говорят, что молодым легче голодать, они посильнее Нет! Утром еще ничего. Григорий быстро съедал половину своего куска хлеба, запивал крутым кипятком — душистым от кипрейного сухого цветка, что заваривали вместо чая. Жиденько, но встанешь на работу, и как-то забывалось. А вот к середине дня уже все чаще поглядывал на солнце — как подойдет оно поближе к одинокой сосне на горке, значит, скоро шабашить и можно бежать в столовую. Там тоже не накормят досыта. Те же пустые щи из серой капусты и несколько ложек шрапнели — каши из перловой крупы, такой крупной и жесткой, какую раньше Гриша и не видывал никогда. А все же вроде и наелся. Но в столовой кормили лишь работающих на стройке. А вот семейным, тем, что жили на «лягушкиных дачах» — в деревянных домиках у края болота или же в Дубовиках, — тем приходилось надеяться только на карточку. Редко-редко по карточке свой законный фунт хлеба получишь. Еще на месяц выдадут на едока по полтора фунта чечевицы, по четверть фунта мыла, по полфунта соли, по одной коробке спичек. А все, что сверх этого, пойдет детям. Талон пятый — детям до одного года по два фунта манки; талон шестой — им же по одному фунту картофельной муки и фунту клюквы Десятый талон — детям до десяти лет по семь с половиной фунта пшена; восьмой талон — всем детям до шестнадцати лет по полфунта сахарного песка, полфунта пряников и четверть фунта карамели
Всё, ребята! Больше ничего нет. Бедна наша Советская
Республика, последнее наскребла. Красноармейский паек урезала, рабочим по четвертушке хлеба выдала, лишь бы детей как-то поддержать Лежат на юге богатые земли, где есть и белый хлеб, и толстое розовое сало, и густая, холодная сме-гана, только отрезаны они белыми, подступившими уже к самому Орлу Да и северной клюквы не соберешь вволю — совсем неподалеку проходит фронт.
Григорий это все знал. Если бы не нога, сломанная, когда мальчонкой упал с крыши, сам был бы на фронте и дрался с белыми, чтобы забрать обратно наши земли, накормить детей, не видеть, как стоят они возле окон столовой и смотрят на рабочих, хлебающих щи Чтобы не читать в «Новоладожской коммуне» советы, как печь хлеб из шести частей картофеля и одной части ржаной муки Была бы картошка — и советов таких не надо бы!.. Зато другой совет — как сушить свекольную ботву, растирать ее в муку и печь из нее хлеб, — тот дельный! Гриша сам, бывает, ест этот хлеб. Противный, липкий и сладковатый. Радости от него никакой, а голод обманывает
Второй год работает Гриша на Волховстройке, а один только раз видал белую муку. И не видел даже, а трогал ее — таскал мешками, горстями подбирал в вагоне, скользкую, белую, как снег, вкусную, как пряник, муку. Наверно, вкусную. Гриша ее не пробовал. Когда узнали, что около Зеленецкого монастыря стоит на путях вагон белой муки для Волховской стройки и что местные власти этот вагон отцепили и хотят забрать себе, волховские коммунисты прихватили с собой десяток комсомольцев и кинулись туда. Самоуправщики тыкали пальцами в надпись мелом на вагоне: «В Новоладожский уезд, на Волхов».
— А мы не уезд? А что Волхов — не наш?!
Ну, да волховстроевских большевиков не переспоришь, угрозами не запугаешь! Народ серьезный, в десяти водах мытый-перемытый, и не за свое стоят — за стройку. За ленинскую стройку. Местные начальники быстро это поняли и отступились. Целый день добывали подводы, грузили мешки, возили
на Волхов. Солнце клонилось к столовским щам, в животе у Гриши привычно начало сосать, и от запаха муки кружилась голова и подташнивало. Но до столовки далеко, муку не бросишь. «Эх, надо было сказать Петьке, чтобы хоть кашу мою взял да в барак принес!» — с досадой только подумал Гриша. Самый голодный и трудный был этот день для Баренцева. Поздно вечером, глядя, как Гриша ладонью сч^щает запорошенную мукой рубашку, Федосов спросил:
— Вы из нее лепехи там пекли или же так запросто — болтушкой ели?
Гриша на него ошарашенно посмотрел. Даже не обиделся. Ему и в голову не могло прийти, что кто-то всерьез может подумать, что они, коммунисты и комсомольцы, могли взять себе хоть щепотку этой драгоценной муки. Комитетчик Сергей Петрович Лагутин — а у него трое детей — вместе с ним собирал в вагоне рассыпанную, смешанную с пылью муку, ссыпал ее в мешок, который он где-то достал, сам этот мешок потом зашил, углем на нем написал следующий номер и сказал: «На заболтку в столовую пойдет»
Надолго растянули этот вагон. Несколько месяцев Гриша Варенцов видел у ребятишек в руках редкостное лакомство — белую лепешку. Когда все равно голодают, когда у всех равная забота, легче переносить голод. На самой стройке всем было или одинаково хорошо, или одинаково плохо. Не привозили хоть какой ни на есть муки — и всем уменьшали кусок хлеба. Получали несколько кулей леденцов — каждый мальчишка и каждая девчонка бегали по улице, бережно ворочая , языком лежавший за щекой сладкий камешек.
МЕШОЧНИКИ
А вот на станцию, на Званку, Варенцов не любил ходить. И, когда его посылали туда разгружать вагоны с материалами, перевозить лес, шел неохотно. Кто видал их, эти железнодорожные станции девятнадцатого или двадцатого годов, тому
их не забыть! Маленький деревянный вокзал забит серыми, грязными людьми. В тряпье копошатся и не по-человечески, а как-то по-птичьи пищат совсем малые дети. Рядом с ними сидят неподвижно их матери, ссохшиеся от голода и отчаяния. Это они из Питера уезжают, спасают детей своих А спасут ли? Остановился на станции поезд: два-три классных вагона, десяток теплушек и платформ. В теплушках ящики с гвоздями, острый запах линючей мануфактуры, суровые лица людей, недобрый блеск винтовок — питерские рабочие едут за хлебом. Но и другие люди едут из бывшей столицы. Сытые,
раскормленные, довольные. Еще по-летнему тепло, а на деревенской бабе поверх выцветшего ситчика — богатая мужская господская шуба на хорьковой подкладке, с бобровым воротником. Крепко держится она за мешки, набитые за бесценок выменянной одеждой, посудой, всякой всячиной, любезной ее кулацкой душе Чего только не везут из голодного города! И граммофоны, и мраморные умывальники, и солдатские шинели Да, да, н шинели везут! Недавно в «Новоладожской коммуне» было напечатано объявление: «Предлагают всем, у кого есть, сдавать в военкомат старые солдатские шинели — красноармейцев не во что одевать » А эти, сытенькие, всего нахватали в Питере и еще шинели везут. На половики, что ли?
А вот и те, что едут в Петроград за хорьковыми шубами, за граммофонами, за последней сол-
датской шинелишкой с рабочих плеч? Мешки с мукой — гранеными стаканами будут продавать ее, бутылки с маслом — за одну такую бутылку небось обчистит целый дом!.. Мешочники!.. Вот сидит одна такая,, выламывает ножку у жареного цыпленка да локтем придерживает краюху хлеба, чтоб не отняли Гриша ненавидел этих людей так, что у него иногда дыхание перехватывало. Кулацкое отродье!
Да что говорить, и около них жили такие! На той стороне Волхова, как раз напротив стройки, на богатой пой.ме раскинулись огороды. Каждый кустик картофеля сидит ухоженно, гордо, как цветок в горшке. Капустные кочны крепкие, что валуны. Выполотая розоватая морковь вянет в кучах выдранного сорняка. Попробуй только какой-нибудь мальчишка со стройки взять эту ненужную вялую морковку — голову оторвут, собаками затравят!.. На что уж на Волховстройке
живут одни рабочие, у которых нет ни мраморных умывальников, ни шуб, а все равно — не стыдятся приходить выменивать у них последнее. За пятак картошин — коробку спичек. За баночку муки — полотенце или наволочку. Могут и две баночки дать — укради со стройки пилу, или лопату, или еще что
Один такой — мордатый продавец пышек — однажды поманил Гришу пальцем, когда тот проходил мимо и невольно глянул голодными глазами на серые пышки. Гриша остановился.
— Слушай, парень, ты на тачке работаешь, что ли, а?
— Ну, на тачке хоть, а что? — Варенцов работал не на тачке, был бурильщиком на ломке камня, но злое любопытство разобрало Григория: чего от него может такой кулачище захотеть?
— Ты вот что: с тачки своей колесо сними и тащи мне. Пять пышек дам или хочешь — банку муки.
— Зачем же тебе, дядька, колесо от тачки?
— Мне пригодится. Тележку сделаю — навоз возить. А нет — пускай лежит. Есть не просит, еще понадобится
— А я как буду работать? Колес-то на складе нет. Деревянные стали делать
— Дадут! А не дадут, пес с ней, с тачкой! Все равно вам эту станцию не построить! И слава богу! Нужна она, как дырка в голове!
— Дурень ты! Ведь без нашей станции стоять и дальше питерским заводам. Рабочим жрать нечего, народ без гвоздей, без мануфактуры, без сапог. Тебе же все это тоже нужно!
— А на кой мне? Я наменяю Мне хватит! А вот если вы дуриком реку перекроете, зальет мои огороды да мои покосы. Ну, не приведи господь вам такое исделать!..
— Сделаем! — бешено закричал Гриша. — И станцию построим, и огороды твои потопим! Свои заведем, а тебя и близко к ним не подпустим! Подависьты своими пышками, кулак проклятый!
Мордатый схватился за свою миску с пышками, придвинул ее к себе и поспешно прикрыл дерюжкой, как будто Гриша мог
ее схватить Но Гриша и не думал о пышках. Умирай он с голоду — и то не дотронулся бы до этих кулацких ноздреватых хлебцев! Они были ему ненавистны, как ненавистен сам их хозяин, ненавистны раскормленные мешочницы, весь их черный и несправедливый мир
Задыхаясь, дергая ворот рубашки, Гриша бежал на работу. Из-за этой нечисти еще и опоздать можно! Кого вздумал агитировать! Кулака. За огороды свои боится. Да дай им волю — они за свою морковку, за свои пышки детям горло перегрызут! И Гриша невольно вздрогнул, вспомнив детей в Ладожском детском доме — тихих, вялых, с тоненькими шейками, такими тоненькими, что им трудно было держать большие детские головенки И на работе, весь длинный день, эти дети не выходили из Гришиной памяти.
ГОЛОДНО
А свою работу Гриша еще любил и за то, что на ней ни о чем нельзя думать, кроме как о самой работе. Когда незнакомые спрашивали Гришу о его профессии, он отвечал одним словом: взрывник И, уходя, чувствовал на себе почтительные взоры Взрывник! Самая опасная и почетная профессия на Волховстройке!
Ну, по правде говоря, Гриша Варенцов ничего не взрывал. Редко-редко его посылали помочь поднести динамит. Он тащил тяжелые деревянные ящики, тащил с напряжением, боясь споткнуться и опасливо поглядывая на свой страшный груз. Но когда он осторожно клал на землю таинственный гремучий груз, пожилой взрывник Макеич небрежно пинал ящик ногой, с треском отрывал от крышки доски и, не глядя на Гришу, говорил:
— А ну, мотай, парень, отсюда, ежели еще нужны тебе твои ручки-ножки
А все-таки Гриша был взрывником, потому что без него и Макеичу делать было нечего. С утра и до вечера Гриша бил
шпуры — длинные ямки в камне. Туда взрывники заложат динамит, положат запал, протянут шнур, ткнут в конец его цигаркой и побегут прятаться в вырытые щели. Огонек, как живое золотое насекомое, быстро побежит по шнуру, доберется до сделанной Гришей ямки, на мгновение спрячется туда — и дрогнет земля, подымется вверх пепельная туча пыли и щебня, и все кругом заполнится опасным кислым запахом взрыва
А бить шпуры трудно. На лекции инженера Кандалов а Гриша слышал, что придумали для этого такие молотки, которые сами бьют шпур — рабочему только надобно держать его в руках. По резиновому шлангу идет к нему от машины сжатый воздух и с силой толкает долото молотка. Может статься, что и у них когда-нибудь такие будут. А пока каждое утро Гриша достает тяжелое стальное долото, приставляет его к начатой накануне ямке, и Гришин напарник бьет по долоту тяжелой кувалдой. Пройдет полчаса, и рабочие меняются местами: Гриша берется за кувалду и бьет по долоту с таким ожесточением, как будто перед ним не мертвая сталь, а Юденич, Деиикин, белое офицерье, мордатые мешочники
Гришина работа считается на стройке самой тяжелой. Им даже положен специальный паек. Да какой там паек сейчас! Гришин напарник, немолодой, но жилистый мужик Евстигне-ич, когда откладывает в сторону кувалду и слегка дрожащей рукой начинает сбивать со лба капли пота, любит припоминать:
— Правильно говорят: не полопаешь — не потопаешь На такой работенке без мяса ноги быстро протянешь!..
Гриша Варенцов не любит эти прибаутки Евстигнеича. Мясо! Они давно уж забыли, каково оно на вкус. За все время только два раза в столовую привозили две бочки солдатской солонины — серой, склизкой, с душком А все равно щи уже были другие: вкусные, наваристые, сытные Зимой тоже было — привозили несколько раз мясные туши, по маленьким кусочкам раздавали на детские талоны. А взрослым не доставалось. Конечно, надо бы.,. Евстигдеич-то прав; все меньше
сил становится, все труднее и труднее кувалду в руках держать.
А работать надо больше, спорее. Плотники уже нарубили много ряжей, их теперь следует набивать камнем, отгораживать реку. Грабари стоят, ругаются вовсю Каждый день зачастил к ним прораб Иннокентий Иванович Кандалов. Прибежит, померяет шпуры и недовольно морщится. Угрюмо стоит рядом с ним взрывник Макеич, усы поглаживает, ногой камешки отшвыривает Несколько раз сам Графтио приходил, с ним инженеры, комитетчики, из Питера кто-то Нет. не кричали они, не ругались, сами видят — работают Гриша и его товарищи на совесть. Изо всех сил. Сколько могут, столько и работают. Недаром бурильщики на стройке не слезают с Красной доски. И когда приезжают на стройку мужики из деревень, рабочие из Питера — посмотреть, что же это делается такое на Волхове, их ведут всегда к скале, где работает Гриша. Приезжала раз с ребятами из Ладожского детдома и Зоя Сергеевна
Волховские комсомольцы — шефы этого детского дома. Несколько раз бывал там и Гриша Варенцов. «Живую газету» показывали ребятам, футбольный мяч подарили, учили в футбол играть. В «живой газете» Гриша всегда меньшевика играл. Выдумал их руководитель, что меньшевик — он обязательно хромать должен Вот каждый раз Гришке и приходится наклеивать остренькую паршивую бороденку, надевать взятые для этого у Макеича очки и выламываться — пакостные слова на Советскую власть выговаривать А все из-за хромой ноги!
Но Гриша Варенцов готов и бороду наклеивать и ломаться перед ребятами, лишь бы увидеть у них на лицах слабую, застенчивую улыбку, услышать писклявый, захлебывающийся детский смех. А смеются они так редко В Ладожском детском доме живут сироты: у некоторых отцы погибли на фронте, а матери умерли от сыпняка, от голода Других подобрали голодных, вшивых на станциях, где их родители — п сами ребята не знают Есть и питерские — мать умерла, а отец
дерется с белыми и жив ли — неизвестно Каждый раз, когда Гриша подходит к кирпичным монастырским стенам, за которыми помещается детский дом, у него начинает щемить сердце.
Ну, когда взрослые голодают, тут ничего не сделаешь, надо потерпеть — революция, война Волховстроевские ребятишки — те тоже не сладко живут. А все-таки дети как дети. Бегают чу.мазые по всей стройке, гоняют в лапту, дерутся между собой, кричат и смеются так, что репетировать в клубе нельзя!.. И то — живут при матерях, отцы работают, все самое сытное и вкусное — им Мать всегда придумает, как своих детей накормить: пайковый керосин обменяет на картошку, за спичечный коробок соли большую крынку молока возьмет или пойдет к огородникам поработать: те от жадности своей хоть мало дадут, но все же дадут
А детдомовским ребятам — только скудный казенный паек! Видел Гриша, как их кормят. Жиденькая ячневая сечка, суп из капустных листьев с сушеной картошкой — на тарелку два-три картофельных листика, тонких, как папиросная бумага Все можно перенести, но смотреть, как ребята вылизывают тарелку с кашей, чтобы ничего ие осталось, — смотреть на это страшно, нехорошо!.. И день-деиьской слоняются по монастырскому двору неулыбчивые детишки на кривых, рахитичных ножках, с тонюсенькими шейками, не держащими голову, — от этого, что ли, они свои головки набок держат?.. Да и воспитатели не лучше выглядят, чем деги. Едят ту же кашу, и Гриша знает — лишнюю ложку не возьмут. Заведующая, завхоз, воспитательницы все время в бегах: ходят в уком, в наробраз, по волости — ищут, чем бы детей прокормить. И к ним на стройку приходили, и не раз, комитетчики собирали рабочих и спрашивали: «Дадим детдому мешок пайкового сахара или манки?» — «Дадим!» — без запинки соглашались рабочие
ОДИН ФУНТ ВЕРБЛЮЖАТИНЫ
В тот день Гриша Варенцов не задержался на работе. Не покурил с Евстигнеичем, не выуживал у Макеича жуткие истории о катастрофах на взрывных работах — спешил в клуб на репетицию новой постановки. Поселок был непривычно оживлен. Уже была поздняя осень, подмораживало, белая крупка резала воздух, а народ стоял у бараков и о чем-то весело разговаривал.
— Слышал? — Петька Столбов схватил Гришку за плечо. — Мясо привезли! Целый вагон мяса! И знаешь какое — от вер-блю-дов! Цельных верблюдов привезли! Вот попробую! Никогда в жизни не едал. Пойдем на склад, посмотрим?
— Пойдем!
Около склада толпились люди. С подвод сгружали мясо. Действительно, Гриша и не видывал никогда такого мяса. Синее, непривычное глазу. Огромные кости — выше человека. Странные, не похожие на говяжьи, головы
— Вот из этих мослов стюдень будет! — Сосед по бараку Федосов толкнул Гришу. — У нас в Костромской в стюдень кладут чесноку да яйца — это да, получается!..
Первым, кого на другой день Варенцов встретил в поселке, возвращаясь с работы, был Федосов. Лицо его было недовольное, брови насуплены.
— Плакал мой стюдень! Мы, плотники, носом не вышли мясо есть! Оно для таких верблюдов, как ты. Тяжелая, вишь, работа у него! У нас, плотников, легкая она, что ли?
На двери конторы висело объявление, написанное на толстом белом листке из старой конторской книги: «Рабочим, занятым только на тяжелых работах — бурильщикам, землекопам, плитоломам, кузнецам, носильщикам и тачковозам, — будет выдаваться по одному фунту мяса по талону № 12»
В коридоре конторы толпились рабочие. Они были тихи. В комнате громко разговаривали. Гриша узнал голос Зои Сергеевны. Он плечом протолкнулся сквозь толпу и втиснулся в комнатку, полную людей и махорочного дыма. Зоя Сергеев-
на стояла бледная, подняв кулачки, будто от кого-то защищалась. Напротив нее хмуро сидел председатель рабочкома Омулев и, не подымая головы и не глядя на людей, говорил:
— Правда ваша, товарищ Карманова. Неужто не понимаем мы, что у вас за детишки, и не знаем, как они живут?.. Ну рады бы им помочь, от себя готовы отнять, так ведь это не простое мясо, не для всех, а целевое — вот так и написано: це-ле-во-е. Значит, для точной цели, для производства!
— Григорий Степанович! Ведь они маленькие, доктор говорит, что не могут они расти без мяса, без молока, без сахара. Ну хоть немножко их подкормить, не всех, самых маленьких, самых слабых
В голосе Зои Сергеевны уже не было никакой надежды, одна только тоска и отчаянная вера в то, что вот немного мяса — и выправятся у ее детей кривые ножки, окрепнут тонкие шейки, появится в глазенках живой блеск
— Не имеем права! Даем это мясо только тем, у кого из рук тачка да кувалда валятся. Ведь не могут они на такой адовой работе на одном куске хлеба да на капусте, поймите это, товарищ мой дорогой!
Омулев поднял голову, как бы невидящий его взгляд уставился в Гришу и оживился.
— Вот, видели Варенцова? Молодой еще парень, хороший наш бурильщик, активист, одним словом, а ведь идет с работы — шатается! Я разве не вижу? У меня что — душа не болит за него, за его работу? Не отбурят шпуров, не нарвем сколько надо камня — не сумеем, значит, ряжи опустить. Ну, Варен-цов, скажи ты хоть!..
Застывший от волнения Гриша встрепенулся:
— Я я сейчас, Григорий Степанович
Гриша нырнул в расступившуюся толпу, он выскользнул из тесного коридорчика и, забыв про свою хромоту, побежал по темной уже улице. В бараке рабочие раздевались, снимали портянки, рассматривали лопнувшие солдатские ботинки Фе-
досов, сидя на койке, как бы продолжал свой разговор с Гришкой:
— Да, а без плотников ни ряжей, ни бетонных работ — ничего нет. Как бараки рубить, как мостки делать, днем ли, ночью ли, — так, пожалуйста, товарищи хорошие, к плотникам идут, а как мясо давать — так уж и все забыли
Гриша подбежал к своему шкафчику, рванул дверцу. Новенькая, как бы еще и не тронутая, карточка лежала в углу на верхней полочке, Гриша схватил карточку в руки, повернулся и, не отзываясь на вопросительные взгляды, побежал к выходу.
В конторе Зоя Сергеевна уже не стояла, а сидела у стола на табуретке — усталая и притихшая, будто из нее, как из футбольной камеры, весь воздух выпустили Омулев молча сворачивал огромную, с палец, самокрутку. С трудом переводя дух, Грнша развернул карточку, оторвал двенадцатый талон и положил его перед председателем рабочкома.
— Вот, Григорий Степанович
— Что это ты? Зачем мне даешь?
— Мясо, значит, которое мне положено. Пусть детям детдомовским. Я что ж Я поработаю и так. Я сильный А они, дети то есть, они не могут! Они ведь расти не будут!!!
Тихо стало в коридоре. Омулев отложил цигарку, бережно взял талон, расправил его заскорузлыми пальцами, задумался на секунду и положил возле Зои Сергеевны.
— Спасибо тебе, товарищ Варенцов Жалко, что не могу я свой талон отдать — не положено мне его
И Евстигнеич, вдруг неизвестно откуда-то появившийся, протиснулся к столу, не спеша вытащил из куртки завернутые Б кусок брезента какие-то бумажки, не спеша достал мятую свою карточку, не спеша оторвал двенадцатый талон, не сказав ни слова, положил его на Гришкин талон и застенчиво отошел
Григорий не видел людей. Он не сводил глаз с кусочка стола возле Зои Сергеевны. Там уже не один, не два талона лежали — кучка их росла и росла. Рабочие молча протискивались
к столу и один за другим клали на стол талоны Григорий Степанович облокотился на стол рукой, державшей все еще незажженную цигарку. Он слегка покачивался, думая свою какую-то думу. Глаза у него стали светлые, веселые. Уверенные глаза. Будто этой вот кучкой талонов на верблюжье мясо он всех накормит, все сделает. И дети будут расти, и станцию построят, и Гриша Варенцов не будет шататься от слабости, и всем, всем станет хорошо
А может, так и будет?..
ЕКАТЕРИНОСЛАВ — ГОРОД ЖЕЛЕЗНЫЙ
НА МЕРТВОМ ЯКОРЕ
Стройка умирала. На взгляд человека свежего и неопытного, все, казалось бы, шло обычно. Утром из бараков выходили рабочие, шли к инструменталке, разбирали инструмент и отправлялись по своим местам. Конторские служащие рассаживались за свои столы, начинали стучать костяшки счетов, и шум разговоров перекрывал пулеметный треск пишущей машинки. Из трубы столовой тянул тонкий дымок, и прелый запах обещал на сегодня все тот же обычный капустный суп. Все, казалось, было как всегда. И все же стройка умирала
Каждое утро, обойдя все строительные площадки, Графтио приходил в свой кабинет и с отчаянием перебирал в уме всё новые приметы умирания строительства. Перестали строить
бараки номер тринадцатый и номер пятнадцатый — еще одна артель плотников снялась со строительства и ушла искать работу повыгоднее На отсыпке ряжей тачек стало еще меньше — тачкн ломаются, а колес к ним нет А главное — даже тем немногим людям, которые еще остались на Волховстройке, нечего делать Рабочие сидят, сворачивают махорочные цигарки и, когда к ним подходит главный инженер, не подымаются к своим местам, а сумрачно и вопросительно смотрят на начальство А что ж начальство! Оно не может йм дать ни железа, ни инструмента, ни проволоки, ни моторов Ничего этого нет. Вот так крутится по инерции огромный и тяжелый маховик. Еще продолжается бешеный бег колеса, еще невозможно разглядеть спицы, но уже ушла из маховика живая сила, приводящая его в движение, и опытный глаз инженера видит, незаметное еще другим, постепенное замедление бега
Почти окончены подготовительные работы, надо приступать к основным. Надо начинать строительство плотины, но ведь нет ни кессонов, ни компрессоров Нет моторов для бетономешалки, нет нужных марок цемента. И нет железа для арматуры, нет даже простой железной проволоки! Чего там проволоки — нет и гвоздей для того, чтобы опалубку делать, нет кирок, лопат
И нет сил и права упрекать людей, каждый день по одному, по два, по десятку уходящих со строительства После дня тяжкого труда рабочие получают в столовой миску супа из капустных листьев. Большая часть бараков не закончена, а в тех, где живут, — грязь, теснота, ни столов, ни табуреток Околачиваются вокруг стройки десятки никому не нужных служащих, приткнувшихся к Волхову, чтобы укрыться от мобилизации в армию, чтобы получить инженерный паек. Недаром этих молодчиков кличут «панами» На столе главного инженера давно лежит серый и ломкий листок газеты «Новоладожская коммуна». Там какой-то свой, волховский, подписавшийся «Рабочий», написал хлесткий и невеселый раешник
« Ребятушки, здорово! — вам мое слово. Слышно, что у
вас, ребята, дело идет слабовато Дисциплинки, говорят, трудовой мало или, проще говоря, совсем не бывало
Посматривайте со стороны, чтобы работали у вас и паны. А то у них проделки ловки, катаются за молоком в командировки. И слышал я, что они вам сладко поют, а сами устроили в Дубовиках дворянский приют.
У вас, у рабочих, бараки- — благодать Все удобства там есть, только, кроме нар, негде сесть. А спать кладут по пятнадцать в ряд, как поросят Ну, ребятки, мужайтесь и не дюже панов пугайтесь. Гните свою линию смело, чтобы вперед подавалось наше рабочее дело »
Вперед подавалось!.. Этим «панам», о которых пишет в газете рабочий, конечно, все равно, лишь бы выжить и выждать А большевики понимают, что только электричество, только такие станции, как Волховская, могут создать индустрию, воскресить страну, сделать ее крепкой Графтио собирал всех технических работников и рассказывал им о плане, великом плане, предложенном самим Лениным О том, что будет строиться не одна, а тридцать станций Одних гидростанций должно быть десять, а их. Волховская, — самая первая! На ней будут учиться строить советские станции, отсюда пойдут строители на Свирь, на Днепр, на Волгу
Когда Графтио рассказывал это, он видел перед собой радостные, светлые глаза своих помощников, соратников — Пуговкина, Кандалова, молодых инженеров, так же страстно и убежденно верящих в будущее, как и он сам. Но он видел и других — откровенно зевающих, прячущих улыбку, презрительно перешептывающихся Это и есть они — «паны» Это они называют план электрификации «электрофикцией» и, сидя в конторе, подхихикивают над большевиками, задумавшими то, что было не под силу даже их старым, уверенным в себе хозяевам.
Но что говорить об этих ничтожествах! Ведь и в Москве и в Петрограде он все время наталкивается на «панов»!.. Нет, конечно, они не смеют говорить об «электрофикции», ведь они крупные специалисты, ответственные работники, занимают
большое положение, получают пайки — академические, специальные, инженерные, — получают больше, нежели наркомы, чем сам Ленин!.. Графтио их всех хорошо и давно знает — с некоторыми вместе учился, встречался на научных конферен циях, на заседаниях Они принимают его ласково-снисходн-тельно, выслушивают со скучающе-внимательными лицами, разводят руками, удивляясь, как их коллега — сам инженер! — не понимает, что смешно при такой разрухе мечтать о строительстве станции, какой даже «у них» в Европе нет! Вот что, голубчик, значит стать провинциальным инженером и променять инженерную трезвость на этот гм необоснованный энтузиазм И, прощаясь с Графтио, они вежливо встают, выходят из-за стола, провожают до дверей и предупредительно, с поклоном ее открывают Как, наверно, они смеются, закрывши эту дверь!..
И Генрих Осипович вспоминает, как больше трех лет назад, в первые месяцы Советской власти, его вызвал в Смольный Петр Гермогенович Смидович и от имени Ленина поручил начать осуществление его, Графтио, проекта строительства Волховской станции Проекта, который безнадежно валялся в канцеляриях акционерных обществ и министерств царя, Керенского
И ведь все годы гражданской войны, когда был так дорог каждый штык, каждая пайка овсяного хлеба, посылали людей на строительство, не брали их на фронт, кормили последним, отказывая в крохах продовольствия красноармейцам, женщинам, детям А теперь, когда закончена страшная и кровавая война, когда вся страна лежит в развалинах и только электричество может вдохнуть жизнь в мертвые заводы и фабрики, эти «паны» убивают стройку! На что они надеются? Что предлагают? Обратиться туда, на Запад, к капиталистам! Просить их строить устаревшие тепловые станции, платить за это последним золотом! Эти инженерные сановники предвкушают поездки за границу, завтраки и обеды у хозяев фирм, может быть, и небрежно сунутые комиссионные
ПИСЬМО ЛЕНИНУ
Поздней августовской ночью Генрих Осипович Графтио пишет письмо. Да, он знает, кому надо написать!.. Оп напишет ему все, всю правду о том, что же делается со стройкой. Пусть об этом узнает Владимир Ильич, только ему может поверить Графтио, что нет у страны сил и возможности построить станцию! Графтио пишет письмо, не выбирая слов, не обдумывая каждую фразу Ведь он не знает, что настанет время, когда это письмо прочтут многие тысячи людей, что его напечатают в сотнях книг и что оно будет лежать под стеклом в музее
« Вы можете усмотреть, в каких невероятных условиях бюрократической безответственной неразберихи, а подчас и умышленного противодействия приходится вести дело осуществления Волховской гидроэлектрической силовой установки, начало коему было положено Вами, через товарища Смидови-ча, три года тому назад »
Меньше чем через три года, в страшные дни конца января, через несколько дней после того, как тело Ленина внесут в маленький фанерный мавзолей и опустят в склеп, вырытый взрывами в окаменевшей от страшного холода земле, нахохлившийся, с глубоко запавшими глазами Графтио будет рассказывать своим близким, своим товарищам по работе о том, как он писал Ленину письмо и как его, старого инженера, вызвали в Кремль Медленно, останавливаясь после каждого слова, с трудом переводя дыхание, он будет вспоминать, как шел по длинному коридору, как остановился около часового, застывшего у двери, как вошел в небольшой кабинет, полный книг, и налево из-за письменного стола встал ему навстречу Владимир Ильич Осенний день подходил к концу, темнело, Б стекла ленинского кабинета стучал дождь, и уже горело электричество. Лампочки светили тускло — вполнакала, профессионально отметил инженер Графтио Да, это была деловая, вполне деловая беседа Ленин расспрашивал Графтио, сколько нужно арматуры, цемента, какой мощности и какого типа будут стоять генераторы, где лучше заказывать турбины,
сколько требуется рабочей силы и каковы возможные предельные сроки окончания строительства Время от времени Ленин наклонялся и делал какие-то быстрые пометки в большом блокноте. Конечно, это была деловая беседа, одно из очень многих и важных дел, какие приходилось обсуждать и решать Председателю Совнаркома Но никогда Графтио не забудет глаз Ленина на усталом лице, когда он слушал рассказ автора проекта о том, какой будет станция!.. Ленин перебивал Графтио, требуя точных подробностей. Лицо его засветилось, когда он услышал, сколько петроградских заводов можно будет перевести на электроэнергию и сколько высвободится вагонов угля И невозможно забыть лицо Ленина, когда Графтио ему показывал документы, ответы на его заявления и просьбы — ответы холодные, равнодушные, тонко-нздевательские Владимир Ильич встал. Он стоял, легонько потирая кончиками пальцев побледневший висок, из посуровевших глаз исчез прежний живой и ласковый блеск
Потом Графтио покажут копию записки, которую Ленин после беседы с ним послал наркому юстиции Дмитрию Ивановичу Курскому;
«Я направил к Вам через управделами СНКома заявление проф. Графтио с поразительными документами волокиты.
Волокита эта особенно в московских и центральных учреждениях самая обычная. Но тем более внимания надо обратить на борьбу с ней Надо:
1. Поставить это дело на суд.
2. Добиться ошельмования виновных и в прессе и строгим наказанием »
Надо « научиться травить волокиту», — с гневом и отвращением писал Ленин
Какие это были утомительные и радостные дни для Графтио — дни после посещения Ленина! Уже не ухмылка пренебрежения, а страх и угодливость виднелись в глазах «панов» из важных учреждений!.. Они уже соглашались со всем, что им говорил главный инженер Волховского строительства, они находили и законсервированные фонды цемента, и остатки ар-
матуры Совет труда и обороны принял специальное постановление о сроках строительства. Волховстройке было выделено пять тысяч пайков. Пять тысяч пайков!.. Графтио хорошо понимал, что это значит — дать пять тысяч пайков, когда в Поволжье страшный, невероятный голод, когда он убивает тысячи людей, когда в самой Москве маленький кусочек хлеба является редким лакомством Да, теперь открылись все двери, теперь перед Графтио лежат прежде ему недоступные документы, в которых сказано, сколько лопат, кирок, провода, железа находится на складах Москвы и Петрограда. Пожалуйста, можете брать! Но брать-то нечего!
— Вы, товарищ Графтио, вы все, кто строите станцию, — не приказчики на строительстве, а хозяева — сказал ему в Кремле один из помощников Ленина. — Так не будет, что вы попросите все нужное, а мы дадим!.. Нет этого у нас! Вы просите железные понтоны, компрессоры, моторы, железо разных профилей — ничего этого на складах нет. И не найдете! Надо самим ехать по стране и собирать что где есть Вот так, как рабочие ездят из Москвы и Петрограда добывать хлеб, чтобы прокормить себя, своих товарищей, свои семьи Людей, которые скрывали от вас то, что лежит на складах, накажем, так накажем, что неповадно им будет. Но больше, чем у них есть, они вам не дадут. Надо обратиться к рабочим, к тем, кто бережет наши заводы, не дает их растащить. Они понимают, что вы делаете, для кого Они знают, что Владимир Ильич сказал о плане электрификации. И они помогут! От себя оторвут, а вам дадут Вы ка них надейтесь, надейтесь больше, чем на этих, как вы их называете, «панов» из больших и малых учреждений
САША ТОЧИЛИН
Когда Графтио вернулся на стройку, там уже всё знали. Совсем немного времени прошло, а стройка была другая. Так же, как прежде, с утра артели рабочих направлялись по сво-
им местам, так же не хватало материалов, но уже и у рабочих и у инженеров были другие глаза — не потухшие, а веселые, оживленные, требующие Достраивались бараки, закладывали новые, начали строить клуб. Колесо стройки крутилось так же, как прежде, но в этом движении уже была не сила инерции, а настоящая, нарастающая сила заработавшего двигателя
А в комячейке и рабочкоме до поздней ночи толпился народ. Надо ехать собирать оборудование! Надо ехать далеко, туда, на юг, где еще совсем недавно шли бои. Каждого кандидата обсуждали подробно и откровенно. Омулева отпустить нельзя, он председатель рабочкома, начнут сейчас люди прибывать, их надо устраивать. Ближайших помощников главного инженера — Пуговкина, Кандалова, прорабов участков — тоже нельзя со стройки отпускать: ведь новые рабочие сразу же долл^ны включаться в работу Григорьев — подходящий мужик и умеет разговаривать, но ведь жена с больнице, а на руках трое малых детей Негр Куканов — этот подойдет! Серьезный человек и побывал в этих местах, в Конной Буденного служил И Гольдман годится, и Рванов Сергей, и Степан Суховцев Что, и комсомольцы просятся? Нет, Варенцов, пожалуй, не подходит. Ну что из того, что активный парень и из Тихвина добровольцем пришел на стройку! Только что в бюро выбрали, еще не осмотрелся, да и нога у него, кажется, поврежденная Точилпн? А пожалуй, этот годится!.. Да ничего, что молод. Сколько ему? Ну вот — девятнадцать, это уж вовсе взрослый человек! Опять же не грабарь, а слесарь, разряд имеет и на митингах горазд выступать Ну что, товарищи, пошлем Точилина?
Саша Точилин стоял у самой двери, где-то позади толпы, плотно обступившей стол председателя рабочкома. Когда выкрикнули его фамилию, он, не веря еще, вздрогнул и стал пробиваться к столу Омулева. Говорить ему за себя? Сказать, что он, Точилин, единственный из ребят имеющий разряд?.. Что он все достанет, уговорит всех тамошних комсомольцев, что он и на гармошке играет, и в ЧОНе служил?.. И неужели
вправду все согласились и он поедет на далекии юг, туда, на Украину, добывать стройке машины, оборудование, инструменты?!
Саша Точилин был из Новой Ладоги. Там родился, там учился в церковноприходской, там помогал отцу слесарить в механической мастерской Португалова, там бегал на митинги и расклеивал листки, призывающие голосовать на выборах в Учредительное собрание за «Список № о» — за большевиков Там вступил в комсомол, маршировал в комсомольском взводе ЧОНа, выезжал в уезд ловить бандитов. Оттуда поехал на Волхов строить станцию Нет, Саша не мог пожаловаться на то, что у него была скучная, неинтересная жизнь! Немало он пожил — уже девятнадцать лет! — и за это время много увидел и многое успел И ничего, что он никогда не выезжал из своего уезда и железную дорогу увидел только тогда, когда приехал на Волховстройку И хотя Саше, конечно, очень хотелось посмотреть новые, невиданные места, но не от этого у него так внезапно закружилась голова. Саша Точилин был совершенно уверен, что ему удастся все сделать! Как у себя в уезде, он соберет тамошних комсомольцев, расскажет им про свою стройку, споет с ними песни, сыграет на гармошке И ребята найдут все, что нужно, и он придет к мрачноватому этому Куканову и небрежно ему скажет: «Вот, есть что искали, завтра грузить будем Комсомольскими силами »
Выезжать надо было через три дня. Все эти дни Саша жил в горячке какой-то Все его учили, не было на стройке, наверно, ни одного человека, который бы не давал ему советов. Даже собственная его бабка в Новой Ладоге, куда он сбегал попрощаться с родными, дала ему мешочек с высушенной полынью и приказала носить на шее — от вшей, чтобы не заболел сыпняком. Мешочек этот Саша хотел немедленно же выбросить — еще подумают, что он ладанку освященную носит! — но потом сунул все же в карман — полынь, может, она и пригодится! Зато свой мешок он набил стихами Демьяна Бедного, положил туда свои плоскогубцы, каких ни
у кого не было — с резиновыми ручками, — две отвертки, французский гаечный ключ — пригодятся! И гармошку взял, хотя Петр Иванович Куканов поморщился и недовольно сказал:
— Ты что, на посиделки собрался, что ли?
ДЛИННОЙ ДОРОГОЙ
Поезд вползал в город медленно, натруженно, как бы для того, чтобы Саша Точилин мог получше рассмотреть все, что ему надо было оживить, во что необходимо было скорее, как можно скорее вдохнуть жизнь! За окном вагона бесконечно тянулись красные кирпичные корпуса заводов. Наступали сумерки, становилось темно, и в вагоне зажгли керосиновый фонарь. Но огромные окна заводов были темны. Перед запертыми проходными росла трава, людей пе было видно. Трубы были везде, они стояли как лес — толстые и тонкие, кирпичные и железные. Но ни один дымок не тянулся из них.
Волховстроевцы вышли на большую сумрачную площадь. Напротив вокзала, в грязном скверике, могучий бронзовый конь осел под тяжестью грузного седока с густой бородой, в такой же небольшой меховой шапочке, какую носили когда-то полицейские Царь! Его портреты висели у них в церковноприходской школе, и Сашу учили, что он назывался «миротворец», а папаша его — «освободитель» Саша подошел ^лиже и на железной доске прочитал:
Мой сын и мой отец при жизни казнены.
А я пожал удел посмертного бесславья.
Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки сбросивший ярмо самодержавья
Налево уходила широкая и бесконечная улица, терявшаяся в вечерней дымке. Множество людей спешили по каким-то своим делам. Солдатские шинели, кожаные куртки, изредка широкополая шляпа и барское пальто Со звоном проезжали редкие трамваи, увешанные гроздьями людей, Волховст-
роевцы тоже пытались влезть в трамвай, но потом не выдержали и пошли пешком — куда-то по боковым, но Все же очень богатым улицам. Дома были облезлые, с осыпавшейся штукатуркой на фасаде, но красивые и большие. Саша с товарищами шли долго, пока не пришли к зданию, название кото--рого так часто слышал Саша в разговорах в комячейке: «В Смольном сказали », «Есть приказ из самого Смольного », «Напишем в Смольный, если что »
Смольный теперь был перед ним — такой точно, как на картинках: широкая лестница, колонны, часовые у ворот
Саша не принимал участия в разговорах, которые вели в Смольном и в других каких-то учреждениях Куканов и иные волховстроевцы. Его оставили в общежитии, где они поместились, и сказали: «Побегай посмотри Питер, когда еще увидишь его!»
И Саша несколько дней ходил по осеннему Петрограду, не боясь ни пронзительного ветра с дождем, ни голода. Как он был красив, этот ни на что не похожий город! Его не портило то, что дворцы облупились, а площади заросли травой и что мостовая перед некоторыми зданиями была покрыта семечной шелухой — почти так же, как у них перед крыльцом конторы В каналах темнела грязная вода, сады и скверы усыпаны мокрыми листьями, мрачные, неулыбчивые цари торчали на конях. Но больше, чем памятникам, огромным храмам и необыкновенным домам, Саша поражался и радовался другому: огромным афишам о митингах-концертах, ярким плакатам, молодым ребятам и девчатам, которые разгружали с баржи дрова, хохотали и пели те же самые песни, какие пели они и в Новой Ладоге, и перед крыльцом волхов-строевского клуба. Он провожал глазами огромные автомобили с брезентовым верхом, проносившиеся по улице: рядом с шофером сидит человек в кожаной куртке, кожаной фуражке — комиссар!.. В столовой партийного общежития кормили почти точно так же, как у них в волховской столовке, даже чуть похуже Жизнь в Питере была такая же суровая и трудная, как и у них, и это не печалило Сашу ТочиЛйна, а как-Тб
объединяло его с ребятами, разгружавшими дрова, с комиссаром в кожаной фуражке, со всеми, кто, как и он, были коммунистами или комсомольцами.
Накануне отъезда Саша даже побывал в Петропавловской крепости. Он прошел по всем коридорам страшной пустой тюрьмы. Двери камер были открыты, в темной глубине наверху синело зарешеченное оконце. Железная койка, маленький железный столик, казалось, еще хранили следы людей, которые тут томились годами. Здесь они в долгие дни и ночи ходили по камере — пять шагов в одну сторону, три в другую Отсюда их выводили вниз, надевали на них кандалы и увозили туда на казнь Саша представил себе бесконечный поток людей, прошедших через это здание Где они, эти люди? Живы ли? Вспоминают ли этот неживой тюремный запах, эти серые стены, пыльные решетки?..
И, когда он вышел из ворот крепости, сладким показался Точилину холодный петроградский воздух, пахнущий дымком, и радостны улицы, по которым свободно шли свободные люди Саша через широкий и длинный мост вышел на необозримо большую площадь. Голые деревья парков маячили далеко, как лес на горизонте. Небольшой полуголый бронзовый человек стоял в начале площади на невысокой колонне и протягивал вперед руку. «Суворов», — прочитал на памятнике Саша и даже не удивился странному его виду. Ему было совсем не до Суворова. Подстриженный кустарник и молодые деревца занимали центр площади. В запущенном городе этот кусок земли выделялся своей чистотой и прибранностью. Остатки летних цветов краснели на аккуратных клумбах, разбитых вокруг серых гранитных камней. Саша подошел ближе и прочитал глубоко выбитые в камне слова:
Не жертвы — герои лежат под этой могилой. Не горе, а зависть рождает судьба ваша В сердцах благородных потомков. В красные страшные дни Славно вы жили И умирали прекрасно.
Он медленно обходил эти серые камни, поражаясь, как-правильно, как точно знал человек, написавший слова на камне, что сейчас думает он, волховский комсомолец Саша Точи-лин
Потом была Москва — другая, очень шумная, торопяшая-ся, набитая, как показалось Саше, множеством очень спешащих людей. Но в Москве они пробыли совсем недолго и спали на вокзале вместе с другими, лежащими вповалку на каменном полу. Саша только успел один раз походить по городу. Он пришел на Красную площадь и долго смотрел на Кремль. Он очень устал, от голода подташнивало, куртка его, сшитая из старой шинели, промокла от дождя, но долго Саша стоял около памятника напротив Кремля и не сводил глаз с ворот Спасской башни. Оттуда изредка выезжали автомобили, и Саша всматривался до рези в глазах — не увидит ли он рядом с шофером или в глубине машины огромный лоб и небольшую бородку Там, за этой стеной, жил и работал Ленин, и Саше казалось немыслимым, что он приедет на Волхов, станет рассказывать про Москву и не сможет ответить на первый и главный вопрос: а Ленина ты видел?..
Ленина Саша так и не увидел. Но Ленин был постоянно с ними и помогал им во всем. Если бы не он, их не посадили бы в первый же поезд, идущий на юг. Если бы не он, им бы не выдали специальный паек — как командированным по государственному делу И ехали они в неизвестность, надеясь на Ленина, на слова Ленина, что Волховскую станцию должны строить все. И из последних сил!..
Сашу Точилина недаром выдвинули от комсомола для поездки. Он был одним из самых грамотных и сознательных комсомольцев и в Новой Ладоге и на стройке. Он читал все газеты и так рассказывал ребятам про разруху, про то, что победить ее так же важно, как победить в войне, что ни один человек не отказывался от ночной разгрузки леса, от воскресника Но никогда Саша не знал, что эта разруха, о которой он столько говорил, так страшно выглядит То, что видел Саша, перевертывало душу! Поезд, набитый людьми, стоявшими, сидевшими, лежавшими в проходах, в тамбурах, на площадках, тащился медленно. На каждой станции он подолгу стоял, и, выбравшись из вагона, Саша молча перешагивал через людей, лежавших на полу станции, на асфальтовом перроне и бежал к длинной очереди у крана с кипятком или же проталкивался в набитую и накуренную комнату агитпункта и получал там свежую газету, а то и парочку новых брошюр.
Через всю страницу газеты тянулись кричащие, тревожные заголовки: «Все на борьбу с голодом!», «Все на борьбу с разрухой» И шли страшные телеграммы о том, как в Поволжье гибнут люди, как сечет их сыпняк Но увиденное Сашей было намного страшнее того, что он читал Голодающие были здесь, рядом, их сразу можно было узнать по неживому, землистому цвету отечных лиц, по тусклым и безнадежным глазам Среди толпы ходили с носилками санитары, они подбирали самых страшных и уносили в больницы. У барака с надписью «Помгол» стояли, сидели и лежали голодающие. Их там кормили, и они были так слабы, что у них не было даже сил спорить из-за очереди, ссориться, как это делается во всех очередях Ребятишки ползали среди лежащих, и Саше казалось, что совершенно невозможно уже отличить мертвых от живых..
— Что же делать, Петр Иванович? — с отчаянием и слезами в голосе спрашивал Саша Куканова.
— Что делать!.. Кого еще можно на ноги поднять — подымать Так ведь дело не только в этом! Нужно засеять поля, вырастить хлеб. Иначе снова будет такое
— Так нужно послагь людей, собрать их со всех мест, чтобы вспахали и посеяли!
— Пахать — значит, надобны плуги, бороны Нужно, чтобы люди были одеты и обуты Зипуна не соткешь и овчины не сошьешь — не из чего, скота не осталось Видел, в Питере — стоят заводы. Пока их не пустим, не победим голод! Построим нашу станцию — сразу закрутятся знаешь сколько станков! Вот про это надобно будет и рассказывать екатерино-славским комсомольцам, а не на гармошке им играть Там,
на Украине, песен-то побольше, чем у нас в Ладоге Их гармошкой не удивишь!
Про Украину Саша .только слышал. В школе когда-то читал стихи: «Ты знаешь край, где все обильем дышит, где реки льются чище серебра». И слышал, как на школьном вечере девочка с чувством читала: «Садок вишневый коло хаты, хрущи над вишнями гудуть » И все ждал, когда он увидит реки, льющиеся серебром, и белые, нарядные домики среди вишневых садов Но не было ни серебряных рек, ни вишневых садов, когда Саша узнал, что они уже едут по Украине. Была бескрайняя степь, и в ней мелькали не вишневые сады, а закоптелые заводские здания, высокие кирпичные трубы, а на горизонте цепочками тянулись аккуратные треугольные горы, как будто нарочно людьми сделанные Они, как оказалось, и были сделаны людьми — горы пустой, выработанной породы, извлеченной оттуда, снизу, из-под земли, где шахтеры добывают уголь И люди на станциях были такие же, как и во всей России: одетые в шинели, в рабочие ватные пиджаки, в кожаные фуражки. Такие же озабоченные и невеселые, как Куканов, как Суховцев Разве что сытнее чуть-чуть становилось. На станциях продавали крынки молока с коричневой жирной пенкой. И можно было купить настоящий белый хлеб — Саша уже и забывать стал, как он выглядит! И все чаще в разговорах волховстроевцев звучало название города, куда они ехали: Екатеринослав.
Свой шумный, набитый людьми вагон они давно обжили. Притерпелись к местам, по ночам снимали с себя всю верхнюю одежду, подстилали ее, подкладывали под голову вещевой мешок и спали. Днем на станциях бегали за кипятком, по вечерам собирались вокруг большого жестяного чайника, грели на нем руки, пили кипяток с хлебом и слушали рассказы Гольдмана, который не раз бывал здесь и даже в самом Екатеринославе жил. Послушать его — это был самый железный город во всей Советской стране! Заводов в нем не меньше, чем в самом Питере, и все делают только железо и машины Все рельсы, по которым едет их поезд — из Екатери-
нослава. И моторы оттуда же, и даже пожарный насос на Волховстройке и тот из этого железного города. Так неужели в таком-то городе не найдется для Волховской стройки железа!
Б ЖЕЛЕЗНОМ ГОРОДЕ
Будет когда-нибудь время, и один из строителей Днепровской станции, профессор Александр Петрович Точилин, приедет в город Днепропетровск, что когда-то звался Екате-ринославом. Он проедет по всем улицам огромного индустриального города, побывает на новых колоссальных заводах, выросших за те самые годы, когда он сам превращался из слесаря четвертого разряда в профессора и доктора наук Его собеседники с удивлением будут отмечать, что профессор необычно задумчив, что он часто прерывает разговор, как будто какие-то воспоминания вторгаются в чисто деловой спор о типах опор, размещении подстанций, выборе трансформаторов А профессор никак не сможет уйти от воспоминаний о том, что в этом городе пережил много лет назад волховский комсомолец Саша Точилин.
Что может быть грустнее, тоскливее города, из которого ушло то, что составляет его жизнь! Екатеринослав был горо дом, созданным для того, чтобы его жители плавили сталь прокатывали рельсы, делали машины. И все это кончилось!. Погасли домны, выплавлявшие чугун, покрылись пылью ста лелитейные печи Остановились екатеринославские заводы и жизнь многих тысяч людей, живших в этом городе, утратила смысл
Жизнь была только на базарах — крикливых, наполненных запахами украинской поздней осени. Иногда Саша Точилин ходил туда и обменивал пайковую селедку на необычные для него яства — кукурузу, которую грызли так, как шелушит еловую шишку белка. И сочные арбузы, сладкие, подернутые как бы изморозью. И помидоры, которых раньше Саша не ел. Рядом с продовольственным рынком шумела
барахолка. На ней продавалось и покупалось все: разрозненные остатки сервизов, поношенные чиновничьи и офицерские мундиры, полусъеденные молью меха, расшитые деревенские рушники Бывшие барыни в оборванных кружевах и немыслимых салопах, поникшие пожилые мужчины в инженерских фуражках, красноносые молодцы бандитского вида Смотреть на эту толпу было противно. Но особенно тягостно становилось Точнлину, когда он среди этой толпы встречал других Поношенная рабочая одежда, угрюмые худые лица, руки с неизгладимыми следами въевшегося во все поры железа.
Они не кричат, предлагая свой товар, им неуютно, неудобно, стыдно на торжище. На земле лежит тряпица, а на ней разложены зажигалки, сделанные из старых патронов, самодельные замки, кружки, изготовленные из старых жестяных обрезков. А иногда — и это самое страшное! — среди нехитрых изделий старого слесаря лежат ножовка, гаечный ключ, плоскогубцы, напильники До какой же степени отчаяния дошел рабочий человек, если он продает свой, личный, слесарный инструмент!
Точилин почти ежедневно бегал на левый берег, где раскинулся огромный металлургический завод, где были сортировочная станция и растянувшиеся на версты пакгаузы товарных складов. Заводы стояли. Но когда у Саши улеглась первая горечь от пустынных цехов, от заводских дворов, где начала пробиваться трава, от неприятной, несвойственной заводам тишины, он увидел, что и там была жизнь. У закрытых заводских ворот дремали сторожа. На огромных станках не было видно ржавчины и свежая смазка блестела, будто вот-вот придут к машинам сменщики.
Нет, не было так, как казалось волховстроевцам, когда они ехали сюда: не валялись на земле ржавые моторы, не мокли под дождем никому не нужные штабеля арматурного железа Все было прибрано, все было под замком, и заводские большевики никому не позволили ничего растащить, снести на барахолку. И видно было, что нелегко им расста-
ваться с каждым мотором, с каждой бухтой провода. Но расставались.
Когда Куканов начинал рассказывать, зачем приехали в Екатеринослав люди с далекой северной стройки, комната завкома набивалась рабочими. Синий махорочный дым плавал в воздухе густыми волнами. Положив перед собой на стол свои большие натруженные руки. Куканов не спеша, тихим своим баском говорил:
— Ежели мы это все сделаем, то наша станция заменит триста тысяч тонн угля в год Чуете? Тут правильно говорят — Донбасс скоро начнет работать, шахты в первую очередь, конечно, пустят. Но ведь не для вас одних. Мы люди рабочие и грамотные, понимаем: железо, сталь — заглавные! Но ведь, товариши, вам же надобно одеться, обуться, надобно делать оружие — куда мы без него? Надобно делать новые станки, я смотрел ваши — на них клейма Балтийского, Пар-виайнена, «Электросилы» — все из Питера Без питерских заводов и фабрик не обойтись. Значит, надобно туда гнать уголь. А чем? Вагонов-то почти и не осталось! Пока довезем уголь до Петрограда, половину сожжем в паровозах Вот и выходит — наша станция не для Питера одного только.
— Мы свою водяную станцию построим! Днепр-то не меньше Волхова!
— Правильно. Построите. Только не вы, екатеринослав-цы, а мы все. Ведь станция — не зажигалка, взял да смастерил В одну нашу станцию надобно вложить шестнадцать тысяч тонн железа, да еще восемьдесят тысяч тонн цемента, да пять миллионов штук кирпича. А она самая первая, самая малая из всех, что по ленинскому плану будут строиться Наш главный инженер не кто-нибудь, а самый наикрупнен-ший спец — профессор! Графтио ему фамилия. Так вот он говорит, что таких станций в России никогда не было. Наша, Волховская, — самая первая. На ней учиться будут, как гир-до гидра гидроэлектрические станции строить. А пока нашу не построим, кто же вам, друзья-товарищи, будет на Днепре строить? Некому. Куда ни кинь, а Волховскую стан-
цию всем миром строить нужно. И вы не жалейте моторов своих! Построим станцию, пустим питерские заводы — вернутся к вам моторы. Только будут они новенькие, наши, советские! И чего ради, думаете, нас сюда Ленин послал? Ну да, сам Ленин сказал — поезжайте к товарищам рабочим, они помогут! Ленин — он что, питерский разве? За Петроград только? Ленин — он за всю Россию, за всю Советскую Республику. За вас же, товарищи!
Никогда Саша не думал, что тихий, сумрачный машинист Петр Иванович Куканов умеет так здорово агитировать! Получше ораторов, приезжавших на Волховстройку из самого Питера! Он не забрасывал назад голову и не простирал вперед правую руку И словом не обмолвился об Антанте и ни разу не вспомнил ни Клемансо, ни Ллойд-Джордж а, никаких других акул империализма Петр Иванович говорил, как бы раздумывая про себя, как бы советуясь со своими товарищами — точно так, как это он делал у них в рабочкоме, когда обсуждали, каким артелям в воскресенье выходить на работу, а каким отдыхать Да и чего агитировать! Против них сидели такие же рабочие, как и они сами, согласные в самом главном для всех: надо вылезать из разрухи. Надобно пораскинуть мозгами: что и как в первую очередь делать. Редко какой из екатеринославских выкрикнет:
— Ну да, вот так и отдан свое! А нам, как затопят котельную, ни с чем, значит, оставаться!
Но его, крикуна, тотчас же обрывали:
— Засохни! Что ты, как полтавский куркуль какой! Или свою, екатеринославскую, республику сделаешь? У нас дела общие. И Ленин у нас общий. Ни московский, ни питерский, а общий! Понял?
Давали. Все, что могли, давали. Обходили закопченные склады и подбирали нужное лселезо — арматуру, швеллерные балки, рельсы, проволоку, тонкую, как струна, и толстую, в человеческий палец. И моторы дали. И цемент какой-то особый, что в воде должен лежать, и его дали. И вагоны помогли достать. А уж насчет погрузки этих вагонов — тут Саша
Точилин доказал, что не зря его посылали волховстроевские комсомольцы!
Рабочие — те все, конечно, хотя и похожи друг на друга, а все-таки разные А вот комсомольцы — они одинаковые! В этом Саша убедился сразу же, как приехал в Екатерино-слав, как сбегал в губком и познакомился с заводскими ребятами! Они так же спорили и шумели, как комсомольцы в Ладоге или на Волхове. Пели те же песни, что и они, что и петроградские комсомольцы, разгружавшие баржи. Так же бросали все свои дела и дружно отправлялись грузить вагоны с железом на Волховскую стройку. Грузили весело, с песнями. И гармошка Саши пригодилась, и много новых песен выучился на ней играть Саша Точилин. И, когда через несколько лет на Волховском проспекте летним вечером будут раздаваться веселые украинские «Распрягайте, хлопцы, коней» и «Як була я ще маленька, колысала мэнэ ненька», никто уже не будет помнить, что их привез на берег Волхова Саша Точилин
ЗА ПОДВОДНЫМ КЛАДОМ
Наверно, у нас на Волхове уже зима! И Волхов выше порогов стал, и снегу полно на улицах, и из множества труб на домах, бараках, землянках по утрам встают сотни дымных столбов А здесь, на Украине, еще по-осеннему тепло и на погрузке вагонов ребята и девчата работают без пиджаков и фуфаек. Когда заканчивалась погрузка и составитель поезда начинал писать мелом на вагоне: «Станция Званка Северной ж. д., Волховстрою», Саша стоял рядом, и ему казалось, что он отправляет ребятам, стройке свое. Сашино, письмо Его подмывало что-нибудь приписать к этим сухим, официальным словам И однажды он не утерпел и на углу вагона, около буфера, быстренько нацарапал куском мела: «Привет, ребята, от екатеринославских комсомольцев! Саша». И Саше виделось, как прибывает этот вагон на Званку
и приходят туда ребята из ячейки на разгрузку. Как Петька Столбов с треском отрывает пломбу на широкой двери вагона, как с визгом и криком устанавливают покати и тяжелый мотор начинает скользить вниз Как хромой Гриша Варенцов бережно принимает этот мотор внизу, а в это время кто-то кричит: «Ребята, а тут привет написан от нашего Саши Точилина!..»
И все-таки дела были не так хороши, как хотелось. Компрессоров в Екатеринославе так и не нашли. А нужны были и компрессоры, а главное — нужны были понтоны для кессонных работ. В Екатеринославском губкоме волховстроевцы долго сидели и разыскивали следы этих самых понтонов. Оказывается, искать их надобно было там, где когда-то строились мосты, да так и остались недостроенными. На большом губкомовском столе лежала карта, вокруг нее столпились люди, они рассматривали ее, и звучали названия рек и мест, которые Саша еще помнил потому, что каких-нибудь два-три года назад про них говорилось в ежедневных военных сводках. Реки со странными названиями — Орель, Ба-завлук, Ингулец, Мокрая Сура Станции, по-смешному называвшиеся — Зачепиловка, Перещипино
След нашелся Надобно было ехать на Черниговщину и там, на реке Десне, около города Остер, искать компрессоры и понтоны. Ехать туда было совсем не просто — пожалуй, труднее, чем из Петрограда в Екатеринослав. Правда, им дали вагон — целую отдельную теплушку. И с ними поехали екатеринославские товарищи. И среди них не кто-нибудь, а водолаз Водолаз был еще молодой парень, белобрысый, не похожий на чернявых украинцев. Его тоже звали Сашей, и, чтобы не путать с Сашей Точилиным, звали его Саша-водолаз. Из вагона Саша-водолаз почти не выходил: или спал, приткнувшись к своему большому медному шлему, пли же сидел около чугунной печурки и рассказывал необыкновенные байки про свои приключения на морском дне. На него нападали акулы, он боролся со спрутами, и утопленники хватались за него ледяными пальцами, когда Саша-водолаз про-
бирался по палубам затонувших кораблей Очень скоро выяснилось, что Саша-водолаз никогда и не был на море и что опускался он под воду только в реках, при починке мостов, а все свои истории вычитал из книг. Но все равно — слушать его было интересно, и каждый вечер Саше-водолазу очищали место около печурки и говорили: «Давай, Саша! Про сокровища на затонувшем пароходе «Орел»!» И Саша-водолаз начинал жуткий рассказ про то, как он нашел несметные сокровища, охраняемые целым стадом морских чудовищ
А теплушка больше стояла на станциях, чем двигалась по дороге. По многу часов Петр Куканов ругался со станционными начальниками, размахивал мандатами и грозил немедленно телеграфировать Орточека, самому Дзержинскому, а то и Ленину Железнодорожники были до того усталы, что уже ничего не боялись, самого Дзержинского не боялись. Только когда Куканов, выбившись из сил, охрипнув, начинал тихо их спрашивать: «Ну чего мы Ленину, чего мы Владимиру Ильичу ответим? Ведь послал нас, понадеявшись на вас, товарищи, что поможете вы нам! Ну, станет Десна — значит, почитай, все пропало! Припухать нам до самой весны, а на стройке тысячи людей без дела будут стоять, понимаете вы это?!» — только тогда они начинали звонить по всем соседним станциям, ругаться по телефону с какими-то соседями, и, глядишь, через час-другой прицеплялся вагон к пассажирскому поезду.
Доехали-таки! Десна была куда поменьше и Невы, и Волхова, и Днепра. Ну, а все-таки была порядочная, а главное — опасная река. Глубокая, капризная, со множеством ям и круговоротов. Каменные опоры недостроенного моста, как островки, торчали из воды. На берегу в дощатом амбарчике стояли какие-то машины, и по радостному крику Гольдмана: «Вот они! Есть!» — Саша понял, что нашли компрессоры И понтоны были где-то тут, под водой, затопленные
Два дня возились с компрессорами. Разбирали и собирали, смазывали. Тут-то Саша Точилин доказал всем, что он не только умеет грузить и на гармошке играть. И что четвертый
слесарный разряд не за гармошку дают. И что не зря возил он с собой особый, лучший инструмент. Саша отвертывал заржавевшие гайки, пилил, смазывал
А тезка Точилина, Саша-водолаз, тоже доказал, что он не одни только байки умеет рассказывать. Он быстро собрал свое нехитрое водолазное хозяйство — воздушную помпу, шланги, грузила, неуклюжую резиновую одежду. Уже на другой день целая толпа людей, своих и местных, стояла на берегу и смотрела, как водолаз тихонько, как пловец, боящийся холодной воды, входит в Десну. А вода действительно была очень холодной, Саша Точилин ее попробовал не только рукой, но и разулся специально Но Саша-водолаз был одет тепло и не боялся холода. С замиранием сердца Точилин смотрел, как ушел под воду красный медный шлем и только пузырьки воздуха бежали по реке, обозначая путь водолаза.
Понтоны были здесь! Железными ржавыми громадами они лежали на дне, и их надобно было только поднять. Только! Саша и не представлял себе, как это можно сделать. Но недаром Куканов в ответ на Сашин вопрос потер руки, хмыкнул и сказал;
— Глаза боятся, а руки делают! Вот так-то, брат
Запустили компрессор. Он зачихал, завздыхал и начал
качать воздух в резиновьга шланг, уходящий в воду. Под воду уходил и трос, который Саша-водолаз привязал к затопленному понтону. Компрессор пыхтел изо всех сил, люди стояли у лебедок и всматривались в середину реки. Саша-водолаз вылез из воды и стоял на берегу. Шлем был отвинчен и лежал на земле, белобрысая голова водолаза странно торчала из великаньей одежды Вода в реке вдруг стала грязной, мутные струи отплясывали в ней, и среди них показался илистый, ржавый угол понтона. Еще несколько минут — и он весь всплыл, огромный и неуклюжий, как кит на картинках. Понтон легко качался на небольшой речной волне.
— Ах!.. — раздалось на берегу.
Трос отвязался от крюка на понтоне, он повис и вот-вот соскользнет в воду К Саше-водолазу бросились Куканов и Вострецов, они схватили водолазный шлем и стали надевать его на Сашу Но Точилин опередил их: стянул сапоги, быстро разделся и кинулся в воду.
— Ай, застынет! — крикнула отчаянно на берегу какая-то женщина.
Вода обожгла Сашу, но недаром он был волховским парнем и до самой зимы купался в неласковой и суровой северной реке Саженками, как на спор с ребятами, он подплыл к понтону. Скользкое и грязное железо уходило из-под его рук, железная заусеница до крови расцарапала кожу. Но Саша взобрался на понтон, схватил трос и стал закручивать его конец вокруг крюка. Он сделал это быстро и умело — по-сле-сарски
Потом он тяжело плюхнулся в воду. Плыть обратно было тяжелее. Разгоряченное тело оледенело, как будто тысячи иголок кололи грудь Десятки рук с берега тянулись к Саше. Он вылез II услышал громкую команду Куканова:
— В сарай! Бегом! Бегом! Маши руками!
Неуклюже размахивая руками, Саша добежал до сарайчика. Чьи-то руки его раздевали, вытирали, кутали в промас-
ленную, кисло пахнущую овчину. Он услышал голос Саши- водолаза:
— Сейчас мы его вылечим! По-водолазному, как моряка! Вот только достану заветную
В стучащие Сашины зубы ткнулось горлышко бутылки.
— Ну, пей! Что ты как барышня на именинах! Глотай смелей!..
Нестерпимо вонючая жидкость обожгла Сашины внутренности. Самогон! Сашина голова закружилась, и все поплыло перед глазами И он уже не слышал, как его уложили, навалили на него целую гору одежды и оставили. Надо было подымать следующий понтон.
Саша проснулся вечером. Все было хорошо, только трещала голова и подташнивало. Он оделся и вышел из сарая. Понтоны уже лежали на берегу. Вокруг них ходил Куканов п постукивал ключом по железным бокам понтонов.
— Проснулся, пьянчуга? — спросил довольным голосом Куканов. — Вот расскажу комсомольцам, как приедем, что ты тут самогон ухлестывал за милую душу! Они тебя пропесочат! Ну, а все-таки молодец! За такое не только этот вонючий самогон — белую головку не жалко бы Волховские — они ни огня, ни воды не боятся! Завтра, Саша, собираться будем. Пора. Ждут нас на Волховстройке не дождутся!..
И назавтра они уехали. Понтоны лежали на платформах, увязанные тросами. В теплушке трещала печурка, и Саша-водолаз разводил широко руками, показывая размеры пасти напавшей на него акулы Но его слушали уже без ухмылки. Валяй, Саша! Ты ведь не только это умеешь!..
Снежная крупка стучала по крыше теплушки. Колеса отсчитывали версту за верстой. Они ехали обратно, на север, туда, к себе, к Волхову, к Гришке Варенцову, к Петьке Столбову, ко всем вол.ховским ребятам Прощай, Екатери-нослав — город железный! Мы еще к тебе приедем! Вот построим нашу станцию да и приедем И тебе построим станцию. На Днепре! Жди нас!..
НАПЕРЕКОР ЧУДУ
БОГОРОДИЦЫНЫ СЛЕЗКИ
Чудо произошло утром десятого мая тысяча девятьсот двадцать второго года от рождества Христова. Конечно, десятого мая по старому стилю, потому что по новому, большевистскому, календарю никакое божественное чудо произойти не может. Старший делопроизводитель конторы Степан Савватеевич, выслушав первое сообщение о чуде, авторитетно это объяснил. Вынув из ящика ручку с особо редким пером «рондо», он красивым почерком с завитушками записал это событие в толстую конторскую книгу, куда заносил все замечательное, что происходило в его жизни.
Два инженера в конторе продолжали вместе с машинисткой Аглаей Петровной, двумя счетоводами и сбежавшимися
уборщицами слушать потрясающий рассказ курьерши тети Дуси.
— Раненько, к заутрене, идет мимо этой часовенки отец Ананий и видит: из-под двери часовенки, стало быть, свет идет. А в часовню-то, почитай, год никто не заходил. Как заперли ее бог знает когда, так она и стояла запертой. Глядь — дверь на замке, замок нетронутый. Испугался недоброго отец Ананий. Домой побежал, ключ взял, позвал отца дьякона, да Пелагею с Дальних Двориков, да Митрича, что старостой был, да других людей, какие попались Подходят к часовне, со страхом-то отчиняют дверь и — господи ты, твоя воля! — что же видят! Икона-то божьей матери Одигитрии, что темненькая такая была, божьего личика не видать было, вся обновилась! Стоит, голубка, светлая-светлая и плачет!..
— Да как же так плачет?
— Вот так и плачет, родимые! Из пречистых ее глазок так и текут слезки Как увидели это люди, попадали на колени и давай реветь. Ведь это ж что такое — плачет сама божья матерь, слезки так и текут, так и текут А отец Ананий вознес руки горе и говорит: «Люди! Чудо великое господь сотворил! Это божий знак, божеское явление! Яв-ле-ни-е! И, стало быть, это надо понимать, что господь — он предупреждает За грехи наши!..» Вот, господи, какие дела — уже и не людей, божью матерь до слез довели!.. Ну, вы как хотите, а я уж побегу. Подождут ваши конторские, чудо-то какое произошло
Тетя Дуся в который уж раз всплеснула худенькими руками и захлопнула за собой дверь. На улице, под окном, снова раздался ее тоненький голосок:
— Господи! Да вы тут ничего не знаете, а в часовенке, что у Михаила Архангела
Конторские медленно расселись за своими столами. Степан Савватеевич вынул из кармашка часы, посмотрел и деловито сказал:
— Ах, забыл! Надо ведь на склад за накладными!.. — Потомон вскочил и выбежал за дверь.
Так началось чудо на Волхове.
. К двенадцати часам дня весть о нем дошла и до партийной ячейки. Секретаря не было, он в Питер уехал, и за. столом сидел Омулев из рабочкома. Работавшая на складе комсомолка Ксения Кузнецова, всплескивая руками и захлебываясь от смеха, рассказывала о чуде в часовенке:
— И, говорят, плачет!.. Ну не просто плачет, а как белуга ревет И слезы эти в бутылочки собирают, аж дерутся за них. Там, Григорий Степанович, такое делается, такое делается — как в цирке, даже интереснее.
Но Омулев вовсе не смеялся. Он выслушал рассказ Ксении, сердито морщась каждый раз, когда Кузнецова начинала задыхаться от хохота, и неожиданно тихим голосом сказал:
— Я ж говорил, что будет чудо! Обязательно будет чудо. Как в воду глядел! Это ж быть того не может, чтобы они золото свое спокойненько отдали — И, вздохнув, вдруг по-деревенски устало произнес: — О господи!.. Сбегай-ка ты, Ксюша, за своим Точилиным. Пусть придет ко мне. А по дороге зайдешь к Столбову. Пусть Петр тоже идет до ячейки. Да сама-то меньше болтай об этом чуде. Мы еще с ним хлебнем лиха
Оставшись один, Омулев еще раз вздохнул, вынул из кармана аккуратно сложенную газету, оторвал от нее ровный кусок, привычно запустил руку в карман и взял щепотку махорки. Он скручивал цигарку не глядя, лоб его наморщился. Надо было что-то придумывать. И главное — быстро.
Григорий Степанович действительно все время ждал чуда. Не этого, так другого. Не богоматерь обновится, так Николай-угодник. Не Одигитрия заплачет, так еще какой-нибудь святой заревет Он ждал этого чуда с того самого дня, когда вышел декрет об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих. Когда они в ячейке читали вслух этот декрет, все казалось ясным. Даже легким. Редкая по лютости беда рухнула на Поволжье. Сгорело от засухи все. И хлеба, и картошка, и любой овощ. Миллионы людей голодают.
мрут у себя в избах, на дорогах. Детские трупы валяются в канавах. Пропал весь скот, избы стоят голые, без крыш — всю солому с крыш съели. А Россия советская — нищая и разоренная. Хлеба — поддержать голодающих, спасти людей от верной смерти — нету. Нет даже семян и, если не посеять, значит, и на будущий год жди такого же горя. Хлеб придется покупать у капиталистов за границей. Конечно, за золото — не за советские же они будут продавать. И надобно этого золота наскрести где угодно! А его и искать не надо. Вот оно — у всех на виду, во всех городах и селах. Деньги, которые так нужны, светятся драгоценным золотым блеском на тысячах икон, переливаются в бесчисленных драгоценных камнях, густо налепленных на окладах, наперсных крестах, всяких там митрах и посохах, покровах и плащаницах. Многопудовые серебряные подсвечники, дарохранительницы, мировар-ницы, всякая всячина, за века награбленная,взятая у народа и подаренная церквам купцами да помещиками И все это богатство без всякой пользы коптится в ненужных церквах, соборах, монастырях. А люди мрут ежедневно от голода, и спасти их может вот этот золотой да серебряный хлам
Так все казалось простым, понятным, никому и не приходило в голову, что попы откажутся отдать золото, будут сопротивляться Советской власти.
— Да они что, совсем глупые? — сказал взрывник Маке-ич. — Ведь им что самое важное? Люди. От людей они кормятся, их темнотой они живут! Не будет людей, перемрут они от голода — и попам хана! Никто им ни маслица, ни яичек, ни куренка не принесет. Что же они, подсвечники серебряные обгладывать будут, что ли? Нет, поскрипят, конечно, зубами, а отдадут. Без звука отдадут! А потом, наши церкви ведь не у царя Гороха Небось под боком у Питера, Волховстройка здесь, пролетариат значит
И вот тогда Григорий Степанович-то и сказал:
— В топоры, конечно, попы наши не пойдут, пулеметы на колокольни не потащат. Это время прошло. А вот темных
людей мутить будут. И для этого выкинут какое-нибудь такое чудо. Помяните мое слово
И как в воду глядел! В Москве патриарх Тихон стал сыпать проклятиями, призвал не отдавать церковных ценностей. Ну, а кто не такой важный, кто побоязливей, этим осталось только чудеса придумывать И до них дошло, до Волхова.
В коридоре послышались веселые голоса Точилина и Стол-бова. Им-то, комсомольцам, весело! Недавно на партийной ячейке драили их за то, что с попами не борются, что молодежь свадьбы в церквах крутит, — только похохатывали: дескать, ребят-комсомольцев на всех девчат не хватит! Кое-кто и за верующего выскочит!.. Им и сейчас смешки: как же — чудо!
— Ну, садитесь. Я вижу, что Ксения вас больно уж развеселила.
— Так, Григорий Степанович, ведь умора! Богородица-то ревет! И слезы — кап-кап-кап Вот придумали, длинногри-вые, курям на смех!
— Так не курям на смех, а таким только пацанам, как вы. Ну чего смешного? Только в уезде организовали специальную комиссию по изъятию церковных ценностей, а уже богоматерь реветь начала Вы думаете что: попы перед церквами станут и золото свое грудью защищать будут? Да они поумнее вас. Они будут в сторонке. И в церковь-то не пойдут. А вот народ обманутый станет перед церковью — как же, богородица плачет, кадила ей серебряного жалко. Сегодня плачет, а завтра мор на людей нашлет. Или еще какую холеру А комсомольцы, что должны с темнотой бороться, объяснять людям про поповский обман, они мяч этот кожаный будут гонять за огородами да со своими девчатами песни петь про то, как моряк красив сам собою
Саша и Петя первый раз видели своего председателя рабочкома таким злым. Омулев любил комсомольцев. И уж на что был прижимист насчет денег, а футбольный мяч, каким их укоряет, сам привез из Петрограда
— Так что ж делать, Григорий Степанович? Соберем ребят, пойдем к этой часовне, объясним этим теткам, для чего церковное золото нужно
— Ну да. Вы им Демьяна Бедного басни читать будете, а богородица будет плакать да плакать И что же вы против ейных слез сказать сможете? Нет, ребята, вы пойдите-ка туда да посмотрите — как же она плачет это? Может, врут? Пойдите, а к вечерку придете сюда, и подумаем, как дальше быть. Да ведите себя тихонько. С глупостью только дураки дубьем борются. Вот так-то
ЧАСОВНЯ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА
Комсомольцы зашагали к селу Михаила Архангела. Идти было недалеко. И очень скоро веселое их настроение стало портиться. Нет, видно, Степаныч был прав, и чудо становилось все менее смешным. По дороге и по тропкам к селу шло множество людей. Ковыляли невесть откуда-то взявшиеся богомолки в черных платках, шли ветхие старушонки, бежали детишки, спешили мужики. Да что говорить — встретили даже двух рабочих с Волховстройки Видно, после обеда не вернулись в артель
Часовенка у Михаила Архангела была знакома комсомольцам. Не однажды днем пробегали мимо, по вечерам гуляли с девчатами. Никто и внимания не обращал на ветхую часовушку с криво навешенной дверью. Одинокая, никому не нужная, она торчала на бугорочке, как старый сгнивший гриб, которому уже не нужно скрываться
Теперь разглядеть часовню было невозможно. Густая, черная шевелящаяся толпа людей скрывала ее. Время от времени люди падали на колени — и тогда крест часовенки вырастал. Потом люди подымались, и крестик снова опускался вниз. Неумолчное жужжание голосов прорывалось исступленными женскими криками: «Голубушка наша!.. Матерь божья, угодница!,. Спаси нас и помилуй!..»
Ребята остановились и переглянулись. Все это было страшно и непонятно. Ну, было вокруг Волховстройки несколько церквей. Молодежь ходила туда редко, разве что на престольные праздники — себя показать и других посмотреть — или если невеста очень крепко потребует свадьбы «по-настоящему» Около этих церквей шатались лишь ка-кие-то старушенции, униженно кланялись нескольким жалким попикам, что были в округе А тут — тут был народ И серьезные мужики, и деревенские парни, и даже рабочие со строительства. Вот тебе и попики!..
Точилин и Столбов осторожно, бочком пробивались через толпу. Кепки свои они спрятали в карманах, и, когда молящиеся вокруг становились на колени, они присаживались на корточки, как во время какой-то далекой детской игры. Маленькая криница перед часовенкой, где всегда играл чистенький родничок, превратилась в грязную яму с липкими, растоптанными краями. На животе, ползком какие-то люди подбирались к яме и пили из нее — не по-человечески, по-собачьи Тетка в аккуратном салопе деловито черпала воду ковшиком и сливала в большую бутыль. А на краю сидела женщина и, опустив в холодную воду костлявые, немощные ноги, исступленно и непрерывно крестилась
Чудотворная икона была уже не в часовне, а стояла перед ее дверьми, на чистых полотенцах. Десятки свечей — желтых, белых, тоненьких и толстых — горели вокруг. Их держали в руках старики и женщины, они были воткнуты прямо в землю перед входом в часовню. Рядом с иконой, в полном своем облачении, стоял отец Ананий. Теперь это уже не был тот попик, маленький и жалкий, каким его видели, когда он пробирался по Волховскому проспекту к какому-нибудь своему клиенту. Казалось, он стал выше ростом, глаза его горели таким же огнем, как свечи перед иконой. Он размахивал пустым кадилом, изо рта его, как из граммофона, лился нескончаемый поток звуков. Слов разобрать было нельзя, и только по тому, что голос его то поднимался до крика, то опускался до шепота, толпа понимала, когда ей падать на колени, когда
вставать Возле иконы бывший староста Митрич и какие-то добровольцы выстраивали в цепочку людей, подползавших на коленях, чтобы приложиться к богоматериной ручке.
Зажатые толпой со всех сторон, Саша и Петя уже без всякого смеха рассматривали икону. Она была небольшая и действительно светлая и чистая. По краям ее были видны темные разводья, — видно, там обновление проходило менее успешно. А плакать икона действительно плакала, и это было самым удивительным и непонятным. От темных и длинненьких глаз богородицы вниз шли две тоненькие влажные дорожки. Время от времени в глазах иконы возникали маленькие капельки и медленно скользили вниз И тогда те, кто толпился возле иконы, поднимали крик: «Пла-а-чет! Родимые, пла-а-ачет, голубушка!..» И буря криков, вздохов и стенаний проносилась по толпе.
Комсомольцы, выбравшись на дорогу, молча и хмуро счищали с одежды пыль и грязь. Не переговариваясь, они дружно зашагали в поселок. Через несколько минут они нагнали знакомого — плотника Федосова.
— И ты, Федосыч, подался сюда! А еще рабочий человек! Побежал к иконе прикладываться?
— А как же, ребята! Чудо ведь, это и рабочему человеку интересно. Приложился к чудотворной, а как же Портач работал там, не мастер, нет Дело-то нехитрое. Купорос, скипидар да олифа. Ну, а освежить не сумел. Торопился, что ли?.. Надобно было верхний оклад снять, протереть, потом чистой олифой хорошенько смазать, а уж потом обратно оклад одевать. Вот тогда бы ничего А уж как слезки сделаны, не знаю. Смотрел — дырки-то не видать, не видать, нет
СЕКРЕТ СЕНИ СОКОВНИНА
Комсомольского собрания сегодня не объявляли, но комната ячейки была набита ребятами. Гриша Варенцов, только что пришедший из партячейки, постукивая кулаком по столу, говорил:
— Не иначе, как у них кто-то в уезде есть, все им докла-дает. Ведь послезавтра комиссия должна была начать в церкви Михаила Архангела описывать ценности. И про это никто не знал, только несколько человек. А уже попам доложили, и они поторопились с чудом! А теперь нам надо решать, как быть, как это самое чудо разоблачить
— А чего там обсуждать да голову ломать! — сердито перебил его Саша Точилин. — Соберем всех ребят, всех комсомольцев да беспартийных, построимся, рванем песню «Вперед заре навстречу, товарищи, вперед! Долой Христа, Предтечу и всякий прочий сброд » — и пусть попы да старосты попробуют помешать комиссии ценности забирать!..
— И то, ребята! — выскочила на середину Ксения Кузнецова.
Глаза ее горели, красная косынка сбилась
— Нарисуем плакаты, маскарад устроим, такой комсомольский молебен закатим, что от этой богородицы все попы разбегутся!.. — Она топнула ногой и запела:
Паро.ход бежал по морю, Волны бились кольцами. Все святые недовольны Нами, комсомольцами
— Хватит, Ксюшка, — махнул на нее рукой Столбов. — Ты будешь частушки распевать, а богородица будет плакать, и ничего ты против нее не выпоешь. Только по шее заработаешь! И от мужиков и от Омулева. Нет, узнать бы, почему она плачет, как эта «хитрая» механика устроена, да и показать всем, что это чистый обман, и ничего больше. Так и Омулев говорит, и приезжие из Ладоги. А вот как это сделать? Как?
Сеня Соковнин не вмешивался в спор. Спорили старые, всей стройке известные комсомольцы. Которые еще в ЧОНе были, с винтовками против белых шли. А он, Сеня, только два месяца назад в комсомол вступил, самый молодой в ячейке, и хотя он настоящий рабочий — ученик слесаря, — а из-за
своих пятнадцати лет мучается бог знает как! Та же Ксюшка Кузнецова никогда мимо не пройдет, чтобы не погладить по голове и противно сладко так сказать: «Ух ты, мой комсо-мольчик!» Ей бы только частушки кричать! Правильно Петя Столбов говорит: надо икону эту достать да обман разоблачить! И это сделает не кто-нибудь, не эта Ксения и даже не Точилин и Столбов, а он, Сеня Соковнин
Мысль эта гложет Сеню уже с самого вечера. Икону сегодня перенесли в церковь, и он знает такой секрет, какой никто в округе не знает Большое окно, что выходит в алтарь, забрано железными стрелками. Они высокие, доходят почти до самого верха, и три из них, которые справа, вынимаются. Надо только тихонечко их потянуть вверх, и тогда можно открыть окно и залезть в церковь. И он, пока не стал взрослым и сознательным парнем, со своим приятелем Ванькой Ерофеевым не один раз в церковь залезал по ночам. Несколько раз прятались там, когда в Соловья-разбойника играли, а однажды — хоть и стыдно это вспоминать! — из большого блюда просвирок четыре просвирки взяли Конечно, он всегда в церковь лазил вместе с Ванюшкой. Одному-то страшно Но Ванька остался в деревне, он не комсомолец, и комсомольскую тайну доверять ему нельзя. Да и времени нет
Сеня подался к двери, открыл ее и вышел из клуба. Ночи уже светлые, это плохо. Правда, сегодня луны- нет, небо в тучах и дождик накрапывает Он оглянулся и побежал к селу. Церковь темнела среди светлой зелени, окружавшей ее. Сеня подошел к ограде. Окованная железом зеленая дверь была заперта большим замком. На паперти, укрывшись под железным навесом от дождя, съежились какие-то фигуры, закутанные в тряпье. В окне церкви еле был виден скудный огонек.
Сеня тихонько обогнул ограду, пробрался к тому месту, где она была немного выщерблена, и привычно перемахнул через нее. Полукруглую стену алтаря окружали темные кусты сирени. Под окном лежали — с тех самых пор, как их когда-
то положили они с Ванюшкой, — три кирпича. Сеня взобрался на них. Сердце его билось отчаянно, он слышал этот стук так ясно, что оглянулся: не слышит ли его еще кто. Сеня взялся за правую стрелку и потянул вверх. Стрелка поддалась, он ее вынул, поставил в угол окна. Вынул вторую и третью. Осторожно нажал на створку окна, она скрипнула и отошла назад.
Сеня боком стал пробираться в темноту. Всего лишь два года назад он туда рыбкой проскальзывал. А теперь продирался с трудом, рубашка на нем трещала, известка и еще какая-то дрянь сыпалась на голову и руки. В алтаре было совсем темно, только из-за иконостаса пробивался слабый свет. Сеня повернулся животом и начал сползать на пол. Эта церковь была знакома ему до самого последнего камешка. Еще тогда, когда они с Ванькой не нашли секрета алтарного окна, он в ней бывал каждое воскресенье, а частенько и в будние дни. В этой деревне Сеня родился, вырос, и, с тех пор как он себя помнил, мать его водила сюда на заутрени, всенощные, молебны, панихиды. Водила, но и бог и молитвы ей не помогли, и умерла она от злой чахотки, оставив двух сыновей забитому работой и нищетой Сенькиному отцу
Ощупывая руками темноту, угадывая под ногами ступеньки, Сеня подошел к иконостасу и приник глазами к прорези. Церковь была пуста. В темноте она казалась огромной, чужой. Перед царскими вратами, на аналое, покрытом куском парчи, стояла та самая чудотворная В большом металлическом подсвечнике две восковые свечки чуть потрескивали крошечными огоньками. Икона была небольшая и ничуть не страшная. Совсем как дверка в маленьком шкафу в амбулатории, куда Сеню водили оспу прививать Сеня вышел из-за иконостаса, подошел к иконе и снял ее с аналоя. Хотел посмотреть, как она плачет, да темно, ничего разглядеть нельзя было.
Держа в вытянутой руке икону, Сеня прошел в алтарь к светлевшему окну и, положив икону на подоконник, стал вылезать из церкви. Дождь усилился, и стало темнее. Сеня
спрятал икону под рубашку и не стал лезть через ограду, а подошел к церковной калитке. На паперти было по-прежнему тихо, темные фигуры вовсе сжались в комочки. Спят.
ЧУДЕСНАЯ МЕХАНИКА
Под холодным дождем, не чуя под собой ни ног, ни дороги, Сеня бежал в поселок. Сколько же времени прошло? Клуб все еще был освещен, и в ячейке по-прежнему кричали и спорили.
— Мы тут ничего не докажем! — яростно говорил Петя Столбов. — Надо, чтобы приехали из Питера самые ученые специалисты, приехали и сказали этим дуракам: «Пусть Ананий нам ее даст в руки, пусть покажет, если действительно чудо!»
— Ну да, так они и дадут, держи карман шире! Что они, полоумные, чтобы опозориться перед всеми? Как услышат, что специалисты едут, так сейчас же икону спрячут и потайные молебны служить станут. Да еще и такое придумают, что богородица не только реветь будет, а речи контриковые начнет выдавать
— Вот она, богородица-то
Сеня стоял у самой двери, в руке его дрожала икона
— Да ты что! Что у тебя за икона? Откуда?
— Та самая. Чудесная которая. Из церкви взял
— Мамочки!.. — послышался восторженно-испуганный голос Ксении. — Украл Сенька икону! Спер чудотворную!.. Вот так Сеня-комсомольчик! А вы тут без питерских справиться не можете! Да иди сюда!..
Но Столбов уже подскочил к Сене. Не надо было спрашивать, откуда Сенька взял икону. Сенькина рубаха была изорвана и грязна. Сеня дрожал от волнения, от быстрого бега. Весь его вид показывал: человек совершил подвиг и подвиг этот достался ему нелегко
Одного лишь взгляда было достаточно: она!.. Петя Стол-
бов схватил одной рукой икону, другой ухватился за скользкую, дрожащую руку Сени:
— Пойдем!
Вместе с Сеней он вбежал в партячейку. За ним валом валили комсомольцы. Вокруг Омулева сидели все свои и еще какие-то чужие — видно, из уезда. Столбов толкнул вперед Сеню и, положив на стол икону, отчаянно выдохнул:
— Сенька-то Соковнин чудотворную из церкви вытащил! Вот она!
Позади тревожно и восторженно кричали ребята. Коммунисты повскакали с табуреток. Омулев положил руку на икону — совсем как на протокол собрания — и крикнул:
— Тихо! — И, обратившись к Сене, удивленно сказал: — Ты что, парень, ума лишился? Тебя кто научил?
— Никто меня не учил, — сказал Сеня; зубы его постукивали, ноги стали противно ватными, как когда-то, когда из совхозного сада привел его к учительнице сторож. — Никто меня не учил А мы что ж, будем смотреть, как эти попы обманывают, да? А мы посмотрим, как она плачет, да и всем расскажем А не то наколем из иконы лучинок — и в печку, как мой папаня сделал апосля того, как мамка померла Пусть потом ищут свою чудесную!..
— Пра-а-а-вильно! Молодец Сенька! Вот это по-комсо-мольски! — закричали позади ребята.
— Да тише вы, огольцы! Ну хорошо, Соковнин, украл ты эту чудотворную, думал комсомольский подвиг совершил А того не подумал, что попам от этого только выгода. Если ты ее на лучинки и в печку, они скажут, что вознеслась чудотворная на небо — не вытерпела, дескать, богородица большевистского безобразия А узнают, кто это сделал, так ведь дураков с дубьем начнут на нас натравливать. Как же — осквернили, безбожники, охальники. Вот ведь как ты с богоматерью-то невежливо обращался — грязная да мокрая
Саша Точилин решительно выступил вперед:
— Нет, Степан Григорьевич! Соковнин это не от несознательности сделал, а вовсе от сознательности комсомольской.
Никто его не учил этому. А правильно парень рассудил! Мы с этой самой иконой пойдем к верующим и все подробненько разъясним — вот как длинногривые вас, дураков, путают!..
— Умным объяснять не надо, а дураки вас слушать не будут. А Ананий и вся эта братия скажут, что коммунисты всё сами подделали или икону подменили Нет, товарищи! Это они, попы, с нами борются нечестными способами, а нам с ними надо бороться в открытую, честно, чтобы люди нам верили. Доказать, убедить надо людей, заставить этого Анания, чтобы он икону показал верующим. А уж нам надо смотреть, чтобы все было без обмана. Вот как надо делать! И ты, Сеня, пока никто не спохватился, тикай назад и ставь эту свою богородицу на место. И не дрожи. Да ты, никак, плакать вздумал! Ты что! Комсомолец ты хороший, настоящий наш парень, горячий — так и надо! Ну, а что чересчур погорячился — это бывает. Вот ты тихонечко иди обратно и приладь икону. И возвращайся Вместе подумаем, как быть с ней, с этой чудотворной
Сеня вовсе не плакал, он только сам не знал, как так получилось, — всхлипнул два раза, оттого что не получился подвиг, что Омулев не хлопнул его по плечу, не поставил в пример всем ребятам, что не выйдет он завтра на работу спокойный и гордый и не будет слышать, как за его спиной все почтительно говорят: «Это тот самый Семен Соковнин, который попов разоблачил!» И Омулев и другие люди расплывались в Сениных глазах радужной пленкой. Сеня протянул руку за иконой, но тут ее взял в руки Куканов. Человек молчаливый, не улыбающийся, серьезный.
— До чего ты, Степаныч, правильный — страх! Все рассудил верно. А о главном не подумал. Парень ведь хотел посмотреть, как попы людей охмуряют. А ты ему эту чудотворную назад в руки — и пожалуйста, клади на место Не для того же ты, Соковнин, ее брал, да с таким небось страхом? Верно? Раз уж чудо нам в руки попало, так надобно посмотреть, как это чудо делается. Все же мы мастеровые, нам это занятно
Куканов взял икону, повернул ее к свету и стал внимательно рассматривать. Его грубые руки слесаря ощупывали икону осторожно, нежно, настойчиво. Он умело отогнул скобки* снял металлический оклад, поднес доску совсем близко к глазам
— Так, так Это, значит, здесь должно быть А, вот оно! Ишь как здорово придумали! Сейчас мы эту штуку снимем и посмотрим Ах, вот как это они придумали! Ну, молодцы! Нет, товарищи, тут не дуролом работал, у этого прохвоста золотые руки! Как, мошенник, приспособил! Да иди сюда, Точилин, глянь! Ты лебедку паровую за два дня собрать не мог, а здесь мастер на жульничество талант свой тратит. Его б к нам — лебедки собирать!..
В комнате стояла такая тишина, какая бывает в классе на интересном уроке. Все столпились вокруг Куканова, комсомольцы даже взгромоздились на табуретки, на подоконники, маленькая Ксюша Кузнецова не постеснялась на стол залезть. Все не сводили глаз с ловких и быстрых рук Петра Куканова. Вот он нащупал какой-то бугорочек на доске иконы, полез в карман, вынул складной ножик, раскрыл и осторожно лезвием залез в неприметную щелку. Вынул маленькую дощечку, отвинтил два винтика, снял еще одну дощечку, побольше, и весь хитрый плачущий аппарат богородицы предстал перед ними. Богородица могла еще плакать долго — стеклянная пробирка на две трети была наполнена слезами. Пробирку закрывал хорошо притертый поршень. Тонкими металлическими тяжами он соединялся с крошечной педалью, приспособленной у богородицыной руки — той, к которой прикладывались преисполненные верой люди. Легкого нажима было достаточно, чтобы поршень чуточку подавался вперед и пузырек воздуха, гонимый им, нажимал на жидкость. Из пробирки шла тоненькая резиновая трубка в глубь доски.
— Правильно! Здесь и должен быть сальник, то есть, значит, ватка. Иначе слезки назад потекут Вот мы эту ватку выймем, а здесь Ох, жулябия! Видите — дырочки они не провернули, а прожгли тоненькой иглой. Сейчас мы это об-
ратно положим Ну, Степаныч, прикладывайся к чудотворной! Не хочешь? Ну, я вроде приложусь. Пальцем.
— Пла-а-ачет! Ребята, плачет! О черт! — Позади комсомольцы визжали от восторга, Ксюша от смеха чуть не свалилась со стола.
— Ну, хватит! Представление окончено! Сейчас мы это обратненько закроем Вот этак. Завинтим. Сейчас мы эту дощечку назад приспособим Готова к работе! Конечно, золотник на паровозе помудрее сделан, да и эта работа неплоха. Достались, видно, подлецу толковая голова да умные руки. Жалко! На, Сеня, бери свою чудотворную и неси ее в церковь. А ежели уронишь — знаешь уже, как ее чпнить. Ты теперь вроде как Иисус Христос — сам можешь чудеса делать
ПЕРЕД ОБМАНЩИКАМИ И ОБМАНУТЫМИ
Соковнин схватил икону и решительно засунул ее под рубаху. Он подбежал к двери, оглянулся на Точилнна и потянул его в коридор.
— Саш, ножик у тебя есть? Ну, перочинный!
— Зачем тебе?
— Надо. Дай. Отдам ведь.
— Ну, бери. Ты только, Сеня, не вздумай чего делать!
— Да ничего я делать не буду. Так, на всякий случай
Сеня выбежал на улицу. Дождь все шел, мелкий и непрерывный. Стало холоднее. Но Сеня уже не дрожал, и глаза его были сухи. Он теперь знал, что ему надо делать. Правильно Григорий Степанович говорит: надо по-честному разоблачить поповский обман. Чтобы все увидели! Чтобы Ананию некуда было податься! И он, Сеня, это сделает!
До церкви он добежал быстро. Не подходя к церковным воротам, он прямиком направился к знакомому месту стены, перелез и подбежал к окну. Все было на месте, и вынутые железные стрелы, как были им поставлены в угол, так и стояли, Забыл тогда, в спешке, поставить назад. Сеня, теперь
уже умеючи, пролез в отверстие, стал на подоконник и спустился в алтарь. В церкви было по-прежнему тихо, огонек позади иконостаса еле мерцал. Спокойно, как у себя дома, Сеня подошел к аналою, поставил икону на место, поправил золотой кусок материи, оглядел, так ли все, и на цыпочках побежал назад. Он выбрался наружу, закрыл за собой окно, спокойно, не торопясь поставил на свои места стрелы из решетки, спрыгнул с кирпичей и оттащил их в кусты. Что делать дальше, Сеня уже знал. Он подошел к церковной паперти. Богомольцы спали тяжелым, нездоровым сном уставших и бездомных людей. Изредка кто-нибудь из них стонал во сне п пытался натянуть на себя кусок рваной дерюжки. Ежась от холода и отвращения, Сеня подполз к краю человеческого клубка, лег на холодные каменные плиты и прижался к какому-то старику. Все же человеческое тепло шло от этих жалких, бедных, обманутых людей. Они мокнут под дождем, чтобы первыми приложиться к этой самой богородице, а Ананий небось спит под пуховиком, спит и сны видит, как он с утра начнет людей охмурять, деньги с них собирать, натравливать их на коммунистов И не знает, что песенка его спета! Что завтра утром комсомолец Семей Со-ковнин его разоблачит и опозорит на весь свет Сладостные мысли в Сениной голове стали летучими, веки стало прижимать неодолимой тяжестью, и Сеня заснул. Заснул так же крепко, как будто спал дома, на теплых кирпичах большой печки.
Проснулся он не то от пронизывающего холода, не то от голосов. Было совсем светло, дождь перестал, и только крупные капли на деревьях и кустах напоминали о мокрой и тревожной ночи. Богомольцы на паперти уже встали. Они ёжились, почесывались, шептали молитвы, кланялись большому замку на церковной двери и мелко, часто крестились. Были здесь и немощные старухи, и еще крепкие старики, и две заплаканные молодайки, и несколько пацанов. И никто не удивлялся, что был среди них еще один мальчишка, с нечесаными ржавыми волосами.
Солнце уже подымалось, в кустах неистово пели птицы, с Волхова тянулся туман, когда к церкви подошли люди. Отца Анания сопровождали дьякон, псаломщик, которого на селе звали по-странному — Каледий, Митрич, старушки и старики. Многих из них Сеня знал с самых ранних своих лет. Богомольцы на паперти разобрались в две кучки, давая дорогу начальству. Молодайки упали на колени и смотрели на Анания так жалостно, будто от него и зависело все их неведомое Сене счастье. Священник задрал рясу, вынул из кармана подрясника большой ключ п стал отпирать церковь. Митрич вполголоса ругался и отдирал от двери руки богомольцев. Потом они зашли в церковь и закрыли за собой дверь.
Прошло добрых полчаса, пока Митрич снова открыл дверь и уже пополнившаяся толпа верующих, крестясь и причитая молитвы, вошла в церковь. Перед иконами горели лампадки, чудотворная была обставлена цветами, и десятки восковых свечек горели перед ней. Лицо Анания уже не было заспанным, а было торжественным и деловым. В парадном облачении он размахивал кадильницей и откашливался. Одна из молодух оказалась самой проворной. Она первая на коленях подползла к иконе и со стоном потянулась вперед губами.
— К ручке!.. — громким шепотом прошипел Митрич.
«Сейчас заплачет!» — злорадно подумал Сеня, стоявший
на коленях возле самой иконы.
Действительно, когда молодушка оторвала свои губы от богородицыной руки, две капли слез появились в грустных богородицыных глазах и тихонько поползли вниз Женщина всхлипнула, снова потянулась к иконе и языком слизнула влажный след. С громким воплем она ударилась головой об пол.
— Плачет, пречистая! Солененькими слезками плачет, родимая наша! Заступница, матерь божия! Помилуй нас, помоги, заступи от злых людей, от ворогов лютых, от болестей скорбных!
Она вопила во весь голос, нараспев, как вопят женщины на похоронах. Крик ее подхватили другие женщины, стоны и плач наполнили церковь. Стоя на коленях в углу около иконы, Сеня видел, как в настежь раскрытые двери церкви шли люди. Одни тут же падали на колени, бились головой об пол, другие входили с опаской и любопытством и, наскоро крестясь, прижимались к стенам, не отрывая глаз от чудотворной. Здесь были знакомые и незнакомые, деревенские и поселковые. Степан Глотов из конторы торжественно стоял
под самой большой иконой Михаила Архангела и время от времени частым и мелким крестом крестил свой френч с огромными накладными карманами в складках
Отец Ананий размахивал кадильницей и беззвучно открывал рот. Слов его в шуме и криках не было слышно. Потом он оглянулся, отдал кадильницу дьякону и поднял кверху руку.
— Тихо! — пронзительным голосом, перекрывшим шум, крикнул Митрич.
Толпа замолкла, только продолжали еще всхлипывать несколько женщин.
— Православные! — начал Ананий. — Чудо великое и неисповедимое сотворил господь. Повелел он — и святая икона пречистой божьей матери Одигитрии обновилась, божеское сияние снизошло, и, глядя на горести наши, на беды людские, заплакала она, искупитель-ница наша. Се — чудо божественное, се — знак господень, и понимать его надо — Ананий поднял палец вверх. — Тяжкие времена послал господь за грехи наши, православные! Последнее, что имеем, — храмы божьи и те предаются разграблению. Как басурмане некогда, посягнули безбожные люди на достояние божеское. Ввергнут в узилище святой отец наш патриарх Тихон. Помолимся же, православные, чтобы послал господь силы устоять против сатаны и
ангелов его. Омоем слезами грехи наши, восплачем, как плачет за нас пречистая божья матерь
— И все ты врешь и людей обманываешь! — пронзительно, срывающимся голосом крикнул Сеня. Он вскочил с колен, кинулся к аналою, на котором стояла икона, и, захлебываясь, глотая от волнения слова, стал выкрикивать: — Не верьте, не верьте, товарищи!.. Обманывают вас Они просто жулики Тут позади богородицы склянка с водой И трубочки Я сам видел Вот сейчас отвинчу два винтика, и сами всё увидите Мошенство это, а не чудо вовсе Вот сейчас я вам все объясню
Сеня стал шарить в карманах, отыскивая перочинный ножик. Нашел, вытащил и протянул руку к иконе В наступившей гулкой тишине он слышал шум в дверях, и протяжные, не могущие остановиться всхлипы женщин, и отчаянный стук своего сердца Как в кинематографе, он видел перед собой остановившиеся глаза молящихся, испуганно вытянутое лицо Глотова, отчаянно любопытствующие глаза какого-то подростка, искаженный яростью рот Митрича
— Пащенок проклятый! Комсомольское отродье! Бей его, супостата!.. — Услышал Сеня крик не крик — выдох Митрича
Чья-то сильная рука рванула Сеню в сторону, церковь завертелась перед его глазами, сильный удар сбил его с ног, и, теряя сознание, Сеня увидел, как с купола церкви одобрительно-зло смотрит бородатый бог на то, как убивают комсомольца Семена Соковнина
ЦЕНА ЗОЛОТА
— Григорий Степанович! Сеньки-то Соковнина в общежитии нету, и не ночевал он там, и никто его из ребят не видел Боюсь я Упрямый он парень и скрытный. Может, погорел он со своей иконой или учудил что
Петя Столбов утратил свое обычное спокойствие. В11д у
него был такой встревоженной, что и Омулеву на какую-то минуту стало не по себе.
— Да Скрытный Приняли хорошего парнишку в комсомол, и ходит он только на ваши собрания. А чтобы поближе его к себе, так вас тут нет!.. Ростом да годами не вышел Пойдем-ка побыстрей в эту чертову церковь!.. Погоди минуту!..
Омулев вынул из кармана ключ, отпер нижний ящик стола, достал оттуда наган и положил его в боковой карман куртки. Потом подумал и из другого ящика взял какую-то темную палочку и печать.
— Пошли!..
Они почти бежали по грязной улице поселка. Их окликнул веселый бас взрывника, идущего на работу.
— Куда бежишь, Степаныч? Прикладываться, что ли, к чудотворной? И Петьку Столбова к божескому делу приучаешь!.. — И Макеич гулко захохотал, довольный своей шуткой.
Рядом с ним залился смехом Гриша Варенцов.
— Шутковать, Макеич, некогда Вот боимся, что с нашим Сенькой неладное приключилось. Пошли с нами! И быстренько!..
Теперь они бежали вчетвером. Гриша Варенцов подпрыгивал на своей хромой ноге. По размытой дороге они сбежали вниз и увидели церковь. И у Омулева сразу же ёкнуло и забилось сердце: что-то действительно случилось Гулкие крики и неистовый шум вырывались изо всех окон церкви. На паперти люди, не сумевшие войти в переполненную церковь, вытягивались, становились на цыпочки, чтобы разглядеть что-то происходившее внутри Омулев и его товарищи подбежали к двери. Они расшвыривали и оттаскивали людей, и вид у них был такой, что перед ними все расступались. Работая руками и локтями, они пробивались к алтарю, где слышались глухие удары, злобное сопение, дикие выкрики
По знакомой разорванной и окровавленной рубахе, по ржавым волосам узнал Столбов Сеню в том окровавленном комке, что валялся на полу Нагнувшись, бывший староста
Митрич бил этот комок ногами, обутыми в тяжелые, добротные сапога При каждом ударе он хакал, как мясник, разрубающий мясо Взрывник схватил его за шею и железной рукой пригнул книзу.
— Стой!.. Убийцы!.. Или уже Советской власти нет, что вы тут, гады, детей убиваете! А ну, выходи все из церкви! Быстро! Быстро! А ты, батюшка, куда торопишься? Погоди, со мной выйдешь! Ребята, берите Сеньку — и в больницу. Глотов! Ты это куда выбираешься? Давай помогп тащить парня. Стоял тут, смотрел, как ребятенка убивают, гнида! И ты, паразит царский, подымайся, туши свечи да выходи со мной
Омулев стоял перед царскими вратамп, широко расставив ноги. Правая его рука была слегка засунута за пазуху, она как бы срослась с рукояткой нагана. Рядом с ним стоял взрывник, черные его усы встали торчком, руки были сжаты в кулаки Толпа вываливалась пз церкви — притихшая, остывающая Омулев с попом и старостой вышли последними. Омулев обернулся к Ананию:
— Доставай ключ. Запирай церковь. Давай, давай, слуга божий! Вот так. Ну, а теперь и я для крепости приложусь
Он вынул из кармана палочку сургуча, пошарил по карманам, вынул сложенную газету, что всегда курил, оторвал кусок бумаги, обернул замок, зажег спичку и стал капать расплавленным сургучом на бумагу. Потом достал медную печать, дыхнул на нее и приложил к сургучу. Повернулся и подошел к краю паперти. Перед ним стояла толпа людей — молчаливая, ждущая
— Ну вот Да неужто в этом вашем святом писании написано, чтобы детей убивали И где? В храме божьем! Ему же, Сеньке-то Соковнину, пятнадцать лет всего Да вы же его все знаете. Он же здешний Да у вас самих дети есть, а стояли и смотрели, как эта контра царская его сапожищами глушит!.. Совесть ваша где, люди? А неправ он — докажите! Не кулаками да сапожищами, а докажите, если правда ваша! А я скажу вам, за что парня убить хотели. Ведь знаете,
вышел декрет от Советской власти — изымать из церквей ненужное золото да серебро, чтобы хлеба купить, людей спасти от неминучей голодной смерти в Поволжье. Кто по-настоящему верует, хоть пусть по темноте своей заблуждается, тот с охотой эти камешки да золото отдаст. Ну, иконы там святые, а ведь подсвечник да кадило — они какой же святостью покрыты? И, кажись, идут они на самое богоугодное дело — людей спасать! Так нет! Потому что для этих вот золото сильнее веры. Я так скажу: золото — это ихняя вера! И за него глотку готовы каждому порвать. Ты, отец Ананий, молчи уж, это я про тебя говорю! Ты же придумал это чудо — богородица, видишь, плакать начала! Твоего серебра да золота ей жалко стало! Ну, вот что Кто из вас хочет сам, своими глазами, посмотреть, кто прав: парень этот или отец Ананий со старостой, ждите нас. Через два часа придем с комиссией из уезда, с людьми от Советской власти. С вами вместе распечатаем церковь, вместе войдем, и пусть выбранные вами осмотрят чудотворную. Мы н прикасаться не будем — только скажем, что и как делать И, если чудо настоящее и натурально плачет богородица, уйдем, все оставим как есть Ну, а если жульничество чистое, тогда не взыщите! Иконы и все прочее останется на месте — молитесь, если вам так хочется, а ценности, как предписано декретом, возьмем. А заодно и тех, кто вас обманывает, кто убийствами в храме божьем занимается! Вот так!.. Пошли, батюшка, в Совет. Да не дрожи, не дрожи Через пару часов вернемся вместе назад. И, ежели ты праведник, бог тебя в обиду не даст, защитит! Правильно я говорю? Ну, и ты иди, защитничек престола Раньше царский престол защищал, теперь, вишь, божий За парня ты ответишь!..
— Сень, Семенчик!.. На газету, погляди Что ж это — про золото и серебро прописали, а про твой геройский подвиг ничего! А ты у нас самый-самый геройский комсомольчик! Я так своему Сашке Точилину и сказала: вот выйдет Сенеч-
ка из больницы — я только с ним буду плясать и частушки петь! А?
— Да ну тебя, Ксюшка!.. — недовольно пробурчал Сеня.
Он стоял у раскрытого окна волховстроевской больнички. Было уже совсем по-летнему тепло, на улице хохотали ребята. И Саша Точилин, и Петя Столбов, и хродюн Варенцов — все были тут Сеня развернул серый листок газеты «Вестник Новоладожского уисполкома» Вот тут, внизу, напечатано: «Изъятие церковных ценностей для помощи голодающим Поволжья. Изъято золота 1 фунт 10 золотников 86 долей. Серебра — 33 пуда 9 фунтов 60 золотников 69 долей»
Ух ты, сколько! Тридцать три пуда! А жалко, что золота только фунт с небольщид! Это сколько же хлеба у капиталистов можно на это золото и серебро купить? Небось все же много — ведь тридцать три пуда!.. Конечно, хорошо бы, если бы было еще дальше пропечатано: «А помог забрать это золото и серебро волховстроевский комсомолец Семен Соковнин, который начисто разоблачил поповский обман с иконой, которая плачет И даже пострадал за это от руки контры » Ну, да все равно — все здесь знают теперь, что он, Семен Соковнин, свой комсомольский долг выполнил! И пусть эта сорока Ксюша Кузнецова над ним не посмеивается Ему так сам Омулев и сказал: ты, Семен, свой комсомольский долг выполнил и в глаза людям должон смотреть прямо и гордо Ну, а что он П0Т0Д1 его отругал маленько, так ведь это никто не слышал
ГОД ЖИЗНИ ЮРИЯ КАСТРИЦЫНА
ПРОФЕССОРСКИЙ СЫН
Много времени спустя, перебирая в памяти все события этого трудного года. Юра Кастрицын отчетливо помнил день, когда это все началось Это был мартовский день. И начался он так же славно и весело, как все предыдущие девяносто три дня, прожитые Юрой на Волховской стройке. Казалось, все трудное и сложное, что было раньше в жизни Кастрицына, уже осталось позади. Остался позади мучительный разрыв с семьей. Семнадцать лет он был радостью своей милой и хорошей мамы, гордостью и надеждой своего знаменитого отца Большая профессорская квартира, которую Юра помнил с первых лет своей жизни, только числилась отцовской. Правда, на двери висела всегда вычищенная медная
дощечка, на которой славянской вязью было написано: «Профессор А. Е. Кастрицын». И в квартире этой всё — книги, картины, сувениры — напоминало о том, что живет в ней известный профессор-биолог Александр Егорович Кастрицын. Но в действительности полным хозяином в ней всегда был рыжий Юрочка. Библиотека существовала для того, чтобы из толстых книг в кожаных переплетах строить дома Из отцовских микроскопов выходили превосходные секстанты п подзорные трубы, необходимые для игры в пиратов А высушенные морские чудовища отлично выполняли свое прямое назначение, когда Юра становился капитаном Немо и с кортиком в руке осторожно пробирался по бывшей гостиной, ставшей морским дном
Юра мог всем распоряжаться в этой квартире, потому что он был не только сыном профессора Кастрицына, но и будущим профессором Кастрицыным, будущим знаменитым ученым, может быть, не только профессором, но и академиком, человеком, который обязательно совершит великий переворот в науке, станет вторым Дарвиным, Тимирязевым В это верили не только Юрины родители, в это верил и сам Юра. Верил до тех пор, пока не понял, что и отцовская наука, и их маленькая и дружная семья, и он сам, очень талантливый мальчик Юра Кастрицын, так мало значат перед тем огромным, великнд!, что проис-ходит рядол! и что открылось ему с необыкновенной силой.
Нет, отец не был против Советской власти, он никогда не был саботажником. С презрением и отвращением относился он к тем своим коллегам, которые, поедая академические пайки, бездельничали, юродствовали и со вздохом вспоминали, что они когда-то были «действительными статскими советниками», «тайными советниками», что на конвертах им писали: «Его превосходительству». И когда Юра в своей школе стал председателем учкома, и когда его приняли в код1-сомол, профессор Кастрицын против этого не возражал. Он даже не морщился, когда Юра пропускал уроки, чтобы бежать на вокзал встречать делегатов конгресса Коминтерна,
когда он все воскресные дни вместе со всеми городскими комсомольцами разгружал баржи с дровами у Охтинского моста.
«Жить надо, Юрочка, со всей страной, все хорошее и все плохое делить вместе » — говорил он.
И Юра Кастрицын очень гордился своим отцом, хотя небрежно, в разговоре с ребятами, называл его «мой старик».
Ко так было только до тех пор, пока Юра не окончил школу второй ступени. И наотрез отказался поступать в университет. В тот самый университет, где его ждали, где он должен был — обязан! — совершить переворот в науке. Юра Кастрицын вовсе не был ни против университета, ни против науки. Но ему казалось чудовищным, что можно копаться во внутренностях голотурий и медуз, изучать бесчисленные виды ракообразных сейчас, в такое время! Юре и так не повезло: он родился на каких-то три-четыре года позже и все великое прошло рядом, не затронув его. Он не штурмовал Зимний, не стоял в карауле у Смольного, в маскировочном белом халате не пробирался по треснувшему льду к мятежному Кронштадту. Все это происходило в знакомых с детства местах, и все это прошло мимо!.. А сейчас им, только-только подросшим, оставалось одно — разруха Она была таким же врагом, как Колчак и Юденич, как Деникин и Врангель Надо было вдохнуть жизнь в заледеневшие, мертвые заводы, надо, чтобы снова загорелись фонари на улицах, чтобы исчезли серые тоскливые очереди у булочных А голотурии — они могут подождать!
Это было так ясно Юре, это было так понятно любому школьнику, что невозможно было себе представить, что этого не понимает Юрин умный и добрый отец, профессор, «совдеповский профессор», как его тайком называли некоторые знакомые. Но он этого не только не понял — он мгновенно утратил все свое благосклонное отношение к Юриным интересам, как только сын ему объявил, что по путевке губкома он уезжает строить Волховскую станцию
— А кем ты там будешь, на этой на станции?
— Не знаю еще. Слесарем буду. Или бетонщиком. Всему научусь!
— И ради того, чтобы ты возил тачку с бетоном, тебя учили столько лет! Учили твоих учителей, учили тебя, чтобы Юрий Кастрицын делал то, что может делать — еще лучше сделает! — любой деревенский парень! Что ж, прп твоем социализме не будет никаких распределений обязанностей? По способностям? По призванию? По мере знаний?
— Будет, папа. Все будет. Только социализм надо еще построить! А так как он мой, то я и должен его строить! Вместе со всеми. С этими деревенскими парнями. Ты и голотурий мог своих резать только потому, что эти, как ты их называешь, деревенские парни тебя защищали. И вообще, отец, не будем спорить. Словесной не место кляузе.
— Мальчишка!
Да, все было. И бешеные крики отца. И тихие слезы матери И это противное, отвратительное чувство отчужденности, когда три самых близких человека собираются вместе за столом и враждебно молчат Юра спешил. Надо было скорее уезжать из дома, вдруг ставшего не только чужим — враждебным И отец не вышел из кабинета, не попрощался Юра неуклюже обнял мать и со щемящей жалостью увидел ее совсем побелевшие волосы, морщины на лице
— Юрочка, квартиру сними у хороших людей С хозяйкой договорись, что она тебе будет стирать и каждое утро будет давать завтрак Не смей уходить на работу натощак! Не забывай закрывать шею Помни про свои гланды!..
— Да, да, мамочка Я обязательно буду утром пить чай и завтракать И буду помнить про свои гланды Только ты не волнуйся и не беспокойся за меня Все будет очень хорошо!..
Бедная, смешная мамочка!.. Она постоянно беспокоилась о Юриных гландах, об этих проклятых гландах, которые имеются только у профессорских детей!.. Она даже и не представляла себе, что на стройке ее Юрочка будет работать и
без завтрака, а иногда и без обеда, что он будет часами стоять в холодной воде и цеплять багром скользкие и тяжелые бревна И что Юра плевать хотел на эти гланды, а когда у него и заболит горло, то он нарочно не будет ходить в больничку, чтобы не слышать этого мерзкого, надоевшего, насквозь буржуазного слова — гланды!..
Первые месяцы Юриной жизни на стройке были наполнены радостью свободы и первым в жизни ощущением, что то, что он делает, всем нужно. Юра пришел на стройку в авральное время. Река скоро должна была стать, по ней уже шла шуга. Пришел большой плот леса, и его надо было разобрать и вытащить на берег, пока он не вмерз в лед Все были мобилизованы на аврал и до самой глубокой темноты работали на берегу. Юра со всеми ребятами таскал бревна, выкатывал их на берег и укладывал в штабеля. Катать приходилось высоко, чтобы весенний разлив не разнес штабеля. Брезентовые рукавицы превращались в клочья через несколько дней, а новые давали только через месяц. Руки у Юры были покрыты волдырями кровавых мозолей, их разъедала холодная вода. Но Юра оставался всегда веселым, его огненная шевелюра выбивалась из-под шапки, как флаг, и его крик «Словесной не место кляузе» раздавался как слово команды. И Юра узнал, что он вовсе не изнеженный профессорский сынок, а здоровый парень. И он никогда не старался становиться под легкую вершину бревна, и его уже все звали «комлевиком», потому что Юра Кастрицын всегда катал толстую, комлистую часть бревна. И всем ребятам в высшей степенп было наплевать на то, что Юра когда-то строил домики из книг отца и любил играть в пиратов И сам Юра вспоминал об этом, как о чем-то очень далеком и чужом Каждый вечер, уходя с катища. Юра видел стройные штабеля леса. Им вытащенный из воды, им укатанный!
Жил Юра ни у какой не у хозяйки, а вместе со всеми ребятами, спал в большом и грязном бараке. В столовой кормили только обедом, а утром Юра наспех выпивал кружку кипятка с куском черного хлеба. А бывало, что съедал он этот
кусок и без кипятка А по вечерам, переодевшись в сухое, бежал в ячейку, и там допоздна комсомольцы репетировали «живую газету», спорили о том, кто хуже — капиталисты или же социалпредатели, пели песни Юрку быстро полюбили ребята. За то, что он был всегда веселый, за то, что не боялся никакой работы, за то, что он был такой рыжий, каких, наверно, и на свете нет За то, что он пел громче всех и, выкидывая вперед руки, читал стихи, хоть и не очень понятные, но уж зато боевые:
Р-р-разворачивайтесь в марше!
Словесной не месю кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер!
И уже становилось все понятным, когда Юра выкрикивал:
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!
Да, это была славная и хорошая жизнь! И Юра понимал, что социализм строить не только надо, — строить его весело и интересно!.. К середине зимы, когда весь лес вытащили, а ребят распределили по разным работам. Юру, как парня грамотного, толкового и себя показавшего, послали на экскаватор. «Помощник машиниста экскаватора», — небрежно отвечал Юра на вопрос о том, кем он работает Не стоило им рассказывать, что «помощник машиниста» целый день обыкновенной лопатой очищает ковш экскаватора от налипшей земли или же оттаскивает от ковша большие валуны Неразговорчивый экскаваторщик Юстус был им доволен. Когда шел сухой грунт и проклятая грязь не липла к ковшу, он
пускал его в будку, и Юра часами смотрел, как работают ловкие и быстрые руки .машиниста. А однажды Юстус сказал Юре: «Садись, перекурю!» — как будто он когда-либо и выпускал изо рта коротенькую трубку У Юры мгновенно вспотели ладони Но он сел за рычаги А еще через некоторое вре.мя на экскаватор пришел новый парень н взялся за лопату, а Юра насовсем перебрался в будку экскаватора — почти такую же, как капитанский мостик на корабле
МАРТОВСКИИ ДЕНЬ
Станция строилась! Теперь это было видно всем, даже тем, кто здесь жил уже давно и к строительной суете привык. Когда Юра с ребятами еще затемно выходили из барака, они вливались в толпу людей, идущих по Волховскому проспекту. А когда совсем рассветало, то, если взобраться на горку, что справа от конторы, становилась видна вся панорама стройки: с тысячами людей, копающих землю, рубящих ряжи, возящих бетон, грунт Были видны дымы костров, белые струйки пара локомобиля, были слышны свистки паровозика и путиловского экскаватора, глухие удары взрывов динамита, откалывающего камень, слышно звонкое тюканье топоров, уханье ломов
Станция строилась! И когда изготовили первый кессон и на митинге сочиняли об этом телеграмму товарищу Ленину, то Гриша Варенцов предложил написать Ильичу, что через два года — а может, раньше, а? — Волховская гидроэлектрическая станция даст Петрограду ток!
— Не торопись, сынок, поперед батьки!.. — ответил ему Омулев. — А то вот наобещаем Ильичу, а не сделаем — какими глазами на него смотреть будем?
И Кастрицын мгновенно увидел перед собой глаза Ленина, как на портрете в клубе, — чуть прищуренные, все видящие, не терпящие хвастовства
Ему-то понятно нетерпение Гришки Варенцова. Да и все это понимают! Ведь как построят станцию — приедет сюда Ленин! Конечно, приедет! Станция-то ленинская! И назовут ее — имени Ленина! И она — самая первая из всех электрических советских станций! Уже давно у комсомольцев обговорено: что они скажут Ильичу, куда поведут, что покажут И у Юры Кастрицына замирало сердце, когда он представлял себе, как Ленин идет по Волховскому проспекту А проспект надо замостить камнем. Или же выложить деревянными шашками — как Невский! Вот он идет и заметит Юру — конечно, его заметит! Тут уж помогут его волосы! И спросит: «А вы, товарищ, кем здесь работали?» И Юра уж не соврет, когда спокойно так, очень спокойно ответит: «Помощником машиниста экскаватора, Владимир Ильич »
Вот так все шло хорошо до этого самого мартовского дня. Много всяких дней после этого пережил Юрий Кастрицын. И бывали еще хуже, еще труднее. Но никогда ему не забыть толчка в сердце, когда вечером у конторы он увидел около какого-то объявления толпу людей и, подходя к ней, рассмотрел лицо Гриши Варенцова — побелевшее, как бы с остановившимися глазами.
С Волхова дул сырой и пронзительный ветер. Мокрые клочья снега залепляли глаза. Юра расталкивал плечом людей, они расступались молча и сочувственно, как перед человеком, который еще не знает о случившейся беде и должен сейчас, здесь все узнать На стене была приклеена газета и, несмотря на серую темень и слепящий снег. Юра мгновенно увидел то, что уже прочитали другие. «Бюллетень о состоянии здоровья тов. Ленина» Юра тяжело перевел дух. « За последние дни в состоянии здоровья Владимира Ильича произошло некоторое ухудшение: наблюдаются ослабление двигательных функций правой руки и правой ноги »
— Юрка! — хрипло спросил его Варенцов. — Двигательная функция — это что, очень опасно? Ты ж должен знать — у тебя батька профессор!
Ну что ж, что профессор! Всю жизнь занимался медузами,
голотуриями и ракообразными, вместо того чтобы стать настоящим профессором и лечить людей! Ведь при его таланте, уме, доброте он мог бы вылечить Ленина, спасти его для людей! А он, его отец, Александр Егорович, он всю жизнь убил на всякую чепуху! Юру охватило какое-то дикое, глупое отчаяние, как будто он, его отец, виноват в том, что случилось несчастье с Лениным и неизвестно было, нодюгут ли ему те, кто его лечит
— Насчет двигательных функций — это паралич. Понимаешь, паралич Но он не настоящий. Видишь, тут же написано — ослабление функций! У нас был знакомый, профессор Ястрежембский, так он всегда немного ногу волочил. А у него был полный паралич, мне мама рассказывала. И ничего! Только ногу немного волочил, а так был как все. Даже хуже — вредный был и всегда спорил со всеми
Юра взахлеб рассказывал о злом и желчном профессоре Ястрежембском, как будто это могло утешить его, утешить Гришу Варенцова, всех людей, молча стоявших у газеты и не расходившихся — вместе как-то легче.
Назавтра Юра два раза уронил ковш экскаватора, но Юстус на него не кричал, а молча сел вместо него за рычаги. А перед концом работы, не вынимая трубки изо рта, сказал:
— Пойди к конторе. Может, там что-нибудь новое повесили?
Как будто Юре надо было говорить! К конторе по вечерам бежали все. И, если не было еще газеты, стояли долго под секущим мокрым снегом и ждали: может, еще привезут И Юра стоял ближе всех и дольше всех, и дожидался газеты, и громко читал, а позади слышалось:
— Да тише! Читай громче!
Юра читал громко, насколько только можно:
— «Движение в руке и ноге увеличивается. Расстройство речи еще в том же положении. Общее состояние продолжает быть хорошим. И подписи: профессор Миньковский, профессор Фестер, профессор Крамер, приват-доцент Кожевников, наркомздрав Семашко »
— юра, ты их, этих профессоров, знаешь? Может, ветре-чал где, у отца? А приват-доцент — это повыше профессора, да?
— Нет, поменьше. Это вроде помощника, что ли, профессора. А этих я не знаю, отец-то у меня не медик, а биолог Но, уж конечно, это самые лучшие профессора! Самые большие спецы, какие только есть!
— А спецы эти не залечат Ильича? Ведь спецы — они бывают разные
— Ну, а читал, ведь с ними все время наркомздрав Семашко! Он с них глаз не спускает! И он сам доктор — сразу же увидит, чуть что не так
Профессорский сын Юрий Кастрицын должен был отвечать ребятам на десятки вопросов — он же был на стройке самым образованным
— Пульс сто восемь, а дыхание восемьдесят Юра, это что, хорошо или плохо? А «восстанавливается» — это как надо понимать, на поправку идет, да?
Шестьдесят комсомольцев было на стройке. И больше шестисот молодых ребят. И за эти дурные мартовские дни Юра узнал их больше, чем за предыдущие месяцы. Почему несчастье так сближает людей?
Уже прошло все страшное, тревожное. Бюллетени о здоровье Ленина выпускались все реже, они были все бодрее и бодрее. Потом объявили, что здоровье Владимира Ильича пошло на поправку и бюллетени больше не будут выпускаться. И только на каждом большом собрании всегда принимались телеграммы Ильичу с пожеланиями скорее выздороветь, скорее приступить к работе, скорее приехать к ним на Волхов посмотреть готовую ленинскую станцию А они постараются скорее ее построить!..
ПРОТИВ ВОЛХОВСТРОЯ
Да, казалось бы, все шло хорошо. И Ижорский завод, который строил баржи для кессонов, вместо трех месяцев построил их за полтора, — видно, и они тоже старались порадовать больного Ильича Наладилось изготовление кессонов, и все больше прибавлялось на берегу серых чудищ из бетона И стало тепло, работать можно было споро, и старенький Юркин экскаватор ломался меньше обычного
А все-таки какая-то невидимая тень от этих дурных и зловещих мартовских дней ложилась на стройку. Заладили ездить комиссии. То никого не было из спецов, никто не приезжал, а теперь спецы начали ездить пачками. Они останавливались на том берегу, в доме, специально для приезжих построенном. В коммерческой столовой для них готовили какие-то особые блюда, а бывало, что для них внизу, пониже строящейся станции, ловили знаменитых волховских сигов Ну и пусть жрут! Лишь бы стройке не навредили.
А слухи, что не зря зачастили на строительство комиссии, быстро растекались по всему Волхову. И когда, пробираясь между старыми опалубками и мешками с цементом, шли по площадке солидные дядьки, одетые в добротные, старого покроя пальто, с инженерскими фуражками на головах, с толстыми кожаными портфелями, их провожали тревожными и неласковыми взглядами Наверно, народ не зря говорит! Вот и Графтио, который с ними ходит, стал совсем мрачный, не улыбается больше рабочим, не останавливается с ними поговорить И даже всегда веселый и неугомонный инженер Иннокентий Иванович Кандалов перестал заниматься своим любимым драматическим кружком, и по всему видно — не до театра ему И товарищи из комячейки и рабочкома все чаще стали заседать и на эти заседания никого посторонних не пускали, даже комсомольского их секретаря не звали, как всегда
Одна комиссия сменяла другую. Графтио часто и надолго уезжал, он и вовсе перестал ходить по стройке, появлялся
редко и всегда с кем-нибудь из этих, приезжих В конторе все чаще слышались разговоры: «Тепловики не допустят», «Профессор Горев — он сила в Промбюро », «Сам Копелян-ский сказал — нерентабельно » И, наконец, самый большой гад из конторских, Степан Глотов, блестя своими крагами и заложив волосатые руки в необъятные карманы френча, авторитетно сказал в клубе:
— Закроют! По всему видно — закроют! Это я вам точно говорю! — И, вздохнув, добавил: — Замахнулись, а кишка-то оказалась тонка Вот теперь и мучайся, гражданин трудящийся Становись в очередь на бирже труда, устраивайся
Заречные кулаки-огородники — те просто расцвели Недаром, значит, они писали прошения, ездили в Петроград, даже в Москву, посылали ходатаев, требуя запретить стройку Ведь перегородят реку, подымется вода и зальет ухоженные огороды Правда, им отвели другие земли под огороды, подсчитали, сколько заплатить за убытки, так ведь все равно невыгодно! Сейчас разрешили, слава богу, свободную торговлю, и смекалистому да оборотистому человеку нажить капитал — самое легкое дело Особливо когда Питер под боком и знакомые хозяйчики на рынке
Трудно кончалась волховская весна 1923 года,и еще труднее начиналось лето На майские дни Юра съездил к своим в Петроград. Не хотелось бросать на это время ребят, не участвовать в демонстрации, которую так весело готовили. Но жалко было мать. Письма ее были такие тревожные, и в них проскальзывали несвойственные маме жалобы на нездоровье
Конечно, в Петрограде тоже было хорошо! Он показывал маме свои затвердевшие мускулы, она гладила его по обветренному и уже загорелому лицу, как бы желая убедиться, что страшные гланды ничего не сумели сделать с ее Юрочкой Отец его встретил холодно, но как будто и не было между ними прежнего дикого озлобления И даже желчному профессору Ястрежембскому обрадовался Юра, когда тот пришел «с визитом» Юра с удовольствием слушал его язви-
тельные речи и смотрел, как он ходит по гостиной, волоча ларализованную ногу. И не так уж страшен паралич, если он нисколько не убавил от профессора его живости и ума А нога, нога — это не страшно
А на первомайскую демонстрацию Юра ходил со своим районом, и ребята из райкома поставили его впереди колонны, и все его расспрашивали про Волховскую стройку и обещали летом приехать на Волхов и взять шефство над клубом и коцсодюльской ячейкой И Юра разговаривал басом, солидно, как и надлежит разговаривать пролетарию, помощнику машиниста экскаватора.
На Волховстройке неделя после праздника пролетела незаметно. Солнце грело, оттаявший грунт хорошо разрабатывался, Юру поместили на Красную доску, и впервые он был назван не Юркой Кастрицыным, а Кастрицыным Георгием Александровичем А в начале следующей недели развернулись бурные события.
Что где-то рядом существует капиталистический мир, знали все. Для не дравшихся с ним, для таких, как Юра, Гриша Варенцов, Петя Столбов, он уже был как бы в прошлом. Выступил против нас, был разбит, а теперь разлагается в своей берлоге, скрипит, расшатываемый революционным напором рабочих, которые не сегодпя-завтра скинут капитализм и последуют примеру советских товарищей С ним, с этим миром, мы даже торговали, и на стройке все знали, что турбины и другие машины для станции делаются в Швеции. И вдруг этот ослабевший зверь показал свои когти
— Убили! Воровского убили! В Швейцарии! Какой-то белый гад! — крикнул Юре издали Варенцов.
Как тогда, в марте, рабочие стояли около конторы у газеты, обведенной черной каймой. Со страницы газеты смотрело доброе и задумчивое лицо большевистского посла
После этого все и началось.
Через неделю-полторы скрипучее имя лорда Керзона было главным, о чем разговаривали и писали Английский министр предъявил Советской стране наглый ультиматум.
Угрозами капиталисты думали добиться того, чего не добились силой
Керзону-лорду — в морду,
А Ленину — привет!.. —
орали комсомольцы на демонстрации Тысячи людей кричащей и бурлящей толпой шли по Волховскому проспекту к зданию клуба, где должен был быть митинг. Над головами раскачивались бумажные и кумачовые плакаты. Проклятый лорд в цилиндре, с моноклем в глазу кривлялся и размахивал руками, когда Юра дергал за веревочки
— Они думают, что мы, разоренные гражданской войной и интервенцией, не оправившиеся после голода, испугаемся их угроз! — говорил с крыльца клуба приехавший из Петрограда старый большевик Позерн. — Они спешат! Они спешат, пока мы еще не покончили с разрухой, не пустили заводы, не вырастили новый урожай Но мы, большевики, мы, рабочие и крестьяне Советской Республики, прошли через такие испытания, что нам не страшны угрозы английских лордов, не страшны угрозы Антанты — мы уже с ней встречались, мы ее выкинули из нашей земли! Но ультиматум Керзона для нас сигнал и предупреждение! Скорее пустить шахты, скорее запустить на полный ход все фабрики и заводы! А для этого надо с большей силой, скорее строить вашу станцию. Помните, товарищи, что питерские рабочие ждут не дождутся, чтобы электрический ток с берегов Волхова начал крутить станки на питерских фабриках и заводах
Казалось бы, то, что говорили на митинге Позерн, и Ому-лев, и Кандалов, и взрывник Макеич, было столь ясным, столь понятным, что никто не мог думать иначе А все-таки слухи, зловещие слухи продолжали жить на стройке. Жить, разрастаться, ползти дальше, шире
РЕЖИССЕР ЮРИЙ КАСТРИЦЫН
Теперь уже ни для кого не было секретом, зачем ездят на Волхов комиссия за комиссией. Где-то наверху, в высоких и грозных учреждениях, именуемых ВСНХ, Промбюро и еще как-то, идут споры между спецами. Что строить: гидроэлектрические станции, такие, как их Волховская, или же тепловые, на угле? Конечно, все понимают, что выгоднее станция, которая не требует тяжелого труда шахтеров, множества вагонов для перевозки угля, — словом, труда многих тысяч людей Но противники Волховской станции упирали на одно: дорого! Непосильно для такого бедного государства, как Советская Россия, строить станцию, какой во всей Европе, капиталистической Европе, нет!
Где-то родилось, прибыло на берег Волхова и стало раздаваться, сначала тихо, потом все громче и громче, отвратительное, как червяк, наукообразное слово «консервация»
Консервация — это значит: исчезнут шум, веселье, работа, исчезнет жизнь на берегах Волхова. Заколотят бараки, дома, клуб. В неопущенных бетонных кессонах станут жить бродячие собаки. Ржавая арматура будет торчать из стен недостроенного шлюза. К старым волховским порогам прибавятся новые — ледозащитные бычки, незаконченные опоры И торжествующие огородники будут показывать это все приехавшим из Петрограда нэпманам-дачникам и, осклабившись, рассказывать, как большевики задумали построить станцию «Да где уж им там!»
Когда Юра Кастрицын об этом думал, у него от злобы перехватывало дыхание А времени, чтобы об этом думать, стало прибавляться. Экскаватор, на котором работал Юра, кончил один забой, а на новый его не поставили — ждали указаний о новом графике работ Из механической мастерской, куда только совсем недавно привезли два токарных станка, забрали рабочих на другие работы. Целыми днями Кастрицын возился возле своего замершего старенького «Л^арио-на» — «красоту наводил», как сказал об этом Юстус Он
подкручивал болты, смазывал подшипники, по нескольку раз протирал весь механизм от пыли и песка. Когда ему осточер-тевала эта бесполезная работа. Юра сдирал рубаху и ложился у экскаватора, подставляя спину и бока солнцу.
— Курорт! — мрачно сказал он подсевшему к нему слесарю Саше Точилину. — Мы стоим. Путиловец тоже стоит. В вашей мастерской уже, верно, мыши завелись Вот еще остановить бетономешалку и локомобиль, и тогда из всех машинистов можно сбить артель грабарей Лошадок посмирней подберем, бородки поотпустим, прямо-таки вологодские мужички будем
— Ну чего ты, Юрка, бузишь! — примирительно сказал Точилин. — Все закрутится! Скоро будем собирать портальные краны, начнем кессоны опускать, работы для нас знаешь сколько! А ты в грабари, чудак, собрался
Кастрицын промолчал. Он глядел на человека, озабоченно спешившего к ним. Кандалов, ведавший строительными работами, был мрачен. Он остановился около ребят, посмотрел на замерший экскаватор и сморщился:
— Тэк-с Полное припухание! Что ж делать-то?..
— Иннокентий Иванович! Ну сколько будет тянуться эта волынка? И работать не работаем, и от работы не бегаем — начал разговор с начальством Юра.
— Постой, Кастрицын! Я все знаю Тут, видите ли, приехали из Петрограда
— Опять комиссия?
— Они. На этот раз механизацию проверять. Сами не дают нам разворачивать фронт работ, а нагрянули, чтобы акт составить: механизмы стоят И ведь вправду стоят — экскаватор стоит, в механической никого нет. Вот актик и готов!
— А где они?
— Обедать изволят в Доме приезжих. Откушают, отдохнут и придут, черти драповые!..
Юрка вскочил с земли и быстро стал натягивать рубаху.
— Иннокентий Иванович! Давайте запустим экскаватор!
— А для чего? Что он делать будет?
— А мы его выведем вон туда, на ровное место. И начнем копать.
— Что копать?
— Ну, канаву. А не все равно! Работает экскаватор? Работает!
— Гм!.. Так Юстуса нет. И бригады экскаваторной нет.
— Иннокентий Иванович! Я выведу экскаватор на площадку. Уже выводил не раз! Ребят сейчас кликнем с лопатами Ну. давайте! Если они нас — то и мы их! Для дела ведь! Вы только подзадержите их за обедом
Кандалов посмотрел на разгоряченные лица комсомольцев:
— Ладно! И я вас не видел, и вы меня не видели. Через часа два приду с комиссией.
Никогда так быстро не удавалось Кастрицыну заводить свою машину! Как будто она чувствовала, что грозит ей, что грозит всей стройке Точилин немедленно привел восемь парней с лопатами. Подпихивая машину толстыми слегами, они помогали Юре устанавливать «Марион». Ковш экскаватора дрогнул и с силой врезался в землю. Ребята дружно отделывали бровку траншеи. Работа была в разгаре, когда появилось начальство. Четырех приезжих сопровождало несколько волховстроевских прорабов. Увидев начатую траншею, Кандалов сделал каменное лицо. Экскаватор работал во все свои лошадиные силы. Его ковш зачерпывал четверть куба грунта, стрела поворачивалась, и земля с шумом обрушивалась на бровку. Ребята без рубах исступленно, не поднимая головы, старательно, ювелирно отделывали бесполезную бровку. Члены комиссии подошли поближе и молча смотрели, как быстро Юра ворочает рычагами, как ладно блестят хорошо смазанные части механизма. Кандалов деловито что-то им объяснял, наиболее дотошный член комиссии исчеркивал карандашом свой блокнот.
— Ну вот. А теперь зайдем в инструментальный склад. Я вам покажу, что у нас есть из запасных частей, а потом пройдем в механическую мастерскую. — Кандалов поискал
взором Кастрицына, нашел его, глаза у него сделались на мгновение узенькими, веки дрогнули
Комиссия двинулась к складу. Когда последний из комиссии скрылся за бревенчатой стеной склада, Юра выключил экскаватор и выпрыгнул из будки.
— Сашка! Дуем бегом в мастерскую! Запустим станки, станем к тискам! Мастерская должна работать! Понятно?!
— А они догадаются! Увидят — ведь те же люди!
— Да ничего они не догадаются! Думаешь, они что, разглядывали нас? Очень им надо на твой курносый нос любоваться! Пошли!
— Ну уж тебя-то они разглядели! Таких рыжих и в Петрограде больше не осталось после тебя! Нет, ты уж будь здесь. И закрути свою старуху! Пусть шумит побольше
Побросав лопаты, ребята побежали к мастерской. Скоро из трубы на крыше мастерской вылетело кольцо дыма, движок зачихал, затем ровно загудел.
Подходя с комиссией к механической. Кандалов услышал ровный рабочий гул. Он открыл дверь мастерской и впустил членов комиссии. Мастерская работала. Движок стучал так, как будто он уже устал от долгой и непосильной работы на том отвратительном и нечистом горючем, которое было на стройке. Оба токарных станка работали. На одном из них Саша Точилин обдирал какой-то прут, у другого неизвестный Кандалову парень внимательно разглядывал чертеж детали к портальному крану.
У, черт! Держит чертеж вниз головой!..
Все шесть тисков были заняты, и скрежещущий звук напильников в неумелых руках наполнял мастерскую. Кандалов посмотрел на заведующего мастерской, растерянно стоявшего в глубине. Тот опустил глаза, слегка развел руками
«Н-да-а! Такой спектакль и Станиславский бы не сумел поставить», — уважительно подумал Кандалов.
Он деликатно выпроваживал комиссию из механической мастерской, пока еще они не успели как следует разглядеть детали лучшей постановки Юры Кастрицына
Вечером Юру остановил у клуба Омулев:
— Ты, я слышал, Кастрицын, не только в «живой газете» играешь?
— Так что ж делать, Григорий Степанович! Если мы их не объедем, то они нас объедут!.. Они же поверили! Ни черта, видно, в своем деле не смыслят
— Э, не думай! Они-то знают свое дело, знают, зачем нх сюда послали. Обман тут не поможет. Что ж, станцию из дерева, что ли, выстроить, как на постановке? Фанерную плотину через реку протянуть? Как деревни у этого, у екатерининского Потемкина Нет, тут не потемкинскую станцию надобно построить, а настоящую — чтобы отступать было некуда Ну, гуляй, Кастрицын! Да помалкивай, раз уж согрешил
КАТАСТРОФА
Но радости от Юркиной выдумки хватило ненадолго. Видно, Омулев был прав и комиссии всегда находили то, что искали. Контора стала главным источником всех темных слухов. Машинистка Аглая Петровна перепечатывала все злокозненные акты комиссий, и старший делопроизводитель Степан Савватеевич Глотов каждый вечер, выходя на «пятачок», где собирались все сплетники стройки, «по секрету» предсказывал:
— А все потому, что своими силами захотели!.. Ну, а сил-то — какие уж там силенки!.. Вместо того чтобы попросить по бедности у англичан, у шведов, задумали всё сами Попутал их Генрих Осипович — он же с этой станцией своей как полоумный А те поверили! Ну, а как посмотрели настоящие инженеры, старой выучки, как посмотрели — сказали: не выдюжите, господа товарищи! Надо закрывать эту лавочку, и — как в истории сказано про русских и варягов — придите, володейте А здесь что — здесь будет кон-сер-ва-ци-я! Вот что здесь будет!
Ну, а пока ездили комиссии, переписывала пх акты Аглая
Петровна, зло шипел Глотов, станция строилась. Каждое утро тысячи людей становились по своим местам и отдавали ей свой труд, свои силы. А иногда и жизни
Экскаватор Юстуса и Кастрицына работал на самом берегу. Юра показывал новичкам из экскаваторной бригады, куда отбрасывать грунт. Вдруг ковш экскаватора, наполненный землей, вместо того чтобы повернуться к отвалу, рухнул в забой. Юра услышал сдавленный крик Юстуса:
— А! Черт! Задний! Не то потонет!..
На реке что-то случилось. Маленький пароход «Свобода», тянувший через реку трос для канатной дороги, странно накренился Кастрицын бросился к реке. Он вбежал в воду, плюхнулся в отплывавшую лодку. Деревянным черпаком он помогал гребцам. Пароходик лежал
на боку, из его длинной трубы тянулся узкий хвост белого дыма Было видно, что пароходик за что-то зацепился и его силой инерции стало переворачивать На палубе растерянно металось несколько человек команды.
— Задний! Давай задний ход! — отчаянно кричал Юра.
Но уж никакой задний ход не мог помочь обреченному катеру. Когда совсем немного до него осталось, он, как показалось Кастрицыну, совершенно беззвучно перевернулся и ушел в воду
Даже в лодке был слышен страшный «А-а-ах!» толпы, стоявшей на берегу Юра наклонился и схватил за рубашку барахтавшегося в воде человека Множество лодок подплывало к месту катастрофы. Трех человек так и не нашли Только спустя месяц подобрали их трупы рыбаки, промышлявшие волховского сига
Все было одно к одному Комиссии, гибель людей, слухи, «консервация» Никогда еще Юра не испытывал такой ду-
шевной тяжести, такой непонятной тоски. А лето и осень в этом тяжелом году были теплые, недождливые, безветренные. По вечерам девчата и ребята ходили стайкой по краю болота, задами Волховского проспекта и пели грустные украинские песни, неведомо как попавшие на берег северной реки Возле клуба сидели люди и вели «саратовский разговор» — лузгали семечки. Шелуха от этих семечек покрывала землю толстым ковром, ее заносили в клуб, в контору, и она противно потрескивала под ногами. В комсомольской ячейке ребята сидели невесело — не шумели, не спорили, не клеили стенгазету, не репетировали Ничего этого не хотелось делать — к чему, если действительно закроют стройку, если наступит эта самая консервация
— Ребята! А если Ильичу написать? Да не может быть, чтобы Ильич дал закрыть стройку!.. — У Петьки Столбова был вид, будто он придумал такое, что до него никому не приходило в голову.
— Будто не знаешь, что Ильич еще болен и к нему ни с какими делами и не пускают никого. Принесут ему письмо, что его станцию прихлопнули, — знаешь как разволнуется!.. Да и что, до тебя никто об этом не подумал?
Да, к Ленину обратиться было невозможно. Он вызвал к жизни вот это все: дома, бетонные громады кессонов, веселый и радостный шум стройки Имя Ленина им помогало во всем, все ребята на стройке наизусть знали рассказы Саши Точилина, как ездили на Украину и как имя Ленина открывало склады, открывало сердца рабочих, комсомольцев А вот теперь, когда стройке угрожает такая опасность — просто смерть угрожает, — болен Ленин и не знает, что может здесь, у Волхова, приключиться с его станцией
ВСТРЕЧНЫЙ ПЛАН
— Секретарь! Точилин! — В дверях стоял взрывник Маке-ич, член бюро комячейки. — Давай идем! А вы, ребята, не расходитесь. Сидите тут и ждите Точилина.
Взрывник был человеком насмешливым и неунывающим. Но сейчас он не улыбался, никого из ребят не подкалывал, и видно по нему было, что вот наступило что-то очень серьезное
Комсомольский секретарь кинулся к столу, открыл ящик и стал зачем-то вытаскивать тетрадь с протоколами.
— Да не бери ты свою канцелярию! — досадливо крикнул Макеич. — Пошли скорее, ждут же нас!..
Кинувшийся за ниып Столбов вбежал через мпнуту обратно.
— Там сам Графтио! И Кандалов. И весь рабочком! Ох, ребята, что-то неладное! Ну, если дорого, давайте без денег, за одну кормежку будем работать! Всех сагитируем, а?!
Ох, и тяжко же ждать! Да еще когда ничего хорошего не ждешь!.. Саши Точилина, наверно, не было с час. Ну, может, немногим побольше. Но Кастрицыну этот час, когда даже Петька Столбов замолк и не придумывал новых и неожиданных проектов, показался целым днем В коридоре послышались голоса, заскрипели двери, н все комсомольцы повскакали со своих мест
В комнату вошли Точилин, Омулев, Макеич и еще несколько коммунистов. По лицу Саши Точилина можно было догадаться: стройка не закрывается, а предстоит что-то невероятное, огромное Может быть, Владимир Ильич выздоровел и едет сам к ним, может, еще что-либо такое Тревога, восторг, озабоченность, радость — все одновременно было написано на лице комсомольского секретаря
— Давайте, ребята, поближе ц слушайте внимательно, — сказал Омулев, присаживаясь к краю большого дощатого стола. — Значит, так. От вас, комсомольцев, скрывать нечего: дела с Волховстройкой плохи. В Промбюро считают, что стройку нам сейчас не дотянуть Дорого, и прочее такое Как будто дешевле будет поставить крест на то, что народ уже вложил в строительство! Ну, да не об этом сейчас речь. Потом разберемся со всеми теми, кто в" рабочий класс не верит! А теперь дело такое. Должна приехать особая комиссия.
Из самой Москвы. И должна она все посмотреть и доложить правительству, самому Совнаркому: послушать ли спецов и закрывать стройку или же ее закончить Ну так вот: у нас одиннадцать готовых кессонов стоят на эстакадах на берегу. По графику работ надобно три месяца, чтобы их опустить в реку. Нет у нас этих месяцев Надо опустить кессоны и перегородить реку до приезда комиссии. Чтобы уж п решать нечего было Не будем же кессоны назад из воды таскать! Понятно? Дело не то что серьезно — сверх того! За несколько недель надо успеть сделать то, на что месяцы требуются. И не просто так, взять да потопить кессоны, а спустить по всей форме, по всем техническим правилам — ведь плотина навечно ляжет в реку Понятна задача? Кессоны у нас опускает артель Рудкина. А артель Крылова делает перемычки между кессонами. Народ в этих артелях подходящий, рабочие серьезные. Но им одним не справиться. Значит, надо подобрать людей им в помощь. Молодых, здоровых, толковых Чтоб нн один бракодел к этим делам и близко не подходил! И опять же — не шкурников. Потому что работать будем сколько влезет, сколько сил будет. Да не кричите вы так! Ну, знаю — все хотите, удивили чем! Ведь к комсомольцам пришли, не куда-нибудь еще!.. Сбить новые артели надо с умом и спокойненько Чтобы одно подпирало другое и нигде ничего не зацеплялось! А главное — молодых ребят на стройке тыща, а вас, комсомольцев, сотня. Не только самим бросаться, а за собой всех повести — вот что вам, ребята, делать надо!
Все, что происходило на Волховской стройке в следующие дни и недели, навсегда врезалось в память Юрия Кастрицы-на, да и не одного его.
Погода испортилась сразу, как будто она только и дожидалась этих авральных дней С Ладоги дул сырой и резкий ветер. Он приносил дожди — то обильные, ливневые, то моросящие и нескончаемые Темнеть стало рано, и уже в шесть часов вечера поселок погружался в темноту. Свет во всех домах и бараках выключили. Мощности маленькой электростанции хватало только на одно — на реку Зато она уж
была освещена! На берегу, у эстакад с кессонами, около причалов, где грузились на баржи кессоны, было светло как днем! Прожекторы, наведенные на Волхов, выхватывали из темноты тревожную зыбь воды, громаду портального крана, баржи и бетонные ящики кессонов На всю реку, на всю стройку отчаянно, задыхаясь, пыхтели компрессоры Ни днем, ни ночью не прекращались работы. И для Юры Каст-рицына, для Саши Точилина, для Петра Столбова — для всех комсомольцев исчезла граница между ночами н днями. В самое разное время они прибегали в свой барак, стаскивали мокрую одежду. Они не слышали, как товарищи по бараку укрычали их, развешивали у печки сушиться мокрые брезентовые куртки, брюки Мгновенно засыпали непрочным и тревожным сном, а через три-четыре часа просыпались, переодевались, наспех что-то жевали и снова кидались к реке.
Теперь вся жизнь стройки сосредоточилась здесь, на реке. Бетонные громады кессонов были полностью готовы. Огромный портальный кран, смонтированный на двух баржах, осторожно подходил к причалу. Толстые металлические тросы зацепляли кессон, кран подымал громоздкий бетонный ящик, и пароходик начинал тянуть баржи к середине реки. Через Волхов была переброшена канатная дорога, под ней висела гирлянда электрических фонарей. Слегка изогнутая дуга фонарей уже была похожа на контур будущей плотины, и, если поглядеть сверху, издалека, казалось, что плотина уже построена Кессоны опускались с реку с тихим плеском. В резиновые шланги, уходящие внутрь кессона, компрессоры с шипением качали воздух. Миллионы белых пузырьков кипели на поверхности воды, указывая место, где только что лег новый кессон. Свистки пароходиков, шум компрессоров, удары ломов, казалось бы, должны были заглушать все другие звуки. Но Графтио, не уходивший со своего командного места на берегу, отдавая приказания, не повышал голоса. Когда спал Графтио и спал ли он, было непонятно и неизвестно. Но он был так же аккуратно одет, как всегда, так же чисто выбрит, так же разговаривал негромким и спокойным голо-
COM. Высокий, немного сутулящийся, он стоял под дождем, как капитан на своем мостике во время урагана или тайфуна. Так казалось Юре Кастрицыну, когда он оказывался около главного инженера. И вдохновенный, сладостный холодок победы пробегал по его спине
Да, победа была близка! И это чувствовали все. Сразу же исчезли на стройке все слухи, все сплетни, и Степан Глотов смирно сидел за своим канцелярским столом и не выходил на конторский «пятачок», чтобы злорадно предсказывать скорую гибель Волховстройки
Приехал из Москвы сам Демьян Бедный Все свободные от работы люди набились в клуб. Юра отказался от своего короткого отдыха, чтобы посмотреть хоть одним глазом на человека, сочинившего те самые басни и стихи, которые он читал с эстрады клуба, те песни, которые они пели по вечерам Конечно, как и думал Юра, ничего вот этого, «поэтического», не было в Демьяне Бедном — мужике вредном Плотный и коренастый человек во френче ходил по сцене клуба и неторопливым баском вел беседу с людьми в зале. Он зло вышучивал тех, кто не верит, что рабочий класс может построить Волховскую станцию, пустить заводы, создать на этой, своей земле новую и хорошую жизнь Шутки его были солены, словечки язвительны и метки, и зал на них отвечал громовым смехом н неистовыми рукоплесканиями «Нет, не дадим погибнуть Волховской стройке!» — подняв кулак, кричал Демьян Бедный, и Юра, не чувствуя боли, стучал израненными, в волдырях ладонями и победоносно осматривался: кто здесь есть, кто не верит, что мы победим! Но вокруг таких не было. Были только свои, те, кто строят и построят станцию! И когда Демьян Бедный затих, задумался и ставшим вдруг добрым голосом сказал: «Порадуем товарища Ленина, порадуем нашего Ильича тем, что станция хорошо, по-советски, строится», — волна восторга прошла по залу
Кастрицын больше не мог оставаться в клубе. Он пробился сквозь толпу и побежал к реке, не чувствуя дождя и холо-
да, улыбаясь своим мыслям, пересказывая себе слова Демьяна, чтобы не забыть их, в точности передать ребятам на реке, тем, кто не мог уйти со своей вахты.
Был уже почти совсем зимний день, когда на Волхов приехала наконец большая, ответственная комиссия. Та самая Прямо со Званки она проехала, не заезжая в Дом приезжих, на строительство. Берег был пустой. Плотники неторопливо разбирали деревянную эстакаду, на которой еще недавно стояли кессоны. Выпавший накануне небольшой снежок покрыл строящуюся перемычку, и дуга будущей плотины вырисовывалась четко, как на чертеже проекта Да она уже и не была будущей. Она прочно, навсегда улеглась на дно Волхова, и все остальное было только вопросом недолгого времени. Река была перекрыта!.. Стройка шумела спокойно и деловито.
Члены комиссии топтались на берегу, похлопывая озябшими руками
— Пойдемте, товарищи, чай пить, — деловито сказал им Графтио, будто этот чай и был тем единственным, ради чего они сюда приехали из самой Москвы.
И в провожавших их взглядах рабочих не было уже ни затаенной тревоги, ни даже простого любопытства Много их ездят, а нам надо строить! И закончить!
НЕ ЗАБУДЕМ
Начало зимы было необычно теплым. Встречали новый, 1924 год при открытых форточках и даже окнах. Новогодний вечер в клубе затянулся до самого утра. Показали специальный номер «живой газеты», в которой были прошлое, настоящее и будущее Волховской стройки. Лорд Керзон выбрасывал вперед ноги, но не поворачивался к публике спиной, чтобы не было видно, что бумажные фалды фрака прикреплены к черному пиджаку английскими булавками. Лорд поминутно вставлял в глаз монокль, из-под его длинного картонного цилиндра выбивались необыкновенно рыжего цвета, хорошо знакомые всей стройке кудри Гриша Баренцев в настоящем котелке и настоящих очках, которые он время от времени приподымал, чтобы что-нибудь рассмотреть, изображал социал-предателя так смешно, что публика зашлась от хохота Керзон вместе с меньшевиком чинили Советской Республике разные нехитрые козни, пока из-за кулис не вышел одетый в синий комбинезон Петька Столбов. Грудь его опоясывала бумажная лента с надписью: «Волховстройка». Он с трудом поднял настоящую кувалду, которой били шпуры, и очень осторожно стукнул ею Керзона по цилиндру, а меньшевика — по котелку. Лорд и меньшевик мгновенно растянулись на полу. Петька — уже без всякой осторожности — наступил одной ногой на Керзона, который повернулся поудобней и прошептал что-то неразборчивое, но сердитое, что, конечно, было естественно для лорда, ненавидящего стройку Петька победоносно взглянул на поверженные рыжие вихры и неторопливо в стихах, им самим написанных, объяснил, что значит Волховская станция для всех врагов Советской России Занавес сдвинулся под бурные аплодисменты
Вообще за последнее время комсомольцы развили бурную театральную деятельность. Только-только Новый год встретили постановкой, а уже висели большие афиши о том, что 22 января 1924 года в клубе Волховстройки будет большой вечер, посвященный годовщине Девятого января 1905 года. Будет постановка, выступит хор, будет проведена политлоте-рея и устроен политтир.
В этот день утром Юра Кастрицын побежал в клуб. Неправду говорят, что беду заранее чуешь! Юра не только не ощущал никакой близкой беды — наоборот, давно уже у него не было такого веселого настроения!.. Было тепло, все было хорошо, грунт не замерз, и бетонные работы шли еще без тепляков, и экскаватор работал с почти такой же производительностью, как летом, и за одну лишь последнюю неделю восемь хороших ребят подали заявления в ячейку с просьбой принять их в комсомол
На конторе и клубе висели траурные флаги — красные с черной каймой. Вчера вечером Юра их вешал — по случаю сегодняшнего траурного дня, памяти жертв расстрела у Зимнего дворца.
В комсомольской ячейке было полно людей и стояла страшная, неживая тишина. Только Ксения Кузнецова стояла у окна и, закрыв лицо руками, всхлипывала отрывисто и длинно, как ребенок На полу лежал огромный лист бумаги, на котором свежен краской чернела широкая траурная рамка Петька Столбов, стоя на корточках, обмакивал кисточку в жестянк> с краской и писал третью или четвертую строчку. Он даже не обернулся к Юре и дышал с трудом, как будто делал что-то невообразимо тяжелое
От самой двери, издалека. Юра увидел первые, уже написанные строчки
«Вчера, 21 января 1924 года, в 6 часов 50 минут »
Юра повернулся и бегом, стремительно выбежал из комнаты. Он бежал по коридору клуба, не видя ничего перед собою. Потом он дернул какую-то дверь и очутился на хорошо ему знакомой сцене. Он ничего не видел, он как будто ослеп Пробежав в самый конец сцены, Юра уткнулся лицом в пыльный, остро пахнущий краской задник и заплакал громко, кашляюще. Он задыхался, ему казалось, что вот-вот у него остановится дыхание Потом у него брызнули слезы, и стало легче дышать. Обрывки мыслей, невнятные, неосознанные, проносились у него в голове.
Почему говорят — «славная смерть»?.. Нет, она подлая, гнусная! Как она могла убить Ленина! Сейчас, когда все страшное уже позади, когда все налаживается Он не увидит их станцию, не приедет на Волхов, не спросит у Юрия Кастрицына, где он работает Они больше никогда не станут посылать ему приветствия, не будут кричать на демонстрациях «Ленину привет!».
Платком, ставшим сейчас же мокрым и грязным, Юра вытер лицо. Он медленно пошел в ячейку. Только по тому, что Столбов заканчивал писать, Юра понял, сколько вре-
мени он отсутствовал. По-прежнему никто не разговаривал друг с другом, только Омулев вполголоса что-то говорил Точилину. Лицо у Омулева было смертельно усталое, будто он не спал много ночей или же только что пришел после долгой и тяжелой рабочей смены.
Объявление уже вывесили, множество народа толпилось перед клубом, и сквозь гул голосов было слышно, как плачут женщины. Начинались какие-то хлопоты, в комячейке составляли список делегации, которая поедет в Москву на похороны. Похороны Ленина Заведующий клубом озабоченно писал требование на красную и черную материю н советовался со всеми, сколько же аршин надобно
И были после этого призрачные, какне-то вроде приснившиеся дни и ночи. Во всей жизни — и Юриной, и всех ребят, и всех людей на Волхове, — во всей стране и во всем мире наступил перелом. И в природе тоже. Страшные, невероятные по силе морозы свалились на стройку. Воздух заледенел и обжигал горло. Земля сразу же стала как камень, и не только экскаватор — шпурный бур ее не брал. Прекратили бетонные работы — бетон замерзал, как только выходил из бетономешалки. Везде горели костры, дым от них подымался недвижимыми столбами в белесое небо, на котором висело не-греющее солнце.
27 января Юра Кастрицын стоял со всеми в огромной толпе перед клубом. Какая-то изморозь падала на застывшие лица. В четыре часа завыли гудки. Они ревели натужно и тревожно: тоненько — катера на приколе, пронзительно — паровозики на узкоколейке, глухо — на электростанции. Со стороны Званки доносился неистовый рев паровозных гудков.
— «Вы жертвою пали в борьбе роковой, любви беззаветной к народу » — пели рядом с ним взрывник Макеич, Гриша Варенцов, множество людей, все почти, кого знал Кастрицын.
Он пел вместе с ннми знакомые слова скорбной и торжественной песни, он знал, что в эту минуту в Москве опускают в землю тело Ленина.
в надвинувшихся сумерках перед Юрой Кастрицыным лежала река, а на ней — полукруг плотины, справа в лесах виднелось здание электростанции, к ней примыкали серые и голые стены шлюза. Все это было построено ими — этими людьми, им. Юрой Кастрицыным. Здесь будут стоять великая станция, и заводы, и новый город с большими, красивыми домами, полными цветов и детей. Ленин этого уже никогда не увидит. А может быть, не увидит и он, Юрий Кастрицын Но это не имеет значения! Все равно — после Ленина и после него, после всех, это останется. После них, после вот этих стоящих рядом коммунистов й комсомольцев, останется новая жизнь, построенная для людей И как не забудут никогда Ленина, так не забудут и их, ленинцев. Погибнут ли они в бою, перевернутся ли на маленьком пароходике посреди реки, сорвутся ли с люльки канатной дороги или же просто умрут от старости или болезни в своей постели Важно прожить жизнь так, чтобы от тебя осталось что-то настоящее.
« Прощай же, товарищ! Ты честно прошел свой доблестный путь, благородный »
ПЕСЕНКА
До того времени, как Клава не услышала противную песенку про противную совбарышню, она не имела ничего против того, чтобы ее звали Клавочкой. Так ее звали все восемнадцать лет жизни. Звали дома в детстве, звали так в школе. И когда Клава кончила в Новой Ладоге школу второй ступени и отец ее, Сергей Петрович, переехал на Волховстройку бухгалтером, все новые соседи с первого же дня стали ее звать Клавочкой И когда отец после больших хлопот, после долгих уговоров биржи труда устроил ее делопроизводителем в конторе и привел на работу, он тем заискивающим голосом, который так не любила в своем отце Клава, сказал: — Ну вот, товарищи-граждане, моя Клавочка Вы ее не
обижайте, она у меня хорошая девочка, всегда была примерной и послушной. Я на вас надеюсь
Но Клаву и без его просьб в конторе все сразу же полюбили и все сразу же стали звать Клавочкой. Да и трудно было ее не полюбить. Отец про нее говорил правду. Клава действительно была в Новоладожской школе второй ступени самой послушной и примерной ученицей. Учились в школе очень шумные н совершенно не расположенные слушать учителей мальчики и девочки. Все они состояли во множестве кружков и ячеек. Была ячейка МОПР, ячейка безбожников, ячейка «Друг детей» и даже ячейка «Руки прочь от Бессарабии» Уж не говоря о комсомольской ячейке, куда входили самые старшие ребята — некоторые из них даже в ЧОНе состояли и лихо приходили на уроки перетянутые красноармейским поясом, с подсумками на ремне Уроки для них были досадным дополнением к главному: кипучей работе во всех этих ячейках. Спектаклям, лекциям, вылазкам, заседаниям, спорам, воскресникам, демонстрациям Любимым словом Клавочкиных школьных товарищей было: «Буза!» Этим непонятным словом обозначалось все. Бузить — значило спорить до изнеможения, устраивать подвохи нелюбимым учителям, подкапываться под учком, не соглашаться «Все это буза! Все ваши короли никому не нужны, и нечего их зубрить!» — заявил учительнице истории Игорь Зубков, главный коновод в Клавочкином классе.
Мудрено ли, что учителя не могли нарадоваться на Кла-вочку! Она приходила в школу всегда чистенькая; в аккуратненьком коричневом платьице — ну конечно, не гимназической форме, но так на нее похожей Клавочка всегда подымала руку, прежде чем что-либо спросить у учителя; она всегда знала урок и отвечала его тихоньким голоском — «так сладко, чуть дыша», как говорили про Клавочку ее завистливые подруги. Они даже утверждали, что Клавочка, прощаясь с учителями, приседает и делает реверанс!.. Ну, это они врали! Клавочка реверансов не делала. Но она была очень послушной девочкой, и не было такого дня, когда бы дома
Сергей Петрович, ее отец, не высказывал сожаления, что нет сейчас больше ни гимназий, ни прогимназий, ни, на худой конец, епархиальных училищ, где его Клавочка могла бы получить достойное воспитание, чтобы «выйти в люди» И Клавочка старалась, она очень хотела выйти в люди, и учителя, провожая глазами вежливую и примерную Клавочку, удовлетворенно говорили: «Сразу видно, что из хорошей семьи!»
А Клавочка не знала, что это значит — «хорошая семья». Отец ее до революции был приказчиком у богатых купцов Бугримовых — им принадлежали все мельнииы в округе. И жили они не так чтобы богато, но старательно. Очень отец старался, чтобы у них все было «как у людей». И чтобы его единственная Клавочка была во всем похожа на дочерей его хозяев, на дочерей уважаемых в городе личностей: нотариуса, податного инспектора, исправника, законоучителя И очень гордился, что, несмотря на неурядицы революционного времени, по его дочери сразу же видно, что она «из хорошей семьи», а не из семьи какого-то приказчика.
В волховстроевской конторе тоже дружно решили, что Клавочка «из хорошей семьи». Даже машинистка Аглая Петровна, таинственно намекавшая на свою принадлежность к «высшим кругам общества» и очень сведущая в чем-то сложном н неопределенном, что она звала «хорошим тоном», даже она благосклонно относилась к Клавочке. Через несколько дней после поступления Клавочки на работу она ее осмотрела внимательно-снисходительно с ног до головы и сказала:
— Голубушка, так нельзя одеваться! Вы ведь не из этих, вы из хорошей семьи, уже барышня, и надо, чтобы ваша внешность соответствовала хорошему тону Ну кто же, кроме фабричных, носит такие длинные платья? В цветах! Это надо перешить. Вот здесь убрать, тут вот сделать оборочку, а здесь хорош был бы бантик из цветного батиста. Если у вас нет, милочка, я вам принесу
Клавочка вспыхнула и смущенно поблагодарила. Но не только Аглая Петровна — все в конторе были благосклонны
к новому делопроизводителю. И начальство ее — старший делопроизводитель Степан Савватеевич Глотов довольно говорил Клавиному отцу: «Мы из твоей Клавочки, Петрович, настоящую барышню сделаем!» И, объясняя Клаве, куда надобно вписывать «исходящие» бумаги, а куда «входящие», умильно заглядывал ей в глаза и со вздохом говорил: «Да разве раньше такую барышню кто пустил бы служить!» И с укором подымал глаза к потолку.
У Глотова было не только странное отчество, он и весь был не похож на других. Ни у кого не было такого френча — с огромными накладными, в складках, карманами. Никто на стройке, кроме него, не носил блестящих краг — в ремнях, со множеством медных крючков. Никто, кроме него, в конторе не ходил в ресторан «Нерыдай» и утром не сравнивал новые ресторанные порядки с теми, какие были в старых петербургских ресторанах со странными названиями «Донон», «Кюба» Глотов был противен Клаве до тошноты, но она помнила отцовский наказ: быть со своим начальством примерной и послушной.
Словом, все было хорошо, пока не появился рыжий Юрка. К конторе, собственно. Юрка никакого отношения не имел. Он работал на экскаваторе помощником машиниста н в контору приходил раз или два в неделю выписывать сведения на комсомольцев — кто сколько выработал Но Юра был очень заметным парнем на стройке. Не только потому, что таких огненно-рыжих волос нн у кого на Волхове не было, — Юрка был парнем из Питера и самым главным заводилой у комсомольцев да и у всех ребят на стройке.
Клава никуда из конторы не уходила и свято выполняла отцовский наказ: «держаться своей компании» Но на стройке все всё знали про всех. И Клавочка знала, конечно, всех главных комсомольцев. И секретаря ячейки — хромого взрывника Григория Варенцова, и главного комсомольского оратора, выступавшего на всех митингах, — Петра Столбова, и табельщицу из инструменталки — задорную Ксению Кузнецову, хохотушку в красном платочке.
Ну, а все-таки самым заметным комсомольцем был Юра Кастрицын. На всех собраниях, митингах, воскресниках, демонстрациях, на работе, в клубе — всюду мелькала его огненная голова и слышались любимые Юрины слова, употребляемые им во всех случаях жизни: «Словесной не место кляузе».
Увидев в конторе Клаву, он весело воскликнул:
— О! Конторская армия получила молодое пополнение! И как вас зовут, молодое пополнение?
— Клавочка То есть Клавдия Попова, — смущенно ответила Клавочка.
— И вам не скучно, Клавочка Попова, совбарышней тут служить?
— Молодой человек! — скрипучпм голосом вмешался в разговор Глотов. — Вам никто не позволит оскорблять советскую служащую товарища Попову и обзывать ее совбарышней! И вообще, товарищ Егор Кастрицын, сведения вам надлежит выписывать у товарища Лебедевой, товарищ же Попова к ним отношения не имеет!..
— Словесной не место кляузе! Когда меня попы чуть не утопили в купели, пользуясь моим малолетством, они меня окрестили Георгием, а пе Егором. Это — раз! А в-седьмых, товарищ Глотов, не мешайте мне проводить массово-воспитательную работу среди беспартийной молодежи! Клавочка! Он уже вал! рассказывал, что краги у него точно такие же, как у Керенского? И что в ресторане «Донон» ему подавали лан-г\стоБ и осетрину по-монастырски?
Но Клавочка, робко оглянувшись на побагровевшего Степана Савватеевича, ничего не ответила веселому рыжему комсомольцу. Она уткнулась в свои «исходящие» и сделала такое же каменное лицо, какое делала Аглая Петровна, когда в контору приходили нелюбимые ею рабочкомовцы. И в другие дни, когда приходил Юра и пробовал с ней разговаривать, она опасливо смотрела на старшего счетовода и не отвечала на веселое Юрино приветствие: «Привет конторе! Словесной не место кляузе!..»
и тогда все началось. Переписывая свои сведения. Юра начинал, сначала тихонько, а затем все громче петь назойливую песенку:
Клавочка служила в Упека, Клавочка работала слегка, Юбочка недетская, барышня советская, Получила карточку литер «А»
— Невежда! Ком-со-мол! Вот такие сейчас хозяева положения! Их бы раньше к порядочному обществу близко не подпустили! — утешал Клавочку Глотов, когда за Кастрицы-ным закрывалась дверь (при Юре он боялся высказываться так категорически).
Но Степан Савватеевич не мог утешить Клавочку. Она задыхалась от обиды, от злости на рыжего Юру. И ни в какой Упека она не служит, и никакой литерной карточки она не получает, и вообш,е, что это за глупое название — советская барышня! Она записывала все, и даже самые важные бумаги, приходящие на стройку! И один раз даже сам Графтио пришел к ней и по ее «входящей» книге посмотрел, когда пришла одна очень важная бумага из Промбюро!.. И вместе с ней работают «очень, очень ин-тел-лигент-ные люди», как сказала про них Аглая Петровна.
Но противный рыжий Юрка этого понять не люг. И каждый раз, сидя за большим столом в углу и быстро записывая фамилии и цифры, рыжий парень нет-нет, а поглядит на старательно склонившуюся голову Клавочки и тихонечко начинает мурлыкать ненавистный Клавочке мотив!.. И все громче звучат обидные слова нелепой песенки:
Все любят Клавочку, все просят справочку. На «исходящих» Клавочка сидит. С утра до вечера ей делать нечего, И стул под Клавочкой так жалобно скрипит
И С ЭТИМ уже ничего нельзя было поделать Самое обидное во всей этой истории было то, что в песенке все было почти правдой И не в том дело, что все в конторе любили
Клавочку и все у нее просили справочку И не то, что она и вправду клала на стул толстую книгу «исходящих» — ведь стул был низкий и неудобный, — беда была в том, что, если уж говорить правду, Клавочка работала очень слегка Конечно, это вранье про нее, что с утра до вечера ей делать нечего Клавочка очень добросовестно вписывала в свои книги всю почту, писала медленно, старательным и красивым почерком, за который она получала самые лучшие отл1етки в классе. Но она могла бы это делать и в пять раз скорее. Только бессмысленно было торопиться, потому что остальное время некуда было девать Ее начальник, Степан Савватеевич, мог бы и сам это делать — старший делопроизводитель большую часть дня читал газеты, разговаривал с сослуживцами или же приносил с собой романы графа Салиаса и озабоченно, с крайне деловым видом читал их.
ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ
Инoгдa Клавочке поручали отнести важную бумагу на подпись Графтио. И она шла через всю стройку, через реку в зеленый двухэтажный домик, где жил главный инженер. Как весело, оказывается, за стенами конторы! Стройка напоминала большой муравейник в лесу. На Волховском проспекте плотники рубили большие двухэтажные дома; около шлюза по длинным узким мосткам быстро катили тачки с бетоном; на перемычке, перегородившей реку, десятки маленьких человечков весело отплясывали, топчась на одном месте; — Клавочка уже знала, что они не танцуют, а бетон утрамбовывают; через реку по толстым канатам скользили вагонетки На горизонте выстреливал черный дымок экскаватора, и ковш его, как в детской игрушке, то наклонялся к земле, то взмывал вверх. Там, наверно, противный рыжий Юра работает?.. Немолчный, слитный гул человеческих голосов, стука топоров, свистков экскаватора, далеких взрывов стоял над Волхов-стройкой. Но было веселье не только в этом ровном шуме ра-
боты. Все люди, которых встречала на своем пути Клавочка, были совсем не похожи на конторских: они оживленно говорили о своем деле, они спорили, иногда ругались Всем им было очень важно и интересно то, чем они занимались
И то, что они делали, становилось с каждым днем все заметнее, все виднее. А вся Клавочкина работа умещалась в двух толстых книгах. Они были такие толстые, а бумажек, номера которых Клава вписывала, было так мало, что этих книг Клаве хватит не только на теперешний, 1925 год, но и на двадцать шестой и двадцать седьмой И ничего после Клавочкиной работы не останется, кроме двух конторских книг Когда она их испишет, возьмет их толстая Лебедева, наклеит архивный номер и положит в шкаф И никто больше на них и не взглянет!.. А те, кто работали, шумели, спорили на стройке, делали такое, что будет видно всем и всегда! Вот огромное, в лесах здание станции И шлюзы скоро будут готовы И через плотину, как водопад на картинке в учебнике географии, бежит вода И люди на стройке совсем не были похожи на тех рабочих бугримовских мельниц, которых видела Клавочка в детстве. Те снимали шапки, когда во двор мельницы вкатывала хозяйская пролетка, а волховстроевцы были такие же веселые и спокойные, как сам Бугримов!.. Такими они были на больших собраниях в клубе, когда за длинным столом на сцене появлялись озабоченный Графтио, и веселый прораб инженер Кандалов, и спокойный Омулев, и хромой Гриша Варенцов, а позадп где-то мелькала огненная шевелюра Юры Кастрицына Они были хо-зя-е-ва!!! А вот Степан Савватеевич со своим френчем и крагами — он был приказчик, как ее отец до революции, И хотя Глотов, сидя в клубе рядом с Клавочкой, презрительно кривил рот и шептал Клавочке: «Хозяева положения!» — он, разговаривая с Омулевым или Варенцовым, делался приторно предупредительным, заискивающим — как ее отец, когда разговаривал со своим хозяином..
Ах, как Клаве становилась противна ее приказчичья
должность! А может быть, не в должности тут дело? Вот ведь Ксения Кузнецова — тоже не машинист на экскаваторе, а просто табельщица в инструменталке. А почему же она ведет себя как хозяйка? Она бегает на воскресники, хиумит в клубе, не боится наскочить на начальство и требовать накладную на какой-то нужный инструмент!..
Однажды Клавочка около дома Графтио столкнулась с целой ватагой комсомольцев: наверно, шли к главному инженеру. Они шли, размахивая руками, о чем-то переругиваясь. Были слышны слова, произносимые высоким, знакомым голосом:
— Вот так ему и скажи — с этими сроками мы не согласны. И никаких гвоздей! Словесной не место кляузе! — И красные волосы вскидывались вверх, как флаг
Клавочка замерла: сейчас он при всех ей что-нибудь обидное скажет Или песенку запоет ту самую.
— А, Клавочка! Не надоело еще на стуле скрипеть? И такая, ребята, хорошая дивчина, а сидит с этой грымзой Аглаей и этим как его в крагах керенских!.
— Да брось. Юрка, надсмехаться над дивчиной.. — остановил Кастрицына Гриша Варенцов. — Что она, виновата, что у нее работа такая? Ей, видать, самой невесело целый день слушать байки Глотова Слушай, Попова, приходи к нам в клуб, в кружок или в «живую газету», что тебе на от-шибе-то быть? Ведь у нас веселее!
— Спасибо! — нелепо прошептала Клавочка, как будто с учителем разговаривала, и быстро пошла дальше, подставляя ветру вдруг запылавшее лицо.
Она так была благодарна Варенцову, и ей нестерпимо захотелось идти с ними, вот так же свободно смеяться, спорить и добиваться каких-то ей неизвестных, но, видно, очень важных сроков
А в клубе Клавочка бывала сейчас часто, и только хлопотливый Варенцов ее не замечал там А она всех видела и тайком даже подглядывала в комнату, где репетировалась «живая газета» «Синяя блуза». А сама Клава была в другой
комнате клуба, на репетициях драматического кружка, куда водила ее Аглая Петровна.
В драматическом кружке участвовали, как говорила Аглая, только «люди хорошего тона» — инженеры, конторские Режиссером там был сам старший прораб строительства — Иннокентий Иванович Кандалов, такой страстный любитель театра, что нельзя было понять, когда он отдыхает Прямо с плотины, забрызганный бетоном, в испачканных сапогах, он прибегал на репетицию и тем же громким голосом, каким кричал на строительстве шлюза, начинал командовать: «Действие третье, сцена вторая! Глуховцев становится вот сюда в угол, Оль-Оль сидит около него на скамейке»
Кружок репетировал пьесу Леонида Андреева «Дни нашей жизни». Пьеса была про жизнь, совсем не похожую на ту, что была у них в Ладоге. В ней были милые и смешные студенты, очень симпатичный офицер и бедная, замученная девушка Оль-Оль, которую унизила омерзительная мамаша Там были непонятные Клавочке споры, удивительные слова и трогательные страсти. Аглая Петровна, игравшая самую главную роль, эту вот беззащитную Ольгу Николаевну, Оль-Оль, разговаривала на сцене громким, ненатуральным шепотом, заламывала руки и закатывала глаза Она бросалась на колени перед обидевшим ее студентом, билась головой об пол, пронзительно кричала на весь клуб: «Голубчик ты мой! Жизнь ты моя!..» — и рыдала так, как никогда не рыдают по-всамделишному А студенты не обращали на нее никакого внимания и медленно пели грустную песню:
Умрешь — похоронят, как не жил на свете.
Уж снова не встанешь к веселью друзей
Вообще в этой пьесе очень много пели. Но песни эти были все заунывные и печальные «Не осенний мелкий дождичек » — жалостливо пели студенты. А славная студенточка Анна Ивановна выводила тонюсеньким голоском:
И ночь, и любовь, п луна, И темный развесистый сад,..
Играла эту студенточку толстая и красная Лебедева из их конторы, и когда она с придыханием выпевала:
И на измученную грудь Тяжело пало жизни бремя —
поверить в это было невозможно. А Аглая Петровна накидывала на плечи шаль, подымала кверху глаза и, очевидно очень страдая, свистящим шепотом пела:
Ни слова, о друг мой, ни вздоха Мы будем с тобой молчаливы. Ведь молча над камнем, над камнем могилы Склоняются грустные ивы —
И при ЭТО.М так взды.хала, что Кандалов не выдерживал я кричал ей:
— Так, Аглая Петровна, коровы в стойле вздыхают, а не люди, тем более девушки!..
Все это было из какого-то другого и навсегда конченного мира. И девушка Оль-Оль, и благородный офицер Григорий Иванович, и студенты — все они ничем не отличались от героев «Киязя Серебряного», хотя там было про Ивана Грозного, а не про студентов. Все равно что-то очень древнее и незнакомое Клавочка тоже играла в пьесе — внучку старого генерала; она должна была только выходить на сцену, а слов у нее почти никаких не было. Когда Клаве становилось скучно от шепота Аглаи Петровны, она выходила в коридор и прислушивалась к песням, вылетавшим из комнаты, где репетировалась «Синяя блуза».
Эти песни она слышала и в клубе, и на улице, и на воскресниках. Чаще всего они распевались вечерами на крыльце клуба, куда собирались волховстроевские комсомольцы петь, спорить, перекрикивать друг друга и снова петь:
Ты, моряк, красивый сам собою. Тебе от роду двадцать лет
Или:
Так пусть же Красная Сжимает властно
Свои штык мозолистой рукой, И все должны мы неудержимо Идти в последний, смертный бой!..
Ах, какие там были славные и гордые слова!
Мы раздуем пожар мировой, Церкви и тюрьмы сровняем с землей! Ведь от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней!
Прислонившись к стенке коридора, Клава слушала, как в комсомольской комнате над чем-то смеялись так дружно, что у нее ныло сердце от зависти к этим ребятам и девчатам, которым совершенно не хотелось жаловаться на то, что на их «измученную грудь тяжело пало бремя жизни» Это была совсем другая жизнь — не только отличная от той, которую Клавин драмкружок изображал в пьесе, но и от той, что вела сама Клавочка.
В драмкружке сорвалась репетиция. Кандалова срочно вызвали в Ленинград, инженер Петровский на Званке принимал вагоны с оборудованием, репетицию пришлось отложить.
— Фу, как здесь шумно! — недовольно сказала Аглая Петровна. — Уйдемте отсюда, милочка!
— Я еще немножко побуду, — внезапно для себя ответила ей Клавочка, впервые осмелившись возразить Аглае.
И Клавочка осталась в клубе один на один с той, другой жизнью, заливавшейся смехом в комсомольской комнате. Она стояла нерешительно, не зная, что ей делать.. «Надо уйти! — думала она. — Уйти, пока оттуда никто не вышел » Но дверь уже открылась, и, отмахиваясь от кого-то, из комнаты вывалился Гриша Варенцов. Как бы продолжая с кем-то начатый разговор, комсомольский секретарь протянул Клаве руку и сказал:
— Вот и Попова здесь, а вы говорите, что девчат не хватает! Мне, что ли, хромоногому, быть синеблузницей! Пошли, Попова. Тебя как зовут — Клавой?
Варенцов легонько подтолкнул Клавочку в открытую дверь. И Клава вошла в большую комнату, полную парней и девушек, н с отчаянием увидела первое, что ей бросилось в глаза, — рыжие волосы насмешника Юры Кастрицына Но Юра и не подумал над ней насмешничать. Ксения Кузнецова, сидевшая на подоконнике, подвинулась и крикнула:
— Клава, давай сюда!
И, пока клуб не закрылся, Клава сидела на репетиции «Синей блузы» и смог-рела, слушала, вместе с другими смеялась, вместе со всеми пела В том, что играли комсомольцы, ничего не было похожего на драмкружковскнй спектакль. Все было совершенно необычно и не похоже на театр.
Ребята и девчата выстроились в ряд. Онн быстро переглянулись между собой, и стоявший с краю Петя Столбов громко крикнул:
— Чего вы ждете?
— Ждем сигнала! — ответила шеренга.
— Даешь свисток! —
Петя пронзительно свистнул. — Даешь начало!
И зашагали по комнате, размахивая руками н выкрикивая слова новой веселой песни;
Мы синеблузннки.
Мы профсоюзники.
Нам все известно обо всел:.
Мы вдаль по миру
Свою сатиру.
Как факел огненный, несем!..
В ТОМ, ЧТО делали комсомольцы, удивительно было вот что: там, в драмкружке, все старались, чтобы на сцене было как по-настоящ,ему И настоящие студенческие куртки, и царский офицерский мундир, и шашка настоящая, и даже луну Кандалов делал сам, и она была как настоящая. Но тем не менее, кроме луны, ничего похожего на настоящее в их спектакле не было! А у комсомольцев все, казалось, было понарошку: Петя Столбов вешал себе на грудь бумажную ленту с надписью «капиталист» — и был капиталистом Рыжий Юрка меньше всех людей на
свете напоминал священника, но он вешал себе на грудь надпись «поп» — и становился попом.
И все, что синеблузники изображали в своей «живой газете», — все было не про далекое и чужое, а про свое, про то, что делалось сейчас во всем мире, в Советской стране, у них на Волховстройке И рыжий Юра был похож на гостино-польского попа, и Миша Куканов, хотя и не носил рыжей бороды, как две капли воды смахивал на Тараканова, владельца «Магазина бакалейных н колониальных товаров» И когда Столбов, одетый в огромный, с чужого плеча френч, расправил грудь и запел на мотив "Мой костер в тумане светит» песенку, Клава вздрогнула — она увидела перед собой Степана Савватеевича
Чту всегда родство и дружбу, — пел, изгибаясь, Петя, — Всем статьям наперекор, Я устроил здесь на службу Дядю, тещу, семь сестер Отрастил себе я пузо И живу, как сом в воде Мне начхать на профсоюзы И на кодекс о труде
«Вот ведь и я — думала Клава, не в силах смеяться вместе со всеми. — И я тоже с помощью отца, через Глотова, по знакомству, по этой отвратительной «дружбе», поступила на работу » И сейчас об этом догадаются все! И с позором выгонят! И больше она никогда не сможет сюда прийти и навсегда останется в драмкружке играть генеральскую внучку в пьесе «Дни нашей жизни»!.. И Клава Попова вдруг ясно поняла, что это были дни совсем для нее чужой жизни. А настоящие дни нашей жизни были вот здесь, и их весело и по-настоящему изображали ее новые товарищи!
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Но никому не пришло в голову в чем-то нехорошем, нечестном обвинить Клаву. И допоздна она была на репетиции «Синей блузы» и под конец сама расхаживала в шеренге ребят, размахивала руками и пела: «Мы синеблузнпки, мы профсоюзники » И после репетиции вместе со всеми шла по улице и пела песню про моряка, который был красивый сам собою и которому было двадцать лет Всего на два года больше, чем Клавочке, а так уж много он успел увидеть и пережить..
На другой день Юра Кастрицын, как всегда по средам, забежал в контору. Он выкрикнул с порога свое обычное приветствие, но, вместо того чтобы усесться за стол и начать высвистывать обидную песенку, подошел к Клавочке:
— Клава! Мы хотим выпустить наш новый номер на неделю раньше и репетировать будем каждый день. Приходи сегодня в клуб
Когда он ушел, Аглая Петровна проводила Юру долгим взглядом и хорошо знакомым Клавочке громким, театральным голосом спросила:
— Милочка! Вы что, с этими, с комсомольцами, репетируете? В их балагане? Ведь завтра приезжает Иннокентий Иванович, и у нас будет репетиция!
— Я я у них буду играть — прошептала Клавочка. — Ну что же, я генеральской внучкой буду? Я и генералов-то живых никогда не видела. И весело с ними Мне хорошо с ними, — уже совсем твердо сказала Клавочка.
— О, голубушка! Я понимаю, что такому молодому сущ,е-ству, как вы, хочется смеха, веселья, света, но вы подумайте о пропасти, на краю которой вы становитесь!..
«Действие третье, сцена седьмая!» — зло подумала Клавочка, не подымая головы.
— Я полагаю, что и Сергей Петрович не будет обрадован тем, что его дочь попадет в компанию людей самого плохого тона Как вы считаете, Степан Савватеевич?
и Глотов, противный Глотов, от которого несло мерзким водочным перегаром, он тоже считал, что Клавочке угрожают неведомые и страшные опасности от таких, как этот Егор Ка-стрицын
Какие это были тяжелые для Клавы дни! И слезы матери, и крики отца о том, что «он ничего не жалел для дочери, лишь бы в люди ее вывести». А днем презрительное молчание Аглаи и Лебедевой, хихикающие шуточки Глотова: «Ну-с, что наша комсомолка скажет? Дуня, Дуня я, Дуня ягодка моя!»
Но все равно каждый вечер Клава бежала в клуб, в комсомольскую ячейку, репетировала дотемна, до ночи, а потом шла со всеми ребятами по темной волховстроевской улице и вместе со всеми пела старую и грозную песню:
Вот рвутся снаряды, трещат пулеметы, Но их не боятся краснь[е роты!
И, ТОЛЬКО подходя ближе к своему дому, чувствовала, как сжимается у нее сердце, и представляла себе умоляющие глаза мамы и крик отца
— Что, Клава, плохо у тебя дома? — спросила ее Ксения Кузнецова. — Отец, верно, по старинке думает, что он из тебя барышню сделает! Хоть советскую барышню, а все-таки барышню! Так, что ли?
Клава, внезапно всхлипнув, кивнула головой.
— Ну, подумаешь! Вот Юрка — тот вовсе от родителей из самого Питера убежал. А отец его знаешь кто? Какой-то профессор, а не то и поважнее кто-то Ты это знала?
Нет, Клава этого не знала, и ей вдруг стало легче при мысли, что рыжий Юрка ради нового и веселого бросил не дощатую и неуютную комнату в бараке, а столичную квартиру, полную книг и тяжелой резной мебели — такой, какая стояла в доме Бугримовых, куда Клаву один раз водили на елку
— Ты вот что, Клавка! Надо тебе бросать свою контору!
Ну что тебе целый день смотреть на крашеную Аглаю и бумажки в книжку переписывать! Давай на производство к нам!
— А куда же — на производство?
— А к монтажникам! Ведь есть закон — на всех работах брать учеников, в счет ученической брони. Я сама хотела пойти, так меня не возьмут, мало во мне грамотности. А ты вторую ступень кончила, тут они никуда не денутся. С Гришкой Варенцовым поговорим, к Омулеву пойдем, надо будет — до самого Графтио дойдем, а добьемся, чтобы монтажники взяли ученицу!
У Клавы даже голова закружилась. Она сразу же увидела огромный машинный зал, разноцветные провода, множество непонятных приборов и машин, возле которых ходили люди в синих комбинезонах, строгие, недоступные, — самые главные люди сейчас на стройке И она, Клава Попова, может быть среди них! И когда станцию построят, то после Клавиной работы не две конторские книги останутся, а могучие машины, которые она сама соберет!..
И ведь все было, как говорила Ксения! И Гриша Варен-цов ходил к Омулеву, и долго за дверью рабочкома был слышен его настырный, очень убедительный и авторитетный голос А Клава стояла v двери и непривычно для себя думала, что, если откажут, напишет в Ленинград, в Москву напишет, самому Калинину напишет. Не может такого быть, чтобы нарушали советские законы и ее, Клаву Попову, не принимали в ученики к слесарям, чтобы ее оставили на всю жизнь с Аглаей и Глотовым, оставили совбарышней, Клавоч-кой из обидной и справедливой песенки!..
Но, выйдя из рабочкома, Гриша так весело подмигнул Клаве, что она поняла — нет, не оставят ее с Аглаей! И правда, сам Омулев ходил к Графтио, сам Омулев привел ее к монтажникам и сказал:
— А вы еще жаловались — учить некого! Вот вам дивчина, вторую ступень кончила, она еше вас научит кой-чему! И помните, товарнщ,и: первая женщина-монтажница на Вол-
ховстройке будет у вас. Только чтоб без шуточек этих всяких! И учить по-настоящему! Сам проверять буду!
И, когда Клава надела синий комбинезон и красный платочек и первый раз в таком виде пришла с работы на репетицию «Синей блузы», рыжий Юрка свистнул и, всплеснув руками,сказал:
— Вот так наша Клавочка! Вот тебе и юбочка недетская, барышня советская! Словесной не место кляузе! Падаю!..
А Варенцов сердито крикнул на Юру:
— Да хватит тебе спектакль устраивать! Подумаешь, не видел никогда ученицу-слесаря! — И, обернувшись к Клаве, сказал ей тем самым голосом те самые слова, которые Клава так от него ждала: — Как репетиция кончится, зайди, Попова, ко мне в ячейку.
И там, в ячейке, стоя на табуретке и копаясь в шкафу с бумагами, спросил:
— А как, Клава, дома? Еще ругаются, что ты контору бросила и в слесаря ушла, с комсомольцами стала дружить?
— Еще ругаются Только уже немножко
— Ну, а если много будут ругаться? А не будет так, что скажут тебе: выбирай — или они, или мы!.. Что ты тогда выберешь?
— Так я уже выбрала
— Насовсем?
— Насовсем.
— На всю жизнь?
— На всю жизнь.
Варенцов неуклюже спрыгнул с табуретки на иол. Он сел на табуретку, весь повернулся к Клаве, лицо его стало серьезным и хорошим и таким красивым, каким его никогда Клава раньше не видела.
— Ну, если на всю жизнь, тогда вступай в комсомол. И я тебе рекомендацию дам, и Ксения тебе даст, да любой из наших комсомольцев за тебя сейчас поручится Только запомни, Клава: становишься комсомолкой, коммунистом, значит И это уже на всю жизнь!
СЕМНАДЦАТЬ МЕТРОВ В СЕКУНДУ
НА ПОРОГЕ НОЧИ
— Ну, вот и все твое хозяйство Дело, видишь, не xiir-рое, но серьезное. Ты, Семен, не сторож, а часовой, даже побольше Только помни: записывать надо аккуратно каждый час. Как дойдет до отметки четыре с половиной — замеряй каждые полчаса.
— Василий Иванович! А когда опасно будет?
— Как дойдет до отметки пять метров — дело пахнет керосином Да до утра, думаю, не дойдег! Ну, а если что — стучи в рельс Посылай за мной, за Кандаловым, вообще — распоряжайся! Ты же парень бедовый! С попами и богородицей справился, неужто реку не одолеешь! Стало быть, я пошел, а ты командуй. Пока!
Сеня Соковнин посмотрел вслед начальнику работ Пу-
говкину и, когда коренастая фигура его растворилась в темноте, повернулся к своему хозяйству. Оно действительно было несложным: в сбитой из досок будочке на неотесанном столике лежали журнал, карандаш и стоял зажженный фонарь «летучая мышь» — на случай, если с электричеством что случится. Самый главный инструмент был привязан шнурком к пуговице и лежал в кармане куртки — часы Се-ня их вынимал поминутно. Первый раз в жизни он держал в руках часы, и их тиканье, спокойное и неторопливое, его успокаивало.
Семен вышел из будочки и зажмурился от резкого, ледяного ветра, дувшего с Ладоги. По шатким мосткам он подошел к .мерной рейке, укрепленной к крайнему ряжу, и, хотя только что с начальником работ был здесь, снова посмотрел: вода стояла на отметке 3,4 А в журнале они только что вписали первую запись — 3,3 Новая Сенина работа называлась «водомерный пост». В конторе старший делопроизводитель Глотов пренебрежительно сказал: «Что ж тебя, такого героя, из рабочих в сторожа производят? И заработок на полтора червонца меньше Ты потом в контору жаловаться не приходи! По своей воле » Но от слов Глотова раддстно-тревожное настроение Сени не испортилось. Он знал: от него и его расторопности зависит судьба всего сделанного за все эти годы И он даже вздрогнул от страшной мысли, что река, которую они укрош,али, может взбунтоваться и раскидать все — вот этот полукруг плотины, множество ряжей, ледоза-щитные стенки, баржи и огромное, в лесах, здание станции
Сеня подошел к журналу и — в который уже раз! — стал его рассматривать. В толстой конторской книге, неохотно ему выданной Глотовым, была только одна запись: «13 апреля 1925 года. 10 ч. 30 м. вечера. Верхняя отметка воды — 3,3 метра». А теперь уже больше. Надо записывать? Нет, надо ждать!.. А осталось сколько? Сорок три минуты Как против-1Ю ждать!..
Ночь была полна звуков, странных и тревожных. Сквозь шум ветра пробивались какие-то далекие и глухие раскаты —
будто где-то гроза идет. Громко и неприятно шуршали льдинки у края ледозащитной стенки. Изредка с шумом выстрела лопалась какая-то доска.
Нет, в будке ждать еще хуже Сеня подошел к мосткам. Под яркой электрической лампой, висевшей над мерной рейкой, был виден большой кусок ледяного поля замерзшей реки. Узенькую желтую тропку, по которой они бегали всю зиму, пересекла косая треш,ина. Свободное пространство чистой воды перед ряжевой перемычкой стало совсем маленьким, и было ясно, что лед надвигается на стенку незаметно, но неотвратимо — как большая стрелка на его часах. Вода подошла уже к отметке 3,6 А записывать еще рано — осталось десять минут Семен с трудом, поминутно глядя на часы, дождался, когда они прошли, потом побежал в будку и сделал следующую запись: «11 часов 30 минут вечера. Верхняя отметка воды — 3,7 метра».
«Вот не буду, целых полчаса не буду выходить из будки», — уговаривал себя Соковнин. И выдержал, хотя это было ему очень, очень трудно. А в двенадцать часов вода стояла на 4 метрах И никакой уже чистой воды у стенки не было. Лед подошел, уперся в стенку, и она слегка потрескивала.
Может ли понять какой-нибудь такой, как этот Глотов, каково ему, Семену Соковнину, здесь одному против грозной реки? Поселок наверху спал. Сеня угадывал в темноте квадраты окон, за которыми были ночной покой, тепло Все спят, и никто не знает, что ему. Сене, предстоит решать: быть тревоге, шуму — вызывать их всех, будить этих спящих люден или оставить их и дальше спать спокойно Каждые несколько минут Соковнин бежал на мостки. 3,81 3,87 3,94 Теперь надобно записывать каждые полчаса Эх, надо бы чаще — как же Василий Иванович так спокойно отнесся к этой реке! Уже четвертая запись — 4,23
Река больше не притворялась. Она трещала и гудела. Она уже набрала силы и примерялась, как ей лучше сокрушить вставшую на пути преграду. Доски теперь лопались оглушительно каждую минуту, и, хотя Семен знал, что за ними —
точстые бревна ряжей, набитые землей и щебнем, все равно было страшно. Ыаверно, как в бою А вода неумолимо ползет вверх. 4,40 4,52 4,61 4,70
Уже рассветало. Теперь Сеня бегал в будку только каждые полчаса, чтобы застывшими, непослушными пальцами записывать цифры, становившиеся все более и более тревожными. Он не сходил с дрожащих под ним мостков и в серо.м, неуверенном свете раннего утра не сводил глаз с реки. Лед на ней почернел и вздулся. И широкая дорога, шедшая через нее, и множество желтых троп, проложенных мальчишками, были перерезаны, сдвинуты У ряжевой стенки льды налезали друг на друга. Они ползли вверх с шумом, уверенные в своей силе. От ледозащитных бычков, совсе?.! недавно поставленных, к берегу шли толстые смолистые канаты. Некоторые из них были накрепко привязаны к стволам редких сосен, некоторые уходили в землю — к закопанным толстым бревнам, которые назывались страшно и похоже — мертвяки.. Сеня опасливо потрогал канаты — они стали похожи на железные балки
Вдруг странный звук раздался совсем неподалеку от Семена, где-то внизу, в земле. Сеня обернулся и увидел, как .медленно, в нескольких саженях от него, там, где уходил в землю канат, начинает вспухать земля. Она подымалась гор-бон, сама по себе, как будто из могилы, как в страшной книге, сейчас встанет мертвец И потом из этой разверзшейся на глазах у Сени могилы с оглушительным воем вылетело что-то огромное, черное Вылетело и трахнулось в лед у самого берега И сейчас же с грохотом пушечного выстрела лопнул, как будто его топором перерубили, рядом канат. Мостки под Сеней заколыхало, и он совершенно явственно увидел, как дрогнул соседний ряж, как выскакивают из пазов бревна и с шорохом стала сыпаться земля
ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРОСИНОМ
Соковннн подбежал к рейке. 4,92 Вот оно, начинается! Скользя по глинистой тропке, Сеня подбежал к висевшему на дереве рельсу. Он схватил еще с вечера приготовленный большой болт, и гулкие, тревожные звуки развеяли его тревогу и неуверенность. Свер.чу кто-то незнакомый скатился:
— Чего такое? Что, стенку рвет? Ух ты, что делается! Давай беги за Пуговкиным, за Кандаловьш! Зови всех!
Но Пуговкина уже не надо было звать. Он бежал к берегу — свежий, несонный, будто был здесь рядом, за кустами, и только дожидался, чтобы его вызвал Соковнин.
— Дело пахнет керосином, Василий Иванович! Мертвяки летают! И вот тот ряд подался! А вон видите — лед-то, лед сейчас через плотину полезет!..
— Это пусть лезет Бей, бей в рельс, не жалей его!.. А ты давай в контору! Скажешь — вчерашняя разнарядка отменяется. Все артели сюда. Пусть позвонят на конный двор — всех грабарей на берег, к плотине! И пусть берут со склада все, что есть, — кирки, лопаты. Макеича, взрывника, разыскать — и ко мне сюда! Быстро! А ты, Семен, — на пост! Что бы тут ни было — каждые пятнадцать минут записывай подъем воды. Вот это твое дело, в другие не лезь!
Пуговкин распоряжался спокойно, уверенно. И от этого у Сени стала проходить бившая его дрожь. Он вернулся в свою будочку, которая уже была набита людьми. В одно мгновение все изменилось на только что одиноком, пустынном берегу, где был он, Сеня, один на один с рекой 5,18 5,23 Ого! 5,30 Лезет, лезет! Волхов идет на штурм плотины!
Но теперь против Волхова стоял уже не один Семен Соковнин — теперь с ним были все, вся Волховстройка! Бежали вниз десятки, сотни людей. Бежали плотники, плитоломы, грабари, монтажники, бетонщики, такелажники, взрывники, бежали слесаря, бежали пожарники и конторские, бежали все, все, кто строил эту станцию Наверху и внизу было черно от людей. Лошади, храпя и оседая на задние ноги, свозили
грабарки, куда были кинуты инструменты, канаты, тачки. Кандалов в своей застегнутой наглухо инженерской куртке, в инженерской фуражке расставлял людей на места работы. Рыжий экскаваторщик Юра Кастрицын уже бил киркой по каменистой земле и пронзительно кричал ребятам из ячейки: Давай, давай, словесной не место кляузе! Бей сильней.
Стоя у своей будки, Семен мог видеть всю картину сражения людей со взбесившейся рекой. Ожесточенно копали землю и укладывали в глубокие ямы мертвяки, обмотанные канатами; по доскам, уложенным поверх ряжей, тачками возили и ссыпали щебень и землю; плотники сбивали толстые четырехбревенные боны.
— Смотри, отчаянные какие! По льду бегут! Сейчас ухнут! !
Две черные фигурки, перескакивая через трещины, бежали по реке. По подпрыгивающей походке того, что был пониже, Сенька узнал Гришку Варенцова. Взрывать будут!.. Взрывники остановились посредине ледяного поля. Гришка опустил на лед маленький ящик и вместе с товарищем — Макеич это, что ли? — стал долбить лед пешнями. Даже издалека было видно, как летят брызги льда Вот они наклонились, уложили ящик, протянули к нему что-то длинное и побежали назад. У берега Макеич остановился, нагнулся, а П0Т0Д1 взрывники полезли в гору. Через несколько минут ухнуло, столб мелкого льда и воды поднялся вверх. Даже до Семена долетели брызги. Ледяное ноле вокруг места взрыва пошло трещинами, как оконное стекло, когда в него с силой кинули камень
Но ничего не изменилось. По-прежнему вся неподвижная, нетронутая масса льда упорно, всей своей чудовищной силой жала на плотину. Сеня исписывал третью страницу журнала: 5,62 5,84 5,90 6,07 Теперь река уже не издавала отдельные тревожные звуки. Она ревела, стонала, трещала Через водосброс она свергалась вниз водопадом, рассыпалась желтым кружевом, подымалась вверх плотным туманом брызг Льдины вздыбливались друг на друга, они от-
рывались от массы льда и переползали через плотину, срывая доски и бревна, сгибая защитные железные балки Уже несколько бычков ледозащитной стенки были сдвинуты со своих мест, накренились, вот-вот они рухнут, и вода со льдом их сомнет, кинет вниз, разделается с ними со всей своей яростью н жестокостью И Семену уже нечего было делать. Водомерная рейка ушла вся под воду, торчал лишь никому не нужный ее кончик, и никому уже не нужны были Сеньки-ны записи, и его работа, такая прежде важная и нужная, стала казаться ему бесцельной.
Выдержит или не выдержит! Наверно, об этом думали и те, кто были только зрителями, стояли наверху, на высоком берегу. Среди множества женщин и детей, сбившихся плотной толпой, выделялось несколько человек, одетых не по-нашему, в аккуратненьких костюмах, светлых плащах, при галстуках Это шведы Совсем недавно они приехали монтировать машины и вот вышли из чистенького и уютного домика, специально для них построенного, и пришли смотреть: справятся большевики или же не справятся? А рядом стоит этот гад, Глотов, в своем френче и размахивает руками, как будто он по-шведски умеет!
Так что ж, ему, комсомольцу Семену Соковнину, теперь быть с ними, со шведами, с Глотовым, с женщинами да пацанами! Стоять у своей никому не нужной будки да глазеть, как его товарищи, мокрые и грязные, с рекой воюют! Сеня вбежал в будку, подвел под своими записями жирную черту, захлопнул журнал и спрятал в углу под столиком. Потом подумал мгновение, вынул из кармана часы, в последний раз приложил их к уху, насладился тиканием и положил часы на журнал. Он еще раз оглянулся, увидел, что продолжает гореть фонарь, дунул на него и решительно выбежал из будки.
«К ребятам побегу мертвяки закапывать», — решил было Семен. Но не успел. Первым, кого он увидел, был Пуговкин, который призывно махнул ему рукой.
— Сюда, Семен! А ну-ка, беги как можешь быстрей в контору, Кандалов, спроси — разыскал ли он Графтио и разрешает ли он опускать щиты И сейчас же назад! Как на салках!
Когда Семен добежал до конторы, у него выскакивало сердце, он задыхался, в глазах потемнело. В почти пустой конторе несколько женщин на него зашикало:
— Да тише! Не кричи! Иннокентий Иванович с Питером разговаривает
Дверь в кабинет Графтио была открыта, и Сеня — впервые и без всякого разрешения — вбежал туда. У стены, около большого деревянного телефона, стоял Кандалов и кричал в телефонную трубку:
— Не пойму Не слышу!.. Барышня, соедините меня снова с Ленинградом!.. — Он нач1шал отчаянно вертеть ручку сбоку. — Генрих Осипович, я вас снова слышу! Говорите!.. Да, вода на предельной отметке Крайние ряжи правого берега сдвинуты, но держатся. Сломано два бычка. Плотина в порядке, но балки перекрытия деформируются! Василий Иванович предлагает перекрыть водоспуск, чтобы поднять уровень, сломать поле и пропустить лед поверху Нет, не знаю! Да это мы замерим!.. Щиты в готовности! Буду звонить через час
Кандалов оторвался от телефона, перевел дух и только теперь увидел Соковнина.
— Василий Иванович велел спросить
— Да, да Беги назад, скажи Пуговкину, что Графтио приказал сначала замерить скорость движения воды Если есть пятнадцать метров в секунду — опускать щиты Стоннея. Если меньше — ждать! Через час Графтио снова будет на проводе. Я сейчас тоже иду
Расталкивая зевак. Семей по скользкой тропинке скатывался вниз к реке. Он проскользнул между лопотавшими по-своему шведами, грубо толкнул локтем Глотова — ух, паразит! Нет того, чтобы за кирку взяться! — и мгновенно разыскал Пуговкина. Тот заставил его два раза пересказать, что говорил Кандалов, и сказал:
— Пошли со мной! Эй, Семен Петрович! Давайте сюда вертушку!
Они побежали к плотине. Кто-то сунул Пуговкину палку, Hd конце которой была почти игрушечная штука: загнутые металлические лопасти были насажены ка стержень, на верхнем конце — циферблат, как на Сенькиных часах Почти такие же вертушки они в деревне делали из дерева и играли в мельницы Пуговкин передал Сене эту игрушку, и он стал пробираться за начальником работ по гребню плотины.
Вот где было страшно! Только здесь, сверху, становилось видно, какая невероятная сила в этой реке! Безбрежное ледяное поле напирало на плотину, и Сеня всем телом чувствовал, как она трясется под ударами льдин, как непрочно все содеянное людьми перед громадой воды и льда Но думать об этом было некогда. Пуговкин смело перепрыгивал через покореженные доски, гнутую арматуру, через быстрые потоки воды, прорывающиеся там, где льдины особенно высоко вздыбились.
Пуговкин остановился перед самым большим потоком, он стал на четвереньки и осторожно сунул в воду нехитрую свою игрушку. Он двигал ее то ближе, то дальше, всматриваясь в циферблат.
— Ох, стар становлюсь, глаза надо менять!.. Сеня, глядн, где стрелка? Гляди внимательно, без выдумки!
Но Семену не надо было ничего выдумывать. Он совершенно отчетливо видел, что каждый раз, когда вертушка опускалась в воду, стрелка сразу же резко подавалась направо и останавливалась около цифры «17».
— Семнадцать, Василий Иванович!
— Ну, семнадцать так семнадцать! Теперь уже не имеет значения! Держи вертушку, и давай вертаться! Да осторожно ставь ноги, раззява! Нырнешь рыбкой вниз — тебя все пожарники в округе не сыщут!
Да нет. Сеня совершенно не боялся, и слова Василия Ивановича его не испугали. И только по почтительно-удивленным глазам людей, стоявших на берегу, по тому, как предупредительно протягивали им руки, когда они сходили с плотины, Соковнин догадался, что все же не простое это дело — бегать по плотине сейчас-
Уже не спрашивая начальника, Сеня побежал вслед за Пуговкиным к водосбросу. У его могучих бетонных стен, возле железных ворот, стояли инженеры, рабочие, курил папиросу невозмутимый Кандалов.
— Ну как? Семнадцать метров в секунду? Больше ждать нельзя ни одной минуты! Опускайте щиты Стоннея!..
Щиты Стоннея — это огромные, толстые стальные ворота. Почему они так не по-русски называются, непонятно. Их делали не в какой-нибудь Швеции, а в Питере, привезли сюда, и Сеня не однажды бегал смотреть, как эти железные громады устанавливают на каких-то особых цепях, как ловко они ходят в стальных пазах бетонных стенок.
Рабочие бросились к огромным колесам с железными ручками и завертели их. Створки стали сдвигаться и опускаться туда, вниз, к водяному потоку, желтому кипению Вот они уже достигли воды, с силой раздвигают ее, перекрывают водопад, сразу же ставший бессильным, маленьким. Щиты опущены, и только жалкие ручейки воды, текущие вниз по черному железу, напоминают о том буйстве, что было здесь всего лишь несколько минут назад.
Что будет дальше? Вода поднималась быстро, это можно было видеть по тому, как люди отбегали от берега. Они тащили вверх канаты, инструменты, какие-то доски, а вода шла за ними, настигала, хватала за ноги, кружилась в затапливаемых кустах, забирала брошенные бревна, щепки, забытую лодку Теперь уже все на берегу были только публикой, только зрителями. И Сеня вместе с ними стоял, ничего не делал, не отводил глаз от того, что творилось на реке.
Вот где было буйство! Льды у самой плотины ломались, взбирались друг на друга. Они переползали через плотину и со страшным шумом рушились вниз, срывая бревна, доски, щебень Толстенные бревна ломались, как спички, их под-
брасывало вверх, потом они беззвучно падали в хаос льда и воды Выдержит или снесет?!
Вдруг раздался такой треск, что на какое-то мгновение он заглушил все другие страшные шумы. Ледяное поле разломалось на несколько огромных кусков. Оно двинулось на плотину, нависло над ее гребнем и стало рушиться вниз с грохотом, который, казалось, в самом Питере можно было услышать
— Пошла! Пошла!- — отчаянно кричали вокруг Семена.
И он кричал вместе с ними. Кричал, крепко вцепившись в
чей-то рукав. И только через несколько минут увидел, что это рукав начальника работ, что рядом с ним стоит Пуговкин и так же, как он, как другие, кричит:
— Пошла! Пошла!..
Потом Пуговкин всмотрелся в Соковнина и, ничему не удивляясь, спокойно, как будто на собрании в клубе, сказал:
— Вот так-то, брат Семен! Однако надо посмотреть, что же там, на плотине, делается А? И как же нам это сделать? Пролететь над рекой как?
— Аэроплан из Питера, Василий Иванович!
— Ха! Что придумал! Зачем нам питерский аэроплан? У нас свой, волховстроевский, найдется! Полетим не хуже, чем на питерском!..
И, расталкивая людей, Пуговкин зашагал в сторону. Не раздумывая, Сеня двинулся за ним. Как же он, все здесь знавц:ий, не пропустивший ничего интересного, что делалось на стройке, не знал, что под боком у него есть настояш,ий, свой, волховстроевский, аэроплан! И где же начальники его ловко так прятали, что ни он и никто из ребят-комсомольцев про это не знали? В позапрошлом году, когда они ходили по улицам поселка и кричали «Керзону лорду — в морду», они собирали деньги на Доброфлот, на советские самолеты Может, на эти деньги и построили свой, волховский, самолет да и спрятали его так надежно, что никто про это не узнал?.. И где же тут у них настоящий аэродром и эти ну, где аэро-планы стоят, ангары?..
НАД РЕКОЙ
Но Пуговкин шагал не к спрятанным где-то ангарам, а просто шел к бетонному заводу. По дороге он взял за рукав Кандалова, что-то ему сказал, и вот уже они шли вдвоем, а Сенька как привязанный шел позади. Бетонный завод стоял не у самой воды, а приткнулся к высокому, гористому берегу. Около его зданий и высокой башни, засыпанны.х цементной пылью, вросли в землю толстые железные опоры канатной дороги. Отсюда вагонетки с бетоном скользили на колесиках по толстому тросу, они бежали через всю реку и по невидимой и неслышной команде останавливались на нужном месте, опускались вниз и вываливали свой груз в тело плотины. Десятки раз Семен, один и с ребятами, при-
бегал на берег глядеть, как красиво летят вагонетки через реку, как гудят натянутые тросы, и всегда ему приходила в голову сладкая и страшная мысль — вот покататься бы!..
И вдруг Сеня сразу же догадался: вот он, этот волхов-строевский аэроплан! Полетит Василий Иванович! Сядет в вагонетку и полетит через всю реку, и все увидит, как на аэроплане нет, даже лучше — ведь никакой аэроплан не может остановиться посреди реки, чтобы можно было разглядеть, что там, на плотине, делается!
А Пуговкин уже толковал с мастером канатной дороги и сердито ему говорил:
— Да знаю, знаю, что не полагается И что ты начальник, тоже знаю Так ведь и я тут, на Волховстройке, не подсобник! Так что снаряжай, брат, вагонетку Кстати, и безопасность, про которую ты толкуешь, проверим Подавай свой шарабан!
Рабочие подкатили вагонетку. Железные борта ее были облеплены застывшим бетоном, и была она совсем не такой нарядной и легкой, какой казалась снизу, когда смотришь на нее плывущую в синеве неба Кандалов взял Василия Ивановича за руку, .отвел в сторону и начал что-то ему горячо доказывать, Пуговкин досадливо отмахивался
— Да нет, Иннокентий Иванович! Нечего нам вдвоем там делать! Ничего не случится, пустяки это, а все же одному из нас надобно быть внизу. Вдруг застрянет вагонетка, и будем мы болтаться час-два, как обезьяна на проволоке А иа берегу кто распоряжаться будет? Ну, еще кого-нибудь возьму!
Подхваченный дрожью необыкновенного, что сейчас может с ним случиться, Семен подбежал к Пуговкину:
— Я, Василий Иванович, я Я полечу! Возьмите меня, Василий Иванович!
— Ха! Не отстал, значит, от меня Соковнин!.. Прямо как адъютант!.. Не боишься, значит? Правильно, и не надо бояться техники! Вот, Иннокентий Иванович, возьму с собой Со-ковнина. Человек испытанный, известный богоборец, специалист по небесам Мне с ним нигде страшно не будет!.. Ну, Сеня, залазь в карету!
Пуговкин и Семен перелезли через борт и очутились в вагонетке. Ничем она не напоминала карету, была грязная, скользкая и совсем не солидная. И она противно раскачивалась на весу, и легкая тошнота подступала к Сенькиному горлу, и сердце его стремительно стало со своего места уходить книзу
— Пускай!
Что-то щелкнуло, вагонетка подумала мгновение и медленно покатилась по тросу. Земля, только что бывшая здесь, под ногами, стала уплывать, и вот уже внизу, под ними, и Кандалов, и мастер, и рабочие
Они пролетают над толпой людей, задравших к ним вверх головы, позади остается берег, заливаемый пенистой водой, и уже под ними широченная река, по которой несутся льдины, куски дорог, бревна, кучи навоза, опрокинутые лодки, какие-то сорванные ворота Все это неслось стремительно, мелькало в глазах, и все рушилось через плотину.
Пуговкин и Сеня сидели на корточках, вцепившись в борта вагонетки, которая раскачивалась из стороны в сторону. Наверху свистели колесики, и этот свист был слышен, несмотря на рев воды, треск ломаемых бревен, громовое уханье падаю-
щих с плотины льдин. На самой середине реки вагонетка дрогнула, остановилась и начала, как показалось Семену, падать вниз Сеня оторвал руку от борта вагонетки и вцепился в куртку Пуговкина Тот понимающе взглянул на Семена, наклонился к нему и, перекрывая грохот половодья, крикнул:
— Ничего, ничего, Семен! Мы сильнее! Ты гляди — стоит голубка! Ничего с ней река сделать не может!
Вот здесь, над самой плотиной, было видно, что яростный Волхов действительно ничего не может сделать с плотиной. Через ее гребень неслись массы воды и льда. Время от времени какая-нибудь большая льдина срывала несколько бревен, в кипении пены была видна изогнутая железная балка. Но тело плотины стояло твердо и непоколебимо. Она была построена на века, и не было на свете такой силы, что могла бы убрать с дороги реки вот это — сделанное ими всеми, вол-ховстроевцами Вот так на них наскакивают белые, капиталисты, с таким же ожесточением бьют они в плотину Советской власти, и так же ничего у них не получается, так же в бессильной злобе разбиваются они о сталь и бетон и со скрежетом падают вниз, в реку, уносящую их куда-то далеко, навсегда
— Василий Иванович! Как на войне!..
— Война и есть, Сенечка! «Так громче, музыка, играй победу, мы победили, и враг бежит, бежит, бежит » — вдруг неожиданно запел Пуговкин.
— «Так за Совет Народных Комиссаров мы грянем громкое ура, ура, ура!..» — подхватил Семен.
Вагонетка уже катилась назад, к толпе товарищей, друзей, подбрасывающих вверх щапки, пританцовывающих, орущих А старый инженер Василий Иванович Пуговкин и молоденький комсомолец Семен Соковнин, сидя на корточках в грязной, раскачивающейся вагонетке, не пели — кричали ту самую, старую комсомольскую, боевую:
И враг бежит, бежит, бежит!..
БЛИЗКИЕ ХОЛМЫ
СТЕНКА
— Бе-е-е-й!
— Лупи гужеедов! Гони их в реку!
— Евсейка! Круши! Бей в печенку! Смотри, слева заходят!..
Прижавшись к саням, Миша и Роман смотрели на редкостную драку. И у них, на Волховстройке, хватало потасовок, не раз им приходилось расталкивать подравшихся парней, заламывать руки за спину гастролерам с Лиговки. Но здесь происходило что-то совсем другое.
На широкой заснеженной поляне у самого въезда в деревню с криком, воем, гиканьем билось десятка три людей. Это -^ibWH ребята разных возрастов — у некоторых усы уже чер-
нели, другие вовсе выглядели мальцами. Две шеренги драчунов сходились, загибались, снова расходились Дрались всерьез: озверело блестели глаза, яростно закушены губы. Кровь из расквашенных носов заливала лица и делала их страшными. Между дерущимися парнями бесстрашно с визгом бегали совсем малые дети. А поодаль стояла густая толпа — чуть ли не вся деревня сбежалась. Мужики поощрительно орали, позади них женщины сочувственно всплескивали руками и зажмуривались при особенно ожесточенной схватке.
Возница, привезший Михаила и Романа из Дальних Холмов, от них сбежал. Его старая буденовка мелькала в толпе дерущихся. Миша опасливо посмотрел на заботливо увязанные ящики с волшебным фонарем и связки книг: как все это спасать, если драка докатится до них?..
— Ромка! Это что, всплеск классовой борьбы? И какую позицию должны занять мы — представители пролетариата?
— Это всплеск дуроломства. И называется это — стенка. К какой бы стороне мы ни примкнули — будем дураками и получим по шее
— Значит, вроде кулачных боев на Москве-реке при Иване Васильевиче? Кирибеич, Калашников
— Ага. Как при царе Горохе Только тогда комсомольцев не было. А тут ведь есть В укоме сказали — одна из активнейших ячеек. Уж куда активнее
Странно завершалась поездка Михаила Дайлера и Романа Липатова. Когда в ячейке у них решалось, над какой деревней будут шефствовать волховстроевские комсомольцы, уком предложил деревню далекую, верст сорок от станции, деревню большую, но зато с настоящей, активной, здорово работающей комсомольской ячейкой Таких ячеек на селе раз, два — и обчелся. Вот в Далеких Холмах, хоть и ближе эта деревня к Званке, — там до сих пор нет комсомольской ячейки. А в Близких Холмах — пусть и в глубинке, а ячейка есть, и клуб настоящий, и антирелигиозная работа на ять!
Знакомство Миши Дайлера с сельской жизнью было не-
богатым. Бурная жизнь московского комсомольца иногда заносила его в места, называвшиеся селами. Село Алексеев-ское, село Черкизовское Но села эти были обыкновенными деревянными улицами окраинной Москвы, и только палисадники, где буйно росли мальвы и крупноголовые подсолнухи, немного напоминали о деревенском происхождении этих улиц. В Близкие Холмы Дайлер попал не случайно. На Вол-ховстройке Миша считался крупнейшим специалистом по политмассовой работе. И юнсекция в волховсгроевском клубе была делом рук Миши, и ни одна политлотерея, ни один вечер вопросов и ответов не обходился без Мишиного участия. Даже всезнаюихий Юрка Кастрицын никогда не мог обогнать в политтире дотошного Мишу, которому ничего не стоило назвать всех членов Группы освобождения труда, объяснить, что это за уклон — «Дунаевщина», а о разных Штреземанах, Брианах и Макдональдах рассказывать так, как будто это хулиганы с Нижних Котлов, с которыми они схватывались на Серпуховке, у кинотеатра «Великан» Когда их на бюро выделяли, ехидный Юра спросил: «Миш, а ты не скажешь, там что, булки на дереве растут?» Варенцов грозно покосился на рыжие лохмы Кастрицына и пробормотал, что, дескать, и Юрка больше знает про прерии и саванны, чем про поля и огороды Конечно, честно говоря, Миша рожь от пшеницы может отличить только в выпеченном хлебе. Но зато второй посланец ячейки Роман Липатов — сам из ярославской деревни и до того, как стать плотником и уйти на далекую стройку, вел хозяйство в деревне не хуже других.
К первой поездке в подшефную деревню волховстроевские комсомольцы готовились тщательно. Насобирали книг, пионеры изготовили два десятка красных галстуков для будущего отряда, Миша съездил в Питер и под поручительство рабочкома получил напрокат волшебный фонарь и серию туманных картин «Кровавое воскресенье — 9-е Января». За один день не добрались, заночевали в Далеких Холмах. Председатель сельсовета с трудом — крещенье ведь! — достал возчика. Правда, когда его Ромка спросил, почему ребят
не видно в деревне, сказал, что, наверное, пошли в Ближние. А на вопрос: «В клуб к ребятам?» — как-то странно посмотрел и утвердительно хмыкнул
И вот они на месте, в деревне Близкие Холмы, где должны — как это им казалось — встретить веселых комсомольцев с гармошкой, бойких девчат в расписных платках Про такую встречу им и не думалось
А сражение подходило к концу. Перевес явно клонился в сторону ближнехолмцев. Подбадриваемые криками односельчан, они обходили противника, теснили его к краю поля, пока парни не смешались и вдруг пустились бежать вниз к реке. За ними неслось улюлюканье толпы. Несколько малышей в огромных валенках бежали за побежденными, провожая их обидными словами. Победители, сбившись в кучу, приводили себя в порядок и оживленно обсуждали подробности боя. К саням подбежал возница, вытирая буденовкой мокрое лицо.
— Эх, промашка вышла Не знали ребята, что Евсейка из города вернулся. А против него одного нужно парней пять
— А из-за чего дрались-то? И кто дрался?
— Ну, дрались наши, с Дальних Холмов Здешние ребята гордые, шибко образованные, клуб у них и все такое — не пускают наших на посиделки. Вот и решили схлестнуться, все одно — крещенье, вроде как бы и положено Про Евсейку-то не спознались, что возвернулся Ну, куда везти вас, вона и идут к вам
К волховстроевцам подошло несколько человек. Это были молодые ребята, у которых еще не прошло оживление боя. Зато на главном из них никаких следов участия в драке не было. А что он главный — чувствовалось во всем. И в ладной бекешке, перешитой по фигуре, и в новых валенках, а самое главное — в зеленой папке из дивного сафьяна, на которой была вытеснена золотая лира и нерусскими буквами написано: «Мюзик» Он решительно подошел к саням, вопросительно взглянул на приезжих и произнес;
— с кем имею честь?
— Мы из Волховстройки, — медленно ответил Роман. — Приехали к вам как шефы
— Очень приятно познакомиться. Заведующий ближне-холмским опорным сельским клубом Твердислав Макаров.
— Что же это у вас такое тут было?
— Ну, невежество полное и влияние опиума по случаю святого крещенья. Делаешь для них, халдеев, все, последние силы кладешь на культуру, а в клуб их гнать палкой надобно. Вот как на кулачки — они тут как тут! А ведь еще Карл Маркс говорил — ученье свет, а неученье тьма
— Наверное, трудно вам, марксистам, здесь? — сочувственно спросил Миша.
— Ах, не говорите, дорогие товарищи шефы! Уж до чего с ними трудно — это сказать невозможно!
Деревенские ребята поперхнулись от хохота. Они бесцеремонно хватали заведующего опорным клубом за красивую бекешу, толкали его и со смехом кричали:
— Ох, Славка — артист! Ну, представляет!..
Как видно, деятель со столь странным именем был не самым авторитетным человеком на селе. Он покраснел, с силой подобрал свою сафьяновую папку и сердито сказал:
— Вот, товарищи шефы, видите, что за народ, на кого силы тратим! Поедемте в клуб.
По времени полагалось быть злым крещенским морозам, но день был светлый, теплый, какой бывает в самом начале марта. Полураздетые ребятишки выбегали из домов, в которых шло деревенское веселье. Девушки в оранжевых овчинных шубах провожали глазами незнакомых, городского вида ребят.
Клуб помещался в длинном и приземистом кирпичном доме. Когда-то его построил созревающий деревенский капиталист для веревочной фабрики. Но революция так и не дала ему созреть, и нелепый нежилой дом приспособили под клуб. Кирпичная неоштукатуренная печь, приткнувшаяся в углу несоразмерно вытянутого зала, не могла согреть эту махину.
Клуб промерз до того, что внутри его кирпичные стены покрывал толстый и пушистый слой инея. О том, что здесь клуб, можно было догадаться только потому, что в одном конце зала был небольшой помост с неожиданно высокой суфлерской будкой. Да еще на стенах висели написанные на узки.х кусках обоев лозунги, озадачившие даже все видавшего Мишу Дайлера. На одном плакате говорилось категорически: «Хлеб-соль ешь, а политграмоту режь!» А другой советовал: «Чем грызть подсолнухи в клубе от скуки, грызите зубами гранит науки!» Очевидно, скуки в клубе было не мало, потому что возле печки, у сдвинутых неоструганных скамеек, лежала волнами шелуха подсолнухов.
Деревенские ребята в клуб не пошли. Макаров и возница помогли Дайлеру и Липатову занести книги, волшебный фонарь. Заведующий клубом осторожно снял свою бекешу, принес дрова и неожиданно ловко разжег печку. Роман достал из кармана пачку папирос, закурил и вытянул к огню промерзшие ноги.
— Значит, так, товарищ Макаров.. Тебя как звать?
— Твердислав Родионович. Ну тут, в деревне, конечно, попросту зовут — Славой
— Комсомолец?
— Ответственный секретарь ячейки, начальник антирелигиозной дружины, депутат Всеуездной конференции комсомола Ну еще много другого приходится делать. Деревня! Зы, товарищи, люди городские, заводской промышленный пролетариат и про нашу жизнь понятия не имеете. А что такое деревенская жизнь? Как правильно сказал Карл Маркс — полное идиотство, и ничего больше! Ни тебе кинотеатра, ни оперы, на политзанятия комсомольцев палкой надо гнать. Устроил политпосиделки, а нет — все равно прутся к Зотихе на эти, на необразованные посиделки И все одному приходится, ни от кого никакой помощи!
— Как же это вот никакой? У тебя есть ячейка целая, есть бюро ячейки Комсомольцев-то много вас?
— Э, так штук десять, пожалуй, есть Ну, да что там за
комсодюльцы, что там за бюро! Видите ли, дорогие товарищи, я хоша и родом из деревни, но уже, значит, переварился; в Тихвине служил, курсы даже политические кончал — мы с вами представители передового класса и глаза наши все в светлом будущем А они, эти ребята, народ вовсе темный и деревенский Уткнулись в свой навоз носом и никуда! Я их в антирелигиозную дружину, я их в по-литлото, я их на вечер вопросов и ответов! А они все об одном: трехполка, многополка, плуг, борона, жнейка, лобогрейка, тьфу! Все о хозяйстве своем пекутся! А что такое хозяйство? Как говорил Карл Маркс — мелкобуржуазный капитализм, и ничего больше Вот и приходи г-ся опираться на сознательных беспартийных товарищей. Которые на хозяйство плевать хотели, а больше агитацией интересуются.
— А кто же это такие?
— Ну, хотя бы товарищ Суходолин Евсей Хотя он на Званке больше бывает, а тут очень помогает. Да и другие есть.
— Это который же Евсей? Кулачный боец, что сейчас разогнал ребят из Дальних Холмов?
— Так там все беспартийные! Думают, что если крещенье, так тут можно поживиться на дармовщинку Как посиделки — они тут как тут. Деревенщина! Ну да сами увидите Так куда же вас поместить? А если в сельсовет?..
— Слушай, Слава! — прервал Макарова Миша Дайлер. — Ты, я вижу, выдающийся марксист-аграрник. Так скажи, друг: если с помощью Евсейки и других сознательных товарищей мы отвернем крестьян от сельского хозяйства и других признаков мелкобуржуазного капитализма, то что же вы жрать будете? Ну вы еще семечками прокормитесь, а рабочие что же? Они откуда возьмут?
— М-м Так ведь в светлом будущем не будет гакой темноты Все будут
сознательные и при помощи высокопроизводительной техники, как говорил Карл Маркс
— Ладно! Хватит вам тут теории разводить и дискуссии устраивать! — Липатов решительно встал. — До вечера еще далеко, будет видно где ночевать, не пропадем! Давай все оставим здесь, пойдем на улицу, с ребятами встретимся и познакомимся. Пошли, что ли
На улице послеобеденное праздничное гуляние было в самом разгаре. Отдельными стайками шли пестро и разно одетые парни и девчата в больших цветных платках. В конце деревенского порядка, у красной кирпичной церкви, слышна была гармошка. Раскрасневшиеся мужики, обутые в красивые, расписные валенки стояли у своих домов и с интересом смотрели на появившихся в деревне незнакомых людей.
На Мишу, Романа и шедшего впереди них Твердислава Макарова с сафьяновой музыкальной папкой под мышкой еще больше внимания обращали деревенские девчата. Они смеялись и перешептывались, то и дело прыская в углы своих цветастых платков. Девушка в плисовом жакете и подшитых валенках обернулась к ребятам и, стыдливо полузакрывшись платком, жалостливо сказала нараспев:
— Что же ты. Славка, меня, бедную, бросил? Перестал меня охватывать, на лото политическое звать? Аль любить перестал? А еще Карлом Марксом божился Хоть городских-то постыдился
Твердислав побелел от злости:
— Ох и трепуха ты, Дарья! Идешь на поводу у отсталых элементов! Только и занимаешься тем, что льешь воду на ихнюю мельницу!
Девчата дружно захохотали. Дарья, горестно разводя руками. запела высоким голосом:
Мой миленок комсомолец, А я беспартейная. Потому любовь у нас Такая канительная
— Видели, товарищи, как приходится вести политическую работу? В каких кошмарных условиях!..
Все ребята при работе. Мой миленок — депутат. Все ребята, как ребята. Мой миленок ходит так, —
разливалась несознательная и неохваченная Дарья. 176
Она бросила петь и, давясь от хохота, начала кричать Макарову:
— Нет, ты расскажи городским-то, как вы деньги на политику зарабатывали А? Как вы там по избам голосили: «Дева днесь присущественного рождает и земли вертеп неприступному при-и-и-но-сит!..»
Девушки дружно подхватили:
— «Христос с неба зрищите, сла-а-авь-те!..»
— Про что это они? — мрачно спросил Роман.
— Эх, не слушайте вы этих классово несознательных девок! Разве они в политике смыслят! Ну, хитростью заработали, а потом этими же деньгами да по опиуму и безкульту-рью Знаете, какая у нас антирелигиозная дружина? Единственная в уезде, на Всеуездной конференции, где я был как делегат, хвалили — во! Мы так и на МОПР можем собрать знаете сколько? Так ведь не захотели! Потому что это настоящие деревенские уклонисты Вот уткнулись в эту мопров-скую полосу, навозу возили на нее со всей деревни. Ну какой может быть авторитет у международной революции, когда тут навоз да навоз?..
— А где же они, уклонисты эти?
— Да вот стоят там Сейчас я их вызову
— Начальник какой! Вызову!!! Давай пойдем к ребятам.
УКЛОНИСТЫ
у ребят, стоявших у деревенского плетня и молча-выжидательно глядевших на Михаила и Романа, вид был не самый праздничный. Не были они обуты в расписные валенки, не были одеты в новенькие, свежепокрашенные полушубки. Старая шубейка, куртка, перешитая из шинели, плешивая ушанка С волховстроевцами они здоровались настороженно. Но Миша и Роман были так искренне рады встрече с ними, что быстро растаяло недоверие к приезжим. Комсомольцы стояли тесной кучкой, разговаривали, перебивая друг друга,
и странным бы показался этот разговор стороннему человеку.
— А как у вас на Волховстройке? Когда вершать будете? Ребята, а вы тоже дрались? Нас в драку не принимают, там только актив беспартийный, а мы жуки навозные Это как же? Вы у Славки спросите. Наш секретарь вам все растолкует А електричество откуда браться будет? Почему девчата с вами не ходят? Вы их обижаете? Хо-хо-хо Вы Дарью-ху слышали? От наших девчат Славка в подпол прячется! Славка!.. А сам где прячешься? К нам надолго ли? А книги привезли какие? А постановка будет? Где жить-то будете?
— Да, вот это и вправду надо решить! — Роман обвел взглядом деревенских комсомольцев. — Макаров предлагает в сельсовете поселиться. А что мы там делать будем? Ведь не на день приехали.
— Заговорят они вас — секретарь ячейки да секретарь сельсовета Через два дня сбежите вы обратно на Волхов-стройку Давайте уж лучше ко мне, что ли Если не зазорно городским на печке спать — Невысокий парнишка с кривоватым носом, придававшим ему насмешливый вид, вопросительно на них глядел.
— Хо! Я, конечно, привык только в «Гранд-отеле» жить, ну, а только надоело мне там, и я согласен на печку Ромка, айда к нему! Будем у комсомольца лучше жить, чем в конторе. — Миша Дайлер умоляюще посмотрел на Липатова.
— Мне-то и вовсе привычней на печке А мы вас не стесним? Родители будут согласны? А звать как тебя?
— Дивов Иван. Живу я с матерью, нас всего-то двое в избе, чего же ей противиться Так давайте пойдем, что ли И поедите с дороги чего-нибудь горяченького.
— Лады! Сейчас зайдем в клуб за вещичками
— Иди, Дивов, к себе, я товарищей шефов приведу, — вмешался Макаров, — нужно кое-что обсудить по линии агитации.
В клубе, прислонившись к успевшей уже остыть печке, секретарь ячейки решительно сказал:
— Товарищи, предупреждаю: идете в самое что ни на
есть гнездо Деревенского уклона. Иван самый отъявленный супротивник всех наших передовых мероприятий по линии агитации и пропаганды. И против антирелигиозной дружины, и против много чего
Миша Дайлер его нетерпеливо прервал:
— Не пойму, что это у вас за уклон такой — деревенский? Вы же в деревне живете Ну, а комсомольская работа у вас есть? Ячейка работает? Или только эта антирелигиозная дружина ваша?
— А вы что думали?! — обиделся Макаров. — Ячейка наша во всем уезде одна из первейших! А комсомольская работа — вот она вся тут. — Он протянул зеленую сафьяновую папку с золотой лирой и надписью: «Мюзик».
Дайлер раскрыл папку. В ней лежала картонная обложка, в которой жестяным скоросшивателем были аккуратно скреплены лшолсество листов, вырезанных из какой-то амбарной книги. Каждый лист был озаглавлен «ПРОТОКОЛ» и аккуратно разделен на две половины вертикальной чертой. Слева наверху было написано «СЛУШАЛИ», справа — «ПОСТАНОВИЛИ».
Миша полистал протоколы. Один был протоколом комсомольского собрания. «Присутствовало на закрытом собрании 12 человек. Председатель — т. Макаров. Повестка дня:
1. Международное и внутреннее положение — докладчик т Макаров.
2. XI Международный юношеский день — докладчик т. Макаров.
3. О значении XI Международного юношеского дня — докладчик т. Макаров.
4. История РЛКСМ — докладчик т. Макаров.
5. Политика Советской власти — докладчик т. Макаров.
6. Текущие дела — докладчик т. Макаров».
Против каждого пункта повестки дня в графе «ПОСТАНОВИЛИ» было записано: «Принять к сведению».
Среди других протоколов Мише бросился в глаза протокол сельского схода. В «СЛУШАЛИ» обсуждалось: «Есть ли
бог — докладчик т. Макаров». В «ПОСТАНОВИЛИ» категорически утверждалось «Бога нет »
— М-да — пробормотал Миша. — Ясненько, ясненько А мы-то, дураки, на Волховстройке бьемся, бьемся А надобно было принять постановление, записать в протокол — и вся недолга!.. Роман, нашего Гришу Варенцова сюда прислать бы поучиться, как все вопросы можно быстро решать, а?
Но Роман все больше хмурился, на Мишины шутки он никак не отзывался. И сафьяновую папку смотреть не захотел. А Макаров, провожая их до избы Дивова, зачем-то заглянул в свою папку и озабоченно сказал:
— Сегодня, товарищи, по плану работы — в клубе полит-лото Прошу, товарищи шефы, принять участие в нашей агитации и пропаганде.
У Дивова в избе вкусно пахло мясными щами, за столом сидели несколько деревенских комсомольцев. Ждали гостей. Секретарь ячейки не зашел к Дивову — очень торопился по неотложным делам. Но комсомольцев это и не очень огорчило. Пока Дайлер и Липатов ели, они перебрасывались шуточками насчет своего секретаря. Насытившийся Роман отодвинул пустую миску и решительно вмешался в разговор:
— Слушайте, ребята, ваш этот Твердыйсплав — он что, балаболка, что ли? Пли бюрократ комсомольский? Так на кой же ляд вы его выбирали, чтобы смеяться, что ли? П что это за история с мопровской полосой?
Иван Дивов посмотрел на ребят со стройки. Казалось, что его и без того кривой нос стал еще кривее
— Дак он в укоме в авторитете, на кажных перевыборах представитель укома за него разбивается, да и нам другого выбирать некого: мы-то все при деле, у всех хозяйство Когда это мы будем в уезд ездить да собрания проводить и эти — мероприятия А Слава — он человек свободный. Хозяйства не имеет, за клуб ему жалование выдают, письмо или прошение какое напишет — куренка принесут И все было бы с ним неплохо, если бы не был таким дурным да су-
матошным. Сорганизовал, значит, антирелигиозную дружину вместе с Евсейкой Суходолиным. А Евсейка известный по всей округе шалопут. На Званке день работает, пять гуляет; здесь, на деревне, ничего не делает, ходит только по гостям, водку пьет, силу свою показывает: носит на коромыслах десяток мужиков, бычка подымет — ну как представление какое И еще с ним такие гулящие ребята. И из богатеньких есть — у некоторых на отцов батраки работают, так чего не гулять. Батраки работают, а сынки по гулянкам
Славка начал с того, чтобы дружина с богом боролась, а кончили тем, что Христа славить начали
— Так как же это так — Христа славить?!
— Видищь ли, Евсейка этот на селе издавна считается главным по всяким там игрищам, потехам И еще мальчонкой всегда был христославом. Тот пятиалтынный, тот и полтинник отвалит, ну, а пироги — это завсегда Ну и уговорил Славку — будто смеха ради — вырядиться и пойти христосла-вить. А тот, дурной, на Евсейку молится прямо Собрали семерых ребят, которым не стыдно, намазали морды, оделись в вывернутые шубы и пошли по избам Христа славить. Меньше полтинника никто не дает; как же, комсомольцы пришли, а Леонтий, у которого крупорушка, пять рублей отвалил Кончилось рождество, Евсейка ходит и пьян и нос в табаке, а Славка собирает собрание комсомольское и говорит: «Нас в укоме похвалили за комсомольское рождество, давайте внесем в МОПР не по пятаку, как все, а по гривеннику и скажем, что предлагаем во всероссийском масштабе переделать мопровский пятак на мопровский гривенник Напишем в газету, в Москву, от имени комсомольцев из Близких Холмов
— Да вы что, ребята, ополоумели, что ль?
— Да перестань! Что ты нас, за дурачков считаешь? Де-ревенскпе, мол Славка прославиться хочет, ума немного, совести еще сколько надо не нажил Ну, а мы ему сказали, что не допустим, чтобы на революционеров шли деньги, собранные у темноты да кулаков. А еще осенью, в международный день, порешили мы запахать мопровскую полосу. Сход
нам выделил кусок бесхозной землп — есть у нас такая и решили мы ее засеять льном: самая выгодная штука! Как снег выпал, навоз начали свозить, обещали нам достать семян долгунца, повозимся мы с ним, конечно, не без того, зато денег выручим много, и пойдут они на хорошее дело чпстымн. не пьяными полтинниками. А Славка нас за это и деревенщиной, и уклонистами, и этими — оппортунистами, что ли! Конечно, это лен, надобно ждать долго, а ему не терпится, чужой он для земли, не понимает ничего А на нас деревня смотрит — сумеем лен вырастить аль нет? Тут ведь его разводят мало, с ним дел не оберешься
— Ладно! Всех дел не обговоришь! Пошли, что ль, на улицу, пока светло — Нетерпеливый Миша вскочил из-за стола.
Роман на него досадливо покосился: вот уж кто деревенщина, так это городские! Хозяин еще сам.из-за стола не встал, а гость уже вскакивает
Ребята оделись и шумной стайкой вывалились на улицу. Красное солнце уходило за длинные и мягкие сугробы, близкие сумерки наползали на праздничную деревню. У ограды красной кирпичной церкви стояли ребята и громко смеялись чьему-то рассказу.
Поодаль от них стояли и пересмеивались девушки. Где-то неподалеку кто-то на гармошке повторял все время один и тот же отрывок мотива: «Ах, зачем эта ночь »
Завидев приезжих, деревенские ребята задюлкли. На Романа и Мишу вопросительно и затаенно смотрели. От ограды отделился человек и подошел к приезжим. Догадаться, кто он, было волховстроевцам нетрудно. На огромном и могучем торсе торчала маленькая голова с приплюснутым крошечным носиком и узенькими смеющимися глазами. Длинные руки как-то беспомощно свисали вдоль туловища.
— Ну вот и хорошо, что приехали на праздник, — весело сказал Евсейка. — Хошь погуляем вместях. Всех дел все равно не перевернешь, вам дали отпуск от работы, давайте, что ли, погуляем? А то Иван как старый хрыч сурьезный. А когда
же погулять, как не по молодости? Вы это как считаете? А у нас сегодня вечерком меро-меро-меро-приятие, вот!
— А как же! — засмеялся не отстававший от Дивова ру-. сый парень. — Славкино полптлото! Всем приказано быть в клубе!
— Эге, — подтвердил Евсейка. — А потом — к Зотихе
БЕЧЕРОМ И ДНЕМ
Недаром вечером с ребятами не было Твердислава Макарова! Опорный клуб села Близкие Холмы был настолько прибран и чист, насколько только это было возможно для безнадежно грязного и холодного сарая. На подметенном полу не было больше груды подсолнечной шелухи, от раскаленной печки шло тепло, длинный и кривой стол накрыт мятым кумачом. Твердислав в расстегнутой бекешке сидел во главе стола. Перед ним лежала большая расчерченная картонка и кучка криво нарезанных, грязных картонных фишек. Вокруг стола сидели комсомольцы, в дверях, заложив длинные руки за спину, стоял Евсей Суходолин и переговаривался с девушками. Ни одна из них не переступала порога клуба, ни девушки, ни Евсейка не обращали внимания на то, что делается за столом.
Макаров заглянул в лежащую перед ним бумажку и закричал:
— Вопрос девятый! За что борется Коммунистический интернационал? Ну? Что же вы? Васюня, давай ты!
— За революцию, конечно — неуверенно ответил тот самый русый парень, который недавно легкомысленно отнесся к удивительной игре комсомольского секретаря.
— Неверно! Кто еще?
— За свержение буржуазии — послышались нестройные голоса. — За диктатуру пролетариата За коммунизм
— Ничего подобного! — укоризненно покачал головой Макаров, — За интересы пролетариата, вот как! Читать надобно политлитературу!
Макаров всмотрелся в картонку, Нашел нужный номер и удовлетворенно положил фишку. Затем он вытащил другую, посмотрел снова в бумажку и торжественно провозгласил:
— Вопрос тринадцатый! Кто был Фома Кампанелла? Давай, давай, ребята! И чтобы правильно было!..
На этот раз комсомольцы долго молчали, прежде чем послышались робкие ответы.
— Китайский генерал Вождь итальянской молодежи
— Английский король! — радостно выкликнул кто-то.
Макаров недовольным помахиванием руки отводил неудачные ответы. Наконец, очевидно потеряв надежду на то, что ближнехолмские комсомольцы не ударят лицом в грязь перед гостями, он встал и, заложив руки за спину — наверное, так кто-то делал в укоме, — сказал:
— Как же это не знать про такого исторического товари-ш,а!.. Защитник трудящихся — вот кто был Фома Кампанелла!..
Миша Дайлер вдруг стремительно встал из-за стола, злобно толкнул ногой табуретку и побежал к двери. Все обернулись ему вслед. Роман тихо встал, аккуратно отодвинул табурет и неторопливо вышел на улицу. Миша стоял, уткнувшись лбом в стену, бил ногой по слежавшемуся сугробу и мычал от ярости. Он быстро повернулся к Роману:
— Сейчас я этому идиоту двину в глаз! Я не могу больше слышать и видеть это! Он что, не только дурак, но и нанят, что ли, дураками? А может, не только дураками? А?
— Давай, давай, бей его! Вот будет смычка города с деревней! Жаль, ребята не увидят такое, только в газете прочтут А это уж не то! А что ты, Миш, уж так красиво показываешь, что все деревенские комсомольцы дураки безграмотные, а мы с тобой такие, дескать, умные, грамотные, нам на вас и смотреть даже противно и презираем мы вас, темных
— Так я ведь не ребят презираю, а дурака этого в бекешке.
— Нет, Мишка, ты их не уважил, показываешь, что не ровня
им: они, дескать, терпят по своей малограмотности, а я так не могу. А они не глупее нас. Ну, знают, конечно, поменьше. Так не в этом же дело. Мы им приехали помочь как товарищи, как равные, понимаешь
— Ах, да понимаю я, Ромка, все! И стыдно, что не стерпел, но и терпеть тоже невозможно! Давай сегодня после этого цирка устроим собрание
— А какие у тебя права есть собрания устраивать? Мы же не из укома, а гости, шефы, значит. Нам с ребятами надо поговорить, тут, по-моему, ха-а-арошие ребята есть, вот как Ваня Дивов. А потом, мне кажется, что представление сегодня ве кончится на политлото. Ты же слыхал, что Енсейка говорил про Зотиху Наверное, после такой скукоты все туда и повалят
— Правильно, и пойдут все, да и вы, городские, туда же пойдете, и притворяться нечего вам Тоже небось хлебом не корми, а дай погубошлепить
Волховстроевцы обернулись. Возле них стояла та самая смешливая девушка в плисовом жакете, что сегодня днем так ославила бедного Твердислава. Она с интересом слушала спор Миши и Романа, а потом, видно, не выдержала и вмешалась
— Тебя Дашей зовут? — с внезапным ожпвлением спросил Миша.
— Ну, Дарьей, да!
— А ты чего стоишь у дверей и не идешь в клуб?
— Нужно мне очень слушать, как Славка ребят мурыжит своим лото! Да если я зайду, у Славки и вовсе все из головы вылетит, а там и так небогато
— А ты, Даша, не комсомолка? Чего же так? Такая смелая дивчина, никого не боишься, ни бога, ни черта, ни Славы, ни нас с Романом, а в комсомол, наверное, боишься Мол, что скажут, и все такое?
— Да уж есть кого бояться! Меня Макаров как улещивал — в уезд отвезу, на конференцию Очень надо, если там все такие, как он!
— А кроме Макарова, тут нет, что ли, парней хороших, комсомольцев?
— Ну, есть серьезные ребята Так они ведь тихие, а коноводит Евсейка — и вовсе не комсомолец даже, а так, прости господи!..
— Слушай, Дарья, — вметался Роман в беседу Михаила с Дашей. — Это у Зотихи посиделки, значит? Снимаете небось хату у нее?
— Ну да, снимаем. Приходите посмотрите, как веселятся деревенские
— А сколько берет с вас? Рубль или полтинник?
— Ну, уж рубль! Полтинник за такую хату и то красная цена
— А складчина на этот полтинник только у девушек?
— Ага. А ты откудова это знаешь? Иль у вас тоже так?
— Ну, я же, Даша, не питерский, сам в деревне вырос — знаю я все эти штуки не хуже ваии1х Значит, собираетесь, бутылочку пустую по полу крутите, девчата — хочешь не хочешь, нравится не нравится, а со всеми парнями целоваться должны?..
— Ну да, аж противно лизаться, больно надо! А с таким, как Евсейка, так лучше со свиньей — все чище!.. Слушайте, ребята, а наш Твердислав привез из уезда новую такую игру — флирт цветов называется, не слыхали?
— Ну как не слыхать! — обрадовался Миша. — Действительно самоновейшая! Я колоду с этой игрой у своей бабки сташил — она в молодости играла в эту самую новую
Политлото кончилось Обрадованные этим комсомольцы выходили из клуба. Синий махорочный дым валил из открытых дверей. Неугомонный Евсейка переходил от ребят к девушкам, сколачивая компанию. Роман, Михаил, Иван Дивов и еще несколько комсомольцев молча шли по уже темной улице. В избах зажглись огоньки, гармошка у церкви тихо и безостановочно жалобно твердила все то же: «Ах, зачем эта ночь »
— Слушайте, ребята! — Мрачно молчавший Роман внезапно остановился и с силой спросил: — Слушайте, ребята! Вот вы, комсомольцы, такие же точно, как Мишка, как я, как все наши ребята на Волховстройке. Но за ради чего мы пост>-пили в коммунисты?! Быть же того не может, чтобы только в политлото играть, собрания устраивать, политграмоту Коваленко читать!.. Мне этот Евсейка и то как-то более понятный Как бы погулять, как бы повеселее день убить День да ночь — сутки прочь! И в комсомол ему записываться незачем — повеселиться можно и без этого. Да я бы
— Ну, а ты, ты зачем в комсомол поступил? — столь же мрачно спросил Романа Дивов. — Мы, значит, чтобы повеселиться, а ты зачем? Вы все на стройке сознательные, а мы, значит, лаптем щи хлебаем?..
— Не лезь в бутылку, Иван! У нас в деревне все идут в отход плотничать да столярничать. Уходят на полгода, насмотрятся на разные города, денег приносят мешок, пей да гуляй, дом себе строй, чтобы был как дворец А я не пошел в отход, расплевался с дядьями, ушел на стройку — хочу, чтобы для людей строить, а не для себя. Вы бы посмотрели наших ребят на стройке — не от бедности только к нам приходят, богатство бросают. Ведь для общеЛ) дела это!
— Значит, как монахи — о душе думают, да?
— Правильно, о душе! И монахи тут ни при чем. Если есть у тебя душа, а не пар собачий, думай о других, думай о всех
Вот вы мопровскую полосу будете засевать — хорошо это! Но ведь есть люди и тут, которым помощь нужна — бедные, батраки, малограмотные. Вот им как помочь?! Неужто вы с вашим Твердиславом ни разу об этом не толковали промеж себя? На черта же тогда все ваши собрания!
— Ну ладно. Так что же мы должны делать?
— А я откуда знаю? На Волховстройке я знаю, что мне делать. А вы же здесь живете, вам и знать это надобно Давайте вместе думать
Незаметно ребята подошли к церкви. У ограды уже никого не было, все разошлись, и голос гармошки слышался где-то далеко-далеко, у самой речки. Как бы по привычке, все остановились на том вытоптанном месте, где, наверное, всегда было сборное место деревенских парней и девушек. Вслушиваясь в жалостливые всхлипы гармоники, Миша тихонько, как бы про себя, пел:
Льется кровь из свежей раны На истоптанный песок, Над ним вьется черный ворон. Чуя лакомый кусок.
Ты не вейся, черный ворон. Над моею головой. Ты добычи не добьешься — Я солдат еще живой
И вдруг, как бы отвечая на только что заданный вопрос, Л\нша Дайлер стал рассказывать деревенским ребятам про Москву, про себя, про своих друзей. Он вспоминал замоскворецкие переулки у завода Михельсона; крошечный сквер у заводской столовой, где стоит камень на месте, где стреляли в Ильича; он вспоминал огромный плац у Павловских казарм, на котором обучаются молодые красноармейцы; и как они ходили разгружать дрова на Москву-реку; и как весело в холодное и бодрое ноябрьское утро собираться в ячейке на демонстрацию; и как они такой тесной толпой, что нельзя было проткнуться ни одному человеку, шли по Поварской к английскому посольству протестовать против Керзона; и как они упи-
рались во влажные крупы лошадей конной милиции, а милиционеры им сверху жалобно кричали: «Ребята, да не лезьте же, коней помнете!..»
Впервые Миша почувствовал, что эти деревенские ребята такие же, как и те, кого он оставил в Москве ради стройки на Волхове, как и те — Варенцов, Кастрицын, Точилин, Моргунов, — что стали ему такими родными и близкими, как и ребята своей московской ячейки И помягчел Иван Дивов и его друзья, и исчезла та тоненькая, но прочная перегородка, что незримо стояла между ними весь этот день, с того самого часа, как увидели они драку на бугре
— Ну что ж! — встрепенулся Липатов. — Не будем отрываться от масс Пошли, что ли, к вашей Зотихе на посиделки, посмотрим, как веселятся в Близких Холмах!
— Давай! Пошли, что ли!
По узкой тропинке, протоптанной в снегу, комсомольцы спустились вниз. Неподалеку от белевшей в темноте реки светились два окошка маленькой скособоченной избы. Из низкой, неплотно прикрытой двери струйкой выбивался махорочный дымок и слышны были взрывы хохота. Ребята протиснулись в тесную комнату, синюю от дыма. Вокруг стояли лавки. На них, тесня друг друга, отдельно сидели парни и девушки. Почти каждый держал в руках картонку или листок бумаги. Слава Макаров негромко и со значением обратился к Даше:
— Гелиотроп Только, чур, про себя
— Дашка! Читай вслух! Читай погромче, как все! — закричали со всех сторон.
Дашка отмахнулась, стала искать в своем листке и, найдя, вскочила и с чувством прочитала:
Дева, дева дорогая, Я люблю, люблю тебя, Ночью я не сплю, вздыхая. Мне забыть тебя нельзя
Кругом загрохотали. Макаров густо покраснел, хотел что-то объяснить, но никто его не слушал, он махнул рукой и сел на место. Какая-то девушка посмелее крикнула;
— Вася! Это тебе — Анемон!
Вася откашлялся и начал читать:
— «Анемон. Под вашими красивыми лепестками таится горечь коварства и обман чувств » Это ж кого я обманывать стал?!
— Давай пойдем в сени покурим, здесь уж вовсе дышать нечем. — Роман вышел в сени.
За ним последовали Миша, Иван Дивов и еще несколько человек. Роман достал из кармана пачку «Червонца» и протянул ребятам. Папиросный дым показался сладким в махорочном чаду.
— рТз огня да в полымя, — меланхолично сказал Липатов. — Из полнтлото да во флирт цветов Что в лоб, что по лбу Неужто, ребята, что-то в этом есть веселое? И чего ради для этого надобно собираться здесь да чтоб девчата Зотихе полтинник платили? Можно 1<луб протопить получше и там разводить все эти гелиотропы — дескать, ночью я вздыхаю и мне забыть тебя нельзя Чушь собачья какая-то!
— 3, Роман, человек ты не политичный, нашего Славку вовсе не понимаешь! Сейчас тут покончат с этой цветочной мурой, зачнут бутылочку крутить да губошлепничать! Кто-нибудь бражки принесет, частушки можно орать позабористее А клуб — он завсегда чистый, в нем одна голая политика, начальство из уезда нашего Славку почитает как самого передового Вот и выходит, что он свой. Маток-то много, а ласковый теля — он один
С улицы в сени Зотихиной избы просунулся немного хмельной парнишка. Из-под старой папахи выбивался черный чуб, на плече висела гармоника. Роман внимательно посмотрел на него и, увидев его вопрос!1тельный взгляд, протянул ему пачку папирос. Пареш^ закурил, взял в руки гармонику и осторожно сдвинул мехи. «Ах, зачем эта ночь » — сладко и жалобно пропела гармоника.
— А ты другое можешь? — спросил его Роман. — Дай-ка мне, давно не играл — с самой, почитай, деревни. А двухрядка у тебя хороша!
Он взял гармошку, приладил ремень и тронул кнопки. Отбросив папиросу, он взял аккорд и, негромко подыгрывая себе, запел неожиданно сильным и глубоким тенором:
Кари глазки, где ж вы скрылись?
Мне вас больше не видать
Хозяин гармошки смотрел на Романа восхншенно и завистливо.
— О! Как играет-то! А еще можешь?
— А то! Только давай на улицу выйдем — дымно тут. — Роман шагнул на улицу, рванул мехи гармошки и запел громко и уверенно:
Ты, моряк, красивый сам собою.
Тебе от роду двадцать лет.
Полюби меня, моряк, душою,
Что ты скажешь мне в ответ?
— По морям, по волнам, — подхватили ребята.
Нынче здесь, завтра там.
По морям, морям, морям, эх!..
Мишка заложил четыре пальца в рот и разбойно свистнул.
Нынче здесь, а завтра там!
Стоя под окнами Зотихиной избушки, ребята пели дружно и весело. В руках Романа гармошка не пищала, а красиво и басовито вторила молодым голосам. По одному, по два из избы выходили участники посиделок. Голоса девушек робко и неуверенно присоединялись к хору парней. Роман тихонько двинулся вверх по тропинке, за ним потянулись и другие.
Из избы, растерянно застегивая бекешку и прижимая к боку зеленую папку, выскочил Макаров. Он посмотрел вслед уходящим ребятам, сделал несколько шагов и остановился. Вышедший за ним Евсейка подошел к нему и тронул за плечо:
— Куда ты? Пускай идут, дурни! Сейчас Николай придет, у его отца бражки до черта, ведро цельное принесет Тебе чего, детей крестить с энтими приезжими, что ли?!
На лице Твердислава было написано страдание.
— Ах, не понимаешь ты, Евсей, никакой политики! Не можно мне тут оставаться, должон я быть со своей комсомольской массой. Накрутят их эти!..
Он сорвался и побежал туда, где ладно, под гармонь пели:
А я буду плакать и рыдать, ТеСя, моряк мой, вспоминать!
Хлопотлив И труден был для приезжих следующий день. Пришли они в дом к Ивану Дивову поздно ночью, досыта наоравшись, напевшись — совсем как у себя на Волховстройке в праздничный вечер. Павел — так звали парня с гармошкой — был начисто покорен тем, как Роман умел на ней подыгрывать всем песням, какие только знали деревенские ребята. Они пели про Красную Армию и черного барона, и про то, как при веселом табуне конь гулял по воле, и веселые частушки. И даже когда Настя Антипова после самой веселой песни затянула грустную историю о том,
Я ли у матушки не дочка была, Я ли у матушки не хорошая росла, Взяли меня повенчали Н свет божий завязали
Роман ей подыгрывал на гармошке так тихо и грустно, что замолкли самые отчаянные голоса. Словом, был это очень славный вечер, его не портило и то, что Тверди слав от них не отставал, хотя и был невесело задумчив.
Но не петь приехали в деревню Близкие Холмы два комсомольца с Волховской стройки. На следующий день после крещенья, после угарного дня коллективного побоища, после политлото и посиделок, после ночной прогулки предстояло первое выступление приезжих перед жителями деревни. И об этом сообщало большое объявление, вывешенное Макаровым у входа в клуб. Он не пожалел для этого и запас обоев, на которых писал обычно свои лозунги. Крупными фиолетовыми буквами сообщалось, что в опорном клубе села Близкие Хол-
мы вечером с докладом о Кровавом воскресенье 9-го Января 1905 года выступит представитель с Волховской стройки товарищ Михаил Дайлер. Доклад будет сопровождаться туманными картинами при посредстве волшебного фонаря. Для всех жителей села Близкие Холмы — вход свободный, явка комсомольцев — обязательна
Да, Слава Макаров немало сделал для успеха первого выступления шефов. И все же его труды остались недостаточно оцененными. Мало того, с утра пришлось ему схватиться с приезжими за правильную и боевую политическую линию. Он пришел к Ивану Дивову, где ночевали Липатов и Дайлер, не снимая своей бекешки, присел к столу, раскрыл музыкальную папку, вынул оттуда листок бумаги и, дождавшись, когда ребята перестали разговаривать, неторопливо сказал:
— Значит, так Изберем президиум. Списочек я согласовал с секретарем сельского Совета. Потом, после того как я набросаю картину международного и внутреннего положения II поставлю задачи, выступит представитель антирелигиозной дружины Пашка Евстигнеев и продекламирует острый и боевой материал. Я его сочинил Потом, натурально, примем резолюцию и перейдем к Кровавому воскресенью
— А что это за боевой материал? — спросил Роман.
— Давай прочту! — обрадованно сказал Слава. Он приосанился, оглядел присутствующих и начал читать наизусть — видно, не впервые он это делал: — «Долой всякую напасть и да здравствует Советская власть! Старая власть у нас на пупе, а теперь речь пойдет о нашем попе. Ваш, бабы, поп Семен хитер и умен. От своих треб ест белый хлеб с пенкой. Нельзя ли его под мягкое место коленкой?.. Старый мир все тащится волоком, а у нас все еще висит церковный колокол. Нельзя ли его на литейный завод сбыть да на эти деньги сельский кооператив открыть?..»
— Почем колокол? — прервал Роман Макарова.
— Что-что?
— Ну, сколько вам дадут за церковный колокол? И сколько нужно денег, чтобы открыть кооператив?
— Да я почем знаю? Это я так — для агитации
— Во, во Если для агитации — значит, просто так. Для чистого трепа. А потом говорим, что народ у нас темный: мы его агитируем, а он смеется А народ вовсе не темный, а умный и знает, что это все буза и трепотня
— Как это так: антирелигиозная агитация — буза п трепотня!
— Агитировать, Слава, надо делом, а не бузой! Над вашей этой дружиной и поп Семен смеется, верно, и хозяин вашей лавки, и хозяева мельницы да крупорушки — чем это вы им можете досадить? Гречиху и просо надо ободрать, ро;-кь смолоть надо, соль да сахар купить надо — к ним пойдут все равно, а не к вам. Потому что, кроме слов, ничегошеньки у вас нету. А значит, и никому вы не страшны, и всей такой агитации — грош цена!
— Вы, стало быть, оторваны у себя, никаких местных условий не знаете, а про наш быт и вовсе. А как говорил Карл Маркс: быт — это главное и от него идет все сознание!..
— Да не трогай ты Маркса, господи боже ты мой! А я. Слава, сам деревенский, и ты мне Марксом глаза не залепляй А если мы устраиваем доклад про Девятое января, так не надобно ни президиума избирать, ни про международное и внутреннее, ни раешник этот про колокол Мишка доклад сделает, я туманные картины покажу, понравится это людям — еще такую лекцию сделаем Давай лучше пойдем в клуб, подметем его да приберем, натопим — вот уже и сделаем какое ни на есть дело
В клуб шли молча. Макаров твердо сжимал свою папку и ни на кого не глядел.
Роман примирительно сказал:
— Ну будет дуться, как мышь на крупу Зайдем в лавку, купим папирос, что ли
Небольшое помещение лавки было набито женщинами. Роман удержал Макарова, хотевшего пробиться к прилавку, и сни остановились, глядя, как ловко и быстро работал лавочник.
— Дай-ка мке два фунта пряников, — попросила лавочника немолодая женщина.
— Фунтами не отпускаем — запрещено по закону, — ответил лавочник и скосил глаза на незнакомых людей, появившихся в лавке. — Пожалуйста, восемьсот граммов как одна копеечка!
— А что мне твои граммы эти, — беспомощно сказала женщина. — На кой они мне? Ты мне дай два фунта
— Даю как положено правительством, в метрических ме pax! И ты, Матрена, забудь про свои фунты да пуды — сколько положено, столько тебе и дадено
Женщина неуверенно взяла в руки кулек с пряниками, взвесила его в руке, хотела что-то сказать, да махнула рукой и протиснулась к двери.
Выйдя из лавки, Роман распечатал пачку «Трезора», ребята закурили, и тогда Липатов сказал:
— Видел, Твердислав, как лавочник крутит п вертит, как он пользуется, что мужики еще не смыслят, сколько это — килограмм, да метр, да литр Он свободно и обвешивает и обмеряет, и никто его не проверит, дома у мужиков одни лишь безмены, на которых при царе Горохе взвешивали А что бы комсомольцам взять да плакат сделать — сколько фунтов в килограмме, аршии в метре Пли кто хочет, может прийти в клуб к комсомольцам, и они объяснят. Конечно, дело это маленькое и не мирового масштаба, да ведь какая ни на есть польза людям. Одной твоей агитацией авторитет, Слава, не завоюешь
— Знаешь, Роман, — решительно сказал Макаров, — тебе надули в уши те, что сторонятся политики и больше о мелком всяком думают, вот ты и говоришь. А мы что, про фунты и метры будем говорить с народом пли же о серьезном и политическом?.. Вот как сегодня вдруг вы перед народом, что соберется послушать про зверства царизма, зачнете про навоз да соху рассказывать Как это будет выглядеть? Кому нужны такие мелкобуржуазные рассуждения? К вам на Волхов-стройку из Ленинграда ездиют агитаторы с чем? С докладами
и лекциями про мировую революцию, положение трудящихся при капитализме и хаки далее
Только потом, когда прошел этот необыкновенный и тяжкий вечер, вспомнили Роман и Миша этот ехидный вопрос Макарова: «Как это будет выглядеть?..» ^ выглядело это так
ПЕРВЫЙ БЛИН
В селе Близкие Холмы никогда туманных картин не показывали и никто не видел волшебного фонаря Даже старики, говорившие, что им всё известно и всё они уже видели в уезде, а не то в самом Питере, и те были растревожены этой невиданной еще техникой. И в клуб народ набился задолго до начала лекции. Ко.мсомольцы подмели длинный зал, убрали наиболее заметную пыль, снесли со всего села длинные лавки, протопили печку, отогнали назад самых малых ребятишек, освободив место для взрослых. Впрочем, девчонки и мальчишки — набралось их видимо-невидимо — и не собирались сидеть на одном месте. Им было интересно побегать в том конце, где стоял длинный стол, покрытый кумачовой скатертью, а рядом со столом, немного сбоку, висела большая белая простыня. Но еще интереснее было там, где между скамейками на деревянном ящике стояло что-то действительно волшебное, возле которого возился Роман Липатов. Вокруг него сгояла, пожалуй, половина публики, и только старики в первых рядах сидели на месте, делая вид, что им неуместно вести себя так Hie, как и молодым ребятам
Волновались даже Роман и Михаил, хотя этот волшебный фонарь был им хорошо знаком, не раз они пускали его в ход, да и техника эта не казалась уж такой сложной волховстроевцам, видевшим машины и посложнее Роман осторожно налил спирт в резервуар вокруг белого, как бы из плотной мешковины, колпачка. Он зажег спирт, по клубу разнесся терпкий запах горящего денатурата. Когда спирт выгорел, Роман начал качать насосом. Колпачок вспыхнул ослепительным, никогда не видаииым белым светом. Роман осторожно задвинул
раскаленную горелку в корпус фонаря, подкрутил какой-то вннтик. Из трубы волшебного фонаря вырвался длинный и узкий белый луч света, в котором кружились бесчисленные пылинки. Простыня стала сиять, как поповская риза под солнцем. Дайлер склонился над коробкой, где стояли маленькие, обклеенные бумагой стекла, и сказал:
— Значит, как Макаров объявит, дай первый диапозитив с заголовком И тогда я начну
Он пошел к столу, за которым уже стоял и нетерпеливо смотрел в их сторону Слава Макаров. На этот раз заведующий опорным клубом, секретарь ячейки и делегат конференции был немногословен. Он быстро заклеймил царизм, прошелся чуток по империализму и предоставил слово представителю шефов, делегату пролетариата Волховской стройки, активному члену комсомола товарищу Михаилу Дайлеру.
Делегат пролетариата подошел к сияющей светом простыне и вопрошающе посмотрел в темный зал. На простыне появились мутные цветные пятна, они начали шевелиться, сливаться и вдруг образовали красивую разноцветную рамку из плугов и борон, из желтеющей ржи и кроваво-красного клевера. И в этой рамке самыми красивыми буквами, какие только можно себе представить, было написано: «Серия IX. От трехполья к многополью» Михаил ошарашенно смотрел на заголовок Он мгновенно вспомнил, как сам в Ленинграде в городском складе диапозитивов брал эту небольшую тяяселую коробку Кто ж это перепутал? И вообще, что же делать?
А в зале уже десятки голосов медленно, по складам вслух повторяли заголовок лекции, которую неожиданно для себя должен был читать Миша Но читать ее он не мог, при всем своем опыте агитатора, которого никогда и ничто не могло смутить. Он посмотрел на растерявшегося Макарова, вышел вперед и негромко сказал:
— Товарищи! Видите, какая получилась ошибка Вместо одной серии туманных картин дали другую О Девятом январе я вам расскажу в любое время. А картины, может быть, и посмотрим — вам ведь это интересно
Из темноты зала послышался голос Романа:
— Миша! Пойди сюда!
-Лиша вошел в темноту, перед ним расступались, он подошел к фонарю, из которого продолжал выходить узкий светлый луч.
— Ну-ка, займись этой техникой, а я пойду туда, — сказал ему Роман, — сейчас придумаем что-нибудь А ты не хватайся за волосы — в другой раз будешь смотреть лучше, что дают!
Роман быстро прошел к столу и подошел к красивому заголовку несостоявшейся Мишиной лекции.
— Вот, товарищи, что получается, е:кели вовремя не посмотреть да проверить А может, оно и к лучшему? О Девятом январе вам товарищ Дайлер расскажет в любой вечер, Bceiki, кому интересно, а сейчас давайте посмотрим туманные картины про то, что для всех нас — вас и нас рабочих — самое что ни на есть главное. Каждый здесь наверняка помнит, как жилось, когда не было хлеба, когда шла война. Да и мне самому хочется посмотреть. Скажу вам про себя. Фамилия моя Липатов, зовут меня Романом. Конечно, я рабочий — столяр на Волховском строительстве. Но сам я из деревни Брюхово, Ильинского уезда. Ярославской губернии. Конечно, у нас полсела плотники да столяры и работают в отход. А все же н хозяйство у всех есть, и крестьянствуют все, почитай. Есть у нас такие мужики, что перешли на пять да семь полей, а много и таких, что по-прежнему хозяйство ведут, как сто лет назад. Сначала озимую рожь, на следующий год яровые или картошку больше, а на третий год, конечно, пары. Не буду вам, товарищи, хвастаться, что я ученый больно и сильно понимаю в сельском хозяйстве — потому что с малолетства занимался плотницким да столярным делом больше, но скажу вот что: кто посмелее да перешел на многополку, у того урожай намного лучше, тот завсегда с хлебом, у него корова на клеверном сене ведро молока дает — не меньше, у него хозяйство лучше намного. Но ничего не скажешь — не в одном многополье тут дело.
Гул выкриков несся из зала.
— Ну-ну, скажи, парень, в чем же там у вас дело-то? Это кто же на многополку перешел? Ладно! Давай туманные картины! Дайте человеку про хозяйство сказать!..
Роман поднял руку, подождал, пока народ утихнет, п сказал:
— И правда, давайте посмотрим картинки, там будет все написано, я читать буду вслух, а что непонятно, скажу, если знаю. А не знаю, запишу, потом узнаю п расскажу. Ну, только тихо! Миша, давай следующую
На ослепительно белой простыне, сменяясь, возникали дивные яркие картинки: густые поля клевера и ржи, необъятные стога сена, чахлые колосья рядом с другими — могучими; столбики, диаграммы, показывающие преимущество многополки перед трехполкой; плуги и бороны, каких еще не видели здесь Под каждой картинкой была подпись. Роман ее читал вслух, а иногда п добавлял свое, и это — ненаписанное, а сказанное невысоким чужим ярославцем — было интереснее самой картинки
— На десятину земли высевается смесь из 30 фунтов клевера и 10 фунтов тимофеевки. Что-то многовато У нас тимофеевки не так уж и много, многие муясики сеют клевер пополам с викой. А семена вики у нас никто и не покупает, ее легко осенью наберет каждый, кто отведет себе деляночку под семена Ну, давай, Миша, следующую! Вот разницу между семенами клевера я не скажу — не знаю. У нас в деревне на семена не сеют. Сег»1ена покупают в уезде, а то и где подальше. А я знаю, что разница по качеству большая, — это я по цене сужу. Тут на картинке не сказано, но я знаю, что семена очень урожайного клевера стоят дорого — двадцать, а то и двадцать пять рублей пуд. Ну, что ох!.. Посчитайте сами: пуд семян хватит на две с половиной, а то и три десятины, если клевер сеять с тимофеевкой да викой, а выгода-то!..
Кончились туманные картины в общем щуме вопросов, выкриков, разговоров людей, столпившихся вокруг Романа. Уже зажгли на столе лампу-«молнию», и погас волшебный фонарь, и Миша Дайлер его запаковал в ящик, и убежали из клуба
ребятишки, а все еще народ не расходился. За столом сидел один-одинешенек Тверднслав Макаров и мрачно комкал угол кумачовой скатерти. Друг его Евсепка Суходолин ушел, на-скучившись ненужным ему разговором о хозяйстве; ушли и девушки; только комсомольцы стояли около Романа и слушали, как он отвечал на вопросы мужиков:
— Так молодые хозяйствовать умеют, наверное, и не хуже вас! А что? У нас на Волховстройке силами одной молодежи построили детский сад. Я сам с товарищами рубил сруб, делал двери да рамы оконные А чего мне не делать — у меня столярный разряд пятый, да и у ребят, плотников, не меньший. Так что же, молодые не справятся, что ли? Иван, ты как думаешь?
Иван Дивов понедучил с ответом.
— А чего не суметь? Каждый из нас умеет хозяйствовать, была бы у нас своя комсомольская земля, мы бы показали, как с трехполкой можно разделаться Так земли же такой нету, нам ее никто не даст
— Ишь, земли захотели? — вмешался в разговор какой-то старик. — Кто же вам свою землю отдаст! Да и не велико дело — на старой да ухоженной земле посеять и урожай собрать А бросовую землю попросите у схода, дадут вам, чего и не дать, раз не лес, не луг, не пашня Возьмите вот Поганое болото, коли охота такая есть Не откажут — берите запросто!
— Это что же за болото? — спросил Роман Дивова.
— Да внизу, у ручья
— Ну ладно! Потом поговорим
ПОГАНОЕ БОЛОТО
Разговор этот начался немедленно, как только из клуба ушли мужики, бабы, когда вокруг стола, за которым по-прежнему безучастно сидел секретарь комсомольской ячейки, немедленно сгрудились комсомольцы.
— Ну, ребята! На черта нам хозяйство?
— То есть как на черта? Клуб у нас обдрипаи-ный, на поездку в уезд денег никогда не бывает, книг в ячейке нету, занять людей нечем жалуемс?, что девчата к нам не ходят, — и правильно делают! От скукоты сдохнешь! А когда свое хозяйство зч-ведем — и библиотеку заведем, и даже в Питер съездить можно будет, н беднякам же опять-така
можно будет помочь. Есть ведь на селе у нас такая бедность, что сердце стынет, когда видишь. Вот хоть тетка Василиса с четырьмя детьми, без мужа да без, почитай, земли — не она на ней работает
Никто раньше и не знал, что Иван Дивов умеет так зажигаться, так здорово говорить. Был всегда в ячейке одним из самых тихих, любил иногда только вставить ехидное словечко. А теперь его и остановить нельзя было
— И не такое уж и поганое это болото! И вовсе оно не болото. Только по весне заливает, ну и потом между кочками лужи остаются. А землю видели на нем?.. Черная-пречерная! На ней все что хочешь расти будет! Пару канав прокопаем, кочки сковырнем, вот тебе и комсомольское поле!..
— А что яс ты на этом Поганом болоте сеять будешь? Окстись, Иван! Овес — вымокнет. Рожь — ну сколько ты ее соберешь и кому за сколько продашь? Ведь не для комсомольского же пропитания мы это болото распашем, а для денег, чтобы были у ячейки деньги, чтобы Евсейка не говорил, что он христославит для нас Что же там можно посеять?
— Лук!
Это сказал Роман, который до этого времени сидел молча, как будто и не он заварил весь этот разговор.
— Ну что вы на меня смотрите? У нас в губернии — самая выгодная штука. Труда большого не забирает — это вам не лен. А собрал урожай, его с руками оторвут где хочешь: хоть и в уезде, хоть на станции, а то и у нас, на Волховстропке, — без лука нет, значит, пищи. А я собираюсь на недельку домой. хМогу махнуть в Ростовский уезд — неподалеку от нас, взять там сеянца, узнать, какой лучше сеять. А если вам и огурцы посадить? Парники сделать? Вот тут мы, шефы, значит, можем помочь. Я могу рамы связать, стекла попросим на стройке — им легче достать
П-а-р-н-и-к-и Не одному из ребят почудилось черное ухоженное поле со стрелками зелени, стеклянным блеском пар-киков. Комсомольское поле. Оно даст комсомольцам и авторитет, и средства, и наполнит их жизнь делом М только Твер-диславу Родионовичу Макарову ничего хорошего не виделось Б том будущем, о котором размечтались его комсомольцы. Никто не обращал на него внимания, он сндел, оттертый в сторону, даже не пытаясь вставить слова в чужой и неинтересный ему спор о преимуществах огурцов перед луком и чесноком Ему было ясно: приехали под видом делегатов пролетариата представители мелкобуржуазной стихии и увели всех, почитай, комсомольцев села Близкие Холмы в самый страшный деревенский уклон, против которого он всегда боролся Как это бывало раньше, он хотел прикрикнуть на ребят, призвать к порядку, закрыть собрание, вызвать на бюро, пригрозить укомом, но он уй^е понимал, что на него теперь и внимания не обратят, и угроз его никто не побоится. Твердислаз встал, взял свою папку, застегнул бекешу и направился к двери. И никто даже не заметил, что идет в клубе самое настоящее комсомольское собрание без секретаря ячейки, без протокола и без двух малопонятных слов — кворум и регламент, — которыми обычно Макаров начинал все собрания
Как выглядит Поганое болото, когда оно освободится от снега, Роман Липатов, конечно, не знал. Но утром волхов-
строевскне и блнжнехолмские комсомольцы облазили это болото вдоль и поперек. Это большое, немного спускающееся вниз поле ничем не походило на маленькую и узенькую моп-ровскую полосу, на которой они посеяли лен. Миша Дайлер меньше всех понимал в горячих разговорах ребят о том, как же следует вести настоящее культурное комсомольское хозяйство. Ему не было скучно, он, как и все, был захвачен всеобщим волнением и радостными предчувствиями. Как и все, он обтаптывал направление будущих канав, вместе со всеми обсуждал, надобно ли комсомольское хозяйство огораживать забором, но все время его томили вопросы, на которые, как он понимал, ему не могли ответить те книги, в которых он обычно находил любые ответы Когда усталые ребята вышли на дорогу и закурили, Миша отвел в сторону Дивова.
— Иван! Ты хозяйство ведешь?
— А как же! хМне жалованье не платят. Я должен прокормить мать и себя, одеться Обязательно веду хозяйство. Корова у нас есть
— Могу я тебя уговорить, например, перейти на многополье?
— Нет, Миш, не сумеешь. У меня надел на два человека — самый, почитай, малый надел на селе. Как я его буду разбивать на семь полей? Да два года, пока порядок не наведу, чем жить буду? Это вот многосемейным, у которых большие наделы, да кулакам, наверное, проще — словом, когда земли много.
— Выходит, что если бы я и разбирался в многополье, то агитация моя была бы ни к чему?
— А вот, Михаил, ежели бы вся земля в нашей деревне была общей, вот когда бы ввести такое новое хозяйство. Никаких тебе межей, весь клин деревни разделен на семь полей — хозяйство общее, работают все вместе, потом всё делят. Вот это бы было настоящее многополье!
— Коммуна, выходит? Так есть же такие коммуны!
— Нет, у нас в округе коммун и в заводе нет. И там, говорят, не только работают — живут вместе все, никакого своего
хозяйства вовсе и нету. Так у нас сразу, пожалуй, и не получится А вот чтобы земля была общей и работа общая — вот JTO да! Вот когда хозяйство можно было бы вести!
— Слушай, Вапь, эта ваша балаболка твердосплавная думает, что агитация — значит, только языком махать. Агитировать-то надо делом! Об этом как раз Ильич и говорил — делом чтобы агитировать. Не в деньгах, что можно заработать от урожая на Поганом болоте. Если взяться да дружно превратить болото в настоящее хозяйство — это и значит агитировать за хозяйство общее, без межей, с общим трудом н общим распределением Агитировать делом, трудом, чтобы приходили, смотрели, затылки чесали Вот это агнтащ1я! Тут и мы — рабочие шефы — могли бы помочь. Тоже делом, а не только туманными картинками. Ведь можем помочь для парников рамы сделать, поможем стекло, семена достать. Далековато, конечно, до вас, а все же смогли бы приехать с народом, чтобы всем навалиться
Собственно, в этот день и началась история знаменитого по всей округе комсомольского коллективного хозяйства. История эта была долгой и разной. Были в ней дни горестные — когда кулацкие сынки в морозную ночь ранней весны переломали парники и погубили всю рассаду; были дни и ночи труда, веселья, разочарования, надежд Здесь, у этого клочка ухоженной и благодатной земли, которая, непонятно для новых поколений, продолжала называться Поганым болотом, — здесь начинались судьбы многих людей из села Близкие Холмы.. Если была бы написана история знаменитого в Ленинградской области колхоза «Волховстроевец», то первая ее глава начиналась с коллективного комсомольского хозяйства, созданного на Поганом болоте
Но история колхоза так и осталась ненаписанной, и только ее многолетний председатель, Герой Социалистического Труда Иван Дивов, когда приезжая делегация расспрашивала его о том, как возник их колхоз, начинал всегда с той новой жиз-
ни, что возникла на Поганом болоте. Да еще любила вспоминать об этом болоте бывший секретарь комсомольской ячейки села Близкие Холмы профессор медицинского института в Ленинграде Дарья Васильевна Дайлер Она даже показывала его своим внукам, когда привозила их как-то летом в деревню, откуда она была родом. Но два ленинградских тюнера без всякого интереса, из одной только вежливости рассматривали пустые парники, вросшую в землю тепличку, дощатый сарай, когда-то бывший центром комсомольской жизни на селе. Они ведь уже видели огромные совхозы под своим городом, и им было непонятно волнение, с каким бабушка рассказывала об этом клочке земли
А профессору вовсе не о парниках хотелось рассказывать. Ей хотелось рассказывать о том, как приезжали к ним ребята с Волховской стройки, как они — деревенские комсомольцы — ездили на берег Волхова, какие там были прекрасные и красивые люди, из которых уже почти никого не осталось. Она смотрела на ручей у Поганого болота и вспоминала, вспоминала, вспоминала Михаила Куканова, доброго Грншу Варен-цова, отважного Семена Соковнина, Сашу Точилина, профессорствующего где-то в Москве, и своего мужа Мишу Дайлера, ие вернувшегося с войны
Но рассказывать ей про это было трудно, ей казалось, что она этого и не сумеет сделать, и с грустью и жалостью она смотрела на своих внука и внучку, которые так и не узнают о том далеком и прекрасном времени, о тех навсегда оставшихся близкими прекрасных людях
СЫН КРОКОДИЛА
ПЕРВОЕ ДЕЛО ЭКПРАВД МОРКОВКИНА
Морковкин снова открыл папку и опять стал переб;фать лежащие в ней листки бумаги. Бумага была чистая, только что взятая у Гришки Варенцова. И папка была чистая, вчера им заведенная. И строгая надпись на папке «Экправ ячейки ВЛКСМ Волховстроя» была им только вчера сделана. И вчера же, на др^той день после комсомольского собрания, на котором Степана Морковкина избрали членом бюро и сделали экправом, он, по совету секретаря Варенцова, повесил на дверях ячейки объявление: «Член бюро ячейки по защите экономических прав рабочей молодежи С. Т. Морковкин бывает в ячейке кажный день после работы»
Гришка посмотрел на объявление, хмыкнул, зачеркнул в
слове «кажный» букву «н» п сверху надписал «д», а потом хотел еще зачеркнуть букву «Т», что означало отчество Морковкина — Тимофеевич.., Но потом Варенцов все же оставил эту букву и сказал:
— Ты, Степка, только не забюрократься, раз уж стал Степан Тимофеевичем И главное — без волынки! Обещался каждый день тут сидеть — сиди! А только не жди, что к тебе ребята на прием приходить будут. А то ты еще повесишь плакатик: «Без доклада не входить» Ты должен знать, как кто живет на стройке, кого обижают, кто в чем нуждается. И первому идти на помощь. Вот это будет по-комсомольски!
И вот он — на другой же день, — первый посетитель. Зеленый, тощий, нестираная рубашка, видно, не менялась никогда, и под рубашкой ничего не видать А на ногах опорки какие-то Сколько же этому шкету лет? Наверное, четырнадцать Или пятнадцать?
— Дяденька, возьмите работать на стройку!..
— Да какой я тебе дяденька! Скажешь тоже! И я не контора, не отдел найма А чего ты стоишь и мнешься? Садись вот на табуретку, спешить тебе некуда, давай поговорим.
— Ни Я с работы убежал Узнают — вздрючка будет,
— Тю! Какая такая работа, когда все уже пошабашили? И где же ты, пацан, работаешь? Тоже мне рабочий класс! А ну, покажь руки!
Ничего еще не понимая, парнишка протянул вперед худые и грязные руки подростка. Изрезанные ладони были покрыты желтыми плашками мозолей. Такими руками не таскают на базаре лепешки у зазевавшейся торговки, не залезают в чужой карман, не отстукивают на деревянных лежках «Цыпленок жареный». Это были руки пролетария. И столько недетского было в глазах этого полуребенка, что стало стыдно Степану за свой важный голос, за начальственные нотки в нем.
— Как звать тебя?
— Чичигов. Петр
— Садись, товарищ Чичигов! И рассказывай мне, Петро, где же так рабочих держат. Работаешь где?
— У Масюка Ивана Николаевича. Работаем, работаем, а ничего не платит. Утром фунт хлеба да вечером фунт хлеба кухарка даст, и всё А обещался! И деньги, говорил, буду давать, п кормить буду, и под забором спать не будешь А спим все равно на улице, потому тесно и клопы заели. А окромя .хлеба, ничего Меня ребята послали — пойди к комсомольцам в ячейку, попросись — пусть примут на стройку. Мы будем стараться Возьмите, дяденька!..
— Масюк, Масюк Это что за капиталист такой?
— Он «Всестрой» называется. Мы, говорит, на государство работаем, и кто бузить будет — так сразу в Гепеу Мне, говорит, стоит только комиссару товарищу Налетову мигнуть, и тебя сразу же, как малолетнего преступника, в тюрьму, за решетку Дяденька, возьмите! А мне бежать надобно. От Иван Николаевича достанется
— Никуда ты, Чичигов, не пойдешь! И плевали мы с тобой на этого Масюка!.. Вот капитализму развели! До чего пацанов запугали! Садись поближе да и расскажи мне по пи-рядку
Вот так и влез экправ ячейки Волховстроя Морковкин С. Т. в классовую борьбу с капиталистами, которые, оказывается, у них под самым боком находились А вместе с ним и вся ячейка, а потом и рабочком, и партячейка, и вся Волховстройка
«Всестрой» — это простая деревенская хата, налево от моста через Волхов, позади шумной и грязной дороги. От других нескольких деревенских изб, что еще остались на стройке, она отличается только тем, что вокруг нее лежат целые горы обрезков жести, деревянной щепы, кожаных лоскутов, разбитых ящиков. И у двери есть вывеска большущими буквами «ВСЕСТРОЙ». А пониже совсем маленькими: «Артель на паях — -Масюк И. Н., Сабуров С. Е. и К°». Морковкин долго рассматривал вывеску. Как же это он раньше не замечал ее?! « II К"»- Это значит компания?.. Интересно посмотреть на эту компанию! Степан решительно подошел к двери, с силой открыл ее и вошел в избу.
Он на мгновение задохся от резкой вони гнилой кожи, столярного клея, кислоты, плохой махорки. Изба была полна людей. Впрочем, не рабочих, а ребятишек, скорее. Худые, грязные, некоторые с цигаркой в зубах, они сидели на маленьких табуретах и что-то делали с жестью, чинили рваные ботинки, сколачивали какие-то кадушки В углу сидел вчерашний знакомый — Петр Чнчигов. Увидев Морковкина, он залился мучительной краской страха и еще ниже опустил голову.
— Здрасте, товарищи!
Ему не ответили. На него глядело множество глаз, в которых было неизвестно чего больше: усталости, любопытства или надежды.
— Чем могу служить, гражданин?
Из-за печки вышел плотненький человечек средних лет, в железных очках, с лысинкой, с услужающей улыбочкой.
— Вот интересуюсь, как п что Что тут парнишки эти делают? И соблюдаются ли советские законы?
— Это какие же законы?
— А которые, гражданин и К", защищают рабочую мопо-дежь от всяких там эксплуататоров!..
— Ас кем имею честь?
— А имеете вы честь толковать с представителем комсомола. А я есть экправ ячейки Морковкин и интересуюсь положением рабочей молодежи.
— Интересуйтесь, гражданин Петрушкин, на здоровье
— Не Петрушкин, а Морковкин Но это все равно. Я тебя, гада, эксплуататора малолетних, выведу на чистую воду! Голодом ребят моришь! Где зарплата? Где спецодежда? Где тут у вас охрана труда? Капитализм тут развели! Как при Николае! — Степан сорвался на крик.
Он забыл все наставления Гришки Варенцова, весь точно разработанный план разоблачения этих буржуев, эксплуата-торщиков Он задыхался от нахлынувшей злобы. Еще немного, и он схватил бы за горло этого лысенького паразита со
сладкой улыбкой и железными кулаками Но Масюк был совершенно невозмутим
— За оскорбления ответите перед советским судом, гражданин Морковкин! Прошло это время — травить честных негоциантов! Здесь все по закону делается! Работаем согласно патента и генерального договора с государственной организа-Щ1ей по строительству гидроэлектрической станции. И попрошу не срывать выполнение указанного договора!
— Ты тут рабочих начисто приморил!..
— Это я рабочий. Да-с А энти вот — это ученики, а не рабочие. И учатся профессии согласно их личной просьбы и письменной договоренности с артелью «Всестрой». зарегистрированной в уездном исполкоме Вынужден буду обратиться к полномочному представителю договорной организации, к смотрителю зданий товарищу Налетову, с требованием пресечь ваши незаконные выступления, товарищ Петрушкин! II попрошу-с очистить помещение артели. Пожалуйста выход прямо!..
Захлопывая за собой дверь. Морковкин напоследок еще раз взглянул на спокойно-наглое лицо Масюка. Кулаки Степана сжимались сами собой, он тяжело дышал Ах, буржуйский пес! Еще на советские законы кивает! Но и он, экправ, хорош! Раскричался, как пацан какой! Ну, да ничего, свое возьме^г! А этот смотритель зданий. Налетов этот, — к^о ж такой? А?
И вдруг он отчетливо вспомнил Налетова, его гладкое, моложавое лицо, прилизанные черные волосы с прямой ниточкой пробора, белые, какие-то немужские маленькие руки, постукивающие папиросой по коробке дорогих «Посольских» Ну как же, есть такой! Еще выступал недавно на заседании рабочкома и жаловался, что «недисциплинированная молодежь громким распеванием песен после отхода рабочих ко сну дезорганизует внутренний распорядок в рабочих общежитиях и этит.г в известной мере снижает производительность труда, каковая является главной на данном этапе » Еще Гришка Варенцов его тогда спросил: «А чего, товарищ Налетов, больше дезорга-
нцзует: распеванпе песен нлн распивание самогона? И откуда берется самогон?» Налетов тогда сверкнул глазами на Гришку и спокойно ответил: «Самогон никогда не употреблял, к не употребляю, и им не интересуюсь». А Ксения Кузнецова еще сзади крикнула: «Ну да, зачем ему самогон! Ои в «Нерыдае» мадеру пьет! С нэпманами!..» Так вот этот-то Налетов, значит, и подписал с этим Масюком договор? Эх, пощупать бы этого смотрителя зданий!..
Варениов не согласился со Степаном. А у того был план простои и решительный: пойти с председателем рабочкома Омулевым в эту самую артель «Всестрой», разогнать всю эту буржуйскую банду, запечатать избу, мальчишек в Ладожский детский дом, а Масюка и К — в ^ишицию как эксплуататоров. А Налетова потянуть за халатность! И вся недолга!..
— Тебе не экиравом быть, а ротой командовать! — недовольно сказал Гриша Вареицов. — Рабочком не может вот так, с бухты-барахты, запечатывать разрешенную артель. Тебя Григорий Степанович обсмеет за такое И ребят в детский дом нельзя — они уже большие, небось по пятнадцати лет.. Разбегутся ребята, станут беспризорничать, а Масюк чистым выйдет. И ничего не докажешь. А Налетов — это гад, точно я тебе скажу, — он тут всему делу голова, и с ним нужно осторожненько н с умом! Ты Клаву Попову ведь знаешь?
— хМонтажницу?
— Ну да.
— А чего ее не знать? Знаю. А она при чем?
— У нее отец бухгалтер. Да и она раньше в конторе работала. Пусть через отца — чтобы без шума! — разузнает: что это у Налетова за договор такой с этими нэпманами Чтоб нам без времени не вспугнуть и ие тыкаться, как слепым
— Да ведь она с отцом в контрах Или помирилась?
— Ох, Степан, оторвался ты, я вижу, от масс! Про своих же комсомольцев ничего не знаешь! Да помирилась она, из общежития переехала. Отец-то ведь ее ничего, только когда-то хозяева ему голову забили. Так вот: действуй через Клаву.
НЭПМАНЫ И КОРОЛИ
и тихонькая Клава Попова все разузнала. Да, смотритель зданий заключил договор с частной артелью «Всестрой» на изготовление и поставку строительству кадушек,ведер, чайников, кружек На починку спецодежды На какие-то жестяные трубы для бараков И не просто это все разузнала, а еще и сказала: по договору с Волховстройкой Налетов дает артели материал — белую жесть, кожу, гвозди, всякую всячину. А отец ей намекнул, что этого всего столько дано «Всестрою», что во всех бараках на каждого рабочего должно приходиться по одному чайнику и несколько кружек. А сколько их на самом деле?..
Когда через несколько дней Морковкин с инспектором по охране труда пришел в артель «Всестрой», он сразу же застонал про себя: «Ох, дурень я! Вспугнул прохвоста! Все напортил!..» Ребят в артели было вдвое меньше. Самых маленьких н не видать было. Сидели какие-то взрослые дядьки и лениво, неумеючи колотили молотками. Масюк не удивился приходу Степана и инспектора. Он быстро выложил на стол все бумаги, и в этих бумагах все было в полном порядке. Артель зарегистрирована — вот патент. Ученики взяты по закону — вот их заявления И зарплата им выдается по закону — вот ведомости Видите — расписки везде, кто сам подписался, ну, а кто по малограмотности, натурально, крестик поставил своей, значит, ручкой Вызывали ребят, спрашивали И каждый, теребя рукой новенький, только что надетый фартук (и спецодежда у каждого — как же, все по закону!) и не подымая головы, подтверждал: да, все правильно. И зарплату выдают. И кормят. И спать есть где А вечерами работаем, потому что всем места не хватает. Некоторые, значит, днем работают, а некоторые вечером
Масюк разговаривал только с инспектором. На Степана он не обращал никакого внимания, как будто его и не было. Масюк захлопнул папку с бумагами, протянул инспектору руку лопаточкой, выскочил вперед и с поклоном открыл дверь
— Ну вот, товарищ Морковкин! — недовольно сказал инспектор. — А ты панику разводил. «Эксплуататор! Эксплуататор»! А тут все по закону Да и вообще, не мое это дело за артелями следить. Мне и на стройке дел хватает!
— Хватает! То-то я вас два дня с огнем искал — не мог найти! И ни один рабочий на стройке вас в лицо пе знает Инспектор! Едите советский хлеб, а за что — неизвестно!..
— Я вас попрощу, товарищ Морковкин
— Проси, проси Да посильнее! Ты еще, видно, с комсомольцами дела не имел, думаещь, что их упросить можно Еще нас попомнищь!..
Вечером, когда стемнело, Степан подошел к «Всестрою». Он подождал, когда по нужде выскочил из избы какой-то парнишка, и кликнул его.
— Петьку Чичигова знаешь?
— Петьку Косого, что ли?
— Ну, пусть косого Шепни ему тихонько — ^ пусть выйдет Да чтоб этот ваш Масюк не слыхал.
— А его нету. В «Нерыдай» гулять пошел Иван Николаевич.
— Пусть пока гуляет Зови Петьку-то.
Ну что взять с этого парнишки! Да и с других Конечно, их Масюк до смерти запугал. Сказал, что, ежели кто пикнет, выбьет из него весь хлеб, что поел а потом — в ГПУ и в тюрьму Ведь про всех все знает — кто когда стибрил на базаре, кто из детдома сбежал Куда от него денешься!.. Только и вздохнешь полегче, когда вечером уходит в «Нерыдай». Почитай, на всю ночь А сегодня придет пораньше — забирать баки и змейки
— Это какие змейки?
— Такие. Из жести делаются.
— И часто вы их делаете?
— Да бывает, что часто. Он их всегда ночью забирает.
— Ты-то, парень, знаешь, для чего эти баки да змейки делаются?
— А чего не знать? Для самогона.
— А кто их забирает? Ну, которые с Масюком приходят?
Петя молчал. Все оживление, с которым он рассказывал
Морковкину про то, как работают они по двенадцати часов, как спят по очереди на лавках и составленных табуретках, с него слетело. Он почесывал свою босую ногу другой ногой, переминался и вздыхал.
— Про этих нельзя говорить Как скажешь — амба. Убьют н скинут за плотпну Короли
— Это которые, бубновые?
— Они самые.
Час от часу не легче! «Бубновыми королями» звалн себя на Волховстройке воры да бандиты, слетевшиеся сюда, где милиции по.меньше, люден побольше Это они несколько недель назад у плотников получку забрали, это они пьяные драки устраивают, раздевают выпивших. Вот в какой узелок попал ты, экправ! Ну, он им покажет, что значит Морковкин! Стало быть, этот Масюк из государственной жести делает еще и самогонные аппараты да и сбывает их через бандитов! А дает им эту жесть Налетов, смотритель зданий!.. Хорош гусь! За производительность трлг воюет!
В ячейке Гркшки Варенцова не оказалось, и на этот раз Степан свои стремительные планы осуществлял без всяких препон. Милиционер, которого не без труда разыскал Степа, выразил готовность ничего не откладывать и преступников застигнуть на месте. Он поправил портупею, надел смушковую шапку с красным верхом, кликнул своего товарища, и они быстро пошли в сторону моста. По дороге встретили Сеню Соковнина из механической, и, когда он узнал от Степана, на какое дело идут, глаза у него засверкали от восторга, и он сразу присоединился к Морковкину и милиционерам. Вчетвером они подошли к избе «Всестроя» и вошли в помещение.
— Легавых-то зачем?! — с отчаянием шепнул Морковкину Петя.
Масюка в избе не было. Вскочив со своих мест и сгрудившись в угол, мальчишки с любопытством и страхом смотрели, как милиционеры шарят по избе. Да шарить особенно не при-
шлось. Три аккуратно сделанных бачка стояли в углу. А за печкой лежали змеевики да два недоделанных еще только паялись
— Ведра на полтора, — с удовлетворением сказал милиционер, встряхивая бачок. — Ну, где же хозяин? Сейчас протокол будем составлять.
Хозяина все не было и не было. А Морковкину не терпелось скорее увидеть Масюка. И сколько же можно ждать этого гада? Тем более, что известно, где он находится
— Масюк в «Нерыдае». И, по-моему, надо туда пойти и прямо на .месте взять его. Со всей колшанней И сюда привести — носом ткнуть в его производство, — предложил Степан милиционеру.
Милиционеру тоже скучно было сидеть в вонючей избе, и он охотно согласился с Морковкиным. Во «Всестрое» оставили другого милиционера с Сеней Соковниным, а Степан со старшим пошли за Масюком.
Никогда раньше Степан Морковкин да п любой из комсомольцев не бывали в этом заведении. Некоторое время назад приехали из Питера какие-то жучки, сняли на окраине двухэтажный деревянный дом, наняли плотников, и они им быстренько сломали внутри дома перегородки, внизу сделали пивную с буфетом, а наверху, в большой горнице, наставили столы, сколотили стойку, соорудили вроде большого крыльца в углу — для гармонистов и тех, кто чечётку пляшет У дверей повесили два больших фонаря и вывеску: «Ресторан «Не-рыдаи» И пошло!.. Смекнули нэпманы, что на Волховстройке тысяч пятнадцать человек, что заработки большие — по сто — полтораста в месяц получают плотники, а другие и побольше, — что слетелись на стройку разные людишки: и клёшные ребята, которым на Лиговке в Ленинграде неуютно стало, и кулачки из дальних деревень Всю ночь горят огнем окна этого кабака со странным названием, всю ночь несутся оттуда пьяные крики, вой гармоники, треск чечетки А после получки сгоят возле «Нерыдая» женщины и ловят своих загулявших мужей.
Степан с милиционером подымался по грязной лестнице. Ем> было н противно и любопытно Что же это за ресторан такой? В дымном, накуренном зале было тесно. За столиками сидели люди с краснылш, потными лицалш, с остекленевшими глазами. Между ними пробегали половые — юркие мужички в белых передниках, с грязными полотенца.ми через левую руку. Нн одного знакомого лица! Ни одного из тех, кто делал бетон, взрывал камни, монтировал машины Это были всё чужие, и он был чужой среди них, и это было приятно и немного жутковато.
Но вот и знакомое лицо!.. Даже не одно За дальним столиком в углу сидел смотритель зданий Волховской стройки. Видно было, что он очень пьян, но лицо его оставалось, как всегда, бледным и неподвижным. Он по-хозяйски, не глядя, тушил папиросу в тарелке с остывшим мясом и что-то говорил людям, с которыми сидел за столом. Среди них Морковкин увидел и мясистое лицо с наглыми глазами за стеклами железных очков. Вот он, Масюк! Недаром, значит, Ксения про И глетов а и «Нерыдай» говорила!..
Конечно, что говорил Налетов, нельзя было услышать. Да и вообще ничего нельзя было услышать в пьяном шуме «Не-рыдая». На эстраде женщина, одетая под цыганку, размахивала широченными юбками, отчаянно дергала плечами и, разводя в сторону давно не дгытые руки, визгливо пела:
Стаканчики граненые
Упали со стола.
Упали и разбилися
Разбита жизнь моя!
Три слепых гармониста позади нее равнодушно растягивали меха своих инструментов и смотрели на зал немигающими, незрячими глазами. В зале пели, кричали, ругались, и никто не обращал внимания на Морковкина и милиционера. Нет, заметили! Люден возле Налетова как ветром сдуло!.. И Масюк приподнялся, но Степан протянул руку, и Масюк снова опустился на место.
— Спокойно, гражданин Масюк! Вот он, товарищ милиционер! Эксплуататор и фабрикант самогонг! А этот, видн-..), тоже замазан, и его надобно тоже прихватить!..
Но Налетов не смутился. Лицо его оставалось, как всегда, спокойным, уверенным. Он лениво сказал милиционеру:
— Возьмите этого гражданина и выясните обоснованность обвинения. А завтра я лично позвоню начальнику уездноп милиции. Меня вы знаете?
Милиционер знал. И Налетов а не прихватил. Масюк покорно пошел за милиционером. Он шел, не обращая внимания на торжествующее горячее дыхание Морковкина, не замечая его; он ковырял в зубах спичкой и даже напевал какую-то песенку. И только в своей артели, когда он увидел чужих людей и самогонные аппараты, разложенные на верстаках, он раскричался, буйно топая ногами, сжимая кулаки:
— Байстрюки, шпана проклятая! Я нх пожалел, из-под заборов взял, я их на мастеров учил, сил своих не жалел, как отец родной был, а они, негодяи, вот что стали делать!! Я, значит, ухожу, верю им, а они самогонные штуки делают! Да еще из государственного, значит, сырья! И продают их невесть кому! Вот благодарность-то, товарищ милиционер! Помогай им после этого! Учи! Корми! Выводи в люди! Составляйте сразу же протокол! Не жалейте их, подлецов! В тюрьму их за такое!.
Всего ждал от Масюка Морковкин, но не такого! А главное — ничего он с этим наглым враньем не смог поделать. Милиционеры вызывали мальчишек, и они, уткнувшись глазами в пол, бубнили, что не знают людей, которые просили их делать баки да змейки И не знают они, для чего их делали А Иван Николаевич и не ведал про эти штуки А им — да, обещали денег на папироски и ириски И Петька, Петька Чичигов, он тоже что-то мямлил и не сказал правды. И милиционеры составили большой протокол, подписанный детскими закорючками и крестами и размашистой фамилией Масюка. А Морковкин отказался подписывать протокол. И Сене Соков-нину запретил.
— Комсомольцы под липой не подписываются! И вы, това-
рищи, представители Советской власти, зря уши развесили Тебе, Масюк, сухим из воды не выйти! Это я тебе, экправ Морковкин, говорю! Ладно! Забирайте это масюковское изделие, и айда! Не жди добра, нэпман проклятый! Тебе от нас жизни все равно не будет! И Налетову твоему тоже Не будет!..
НА ВИЛЫ!
Ах, как же нехорошо было Степану на другой день! Сидя напротив Оыулева и Варенцова, он себя чувствовал, как те мальчишки, что вчера
— Воитель! Все сам, все сам! Наполеон какой нашелся! За тобой весь комсомол, вся партячейка, весь рабочий класс вол-ховстроевский, а он, видишь ли, один все хочет сделать! Милиционеров взял, построил — и вперед на крепость капитализма!.. Плохо, Варенцов, учите комсомольцев! Ну чего, чего мальчишек этих в милицию вызывать? Улсе ходили сегодня в артель эту, никого уже нет, ни одного! Напугал их этот Масюк, шеи им накостылял да и разогнал И прячутся, бедняги, кто где — тюрьмы, видишь, боятся А ты, Морковкин, не помог им, а только нашумел, и нет тебя! Про все непорядки надо рабочим рассказывать, и тогда за тобой сила будет! И Налетова за ушко сразу же вытащат, и ребятам помогут, и кабак этот — «Нерыдай» — закроют Не ты. Морковкин, с милиционером, а рабочие это должны сделать Видел, как у нас на стройке «Крокодил» читают? Как приходят к нам в рабочком люди да и говорят: «Пора, дескать, таким-то и таким — вилами в бок!» Вот и вы, комсомольцы, беритесь за вилы, а не за наган. Каждому свое!
Когда сердитый Омулев ушел, молчавший все время Гриша Варенцов сказал:
— Ну, давай писать!
— Куда?
— Не куда, а что! Давай напишем все, как есть. И про Масюка и его эксплуататорство, и про пацанов этих запуганных,
и про то, как из государственной жести самогонные аппараты делают! И про королей бубновых, что при белом свете орудуют! И про этого гада — про Налетова! И вывесим — пусть все читают! Юрка Кастрицын нам нарисует не хуже, чем в «Крокодиле» А наверху напишем: «Вилы в бок!» Понял?
Два дня в комсомольской ячейке можно было только стоять у дверей или у стен. Стол и табуретки были сдвинуты в угол, и на полу вокруг разложенных на нем листов бумаги работали ребята. Да, там было все. И про Масюка и его малолетних рабочих. И про «Нерыдан». И про то, как делаются самогонные аппараты. П про Налетова.
Юрка с Петей Столбовым рисовали, и, глядя на их рисунки, невозможно было не смеяться До чего же был похож Налетов с папиросой в тонких губах! У него, у нарисованного Налетова, было десяток рук, п каждая занималась делом: одна таскала со склада жесть, другая держала самогонный аппарат, третья получала деньги от бандита в лихой кепке, с ножом в руках, четвертая размахивала бутылкой вина И Масюк нарисован был в виде паука, с очками на маленьких змеиных глазках. Он сидел в центре паутины, в которой запутались оборванные детишки. И как же смешно выглядели милиционеры на тонких заячьих лапках, с красно-серыми своими шапками, похожими на длинные уши трусливого зверька!.. И инспектор по охране труда с завязанными глазами играл в салки, и ему злорадно показывал кукиш все тот же Масюк Словом, много было интересного нарисовано на этих листах бумаги. А из фанеры выпилили большого крокодила, разрисовали его зеленой краской и сунули ему в руки вилы, на которых болтались всякие там пьяницы, спекулянты и прочая нечисть.
— Как подписывать будем? — спросил Юра Кастрицын, задумчиво почесывая концом кисточки голову.
— «Боевой крокодильский отряд»! — предложил Степан.
— Опять отряд! Все ему по-военному! Мы ведь рабкоры Ну, не рабкоры, а юнкоры — это все равно. И давайте мы подпишемся вот так: «Сын Крокодила». А?
и предложение Гриши Варенцова было всеми принято.
И днем и вечером стояли люди у клуба перед новой комсомольской газетой. Читали и смеялись рабочие, укоризненно качали головами женщины в платках, внимательно рассматривали рисунки инженеры и техники. И шведы стайкой пришли посмотреть, и переводчик им говорил, что там написано, и шведы громко хохотали и хлопали друг друга по плечу. И пришел сам Графтио и читал про себя, брезгливо и1евеля губами. А потом обернулся к стоящему рядом начальнику работ и с отвращением сказал Пу-говкину:
— Гнать, гнать всю эту шваль со стройки надо, Василий Иванович!..
И мелькнуло в толпе белое лицо Налетова, и люди его сторонились, как бы не желая замараться.
А через два дня, когда Степан поздно вечером вы-.\одил из ячейки, в коридоре его остановил терпеливо ожидающий париишка, босой, с нечесаными волосами
— Ха! Чичигов Петька!..
— Ага, я
— Ты откуда взялся? А другие ребята где? Здесь, с тобой?
— Нет, в Дубовиках да в Гостинополье прячутся Иван Николаевич сказал: увижу здесь — убью! Возьмите нас на стройку!.. Чтобы как все
— A что, и возьмем! Броню на подростков получили сегодня. Кому шестнадцать есть, возьмем! По шесть часов б;)Де-те работать. И учиться будете. И общежитие дадим. Вы, ребята, не думайте — мы вас из капитглизма вырвем!
Они шлп по темной уличке, выползаюидей из широкого Волховского проспекта. От забора отделилась какая-то темная фигура. Другая маячила позади
— Ты, что ли, сын Крокодила?..
Морковкин не успел ответить. Он увидел над собой занесенную руку и привычно бросился в ноги нападающему. Тот тяжело грохнулся через него. Степан вынырнул, ткнул головой в JKIIBOT другого бандита н бросился бежать. Далеко )зпе-реди себя он слышал обезумелый топот босых Петькиных ног и его истошный крик: «Дяденьки! Убивают!..» Морковкин слышал сопенье догоняющих его «королей» Он перескочпл через низенький забор инструменталки, и увидел, как из дверей мастерской вышел машинист Куканов и раздвинул руки, как бы желая обнять бегущих по улице парней. И он их обнял Да, видно, не просто, потому рухнули на землю Степан сразу бросился к ним, схватил своего противника за руку и с силой завернул ее за спину Морковкина не учить было драться, он это дело проходил на самой буйной окраине Новгорода и знал, что главное в драке — не давать врагу подняться
Но вокруг уже были какие-то люди и звучали знакомые голоса, и когда Степан поднялся с земли, то ему показалось, что вся ячейка здесь Ну, не вся ячейка, а достагочно ребят, чтобы свести двух бандитов в милицию
В коридоре милиции маленькая горячая рука схватила Степана и потащила в сторону.
— Ляденька! Иван Николаевич здеся!
— Где?
Петя Чичигов повел его вправо Дверь кабинета начальника была открыта, и Морковкин увидел, кого там допрашивают. Масюк был без пояса и без очков, маленькие его глаза настороженно следили за рукой начальника, быстро бегавшей по бумаге. А напротив Масюка, опустив на колени руки, сидел сам смотритель зданий. Лицо Налетова было белее обычного и мелкие зубы блестели в узенькой щелке губ.
А суд был громкий. Не где-нибудь, а в самом клубе. Набилось человек семьсот И рассказывали на суде про то, как ребят г.юрилп голодом, и как для всей округи Масюк делал самогонные аппараты, и сколько денег Налетов получал от спекулянтов, и как эта шайка с бубновыми королями стакнулась, — про все рассказывалось в длинном зале волховстроев-ского клуба.
Л когда суд кончился и милиционеры с наганами в руках увели из суда Масюка, Налетова и всех других, которых судили, Омулев подошел к комсомольцам и хлопнул экправа ячейки по плечу:
— Ну, крокодильские дети, что же это пылится ваш «Крокодил»? И вилы пустые! Пли на стройке беспорядков больше нет? Думаете, что, если несколько человек шпаны забрали и «Нерыдай» закрыли, стало быть, вам уже и делать нечего? А что в рабкооие женщины чуть ли не на кулаках продавца вынесли, не слыхали? А за что? А правда, что в нашей школе ребятишки на газетах пишут? Не слыхали? Что же вы! Давайте, раз взялись!
НА ОКРАИНЕ, ГДЕ-ТО В ГОРОДЕ
ПОЧЕМ ФУНТ ЛИХА!
Нп к одному человеку кличка не приставала так быстро и прочно, как к ученику слесарной мастерской Антону Перегу-дову! Чуть ли не на второй день появления его в ячейке рыжий насмешник Юрка Кастрицын почему-то прозвал его Ан-тоном-горемыкой Потом выяснилось, что есть книга такая про мужика при царизме. Антон Перегудов горемыкой не был, и никто его таким не считал. Наоборот, был он счастливый из счастливых. В счет ученической брони попал не куда-нибудь, а в слесарную мастерскую, где его обучал не какой-то хлюст, вроде этого Юрки, а самый известный и опытный на всей Волховстройке слесарь и машинист. Петр Иванович Куканов был человеком суровым и зря слова па ветер не бросал.
А сказал, что из Антона выйдет толк, то есть настоящий слесарь.
Беда была только и том, что он сказал не Антон Перегудов, а Антон-горемыка Потому что все без исключения стали его так звать. А однажды в списке на получение прозодежды было написано: «Антон Горемыкни». П кладовщик не хотел выдавать Антону брезентовый фартук потому, что Антон упрямо твердил, что он не Горемыкин, и что он будет жаловаться самому Омулеву на безобразие и еще про это напишет в Москву в «Комсомольскую правду» Кладовщик фартук выдал, но сказал, что таког! упрямый пацан, как этот Антон-горемыка, еще узнает почем фунт лиха!..
И действительно, через некоторое время Антон вдруг понял, что знакомства с фунтом лиха ему не избежать.
После жизни в Дубовиках, где он никогда не видел на руках у отца больше пяти рублей, он, Антон, стал получать целых двадцать два рубля в месяц! Это были деньги огромные, неслыханные, невиданные. В первую получку ои даже не понял, что же с ними делать и куда эту прорву денег девать! Тем более, что и за квартиру платить не иадо было: в общежитии он как ученик ничего не платил и еще бесплатно было ему выдано одеяло, две простыни и наволочка, которую он иабил тонкой-претонкой стружкой. II за все это — ни одной копейки из своих двадцати двух рублей!
Антон не переставал радоваться за себя и товарищей, и, когда в ячейке возникла большая буза с конторой насчет сдельщины, он насмерть и почти на всю жизнь поссорился со своим товарищем Пашкой Кореневым. Но тут надо объяснить, что это была за буза и кто такой был Пашка Коренев.
Учеников в слесарной мастерской было девять ребят. Конечно, были ученики и в столярке, и на бетоне, и на монтаже — везде действовал закон: обязаны брать учеников, учить их и еще платить им за это деньги. Целых двадцать два рубля — больше двух червонцев!.. Настоящий слесарь с разрядом — тот Зарабатывал и пятьдесят и шестьдесят, а то н больше рублей. Кто сколько выработает, потому что они работают на сдельщине, а ученики на ставке. Двадцать два — сколько бы не сделал. И вот колюра задумала ребят перевести на сдельщину. Конечно, Антон свои двадцать два рубля может выработать запросто. И не двадцать два, а поболее. А вот Пашка Коренев и без разряда мог бы выколачивать все тридцать. А то и сорок Ничего не скажешь — самый лучший ученик Пашка! И руки у него золотые! Только душа жадная Ведь остальные-то ученики — и Степка, и Федя, и Гриша, и другие ребята — им-то свои двадцать два рубля никогда не выколотить! Только-только научились напильник и молоток держать в руках, куда им!.. IT справедливо, что держат учеников на ставке. Ячейка подняла бузу против конторы. Сначала в самой ячейке бузили. Пашка и еще несколько ребят выступали за сдельщину — дескать, скорее научатся, за деньгами будут тянуться, и государству выгоднее. Режи.м экономии это называется Но экправ Степа Морковкин доказал, что никакой это не режим экономии, а зажим молодежи. К го же пойдет учиться иа девять рублей? Выходит, что кто по-шибче, тот и будет сверху — как при капитализме!.. Нет, пусть будет у всех ставка, а как научатся, пожалуйста, сдавай пробу, получай разряд и зарабатывай себе на сдельщине сколько навтыкал!..
Крик был в ячейке страшный. И не столько в ячейке, как потом, когда уходили с собрания. Антон на собрании не горазд выступать, только с места кричал. А когда кончилось собрание, сказал Пашке Кореневу, что он, Пашка, подлипала, подпевала и во времена царизма таких обормотов, как он, на тачке с завода вывозили На тачку — и в канаву с грязью! В ответ Пашка двинул ему в ухо Ребята их растащили, и с тех пор они не разговаривают, хотя и живут рядом в обще-лчитии и в мастерской тиски их рядом
Но Гриша Варенцов и Степан Морковкин ходили в рабочком к Степану Григорьевичу. И Омулев сказал, что не допустят они нарушение советского закона. И пришла бумага из Ленинграда со строгим запретом нарушать закон. Плати уче-ипку двадцать два рубля и давай ему бесплатно койку, и одеяло, « две простыни, и наволочку, потому что это молодой рабочий класс и он еще себя покажет!
Но вот получает Антон своп двадцать два рубля и вдруг начинает ловить себя на мысли — ужасной, шкурной и стыдной мысли, — что ему этих громадных денег не хватает!.. И не один, не два раза Антон на клочке бумаги начинает считать свои доходы и расходы.
Значит так.
Больше всего денег уходит на обед — девять рублей и шестьдесят копеек в месяц. Завтрак и ужин — это подешевле: восемь рублей и сорок копеек. В столовую уже не ходишь, перекусил колбасой или молоком пли варенец на рынке купил, да булка еще теплая — и сыт всегда, и недорого это стоит. Теперь, в комсомол двадцать две копейки.. И столько же в кассу взаимопомощи. Каждый месяц — на помощь безработным — пятьдесят одну копейку. Каждый может попасть в беду, стать безработным — тут тебе и помощь станут выдавать, не пропадешь с голоду, профсоюз не даст Теперь в ЛЮПР гривенник. Это святые деньги, идут на помощь тем революционерам, что в тюрьмах у капиталистов сидят. Антон на это не пожалел бы п больше, но членский взнос в МОПР одинаковый для всех — десять копеек. Еще Антон состоит членом Общества друзей воздушного флота — тоже десять копеек. На культурную жизнь — газеты, книги, кино — уходит у Антона целый рубль. Не надо думать, что это маленькие деньги! Нет! Библиотека в клубе на Волховстройке набита книгами. Антон читает там прямо собраниями сочинений. Прочел собрание сочинений Джек? Лондона, прочел собрание сочинений еще такого заграничного интересного писателя Джозефа Конрада, начал читать собрание сочинений Свирского. Это наш писатель, но тоже пишет про необыкновенное: приключения там, тюрьмы и жизнь ну просто ужасную! И журналы в библиотеке берет — «Мир приключений», «Вокруг света» Газет — полно! Л «Комсомольская правда» и «Смена» так всегда в ячейке
лежат. Конечно, когда кино в клубе — надобно платить гривенник. Но это когда как Бывает частенько, что и так смотрит — есть такой у Антона секрет в клубе Словом, рубля на все это вполне хватает. Сколько же потрачено? Двадцать рублей. И остается еще два рубля. На «прочее»
Вот это самое «прочее» и есть самое трудное. Оказывается, что человеку, которому вполне хватает денег на то, чтобы быть сытым, сознательным и культурным, ему еще требуются деньги! Антон не курит, так иногда стрельнет у кого Но ведь он уже взрослый парень, все кругом курят по-настоящему, а он что же, хуже других? А самые дешевые папиросы — «Трэ-зор» или «Тары-бары» — шесть копеек пачка Опять же уже два раза на маевку ездили. В складчину. Хотели с него как с фабзайца полтинник взять, но что же он, бедный? Рубль дал, как все! Но самое главное в «прочем» — это одежда
Антон — парень аккуратный. Работает в прозодежде, бережет ее, огорчается, если пятно поставит. Хотя как ты на работе убережешься от масла? Свою одежду сохраняет и бережет. Штанов, двух рубашек, ботинок ему хватает на год, а то и больше. Но опять же, не маленький он, а взрослый рабочий. Вечером с Лизой Сычуговои шли из клуба — смотрели новое кпно «Минарет смерти», — и она спросила:
— Не холодно тебе. Антон, в рубашке одной?..
Спросила ио-хорошему, это Антон точно знает. Но ожгло его как огнем! Ведь она его только в синей сатиновой косоворотке и видит, никогда ни в чем другом. И решил Антон купить себе толстовку — быть человеком, как все
Все «прочие» за четыре месяца да еще немало гривенников от завтраков и ужинов ушли у Антана на те тринадцать рублей, что он собрал на толстовку. И тут-то начались страдания Антона, и тут он начал понимать, сколько стоит фунт лиха. За двенадцать-тринадцать рублей толстовку купить можно. Но только у частника. А в государственном магазине толстовка, ну конечно, получше, стоит ни мало ни много — целых двадцать рублей!.. Таких денег у .Антона нет, а ждать ему еще три месяца, пока поднакопятся, невтерпеж!
А штука в том, что есть у комсомольцев закон — у частников ничего не покупать! Закон этот негласный, никто ею в протокол не записывал, а все его держатся. Ни одной копейки капиталисту, пропади ок пропадом! Покупать все только в госторговле! Потому что хоть и дороже, но зато вся прибыль идет рабочему государству на то, чтобы строить заводы и станции, такие, как их Волховская А частнику хоть и меньше уплатишь, но на эти вот их копенки они, нэпманы, на рысаках раскатывают и в ресторанах кутят И Антону пришлось очень долго уговаривать свою комсомольскую совесть преступить через этот закон. Ведь действительно ночи сейчас холодные и простудиться очень даже просто. А простудится Антон — будет лежать дома, не работать, а деньги ему все равно идут, государство платит! А то и еще хуже — заболеет всерьез, положат в больницу, что недавно выстроили. Там он будет лежать на мягком, каждое утро ему манную кашу и котлеты на обед, и лекарства, и халат казенный А вышел из больницы — ему опять незаработанные деньги. Месяц в больнице пролежал, наел на два десятка, а тебе еще и твои двадцать два рубля Так не выгоднее ли для государства, если он, Антон, заплатит этому проклятому частнику его тринадцать рублей — на, давись! — возьмет у него толстовку и сохранит себе здоровье, а государству во-о-он сколько денег?
Оказывается, совесть можно уговорить!.. Словом, решил Антон покупать толстовку на рынке, у частника. Решил купить, а потом пойти в ячейку к Грише Варенцову и объяснить ему, из каких государственных, а не из каких-нибудь шкурных соображений купил он толстовку у частника, а не в госторговле. Быть того не может, чтобы Гриша его не понял!
Рынок на ВолхОБСтройке находился недалеко от наплавного моста. В два ряда стояли там палатки, на которых висели большие и маленькие, красивые и безобразные вывески самого разного содержания. Трудно было себе представить, сколько капитализма собралось здесь, на одном маленьком куске волховского берега!
еВ. А. Поповкпн — колониальные товары».
«Всевозможные закуски у братьев Зайцевых».
«Лучшие английские и лодзинскпе сукна — Шерстобитов н «Бакалея Григория Первенцева». «А. Парамацкин — москательные товары».
«Ешь шашлык из маладая барашка! — у Гоцеридзе!»
«Самая модная мужская одежда лучшн.х портных! — Арк. Попов»
И В ЭТОЙ пестрой россыпи KamiTaviiiCTHMecKnx фамилий маленькими, но солидными и надежными островками: «ГОСТОРГ», «ТРЕСТ ГОСОДЕЖДА»
Конечно, только в нашем советском тресте следует сознательному комсомольцу и закаленному пролетарию, почти слесарю, покупать себе толстовку Антон робко, с какой-то надеждой прошел в крошечный магазин. Вот так и должно быть в их государственной торговле! Лежат на полках аккуратно сложенные, наверно, неимоверно красивые толстовки и брюки На плечиках висят пиджаки в большую такую клетку, застегнутые на все пуговицы, узеиькие, в талию — ну как девчачье платье какое И брюки к ним дудочкой, самые модные, такие носят только инженеры, когда в клубе бывают танцы. Народу в магазине — никого. За прилавком стоит приказчик и, хотя он не простой, а красный приказчик, но красного-то в нем маловато, на Антона только глазом повел и с места не стро-нулей
— Мне требуется толстовка, ну такая, чтобы недорого — сказал как можно солиднее Антон.
— Толстовок, молодой человек, нет для вас, — ровным и скучным голосом ответил ему красный приказчик. — Обратитесь рядом к Попову
Да, доверили пост красного приказчика какому-то обормоту, спелся, верно, с этим «Арк. Поповым»!.. Но на сердце у Антона немного отлегло — ну, хотел ведь, хотел купить в госторговле, ну виноват он, что ли, что держат здесь таких типов, как этот мордастенький!
И он пошел к ненавистному нэпману с омерзительным и
странным нменем — «Арк.» Да, этот тип знал свое дело! Он не посмотрел, что покупатель одет в лоснящиеся штаны из чертовой кожи и выцветшую косоворотку. Он кинулся к Анто-как к лучшему своему другу, обнял за плечп п не переставал говорить:
— Прошу вас, прошу, молодой человек, вы сейчас будете
одеты в самом лучшем виде — дешево, красиво, на все сезоны, лучший покрой. Товар доставляется прямо из Лодзи и Москвы, сейчас смеряем объем талин, плечи, вот костюмчик на весну, лето, осень, иму, СНОС]. ему г:е будет, пожалуйста, цветик вам к лицу, от барышень отбоя не будет
Антон с трудом перебил этот нескончаемый, облипающий и обволакивающий поток слов. Арк. Попов не стал гордым, узнав, что Антону требуется всего-навсего одна толстовка.
— Есть огромный выбор тол- сговок, бдате выглядеть как ответственный работник, с такой толстовкой обеспечена успешная карьера, внушает доверие, сразу видно, что не шарлатан какой, а одевается в солидной фирме
Но самая дешевая толстовка в этой солидной фирме стоила дикие деньги — семнадцать рублей!.. Антон несколько раз делал вид, что ему не по душе цвет и пояс на толстовке, он вежливо поворачивался и уходил. Но у самой двери его в два прыжка догонял Арк.
Попов и понимающе шептал на ухо:
— Не подрывайте только коммерции и никому не говорите! Только для вас и по большому секрету — шестнадцать рублей! С vc-ловием соблюдения коммерческой тайны, только по чистой симпатии
Симпатии Apiv. Попова кончились на пятнадцатл рублях. Узнав, что Антон , по-прежней1у продолжают не нравиться ни покрой, ИИ пояс, он перестал его обнимать и рассказывать страстным шепотом про коммерческую тайну.
— Все, молодой человек!.. Разоряться не в состоянии Одного налогу плачу стотько, что работаю себе в убыток. Только скажу вам как брату: купите Б другом месте — расползется товар через две недели. Вот так-с
Антон остановичся в дверях. В руке он сжимал туго сложенные, ставшие мокрыми тринадцать рублей. В голове его роились самые разные планы: конечно, у Пашки денег куры не клюют, и ему ничего не стоило бы одолжить до получки два рубля, но пусть он лучше лопнет, жадина, — никогда к нему Антон не пойдет; MOHvHO още к монтажнице Клаве Поповой обратиться, она
простая и добрая дивчина, но не дай бог она проговорится еще Лизе Сычуговой, что у Антона денег на толстовку не хватило
Тут Антона потянули за руку. Он обернулся. Цыганистого вида мужчина в картузе с ослепительным лаковым козырьком тянул его к выходу и понимающе моргал ему черным неискренним глазом
— Минуточку! Одну минуточку, молодой человек, выйдем на одну минуточку Тебе что, толстовка нужна? Пойдем, тут рядом. Таких толстовок ты и не видел — товар первый сорт! Тебе за сколько нужно-то?
— За тринадцать — механически ответил ему Антон.
— Ну, за такие деньги ты у меня получишь такую, что в госодежде и тридцать отвалишь! Ну, не будь дурнем, айда за мной!
Антон пошел за чернявым. За палатками кишело людьми. На деревянных лотках лежал склнзлый студень, деревянный банный ушат был полон желтыми, сморщенными пирожками. Какой-то дядя с осанистой, ровненько подстриженной бородой торговал длинными конфетами, завернутыми в цветастые полоски бумаги, и сахарными коньками на деревянных палочках. Китаец в синем халате с длинной черной косой протискивался сквозь толпу. Он был обвешан радужной пестротой бумажных фонарей, ветряных мельниц, шаров, корабликов, сделанных из цветной бумаги. Под ногами вертелись черные как черти беспризорные в ватных лохмотьях.
Антон механически протискивался вслед за цыганистым человеком. Они дошли до какой-то палатки, завернули за угол. Чернявый оглянулся и стукнул три раза в дощатую стенку палатки. Дверь палатки отворилась, оттуда высунулся человек, осмотрелся. Чернявый подошел к нему и что-то шепнул. Тот скрылся и вскоре вышел. Широкий его пиджак оттопыривался; не глядя, он быстро пошел вперед, чернявый и Антон двинулись за ним. Внезапно он остановился, повернулся к Антону, достал из-за пазухи сверток, развернул его, встряхнул, и перед Антоном оказалась толстовка. Темно-серая, солидная, с
четырьмя карманами и поясом на хлястиках — такая точно, о какой много времени мечтал Антон.
— Ну как, годится?
Антон только смог кивнуть. Левой рукой — в правой у него были зажаты деньги — он с деловым видом пощупал материю: она солидно кололась, толстая, сделанная, видно, на совесть-
— Давай деньги, коль не шутишь!
Антон, не выпуская край толстовки, протянул разжатую правую руку. Чернявый мгновенно смахнул деньги и быстро их пересчитал.
Фью-ю-ю-ю Пронзительный свисток где-то неподалеку зазвенел в ушах. Мимо Антона пролетел парень с криком:
— Облава!!! Тикай взад, менты!!
Антон вцепился в свою толстовку двумя руками. Продавец и чернявый бросились наутек. Антон прислонился к какой-то стенке и стоял, пропуская мимо себя бегущих торговцев мелким товаром, беспризорных, каких-то молодиц в цветных развевающихся юбках, парня, обвешанного гирляндами розовых сушек, как матрос пулеметными лентами
— Кто такой? Что продаешь? Где взял?
Перед Антоном стоял человек, которого он иногда издалека и с почтительным любопытством рассматривал. Серый плащ, фуражка с синим верхом и малиновым околышем — агент ГПУ на Волховстройке За гепеушником стояли милиционеры.
Вот он предсказанный когда-то фунт лиха! И не фунт, а потяжелее пуда!.. Антон мгновенно представил себе свое близкое, вот уже наступившее страшное будущее: связь с нэпманами, которые уголовники Допрос, обвинение в предательстве комсомола: «Нет, ты из этой шайки, скажи, как ты пробрался в пролетариат?! Отвечай!..»
— Ку-купил Толстовку купил За тринадцать рублей Я я хотел в госторговле, но там нету, а у Арк. Попова семнадцать, а у меня только тринадцать, дяденька тут мне предложил
— Фамилия? Где работаешь?
— Антон Перегудов я В слесарной мастерской Ученик
— Документ какой есть?
— Нету у меня с собой ничего Ну какой тут документ?
— Покажи руки!
Ничего не понимая, Антон протянул вперед почему-то сразу побелевшие руки. Агент ГПУ посмотрел на слегка дрожавшие Антоновы ладони — серые от въевшихся, пеотмывающихся стальных опилок, с горбами мозолей
Внезапно агент ГПУ вскинул правую свою руку к фуражке:
— Можете идти!
Чувствуя спиной глаза милиционеров, Антон тихонько вышел на опустевшую уличку между ларьками. Он почувствовал, что задыхается от нахлынувшей жары, сразу стал мокрым от пота. И толстовка перестала казаться Антону красивой и желанной, она глупо висела у него на руке. «Еще подумают, что продаю!» — мелькнуло в голове Антона.
По опустевшей толкучке он вышел к Волховскому проспекту, к общежитию. В комнате все кровати были пусты — воскресенье, разбежались ребята кто куда, — только у кровати Пашки Коренева сидели неожиданные гости: Гриша Варенцов да Миша Дайлер. Они вели какой-то, очевидно затянувшийся, спор и обрадовались приходу Антон?
«КОММУНА МОЗОЛИСТОЕ»
— Давай, давай, Антон, сюда. — Варенцов подвинулся, уступая ему кусок Пашкиной кровати. — Мы тут с Павлом спорим, никак не можем дотолковаться. Михаил агитирует комсомольцев устроить комсомольскую коммуну. Понимаешь, собрать ребят, вместе поселиться, чтобы все было общее! А то что получается: у одного две пары ботинок, у другого одна порванная. Отдашь починить, надеть нечего! А тут — взял спокойно у того, кому сейчас не нужно. Опять же: сдал деньги в общую кассу и знаешь — будет у тебя утром пошамать
и на ужин А вот Паша Коренев говорит, что не пойдут на это те, у кого по две пары ботинок. Видишь ли, собственники такие, что и не прошчбешь А ты, Антон, пошел бы в такую комсомольскую коммуну?
— Он пойдет! — немедленно и нахально ответил за Антона Пашка Коренев. — Он пойдет, чего ему не пойти в ком-м>ну — у него, кроме двух рубах, п нету ничего! А был бы у него пиджак или толстовка, то подумал бы: для чего мне в коммуну — у меня есть что надеть!.
— Вот она, толстовка — Антон вынул из-за спины руку с висевшей на ней толстовкой и аккуратно повесил обновку на железную спинку кровати. — Новая. Только что купил. И .хоть сейчас сдам ее в коммуну Кому надобно в кино идти или еще куда, пожалуйста! Что я, нэпман какой? Я комсомолец!
— Ну, с толстовкой или с другой одеждой дело проще, — вмешался в разговор Миша Даплер. — Тут главная заковыка в другом. Может все-таки статься, что выйдет такое постановление, чтобы перевести учеников на сдельщпну. Ты, Антон, свои двадцать два выработаешь?
— Всегда выработаю! Да и пробу мне скоро сдавать, разряд получу. Не меньше третьего!
— Ну. а Петька Чичигов выработает ставку?
— Не! Петьке Косому больше двенадцати не вытянуть! Плохо у него идет, руки какие-то несподручные
— Так согласишься ты вступить в коммуну, если Петька будет вносить в коммуну двенадцать рублей, а ты двадцать два, а то и все тридцать? Ведь в коммуне все будет поровну!
— Ну, а как же, раз я комсомолец!
— А ты, Мишка? Ты-то в коммуну вступишь или только за нее агитируешь?
Вопрос Паши Коренева был серьезным. На Волховстроику Дайлер приехал не просто, а с направлением какого-то очень ответственного учреждения как специалист по монтажу щита. Таких, как Миша, которые колдовали над дикой путаницей разноцветных проводов и лампочек, было всего-то пять или семь человек. И получал Миша Дайлер неслыханные деньги:
больше ста рублей! И хотя Миша был настоящим комсомольцем, никогда не жался, всем одалживал и никогда долгов не спрашивал, но есть же разница: быть ли добрым при больших рублях или же все отдать и быть в коммуне на таких же правах, как Петька Чичигов!..
Дайлер расхохотался, а Варенцов внимательно посмотрел на Пашу.
— Ха-а-а-рошего же ты, Коренев, мнения о своем товарище! Коммуна — это предложение Михаила! Он первый за нее агитирует, первый собирается в нее вступить Я еще сам не знаю, что из этого получится, а Михаил все уговаривает: давайте да давайте сколачивать комсомольскую коммуну. Туда, Павел, силком никого не тянут! Хочешь жить один — вот тебе твоя койка в общежитии, вот твой сундук под койкой, пожалуйста, комсомольский устав этому не препятствует! А ты, Антон, значит, согласен на коммуну?
— Ага! Вполне согласен! И давайте, давайте назовем ее — Вдруг Антон вспомнил сегодняшнее утро на толкучке, страх перед агентом ГПУ, вспомнил, как показал он ему свои руки II как этот строгий, неулыбающийся человек вскинул руку и отдал честь его мозолям, как поверил им больше, чем документу. — И давайте мы назовем нашу коммуну «Коммуна мозолистов»!
— Чего-чего? Это почему же так — мозолистов? — переспросил его Варенцов.
Но Миша Дайлер сразу же понял Антона
— Ох, Горемыка, правильно придумал! Мы в коммуну принимаем только тех, кто работает на общее дело, у кого руки в мозолях, кто не отлынивает от труда Даешь «Коммуну мозолистов»!!
— Даешь!
И все завертелось
Нет, не так уж было просто и ничего нельзя было решить трехчасовым криком на бюро ячейки. Там только утвердили идею Миши Дайлера и выделили организационную тройку по созданию комсомольской бытовой коммуны. В тройку вошли
авторитетнейшие комсомольцы: Миша Дайлер, Петр Столбов А третьим, третьим в эту самую тройку вошел Антон Перегудов! И предложил его сам Гриша Варенцов. И все поддержали единогласно. Первый раз в жизни Антона Перегудова выбрали! Кто бы мог подумать, что так ужасно начавшийся воскресный день закончится так захватывающе славно!..
Первым и главным испытанием «тройки» было посещение Варгеса Ашотовича Атгрьянца. С тех пор как исчез со стройки «смотритель зданий» Налетов, полным и настоящим хозяином всех домов общежитий, столовых, даже школы и детского сада стал этот грузноватый человек, с сединой в иссиня-черных волосах, с дв>мя кустиками усов под огромным носом, с настоящим боевым орденом Красного Знамени на синей гимнастерке. Ходили ijpn него на стройке невероятные слухи: старый революционер, работал в подполье, вез пакет самому Ильичу, потом возвращался, попался белым, был расстрелян Да выбрался полуживой из ямы, где захоронили красных, полз через пустыню с перебитой ногой Сколько раз Варенцов его уговаривал на ячейке рассказать про гражданскую войну! Один раз уговорил, и Атарьянц на собрании комсомольцев делал доклад о Красной Армии. Народу набилось в клуб!.. А А.тарьянц полчаса покричал про империализм и А.н-танту, и никто ничего не мог понять из этих гортанных выкриков А когда после доклада Юра Кастрицын встал и сказал, что комсомольцы просят Варгеса Ашотовича рассказать, как он Ленину пакет вез, то Атарьянц на него покосился и сказал:
— Ва! Как это тэбе интэресно про всякие приключения слушать! Па-а-чему иэ спрашиваешь про подвиги Красной Армии, пачему тэбе только иро приключения? Письмо может доставить любой человэк, если у него в галавэ не шурум-бурум, а мозги А. победить могла только наша нэпобедимая Красная Армия, вот!..
И еще Атарьянц был известен тем, что, выслушав любую просьбу, он первым делом говорил «нэт», а уж потом доставал ;i3 кармана гимнастерки толстый красный карандаш и записывал, о чем его просят. И все делал. С тех пор как на строй-
ке появился Атарьянц, уборщицы стали подметать все общежития, в каждом бараке забулькал шведский кипятильник, в столовых начали подавать суп в настоящих фарфоровых тарелках, а дрова еще с весны укладывались в поленницы за каждым домом. Но с чем Атарьянц не мог справиться — это с голоде на жилье. На стройке уже работало больще пятнадцати тысяч человек. Многие были семейные, и, когда начинали строить новый бревенчатый дом, вокруг него уже ходили и жадно поглядывали десятки кандидатов.
И надо ли удивляться, что, когда трое комсомольцев при-щли в кабинет к Атарьянцу и рассказали ему, что хотят организовать коммуну, Варгес Ащотович сразу же налился кровью, выкатил глаза и, задыхаясь, прокричал:
— Нэ-э-т!
И тотчас вытащил красный карандащ и еще раз на бумажке крупно написал: «Нет!»
Антон от страха даже отсел подальше. Но Столбов и Даи-лер, видно, хорошо зпалп, с кем они имеют цело. Петя Стол-
бов пододвинулся поб.пиже ц умиротворенно, доверчивым, тихим голосом сказал:
— Ну, Варгес Ашотович, цвет нашей комсомолии будет жить в коммуне!.. Первая и единственная на стройке комсомольская коммуна! Московская «Правда» про иее писать Гудет! Слава про вас, товарищ Атарьянц, пойдет онаете какая? О!
— Пойдет, пойдет пo мэне слава! В глаза людям глядеть стыдно будет! Семэйные люди с дэтышками по углам живут, а я, старый дурак, уши развесил и маладым рэбятам целый дом отдал! Нэ-э-т! Кагда я был маладой, на бульваре на ска-мэйке жил! Ва! Что маладому надо?
— Молодому учиться надо, Варгес Ашотович — вступил в разговор Миша Дайлер. — Ему нужно место, где заниматься, книги читать, с товарищами разговаривать А самое главное — будут в нашей коммуне ра;-ные ребята, с разными заработками, характерами, они ко-1муни^му блдут учиться. И потом — уйдут они из общежитий, освободятся места. Мы же не просим что-то немыслимое
— Рэбята, — вдруг спокойно и серьезно сказал Атарьянц, — я же знаю, что вы думаете про новый дом, что кончают строить около конторы. Так вот: туда посэлются семэйные рабочие. С малэнкичи деткагш. Нэл1 зя, товарищ Дайлер, учиться коммунизму за счет других! Понял? Нэ коммунизму так научишься, а тьфу — просто свинству! Ва! Дом, что около кирпичного завода, знаете?
— Так это же не дом, а халупа Нежилая вовсе!
— Нэ халупа-малупа, а дом! Чэтыре стэны есть? Есть! Крыша есть? Есть! Пол есть? Есть! Чзго надо? Рэмонт надо. Вот сам рэмонтировать будэтэ. Дам доски, гвозди, желэзо дам, самые лучшие, самые вэселые краски дам! Сам с вами поработаю — пачему нэ помочь маладым товарищам! И у вас будэт: двэ балшие комнаты, и еще кухня балшая, и еще кари-дорчик балшой Палысадник сдэлаем, цвэты, стол паставим, скамэйки, чай пить будэм, харашо. Ва!
— Далековато На самой на окраине
— Aft-вай, как страшно! Чэго боитесь? Пэсни будэтэ пэть — ныкому мэшать спать нэ будэтэ Ва, как хорошо!
— Ладно, ребята, — закончил дискуссию Даплер. — Спорить тут не о чем, и прав товарищ Атарьянц, и на готовенькое стыдно лезть. Навалимся на эту «халупу-малупу» всей ячейкой
Когда выходили из кабинета Атарьянца, Петя Столбов вдруг расхохотался.
— Ты чего? — удивленно спросил Дайлер.
— Ну, будем жить как в песне: «На окраине, где-то в городе, где кирпич образует проход »
— «Было трудно нам время первое, — подхватил песню Миша. — А потом, поработавши год, за веселый гул, за кирпичики полюбили мы этот завод »
Прохожие с удивлением оглядывались на трех ребят, с песней выходивших из канцелярии Варгеса Атарьянца
Слова песни о том, что «Было трудно нам время первое», часто вспоминались члскаки первой комсомольской бытовой коммуны Волховстройки
Потому что легко было ремонтировать дом у кирпичного завода. Ремонтировали его дружно, весело, с песнями. Белые ночи были в самом разгаре, работать можно было допоздна, жалко было расходиться по домам. .Атарьянц, как обещал, давал на ремонт все самое лучшее, сам приходил работать, не побоялся со своим толстым животом и хромой ногой лезть на крышу красить ее И Пуговкин прибегал смотреть и командовать, и Графтио приходил и с молчаливым одобрением смотрел на веселую суетню Получился из полуразвалившейся «халупы-малупы» — как ее стали звать комсомольцы — веселый четырехоконный домик с железной крышей, выкрашенной зеленой краской, с ослепительно белыми наличниками. Сделали навес над крыльцом, и даже был вскопан и обнесен низким штакетником палисадник.
Да, с этим все было довольно просто. Совсем не просто
оказалось скомплектовать коммуну. Начать с того, что отпало предложение некоторых энтузиастов, чтобы все комсомольцы стали коммунарами. В «халупе-ыалупе» было всего-навсего две комнаты. И в нмх влезало десять, от силы двенадцать «ко-нодеек» — как странно назывались узкие железные кровати. Первые три члена коммуны — организацпонная тропка: Столбов, Дайлер и Антон. А заявлений от комсомольцев поступило несколько десятков. И надо было отбирать. Решали о членах коммуны на бюро ячейки.
Сразу же прикончили все заявления девчат.
— Что же я, каждый раз, чтобы на кухню пойти, штаны надевать буду? — спросил Петя Столбов.
И в дружном хохоте всех комсомольцев потонули крики девчат, что без них «халупа-малупа» за две недели превратится в гору- грязи Девчат отвергли. Всех ребят, живущих в семьях, вычеркнули. Долго разбирали заявления тех, кто жил в рабочих общежитиях. Никаких возражений не вызвал Юра Кастрицын. Да и странно было бы, чтобы первая комсо.\юль-ская коммуиа обошлась без веселого рыжеволосого парня — самого большого заводилы в ячейке! И к тому же единственного комсомольца — машиниста экскаватора Так же дружно включили в коммуну Сеню Соковнина — всеобщего любимца, парня честного и открытого. Взяли в коммуну одного из лучших мотодых рабочих столярки. Карпу Судакову с именем и фамилией не повезло еще больше, чем Антону.. Каждый остроумец-ft ячейке называл его по-разному — от Сига Корюш-кина до Воблы Стерлядкога Но был Карп парень свойский, только иногда зазнаваться любил. Стали коммунарами электротехник Володя Давыдов и каменщик Федя Стоянов.
Больше всех споров вызвало обсуждение двух, самых непохожих друг на друга ребят. То есть трудно было бы представить, чтобы в чем-нибудь сходились Амурхан Асланбеков и Павел Коренев! Как занесло Амурхана из далекой Осетии на Волховскую стройку, никто не знал. Приехал он уже комсомольцем, был горяч до того, что Юрка серьезным и очень убеждающим голосом советовал Гришке Варенцову не под-
пускать Амурхана к динамитному складу: «Ну всмотрись, Гришка, от Амурхана же нскры летят, взлетишь вверх — этим н кончится!» Спорили ли о том, когда был Третий съезд партии, или о том, нужно ли брать девчат в Красную Армию, — лицо Амурхана принимало зверское выражение, а рука — по утверждению Юры — хваталась за кинжал! Но кинжала у Асланбекова не было, зверское выражение лица пугало только тех, кто его не знал. Потому что Амурхан был парнем невероятной доброты и правдцрым до крайности. И если бы не его вспыльчивость, трудно представить лучшего товарища в комсомольской коммуне. Тихому и застенчивому Антону Амурхан нравился необыкновенно. И был он обрадован, что станет с ним жить рядом, может, почти в одной комнате
А вот, что Пашка Коренев станет членом комсомольской коммуны, — вот этого Антон никогда не ожидал! Ведь Пашка был во всем обш,ежитин самый что ни на есть собственник! Во всем бараке его сундучок был единственным с замком. Большим висячим замком! Хотя — все обш,ежитие знало это! — ничего в этом сундучке, кроме тряпок, не было Паша был еще учеником и работал па окладе, а у Куканыча больше всего расспрашивал, как будет работаться на сдельщине, сколько какая работа стоит И вот этот Паша, у которого зимой куска льда-то не допросишься, взял да и подал заявление в коммуну!
Но самое удивительное было, что Гриша Варенцов, который всех ребят насквозь знал, поддержал Пашку. И выступил против Антона. Чуть ли не впервые тихий, всегда заливающийся краской Антон выступил на бюро против Павла Коренева. Когда Варенцов зачитал заявление Коренева и спросил, кто что сказать о нем хочет, Антон протиснулся к столу и, задыхаясь, сказал:
— Как же так получается? Пашка был первый против коммуны, а сейчас заявление подал! А зачем? Верно, посчитал, посчитал да решил, что ему это выгодно А для чего нам те. которые из выгоды? А Пашка — он только и делает что считает. Разве коммунары такие бывают?
— Правду говорит Горемыка! — закричали ребята, — Пашка, он точно все подсчитал!
И тут Гриша Баренцев всех и удпвил. Он — самый бескорыстный парень в ячейке, всегда готовый рубашку с себя снять и отдать, — он вдруг сказал:
— Ну и правильно Павел сделал, что подсчитал. И что он вступает в коммуну — хорошо. Значит, коммуна наша выгодна! А для чего устраивать коммуну, если она невыгодна, если от нее нет никакой пользы? Ведь весь смысл коммуны в том, что она всем выгодна, всем своим членам приносит пользу. Чего ради бы мы ее устраивали, если бы от нее вред был Значит, нач не надобно Пашку ругать за то, что он идет в коммуну, подсчитав ее пользу. Ну, я понимаю, что Павел парень не общественный. И крепко в нем сидит его крестьянство: все в свой дом, все, что только выгодно ему. Некрасиво это у него получается Только вот что, ребята, у нас коммуна из одних ангелов коммунистических будет, что ли? Мы же ее и делаем для воспитания, чтобы в ней ребята жили вместе по-коммунистически, набирались коммунистического духа Ну тогда Пашку надо принимать в коммуну первым! Уж ему-то коммунистического духа ох как не хватает! Давайте, давайте примем Павла, парень он толковый, руки золотые, голова тоже на месте, шарики в ней крутятся. Предлагаю, словом, Павла Коренева принять в комсомольскую бытовую коммуну. Кто «за»?
Приняли Пашку А через какое-то короткое время начал Антон думать, что был он неправ насчет Коренева.
«ХАЛУПА-МАЛУПА»
Получив в свое распоряжение настоящий целый дом, всей ячейкой называемый «халупой-малупой», коммунары обживали его со страстью и небывалой энергией. И первым из них был Пашка Коренев. Это он придумывал разные полочки и шкафчики это по его предложению в палисаднике поставили стол и вкопали вокруг него скамейки — «чтобы приходящие
ребята сидели в палисаднике, а не впирались с грязными.ногами в комнаты», как он объяснил Паша не поленился привезти несколько тачек битого кирпича с кирпичного завода и устроить вокруг дорожки, которым не была страшна непролазная грязь после затяжных дождей. Словом, Павел оказался справным и активным коммунаром. И его даже избрали в совет коммуны вместе с Петей Столбовым, который стал председателем коммуны, вместе с Мишей Дайлером. Сам Ан тон на собрании коммунаров больше всех распинался за Юр ку Кастрицына. Но Юрка, хитро посмотрев на Дайлера, ска зал, что ему по сердцу в коммуне другое дело. И прибавил что пусть управляют другие, а он с Горемыкой устроит такое что совет коммуны будет дрожать перед ними, тем более они уже всё отдали и терять им нечего! Конечно, кроме собствен ных цепей, как это уже указали Карл Маркс и Фридрих Эн гельс
Как скоро выяснилось, совет мог и не дрожать, потому что он никогда не собирался, не заседал и все вопросы решались на собрании коммуны с участием комсомольцев и комсомолок, которые никакого отношения к «халупе-малупе» не имели, кроме того, что торчали в ней все время, свободное от работы, заседаний и сна.
Впрочем, нельзя было понять, когда спали комсомольцы в эти теплые белые ночи. Клуб закрывался рано. После десяти вечера, под напором уборщицы и сторожа, из ячейки уходили наиболее упорные комсомольцы. Где же находятся ребята, можно было догадаться лишь по песням. На обрыве, возле бывшей инструменталки, тоненькие девчачьи голоса, поддержанные басом Саши Точилина, рассказывали жалобную историю о том, как казак «кохав, кохав дивчинэньку, кохав, тай не взяв ». «Ой, жаль жаль!» — возмущался хор такой непорядочностью По Волховскому проспекту всегда шли в ногу и пели новую, полюбившуюся песню:
В гавани, далекой гаванн,
Пары подняли боевые корабли!..
Но, как правильно предсказал умный Варгес Ашотовпч Ата-рьянц, песенным центром стала «халупа-малупа». Почти до самого утра там звучали песни, и не было ни одного вечера, когда бы под гармошку Ромки Липатова не распевали исто-р;1Ю про любовь Сеньки на кирпичном заводе. Больше всех от этой песни страдал коммунар Сеня Соковнин, которого все девчата просто изводили этой песней и требованием, чтобы он им объяснил, кого же из них он полюбил Вот так пели, пока коммунары один за другим не скрывались в дверях «халупы-малупы», пока не высовывалась пз раскрытого окна рыжая голова Юры Кастрипына и не раздавался его зычный крик:
«Словесной не место кляузе! Геть витсиля, черти полосатые! Уже на работу скоро!..»
Цветы в палисаднике так и не развели, клумб перед крыльцом так и не разбили. Вместо клумб и газонов перед «халу-пой-малупой» ребята утанцевалв площадку до состояния гранита. Даже сильный летний дождь ничего не мог сделать с этой плотной, утоптанной молодыми ногами землей. Площадка эта скоро стала местом страстной дискуссии и борьбы с «танцевальным уклоном».
Надо сказать, что «уклонов» тогда было чрезвычайно много. Был «ученический уклон», когда спорили о том, надобно ли комсомольцу ходить в школу учиться или же ему лучше работать на социалистической стройке и уже, между прочим, усваивать никому не нужные сведения о ведрах воды, перекачиваемой из бассейна в бассейн, и о персидском царе Кире Был «галстучный уклон»: находились ребята, убежденные, что комсомолец, носящий галстук, отсекает себя от пролетариата и переходит на какие-то скользкие и сомнительные рельсы, которые, как хорошо известно, до добра довести не могут
И был «уклон танцевальный» — тот самый, спор о котором разбушевался под окнами комсомольской коммуны. Сначала ребята и не подозревали, как легко можно впасть в опаснейший «уклон». Когд.ч теплым и сухим вечером являлся Роман Липатов с гармонью, всегда начинали танцевать. Танцевали старые, вполне идеологически выдержанные польку, па-
д€спань и, конечно, несколько уклончивый, но обаятельный вальс. Никому в голову не приходило танцевать буржуазные фокстроты и танго, про которые они читали фельетоны в газетах. Мало ли до чего могла дойти разлагающаяся н загнивающая буржуазия?! Ходили слухи, что есть даже какой-то уж совершенно непристойный и из ряда вон выходящий танец чарльстон. Но это у?ке и вовсе было личным делом мировой буржуаз1П1. Никто и не подозревал о близком родстве с этими страшными и подозрительными выдумками империализма той самой «цыганочки», которую самозабвенно отплясывала Ксения Кузнецова с Мишей Дгйлером
Но однажды у «халупы-малупы» появился, приведенный самим Омулевым, немолодой уже мужчина лет этак за двадцать пять, представленный председателем рабочколга как «инструктор по общественно-массовой работе культсектора губернского комитета профсоюза электриков». Инструктор с нетерпением проводил глазами ушедшего Степаныча, подождал еще пять минут и после этого железным голосом предложил всем бросить свои самостийные и неорганизованные занятия, подойти к нему поближе и послушать, что он о них и их действиях думает. После получасового доклада инструктора стало ясно, что «цыганочка» «по своим ритмам и направленности мотивации» непосредственно примыкает к фокстроту, чарльстону и другим штукам, придуманным буржуазией для отвлечения пролетариата от классовой борьбы.
— Мы против фокстрота, «цыганочки», против танцев, несущих разврат и нездоровые инстинкты! — кричал инструктор, размахивая руками.
Выяснилось, кстати, что мирные дедушкино-бабушкины полька, падеспань и падекатр являются злостными пережитками позднего феодализма и раннего капитализма. И вальс, такой милый и пленительный вальс, в общем, ничем от них не отличался в своей глубоко-зловредной сущности Вместо этих вредностей и пережитков инструктор по общественно-массовой работе предлагал nepefiTH на наши, пролетарские танцы, которые не только не вредны, но, напротив, вдохновляют про-
летарнат на созидательную деятельность, вселяют бодрость, «приводя конституциональный скелетно-мышечный аппарат в состояние подвижности»
Главные положения доклада были немедленно подхвачены и поддержаны темп, кто танцевать не умел: Степой Морковкиным, Карпом Судаковым, Федей Стояновым Они немедленно обвпннлн танцующих, и прежде всего Петю Столбов а и Мишу Да?1лера, в «танцевальном уклоне» и почти сознательном отвлечении пролетарской молодежи от главнейших задач момента Крик у «халупы-малупы» стоял такой, что пришел Атарьянц, послушал, о чем кричат, так ничего не понял, сплюнул и сказал:
— Ба! Нэужели, кагда я был маладой, был такой же ишак? О чем кричите? Вот уж правду у нас гаварят, что лучше с умным камни таскать, чем с дураком пировать!.. Пачему плохо танцевать?! У нас на Кавказе гаварят, что ум бывает в голове, руках и ногах! Танцуй, пажалуйста! А нэ катите — слушайте этого ишака!..
И ушел А крик продолжался. Впрочем, докладчик, оказывается, вовсе не был узким теоретиком. Он обещал на следующий же день обучить пролетарскую молодежь пролетарским танцам.
На следующий день все с нетерпением ожидали прихода инструктора. Юра Кастрицын взгромоздился на скамейку в палисаднике и важно сказал:
— Как общественный заместитель инструктора по общественно-массовой работе предлагаю вам привести свой скелетно-мышечный аппарат в конституциональную готовность Сейчас под идейным руководством Степана Тимофеевича Морковкина и при непосредственном участии Карпа Ершеви-ча Судакова по-польски вы будете заряжаться бодростью духа
Но тут все перестали слушать Юрпн треп, потому что к «ха-лупе-ыалупе» подошел сам инструктор. И не один. С ним был еще один человек, который нес в руке футляр невиданной формы с блестящими замками. Он осторожно раскрыл фут-
ляр и вынул невиданную, ослепительной красоты гармонь. У Романа, при всей его выдержке, механически открылся рот Гармонист перекниул на плечо ремень и лениво пробежался по бесчисленному скоплению перламутровых кнопок. Певучий, многоголосый, отдаленно знакомый мотив выскользнул из глубины инструмента. Инструктор действовал загадочно. Он положил на скамейку кусок железа, затем достал из кармана два самых обыкновенных слесарных молотка. Даже самые иронически настроенные ребята затаив дыхание смотрели на проповедника пролетарских танцев.
А проповедник предложил всем танцующим, «не подразделяясь на полы», стать двумя шеренгами друг против друга. Ибо будет исполняться «танец машин». Инструктор долго и занудно объяснял, какие ДЕИженпя следует делать, чтобы было похоже на работу станка. Когда он будет стучать молотками, то все участники пролетарского танца должны стучать ладонями по ладоням товарища, стоящего напротив После долгих объяснений гармонист заиграл «Мы кузнецы». Ребята стали изображать станки Инструктор время от времени стучал молотками по куску железа, и все начинали с ожесточением хлопать по ладоням товарищей.
Юра Кастрицын первый вышел из шеренги и, отдуваясь, сел на скамейку. Сразу же рядом с ним сел Дайлер.
— Миша! — не глядя на Дайлера спросил Кастрицын. — Тебе нравится «не подразделяться на полы»? Насколько я понимаю, из твоих частых наездов в подшефную деревню, ты все же признаешь деление полов В частности, в танцах. А я не хочу танцевать как машина! И пусть Степа меня изобличает в кошмарах оппортунизма и ревизионизма, но я люблю смотреть, как ты с Ксенькоп откалываешь «цыганочку» И чего ребята там мурыжатся?..
Но ребятам от «машинного» танца стало непроходимо скучно. На скамейку к Юре и Мише подсела Ксения Кузнецова и авторитетно подвела итог:
— Занудство!
И на этом, собственно, кончилась дискуссия о «танце-
вальном уклоне», и инструктор так же незаметно исчез, как и появился.
Новые ветры, штормы и ураганы проносились над комсомольской «халупой-малупсй». Будущим ее историкам можно было бы узнать немного о ее жизни, если бы им удалось найти измазанные краской и чернилами листы, что время от времени появлялись в коридорчике «Общежития JYe 13», как значилась в бумагах Атарьянца комсомольская бытовая коммуна.
«комсоглаз»
На другой день после выборов совета коммуны Юра Каст-рицын подошел к Антону и сказал:
— Горемыка! Есть секретный деловой и ответственный разговор! Как ты думаешь: надо нам бороться с пережитками собственничества у членов коммуны, с бюрократизмом нашего совета, а?
— Надо! — солидно согласился Антон, простив Юре свое прозвище.
— Правильно. А как бороться? С помощью такого острейшего оружия, как печать! Давай с тобой выпускать стенную газету, и там мы покажем всем этим феодалам, технократам и бюрократам силу общественного мнения!
— И, Юрка, назовем нашу газету «Комсоглаз»!
— Силен ты, Горемыка, на названия! Ну что ж, название вполне подходящее!..
Стенная газета комсомольской ячейки Волховстроя с боевым названием «Даешь ленинскую стройку!» тоже выходила при самом активном участии Юры. Но та газета была солидной и красивой. Статьи переписывались на пишущей машинке, которую для этого притаскивали из конторы. Юрка навострился стучать на ней почти так же быстро, как «мадам фря» — гак неприязненно называли ребята машинистку Аглаю Петровну. Газета была обильно украшена рисунками, которые Юра вырезал из «Крокодила», «Бегемота», «Смехача», «Красного перца», «Прожектора» и еще других журналов. Да он сам рисовал карикатуры почти не хуже тех — лсурнальных
«Комсоглаз» ничем не напоминал эту огромную цветную простыню. Писался он от рукп на разноформатных листках бумаги, выдранных из общей тетради, или же на обороте афиш, которые Юра утаскивал из клуба. Вместо красочного заголовка небрежная надпись наверху утверждала, что это действительно «Комсоглаз», в подтверукдение чего в правом углу читателю подмаргивал хитрый, прищуренный глаз. Никаких сроков выхода не было. Иногда «Комсоглаз» не выходил по нескольку недель, иногда же — в периоды острых внутрикоммун-ных событий - — выпускался чуть ли не ежедневно. Постоянными п главными авторамп были члены редколлегии Юра и Антон. Впрочем, задетые читатели нередко выступали с язвительными ответами.
«Комсоглаз» пользовался успехом не только у жителей «халупы-малупы». Ребята и девчата из ячейки, приходя в коммуну, немедленно бежали в коридорчик посмотреть, висит ли свежая газета. М Гриша Вареицов, приходя к ребятам, спрашивал:
— Ну, что сегодня новенького в вашей подпольной газетенке?
Потому что "действительно в каждом номере «Комсоглаза» можно было узнать, чем жили, интересовались, над чем смеялись комсомольцы на Волховстронке.
«Еще раз про деревенских уклонистов!»
В то время как весь сознательный молодой пролетариат напрягает свои силы на досрочный пуск станции, а некоторые (как тов. П. И. Столбов) даже не хотят тратить время на то, чтобы снимать боТинки, ложась отдыхать, другие малосознательные товарищи, бросая ответственный монтаж, устремляются в подшефную деревню и там в Близких Холмах ведут массово-агитационную работу среди некоторой части деревенской молодежи. Сколько будет длиться этот деревенский уклон
у отдельных представителей монтажа щкта? Не пора ли осадить зарвавшихся уклонистов? Товарищ Варенцов, ау, 0ТКЛ11К-инсь!
«Вызов!»
Вношу на строительство самолета «Рабочий Волховстроя» один рубль и вызываю товарищей Михаила Куканова, Михаила Дайлера, Павла Коренева, Амурхана Асланбекова, Семена Соковнина, Карпа Слдакова.
Член комсонольскоп коммуны Петр Столбов.
«Отвечаем на вызов!»
Отвечая на вызов товарища Столбова, вносим на самолет «Рабочий Волховстроя»:
Михаил Дайлер — 3 рубля.
Семен Соковнин — 1 рубль.
Карп Судаков — 1 рубль 50 коп.
Амурхан Асланбеков — 2 рубля.
«Вызываем!»
Вносим на самолет «Рабочий Волховстроя»:
Антон Перегчдов — 1 рубль.
Юрий Кастрицын — 2 рубля.
Владимир Давыдов — 1 рубль и вызываем последовать нашему примеру тов. Павла Коренева.
«Отвечаем на вызов!»
Отвечая на вызов, вношу на строительство самолета «Волховский рабочий» — 50 коп.
П. Коренев.
«Новости арехеологии»
В комнате номер два, возле постели, что у стены, с помощью экскаваторов «Марион» ведутся археологические раскопки. Под мощным слоем грязи ученые обнаружили скопление
странных предметов, изготовленных из ниток, с одним большим отверстием в одном конце и многими разными отверстиям» в другом. По предположению крупнейших палеонтологов и археологов эти предметы когда-то назывались носками и должны были надеваться па ноги. Дальнейшие исследо-вапия продолжаются.
Наблюдатель
«Конкурс трепачей!»
В комсомольской коммуне состоится конкурс самых больших трепачей: Юрия Кастрицына и Антона Горемыки. Победитель получит большую медаль из картошки.
«Наблюдать за наблюдателями»
От редакции: предоставляя слово анонимному корреспонденту, редакция газеты «Комсоглаз» просит тов. В. Давыдова явиться в помещение редакции для получения своих носков, присланных из археологического музея. Во избежание гибели от испарений рекомендуем захватить и надеть противогаз.
«Долой мещанство!»
В нашей коммуне среди некоторых товарищей наблюдается сильнейшее тяготение к мещанскому уюту. У тов. Коренева появился коврик у кровати, тов. Соковнин неизвестно откуда и неизвестно от кого принес и поставил на окно какой-то мещанский цветок. А тов. Дайлер у своей кровати приколол картинку с барышней и цветочками! Куда могут завести нас эти проявления мещанства?! Может быть, еще и канарейку завести? Вот будет пример для всей рабочей молодежи, которая должна равняться на коммунаров!
Коммунар Ф. Стоянов.
«А я — за щегла!»
Ну и что плохого в птице? Пусть мелкие буржуи заводят себе канареек — это заграничная птица. А почему бы нам не
завести себе щегла — это очень хорошая наша птица и поет не хуже канарейки. И вообш.е — в птицах нет ничего плохого. И в цветах тоже. Вот мы вскопали палнсадиик, а в нем ничего не растет. А можно там посадить цветы и будет очень полезно — от цветов идет кислород. А товариш, Федя Стоянов пусть последит за собой — никогда он не вытирает ноги. Позор разгильдяям!
Коммунар С. Соковннн.
«Все на субботник!»
Товарищи! Через три дня на Волховстройку приезжает экскурсия ленинградских комсомольцев. Примем достойно наших питерских товарищей! Объявляется завтра субботник. После работы все мобилизуются на уборку. Отстающие и отлынивающие будут награждены рогожным знаменем! Все, как один, на субботник!
Совет коммуны.
«Что такое мещанство?»
С легкой руки некоторых товарищей у нас началась .могучая борьба с мещанством. Борцы с мещанством ложатся на постель в грязных сапогах: чистота — это мещанство! Они харкают на пол: гигиена — это мещанство! При девчатах выражаются так, что вянут ушп: велслпвость — мещанство! Курят в комнате, хотя некоторые не любят табачного дыма — ну и плевать на них, на мещан!
А в действительности мещане — это те, кто-думает только о себе и своих удобствах. Плюет на пол, потому что ему лень выйти из комнаты; ходит грязный — лень мыться, лень снимать сапоги И такому мещанину ничего не стоит отравить жизнь всем своим товарищам, лишь бы ему было удобно. Вот это и есть мещанство, которое является проявлением мелкобуржуазной идеологии.
«Долой склоку!»
Вот уже несколько дней, как теоретическая дискуссия о о том, что такое мещанство, переросла в самую обыкновенную склоку. Уважаемые товарищи Судаков и Стоянов, вступая в беспрннщшный блок с товарищами Кореневым и Давыдовым, борются с теми, кто выступает за чистоту и порядок. Мы хотим напомнить, что наша коммуна — это штука добровольная II мы никого не заставляем насильно в ней жить. А если живешь, выполняй правила коммуны! И пусть совет коммуны выйдет из своей спячки и займет правильную позищда в борьбе со склокой!
Редколлегия «Коысоглаза».
«Лучшего на рабфак!»
В счет брони губкома комсомола нашей коммуне выделено одно место в рабфак при Ленинградском политехническом училище. Учеба начинается осенью. Давайте выделим лучшего нашего товарища, который показывает пример комсомольской сознательности!
Со своей стороны предлагаем Федю Стоянова! Завтра на собрании коммуны будем решать. Подумайте, ребята, о нашем предложении.
Совет коммуны.
«Каким должен быть красный моряк?»
Мы осенью проводим на рабфак не только Федю Стоянова. Нам надо будет еще и послать на наш подшефный Балтийский флот двух комсомольцев от нашей ячейки. И, конечно, все глаза повернутся к нашей коммуне — где же искать лучших, как не в комсомольской коммуне! А подготовлены ли мы к тому, чтобы стать комсофлотцами? Красный моряк — образец дисциплины, аккуратности, чистоты. А у нас? Как мы выглядим в глазах всей кашей ячейки и беспартийной молодежи?
Ребята! Давайте сделаем нашу коммуну образцом дисциплины и чистоты!
П. Столбов.
Но не всегда веселый и проворный «Комсоглаз» мог передать все события, происходившие в жизни коммуны и оставившие глубокий след в памяти волховстроевских комсомольцев. Были события столь стремительные, что даже стенгазета не успевала их запечатлеть. Вот такой и была история с одним неожиданным и непрошеным гостем из Питера.
«СОЮЗ ХУЛИГАНСТВУЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ»
Не у одного Антона Перегудова, по прозвищу «Горемыка», вздрагивало сердце, когда к нему обращалась Лиза Сычугова. В ячейке было немало девчат, но даже боевая, никого не боявшаяся Ксюша Кузнецова тускнела перед Лизой. Когда Сычугова выходила на крыльцо клуба в ладной коричневой кожанке, клетчатой кепке с длинным козырьком, в высоких шнурованных ботинках, когда она затягивалась длинной папиросой, на нее оглядывались даже немолодые инженеры. Лиза была питерская, частенько ездила в город и всегда привозила оттуда что-нибудь новое.
В это лето Лиза приехала из города вовсе загадочная. Она таинственно щурила глаза, курила вовсе необыкновенные папиросы, губы ее были чуть-чуть краснее, чем это бывает в действительности, и она непрерывно читала стихи. Главным образом, это были стихи о тем, как плохо Лизкиной душе в городе.
Сумасшедшая улица onpci-ij нулась, воет и движется. До рассвета над городом раздается набат плош,адей.
с чувством декламировала Лиза. Но больше всего Лиза любила стихи про знаменитого питерского налетчика.
Ленька Пантелеев Сыщиков гроза. На руке браслетка. Синие глаза. Кто еще так ловок? Посуди са.ма —
Сходят все девчонки От него с ума. Нараспашку ворот В стужу и мороз Говорить не надо — Видно, что матрос
— Лизка, ты в Ленинграде, кроме Лиговки и бара в Европейке, где-нибудь бываешь? — спросил ее как-то Кастрицын.
Но Лизу не смутил вопрос знаменитого в ячейке насмешника. Она — как та девица, что играет в картине «Крест и маузер», — сначала низко опустила глаза, потом подняла их, посмотрела на Юрку так, будто только что увидела, пототм отвернулась и тихо, но так, чтобы все услышали, прошептала:
— Там, где я бываю, ребята — не тебе чета!.. — И презрительно добавила: — Профессорский сынок
Парень, которого Лиза однажды в ясный и светлый летний вечер привела в «халупу-малупу», действительно был не чета ни Юрке Кастрицыну, ни одному из волховстроевских комсомольцев. Если бы не знать, что знаменитого бандита ленинградские чекисты уже схватили, можно было подумать, что сам Ленька Пантелеев пожаловал в комсомольскую коммуну. Небрежно прислонясь к крыльцу, глубоко заложив руки в карманы невиданно расклешенных штанов, стоял парень, как будто выскочивший из любимого стихотворения Лизы: светлый чуб, под которым синели наглые глаза; тельняшка в широко распахнутом вороте; перстень на длинном пальце
Мишка Дайлер, рассказывавший последние новости, услышанные в сделанном им радиоприемнике, замолчал, ребята вопрошающе взглянули на Лизу. Лиза затянулась, выпустила аккуратное кольцо светлого дыма и небрежно ответила:
— Это Адик из Питера. Может, на Волховстроике будет жить Трави дальше, Миш-ка!..
Но Дайлеру не захотелось дальше вести свой рассказ под нагловатым взглядом синих глаз, под еле слышное насвистывание Адика. Он замолчал, сел иа перила крыльца и мечтательно продекламировал:
Кто еще так ловок? Посуди сама -Сходят все девчонки От него с ума
— А, Лиз? Правда это?
Но за Лизу ответил Адик:
— Пойдем, Лизок, От этого политзанудства у меня сразу зубы стали ныть А ты еще мне тискала, что здесь клевые ребята Вшивые тут бобры живут
Побелевший от злости Асланбеков скатился с крыльца:
— Тут нет бобер, тут комсомол есть, катись отсюда, раз тебе не нравится!..
— Ай, вай, — насмешливо закивал головой Адик. — На Кап-казе есть гора, под горой малина Чэм рэзать будэшь? Кинжалом?
Амурхан и впрямь хватался за пояс, будто на нем висел его родовой осетинский кинжал. Но спокойный Рома Липатов встал между ним и красавцем с Лиговки.
— Топай, топай, парень, — рассудительно сказал он. — Тут тебе не светит, мы в деревне таких, как ты, и свинопасами не брали А уж на стройке и вовсе!
Не вынимая рук из карманов, Адик повернулся и спокойно ушел. Побледневшая Лиза растерянно посмотрела на посуровевших ребят и бросилась за ним.
— Мишка, ты ее зачем дразнил? — недовольно спросил Баренцев. — Она же с этим шпаненком не в ресторан пришла, а к своим ребятам, к комсомольцам. Может, ей захотелось, чтобы он другим стал, работать начал, человеком стал И чего вы его испугались? Ты, Амурхан, чего его испугался?
— Как ты, Гриша, такое говорить можешь? Да я таких и на Владикавказе не боялся, и в Москве не боялся, и здесь не боялся! Я его без кинжвла разорву!..
— «Разорву»! Тигр какой нашелся! Я не про то, что ты его забоялся вот так А просто мы все здесь чистенькие и пачкаться не хотим, А кто же Сычуговой поможет, ежели что Да и среди шпаны попадаются всякие ребята, не пропадать ведь им навечно! Не знаю, ребята, не знаю, а кажется мне, что не так мы что-то делаем!..
— Знаешь, Гриш, — сказал Дайлер, на этот раз уже без всякой насмешки, — насчет Лизы ты прав. Жалко, может и пропасть девка, если связглась со шпакой. Только он пришел к нам искать не таких, как мы, а таких, как он Все-таки, ребята, у нас гармошка, у нас клуб, и «халупа-малупа» наша Он и думает найти себе союзничков — пьянку устроить, в картишки перекинуться, слабеньких запугать Увидишь!
Питерскому Адику, видно, удалось найти подходяш.ую компанию. Он ходил по берегу реки, окруженный заглядывавшими ему в глаза ребятами из бетонного цеха и подсобных мастерских. Папироска ловко торчала у него во рту и не мешала рассказывать. А рассказы, видно, были интересными, потому что их всегда сопровождал почтительный смех. Когда в клубе было кино или танцы, Адик и его «адъютанты» стояли у входа и комментировали проходящих девчат Правда, делали они это, когда вблизи ие было комсомольцев. А когда подходила комсомольская компания, Адик со своими новыми товарищами лениво и презрительно отходил от клуба, и они шли на обрывистый берег.
Амурхана, когда он видел Адика, начинала бить дрожь, он сжимал кулаки, ребятам приходилось оттирать его от питерского гастролера, с нахальной улыбкой шедшего впереди своей компании. Да, у Адика уже была своя компания, и не его, а вот этих ребят внимательно и задумчиво провожал глазами Гриша Варениов. Многие были ему знакомы — обыкновенные ребята, с которыми ходил на демонстрацию, на воскресники, сидел в клубе. Чего они пошли за этим хлюстом? Что в нем нашли интересного?
Правда, была в руках Адика притягательная и обволакивающая сила. Это была самая обыкновенная гитара. Та самая, которая — с нежным бантом на грифе — висела во многих комнатах воловстроевского городка. Жалкий и презираемый ребятами инструмент, символ мещанства, штука, приспособленная для всяких там романсиков Никогда она не была
конкурентом гармошке Романа Липатова, а гитарные песни и не пытались спорить с теми, с комсомольскими
А вот тут, в руках у этого полублатного или блатного паренька, тихая и безобидная гитара стала совсем другой — дерзкой и опасной. Она была нахальной даже тогда, когда Адик извлекал из нее знакомый мотив «цыганочки» и бархатным голосом призывал семиструнную гитару поговорить с ним, потому что душа его чем-то там полна, да и ночь лунная, н все такое прочее. И уж вовсе гитара становилась незнакомой, когда Адик пел свои любимые песни. Он в них представлялся отчаянным, ни на кого из волховстроевских ребят непохожим.
Ремеслом я выбрал кражу, Нз тюрьмы я не вылажу, Исправдом скучает без меня
Да, вот у него была такая судьба и ничего в ней нет страшного, потому что не может страшить тюрьма такого человека, как он, Адик, — -питерский лихой парень
Где б, в какой тюрьме бы ни сидел,
Не было и чагу, чтоб не пел.
Заложу я руки в брюки и хожу пою от скуки —
Что же делать, коли ты уж сел
Вокруг Адика ходили самые обычные здешние ребята и как завороженные слушали эту муть, эту унизительную и глупую муть! Гриша Варенцов еще мог понять там глупых девчат — ну влюбились, как курицы какие, как бедняга Лиза Сы-чугова, в эти наглые синие глаза, в эту светлую челку А вот что же в нем находят рабочие ребята?..
Однажды расстроенный Саша Точилин позвал комсомольского секретаря:
— Посмотри, Гришка, какие пакостники у нас появились!
. Комсомольская стенгазета, висевшая в коридоре клуба,
была перечеркнута жирной черной краской. Внизу той же краской была выведена таинственная надпись «СХМ».
— Фью-ть!.. Скажи на милость, на какой спор пошли! — пробормотал Варенцов, рассматривая испоганенную газету
— Это вредительство! Это самая настоящая организация? Надо немедленно принять меры и сообщить в Гепеу! Пусть немедленно займутся!..
— Да, да, побеги в Гепеу, поплачься, пожалься, что тебя обидели, пусть накажут, кто тебя обидел, маленького
— Да послушай, это же политическое дело! Понимаешь — по-ли-ти-ческое!
— А мы, Саша, какая же организация — увеселительная, что ли? По-моему, мы и есть политическая организация. Конечно, это хулиганство какое-то не простое, что ли Политическое хулиганство. Так ведь и мы политики, чего нам бояться, сами как-нибудь разберемся и справимся. Слушай, Точилин, скажи лучше: почему за этим Адиком ходят наши ребята? Смотри, всего десять дней назад его привела к нам Лизка Сычугова, а теперь у него вс-он какая компания! И есть там неплохие ребята. Вот эти — Поводырев с бетонки, Крылов с подсобки да и другие. Ведь не хлюсты, не блатные, а самые рабочие ребята! Чем он их приманил? Неужто только гитарой да песней? Вот о чем нам, Сашок, думать надо, а не наложив в штаны, от страха бежать в Гепеу жаловаться!
— Ну ты, Варенцов, н вовсе стал как Степаныч — умный как вутка А я тебе скажу, что газета — это дело рук Адика. И если ты против, чтобы в Гепеу жаловаться, то надо нам собрать ребят, пойти на обрыв, набить ему морду так, чтобы он задрав хвост бежал обратно на Лиговку
— А Поводыреву и Крылову тоже морду бить? Или как? Они ведь на Лиговку не убегут. Могут остаться с битой мордой Мол, нас, беспартийных ребят, комсомольцы научили уму-разуму. Спасибо им
— Опять ты со своими присказками! А что же, по-твоему, делать?
— Присмотреться к этим ребятам. Узнать, кто хулиганит, пакостит. Хулиганов унять, коли надо — сдать куда следует. А ребят чем-то занять, поинтереснее что-то придумать Вот ты, Саша, с Михаилом все наукой занимаетесь, радио там придумываете, еще чего! Это хорошо! Только вы, ребята, на-
крепко думаете, что то, что-нравится вам, обязательно должно нравиться и другим. А если человеку неинтересно сидеть и мотать проволоку на катушку для радио? И хочется ему другого — ну песню, может, книгу какую или что? Лиза Сычугова стишки эти любит и читает, а мы над ней смеемся А ей эти стишки дороже твоего радио, твоей машины Почему ты прав, а она неправа? Я вот хожу и все об этом думаю. На бюро такой вопрос поставить — и не придумаешь, как назвать!..
А таинственные буквы «СХМ» продолжали появляться. То чья-то рука выводила их на объявлении о собрании, то они появлялись самым обычным и скучным образом — мелом на стене или заборе Саше Точилину уже и стыдно было признаться, что он когда-то хотел бежать в ГПУ Гитара Адика продолжала торжествующе звенеть и стонать над обрывом Волхова. И казалось, что нет такой силы, что может оторвать ребят от этого белокурого красавца с гитарой
В теплый августовский вечер компания Адика собралась на своем излюбленном месте у реки. Вечер только начинался. Было светло от неушедшего еще дня, хотя огромная луна уже вылезала из-за дальнего леса.
Мы ушли от проклятой погонп. Перестань, моя крошка, рыдать.. —
вполголоса, задумчиво пел Адик, негромко перебирая струны. Лиза прислонилась к стволу березы и курила папиросу за папиросой. Человек шесть ребят слонялось рядом в том ожидании чего-то необычного, которое они испытывали возле этого ленинградского, ни на кою не похожего парня. Не было только Вани Крылова, но он уже шел к ним из поселка. Не шел даже, а бежал. И когда добежал, то по его восторженно-возбужденному лицу сразу стало ясно, что он прибежал с чем-то необычным.
— На Луну, на Луну летят! Ей-богу! Там ребята толкови-ще устроили — кого посылать!..
Кого посылать? Кто летит на Луну?
— Ну, там в коммуне у комсомольцев газета висит! Летят
на Луну! И наши, кажись, тоже! Вот кто-то из наших полетит!.. Понимаете — вот так на Луну и полетит!!! Я сейчас туда побегу! Вот это да!
Иван метнулся назад, за ним побежал Поводырев, а за Поводыревым и остальные. На обрыве остались Лиза да Адик. продолжавший перебирать струны гитары.
— Смотри-ка, Луна им личит, фраерам, — со злостью сказал Адик. — Ну, пойдем, Лизок, посмотрим, кто это на Луну собрался?
Он лениво двинулся к поселку. Лиза как тень не отставала от него.
Возле «халупы-:.!алупы» было полно ребят. Даже у всегда спгкоикггс Варенцо-ва блестели глаза, он нетерпеливо покусывал палец, как будто хотел что-то выяснить для себя. А Миша Дайлер, тот размахивал руками и с ожесточением кричал:
— Да нет — вполне успеют! Осталось еще восемь дней, может, еще перенесут на недельку. Из Москвы самолетом до Кенигсберга, а там на пароходе — зя полто-
ры недели и доедут. Сейчас пароходы как эсминцы почти ходят. А может, для такого дела из Балтфлота и эсминец дадут Надо, ребята, по телефону связаться с Москвой, звонить прямо в «Комсомолку» и узнать — летит или не летит!
Позади Михаила висел свежий номер «Комсомольской правды», и какая-то статья в газете была обведена густой красной краской. Лнза Сычугова подошла к газете. Да, это была п р и в bi ч н а я о м с ) м о л ь ц а м любимая их газета. Очевидно, только что пришедшая на Волховстройку «Ко.мсомоль-ская правда» от 31 июля 1926 года. Лиза прочитала раз, потом еще прочитала, другой было там обычно, и все было так необычно Среди других сообщений о новостях у пас в стране и во всем мире была напечатана вот эта самая, как бы обыкновенная заметка:
«Нашумгвиаш по всему миру план полета на Луну в ракете, очевидно, близок к осуществлению. Строитель ракеты американец Годдард собирается вылететь на Jltj-
ну W августа. В Нью-Йорке нашлось желающих полететь на Луну 62 человека, тогда как ракета берет всего лишь 11.
Наш советский писатель В. Веревкин, автор романа *:АААЕ», желает лететь на Луну в качестве представителя СССР. Сейчас он ведет через Всесоюзное обш^ество культурной связи переговоры с Америкой по этому вопросу. Намерение В. Веревкина поддерживается Высшим советом физической культуры.»
Лиза подняла вверх глаза. На темно-синем вечернем небе ослепительно блестел огромный диск Луны Неясные тени на нем напоминали о том неведомом, непознаваемом, что так вот вдруг, сразу приблизилось к людям. Неужели же это может быть? И люди прилетят на Луну, где есть горы н, кажется, какие-то моря, а значит, похоже на Землю? И может быть, живут там какие-то существа, похожие на людей, и сейчас смотрят вверх на привычную планету и не знают, что к ним скорОприлетят люди с Земли И как же они там будут? Лиза даже видела где-то фотографию этого писателя — В. Веревкина. Красивый парень в клетчатой рубахе и галстук бабочкой Да неужели же он будет ходить по этой Луне?! М люди увидят что-то совсем другое, другое небо, другую жизнь II сами станут другие, лучше, добрее
И, как бы отвечая на эти затаенные Лизины мысли, рядом забренчала гитара и знакомый нагловатый голос па тот же знакомый надоевший мотив, запел:
На Луне придется жить и мне. Я готов всегда к такой беде, Лунатикам набью я рожу, Всех чертей перекорежу — Почему нет водки на Луне!
— Это правда, это точно! — В голосе Миши Дайлера не было даже гнева, одно только удивление. — Где бы ты ни был, куда бы ни попал, тебе только одно: нахлестаться водки, покрасоваться перед темп, кто поглупее, набить морду тому, кто послабее И нет такого места, которое бы ты не мог напакостать — конечно, если тебе позволить. Только здесь мы тебе этого не позволим!
— Это кто же такие — мы?
— Вот мы — Союз коммунистической молодежи
— Плевали мы на твой союз! У нас тут свои союз — почище вашего занудного!
— Это ж какой?
— А вот такой!..
— Ха! Вождь! Организовал свой союз — союз хулиганствующей молодежи, дескать!.. Так ведь? Практическая работа — добывание водки за чужой счет Агитащш н пропаганда — три буквы на заборе. Дешевка же ты,, Адик, как я посмотрю!..
— Да я тебя, гада, сейчас закомстромлю!..
— Попробуй!!! — С крыльца сорвался Амурхан, как иголка пролез сквозь толпу и встал перед Адиком. — Попробуй, пара-зитская душа! Вот я тут перед тобой, режь меня, ну режь, трус проклятый!
— Да не приставай ты к нему, Амурхан! Чем он тебя резать будет — гитарой, что ли? Он ведь карандаш зачинить, наверное, не может — боится порезаться перочинным ножиком Так ведь, Апемподист, а?
Варенцов говорил, как всегда: спокойно, тихо и даже как-то без всякого волнения, с какой-то скучной усталостью.
— Какой Анемподист? — недоуменно спросил Асланбеков.
— Ну, вот этот самый — Анемподист Перчаткин, по прозвищу Адик. И прозвище он сам себе дал, и блатным сам себя нарисовал, выдает себя, дурачок, за какого-то Леньку Пантелеева. А сам — тихий да дурной мальчишка. Выгнали его из сорок второй ленинградской школы за то, что не учился, на уроки не ходил — вот он и подался к нам. Можно не работать, дураки да дуры принесут поесть, принесут попить Он им за это песенки попоет, сказок нарасскажет, как он в хазе дрался с целой ротой милиционеров Каждый зарабатывает на жизнь чем может. Этот самый свой союз хулиганствующей молодежи придумал. Ему надо все время придумывать что-то, иначе
он надоест, и тогда перестанут его кормить и Витька Пово-дырев, и Ваня Крылов, да и Лиза, пожалуй А есть хочется каждый день небось. Слушан, Перчаткнн, бросай это .дело, становись лучше на работу. Устроим мы тебя на бетонку — работа для здоровых, квалификации большой не требуется. Витя Поводырев тебя по старой памяти, как бывшего вождя — как это у вас, как пахаиа, что ли, — научит бетон месить. Пойдешь? А не пойдешь — надо будет тебе менять место для гастролей. Тут на Волховстройке тебя детишки засмеют А ты, Перчаткин, не бойся этого, плюнь на все, что будут говорить! Иди работать, через год забудут, что ты человеком не был Правда. У каждого такое время наступает, когда ему выбирать надо. И себя определять Решай!
Адик растерянно посмотрел кругом. Он увидел недоуменное, со следами погасшей ярости, лицо Асланбекова, насмешливые глаза Юры Кастрицына, покрасневшие лица Поводы-рева и Крылова, наполненные слезами стыда и жалости глаза Лизы Сычуговой Он тихо повернулся, и все расступились перед ним, и он пошел тихо, потом быстрее, потом еще быстрее, потом почти побежал. Только в конце дорожки он оглянулся — никто за ним не шел
— Ну вот, ушел дурень. Красивый и здоровый парень, а какой оказался хлипкий внутри! Еще спохватится
— Гриш, а Kail ты узка л про него, что он этот — \немпо-дист к все такое прочее?
— Ну, секрет какой! Если бы он был такой, каким себя выдавал, его бы уже давно замели А Юрка, когда поехал в Питер, я его попросил узнать. Ну, он и узнал — даже в школе его побывал. Смеются там над ним. А им бы не смеяться, а пожалеть парня Ну, хватит про него. Так давай дальше, Михаил. Ты взаправду думаешь, что можно долететь до Луны? А как на нее сесть? Я читал, что там и воздуха нет, значит, дышать там людям нечем — как же они? Тихо, ребята! А ты, Лизка, давай сюда, поближе!..
предательство
Комсомольская коммуна вступала во второй год своей жизни. «Халупа-малупа» перестала быть чем-то новым, необычайным, она стала неотъемлемой частицей комсомольской жизни на стройке. И в самой комлзуне исчезло чувство новизны п ощущение, что все на тебя смотрят Жизнь шла ровным, налаженным ходом, без особых событий п происшествий. А Антон Перегудов каждое утро вставал с ощущением какого-то неблагополучия, происходящего у них в доме. В чем оно?
Антон неторопливо одевался, глядя, как это делают его товарищи по комнате — каждый по своему характеру. Петя Столбов спит до самой псследнен минуты. Потом вскакивает, молниеносно влезает в одежду, запихивает под подушку упавшую на пол книгу и убегает, не успев даже сказать напутствие дежурному по коммуне. Сеня Соковнин успевает обегать всю «халупу-малупу», узнать у ребят все новости и вне всякой очереди подмести пол перед уходом. А Пашка Коренев Бот в Пашке-то и все дело. II, рассматривая пустую койку Коренева, Антон начинает пон1шать, что источник его отравленного настроения он — Паша Коренев.
Конка Павла пуста. Но это не значит, что он не ночевал дома. Павел — не чета Мише Дайлеру, который чуть ли не каждое воскресенье уезжает в подшефную деревню и потом приходит сразу на работу. Дескать, какие-то срочные дела у него в Близких Холмах Знаем мы эти срочные дела! Видели это «срочное дело», когда ездили всей ячейкой в деревню парники строить. Ничего, славная дивчина эта Даша Ну, а вот за Павлом такое не числится. Павел может считаться образцовым коммунаром. Никогда не ляжет на койку в сапогах, всегда за собой убирает, спать ложится раньше других, а когда бы Антон ни проснулся — Пашки уже нет. Встал, аккуратно оделся, убрал постель и ушел. Куда?
И Пашкина аккуратность кажется Антону какой-то чужой, фальшивой, подозрительной. В дни получки Павел первый и без напоминаний сдает деньги Пете Столбову — председателю
совета. Никогда не бывает должником, никогда не скажет: «Ребята! Я тут купить что собираюсь!..» Что же не нравится Антону в этом образцовом коммунаре?
Ну, Павел задавала! Это точно!.. Когда кончали учиться, получил на разряд больше — четвертый. Через полгода сдал пробу на пятый, сейчас сдал на шестой У Павла Коренева действительно золотые руки, н ему поручают самую сложную работу. И зарабатывает он много. И коммуне сдает не все — все это знают да и не требуют с него. Хотя Юра, Миша и Петр — все они зарабатывают хорошо, а в коммуну сдают все до копейки. Павел всегда смотрит сверху вниз на ребят, которые зарабатывают меньше. Всего год назад был такой же, как он, Антон. Теперь он считает себе ровней только Столбо-ва, Кастрнцына, Дайлера Как-то Володя Давыдов вмешался в их разговор, так Пашка на него посмотрел так, что Володя весь залился краской, отошел и больше никогда не подходит к нему. Юра и Миша по запарке и не заметили, а Антон запомнил. Потому что он давно-давно присматривается к Кореневу. Закомиссарился Павел!.. П эта история с юнкором
С полгода назад Пашк?! вечером стал всех ребят спрашивать: у кого есть галстук?.. «Зачем нормальному человеку, комсомольцу галстук?» — удивились все ребята. Тут Коренев сказал, что утром его cнн^iaть будут. Приехал из газеты специальный человек, называется «спецкор», и будет писать о Павле Кореневе большую статью как про образцовый тип молодого рабочего. А может, и не статью, а целую книгу. Завтра будет снимать, просит, чтобы был в галстуке, чтобы всем было ясно, что молодые рабочие овладели культурой
— А чего ею владеть? — недовольно сказал Столбов. — Пошел в лавку, купил за сорок копеек галстук, вот тебе и все овладение культурой! Да еще можно похвастаться, что в точности выполнил указание Ильича — овладел всей культурой прошлого
Впрочем, галстук нашелся у Юры — привез из города для постановок: меньшевиков всегда с галстуком положено играть
в «Синей блузе». Два дня Павел Коренев ходил по стройке и поселку с каким-то невысоким пижоном в макпнтоше, мохнатой кепке, с вечной ручкой, которую носил как орден. Фотография чего-то не получалась, п Пашка сказал, что придется ему со спецкором ехать в Новую Ладогу, в уезд, и там сниматься. Ехать надобно в рабочий день, н, чтобы его отпустили с работы, получил у спецкора специальную бумагу. Юра Каст-рицын взял у него эту бумагу и пронзительно свистнул.
— Ох, ребята! Все сюда! Такое еще не видал! Смотрите и тряситесь от страха.
Да, бумага была по всей фор.ме. Выглядела она внушительно. На листке, вырванном из отрывного блокнота, было напечатано красивейшим типо1рафским шрифтом:
СССР Пролетарии всех стран соединяйтесь!
Действительный член Всесоюзного Ленинского Комсомола с 1923 года
Юнкор газеты «Молодой Рабочий» органа Новоладожского укома ВЛКСМ
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ СОЛОДУХИН
1926 г. СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Ясным и безмятежным почерком такой же красоты, как и шрифт, Виктор Петрович Солодухин просил соответствующие организации отпустить в уезд рабочего Павла Коренева, дабы снять с него «пнсьмофотограмму жизни». Так и было сказано: .письмофотограмму». Это слово было незнакомо да?ке всезнающему Юре Кастрицыну. И это оказалось концом пнжона в мохнатой кепке и с вечной ручкой. Юра, Петя, Гриша Варен-цов пошли с ним знакомиться, потому что такого бюрократа они еще и не видели! А Гриша Варенцов-не поленился позво-чить в Новую Ладогу. А этот «спецкор» у них и не работает,
а просто так: когда напишет заметку, а когда и нет. И там над ним смеются только. В общем, никакой «нисьмофотограм-мы.» ему с Пашки снять не удалось, мгновенно он исчез со стройки, Пашка отдал Юре галстук, и через неделю об этом перестали вспоминать. А Антон тогда подумал, что напрасно над этим только смеются, что ничего смешного нет в том, что коммунар захотел как-то возвеличиться над другими, выскочить вперед, стать повыше Сегодня с него «письмофото-грамму» снимать будут, завтра он станет смотреть на всех рыбьими глазами и никого не узнавать Но Антон промолчал — и так все думают, что он с Павлом не дружит, какой-то зуб на него имеет.
Павел все же пое.хал в Новую Ладогу. Газета про него так и не написала, но Коренев заладил частенько ездить в уезд. И на воскресные дни и на праздничные уезжал. Никто у него не спрашивал, зачем ездит. Может, у него там такое же «срочное дело», как у Мишки в Близких Холмах? Но не похоже — никогда он не одевался получше, напротив, всегда одевал старое, в чем на работу ходил
Антон Перегудов, по прозвищу «Горемыка», перебирал иногда все причины, по которым Паша Коренев ездил в уезд. Но ему и в голову не могло прийти, что Коренев навлечет на всю их комсомольскую коммуну неизгладимое пятно позора и бесчестия.
Ежевечерний шум в ячейке кончался. За стеной, в пионерской комнате, давно уже перестали петь и стучать волейбольным мячом. Кастрнцын с Точилиным, сидя на подоконнике, уже второй час играли на драной, старой доске в шахматы и кричали друг на друга дикими голосами, ссылаясь на каких-то заграничных шахматистов: Рети, Торре, Ласкера Уже самые упорные покидали ячейку, а Павел Коренев все стоял у стены и разглядывал стенгг.зету, будто впервые увидел. А она уже вторую педелю висит Антон удивленно смотрел на него: ведь всегда в это время Павел уже спать ложился Почему он так поздно торчит в ячейке и ждет,-когда все уйдут? Но, вчдно, Павел потерял надежду, что он может дождаться, когда
Баренцев останется один. Он подошел к столу, сел на табуретку и решительно сказал:
— Гриша! Я на другое производство перехожу, так мне что, здесь открепление брать, в ячейке?
— Другое производство? Где же здесь, на Волховстройке, другое производство?
— Так не здесь. Я перееду в Новую Ладогу. Там буду работать. И жить.
— Где же там ты работать будешь?
— На заводе. Такой маленький механический завод. Слесарем.
— Ас комсомольцами ты там говорил?
— Да там нет ячейки. И комсомольцев нету. Я один буду. Ну там в укоме стану на учет.
— А чем же, Паша, тебе у нас не понравилось? Живешь в коммуне, за год два разряда получил Или есть у тебя там в городе кто?
— Ну, есть
Антон не выдержал. Ведь врет! Нет у него там никакой такой любви! Не одевался бы в грязное, в рабочее, если бы на свидание с девушкой ездил!.. А разговор Коренева с секретарем привлек внимание всех, кто был в ячейке. Кастрицып и Точилин даже в шахматы перестали играть. Точилин соскочил с подоконника, подошел к столу и вмешался в разговор:
— Так, значит, Павел, земляком моим хочешь стать? Так это на какой же механический завод ты поступаешь? Что-то я не припомню у нас в Новой Ладоге таких заводов
— Ну он такой — ремонтный Машины ремонтирует разные, насосы
— Мамочки! Так это уж не Клейна ли завод?
— Ну, Клейна. А что? Какая разница?
— То есть как — какая разница? Это же частный завод! Ты на нэпмана будешь работать!
— Я же не в нэпманы иду, а в рабочие. Там профсоюз есть, охрана труда, все как надо Раз государство разрешает частникам заводы иметь, знач11т, и рабочим разрешает рабо-
тать там. Как я был здесь слесарем, так и там буду слесарить. Чего ты вяжешься?! Все по советским законам, все правильно
— Предатель!.. — У Антона это слово вырвалось как-то само собою, как бы независимо от него Да, предатель! Он не знал, как это сказать, как выразить, но твердо знал: Пашка — предатель!
— Ну ты, пацан третьеразрядник! С твоей квалификацией только на обдирке стоять! Куда тебя возьмут такого?!
Вокруг стола Варенцова уже стояли все ребята, что еще не ушли из ячейки. Варенцов встал из-за стола.
— Постойте, ребята! Это правда, Коренев, советский закон разрешает частным лицам открывать такие мелкие предприятия, разрешает держать рабочих, профсоюз следит, чтобы этих рабочих не эксплуатировали, чтобы соблюдали все советские законы. Тут ты прав. Ты нам только скажи: зачем ты бросаешь стройку, гордость нашу, и переходишь на какой-то маленький частный заводик? Бросаешь товарищей, коммуну-бросаешь, едешь в чужой тебе город работать на частника Зачем ты это делаешь?
— Ну «зачем, зачем»?! Чего ты его, Гришка, спрашиваешь? За деньги! Вот за что он нас бросает! За большие деньги!
— Молчи, Горемыка! Не перебивай его! Пусть скажет
— А чего говорить, чего говорить? Конечно, платит хорошо. Буду у него по седьмому разряду Это что: грешно р^о-чему у частника деньги своим горбом выколачивать, так, что ли? Что я, должен Горемыку слушать, дурня этого?
— Совесть свою, Павел, надобно слушать, ежели она у тебя есть. А ты не подумал вот про что: государство тебя полгода учило, платило мастеру десять рублей в месяц за тебя, тебе платило двадцать два рубля, давало общежитие, ну все делало, чтобы вышел из тебя грамотный и квалифицированный рабочий. А когда научился, ты государство бросил и ушел к частнику. Станешь работать, чтобы ему в копилку доход от твоего труда шел, а не в государственную копилку,-на общее наше рабочее дело Вот ведь как получается
— Значит, по закону не имею права? Так выходит?
Наверное, по закону право имеешь. Это мы пойдем в рабочком, спросим у Степгныча. Наверное, имеешь. Профсоюз тебе, надо думать, разрешит. Но ты же комсомолец?
— А что?
— А то, что у нас, в комсомоле, тоже есть законы. Чтобы жить по коммунистическо!! совести. Тебя силком в наш союз и не загоняли. Ладно, Коренев. Вот в пятницу на комсомольском собрании мы и обсудим твой вопрос, пусть ребята скажут: прав ты или нет
Коренев что-то еще хотел сказать, но передумал. Он сжал кулаки, резко повернулся и стремительно вышел из комнаты. Вслед ему смотрели глаза людей, которые только что, вот еще несколько минут назад, были его друзьями, товарищами, товарищами навсегда, на всю жизнь И испуганно глядел вслед Павлу Кореневу Антон. Да, не любил он Павла, не всегда ем,у верил, но никогда ему в голову не могло прийти, что можно так спокойно и стремительно уйти, самому уйти из их общей, комсомольской жизни Сам Антон не мог бы такое пережить, ему до сих пор страшно вспоминать день, когда он пере: ступил совесть — купил у частника толстовку Но он тогда не скрыл, что стыдно ему, и он готов был эту проклятую толстовку выбросить
и в наступившей тишине, такой тишине, какая бывает, когда несчастье произошло, смотрел вслед Кореневу секретарь ячейки Григорий Варенцов. Он знал — навсегда уходит Коренев из их жизни, из комсомола. Уже несколько лет выбирают Варенцова секретарем ячейки, и множество ребят принимал он в комсомол, и каждый раз у него возникало радостное и славное чувство: прибави-пась их комсомольская компания, еще одним другом у него стало больше А это, это было впервые Впервые он не приобретал, а терял. И это было горем. Ему нужны были сочувствие и близость товарищей. И, как бы понимая это, стали вокруг него Петр Столбов, Юрий Кастрицын, Саша Точилин, Антон Перегудов Нет, эти не изменят! Эти с ним будут навсегда!
дневник
Антона никто в историки комсомольской коммуны не выбирал и не назначал. И вообще никто не думал заводить такую историю. Когда выбирал» совет коммуны, кто-то предложил секретаря выбрать Но все на него обрушились за бюрократизм. И решили: никаких протоколов не вести, а завести дневник коммуны и чтобы каждый записывал в нем все события, происходящие в коммуне и достойные увековечения. Завести дневник поручили Антону. Он это сделал со всей аккуратностью. Купил на станции Званка хорошую общую тетрадь в клеенчатой обложке. На первой странице крупно и красиво написал: «Дневник комсомольской бытовой коммуны». Потом долго-долго сидел над ней и
сделал в дневнике первую запись:
* *
«Сегодня открылась наша комсомольская коммуна. Вот список ее членов:
Петр Столбов, Федор Стоянов,
Юрий Кастрицын, Карп Судаков,
Семен Соковнин, Павел Коренев,
Михаил Дайлер, Акурхан Асланбеков,
Владимир Давыдов, Антон Перегудов.
И постановили, чтобы соблюдать чистоту, не ссориться, говорить только правду и быть хорошими товарищами. Если кто недоволен — писать в дневник. И дневник чтобы лежал в тумбочке. Пусть его читают только коммунары. Антон Перегудов».
Но как-то так получилось, что и следующую запись в дневнике сделал Антон, и что лег он в тумбочке у него, и что один он — и то время от времени- — вспоминал о дневнике, доставал его и исписывал полстраницы крупными, сваливающимися вниз строчками. Бот они — эти исторические записи Антона,
хоть и неполно, но раскрывающие недолгую, славную исгорию комсомольской коммуны на Волховстроке.
*
«Решили, чтобы за коммунарские деньги покупать книги. И пусть они лежат на окне или столе; кто хочет, пусть читает. Сегодня Петя Столбов принес книжки:
Я. Шведов — «Вьюга»; Иван Молчанов — «Борьба»; Макар Пасынок — «Под солнцем»; А. Жаров «Ледоход» — это стихи, тоненькие книжки. И еще другие: Г. Шубин — «Комсомольские рассказы»; Тимофей Мещеряков — «Буденовцы»; А. Фадеев — «Против течения»; М. Колосов — «Тринадцать». А эти
книги поинтереснее. Я начал читать их».
* * *
«Спорили о грязи. Сегодня пришла с Михаилом Даша из деревни, посмеялась над нами, послала меня за водой и вымыла полы. И пыль убрала. После того как она ушла. Юра сказал, что мы эксплуатируем ее чувства и это не по-комсомольски. Постановили не допускать, чтобы девушки нам мыли пол, а мыть самим. И вообще все самим делать».
«Спорили. Если идешь куда по личным делам и хочешь приодеться и надеваешь не свое, то надо спрашивать у того, чье одеваешь, или нет? Юра Кастрицын сделал доклад о том, что по-марксистски — надо спрашивать. Петя Столбов — против. Голосовали. За Юру 6 го;?осов, за Петра — 4. Постановили: спрашивать. Я голосовал, чтобы спрашивать. Пусть не обижаются».
«Проводили на рабфак Федю Стоянова. Справили ему за счет коммуны бобриковое пальто и ботинки с галошами. По-
становили, чтобы он писал, и ежели ему что нужно — будем посылать, потому что он считается как бы нашим коммунаром все равно».
* * *
«Спорили. Если у кого из ребят есть личная жизнь, то должен он докладывать товарищам или нет. Миша Дайлер сделал доклад, что не должен, но его отвели по случаю его личного интереса. Доклад сделал Петя Столбов — не должен докладывать, не хорошо получится. Голосовали. За Петра — 9, а против — 1. Я голосовал за то, чтобы не докладывать».
«В ячейке спорили, кого посылать на флот. Много хотело, а из нашей коммуны Амурхан, Карп и Володя Давыдов. Постановили, чтобы послать Амурхана Асланбекова — он очень просился и хороший комсомолец. Теперь у нас в 1-:оммуне восемь человек».
* * *
«Приезжала на Волховстройку экскурсия комсомольцев из Москвы. У нас в коммуне ночевало семь ребят с Kpatnofi Пресни. Делали доклад про то, как живут ребята в Москве. А Миши Дайлера не было, он ночевал с замоскворецкими ребятами. Ребята ехали за свой счет. Стоит поездка 18 рублей. Взяли только 270 человек, больше не дало мест НКПС, а хотело поехать 600».
«Бывший коммунар Павел Коренев исключен из комсомола и из комсомольской бытовой коммуны как предатель интересов рабочего класса и шкурник, переметнувшийся к нэпману из-за денег.
Теперь нас семь человек».
«Спорили. Теперь у нас три койки свободны. Брать нам в коммуну других ребят, которые хотят, но чтобы все не вно-
сить, а только как за квартиру? Так это будет не коммуна, а просто общественная квартира. Постановили, как договорились раньше, так и соблюдать наш устав. Все общее. Единогласно. Я голосовал за то, чтобы общее».
«Михаил Дайлер убыл из коммуны по причине личной жизни. А еще член совета! Теперь нас всего шесть человек. А в совете остался один Петя Столбов. А чего же выбирать новый, когда нас только шесть! По-моему, если занимаешься личной жизнью, так нечего было записываться в коммуну».
«Ох, как открывали нашу станцию! Кого только не было! Из Москвы приехали товарищ Куйбышев и товарищ Енукидзе. И Сергей Миронович Киров приезжал. И из самого Коминтерна был — заграничный коммунист товарищ Шмераль. И еще много-много народу. Мыли сами пол и убирали, вдруг правительство возьмет и придет в коммуну. Но не пришли, у них не было времени».
«В ячейке составляли списки ребят, кто поедет на Свирь строить электрическую станцию — как нашу. Все записались. И постановили просить, чтобы нас всех сразу и вместе. А там мы тоже организуем комсомольскую коммуну. А наша коммуна, значит, тут кончится. Уже приходил товарищ Атарь-янц В. А. и сказал, что отдаст наш дом тем комсомольцам, у которых завелась личная жизнь и которые остаются тут работать. А еще тут работы будет много. Но мы все уедем на Свирь. И я тоже. А жалко нашу коммуну! Очень она хорошая, и всю жизнь я про нее буду помнить!..»
На этом кончался дневник комсомольской коммуны.
МАЛЬЧИК НА ЧУЖБИНЕ
ШАЛЯПИН
Он так привык к этой кличке, что почти начал забывать свое настоящее имя. Но в те длинные, бесконечные четыре года, что он беспризорничал, его никто по имени и не звал. Когда после смерти матери он попал в детприемник, его в насмешку ребята звали Ангелочком — так его назвала, всплеснув руками, тетка, что их мыла А потом, когда бежал с ребятами из приемника, потому что там было голодно и скучно, его звали по-разному: и Свистком — он умел красиво свистеть, и Миногой — такой он был тощий, и даже почему-то Поп манд-рило. Каждая компания, куда он попадал после очередной облавы или очередного побега из приемника, звала его по-разному. Никто за эти годы не назвал его та.к, как когда-то
звала мать, — Андреем, Андрюшкой, Андрюней. И он даже мысленно перестал себя так называть.
А Шаляпиным его назвали давно, в Москве. Там с этой кличкой он кочевал с одного рынка на другой: со Смоленского на Сухаревский, с Полянского на Зацепу. И Шаляпиным его звали на барахолке в Твери, и на Апраксином рынке в Ленинграде, и здесь, на Волховстройке, куда ои докатился через множество маленьких и больших городов.
Странствовал Шаляпин вовсе не из большой любви к путешествиям. Особенно к путешествиям, которые совершались в ящиках под вагонами, в теплушках и площадках, продуваемых всеми ветрами; в лучшем случае — под скамейками бесплацкартного вагона. Но Шаляпина губила его слава, его известность.
В беспризорных компаниях, куда он попадал, каждый кормился по-своему. Кто — из почище одетых — помогал какой-нибудь старой тетеньке поднести тяжелую сумку и получал за это кусок хлеба, слойку, а то и пять копеек; кто ходил в помощниках у настоящих блатных и стоял на стреме, когда они воровали; кто уже сам научился бесшумно и ловко запускать два узких гибких пальца в чужой карман А Андрей стал Шаляпиным благодаря Сеньке-выкресту — шустрому, всезнающему парнишке, который был коноводом у них в компании. Это он научил его петь, подыгрывая себе на двух деревянных ложках. Когда среди дикого шума Смоленского рынка Андрей впервые запел о том, что:
Там в лесу при долине Громко пел соловей, А я мальчик на чужбине Позабыт от людей —
ТО затихли вокруг даже продавцы, расхваливающие свой товар. Стояли вокруг мужчины и женщины, старые и молодые. Крошечный парень в длинной и рваной рубахе чистым, звенящим как колокольчик голосом пел о своей безрадостной детской. жизни.
Позабыт, позаброшен, С молодых, юных лет, Я остался сиротою. Счастья, доли мне нет
В такт протяжной и грустной мелодии ложки постукивали жалобно, так убеждающе, как погребальный звон кладбищенской церкви.
Вот умру я, умру я, Похоронят меня, И никто не узнает. Где могилка моя.
И пришедшие на Смоленскую барахолку женщины, ожесточившиеся от нужды и страха, вытирали повлажневшие глаза
И никто не узнает, И никто не придет. Только раннею весною Соловей запоет
— Шаляпин! — убежденно сказал какой-то с седой небритой щетиной мужчина. И как припечатал!
Так и стали звать Андрюшку. Шаляпин научился петь множество песен. И про цыпленка жареного, который тоже хочет жить; и про Гоп со смыком, который жил на Подоле и славился своим басистым криком, и всякие другие. Но главной его песней все же оставалась печальная исповедь мальчишки, пропадающего на чужбине. После того как он ее пел, ему всегда совали куски хлеба, еше теплого пирога с капустой, а то п медяки.
Материальное благосостояние Шаляпина росло вместе с его известностью. Уже приходили специально послушать его, он стал знаменитостью Смоленского рынка, вокруг него кормились пацаны поменьше и понеуклюжей. Прибегали слушать беспризорного певца и какие-то нерыночные дяди, его снимали, и говорят, что даже в какой-то газете появилась его фотография. А популярность Шаляпину была ни к чему. Она все-
гда приводила к тому, что появлялись уже не обычные любители песни, а дяди и тети, желающие его спасти от беспризорной жизни. А Андрейка знал, что его ждет от этого спасения. Это детприемник, где живешь под замком, долгий и нудный карантин, потом детский дом, где на обед приказывают ходить парами А он уже избаловался свободной жизнью, ночевками в подвалах Проточного переулка, славой Поэтому-то и приходилось бегать с одного рынка на другой, а когда вовсе стало невмоготу и когда однажды его забрали уже не в обычный детприемник, а в Даниловский, за каменные стены, то он решил бежать из Москвы.
И пошел он странствовать из города в город. Иногда жилось хорошо, сытно и нескучно. А иногда он попадал в компанию ребят постарше, поблатней, и тогда у него отнимали все, что ему подавали, заставляли его в любую погоду петь на рынке, отнимали одежду получше и наряжали во всякую рвань, чтобы выглядел пожалостливей И, чтобы знал свое .место в компании, лупили, голодным оставляли Иногда, спасаясь от такой компании, бежал он в новый город. Но и там его ждало то же самое: бара.холка, полуголодная жизнь, облавы, страх, ночевка в сараях или на улице Когда в Ленинграде чекисты стали вылавливать все.х беспризорных ребят и увозить их из города в детские колонии, ему кто-то посоветовал добраться до станции Зваика, а там дойти до Волховстройки. Народу там много, милиции мало, барахолка есть, сейчас лето, жить там можно
жизнь артиста
Андрей — городской мальчишка. Для него город был скоплением каменных домов, прорезанных улицами; грязные площади городских рынков; набитые людьми трамваи; вонючие подворотни; согревающие по ночам теплые котлы, в которых варят асфальт. Волховстропка была чем-то совсем другим. Намного красивее и интереснее городов, знакомых Андрею.
Даже интереснее Москвы. Можно было подолгу смотреть на огромный муравейник стройки: пыхтящие экскаваторы, ухающие бабы, забивающие сваи; вагонетки, скользящие по канатам, натянутым по высоким столбам И можно было пробраться на самую стройку, потолкаться около камнетесов, что отесывали больщие глыбы гранита, побегать между огромными деревянными ящикам», исписанными нерусскими буквами. Каждый день на стройке происходило что-то новое, к бегать по ней никогда не надоедало.
Нравилась беглому беспризорпику и единственная улица с разномастными,деревянными домами. Она наполнялась людьми, когда утром электростанция давала протяжный тонкий гудок, и была пустой весь почти день. На каждом крыльце мо>хно было всласть полежать на солнце, никто тебя не трогал и не беспокоил. И впервые в жизни мальчик, которого звали Шаляпиным, узнал, что, кроме города, есть еще и поля, огороды, луга, лес Андрейка всю первую неделю бегал по окрестностям Волховстройки. Залез было в огороды, да быстро сбежал — их охраняли злые собаки и огородники, что еще злее собак. Попал в какой-то старый-престарый монастырь. Там жили несколько старичков в черных, заношенных рясах, иногда приходили к ним молигься скорченные старушонки, они шептали молитвы и били земные поклоны перед иконами и перед страшным стеклянным ящиком. Ящик этот был набит человеческими костями, белыми черепами со страшными пустыми глазницами. А под этим ящиком на доске было написано:
Любовно просим вас, Пос.чотрите вы на нас. И мы были, как вы, И вы будете, как мы
Всем был? хороша Волховстройка, вот только обычного, шаляпинского, успеха певец там не имел. Барахолка была мален1.кая, набивалась она людьми по воскресеньям, и только тогда драный картуз Андрея наполнялся необильным го-
нораром. А все остальные "йни недели надо было прокармливаться чем-то другим, не только одним пением.
Андрюшка перепробовал множество занятий. Был крикуном у ирисников. Деревянный поднос, на котором лежали ириски, висел у них на ремне, перекинутом через шею. В обязанность Андрея входило стоять возле них и своим знаменитым звонким голосом кричать: «А вот есть свежие сливочные ириски, копенка пара!..» Ирисники почему-то были все немолодыми и дфачными мужчинами. Расплачивались они полдесятком ирисок. Вкусно, но несытно.
Нанял как-то один жулик, который обманывал людей странной и увлекательной игрой. В руках у него были три карты, он их показывал собравшимся и быстро разбрасывал по земле. Надо было угадать карту, и тогда выигравший мог забирать не только монеты, что он ставил, но и целую настоящую рублевку. Только Андренка ни разу не видел, чтобы это кому-нибудь удавалось. И знал, что эта игра в «три листика» была чистым жульннчеством. Таким, что даже милиция хва^ тала этих жуликов. Вот чтобы карточного шулера не заметили милиционеры, он и нанимал Андрея дежурить на углу, зорко смотреть по сторонам, и вовремя давать сигнал тревоги. Только и это оплачивалось плохо.
Однажды Андрея даже настоящий знахарь нанял. Первое время ему это дело нравилось. У знахаря была помощница — толстая рыжая баба с косыми плутовскими глазами. Она на рынке находила каких-то затурканных и придурковатых женщин, уговаривала их и с Андреем отправляла к знахарю. Знахарем был жуликоватый дядька с длинной жидкой бородой, одетый в лоснящийся длиннополый кафтан. Жил он в маленькой комнатке какой-то развалюхи на краю поселка. Андрей приводил к нему очередную клиентку и, стоя у дверей, смотрел, как та — дура такая! — обливаясь слезами, чего-то шепчет знахарю. А тот разложит перед собой на столе какие-то травки, высушенную лапку ля1ушки, какие-то кости — не то человечьи, не то звериные — и, перебирая их, шепчет непонятные и страшные слова:
Изгони и ВЫПуЛ1! Всякие напасти Из белой кости. Из-за подкости. Из тонкой жилы. Из сырого тела. Серединой, верединой — Разгони и развей. Тьфу через левую. Тьфу через правую
И плюется и бросает через плечо косточки и травки Сначала смотреть на это было занятно и страшно. Но скоро надоели и представления и дуры бабы, одинаково скучные и глупые. Да и скуп был знахарь до последней возможности, кормил его черствым хлебом, спать в своей развалюхе не разрешал, и Андрей быстро сбежал. А кормиться надо было Конечно, можно было связаться с настоящими блатными, с ворами, стоять у них на стреме, научиться залезать в карманы, а то и вовсе стать форточником у домушников: пролезать в форточку и открывать в доме дверь ворам Нет, за все годы своей беспризорщины ни разу Андрей не соблазнился сытой и опасной воровской жизнью! Всегда он испытывал к ней страх и отвращение. Ему не надо было ни фартовой жизни, ни сколько угодно денег на вкусную еду, на ириски, на кино. Ириски он мог подзаработать и так, а в кино он научился попадать и без денег. Контролеры строго охраняли только вход в зал. А на сцену вполне запросто можно было попасть и, сидя на сцене, смотреть картину с другой стороны. Простыня экрана свободно пропускала изображение, только надо было привыкнуть, что у людей справа была левая рука, а слева правая и двигались они как-то по-другому Но к этому можно быстро привыкнуть, а надписи Андрей все равно читать не умел, и для него не имело значения, какими они получались на обратной стороне экрана.
Хотя иа Волховстройке понравилось Андрею и ему вовсе не хотелось уезжать в какой-нибудь новый город и там все начинать сначала, но жить ему становилось все хуже и хуже.
с трудом он дожидался воскресенья, когда можно было отправиться на толкучку и там пустить в ход свою пронзитель-ио-жалостливую песню о бедном мальчишке, пропадающем на чужбине. На этот раз певцу не надо было стараться петь пожалобнее. Он чувствовал себя одиноким, голодным, пропадающим ни за грощ вдалеке от родных мест. Голос его дрожал от жалости к самому себе, от слез, пощипывающих глаза, деревянные ложки потрескивали особенно уныло. И тогда все больше людей начинали толпиться вокруг него, в картуз, лежавший на земле, клали куски хлеба, иногда кто-нибудь совал в руку медную монетку.
Но воскресений было в неделе только одно. Хлеба и медяков хватало лишь на два-три дня. А со среды Андрюшка начинал томиться от голода, попрошайничать возле булочной, таскать морковку на ближних огородах. А уже кончалось лето, ночи становились прохладными, и было ясно, что кончаются хорошие и интересные дни на Волховстройке. С тосд^ой Андрюшка думал, что надо будет уезжать из этого полюбившегося ему места, добираться с трудом до Ленинграда или Москвы и там прятаться от непогоды и холода в сырых подвалах, согреваться в вонючих неостывших асфальтовых котлах, прятаться от облав, бояться блатных, милиционеров, шкрабов из детприемников
В один из воскресных бйзарных дней Андрей особенно много про это думал. Было ему не по себе, и голос его звучал особенно жалостливо, и ему не надо было притворяться грустным и пропадающим Когда он кончил петь и кучка людей вокруг него стала расходиться, его кто-то тихонько тронул за рукав. Андрюшка испуганно обернулся. Но молодой парень не походил ни на переодетого мильтона, ни на шкраба, ни на блатного. Это был настоящий работяга — видно, один из тех, кто строил эту интересную штуку на реке. Андрюшка его видал и раньше. Он часто останавливался, слушал его, и Андрюшка заприметил доброе лицо и подхрамывающую походку.
«Сейчас начнет меня уговаривать пойти в милицию п проситься в приемник», — подумал Андрей и посмотрел назад,
есть ли там кто еще, удобно ли будет смываться от непрошеного сочувствия.
Но парень, видно, не собирался спасать Андрея. И его занимало что-то совсем другое. Он спросил:
— Хорошо, парень, поешь! Но что ж ты, кроме этой песни, никакой другой не знаешь?
— А чего ие знать?! — обиделся Андрей. — Я н другие песни пою
— Ну, какие твои песни! Про Гоп со смыком, что ли? Так какая же это песня? Так, блатная глупистика какая-то А ты настоящие песни послушать хочешь?
— Ну, хочу
— Знаешь, где клуб здешний?
— Ну, знаю
— Вот как отпоешь свое, приходи в клуб и спроси Варен-цова — то есть меня Да ты не смотри на меня как Красная Шапочка на Серого волка! Я никуда тебя не дену н в детприемник не пошлю. Только дам тебе послушать такие песни, что ты !1 слыхом их никогда не слышал! Приходи — не пожалеешь
Пока базар шумел, Андрейка пел про соловья п мальчишку на чужбине и все время думал про этого парня и его странное предложение. Хорошие песни ему страх как хотелось послушать!.. В Москве ему приходилось слушать только, как поют блатные. Но они всегда пели, когда напивались, п не пели, а кричали, и песни их были нахальные и некрасивые А этот хромой человек — он не блатной и не из лягавых II можно попробовать сходить и послушать. А убежать он всегда сумеет и не от таких, хромых, бегал!
Еще базар не разошелся, а Андрейка пошел к клубу. Ему ли не знать этот клуб, где кино, куда он так часто пробирался без билета на сцену Он подошел к крыльцу клуба и долго не решался спросить этого — Варенцова Потом все-таки ие выдержал и у какого-то выходящего спросил: А как мне найти дяденьку Вареицова?
— Это какой такой дяденька? А, нашего отсекра, что лн^
Он вернулся назад и с крыльца крикнул в коридор:
— Гришка! А ну, выйди! Тут тебя твой племянничек спрашивает!
На крыльцо вышел хромой парень. Он одобрительно сказал:
— Молодец, Шаляпин, что пришел Ну поди-ка сюда!..
Осторожно Андрей пошел за Баренцевым по коридору.
Они зашли в комнату. За столом сидел чернявый парень и, насвистывая, перелистывал книгу.
— Вот, Миша, — сказал ему Баренцев, — зто знаменитый на всю Болховстройку певец. У него даже кличка такая — Шаляпин Я его, понимаешь, уговорил прийти сюда и послушать, как поют настоящие певцы. И не на барахолке, а в самой Москве, в Большом тегтре, или еще где Ты говорил, что сейчас время, когда можно слушать А ну, доставай свою машинку! А тебя, Шаляпин, как ыама-то звала?
— Андрюшкой
— Бот, Андрей, садись сюда, к столу
Миша подошел к шкафу и достал небольшой черный ящичек. Он поставил его на стол, ловко поймал свисающие со стены провода и прикрутил их какими-то винтиками к ящику. На его верхней крышке торчали какпе-то непонятные ручки. Миша подключил к ящику еще провод и надел на голову металлическую скобу, на одном конце которой был наушник. Он поудобнее прижал наушник к уху, потом взялся рукой за рычажок, к которому была прикреплена тоненькая пружинка. Он стал ею щупать маленький поблескивающий камешек на крышке ящика. Миша внимательно вслушивался, осторожно подкручивая ручки. Потом он снял с головы тугую металлическую скобу и сказал:
— Ну, Шаляпин, слушг;й! — и стал надевать скобу на вихрастую, нечесаную голову 7\ндрея.
Он приладил к его уху эту круглую штуку, и в ухо Андрея ворвался странный шум, потрескивание, звуки неведомых инструментов. И все это перекрыл низкий и бархатный голос такой небывалой, неслыханной красоты, что у Андрея перехва-
тило дыхание, ему казалось, что у него лопнет сердце или еще что случится
Голос пел песню со словами непонятными, но такими же красивыми и печальными, как эта мелодия, грустно повторяемая неизвестными Андрею инструментами.
«Уймитесь волнения страсти, — пел где-то далеко в Москве этот удивительный человек, — засни безнадежное сердце, я плачу, я стражду, душа истомилась в разлуке »
Собственно, он пел о том же, о чем пел и сам Андрюшка: о том, как плохо, когда ты один и вокруг тебя нет никого, кто бы сказал ласковое слово и пожалел Только это было невероятно красивее и лучше, нежели Андрюшкина песня про мальчика, жалеющего, что никто не узнает, где его могилка На глазах Андрея, вь[ступ14ли слезы, и внимательно смотрев-
шие на него Варенцов и Миша отвернулись, сделали вид, что они ничего не видят, чем-то заняты Песня закончилась, н неестественно бодрый женский голос объявил:
«На этом передача музыки заканчивается. Говорит Москва! Говорит радиостанция имени Коминтерна! Слушайте нашу следующую передачу » И все замолкло. Андрей еще вслушивался некоторое время, но в наушнике только потрескивало, ничего не было слышно. Он медленно стал снимать с головы тугую скобу.
— Ах, жалко, что малость ты запоздал Кончили пластинки крутить, — сказал Миша. — А знаешь, кто это пел? Твой тезка — Шаляпин! Ну как? Кто из вас поет лучше?
— Брось ты, Миша, свои дурацкие шутки, — недовольно сказал Варенцов, — каждый поет как умеет. У Андрея совсем другой голос, но тоже красивый, может, и из него что получится. Он-то еще ничего в жизни и не видел, кроме барахолок, да сараев, да подвалов. Ну-ка найди ему что-нибудь еще!..
Андрей был совершенно подавлен тем, что с ним случилось за какие-то полчаса Он знал, слышал от кого-то из ребят, что существует вот это — странная, непонятная штука, позволяющая услышать чужой голос за бог знает сколькс верст
— Это радиво называется, да?
— Радио, а не радиво.
— А как оно сделано? А что в этом ящичке?
— Э, брат, эта штука занятная и не. простая. Но если хочешь, можем тебя научить делать эту штуку: она называется радиоприемник
— И у меня будет такой? Совсем такой? И как захочу, так и буду слушать?
— Да вроде так Сделаешь и будешь слушать. А захочешь — и еще кому-нибудь сделаешь. Я этот приемник сам сделал. Если хочешь, могу и тебя научить
— Слушай, Андрюшка! — вмешался Варенцов в разговор Михаила с мальчиком. — До следующего базара целая неделя. Тебе эту неделю все равно как-нибудь надо перебиться. Вот
JQ Шестая станция 28i>
пойди с Михаилом к ним, перекочуй у него, приведи себя маленько в божеский вид, чтобы тебя лошади не пугались, а потом начнешь и учиться делать себе приемник. А вечерком еше послушаешь радио — как поют настоящие артисты! Чем черт не шутит! Может, и ты станешь таким, настоящим артистом, будешь там в Москве петь, а мы с Мишкой тебя по радио слушать Вот будет интересно!.. Миш, веди его в «халуиу-малупу» да захвати приемник — пусть парень сегодня послушает
Михаил отцепил провода от необыкновенного яшичка, взял его под мышку и подмигнул Андрею:
— Айда, Шаляпин, со мной!
на радиоволне
По дороге Андрей все порывался спросить, что это за «ха-лупа-малупа», куда они идут, но стеснялся. Но Михаил не держал Андрея ни заруку, ни за ворот, на него и не глядел даже Андрей решил, что если эта «халупа-малупа» окажется тюрьмой, или милищ1ей, или детским домом, то он всегда успеет смыться — бегать он горазд, никто его не догонит
Но «халупа-малупа» оказалась просто-напросто маленьким и очень красивым домиком. Михаил привел его к крыльцу и сказал:
— Прибыли! Сейчас будем выступать! Жди меня
Через несколько минут он появился с ведром воды, кружкой, с полотенцем на плече, с куском мыла в руке. Увидев на лице Андрея гримасу отвращения, Михаил сурово нахмурил брови:
— Ты не думай, Шаляпин, что я тебя с такими руками близко подпущу к радиотехнике! Да у меня немедленно из строя выйдут все конденсаторы, полетит к черту самоиндукция! Хочешь стать мастером и делать радиоприемники — кончай с этой грязью! Снимай рубаху и штаны, не бойся, тут девок нет, никто тебя не съест! Давай, давай!..
Во всем, что последовало дальше, ничего хорошего не было. Вода была или чересчур горячей или очень холодной, мыло ело глаза до слез. Зажмурившись, беззащитный в своей наготе, Андрюшка стоял под деревом, а быстрые и железные руки его скрелм, поворачивали, и все это под поощрительные советы каких-то голосов вокруг:
— Ну, как негр! Вот это грязюка! Ребята, его надобно на веревке в Волхов спустить п два дня отмачивать!.. Где вы такого достали? Ребята, так ведь это Шаляпин с барахолки, я ж его знаю! Ну, хватит вам парня пугать, он уже и так, вишь, ревет
Когда жесткое полотенце вытерло ему лицо и Андрей открыл глаза, он увидел, что вокруг него стоят человека четыре и со смехом смотрят на то, что с ним делает Михаил.
— Ты смотри, какой красивый парень стал! А он, оказывается, блондин! Он у нас что, новым колгмуиаром будет?
Но Миша решительно сказал:
— Хватит вам языки чесать! Этого Шаляпина зовут Андрей. Он сейчас будет — вне всякой очереди — слушать радио. Сколько захочет, столько и будет слушать! А уж вы — потом. Нй тебе, Андрюха, мою рубашку, одевай. Она немного длинновата, ничего, закатаем тебе рукава, штанов вот нет — придется теб. старые одевать. Потом придумаем. Ребята! Что у кого есть пожрать! Сейчас мы этого артиста покормим. А зато, когда он станет знаменитым и будет петь в Большом или Мариинке, всем нам контрамарки обеспечены!..
И действительно, весь вечер Андрей слушал радио. Он сидел в комнате с наушником и слушал все подряд: как мужчины и женщины рассказывали про царизм, капитализм, про то, какая будет погода; сни читали стихи и пели дивные и разные песни — веселые и грустные, пели по одному и несколько человек вместе. А то играла только музыка, и это тоже было красиво и грустно И как это все происходит, как это можно из такого маленького ящика извлекать все эти голоса, мелодии, — все это было совершенно непонятно и интересно до чертиков
Потом Андрею объяснили, куда ему выходить ночью, ежели понадобится, уложили на чистую настоящую кровать, сетка под ним упруго подскакивала, никогда еще Андрей не спал на такой мягкости! И заснул. Сытый, в тепле.
Как странно закончился этот день!
Утром Михаил разбудил его, накормил, велел ндтн в клуб и ждать его или Варенцова. Днем отвел в столовую, накормил настоящим обедом А когда после гудка все пошабашили, пришел к клубу, одобрительно взглянул на Андрея, стоящего у крыльца, и весело подмигнул:
— Пошли, брат!..
В знакомой комнате, где они вчера были, за столом сидел Варенцов, у окна на табуретке незнакомая женщина с усталым лицом. Варенцов повернулся к вошедшим:
— А вот и он! Видите, Зоя Сергеевна, какой парень? На ять! Знаменитый местный певец по прозвищу Шаляпин! И будет он делать радиоприемники. Миша его научит в радиокружке вашем. Сделает себе приемник, ну, обязательно вам, потом, может, и сюда, нам в ячейку, сделает какой-нибудь поинтереснее приемник Правда, Андрюша? Иди сюда. Это вот Зоя Сергеевна, она из Ладожского детского дома
Так, ясно! Влип!.. Андрей мгновенно оглянулся. Сзади у двери никого не было. Теперь надо только тихонько попятиться, будто нечаянно, затем рвануть дверь и
— Да тебя никто не держит! Хочешь бел^ать — беги! Это, Андрюшка, сколько угодно и когда хочешь. У нас в нашем подшефном детском доме никого силком не держат. Вот Зоя Сергеевна скажет, не даст соврать. Хочешь — уходи, пожалуйста. И никто за тобой гнаться не будет. Только ты, Андрюша, пойми: вот Миша Даплер — он руководит в доме у Зои Сергеевны радиокружком. Там у него все инструменты, все материалы. Если ты хочешь научиться, надо пойти туда. Пока будешь учиться делать радио, тебя кормить будут, дадут где спать, одежонку дадут. Ты читать умеешь?
— Не
— Черт!.. Как же ты схемы будешь читать? Чтобы по-на-
стоящему приемники собирать, надо уметь читать. И писать не мешает научиться. Тебя Зоя Сергеевна научит и читать и писать. А не понравится — уйдешь. Пожалуйста. Миша! Ты когда в кружке занятия проводишь?
— В среду. Послезавтра, 3Ha4iiT.
— Ну, так, может, ты там у Зои Сергеевны подождешь два дня? Понимаешь, Андрей, здесь тебе жить негде. В комсомольской коммуне мест нет, да и коммуна ^!aшa не приспособлена для таких пацанов. А нам ты нравишься, хочется гебя научить чему-то интересному. Пойди в детский дом. Даю тебе комсомольское слово: не понравится тебе, можешь уходить — никто и слова тебе не скажет! Вот мы с Зоей Сергеевной об этом точно договорились. А если понравится — живи, учись читать и делать радиоприемники. Такой кружок только у ник и есть! Даже у наших пионеров нету, а там, в Ладожском детском доме, пожалуйста!
Зоя Сергеевна молчала. Лишь oд^Iн раз утвердительно кивнула головой, когда Варенцов сказал, что может он, Андрей, уйтн из этого дома, когда только захочет. Потом она неторопливо встала:
— Если хочешь, Андрюша, едем со мной. Только тогда возьми у Михаила материалы для антенны.
Дайлер открыл шкаф и достал оттуда медную проволоку, белые изоляторы
— Бери, Шаляпин, все это. Только смотри ничего не растеряй. Послезавтра приеду к вам, будем с тобой ставить такую антенну, что весь мир будем слушать! Довези аккуратно, сдай материал Зое Сергеевне, осмотрись и жди меня Топай, браток!
Всю долгую дорогу до детского дома, пока они на обыкновенной телеге тряслись по проселку, Андрей со страхом и любопытством присматривался к Зое Сергеевне. Андрей был тертый беспризорник, перевидал не один детприемник и не одну такую тетку из воспитательниц Но Зоя Сергеевна не была на них похожа: она не расспрашивала Андрея, кто он, и откуда, и где жил, и кто его родители, откуда он бегал Спро-
сила только, правда ли, что он хочет радио делать, и сказала, что у них есть еще несколько мальчиков, что учатся у Миши Дайлера этому делу.
Неласковая вроде и неразговорчивая эта Зоя Сергеевна, а не будь ее — сбежал бы Андрей из этого детского дома. Ох, и не понравились ему красные монастырские стены, и окованные железом ворота, и суровая кастелянша, что отобрала у него все его шмотки и выдала ему казенные, и мальчики да девочки, что с любопытством смотрели, как его моют, стригут, слушают трубкой, что приставляют к груди и спине За эти два первых дня не раз подумывал Андрей выйти за ворота да припустить по белой дороге Куда бы она ни вела, нигде он не пpoпaдeтf Но каждый раз, когда у":е Есерьез сб этом подумывал, он встречался с внимательными, спокойными и добрыми глазами Зои Сергеевны.
«Подожду, подожду, пока Миша приедет, а там » — решил про себя Андрей.
В среду Миша ворвался в детский дом как бомба. У самых всрот закричал:
— Где Шаляпин? Где мой верный помощник? Где здесь главный спевд1алист по радио?
И, увидев Андрея, затормошил его, закружил, хлопал по плечу, оглядывал, восхищался его новой одеждой, расспрашивал про ребят, с кем успел подружиться, передавал привет от Гриши Варенцова, от всех ребят из «халупы-малупы», чуть ли не от самих Графтио и Омулева. По словам Миши, вся Вол-ховстройка с надеждой смотрит на Андрея, от которого будет зависеть, чтобы радио на Волхове звучало в каждом доме
Два дня прожил Миша в монастырских стенах Ладожского детского дома, и эти два дня запомнились Андрею навсегда. Начать с того, что он, еще один мальчик, которого звали Иваном, и Миша Дайлер, они втроем сделали самый настоящий радиоприемник. Это было самое настоящее чyдof
Из обыкновенной фанеры они сбили маленький ящик, провернули в нем несколько дырок, выкрасили черной краской и
положили сушиться. Потом они начали строить хитрые внут-рениостц для этого ящика. Из толстой бумаги вырезала листочки и обклеивали их серебряной бумагой, что бывает в конфетах н шоколаде. Оин прилаживали эти бумажки к метал-лкчесрюй палочке, бумажки за.ходилн одна за другую — это называлось конденсатором переменной емкости Потом они детали сложную штуку, которая называлась катушкой самоиндукции. На пустую катушку от ниток моталась тнхоиько и аккуратно тонюсенькая проволока. И не просто моталась, а надо было считать каждый впток, и считал Андрей, а Миша только проверял. Потом от. детали детектор: на свечке расплавляли какой-то металл, налили его в крохотулеиькую чашечку и осторожно положили в расплавленный металл камешек — назывался он кристаллом. Подвижной рычажок со стальной пружинкой ощупывал этот кристалл, и от этого зависело: услышат ли они что-нибудь или нет
Много еще было всякой работы в эти два дня. На крыше ставили высокие палки и крепили к ней антенну — такой мед-ьып сплетенный провод на изоляторах; потом тянули проволо-К, к старому колодцу — это называлось заземлением В эти ЛИИ Андрей с Иваном бегали только в столовую. А от всего другого — от уборки комнат и двора, от санитарных бесед и всякого другого, из чего состоит жизнь детдомовцев, — они были освобождены. И в комнату, где они втроем занимались, заходила только Зоя Сергеевна и молча, как всегда, смотрела, как Андрей на примусе варит столярный клей, как он коловоротом дырки крутит А Миша все самое трздное поручал ему, Андрею, и только приговаривал:
— Смотри и запоминай! Ты у меня будешь в радиокружке первый помощник и заместитель А потом и сам станешь руководителем! Только, брат, для этого тебе еще надо научиться читать. Ну, да за зиму ты этому делу научишься, а весной мы будем мастерить не простои приемник, а настоящий супергетеродин, да еще ламповый Во!
А когда все было готово, когда на столе стоял блестящий черный ящичек, поблескивая медными винтиками, шурупами,
клеммами, эбонитовыми ручками, Миша надел Андрею на голову наушник и серьезно, без улыбки, сказал:
— Ну, Андрюха, готов твой первый приемник. И ты его должен первым опробовать. Делай, как я тебя учил. Вот этой ручкой крути вправо, а детектором ищи в кристалле самое чувствительное место
И Андрей — один, сам по себе! — начал крутить ручку конденсатора, правой рукой тыкать проволочкой в кристалл детектора. И он услышал в наушнике потрескивание, шумы и всплески, а потом из этого странного и далекого шума выплыла плавная и грустная мелодия
Андрей поднял к Мише счастливое свое лицо, и тогда в первый раз рассмеялась тихим и серебряным смехом Зоя Сергеевна
— Вот, брат, как у нас!.. — Миша даже прищелкнул пальцами. — Только ты помни, что это все пустяки! Как научишься сам придумывать приемники — вот тогда да, станешь мастером! Ну, до этого еще далековато. Однако первый шаг сделан. Так как, Шаляпин, останешься здесь или же утекешь? Если останешься, пойдем дальше
— Останусь — тихо сказал Андрей, вслушиваясь в музыку, ожидая, что вот-вот вступит тот самый необыкновенный, за душу берущий голос
ОНО ГОРИТ и ЯРКО РДЕЕТ
СМЕРТЬ КОМСОМОЛЬЦА
— А Цехновский был провокатором. Ну, это значит, что он передался дефензиве — у поляков так охранка называется, как у нас при царе жандармы И стал передавать дефензиве все, что коммунисты и комсомольцы делают, где собираются, какие листовки печатают
— А зачем он это делал?
Вожатый Миша Куканов посмотрел в ясные и встревоженные глаза Шурки Магницкого. Всегда этот Шурка задавал вопросы, на которые так трудно отвечать Ну зачем рабочий парень — а этот Цехновский, видно, тоже был рабочим, — зачем он стал предавать товарищей, стал иудой, негодяем, зачем?
Мише трудно было ответить пионеру, ему это самому было непонятно
— За деньги, наверно. Кто деньги любит, тот всегда готов стать предателем. Вот и Цехновский этот стал таким. И всех своих товарищей — комсомольцев, значит, — предал А у революционеров есть свои законы. И по этим законам — предателю смерть! Собрались комсомольцы
— В подполье?
— Ну где же!.. Конечно, в подполье. Собрались и вынесли решение: предателю Цехновскому — смерть! И поручили это сделать комсомольцу Ботвину.
— По жребию?
— Да уж не знаю, по жребию или как. В газете про это не написано. Ботвин, конечно, понимал, на что он идет. Жандармы своих в обиду-то не дают Но^едь настоящий комсомолец — он жизни своей не жалеет ради революции Посредине улицы, днем, Ботвин застрелил провокатора, как бешеную собаку застрелил Его тут же жандармы схватили. И немедленно — военно-полевой суд И приговорили к расстрелу Приговор окончательный, обжалованию ие подлежит. Дали нашему Ботвину один час, чтобы попрощаться с близкими
— И со своими товарищами тоже?
— Так ведь они не могли с ним даже попрощаться — их всех сразу бы и схватили! Когда судили Ботвина, комсомольцы побежали на фабрики, кричат: «Идите все, нашего товарища убить хотят!» Рабочие работу бросили, приказчики из магазинов убежали, весь город опустел — все бегут к суду. Там тысячи людей собрались А вокруг суда полиция, жандармы лошадьми людей давят Все равно приговорили — расстрелять Тогда народ к тюрьме кинулся.
А в тюрьму привели к Ботвину раввина — попа еврейского, значит. Ботвин его из камеры вытолкнул и говорит: «Религия существует для рабов, а я не раб!..» Попрощался с родными, с матерью Ведут его на тюремный двор, а там столб вкопан,
повозка стоит, а на повозке уже гроб приготовлен Си ядет и поет .^Интернационал» А вг: всех камерах заключенные бьют кулЕками, мисками в двери, кричат: «Прощай, товарищ!» — и Еместе с ним поют «Интернационал-^ Подходит Ботвин к месту казни, . мотрелся и крикнул: «Дг.лой буржх лзию! Да здрарствет революция! ^ А за тюремной стеной стоят тысячи люден и вместе со всей лсрьчсй поют «Интернсииснгл». И слышат — шлп..
T.iiapKi. Осипова подаБ1^лссь коротким всхлипом Стояла такая тишина, что было слышно шипенье, с каким сворачивались на костре листья свежих веток. Дым относило в сторону, и в призрачном свете костра Миша видел лица и глс.за всех своиу ребчт.
За этот год Миша Куканов так близко узнал пионеров Волховского отряда, что теперь, глядя на них, застывших в оцепенении от его рассказа, сн знал все, что каждый из них дум.ет и переутллвсет. Недоуменно-грустны глаза Шурки Магницкого. Он никогда не можс г смириться с плохим, страшным, ( му обязательно надобно знлть: поче му люди так поступают. И Миша знает, что не один день Шурка будет ходить за ним и требовать ответа на мучающий ею вопрос: откуда берутся предатели?..
А Генк. К.1К. шиксв nv сил vyf. РГхлакп его с весь
он псиобраЛ(.Л(, о;: там — с польскими Кигсоьгольиг.ми. у него не дрогнет рука застрелить предателя, он готов разделить судьбу Ботвина, он не призп:.ет чпкакой половинчатости ни для себя, ни для других
А Тамарка плачет вовсе не оттого, что у нее, дев тонки, глаза на мокром месте Позавчера на военной игре она провалилась в яму и разбила себе колено до крови, а все же не пискнула даже — ведь была в разведке И с разбитой коленкой доковыляла до штаба и передала донесение! А Ванька Силин слушает рассказ о геройской смерти комсомольца, как интересную сказку, и, кроме любопытства, ничего ке видно на его круглом лице
С каким страхом десять месяцев назад шел Куканов
вместе с секретарем ячейки Гришкой Варенцовым в пионерскую комнату! Как отбивался он, когда его, члена бюро ячейки, назначили вожатым отряда
— Ребята! Как же я пионерам буду говорить, что пионеры не курят, когда я сам курящий?..
— Не будешь, значит, курить
— Я ж не учитель, а слесарь! И я не знаю, что с пацанами, делать.
— Ты ж не отказывался, когда тебя в бюро выбирали! Значит, комсомольцами руководить можешь?
— Ну, могу
— И пионерами, стало быть, сможешь! Требуй с них, помогай им, пусть комсомольцами вырастают. И, конечно, примером будь для них А он, видишь ли, курящий!.. Хороши мы будем, если от такой малости отказаться не сумеем! Значит, голосуем
После заседания Миша мрачно вытащил из кармана папиросу, размял ее и потянулся к Юре Кастрицыну за огоньком. Юрка захохотал на всю улицу. Куканов стиснул зубы, сломал папиросу, повернулся и пошел один. Через несколько шагов он остановился, вытащил только что начатую пачку «Дуката», скомкал ее и швырнул в снег. Назавтра все про всех знающая Ксения Кузнецова подошла в ячейке к Куканову и сладко пропела:
— Мишенька! Дай закурить. Мои кончились
Но, поглядев в бешеные Мишины глаза, поперхнулась и замолкла.
— Ксюша! — сказал Варенцов тем скрипучим голосом, каким он говорил только в минуты большого раздражения. — А вот тебя мы не захотели назначить вожатой И.хорошая ты дивчина, а бузу трешь, как самая последняя балаболка А ведь надо было бы назначить. Не ради пионеров, а ради тебя Может, ты тогда бы и последила за своим язычком
И вот Куканов вожатый Младший братишка, Андрюшка, увидев на шее брата красный галстук, затанцевал по комнате с неистовым криком:
— и я! И я! Я тоже буду пионером!..
Мать недоуменно-соболезнующе покачала головой, но, как всегда, промолчала.
А отец, такой обычно суровый и неразговорчивый, подошел, потрогал Мишин галстук и, неожиданно улыбнувшись, спроспл:
— Так они тебя что, Михаил Петровичем звать станут? Или как?
— Зачем же Михаил Петровичем? Я для них не учитель, а товарищ,. Ну, просто старший товарищ Не зову же я тебя Петром Ивановичем!
— Ну, правильно, старший товарищ!.. Ты, между прочим, братеника младшего повоспитай. А то распустился совсем, думает, что теперь его сразу же в пионеры примут. Как же — брат вожатый! А для коммуниста нет ни братьёв, ни сватьёв! И смотри, чтоб мне в своей ячейке за тебя не краснеть!
Теперь, когда уже столько месяцев прошло, Михаил спокойно и даже с удовольствием вспоминал, как оп стал вожатым. А было немного горьковато Вместо того чтобы после работы бежать в комсомольскую ячейку п там с наслаждением погружаться в дела, крик, споры, песни, шел в пионерскую комнату клуба. А она даже вход другой имела — со двора И, толкуя с ребятами, Миша с невольной завистью вслушивался в веселые голоса за стенкой и различал в этом гомоне и заливистый см€х Ксюши, и высокий голос Юрки Кастрицына, и басок Варенцова И на комсомольских собраниях он был единственным в красном галстуке, и ребята на него оглядывались весело и уважительно. А когда в конце собрания они пели «Молодую гвардию», Миша — единственный — при словах «Мы подымаем знамя, товарищи, — сюда!» отдавал пионерский салют, как это положено у пионеров, когда они поют комсомольский гимн
«Пионер носит свой красный галстук всегда! Он надевает его утром, после того как умоется, и снимает вечером, когда ложится спать», — говорил Михаил ребятам. И сам свой красный галстук носил иг.зеино так. Только на работе он его береж-
но снимал, чтобы не запачкать маслом и железными опилками. А уходя с работы, снова повязывал его, и, когда он шел по улице, огненные языки галстука выбивались из-за воротника куртки. Однажды он встретил бежавшую по улице Тамарку Осипову, она взглянула на него, взметнула над головой руку, готом внезапно обмерла и схватилась рукой за шею — голую ш€Ю без галстука Он ей тогда ничего не сказал, только не ответил на салют и, не взглянув даже в ее сторону, прошел мимо На другой день Тамара вечером нрншла в отряд. Тихая и убитая, сидя в углу, она все время следила глазами за вожатым и ждала, когда он начнет разговор с ребятами о вчерашнем. Но Миша даже не смотрел на нее.
Тамара подождала, пока все не разошлись, ппдошта к вожатому и сказала отчаянным голосом:
— Миша! Я переоделась и забыла Я
— А вдруг ты забудешь, что ты пионерка? — перебил ее Михаил. — В школе — пионерка, на сборе — пионерка А в другом месте — уже не член организации, да? Так у нас не положено! Вступила, дала торжественное обещание — всё! А то что ж Я буду комсомольцем на работе, на собрании, а потом раз — и в церковь или торговать на базаре Так у нас не бывает! Комсомолец — значит, всегда! И на всю жизнь! Только отступись от малого — и про большое забудешь Так что ты, Тамара, про галстук не забывай. Ну и хватит про это!
Конечно, нелегко было Мише. На демонстрации Седьмого ноября — не со своими ребятами, а с пионерами Первого мая в ожидании начала митинга ребята собираются в кружок и на весь поселок с посвистом орут:
Вся деревня без попа,
Ламца-дрица-о-ца-ца,
Раз-го-ва-ри-ва-ют:
«Ай да ребята, ай да комсомольцы!
Браво, браво, браво, молодцы!»
А ты с пионерами стараешься их перекричать:
Дым костра, огней сиянье-янье-яние-яиье
Серый пепел и зола-ла-ла
Да разве перекричишь! Пионеры кричат тоненькими, совсем ребячьими голосами Да н песня не та
А привык! Мишу Куканова трогала и радовала безграничная вера пионеров в своего вожатого, в каждое его слово. Конечно, он старался, чтобы ребятам было весело и интересно. Выпросил у начальника работ Пуговкина проволоку и вместе с ребятами сплел сетки на окна пионерской комнаты. Попросил у Омулева мяч волейбольный. Степаныч, такой всегда скаредный, через два дня сам принес два мяча — настоящих, каких у комсомольцев не было! А Василий Иванович Пугов-кин пришел как-то вечером, посмотрел, как, обдирая в кровь руки, ребята плетут сетку, и недовольно пробурчал:
— Как в каменном веке!.. За что тебе, Куканов, дали пятый разряд, ну просто непонятно! Зайдешь в механическую, там двое тисков лежат без дела, скажешь, что приказал пионерам отдать Ну и плоскогубцы лишние найдутся там А готового ничего у меня не просите — не дам! Инструменты, какие лишние есть, ну и материал — это, может, подкину А все, что надо, пожалуйста, сами делайте! Волейбольную сетку из шпагата сплетете, а вот тут, чтобы ее укрепить, выпилите два кронштейна. И сами, сами пусть пилят! А ты им покажи, ведь пятый разряд — не шутка!..
И зимой, когда не то что волейбольный — мячик от лапты некуда закинуть, пионеры в волейбол играют! А комсомольцы стоят у дверей. Переминаются от охоты поиграть, советы подают и робко просятся: «А нам можно с вамп, ребята?..»
Но дело не в этом! Приятно, когда пионерам весело, когда они торопятся сделать уроки и обязательно, хоть на часик, прибежать в пионерскую комнату Приятно, когда все к тебе относятся уважительно и ласково, когда старый токарь Ми-гунов, который раньше и внимания на него не обращал, вдруг пришел к нему в мастерскую и сказал ему: «Хочу с тобой, Ку-каныч, насчет своего хлопца посоветоваться » И назвал его, как всегда на Волховстройке его отца называют, Кукаиыч
А все-таки приятней всего рассказывать ребятам о граж-
дамской войне, о том, как за границей рабочие с буржуями борются Рассказываешь — и в комнате мертвая тишина, м в обращенных к нему глазах пионеров такая вера, такая убежденность!.. И где бы Л1мша ни показался, сразу же к нему слетаются ребята и ходят за ним стайкой, без всякой надобностн ходят, просто так — чтобы за руку подержаться, спросить чего Вожатый!
первый лагерь
А летом устроили пионеры лагерь — их первый лагерь! Сколько было забот, и горьких и сладких!.. С зимы стали комсомольцы на воскресниках работать — деньги зарабатывать на пионерский лагерь А один общий воскресник сделали — больше тысячи человек пришло работать И Степаныч из Ленпрофсовета привез немного денег. И с родителей, что помногу зарабатывают, часть денег взяли. А потом доставали п;1латки, делали походные кровати Чугунную плиту дали на складе. Котелки всякие, кастрюли там, миски и ложки А завхозом лагеря и главной поварихой назначили эту трепушку — Ксению Кузнецову
И оказалась она такой толковой дивчиной — это она все мискн и всякую утварь раздобыла!
К самому Графтио ходила и кричала там па смотрителя зданий так, что тот даже «титан» — новенький, настоящий шведский кипятильник — отдал! Ксению не перекричишь, не переспоришь, нет!..
Место для лагеря Михаил нашел сам. Искал долго — обходил оба берега на много верст. Сразу же после работы забирал с собой двух старших ребят, Генку Ключникова и Степу Ананьина, и отправлялся на поиски. Ребята, конечно, хотели поинтереснее: предлагали лагерь устроить на острове — чтобы никто незаметно не мог прокрасться, чтобы на лодках переправляться Или же на горе — чтобы красный флаг на высокой мачте был виден из всех деревень. Ну и, натурально, что
бы легче было отражать нападение всех возможных врагов Но хотя эти предложения и были по сердцу вожатому, Миша предложил другое.
Поросшая лесом узкая долина небольшого ручья спускалась клином к Волхову. Большая поляна была зеленая, сухая, она заросла белыми цветами земляники, среди которой уже видны были краснеющие ягоды. И вода в ручье была чистая, холодная, и деревень близко не было, и нельзя было найти лучшего места для военной игры. Последнее и убедило ребят. Потом ходили туда всем советом отряда. И Гриша Ва-ренцов придирчиво осмотрел место и согласился. И Омулев пришел к будущему лагерю, весело тер руки и сказал, чтобы кухню строить за пригорком и обязательно накрыть навесом. А через три дня уехал в Ленинград на конференцию и привез оттуда два костюма — юнгштурмовки Их немецкие комсомольцы носят — «Юнг-штурм».., Зеленые гимнастерки, настоящие портупеи через плечо И, ко всеобщей зависти комсомольцев, отдал эти костюмы Михаилу и Ксении Пионеры ахнули от гордости за своего вожатого, когда он пришел на сбор в гимнастерке с портупеей
Выбирали хозяйственное звено, санитарное звено и военное .чвено. Санитары достали откуда-то ранцы и понаделали из них санитарные сумки. Налепили на них красные кресты, набили их бинтами, аспирином, склянками с йодом и касторкой А с военным звеном, забросив все свои многочисленные дела, возился Юра Кастрицын. Рассказал им, как делать «военную тропу» — такую же, что и у индейцев в Америке. Понаделал дротики и луки со стрелами. Привез из Ленинграда и отдал ребятам два настоящих компаса, походную фляжку, ножик в чехле и топорик с индейским названием «томагавк» Начал ребятам рассказывать про необыкновенную штуку — бумеранг. Делается из дерева, пускается во врага, сбивает его, а потом прилетает обратно Юра перевел не одну сажень дров, изготавливая этот бумеранг — попросту кривой кусок дерева. Но бумеранг хотя ветки и сшибал, как всякая деревяшка, а обратно лететь не хотел. «Не то дерево! —
огорченно сказал Юра.^ — Нужно тиковое или же чернее, а оно около Волхова не растет! ^ Е общем, без бумеранга обошлись. Зато он обучил ребят, как по расположению веток, по тому, где и как на деревьях мох растет, находить страны света. И как, послюнявив палеи, узнавать, откуда ветер дует. И как узнавать на завтра погоду. И как, прил. : ив хуо к земле, слышать далекие шаги прстивника
Ксения с хозяйственнызвеном, с подводами, на которьх лежали палатки, кирпичи, котлы, ложки, миски, уехала в лагерь за целую неделю до выхода отряда.
И вот настал этот день! Миша Куканов еш.е раз, волнуясь, осмотрел строй ребят. Сорок восемь мальчиков и девочек с походными сумками за плеча>и, в красных галстуках не сводят с него глаз Он уходит с ними на все лето, он будет нести за них всю ответственность перед их родителями, что стоят вокруг, перед комсомолом, перед партией Он теперь остается их единственным руководителем, наставником, защитником. Уже нельзя будет отправить домой провинивш-егося парнишку, нельзя будет в трудном случае забежать к Баренцеву спросить совета Теперь он за все в ответе!
— Отряд, смирно! К выносу знамени Равнение на знамя! Салют!
Тревожно и торжественн^ згбил барабан, затрубил горн Сдергивает свою фуражку Степаны":, р, ботне обн../кают головы перед пламенеющим красным пионерским знаменем, которое выносят из дверей клуба Степа Ананыш и его ассистенты.
— Прямо Шагом арш!..
И двинулись. Из окон бараков и домов высовывались люди, махали руками Вышли за поселок, остановились, перестроились в походный порядок. Впереди идет разведка. Она будет оставлять за собой условные знаки, чтобы отряд мог найти дорогу. В голове колонны — самые маленькие и слабые Позади — постарше. В конце походной колонны — санитары. Поход нешуточный — двенадцать верст. Через каждый час — десять минут отдыха. На руке у Миши самые насгоя-
щие часы — «Мозер» Это Юрка Кастрицын ему свои часы отдал: как же, в лагере — и без часов!..
Дорога вьется, вьется По деревенскому проселку, по гЧесной тропинке Успевай смотреть, где заломлена ветка, где брошена скомканная бумажка — знаки правильной дороги, оставленные разведчиками. Правда, дорога эта до того уже знакома Мише, что он ее с завязанными глазами найдет Но это для Миши, а отряд идет по военным приметам.
За деревьями катит свои волны река. Отряд растянулся, бьет барабан, и с горки на горку неутомимо идут ребята в свой первый лагерь. И уже виден у поворота маленький красный флажок — знак: лагерь!.. И замирает сердце от вида белых палаток, посыпанной песком линейки и высокого флагштока — пока еще голого, безжизненного, без знамени. Отрядная колонна останавливается без всякой команды, и общий вздох восторга проносится по рядам. А вместе с ним заьгирает от восхищения и Миша, как будто впервые он это увидел, как будто не вчера только он устраивал эту линейку, не водружал флагшток
Это были в биографии Михаила Куканова самые хлопотливые и самые сладостные дни жизни. Сотни забот, больших и малых, сваливались на вожатого лагеря. Вдруг выяснилось, что Ксюша, захватившая в лагерь всевозможные специи, даже какой-то таинственный кардамон, забыла взять соль И, пока она бегала за ней в Волхов, ребята целый день ели все несоленое. И Миша сидел за длинным столом под соснами, сосредоточенно хлебал невкусный до отвращения суп и поглядывал одним глазом за ребятами: едят? Ребята ели суп мужественно, по-пионерски, не моргнув глазом, ни один из них не пискнул
А был и ужасный день, когда выписали из лагеря и отправили в поселок Тишку Жаворонкова — такого милого и хорошего паренька, самого маленького и всеобщего любимца. Но он нарушил железный закон лагеря — без разрешения один пошел купаться в Волхов Тишка плакал так, что у Миши разрывалось сердце. И плакали все девочки, и ребята
ходили за Мишей и смотрели на него умоляющими глазами. И все это было так горестно, что под каким-то предлогом Мита забежал в штабную палатку н там всхлипнул от жалости к Тншке, у которого так мало радостей дома Но он сказал ребятам, что каждый, кто нарушит этот закон, будет изгнан 113 лагеря! И без всяких исключений! И он не мог не мог нгфушпть слово, данное ребятрм перед строем!.. И он сам отвел Тишку в Волхов, и Тишка плакал всю долгую дорогу, и, забежав домой, Миша посмотрелся в зеркало — ему показалось, что он поседел от всех этих страшных переживаний
И бывали дожди — злые, холодные, с ветром, дующим с Ладоги, — когда кухню заливало водой и кормить ребят надо было в палатках и когда явно заболевали ребята младшего звена, а термометр, оказывается, разбили и санитг,рное звено побоялось об этом сказать вожатому И тихие, по вечерам, когда пионеры уже спали, ссоры с Ксенией из-за ее дурацких песен, которые перенимали у нее ребята, из-за того, что она выгоняла из кухни мальчиков, когда те срезали с картошки слишком толстую кожуру Ну, всякое, конечно, бывало А все-таки, когда Михаил отправлялся по лагерным делам в поселок, ему там не сиделось, и, даже разговаривая с комсомольцами, он торопился и не мог дождаться минуты, когда пойдет обратно в лагерь. Ведь целый день он там не был, и ему казалось, что в лагере за это время произошли всякие невероятные происшествия. Миша торопится, ускоряет шаг, чуть ли не бежит. Солнце уже село, светлые летние сумерки окутывают лес, тропинка становится все менее видной, и вдруг за деревьями раздается знакомый и родной протяжный звук горна:
«Спа-ать, спа-ать по па-ла-ткам!..»
Отбой!.. Ребята спать укладываются! День прошел благополучно.
А самое мплое и хорошее время суток — вечер. После ужина, пока дежурное звено моет посуду и убирает лагерь, ребята бегут в лес и начинают таскать оттуда хворост, целые сухие деревца и звонкие, тяжелые от смолы пеньки. Они
стаскивают все это к месту отрядного косгра — в низинку, у самой реки. И только начнет темнеть, как они уже тянут Мишу к костру, где пирамидон — по-индейски — уложено топливо, а ребята уже расселись кругом на пригорке. Зажигают костер по строгой очереди. Миша протягивает костро-жогу спичечную коробку с одной-единственной спичкой. У парнишки от волнения и стра.ха сразу же становятся мокрыми ладони Костер полагается зажечь одной спичкой, и если это не удастся, костра в этот вечер нет. И, когда так случается, наступает скучный и очень противный вечер. Ребята ходят злые, недовольные, с досадой оглядываясь на притихшего, унылого растяпу, неумейку, который даже костер не сумел по-пионерски разжечь
Но так бывает очень редко. Кострожог становится на корточки против ветра. Он чиркает спичкой, сразу сует огонек в сдвинутые чашкой ладони и, когда спичка разгорается, подносит ее к любовно выложенному им гнезду из сухих листьев, смоляных лучинок, наструганных щепочек. Пламя вспыхивает сразу и мгновенно освеш,ает веселые лица пионеров. Сегодня костер будет!..
Бывает, что у костра рассказывают про страшные и таинственные случаи; горячо, с криками и взаимными упреками, обсуждают подробности последней военной игры; слушают, ежась от страха и волнения, рассказы прибежавшего Юры Кастрицына о том, как какой-то необыкновенный доктор Моро на таинственном острове выводил невероятные создания — полулюдей, полуживотных Ну, а все же больше всего пионеры любят слушать беседы своего вожатого. Миша Куканов не знает таких интересных историй, как Юра Кастрицын. Не так уж много книг он прочитал, да и не умеет он так рассказывать — то повышая, то понижая до шепота голос, делая длинные паузы на самых страшных местах Мнша рассказывает ребятам все, что он прочитал в последнем номере «Комсомольской правды». О том, как в далекой Пензенской губернии три комсомольца отважно вступили в борьбу с кулаками. Как пуля из кулацкого обреза, пущенная в освещеи-
30J
ное окно, разбила стекло н пронзила комсомольское сердце. И как перехватили другого комсомольца, несшего в город заметку о врагах — кулаках, и перебили ему руки н ноги И как третий комсомолец — все равно! — пробрался в город Прятался в камышах, переплывал речку, дер.-; в руке, поднятой над водой, тряпицу, куда была заверн-.т заметка, разоблачающая кулаков Рассказывал Миша плохо, петому что он сам очень волновался, горло у него перехватывало, когда он передавал подробности злодейской расправы над смелыми комсомольцами. Но jvlHuja видел застывшие лица ребят, их расширившиеся глаза, и он знал, что онл думают так, как он, волнуются, как он, ненавидят, как он, готовы сами взять из окровавленных комсомольских рук г.пясанную тетрадную страницу и нести ее далыие
ВЫ с нами, вы с нами
А особенно любили ребята, когда Л\иша расскаэь вал, как за рубежами Советской страны борются комсомольцы с буржуями. Миша им говорил о том, как проходят по улицам буржуйских городов колонны ребят в зеленых гимнастерках, с поднятой правой рукой, крепко сжатой в кулак На них налетает полиция в блестящих, л?<кировгркы\ касках, бьет их дубинками, злобно выворачивает руки, втаскивает в полицейские автомобили. Но все равно полицейским не удается захватить красные знамена!
Эти знамена горят и ярко рдеют, как говорится в той гордон и прекрасной песне, что поют пионеры То наша кровь горит огнем, то кровь работников на нем!..
Охранка, дефензива, сигуранца, сюртэ-женераль В каждой стране они называются по-разному, эти застенки, построенные для того, чтобы пытать и мучить смелых рабочих за то, что те хотят такой же жизни, как у них, в Советской стране! Высокая тюремная стена теряется во мраке берлинской улицы, на берегу далекой румынской реки стоят столет-
ние сырые башни страшного замка, превращенного в каторжную тюрьму. Зарешеченные окна, нз которых вырываются революционные песни, что поют заключенные, пламенеет красный платок, с опасностью для жизни пронесенный в камеру
Они в цепях н наручниках, ii\ морят голодом и избивают, но ОН1! твердо знают, что их товарищи на воле продолжают борьбу. Что в Советской Росснн их товарищи по классу строят новую, рабочую жизнь п здесь, на берегу вот этой реки, строят станцию, какой нет даже у капиталистов. И что рабочие всех стран всегда помнят о них — запертых в этих зловещих и сырых стенах
Товарищи в тюрьмах, В застенках холодных Вы с нами, вы с нами, Хоть нет вас в колоннах
Этой песне их тоже научил вожатый Но неужели они там, за границей, так далеко, знают, что здесь, на Волхове, большевики строят станцию?..
— А Ботвин знал про нас?
— Так неужто не знал, такой парень! Конечно, знал! Потому он и шел так смело на смерть Все равно по-нашему будет! Назло всем буржуям мы тут построим нашу станцию, ни от кого зависеть не будем, им нас не одолеть, ребята!
И вдруг в наступившей паузе с реки явственно донеслось захлебывающееся тарахтение мотора.
— Ло лодка! Ребята, лодка к нам плывет!..
Через минуту никого не было у костра. Все стояли на берегу, всматривались в светлевшую среди темных берегов широкую водяную дорогу. Да, по реке плыла лодка. Она шла на их костер, уже можно было различить в лодке темные силуэты людей, размахивавших руками. Подняв высоко над головой руки и всплескивая ладонями, они кричали:
— Пи-о-не-ри! Пи-о-не-ри! Пи-о-не-ри!
Лодка ткнулась носом в берег, мотор в последний раз чихнул и замолк. Люди попрыгали на землю, и сразу стало по-
нятно, что и лодка не наша, и люди не наши — не с Волхова, не с Новой Ладоги и даже не из Ленинграда. Двое из них были молодые, в защитных, ненашенских рубахах, в коротких штанишках — все в карманчиках И у одного из них, как у Миши Куканова, на шее висел красный галстук, только по-другому завязанный. А третий был уже немолодой, лысый, но такой же веселый, как и его товарищи. И именно он первый подошел к Куканову, протянул ему руку и довольным голосом, уверенный, что он хорошо говорит по-русски, сказал:
— Ми! — Потом ткнул в сторону пальцем: — Данмарк, ошень дольго плаваль Осло, Балт, Ле-нин-град, Нью-Ля-дог Во-ль-хов-стройка! Пионери! Ура! Ура! Ура!
И ребята закричали так пронзительно, что пришлось Мише вытащить жестяной свисток и оглушительно свистнуть.
Через пять минут во всем разобрались. Действительно, приезжие были из самой что ни на есть капиталистической страны — из Дании. И не кто-нибудь, а коммунисты. «Комыу-нистейшин» — как весело говорил, ударяя себя в грудь, лысый датчанин. Его звали Эббе Трупк. А те двое были натуральными комсомольцами — Отто Мельхиор и Flopren Дрейк. А Иорген был даже настоящим вожатым, как и Миша Куканов. Потому что и в Дании есть н коммунисты, и комсомольцы, и пионеры — ну просто как на Волховстройке!
Приезжих, окруженных толпой орущих и топающих от нетерпения пионеров, повели в лагерь. И пока они плескались под лагерными умывальниками, прибитыми к соснам, а Ксения готовила им яичницу, датчанин так оживленно разговаривал с Мишей, что невозможно было понять, говорит ли Эббе по-русски или же Миша по-датски
А время шло, и становилось ясно, что неумолимый Миша и не подумает хоть на полчаса отложить отбой. Им, ребятам, спать, а небось Миша уведет гостей в штабную палатку и всю ночь будет слушать — по-русски или по-датски — рассказы гостей о том, как живут комсомольцы и пионеры в капиталистической Данин.
Так и произошло. Минута в минуту, как по»пожено, протрубил горн к построению на вечернюю линейку. Правда, линейка была красивая и по-необычному торжественная Как никогда, ровно, вытянувшись в струнку, стоял отряд. Как никогда, замерли в пионерском салюте вожатые н звеньевые, повернув головы на флагшток, с которого медленно, под горн и барабан, спускался лагерный флаг. И стояли на правом фланге гости — по-солдатски сомкнув пятки, подняв правые руки с крепко сжатыми кулаками И не так обидно было идти спать, потому что Миша объявил, что датские то-варищ,и останутся на завтра и будут им про все рассказывать. М что даже объявленный на завтра поход — поиски полезных ископаемых — из-за этого отменяется
Назавтра без всякой команды ребята оделись как в воскресенье, в родительский день. Все — в белых рубашках, в красных галстуках. До самого обеда, усевшись на горке, ребята слушали рассказ о том, зачем приехали в Советскую страну гости из Дании. Рассказывал, собственно, Миша — наслушался за ночь! — да и русский язык Эббе было труднее понимать, чем если бы Миша говорил по-датски Эббе, Отто и Йорген только сидели и слушали, что говорил Миша, и, когда в его речи упоминались знакомые им слова, вскакивали с места, размахивали руками и согласно кивали головами
Но вожатый волховского отряда знал про них все и передавал это так, что они сами лучше бы не сумели Да, в Дании и свои коммунисты, и комсомольцы, и пионеры И хотя в этой стране капиталисты не самые свирепые и полиция не хватает коммунистов и комсомольцев на улицах, но и там требуется много мужества, чтобы быть коммунистом. Хозяева их не берут на работу, а если сокращают рабочих, то в первую голову увольняют ненавистных им людей, что носят на груди значок с изображением серпа и молота. А в школах учителя придираются к пионерам, ставят им плохие отметки. Буржуйские дети состоят в скаутах — они ходят в красивых, ладных костюмчиках, в широкополых шляпах, с длинными деревянными палками. На шее у них самые разные цветные
галстуки: синие, зеленые — нег и не может быть только красного И с ребятаип в красных галстуках они дерзтся, лупят их на переменках, требуют, чтобы они сняли свои пионерские галстуки. Но дети рабочих и рыбаков не боятся скаутов. Пусть пионеров мало, но они не дают скаутам спуску и никто из mix fie отказывается от своего гордого пионерского звания!..
А едут они из далекой Дании, чтобы своими собственными глазами увидеть то, что у них в Дании зовут «большевистским чудом». Это их Волховстройка — большевистское чудо! Во всех буржуазных газетах пишут, что не может этого быть, чтобы большевики сами построили такую большую электрическую станцию, какой нет в капиталистической Европе! Обман это, л^ульничество, и больше ничего!.. А коммунисты доказывают; рабочие, когда хозяевами становятся, могут строить получше капиталистов И вот товарищи собрали им немного денег, они купили лодку и поехали сюда. Чтобы потом, у себя в Дании, рассказать все, что они своими глазами увидят. Они плыли на своей лодчонке по Балтийскому морю, и со всех встречающ,ихся пароходов им махали руками и даже иногда бросали спасательные круги — принимали за потерпевших кораблекрушение Но они плыли, плыли и добрались до Ленинграда. А там отдохнули, побывали на заводах. И были на заводе «Электросила», где строились генераторы для Волховской станции. Сами видели и разговаривали с людьми, которые строили эти генераторы!
А теперь они плывут на Волховстройку, чтобы посмотреть станцию, посмотреть, как собирают эти машины. И они смогут сказать своим товарищам: да, большевики станцию свою строят и достроят!
Это был очень веселый день в лагере. Играли с гостями в волейбол, купались, ходили в соседнюю деревню. Датские товарищи оказались совсем компанейскими парнями. Они плясали по-датски и даже пытались обучить пионеров своей датской песне. Ну, уж из этого ничего не вышло
Ближе к вечеру, когда датчан провожали к лодке — они
отправлялись на стройку, — в самый разгар веселой суеты гфоводов к Мише подошел Гена Ключников н отвел его в сторону.
— Миша! Ты спроси у них: а предатели там есть?
— Какие предатели?
— Ну, какие! Эти провокаторы Как Цехновскпй
По такому сложному вопросу объясняться с Эббе было очень трудно. Но Куканов уже давно решил для себя, что ни от каких вопросов свои.х ребят он отмахиваться не будет И на целых полчаса задержался отъезд датчан. Пока в кустах у реки Миша и Эббе размахивали руками и пытались понять друг друга, за ними из-за дерева внимательно и нетерпеливо следили Генкины глаза В общем, договорились! Нет, у датских товарищей провокаторов не было. Действуют они открыто, ни от кого не прячутся, говорят про буржуев всю правду. А если кого буржуйская жизнь больше прельщает — скатертью дорога! Такие коммунистам не нужны — пусть идут на все четыре стороны!..
Уже скрылась за поворотом реки датская лодка, и ребята, разговаривая охрипшими от крика голосами, потянулись к вечерней линейке, иа зов горна. Ключников опять задержал вожатого:
— Нет, Миша! Так не бывает, чтобы капиталисты, да еще такие богатые, как эти, датские, чтобы они предателей не искали! Обязательно будут искать, деньгами улещивать, потому что у коммунистов от буржуев всегда секреты будут! И пусть датские ребята не развешивают уши — им это надобно будет сказать! Ты скажи им, Миша!..
И Миша обещал Генке это сделать. И, когда через два дня сбегал в Волхов, специально зашел в шведский домик, где Эббе разговаривал с каким-то шведским рабочим, и передал датскому коммунисту мнение своего пионера. Не потому, что считал Ключникова очень уж большим специалистом по революционному движению, а потому, что всегда выполнял обещание, какое давал ребятам.
чистка
И вот уже позади веселые хлопотливые лагерные деньки! Но самые большие хлопоты наступили осенью, когда Куканов снова вернулся в свою мастерскую, а ребята в школу и когда только по вечсрад^ они собирались все вместе.
На Волховстройке шла чистка советского аппарата Это вот что значило.
Каждый вечер собираются в клубе рабочие, конторские служащие, продавцы из кооперативных лавок. И каждого по очереди обсуждают. Честно ли ты работаешь? Не замечен ли ты в каких-нибудь махинациях с нэпманами, с хозяйчиками?.. Не маринуешь ли в своем столе важные бумаги?.. Не висит ли у тебя на дверях кабинета мрачная надпись «Без доклада не входить», а рабочие часами ждут, чтобы можно было к начальству проникнуть?.. Не обмериваешь ли покупателей, которые пришли в кооперативную лавку, потому что знают — здесь все честно и дешевле? И каждый, кто хочет, чтобы в нашей стране, на Волховстройке не было бюрократов, волокитчиков, нечестных людей, выступает и говорит обо всех непорядках. А на сцеие за красным столом сидит «комиссия по чистке». И среди них — машинист локомобиля Петр Иванович Куканов
Комсомольская ячейка занималась «чисткой» со всей силой и яростью, на какую только были способны комсомольцы. «Летучие отряды» ходили по лавкам кооперации и проверяли, правильно ли работают весы, не обманывают ли покупателей Это комсомольцы узнали, что бухгалтер Степан-чук заработок ученикам выписывает по одной ведомости — они ведь работают на два часа меньше, — а деньги за них получает по другой Комсомольцы послали новенького рабочего, Васю Караева, получать спецодежду. Он шел от одного канцелярского стола к другому, от второго начальника к третьему В одном месте ему вычеркивали сапоги, в другом — брезентовый фартук, а в третьем — куртку Проходив полдня, он на складе получил пару брезентовых рукавиц и то разно-
го цвета и на одну руку И бумагу с описанием странствий Караева читали в клубе и показывали всем злосчастные рукавицы, и зал дрожал от хохота и криков, а счетовод, ведавший выдачей спецодежды, стоял на углу сцены красный от стыда, позора и страха
Каждый вечер комсомольцы оставались в ячейке допоздна, и утром все останавливались около клуба, у витрины с фанерным крокодилом, подымающим на свои вилы бюрократов, рвачей, бездельников. В этой витрине висели злые и веселые заметки и рисунки, в них уж доставалось всем, кто вчера переминался с ноги на ногу перед своими волховстроев-скими товарищами. «Чистка» захлестнула все комнаты вол-ховстроевского клуба. В партячейке, рабочкоме, комсомольской ячейке — всюду занимались только этим. В одной лишь комнате, куда входили не из коридора, а со двора, все было по-прежнему. По-прежнему играли в волейбол, разучивали новые песни, изучали противогаз, подаренный пионерам Новоладожским военкомом. Но и туда постучалась «чистка»
Из всех комсомольцев меньше всего баловал пионеров своим приходом экправ ячейки Степа Морковкин. Или ои был уж слишком занят своими серьезными обязанностями, или же еще почему, но гостем у пионеров Морковкин был редким. А тут он озабоченный вбежал в пионерскую комнату и перебил Куканова, показывавшего ребятам, что это за штука «двойной морской узел».
— Есть дело. Очень важное. Очень секретное. Давай, Ку-каныч, мне нескольких ребят постарше, и таких, чтобы можно было им доверить
— Здесь все пионеры и всем можно верить. Что ты так предупреждаешь!.. — недовольно ответил Куканов. — Ну, давай говори — тут как раз ребята из старшего, военного звена
Ребята мигом забыли, что Морковкин важничает. Они повскакали с мест, ухватили Морковкина за рукав и с криками: «Степа, сюда, сюда!..» — потянули его к столу. Морковкин сел, вытер рукавом влажное лицо и внимательно оглянулся.
Да, тут действительно были старшие ребята. И Генкз Ключников, и Тамара Осипова, и Ваня Силин, и Лева Ардашни-ков. Ребята на этот раз глядели на него с восхищенпем и ожиданием.
— Значит, так Поповкина Егора Петровича знаете?
— Поповкина?.. Чего-то не слышали
— То-то! Ну, а Глотова?
— Который в конторе? Это во френче что Степан Сав-ватеевич ну, старший в конторе! Да знаем!..
— Тихо! Поповкина не только вы, ребята, — никто на Вол-ховстройке не знает. А есть такой. Числится. Только он все время в командировках. И такое, видите ли, дело: только к получке и приезжает в Волхов А документики ему Глотов подписывает аккуратненько. Как же: в командировке человек, достает для стройки гвозди, ложки, плошки А только никуда он не ездит! И живет себе в Гостинополье спокойненько, а его дружок Глотов ему начисляет и зарплату, и командировочные, и суточные Опять же н на чистку некогда являться Так вот: ему несколько дней назад Глотов опять командировку выписал. А Поповкин спокойненько сидит дома и носа никуда не показывает Если мы, комсомольцы, пойдем в село проверять, сразу смекнет, что к чему, — нас-то все знают А вот уж на вас, ребят, никто не подумает Значит, надо вам пойти в Гостинополье и ^jHiTb, па месте ли Поповкин или уехал Понятно вам боевое задание?
Несложное задание, а все же боевое И после ухода Морковкина добрых пару часов пионеры обсуждали все подробности завтрашней операции. Собственно говоря, в Гостинополье все бывали не раз и ребят тамошних хорошо знают, а Ваня Силин и родом оттуда. Только Поповкина никто не знает, потому что он не местный, откуда-то приехал и в селе только квартирует. Разработали детальный план. Пойдут пятеро. Ванька зайдет к знакомым ребятам, остальные — в школу, где недавно организовался пионерский отряд. Старшим — Генка Ключников, и его команду выполнять беспрекословно!
На другой день вечером, после школы, не заходя домой, все пятеро примчались в отряд. Лица их сияли, несмотря ка то что секретное поручение обязывало к сдержанности н таинственной деловитости. Генка подошел к Мише, отдал салют и, краем глаза указав на ребят из звена «Зашита природы», сколачивавших кормушки для птиц, тихонько промолвил:
— Пусть уйдут Задание выполнено. Сейчас та зовем Морковкина и все доложим
— Зачем гнать? Они своим делом занимаются, а вы своим Пошли в ячейку к Степану, там все и расскажете.
И они все рассказали. Конечно, ни в какой командировке ПопоБКин не находится. Живет себе спокойненько, рыбу ходит ловить И видели его — толстый из себя и фуражка кожаная Степа Морковкин возбужденно начал стучать кулаком по столу.
— Все! Спекся Глотов со своим дружком! Завтра идем в контору, подымем бумаги и выведем эту шайку ка чистую воду! Молодцы, ребята!
Назавтра пионеры ловили Морковкина на улице — не было терпения дождаться его прихода в ячейку. Морковкин был смущен.
— Тю! Понимаете, ребята, все на этот раз в порядке. Иу, что он раньше никуда не ездил, — это факт! Только вот ничего не докажешь! А вот теперь не числится в кочандировке! Отдыхает, видишь ли, после поездки А ведь точно было известно — ему Глотов командировку выписал! Ну и хитер этот Савватеевич! Так все равно поскользнется! Ох, жалко!..
И ребятам было жалко Им, единственным из всего отряда, было поручено настоящее боевое задание, и вот — ни к чему Только Миша Куканов не разделял их уныния.
— Вот если разведчиков послали узнать, есть ли на селе противник, а они вернулись и говорят, что там никого нет, — так что же, они не выполнили задания? Выполнили! И вы, ребята, свое боевое задание выполнили. А уж командование будет знать, что делать Так что нос не вешайте, все было сделано вами по-пионерски!
мститель гена ключников
Оказывается, нет Больше недели прошло с тех пор. Было воскресное утро, не обещавшее ничего хорошего. Дождь, шедший с ночи, сменился мокрым снегом, предательски покрывшим все лужи. Ни о какой прогулке с ребятами не могло быть и речи, оставалось только днем в пионерской комнате провести соревнование старших звеньев по завязыванию морских узлов В комнате у К.укановых было тепло и раздражающе пахло пирогами, которые мать жарила на печурке. Даже отец был дома — на Андрюшкину беду Теперь-то уже наверняка не удастся до обеда сбежать в снежки поиграть
И в это время открылась дверь, и в ней, без сил от волнения, остановилась, прислонившись к стенке, Тамара Осипова. Такой еще никогда не видел Миша всегда спокойную и рассудительную Тамару Платок был сбит на сторону, пальтишко не застегнуто, в выкатившихся глазах — слезы ужаса
— Ми Миша!.. Генка Ваньку Силина повел убивать, наверно, будет *
— Что! Ты что, сдурела?!
— Нет! Ничего не сдурела! Ванька — предагель Как это? Провокатор! Как Цехновский!.. И его Гена с ребятами потащили!..
Миша вылетел на улицу в чем был, без шапки, без куртки Тамара — за ним.
— Куда они?..
— В подполье Ну, где прошлым годом картошка была
Этот старый ДОМ с каменной подклетью был неподалеку.
Миша бежал, не разбирая луж, не чувствуя, как снег сечет его лицо Он рванул полусорванную с петель дубовую дверь, скатился вниз по склизким ступеням и за второй, закрытой дверью услыхал гул мальчишеских голосов, прорезаемый мрачным, не оставляющим тени надежды и снисхождения голосом Генки Ключникова:
-- Галстук! Галстук пионерский снимай! Предатель!..
и в ответ ему — захлебывающийся от слез и страха голос Вани Силина:
— Н-неправда! Я не предатель!.. Ребята, честное пионерское! Под салютом всех вождей!..
Миша в изнеможении прислонился к холодной стенке, и она показалась ему горячей Жив! Успел!.. Он с трудом перевел дух, медленно спустился еще на несколько ступеней и открыл дверь в заброшенный подвал. Стекла в маленьких оконцах под потолком были выбиты, в тусклом и неровном свете осеннего дня лица ребят показались ему серыми, почти незнакомыми. И только через мгновение он рассмотрел, что они не серые, а красные, возбужденные, что ребята дышат, как после долгой игры в лапту
Здесь были самые старшие пионеры отряда. И Степа Ананьин, и Шурка Магницкий, и Лева Ардашников Они стояли кружком вокруг Ваньки Силина, бледного, дрожащего Руки его отчаянно сжимали пионерский галстук, как будто только о нем, о галстуке, и шла речь, как будто только его и необходимо было защитить А Генка стоял против него — сбыченный, с кулаками в карманах
— Миша! Миша!.. — услышал Куканов радостный, полный надежды голос Шурки Магницкого.
Ребята расступились, и Миша уселся на какой-то старый ящик, стоявший у стены. Наверху послышался стук двери, торопливые шаги по лестнице, дверь открылась, и в подвал вошел Петр Иванович Куканов. Позади него выглядывало лицо Тамары. Старый Куканов был в своей рабочей куртке, в картузе. Он остановился у двери, оглядел всех присутствующих, вздохнул, залез в карман и вынул кисет. Миша вдруг понял, что и ему хочется закурить, хочется до головокружения, до нестер пи мости Он проглотил наполнившую рот слюну и, обратившись к Генке, сказал:
— Ну?.. Говори! Ты же теперь и за вожатого и за весь отряд. Сам решил Сам постановил А я-то, дурак, думал — мне ребята верят! Я же вас ш1когда не обманул, ни в чем! Ну, что ж ты молчишь? Говори, если ты пионером себя считаешь!
J J Шестая станция 321
я тебя как член бюро ячейки спрашиваю! И вот тут еще и член партийного бюро стоит. Говори же!
.Гена Ключников вынул руки из карманов и сразу же перестал быть кровавым мстителем, разоблачителем провокатора, каким он себя чувствовал минуту назад. Но ничего! Он и перед комсомолом и перед партией докажет, как он был прав, когда заподозрил нечистое в провале боевого задания.
А подумал он на Ваньку еще тогда, в Гостинополье. Когда тот, вместо того чтобы встретиться на улице с гостинополь-скими ребятами, взял да и начал заходить в дома своих свойственников О чем он там трепался, неизвестно, но в одном доме пробыл долго — ребята на улице заждались его Он, Генка, когда узнал, что у Глотова все в порядке, на другой же день пошел в Гостинополье и там все как есть узнал!.. Как только они из села ушли, этот родственник Ванькин, Михайлов Сидор Трофимыч, сразу же побежал к Поповкину. И тот разом же помчался на Волховстройку А в селе уже знают: задумали вычистить и Поповкина и самого старшего делопроизводителя. А для этого пионеров подослали с самым наисекретным заданием Откуда могли это узнать? Со всеми ребятами он по отдельности толковал — те клятву под салютом давали, землю есть хотели: не говорили!.. Значит, ясно — Ванька Силин предал! Нарочно предал! Как Цехновский Потому что так же любит деньги! Ребят в кино бесплатно пускают, а он родителям говорит, что за деньги, и каждый раз по гривеннику у них берет И этих гривенников у него уйма! На рубль, а то и больше! А как на жертв контрреволюции собирали, дал как все: пять копеек Ясно, что он самый настоящий провокатор и пусть теперь отвечает перед судом своих товарищей Которых предал! Только пусть пионерский галстук сначала снимет! Потому что нельзя, чтобы они человека в пионерском галстуке лупцевали ну, отомстили А Мише не сказали потому, что стыдно и совестно перед ним. Он им поручил, доверил как самым старшим, сознательным ребятам в отряде — и вот тебе!.. А Ванька не только предатель, но и
трус! Испугался, что ребята его лупить будут, Тамарку за Мишей лослал!
— И никого я не посылал! И не просил!.. Тамарка, скажи же — я тебя просил? Просил, да?
Теперь лицо Вани уже порозовело, бледность с него сошла, и только дорожки слез еще говорили о пережитом страхе
— Никого я не предавал! Я, когда зашел к Сидору Тро-фимычу, Прошке только сказал, что мы с секретным заданием Ведь он в пионеры собирается Он страшную клятву давал! Ну конечно, не пионерскую, потому что не пионер И про деньги Генка неправду говорит У меня рубль и еще сорок копеек Я птицу хочу купить — кенаря А он два с полтиной стоит И я про птицу не таился. Тамарка, скажи же — говорил про птицу?
Пока Ваня выкрикивал оправдательные свои слова, Миша сидел на ящике и думал.
Конечно, он знал, что в отряде ребята разные. Иначе и не может быть. Но он думал, что все их ребячьи жизни — у него как на ладони. А он, оказывается, и не знал, что этот вялый увалень Ваня Силин — такой страстный любитель птиц. И что боевая Тамарка с ним дружит, а не с ребятами из военного звена, где она находится И что тихий правдоискатель Шурка Магницкий может тайком от него, вожатого, пойти в подвал лупить товарища Как же их — всех таких разных — спаять, объединить?.. Ведь он их должен вырастить в коммунистов
— Кенарь! — Гену даже передернуло от негодования. — Птица буржуйская тебе дороже всего! Как на тех, что за нас в тюрьмах сидят, — так пять копеек, а на птицу свою — два с полтиной! Пионер еще называется! Нам такие не нужны!.. И пусть снимет галстук! Товарищ Куканов! Петр Иванович, скажите!..
— Насчет галстука вы уж сами решайте Не мы, а вы сами, ребята, принимаете в пионеры, вы сами и решайте, кто недостоин быть пионером А только я вам вот что скажу.
Нехорошо Силин сделал — растрепался, повредил делу. На войне такая штуковина жизнью своих товарищей оборачивается Вот Ваньку мы и должны научить сейчас, чтобы он потом, когда посерьезней что будет, не поскользнулся, себя не погубил и товарищей своих Только что ж ты, Ключников, один за всех решать стал? Тебя что, судьей кто выбирал? Ты ведь не только Силину не веришь — ребятам не веришь, всему отряду не веришь, Михаилу вот моему, вожатому своему, тоже не веришь Все один! Один следствие пошел наводить, один приговор вынес, один решил бить Силина
— Да не один, Петр Иванович! Я же позвал ребят
— Чего — позвал ребят? Ты их позвал, чтобы они твой приговор выслушали и помогли тебе привести его, что ли, в исполнение. Вот для чего ты их позвал! А почему же ты не хочешь верить Силину? Ну натрепался, ну ошибся — нет, ты его сразу же- — предатель! И в подвал! А мы кровь проливали, чтобы из подвалов выйти на свет белый Чтобы там, на свету, перед всеми людьми дела свои делать! Виноват — отвечай перед всеми! Вот так Знаешь, Ключников, наше дело на вере держится! Вот кончаем станцию. Задумал ее Ильич построить. Сколько кругом было неверующих! А рабочие поверили! И — построили. А перестанем товарищам верить, начнем верить только самому себе, а других ни за что считать, — все рассыплется Ильич однажды сказал: идем, дескать, по узенькой дорожке, над пропастью идем И идем, взявшись за руки, держась друг за друга Ну, не любишь ты, Генка, птиц, а Силин их любит — так пусть! Не птицы же вас вместе собрали, а другое: вот галстук красный, знамя наше красное Ну, я пойду Разбирайтесь сами в своих делах.
Куканов притушил о мокрую стену свою цигарку, повернулся, открыл дверь и зашагал вверх по лестнице.
Миша проводил взглядом отца и повернулся к Ключникову:
— Ну, так что. Гена? Снимать Силину галстук? Ты его один будешь бить, а нам смотреть? Или как? А может, нам всем галстуки поснимать? Потому что тут ни отряда нет, ни
совета отряда, ничего — один Генка Ключников со своим хотением
— Миша! Так я что Я ради знамени хотел Чтобы не предавать его
— Оно не над тобой одним, наше знамя! Оно над нами всеми! Оно отрядное, а не твое, Ключников! Ну ладно. Соберем отряд, на нем и поговорим обо всем. Ардашников! Тебе как секретарю совета отряда поручаю: сегодня к шести вечера собрать по цепочке весь отряд на сбор А теперь знаете что, ребята? Пошли все к станции! А ну, двинулись!.. Я только домой за одежкой забегу
Как хорошо было на улице! Снег уже шел другой — не жесткий, колючий и холодный, а мягкий, пушистый и теплый Огромные, сцепившиеся друг с другом хлопья кружились медленно в воздухе. Они покрыли все крыши, все лужи, все грязные дорожки, все пригорки, всю землю. В какие-то несколько минут, что Миша провел в подвале, снег разукрасил поселок, сделал праздничным, радостным все привычное кругом
С высокого берега, к которому они подошли, станция была видна как нарисованная, как на том плакате, что висел в рабочкоме Плотина пересекала реку стройно и свободно, будто ее уверенной и мастерской рукой провел по листу бумаги художник. Огромные гранитные плиты облицовывали здание станции. Казалось, что оно все высечено из могучей гранитной горы на сотни, на тысячи лет, навсегда Колоссальные окна машинного зала были только что протерты, и снег отражался в них, как в зеркале. Не было уже вокруг строительного мусора, опрокинутых тачек, мотков проволоки Площадь перед станцией была пуста, чиста, только сбоку стояла еще не оконченная трибуна — станция готовилась к открытию
На крыше станции на высоком флагштоке полоскалось алое полотнище.
— «Оно горит и ярко рдеет » — вдруг сказал молчавший все время Шурка Магницкий.
— Ага! — кивнул Миша Куканов.
НОВЫЙ год
— и осталось до него — Юра Кастрицын отогнул левый рукав куртки и посмотрел на часы. — Осталось до него не больше не меньше, как семь часов и сорок пять минут Ну, секунды считать не будем
— Долго еще!.. — вздохнул Петя Столбов.
Саша Точилин с удивлением оглянулся на Петьку:
— А чего торопишься? Завтра уже будет двадцать седьмой — и прощай, Волховстройка! Люди на работу выйдут, вечером братва в ячейке соберется, а для нас всего этого уже нет Мы уже не волховстроевцы, а свирьстроевцы И как-то не выговаривается А я, ребята, и не пойму еще никак: неужто будем жить без всего вот этого?..
Когда-то, в незапамятные еще времена, какой-то разозлившийся плотшш-аккуратист сколотил около инструменталки
деревянную скамейку, чтобы получаемый инструмент не класть на мокрую землю. Давно уже уехали со стройки плот-никн-костромичн. И старую дощатую инструменталку уже убрали с этого места. А скамейка осталась. И на ней в белые летние ночи и в прохладные осенние вечера рассаживались ребята — песни попеть, договорить то, что не было до конца выговорено в ячейке, поспорить до истошного крика, — словом, бузу потереть, как нелестно сказал об этих сборищах комсомольский секретарь Гриша Варенцов Да и трудно было найти для этого более подходящее место. Вся Волховстройка как на ладони И плотина, и канатная дорога, и шлюз, и сама станция.
— Что вы в этой скамейке нашли? — спросил как-то у комсомольцев Омулев, пришедший сюда на страшный крик и спор.
— А мы смотрим, не украли бы кусок Волховстройки, — ответил ему остряк Петя Столбов.
Омулев посмотрел вниз, покачал головой и согласился:
— Это да!.. Все, что наше, — тут под рукой Ну и кричите вы, ребята, так, что никакой вор близко не подойдет и не отхватит куска станции или кессон какой
Вот на этой скамейке и собрались волховстроевские комсомольцы в том томительном безделье, которое наступает, когда работы уже нет, предпраздничные хлопоты окончились, а праздник еще не наступил. И, сколько бы ни было праздников в году, это тягучее чувство медленно тянущегося времени бывает так сильно только один раз — перед Новым годом
Значит, все-таки он наступает, этот новый, тысяча девятьсот двадцать седьмой год
— Ребята! Особый год! — сказал еще накануне открытия станции Гриша, принеся в ячейку большой новый табель-календарь. — Во-первых, десятый год Великой пролетарской революции! Понятно? Десять лет уже будет — вот какие мы с вами уже старики! А потом — как родная меня мать провожала Поедем с вами на речку Свирь! Плотину поставим, станцию построим А потом — дальше А рек-то знаете сколько в Советской России — строить нам, не перестроить!
Тогда, в предпраздничной суете, перед открытием, когда столько гостей съехалось и когда спать было некогда, как-то не обратили внимания на Гришкины слова. Давно уже было известно, что поедут" на Свирь Едет туда Графтио, и Омулев едет, и добрая половина комсомольской ячейки записалась на новую стройку, и большинство кадровых рабочих уже вещички свои начали паковать.,. Только казалось, что прощание с Вол-ховстройкой — дело далекое, будущего года Какая там Свирь, когда открываем свою Волховскую станцию!
Это было 19 декабря 1926 года Трибуну устроили на первом генераторе. Огромное массивное тело машины было обвито красными лентами. Трибуна не вмещала всех гостей — даже самых почетных, приехавших сюда, к ним, открывать станцию.
Генрих Осипович Графтио, стоя на трибуне, осматривал зал, машины, людей с таким восхищенным удивлением, будто видел все впервые Больше месяца назад, когда опробовали этот генератор и впервые дали ток на линию и подстанцию в Ленинград, Генрих Осипович был совершенно спокоен и весел. А теперь — всем было видно, как он бледен, как дрожит его рука, опиравшаяся на край фанерной трибуны.
А у Кирова блестели глаза, когда он говорил о том, какие еще замечательные станции, заводы, города построят большевики Они — волховстроевцы, ленинградцы, весь советский рабочий класс — построили ленинскую станцию, они выполнили клятву, которую дали Ильичу! И это только начало!
Четыре шведских генератора стояли рядом, друг около друга, блестя свежей краской кожухов. Но, когда Киров говорил, он указал рукой не на них, а на огороженное канатами и плохо окрашенными фанерными щитами место за ними. И все повернули головы туда. Там встанут еще четыре генератора — они будут нашими, советскими, впервые построенными Они уже готовы, эти громадные машины, сделанные ленинградскими рабочими. Никогда еще Симменс-Шуккерт не строил на своем петербургском заводе подобных машин! А когда этот завод стал советским, стал «Элекстросилой», он построил самые большие в Европе электрические генераторы. И здесь, в зале Волховской станции, стояли те, кто их делал. Краснопу-тиловцы — они отлили стальные тела генераторов; балтийцы дали чугунное литье; рабочие с «Большевика» отковали и обработали могучие валы роторов; электросиловцы собрали машины
Они стояли в одном строю — молодые и постарше, а некоторые уже совсем седые. Одетые кто в кожанки, кто в косоворотки, кто в старые, справленные еше до революции, черные костюмы с высокими, смешно выглядевшими жилетами Питерцы!.. Они всё умели! И уже не казалось таким страшным известие, которое несколько дней назад взбудоражило всю Волховстройку.
В Финском заливе затонул пароход «Вальтер Холькен». Это был шведский пароход, на нем везли много оборудования, закупленного в Швеции для Волховской станции. Нет, ленинградцы, приехавшие на станцию и разузнавшие в порту все подробности катастрофы, говорили, что это было совсем особое кораблекрушение Корабль не столкнулся с айсбергом, на него в плотном черном тумане не наскочил другой пароход, и не было рева шторма и высоченных валов, перекатывающихся через палубу корабля. Днем в тихую и спокойную погоду корабль дал течь, и старенькие помпы не могли откачать воду, заливавшую трюмы. Этим помпам было столько же лет, как и самому кораблю, — не меньше полувека Старая посудина, мирно ржавевшая до этого на приколе и зафрахтованная для перевозки оборудования, спокойно и медленно шла на дно. потому что ходить по морю она уже не могла Из всего пароходного оборудования в полном порядке были только спасательные шлюпки: хорошо зашпаклеванные и покрашенные, с новенькими моторами Без всякой паники, как на прогулке, команда уселась в шлюпки. Как это положено по всем морским традициям, капитан последним оставил корабль, захватив с собой все судовые документы. Среди них наиболее ценными были страховые полисы. В конце концов, смешно пускать эту старую рухлядь на слом, когда выгоднее застраховать ее и груз Дело есть дело, а большевики в следующий раз будут осмотрительнее
На шведских судоходчиков гибель «Вальтера Холькена» не произвела особого впечатления. И не то бывало А вот на Волховстройке это показалось сначала настоящей катастрофой. Но выяснилось, что уже ничто не может повредить пуску
станции. Четыре новых генератора строили на «Электросиле», вспомогательное оборудование тоже берутся делать на советских заводах. Нет, уже Волховская станция не зависела от капиталистов!..
Вот она, наша красавица!.. Перед плотиной — огромная замерзшая равнина разлившейся реки. С водоспуска низвергается кипящий желтый водопад. Отсюда не видно, как внизу, в бетонных гнездах, бешено крутятся турбины, как стальные валы вращают оплетенные проводами якоря генераторов. Высокие железные опоры несут тяжелые медные провода, и по ним туда, в Питер, к фабрикам и заводам, каждую секунду, минуту, час за часом и день за днем — безостановочно! — уходят потоки волховской энергии. И это сделано ими!
— Сашка, помнишь?.. Ничегошеньки этого не было! Веду ребят с Тихвина, рассказываю им всякие байки про станцию, а как посмотрел на пустую реку да как подумал, что нам все надо построить, внутри даже замерло! И верю во все, что говорю ребятам, а в голове не укладывается! А сейчас знаю — приедем мы на эту Свирь, и там такая же река и берега пустые, и начинать будем на пустом месте А уже ничего не страшно! Все по-другому! Да и мы-то, ребята, другие!.. А?
Грише Варенцову никто не ответил. Наверно, каждый вспоминал, каким он пришел сюда
Здесь кончилось время мальчишеское и началось другое. И это другое тоже кончается, и впереди еще столько неизведанного, интересного!
— Ладно, философ! — Юрка Кастрицын вскочил со ска-.мейки. — Пошли, что ли, в контору. Зайдем к самому Графтио и у него точно узнаем: когда едем на Свирь! И утверждены ли списки? А то ведь мы тут размечтались, а старик, может, уже прошелся по спискам толстым красным карандашом И против фамилий некоторых товарищей — ну, там Варенцова какого-то или Точилина — написал три буквы: Э. Н. и О Как вы думаете, что это значит?
Точилин схватил Юру за шею, пригнул его голову и прошелся пятерней по его рыжим волосам — от затылка ко лбу.
— Нет, братишка! Про Александра Точилина Графтио еще ни разу не говорил: «Это не орел!..» А вот про рыжего экскаваторщика, который однажды ковш оборвал, он такое сказал!.. И еще ему это припомнит!.. Давай пошли к Графтио!
А надо сказать, что это вовсе не простым делом было — пойти к Графтио спрашивать, кто поедет. Волховстроевских комсомольцев трудно было смутить, и не было еще на свете человека, которого бы они боялись И Генриха Осиповича они никогда не боялись и смело вступали с ним в спор, когда добивались своего. А все же холодок пробегал у них по спине, когда на стройке появлялась высокая, слегка сутулая фигура начальника строительства. И это было тем более удивительно, что Графтио никогда не топал ногами, как это делал Пуговкин, не язвил ядовито, как Кандалов, не ворчал по-стариковски, как Омулев Когда Графтио видел, что дело сделано плохо, небрежно, лицо его становилось страдальческим и брезгливым. Он отворачивался, безнадежно махнув рукой, и, шаркая ногами, уходил А бывало еще хуже — когда он, уходя, ронял слова: «Да, это не орел!..» Большего ругательства у Графтио не было, и оно означало крайнюю степень презрения к недобросовестному человеку: халтурщику и бузотеру И эти слова уже запоминались навсегда, как запомнил их Юра Кастрицын в тот черный день, когда он решил перегнать своего старого и опытного сменщика и запорол экскаватор
Конторские уже разошлись. Перед кабинетом Графтио, в маленькой приемной, секретарша вшивала в папку бумажки. Наверно, последние бумажки за этот необыкновенный год окончания строительства На вопросительный взгляд комсомольцев она ответила: «Отдыхает Генрих Осипович». Действительно, в приоткрытую дверь было видно, как на кушетке спит Графтио, положив под голову свой толстый портфель. Рабочий день строителя Волховстроя начинался рано, в темноте, и длился не меньше семнадцати-восемнадцати часов После обеда Графтио ложился на час отдохнуть у себя в кабинете, и в этот час никто не решался беспокоить старого и очень
уставшего человека. Комсомольцы молча смотрели, как спит Графтио, положив голову на жесткий портфель, его длинные ноги не помещались на небольшой клеенчатой кушетке Ребята уже было тихонько повернулись, чтобы на цыпочках, неслышно уйти, как Графтио открыл глаза, машинально посмотрел на ручные часы и сразу же приподнялся.
— О! Молодежь волнуется перед Новым годом! Сейчас они старого Графтио трясти будут, уговаривать, наверно, в «Синей блузе» играть Так, что ли, Варенцов?..
— Да нет, Генрих Осипович Мы насчет Свири Чтобы всем комсомольцам прямо вот так и двинуться Ну, вместе Мы тут вместе работали, вместе и поедем строить Свирь Списки составили, подали в контору.
— Дела идут, контора не пишет, — вмешался Кастрицын.
— Напишет, напишет, — примирительно пробормотал Графтио.
Сон уже с него сошел, он сел за стол и, прищурившись, оглядел заполнивших его крошечный кабинет комсомольцев.
— Понимаете, товарищи, это ведь не экскурсия, не прогулка. Начнем на Свири от нуля. Как когда-то здесь, на Волхове, начинали. Да начнем по-новому, по-другому. Главное — есть кому строить, вот в чем дело! Ну чего вам, Точилин, делать сейчас на Свири? Вы монтажник, монтируете генераторы. На Свири еще до них ой как далеко!.. А здесь еще четыре генератора монтировать. Самим, без всяких там шведов А вот Варенцов взрывник! Ему сразу же дело есть на новом строительстве. И Кастрицын со своим экскаватором туда сразу же переедет. Плотники поедут все — бараки и дома строить Будет время — все соберетесь на Свири А потом опять уезжать — кто пораньше, кто попозже Вам, друзья, знаете еще сколько станций строить! Вы теперь строители — значит, кочевники Всю жизнь будете кочевать От одной реки — к другой, с одного конца России — в другой И нет, я вам по секрету скажу, веселее этого дела! Приехали — глушь, пустыня, как при половцах было А уезжаете — все залито светом, станция, город, заводы начинают строиться Очень веселое
дело — строить станции! Мне вот не повезло — уйму лет зря потерял А вы счастливые! Вам еще строить!.. А хорош у нас Новый год сегодня, а? Открыли нашу станцию, поедем другую строить! Вот бы так всегда! Ну, с Новым годом!
На улице уже было совсем темно. Начала заметать поземка. Молча, не сговариваясь, комсомольцы зашагали в ячейку. Прош,ай, старая, милая, обшарпанная комната! Будут другие ячейки, другие комнаты, но уже никогда не будет такой!
— Что вы, черти, приуныли! — Юрка остановился, топнул ногой и взлетел на пень. Он сдернул с головы шапку, и его огненные волосы раздувал ветер.
Прощай, знакомая каморка, Мне нечего тебя жалеть! Везде есть свойская махорка. Везде я буду песни петь!
— Везде, везде Это точно. Ты везде будешь петь, — пробормотал Варенцов, пытаясь стащить Юрку с пня
Но Кастрицын, отбиваясь руками и ногами, продолжал декламировать:
Ну, коммунисты, публика — Все мыслят об одном: Жила бы Совреспублика, А мы-то проживем!
— Вот тут-то ты хоть сказал дело. Пошли торопить старый год! Тянется!.. Забыл, что ли, что здесь Волховстройка!
Для среднего и старшего возраста
Разгон Лев Эммануилович ШЕСТАЯ СТАНЦИЯ
Ответственный редактор Г. А. Дубровская. Художественный редактор Н. Г. Хо-лоОовская. Технический редактор О. Н. Яковлева. Корректоры К. И. Иаревская и С. Ульянова.
Сдано в набор 4/IX 1970 г. Подписано к печати 31/111 1971 г. Формат 60x84Vi6. Печ. л. 21. Усл. печ. л. 19,59 (Уч.-изд. л. 16,02). Тираж 75 000 экз. ТП 1971 Ni 474. А 09234. Цена 63 коп. на бум. М 2. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знлмсип фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печатп при Совете Министров РСФСР. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ 1149.
|