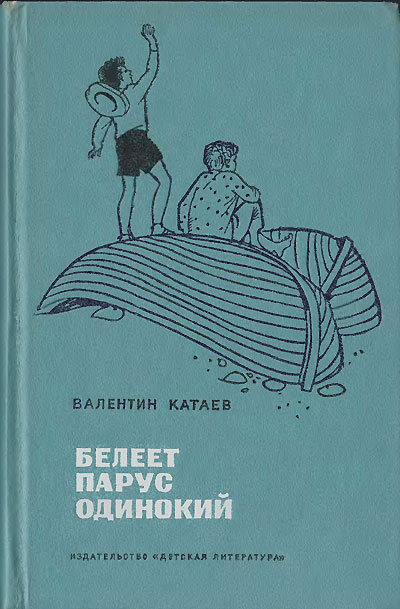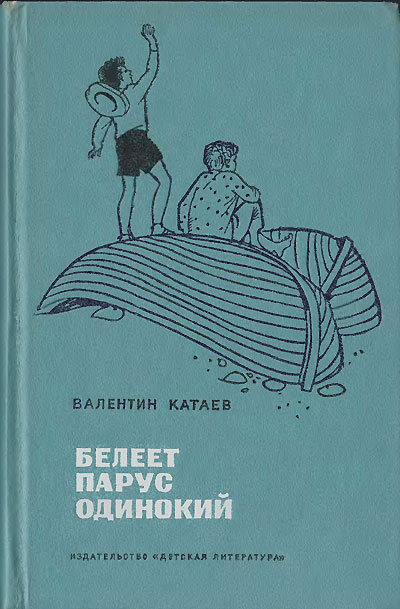|
1. ПРОЩАНЬЕ
Часов около пяти утра на скотном дворе экономии раздался звук трубы. Звук этот, раздирающе-пронзительный и как бы расщеплённый на множество музыкальных волокон, протянулся сквозь абрикосовый сад, вылетел в пустую степь, к морю, и долго и печально отдавался в обрывах раскатами постепенно утихающего эха.
Это был первый сигнал к отправлению дилижанса. Всё было кончено. Наступил горький час прощанья. Собственно говоря, прощаться было не с кем. Немногочисленные дачники, испуганные событиями, стали разъезжаться в середине лета.
Сейчас из приезжих на ферме осталась только семья одесского учителя, по фамилии Бачей, — отец и два мальчика: трёх с половиной и восьми с половиной лет. Старшего звали Петя, а младшего — Павлик. Но и они покидали сегодня дачу. Это для них трубила труба, для них выводили из конюшни больших вороных коней.
Петя проснулся задолго до трубы. Он спал тревожно. Его разбудило чириканье птиц. Он оделся и вышел на воздух.
Сад, степь, двор — всё было в холодной тени. Солнце всходило из моря, но высокий обрыв ещё заслонял его.
На Пете был городской праздничный костюм, из которого он за лето сильно вырос: шерстяная синяя матроска с пристроченными вдоль по воротнику белыми тесёмками, короткие штанишки, длинные фильдекосовые чулки, башмаки на пуговицах и круглая соломенная шляпа с большими полями.
Поёживаясь от холода, Петя медленно обошёл экономию, прощаясь со всеми местами и местечками, где он так славно проводил лето.
Всё лето Петя пробегал почти нагишом. Он загорел, как индеец, привык ходить босиком по колючкам, купался три раза в день. На берегу он обмазывался с ног до головы красной морской глиной, выцарапывая на груди узоры, отчего и впрямь становился похож на краснокожего, особенно если втыкал в вихры сине-голубые перья тех удивительно красивых, совсем сказочных птиц, которые вили гнёзда в обрывах.
И теперь, после всего этого приволья, после всей этой свободы, — ходить в тесной шерстяной матроске, в кусающихся чулках, в неудобных ботинках, в большой соломенной шляпе, резинка которой натирает уши и давит горло!..
Петя снял шляпу и забросил её за плечи. Теперь она болталась за спиной, как корзина.
Две толстые утки прошли, оживлённо калякая, с презрением взглянув на разодетого мальчика, как на чужого, и нырнули одна за другой под забор.
Была ли это демонстрация или они действительно не узнали его, но только Пете вдруг стало до того тяжело и грустно, что он готов был заплакать.
Он всей душой почувствовал себя совершенно чужим в этом холодном и пустынном мире раннего утра. Даже яма в углу огорода — чудесная глубокая яма, на дне которой так интересно и так таинственно было печь на костре картошку, — и та показалась до странности чужой, незнакомой.
Солнце поднималось всё выше.
Хотя двор и сад всё ещё были в тени, но уже ранние лучи ярко и холодно золотили розовые, жёлтые и голубые тыквы, разложенные на камышовой крыше той мазанки, где жили сторожа.
Заспанная кухарка в клетчатой домотканой юбке и холщовой сорочке, вышитой чёрными и красными крестиками, с железным гребешком в неприбранных волосах выколачивала из самовара о порог вчерашние уголья.
Петя постоял перед кухаркой, глядя, как прыгают бусы на её старой, морщинистой шее.
— Уезжаете? — спросила она равнодушно.
— Уезжаем, — ответил мальчик дрогнувшим голосом.
— В час добрый.
Она отошла к водовозной бочке, завернула руку в подол клетчатой панёвы и отбила чоб.
Толстая струя ударила дугой в землю. По земле покатились круглые сверкающие капли, заворачиваясь в серый порошок пыли. Кухарка подставила самовар под струю. Самовар заныл, наполняясь свежел, тяжёлой водой. Нет, положительно ни в ком не было сочувствия!
На крокетной площадке, на лужайке, в беседке — всюду т» же неприязненная тишина, то же безлюдье.
А ведь как весело, как празднично было здесь совсем недавно! Сколько хорошеньких девочек и озорных мальчишек! Сколько проказ, скандалов, игр, драк, ссор, примирений, поцелуев, дружб!
Какой замечательный праздник устроил хозяин экономии Рудольф Карлович для дачников в день рождения своей супруги Луизы Францевны!
Петя никогда не забудет этого праздника. Утром под абрикосами был накрыт громадный стол, уставленный букетами полевых цветов. Середину его занимал сдобный крендель величиной с велосипед.
Тридцать пять горящих свечей, воткнутых в пышное тесто, густо посыпанное сахарной пудрой, обозначали число лет роженицы.
Все дачники были приглашены под абрикосы к утреннему чаю.
День, начавшийся так торжественно, продолжался в том же духе и закончился детским костюмированным вечером с музыкой и фейерверком.
Все дети надели заранее сшитые маскарадные костюмы. Девочки превратились в русалок и цыганок, а мальчики — в индейцев, разбойников, китайских мандаринов, матросов. У всех были прекрасные, яркие, разноцветные коленкоровые или бумажные костюмы.
Шумела папиросная бумага юбочек и плащей, качались на проволочных стеблях искусственные розы, струились шёлковые ленты бубна.
Но самый лучший костюм — конечно, конечно же! — был у Пети. Отец собственноручно мастерил его два дня, то и дело роняя пенсне. Он близоруко опрокидывал гуммиарабик, бормотал в бороду страшные проклятья по адресу устроителей «этого безобразия» и вообще всячески выражал своё отвращение к «глупейшей затее».
Но, конечно, он хитрит. Он просто-напросто боялся, что костюм выйдет плохой, боялся осрамиться. Как он старался! Но зато и костюм — что бы там ни говорили! — получился замечательный.
Это был я настоящие рыцарские доспехи, искусно выклеенные из золотой и серебряной ёлочной бумаги, натянутой на проволочный каркас. Шлем, украшенный пышным султаном, выглядел совершенно так же, как у рыцарей Вальтера Скотта. Даже забрало поднималось и опускалось.
Всё это было так прекрасно, что Петю поставили во второй паре рядом с Зоей, самой красивой девочкой на даче, одетой в розовый костюм доброй феи.
Они прошли под руку вокруг сада, увешанного китайскими фонариками. Невероятно яркие кусты и деревья, охваченные зелёными и красными облаками бенгальского огня, вспухали то здесь, то там в таинственной тьме сада. В беседке, при свечах под стеклянными колпаками, ужинали взрослые. Мотыльки летели со всех сторон на свет и падали, обожжённые, на скатерть.
Четыре ракеты выползли, шипя, из гущи бенгальского дыма и с трудом полезли в гору.
Но ещё где-то в мире была луна. И это выяснилось лишь тогда, когда Петя и Зоя очутились в самой глубине сада. Сквозь дыры в листве проникал такой яркий и такой волшебный лунный свет, что даже белки девочкиных глаз отливали калёной синевой, и такой же синевой блеснула в кадке под старой абрикосой тёмная вода, в которой плавала чья-то игрушечная лодочка.
Тут-то мальчик и девочка, совершенно неожиданно для самих себя, и поцеловались, а поцеловавшись, до того смутились, что с преувеличенно громкими криками побежали куда глаза глядят и бежали до тех пор, пока не очутились на заднем дворе. Там гуляли батраки, пришедшие поздравлять хозяйку.
На сосновом столе, вынесенном из людской кухни на воздух, стояли: бочонок пива, два штофа казённого вина, миска жареной рыбы и пшеничный калач. Пьяная кухарка в новой ситцевой кофточке с оборками сердито подавала гуляющим батракам порции рыбы и наливала кружки.
Гармонист в расстёгнутой тужурке, расставив колени, качался на стуле, перебирая басовые клапаны задыхающейся гармоники.
Два прямых парня с равнодушными лицами, взявши друг друга за бока, подворачивали каблуки, вытаптывая польку. Несколько батрачек, в новых, нестираных платках, со щеками, намазанными ради кокетства и смягчения кожи помидорным рассолом, стояли, обнявшись, в своих тесных козловых башмаках.
Рудольф Карлович и Луиза Францевна пятились от наступавшего на них батрака.
Батрак был совершенно пьян. Несколько человек держали его за руки. Он вырывался. Юшка текла из носа на праздничную, разорванную пополам рубашку. Он ругался страшными словами.
Рыдая и захлёбываясь в этих злобных, почти бешеных рыданиях, он кричал, скрипя зубами, как во сне:
— Три рубля пятьдесят копеек за два каторжных месяца!.. У, морда твоя бессовестная! Пустите меня до этой сволочи! Будьте людьми, пустите меня до него: я из него душу выниму! Дайте мне спички, пустите меня до соломы: я им сейчас именины сделаю... Ох, нет на тебя Гришки Котовского, гадюка!
Лунный свет блестел в его закатившихся глазах.
— Но, но, но... — бормотал хозяин, отступая. — Ты смотри, Гаврила, не чересчур разоряйся, а то, знаешь, теперь за эти слова и повесить могут.
— Ну на! Вешай! — кричал, задыхаясь, батрак. — Чего же ты не вешаешь? На, пей кровь! Пей!..
Это было так страшно, так непонятно, а главное — так не вязалось со всем этим чудесным праздником, что дети бросились назад, крича, что Гаврила хочет зарезать Рудольфа Карловича и поджечь экономию.
Трудно себе представить, какой переполох поднялся на даче. Родители уводили детей в комнаты. Всюду запирали окна и двери, как перед грозой. Земский начальник Чувяков, приехавший на несколько дней к семье погостить, прошёл через крокетную площадку, вырывая ногами дужки, расшвыривая с дороги молотки и шары.
Он держал в приподнятых руках двустволку. Напрасно Рудольф Карлович просил жильцов успокоиться. Напрасно он уверял, что никакой опасности нет: Гаврила связан и посажен в погреб и завтра за ним приедет урядник...
Однажды ночью далеко над степью встало красное зарево. Утром разнёсся слух, что сгорела соседняя экономия. Говорили, что её подожгли батраки.
Приезжие из Одессы передавали, что в городе беспорядки. Ходили слухи, что в порту горит эстакада.
После праздника, на рассвете, приезжал урядник. Он увёз Гаврилу. Сквозь утренний сон Петя даже слышал колокольчик урядниковой тройки.
Дачники разъезжались. Вскоре экономия совсем опустела. Петя постоял возле заветной кадки под старой абрикосой, похлюпал прутиком по воде. Нет! И кадка была не та, и вода не та, и старая абрикоса не та.
Всё, всё вокруг стало чужим, всё потеряло очарование, всё смотрело на Петю как бы из далёкого прошлого.
Неужели же и море встретит Петю в последний раз так же холодно и равнодушно?
Петя побежал к обрывам.
2. МОРЕ
Низкое солнце ослепительно било в глаза. Море под ним во всю ширину горело, как магний. Степь обрывалась сразу.
Серебряные кусты дикой маслины, окружённые кипящим воздухом, дрожали над пропастью.
Крутая дорожка вела зигзагами вниз. Петя привык бегать по ней босиком. Ботинки стесняли мальчика. Подмётки скользили. Ноги бежали сами собой. Их невозможно было остановить.
До первого поворота мальчик ещё кое-как боролся с силой земного притяжения. Он подворачивал каблуки и хватался за сухие нитки корней, повисших над дорожкой. Но гнилые корни рвались. Из-под каблуков сыпалась глина. Мальчик был окружён облаком пыли, тонкой и коричневой, как порошок какао.
Пыль набивалась в нос, в горле першило. Пете это надоело. Э, будь что будет! Он закричал во всё горло, взмахнул руками и очертя голову ринулся вниз. Шляпа, полная ветра, колотилась за спиной. Матросский воротник развевался. В чулки впивались колючки... И мальчик, делая страшные прыжки по громадным ступеням естественной лестницы, вдруг со всего маху вылетел на сухой и холодный, ещё не обогретый солнцем песок берега. Песок этот был удивительной белизны и тонкости. Вязкий и глубокий, сплошь истыканный ямками вчерашних следов, оплывших и бесформенных, он напоминал манную крупу самого первого сорта.
Он полого, почти незаметно сходил в воду. И крайняя его полоса, ежеминутно покрываемая широкими языками белоснежной пены, была сырой, лиловой, гладкой, твёрдой и лёгкой для ходьбы.
Чудеснейший в мире пляж, растянувшийся под обрывами на сто вёрст от Каролино-Бугаза до гирла Дуная, тогдашней границы Румынии, казался диким и совершенно безлюдным в этот ранний час.
Чувство одиночества с новой силой охватило мальчика. Но теперь это было совсем особое, гордое и мужественное одиночество Робинзона на необитаемом острове.
Петя первым делом стал присматриваться к следам. У него был опытный, проницательный глаз искателя приключений. Он был окружён следами. Он читал их, как Майн Рида.
Чёрное пятно на стене обрыва и серые уголья говорили о том, что ночью к берегу приставали на лодке туземцы и варили на костре пищу. Лучевидные следы чаек свидетельствовали о штиле и обилии возле берега мелкой рыбёшки.
Длинная пробка с французским клеймом и побелевший в воде ломтик лимона, выброшенный волной на песок, не оставляли никаких сомнений в том, что несколько дней назад в открытом море прошёл иностранный корабль.
Между тем солнце ещё немножко поднялось над горизонтом. Теперь море сияло уже не сплошь, а лишь в двух местах: длинной полосой на самом горизонте и десятком режущих глаза звёзд, попеременно вспыхивающих в зеркале волны, осторожно ложащейся на песок.
На всём же остальном своём громадном пространстве море светилось такой нежной, такой грустной голубизной августовского штиля, что невозможно было не вспомнить:
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом...
Хотя и паруса нигде не было видно, да и море ничуть не казалось туманным. Петя залюбовался морем. Сколько бы ни смотреть на море — оно никогда не надоест. Оно всегда разное, новое, невиданное. Оно меняется на глазах каждый час. То оно тихое, светло-голубое, в нескольких местах покрытое почти белыми дорожками штиля. То оно ярко-синее, пламенное, сверкающее. То оно играет барашками. То под свежим ветром становится вдруг тёмно-индиговым, шерстяным, точно его гладят против ворса. То налетает буря, и оно грозно преображается. Штормовой ветер гонит крупную зыбь. По грифельному небу летают с криками чайки. Взбаламученные волны волокут и швыряют вдоль берега глянцевитое тело дохлого дельфина. Резкая зелень горизонта стоит зубчатой стеной над бурыми облаками шторма. Малахитовые доски прибоя, размашисто исписанные беглыми зигзагами пены, с пушечным громом разбиваются о берег. Эхо звенит бронзой в оглушённом воздухе. Тонкий туман брызг висит кисеёй во всю громадную высоту потрясённых обрывов.
Но главное очарование моря заключалось в какой-то тайне, которую оно всегда хранило в своих пространствах.
Разве не тайной было его фосфорическое свечение, когда в безлунную июльскую ночь рука, опущенная в чёрную тёплую воду, вдруг озарялась, вся осыпанная голубыми искрами? Или движущиеся огни невидимых судов и бледные медлительные вспышки неведомого маяка? Или число песчинок, недоступное человеческому уму?
Разве, наконец, не было полным тайны видение взбунтовавшегося броненосца, появившегося однажды очень далеко в море?
Его появлению предшествовал пожар в Одесском порту. Зарево было видно за сорок вёрст. Тотчас разнёсся слух, что это горит эстакада.
Затем было произнесено слово: «Потёмкин».
Несколько раз, таинственный и одинокий, появлялся мятежный броненосец на горизонте в виду бессарабских берегов.
Батраки бросали работу на фермах и выходили к обрывам, старались разглядеть далёкий дымок. Иногда им казалось, что они его видят. Тогда они срывали с себя фуражки и рубахи и, с яростью размахивая ими, приветствовали инсургентов.
Но Петя, как ни щурился, как ни напрягал зрение, по совести говоря, ничего не видел в пустыне моря.
Только однажды, в подзорную трубу, которую ему удалось выпросить на минуточку у одного мальчика, он разглядел светло-зелёный силуэт трёхтрубного броненосца с красным флажком на мачте.
Корабль быстро шёл на запад, в сторону Румынии.
А на другой день горизонт вдруг покрылся низким, сумрачным дымом. Это вся черноморская эскадра шла но следу «Потёмкина».
Рыбаки, приплывшие из гирла Дуная на своих больших чёрных лодках, привезли слух о том, что «Потёмкин» пришёл в Констанцу, где ему пришлось сдаться румынскому правительству. Команда высадилась на берег и разошлась — кто куда.
Прошло ещё несколько тревожных дней. И вот на рассвете горизонт снова покрылся дымом. Это шла назад из Констанцы в Севастополь черноморская эскадра, таща на буксире, как на аркане, схваченного мятежника.
Пустой, без команды, с машинами, залитыми водой, со спущенным флагом восстания, тяжело ныряя в острой зыби, «Потёмкин» медленно двигался, окружённый тесным конвоем дыма. Он долго шёл мимо высоких обрывов Бессарабии, откуда молча смотрели ему вслед рабочие с экономии, солдаты пограничной стражи, рыбаки, батрачки... Смотрели до тех пор, пока эскадра не скрылась из глаз. И опять стало море таким ласковым и тихим, будто его облили синим маслом.
Между тем на степных дорогах появились отряды конных стражников, высланных к границе Румынии на поимку беглых потёмкинцев.
... Петя решил на прощанье наскоро выкупаться.
Но едва мальчик, разбежавшись, бултыхнулся в море и поплыл на боку, расталкивая прохладную воду коричневым атласным плечиком, как тотчас забыл всё на свете.
Сперва, переплыв прибрежную глубину, Петя добрался до первой мели. Он взошёл на неё и стал прогуливаться по колено в воде, разглядывая сквозь прозрачную толщу отчётливую чешую песчаного дна.
Па первый взгляд могло показаться, что дно необитаемо. По стоило только хорошенько присмотреться, как в морщинах песка обнаруживалась жизнь. Там передвигались, то появляясь, то зарываясь в песок, крошечные кувшинчики рака-отшельника. Петя достал со дна один такой кувшинчик и ловко выдернул из него ракообразное — даже были крошечные клешни! — тельце моллюска.
Девочки любили нанизывать эти ракушечки на суровую нитку. Получались превосходные бусы. Но это было не мужское занятие.
Потом мальчик заметил в воде медузу и погнался за ней. Медуза висела прозрачным абажуром с кистью таких же прозрачных щупалец. Казалось, что она висит неподвижно. Но это только казалось. Тонкие закраины её толстого купола дышали и волновались синей желатиновой каймой, как края парашюта. Щупальца шевелились. Она косо уходила вглубь, как бы чувствуя приближающуюся опасность.
Но Петя настиг её. Осторожно — чтобы не прикоснуться к ядовитой кайме, обжигающей, как крапива, — мальчик обеими руками схватил медузу за купол и вытащил увесистое, но непрочное её тело из воды. Он с силой зашвырнул животное на берег.
Роняя на лету оторвавшиеся щупальца, медуза шлёпнулась на мокрый песок. Солнце тотчас зажглось в её слизи серебряной звездой.
Петя испустил вопль восторга и, ринувшись с мели в глубину, занялся своим любимым делом — стал нырять с открытыми глазами.
Какое это было упоение!
На глубине перед изумлённо раскрытыми глазами мальчика возник дивный мир подводного царства. Сквозь толщу воды, увеличенные, как в лупу, были явственно видны разноцветные камешки гравия. Они покрывали дно, как булыжная мостовая. Стебли подводных растений составляли сказочный лес, пронизанный сверху мутно-зелёными лучами солнца, бледного, как месяц.
Среди корней, рогами расставив страшные клешни, проворно пробирался боком большой старый краб. Он нёс на своих паучьих ногах дутую коробочку спины, покрытую известковыми бородавками моллюсков.
Петя ничуть его не испугался. Он хорошо знал, как надо обращаться с крабами. Их надо смело хватать двумя пальцами сверху за спину. Тогда краб никак не сможет ущипнуть.
Впрочем, краб не заинтересовал мальчика. Пусть себе ползёт, не велика редкость. Весь пляж был усеян сухими клешнями и багровыми скорлупками спинок.
Гораздо интереснее казались морские коньки.
Как раз небольшая их стайка появилась среди водорослей. С точёными мордочками и грудками — ни дать ни взять шахматный конь, но только с хвостиком, закрученным вперёд, — они плыли стоймя, прямо на Петю, распустив перепончатые плавники крошечных подводных драконов.
Как видно, они совсем не предполагали, что могут в такой ранний час наткнуться на охотника.
Сердце мальчика забилось от радости. У него в коллекции был всего один морской конёк, и то какой-то сморщенный, трухлявый. А эти были крупные, красивые, один в одного. Было бы безумием пропустить такой исключительный случай.
Петя вынырнул на поверхность, чтобы набрать побольше воздуха и поскорее начать охоту. Но вдруг он увидел на обрыве отца. Отец размахивал соломенной шляпой и что-то кричал.
Обрыв был так высок и голос так гулко отдавался в обрыве, что до Пети долетело только раскатистое:
— … дяй-дяй-дяй-дяй!..
Однако Петя очень хорошо понял значение этого «дяй-дяй-дяй». Оно значило следующее:
— Куда ты провалился, гадкий мальчишка? Я тебя ищу по всей даче! Дилижанс ждёт!.. Ты хочешь, чтобы мы из-за тебя опоздали на пароход? Сейчас же вылезай из воды, негодяй!
Голос отца вернул Петю к горькому чувству разлуки, с которым он встал сегодня. И мальчик закричал таким отчаянно громким голосом, что у него зазвенело в ушах:
— Сейчас иду! Сейчас!
А в обрыве отдалось раскатистое:
«… айс-айс-айс!.. «
Петя быстро надел костюм прямо на мокрое тело — что, надо признаться, было очень приятно — и стал взбираться наверх.
3. В СТЕПИ
Дилижанс уже стоял на дороге против ворот. Кучер, взобравшись на колесо, привязывал к крыше складные парусиновые кровати уезжающих дачников и круглые корзины с синими баклажанами, которые, пользуясь случаем, отправляли из экономии в Аккерман.
Маленький Павлик, одетый по случаю путешествия в новый голубой фартучек, в туго накрахмаленной пикейной шляпке, похожей на формочку для желе, стоял в предусмотрительном отдалении от лошадей, глубокомысленно изучая все подробности их упряжи.
Его безмерно удивляло, что эта упряжь, настоящая упряжь настоящих, живых лошадей, так явно не похожа по своему устройству на упряжь его прекрасной картонной лошади Кудлатки. (Кудлатку не взяли с собой на дачу, и она теперь дожидалась своего хозяина в Одессе.)
Вероятно, приказчик, продавший Кудлатку, что-нибудь да перепутал!
Во всяком случае, нужно будет не забыть немедленно по приезде попросить папу вырезать из чего-нибудь и пришить к её глазам эти чёрные, очень красивые заслонки — неизвестно, как они называются.
Вспомнив таким образом про Кудлатку, Павлик почувствовал беспокойство. Как она там без него живёт в чулане? Даёт ли ей тётя овёс и сено? Не отъели ли у неё мыши хвост? Правда, хвоста у неё осталось уже маловато: два-три волоска да обойный гвоздик, — но всё-таки.
Чувствуя страшное нетерпение, Павлик высунул набок язык и побежал к дому, чтобы поторопить папу и Петю.
Но, как его ни беспокоила участь Кудлатки, всё же он ни на минуту не забывал о своей новой дорожной сумочке, висящей через плечо на тесёмке. Он крепко держался за неё обеими ручонками.
Там, кроме плитки шоколада и нескольких солёных галетиков «Капитэн», лежала главная его драгоценность: копилка, сделанная из жестянки «Какао Эйнем». Там хранились деньги, которые Павлик собирал на покупку велосипеда.
Денег было уже довольно много: копеек тридцать восемь — тридцать девять...
Папа и Петя, наевшись парного молока с серым пшеничным хлебом, уже шли к дилижансу. Петя бережно нёс под мышкой свои драгоценности: банку с заспиртованными морскими иглами и коллекции бабочек, жуков, ракушек и крабов.
Все трое сердечно простились с хозяевами, вышедшими их проводить к воротам, уселись в дилижанс и поехали. Дорога огибала ферму. Дилижанс, гремя подвязанным ведром, проехал мимо фруктового сада, мимо беседки, мимо скотного и птичьего дворов. Наконец он поравнялся с гарманом, то есть с той ровной, хорошо убитой площадкой, на которой молотят и веют хлеб. В Средней России такая площадка называется ток, а в Бессарабии — гарман.
За дорожным валом, густо поросшим седой от пыли дерезой со множеством продолговатых капелек желтовато-алых ягод, сразу же начинался соломенный мир гармана. Скирды старой и новой соломы, большие и высокие, как дома, образовали целый город. Здесь были настоящие улицы, переулки и тупики. Кое-где под слоистыми, почти чёрными стенами очень старой соломы, пробиваясь из плотной, как бы чугунной земли, горели изумрудные фитильки пшеничных ростков изумительной чистоты и яркости.
Из трубы парового двигателя валил густой опаловый дым. Слышался воющий гул невидимой молотилки. Маленькие бабы с вилами ходили на верхушке новой скирды по колено в пшенице.
Тени хлеба, переносимого на вилах, летали по туче половы, пробитой косыми, движущимися балками солнечного света. Мелькнули мешки, весы, гири.
Потом проплыл высокий холм только что намолоченного зерна, покрытого брезентом. И дилижанс выехал в открытую степь.
Одним словом, всё было сначала так же, как и в прошлые годы. Открытое вокруг на десятки вёрст пустынное жнивьё. Одинокий курган. Слюдяной блеск лиловых иммортелей. Присевший возле своей норки суслик. Кусок верёвки, похожей на раздавленную гадюку...
Но вдруг впереди показалась пыль, и мимо дилижанса крупной рысью проехал небольшой отряд конных стражников.
— Стой!
Дилижанс остановился.
Один из всадников подъехал к дилижансу.
Короткий ствол карабина прыгал над зелёным погоном с цифрой. Прыгала пыльная фуражка набекрень. Скрипело и горячо воняло кожей седло.
Храпящая морда лошади остановилась на уровне открытого окна. Крупные зубы грызли белое железо мундштука. Травянисто-зелёная пена капала с чёрных, как бы резиновых губ. Из нежных, телесно-розовых ноздрей вылетало горячее дыхание, обдавая паром сидящих в дилижансе.
Чёрные губы потянулись к соломенной шляпе Пети.
— Кого везёшь? — раздался где-то вверху солдатский голос.
— Дачников на пароход, — ответил неузнаваемо тонкий, поспешный, какой-то угодливый голос кучера. — Они в Аккерман едут, а там прямо на пароход — и в Одессу. Они тута в экономии всё лето жили. С самого начала июня. Теперь они едут обратно до дому:
— А ну, покажь!
И с этими словами в окно заглянуло красное, жёлтоусое и жёлтобровое солдатское лицо с жёстко выскобленным подбородком и с овальной кокардой на зелёном околыше фуражки.
— Кто такие?
— Дачники, — сказал, улыбаясь, отец.
Солдату, видно, не понравились эта улыбка и это слишком вольное слово «дачники», показавшееся ему насмешкой.
— Я вижу, что дачники, — с грубым неудовольствием сказал он. — Мало что дачники! А кто такие — дачники?
Нижняя челюсть у отца дрогнула, бородка запрыгала. Побледнев от негодования, он дрожащими пальцами застегнул на все пуговицы летнее пальто, поправил пенсне и резким фальцетом закричал:
— Как вы смеете говорить со мной в таком тоне? Я — преподаватель среднеучебных заведений, коллежский советник Бачей, а это мои дети — Пётр и Павел. Мы направляемся в Одессу.
На лбу у отца выступили розовые пятна.
— Виноват, ваше высокоблагородие, — бодро сказал солдат, вылупив почти белые глаза, и поднёс руку с нагайкой к козырьку. — Обознался!
Как видно, он был смертельно перепуган, услышав хоть до сих пор ему и неизвестный, но столь грозный штатский чин — «коллежский советник».
Ну его к богу! Ещё нарвёшься на неприятность. Ещё по зубам заработаешь.
Он дал лошади шпоры и ускакал.
— Дурак, — сказал Петя, когда солдаты были уже далеко.
Отец снова вскипятился:
— Замолчи! Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не смел произносить этого слова! Тот, кто часто говорит «дурак», чаще всего сам... не слишком умный человек. Заруби это себе на носу.
В другое время Петя, конечно, полез бы в спор, но сейчас он смолчал. Он слишком хорошо понимал душевное состояние отца.
Отец, который всегда с раздражительным презрением говорил о чинах и орденах, который никогда не носил форменного вицмундира и никогда не надевал своей «Анны третьей степени», который не признавал никаких сословных привилегий и упрямо утверждал, что все жители России суть не что иное, как только «граждане», вдруг, в порыве раздражения, наговорил бог знает чего. И кому же? Первому встречному солдату...
«Преподаватель среднеучебных заведений»... «Коллежский советник»... «Как вы смеете говорить в таком тоне»... «Фу, какая ерунда! — говорило смущённое лицо отца. — Фу, как стыдно!»
Тем временем кучер, как это всегда бывает во время долгих поездок на лошадях, в общем замешательстве уже успел потерять ремешок кнута и ходил по дороге, шарпая кнутовищем по придорожным, седым от пыли кустикам полыни. Наконец он его нашёл и привязал, затянув узел зубами.
— А, чтоб им пусто было! — сказал он, подходя к дилижансу. Ездят эти стражники по всем дорогам и ездят, только людей пугают.
— Зачем ездят? — спросил отец.
— Кто их знает зачем. Ловят кого-нибудь, чи шо. Тут позавчера, вёрст за тридцать, экономию помещика Балабанова спалили. Говорят, какой-то беглый матрос с «Потёмкина» поджёг. Так теперь они скрозь ездят и ловят того беглого матроса. Он, говорят, где-то тут по степу скрывается. Такие дела. Что ж, поедем?
С этими словами кучер влез на своё высокое место, разобрал вожжи, и дилижанс тронулся дальше.
Однако, как ни прекрасно было это утро, настроение у всех было уже испорчено.
Очевидно, в этом чудесном мире густого синего неба, покрытого дикими табунами белогривых облаков, в мире лиловых теней, волнисто бегущих с кургана на курган по степным травам, среди которых нет-нет да и мелькнёт конский череп или воловьи рога, в мире, который был создан, казалось, исключительно для человеческой радости и счастья, — в этом мире не всё обстояло благополучно.
И об этом думали в дилижансе и отец, и кучер, и Петя. Только у одного Павлика были свои, особые мысли. Крепко наморщив круглый кремовый лобик, на который спускалась из-под шляпки аккуратно подстриженная чёлка, мальчик сидел, сосредоточенно устремив в окно карие внимательные глаза.
— Папа... — сказал он вдруг, не отводя глаз от окна, — папа, а кто царь?
— То есть как это — кто царь?
— Ну — кто?
— Гм... Человек.
— Да нет же. Я сам знаю, что человек. Какой ты! Не человек, а кто? Понимаешь, кто?
— Не понимаю, что ты хочешь.
— Я тебя спрашиваю: кто?
— Вот, ей-богу... Кто да кто... Ну, если хочешь, помазанник.
— Чем помазанник?
— Что-о?
Отец строго посмотрел на сына.
— Ну — как: если помазанник, то чем? Понимаешь — чем?
— Не ерунди!
И отец сердито отвернулся.
4. ВОДОПОЙ
Часов в десять утра заехали в большое, наполовину молдаванское, наполовину украинское село «напувать» лошадей. Отец взял Павлика за руку, и они отправились покупать дыни. Петя же остался возле лошадей, с тем чтобы присутствовать при водопое.
Кучер подвёл лошадей, тащивших за собой громоздкий вагон дилижанса, к кринице. Это был колодец, так называемый «журавель».
Кучер сунул кнут за голенище и поймал очень длинную, вертикально висящую палку, к концу которой была прикована на цепи тяжёлая дубовая бадейка. Он стал, перебирая руками по палке, опускать её в колодец. Журавель заскрипел. Один конец громадного коромысла стал наклоняться, как бы желая заглянуть в колодец, в то время как другой — с привязанным для противовеса большим ноздреватым камнем — легко поднимался вверх.
Петя навалился грудью на борт криницы и посмотрел в неё, как в подзорную трубу.
Круглая шахта, выложенная булыжником, покрытая глухим тёмно-коричневым бархатом плесени, уходила далеко вглубь. И там, в холодной темноте, блестел маленький кружочек воды с фотографически чётким отражением Петиной шляпы.
Мальчик крикнул, и колодец, как глиняный кувшин, наполнился гулким шумом.
Бадейка очень далеко шла вниз, стала совсем маленькой, а всё никак не могла дойти до воды. Наконец раздался далёкий всплеск. Бадейка погрузилась в воду, захлебнулась и пошла вверх.
Увесистые капли шлёпались в воду. Они стреляли, как пистоны.
Долго шла, поднимаясь, палка, натёртая множеством рук, как стекло, пока наконец не появилась мокрая цепь.
Журавель скрипнул в последний раз. Кучер сильными руками подхватил пудовую бадейку и вылил в каменную колоду. Но, прежде чем вылить, напился из неё сам. После кучера напился и Петя. Именно в этом-то и заключалась главная прелесть водопоя.
Мальчик окунул нос и подбородок в совершенно прозрачную, холодную, как лёд, воду. Бадейка изнутри обросла зелёной бородой тины. Что-то жуткое, почти колдовское было в этой бадейке и в этой тине. Что-то очень древнее, удельное, лесное, говорившее детскому воображению о водяной мельнице, колдуне-мельнике, омуте и царевне-лягушке.
От ледяной воды сразу стало ломить лоб. Но день был горяч. И Петя знал, что эта боль скоро пройдёт.
Петя очень хорошо знал также, что надобно вёдер восемь — десять, для того чтобы напоить лошадей. На это уйдёт по меньшей мере полчаса. Можно погулять.
Мальчик осторожно пробрался через чёрную, как вакса, грязь водопоя, сплошь истыканную свиными копытцами. Затем пошёл вдоль водостока, по лужку, покрытому гусиным пухом.
Водосток привёл его к болотцу, сплошь заросшему высоким лесом камыша, осоки и сорняков.
Здесь даже в самый яркий полдень была сумрачная прохлада. Множество одуряющих запахов резко ударило в нос.
Особый, очень острый запах осоки смешивался со сладкой, какой-то ореховой вонью болиголова, от которой действительно начинала болеть голова.
Остролистые кустики дурмана, покрытые чёрно-зелёными коробочками с мясистыми колючками и длинными, необыкновенно нежными и необыкновенно белыми вонючими цветами, росли рядом с паслёном, беленой и таинственной сон-травой.
На тропинке сидела большая лягушка с закрытыми глазами, как заколдованная, и Петя изо всех сил старался на неё не смотреть, чтобы вдруг не увидеть на её голове маленькую золотую коронку.
Вообще всё казалось здесь заколдованным, как в сказочном лесу. Не здесь ли бродила где-нибудь поблизости худенькая большеглазая Алёнушка, безутешно оплакивая своего братика Иванушку?..
И если бы вдруг из чащи выбежал белый барашек и замекал детским, тоненьким голоском, то, вероятно, Петя лишился бы чувств от страха.
Мальчик решил не думать о барашке. Но чем больше он старался не думать, тем больше думал. А чем больше думал, тем становилось ему страшнее одному в чёрной зелени этого проклятого места.
Он изо всех сил зажмурился, чтобы не закричать, и бросился вон из ядовитой заросли. Он бежал до тех пор, пока не очутился на задах небольшого хозяйства.
За плетнём, на котором торчало множество глиняных кувшинов, Петя увидел уютный гарман. Посредине его маленькой арены, устланной свежей, только что с поля, пшеницей, стояла повязанная бабьим платком до глаз девочка лет одиннадцати в длинной сборчатой юбке и короткой ситцевой кофточке с пышными рукавами.
Закрываясь от солнца локтем и переступая босыми ногами, она гоняла на длинной верёвке по кругу двух лошадок, запряжённых цугом. Мягко разбрасывая копытами солому, лошадки катили за собой по толстому слою блестящей пшеницы рубчатый каменный валик. Он твёрдо и бесшумно подпрыгивал.
За каменным валиком волоклась довольно широкая доска, загнутая спереди, как лыжа.
Петя знал, что в нижнюю поверхность этой доски врезано множество острых янтарных кремней, особенно чисто выбивающих из колоса зерно.
На этой быстро скользящей доске, с трудом сохраняя равновесие, лихо, как на салазках, стоял парнишка Петиных лет в расстёгнутой вылинявшей рубахе и картузе козырьком на ухо.
Крошечная белоголовая девочка, судорожно ухватившись обеими ручонками за штанину брата, сидела у его ног на корточках, как мышка.
По кругу бегал старик, шевеля деревянными вилами пшеницу и подбрасывая её под ноги лошадям. Старуха подравнивала длинной доской на палке рассыпающийся и теряющий форму круг.
Немного поодаль, у скирды, баба с чёрными от солнца, жилистыми, как у мужчины, руками с натугой крутила шарманку веялки. В круглом отверстии барабана мелькали красные лопасти.
Ветер выносил из веялки блестящую тучу половы. Она легко и воздушно, как кисея, оседала на землю, на бурьян, достигала огорода, где над подсохшей ботвой совершенно созревших, жёлто-красных степных помидоров торчало, раскинув лохмотья, пугало в рваной дворянской фуражке с красным околышем.
Здесь, на этом маленьком гармане, как видно, работала вся крестьянская семья, кроме самого хозяина. Хозяин, конечно, был на войне, в Маньчжурии, и, очень возможно, в это время сидел в гаоляне, а японцы стреляли в него шимозами.
Эта бедная кропотливая молотьба была совсем не похожа на шумную, богатую, многолюдную молотьбу, к которой привык Петя в экономии. Но и в этой скромной молотьбе Петя тоже находил прелесть. Ему бы, например, очень хотелось покататься на доске с кремнями или даже, на худой конец, покрутить ручку веялки. И он в другое время обязательно попросил бы хлопчика взять его с собой на доску, но, к сожалению, надо было торопиться... Петя пошёл обратно.
Ему навсегда запомнились все простые, трогательные подробности крестьянского труда: светлый блеск новой соломы; чисто выбеленная задняя стена мазанки; по ней — тряпичные куклы и маленькие, высушенные тыквочки, так называемые «таракуцки», эти единственные игрушки крестьянских детей; а на гребне камышовой крыши — аист на одной ноге рядом со своим большим небрежным гнездом. Особенно запомнился аист, его кургузый пиджачок с пикейной жилеткой, красная трость ноги (другой, поджатой ноги совсем не было видно) и длинный красный клюв, деревянно щёлкавший наподобие колотушки ночного сторожа.
Возле хаты с синенькой вывеской «Волостное правление» стояли привязанные к столбикам крыльца три осёдданные кавалерийские лошади. Солдат с шашкой между колен, в пыльных сапогах сидел на ступеньках в холодке и курил махорку, закрученную в газетную бумажку.
— Послушайте, что вы здесь делаете? — спросил Петя.
Солдат лениво оглядел городского мальчика с ног до головы, пустил сквозь зубы далеко вбок длинную вожжу жёлтой слюны и равнодушно сказал:
— Матроса ловим.
«Что же это за таинственный, страшный матрос, который скрывается где-то тут поблизости, в степи, который поджигает экономии и которого ловят солдаты? — думал Петя, спускаясь по знойной, пустынной улице в балочку, к кринице. — Может быть, этот страшный разбойник нападает на дилижансы?»
Разумеется, Петя ничего не сказал о своих опасениях отцу и брату. Зачем понапрасну волновать людей? Но сам он предпочёл быть настороже и предусмотрительно засунул коллекции под скамейку, поближе к стенке.
Едва дилижанс тронулся и стал подыматься в гору, мальчик прильнул к окну и принялся не отрываясь смотреть по сторонам, не покажется ли где-нибудь из-за поворота разбойник. Он твёрдо решил до самого города ни за что не покидать своего поста.
Тем временем отец и Павлик, очевидно и не подозревавшие об опасности, занялись дыней.
В суровой полотняной наволоке с вышитыми по углам четырьмя букетами, полинявшими от стирок, лежал десяток купленных по копейке дынь. Отец вытащил одну — крепенькую, серовато-зелёную канталупку, всю покрытую тончайшей сеткой трещин, и, сказав: «А ну-ка, попробуем этих знаменитых дынь», аккуратно разрезал её вдоль и раскрыл, как писанку. Чудесное благоухание наполнило дилижанс.
Отец подрезал внутренности дыни перочинным ножичком и ловким, сильным движением выхлестнул их в окно. Затем разделил дыню на тонкие аппетитные скибки и, уложив их на чистый носовой платок, заметил:
— Кажется, недурственная дынька.
Павлик, нетерпеливо ёрзавший на месте, тотчас схватил обеими ручонками самую большую скибку и въелся в неё по уши. Он даже засопел от наслаждения, и мутные капли сока повисли у него на подбородке.
Отец же аккуратно положил в рот небольшой кусочек, пожевал его, сладко зажмурился и сказал:
— Действительно, замечательно!
— Наслаждец! — подтвердил Павлик.
Тут Петя, у которого за спиной происходили все эти невыносимые вещи, не выдержал и, забыв про опасность, кинулся к дыне.
5. БЕГЛЕЦ
Вёрст за десять до Аккермана начались виноградники. Уже давно и дыню съели и корки выбросили в окно. Становилось скучно. Время подошло к полудню.
Лёгкий утренний ветер, свежестью своей напоминавший, что дело всё-таки идёт к осени, теперь совершенно упал. Солнце жгло, как в середине июля, даже как-то жарче, суше, шире.
Лошади с трудом тащили громоздкий дилижанс по песку глубиной по крайней мере в три четверти аршина. Передние — маленькие — колёса зарывались в него по втулку. Задние — большие — медленно виляли, с хрустом давя попадавшиеся в песке синие раковины мидий.
Тонкая мука пыли душным облаком окружала путешественников. Брови и ресницы стали седыми. Пыль хрустела на зубах.
Павлик таращил свои светло-шоколадные зеркальные глаза и отчаянно чихал.
Кучер превратился в мельника. А вокруг, нескончаемые, тянулись виноградники. Узловатые жгуты старых лоз в строгом шахматном порядке покрывали сухую землю, серую от примеси пыли. Казалось, они скрючены ревматизмом. Они могли показаться безобразными, даже отвратительными, если бы природа не позаботилась украсить их чудеснейшими листьями благородного, античного рисунка.
Остро вырезанные, покрытые рельефным узором извилистых жил, в бирюзовых пятнах купороса, эти листья сквозили медовой зеленью в лучах полуденного солнца.
Молодые побеги лозы круто обвивались вокруг высоких тычков. Старые гнулись под тяжестью гроздьев.
Однако нужно было обладать зорким глазом, чтобы заметить эти гроздья, спрятанные в листве. Неопытный человек мог обойти целую десятину и не заметить ни одной кисти, в то время как буквально каждый куст был увешан ими и они кричали: «Да вот же мы, чудак человек! Нас вокруг тебя пудов десять. Бери нас, ешь! Эх ты, разиня!» И вдруг разиня замечал под самым своим носом одну кисть, потом другую, потом третью... пока весь виноградник вокруг не загорится кистями, появившимися, как по волшебству.
Но Петя был знающий в этих делах человек. Виноградные кисти открывались ему сразу. Он не только замечал их тотчас, но даже определял их сорт на ходу дилижанса.
Было множество сортов винограда. Крупный светло-зелёный «чаус» с мутными косточками, видневшимися сквозь толстую кожу, висел длинными пирамидальными гроздьями по два, по три фунта. Опытный глаз никак не спутал бы его, например, с «дамскими пальчиками», тоже светло-зелёными, но более продолговатыми и глянцевитыми.
Нежная лечебная «шашла» почти ничем не отличалась от «розового муската», но какая была между ними разница! Круглые ягодки «шашлы», сжатые в маленькую изящную кисть до того тесно, что теряли форму и делались почти кубиками, ярко отражали в своих медово-розовых пузырьках солнце, в то время как ягодки «розового муската» были покрыты мутной аметистовой пыльцой и солнца не отражали.
Но все они — и иссиня-чёрная «изабелла», и «чаус», и «шашла», и «мускат» — были до того соблазнительны в своей зрелой, прозрачной красоте, что даже разборчивые бабочки садились на них, как на цветы, смешивая свои усики с зелёными усиками винограда.
Иногда среди лоз попадался шалаш. Рядом с ним всегда стояла кадка с купоросом, испятнанная сквозной лазурной тенью яблони или абрикосы.
Петя с завистью смотрел на уютную соломенную халабуду. Он очень хорошо знал, как приятно бывает сидеть в таком шалаше на сухой, горячей соломе в знойной послеобеденной тени.
Неподвижная духота насыщена пряными запахами чабреца и тмина. Чуть слышно потрескивают подсыхающие стручки мышиного горошка. Хорошо!
Кусты винограда дрожали и струились, облитые воздушным стеклом зноя. И надо всем этим бледно синело почти обесцвеченное зноем степное, пыльное небо.
Чудесно!
И вдруг произошло событие, до такой степени стремительное и необычайное, что трудно было даже сообразить, что случилось сначала и что потом. Во всяком случае, сначала раздался выстрел. Но это не был хорошо знакомый, нестрашный гулкий выстрел из дробовика, столь частый на виноградниках. Нет. Это был зловещий, ужасающий грохот трёхлинейной винтовки казённого образца.
Одновременно с этим на дороге показался конный стражник с карабином в руках.
Он ещё раз приложился, прицелился в глубину виноградника, но, видно, раздумал стрелять. Он опустил карабин поперёк седла, дал лошади шпоры, пригнулся и махнул через канаву и высокий вал прямо в виноградник. Пришлёпнув фуражку, он помчался, ломая виноградные кусты, напрямик и вскоре скрылся из глаз.
Дилижанс продолжал ехать. Некоторое время вокруг было пусто. Вдруг позади, на валу виноградника, в одном месте закачалась дереза.
Кто-то спрыгнул в ров, потом выкарабкался из рва на дорогу. Быстрая человеческая фигура, скрытая в облаке густой пыли, бросилась догонять дилижанс.
Вероятно, кучер заметил её сверху раньше всех. Однако, вместо того чтобы затормозить, он, наоборот, встал на козлах и отчаянно закрутил над головой кнутом. Лошади пустились вскачь.
Но неизвестный успел уже вскочить на подножку и, открыв заднюю дверцу, заглянул в дилижанс. Он тяжело дышал, почти задыхался. Это был коренастый человек с молодым, бледным от испуга лицом и карими не то весёлыми, не то насмерть испуганными глазами.
На его круглой, ежом стриженной большой голове неловко сидел новенький люстриновый картузик с пуговкой, вроде тех, какие носят мастеровые в праздник. Но в то же время под его тесным пиджаком виднелась вышитая, батрацкая рубаха, так что как будто он был вместе с тем и батраком.
Однако толстые, гвардейского сукна штаны, бархатистые от пыли, уж никак не шли ни мастеровому, ни батраку. Одна штанина задралась и открыла рыжее голенище грубого флотского сапога с двойным швом.
«Матрос!» — мелькнула у Пети страшная мысль, и тут же на кулаке неизвестного, сжимавшего ручку двери, к ужасу своему, мальчик явственно увидел голубой вытатуированный якорь.
Между тем неизвестный, как видно, был смущён своим внезапным вторжением не менее самих пассажиров.
Увидев остолбеневшего от изумления господина в пенсне и двух перепуганных детей, он беззвучно зашевелил губами, как бы желая не то поздороваться, не то извиниться.
Но, кроме кривой, застенчивой улыбки, у него ничего не вышло.
Наконец он махнул рукой и уже собирался спрыгнуть с подножки обратно на дорогу, как вдруг впереди показался разъезд. Неизвестный осторожно выглянул из-за кузова дилижанса, увидел в пыли солдат, быстро вскочил внутрь кареты и захлопнул за собой дверь.
Он умоляющими глазами посмотрел на пассажиров, затем, не говоря ни слова, стал на четвереньки, к ужасу Пети, полез под скамейку, прямо туда, где были спрятаны коллекции.
Мальчик с отчаянием посмотрел на отца, но тот сидел совершенно неподвижно, с бесстрастным лицом, немного бледный, решительно выставив вперёд бородку. Сцепив на животе руки, он крутил большими пальцами — один вокруг другого.
Весь его вид говорил: ничего не произошло, ни о чём не надо расспрашивать, а надо сидеть на своём месте как ни в чём не бывало и ехать.
Не только Петя, но даже и маленький Павлик поняли отца сразу.
Ничего не замечать! При создавшемся положении это было самое простое и самое лучшее.
Что касается кучера, то о нём нечего было и говорить. Он знай себе нахлёстывал лошадей, даже не оборачиваясь назад.
Словом, это был какой-то весьма странный, но единодушный заговор молчания.
Разъезд поравнялся с дилижансом. Несколько солдатских лиц заглянуло в окна. Но матрос уже лежал глубоко под скамейкой. Его совершенно не было видно.
По-видимому, солдаты не нашли ничего подозрительного в этом мирном дилижансе с детьми и баклажанами. Не останавливаясь, они проехали мимо.
По крайней мере, полчаса продолжалось общее молчание. Матрос неподвижно лежал под скамейкой. Вокруг всё было спокойно.
Наконец впереди в жидкой зелени акаций показалась вереница крайних домиков города.
Тогда отец первый нарушил молчание. Равнодушно глядя в окно, он сказал как бы про себя, но вместе с тем и рассчитанно громко:
— Ого! Кажется, мы подъезжаем. Уже виднеется Аккерман. Какая ужасная жара! На дороге ни души.
Петя сразу разгадал хитрость отца.
— Подъезжаем! Подъезжаем! — закричал он.
Он схватил Павлика за плечи и стал толкать его в окно, фальшиво-возбуждённо крича:
— Смотри, Павлик, смотри, какая красивая птичка летит!
— Где летит птичка? — спросил Павлик с любопытством, высовывая язык.
— Ах, господи, какой ты глупый! Вот же она, вот.
— Я не вижу.
— Значит, ты слепой.
В это время позади раздался шорох, и сейчас же хлопнула дверь. Петя быстро обернулся. Но всё вокруг было как прежде. Только уже не торчал из под скамейки сапог.
Петя в тревоге заглянул под скамейку: целы ли коллекции?
Коробки были целы. Всё в порядке.
А Павлик продолжал суетиться у окна, стараясь увидеть птичку.
— Где же птичка? — хныкал он, кривя ротик. — Покажите птичку. Пе-етька, где пти-и-ичка?
— Не ной! — наставительно сказал Петя. — Нет птички. Улетела. Пристал!
Павлик тяжело вздохнул и, поняв, что его грубо обманули, принялся с изумлением заглядывать под скамейку. Там никого не было.
— Папа, — наконец произнёс он дрожащим голосом, — а где же дядя? Куда он девался?
— Не болтай! — строго заметил отец.
И Павлик горестно замолчал, ломая голову над таинственным исчезновением птички и не менее таинственным исчезновением дяди.
Колёса застучали по мостовой. Дилижанс въехал в тенистую улицу, обсаженную акациями. Замелькали серые кривые стволы телефонных столбов, красные черепичные и голубые железные крыши; вдалеке на минутку показалась скучная вода лимана.
В тени прошёл мороженщик в малиновой рубахе со своей кадочкой на макушке. Судя по солнцу, времени было уже больше часа. А пароход «Тургенев» отходил в два.
Отец велел, не останавливаясь в гостинице, ехать прямо на пристань, откуда как раз только что вытек очень длинный и толстый пароходный гудок.
6. ПАРОХОД «ТУРГЕНЕВ»
Не следует забывать, что описываемые в этой книге события происходили лет тридцать с лишним назад. А пароход «Тургенев» считался даже и по тому времени судном, порядочно устаревшим.
Довольно длинный, но узкий, с двумя колёсами, красные лопасти которых виднелись в прорезях круглого кожуха, с двумя трубами, он скорее напоминал большой катер, чем маленький пароход.
Но Пете он всегда казался чудом кораблестроения, а поездка на нём из Одессы в Аккерман представлялась по меньшей мере путешествием через Атлантический океан.
Билет второго класса стоил дороговато: один рубль десять копеек. Покупалось два билета. Павлик ехал бесплатно.
Но всё же ехать на пароходе было гораздо дешевле, а главное, гораздо приятнее, чем тащиться тридцать вёрст в удушливой ныли на так называемом «овидиопольце». Овидиопольцем назывался дребезжащий еврейский экипаж с кучером в рваном местечковом лапсердаке, лихо подпоясанном красным ямщицким кушаком. Взявши пять рублей и попробовав их на зуб, рыжий унылый возница с вечно больными розовыми глазами выматывал душу из пассажиров, через каждые две версты задавая овса своим полумёртвым от старости клячам.
Едва заняли места и расположили вещи в общей каюте второго класса, как Павлик, разморённый духотой и дорогой, стал клевать носом. Его сейчас же пришлось уложить спать на чёрную клеёнчатую койку, накалённую солнцем, бившим в четырёхугольные окна.
Хотя эти окна и были окованы жарко начищенной медью, всё-таки они сильно портили впечатление.
Как известно, на пароходе обязательно должны быть круглые иллюминаторы, которые в случае шторма надо «задраивать».
В этом отношении куда лучше обстояло дело в носовой каюте третьего класса, где имелись настоящие иллюминаторы, хотя и не было мягких диванов, а только простые деревянные лавки, как на конке.
Однако в третьем классе ездить считалось «неприлично» в такой же мере, как в первом классе «кусалось».
По своему общественному положению семья одесского учителя Бачей как раз принадлежала к средней категории пассажиров, именно второго класса. Это было настолько же приятно и удобно в одном случае, настолько неудобно и унизительно — в другом. Всё зависело от того, в каком классе едут знакомые.
Поэтому господин Бачей всячески избегал уезжать с дачи в компании с богатыми соседями, чтобы не испытывать лишнего унижения.
Был как раз горячий сезон помидоров и винограда. Погрузка шла утомительно долго.
Петя несколько раз выходил на палубу, чтобы узнать, скоро ли наконец отчалят. Но каждый раз казалось, что дело не двигается. Грузчики шли бесконечной вереницей по трапу, один за другим, с ящиками и корзинками на плечах, а груза на пристани всё не убывало.
Мальчик подходил к помощнику капитана, наблюдавшему за погрузкой, тёрся возле него, становился рядом, заглядывал сверху в трюм, куда осторожно опускали на цепях бочки с вином — сразу по три, по четыре штуки, связанные вместе.
Иногда он как бы нечаянно даже задевал помощника капитана локтем.
Специально, чтобы обратить на себя внимание.
— Мальчик, не путайся под ногами, — с равнодушной досадой говорил помощник капитана.
Но Петя на него не обижался. Пете важно было лишь как-нибудь завязать разговор.
— Послушайте, скажите, пожалуйста: скоро ли мы поедем?
— Скоро.
— А когда скоро?
— Как погрузим, так и поедем.
— А когда погрузим?
— Тогда, когда поедем.
Петя притворно хохотал, желая подольститься к помощнику:
— Нет, скажите серьёзно: когда?
— Мальчик, уйди из-под ног!
Петя отходил с оживлённо-независимым видом, как будто между ними не произошло никаких неприятностей, а просто так — поговорили и разошлись.
Он снова принимался, положив подбородок на перила, рассматривать смертельно надоевшую пристань.
Кроме «Тургенева», здесь грузилось ещё множество барж. Вся пристань была сплошь заставлена подводами с пшеницей. С сухим, шёлковым шелестом текло зерно по деревянным желобам в квадратные люки трюмов. Белое, яростное солнце с беспощадной скукой царило над этой пыльной площадью, лишённой малейших признаков поэзии и красоты.
Всё, всё казалось здесь утомительно безобразным. Чудесные помидоры, так горячо и лакомо блестевшие в тени вялых листьев на огородах, здесь были упакованы в тысячи однообразных решётчатых ящиков.
Нежнейшие сорта винограда, каждая кисть которого казалась на винограднике произведением искусства, были жадно втиснуты в грубые ивовые корзинки и поспешно обшиты дерюгой с ярлыками, заляпанными клейстером.
С таким трудом выращенная и обработанная пшеница — крупная, янтарная, проникнутая всеми запахами горячего поля, — лежала на грязном брезенте, и по ней ходили в сапогах.
Среди мешков, ящиков и бочек расхаживал аккерманский городовой в белом кителе чёртовой кожи, с оранжевым револьверным шнуром на чёрной шее и с большой шашкой.
От неподвижного речного зноя, от пыли, от вялого, но непрерывного шума медленной погрузки Петю клонило ко сну.
Мальчик ещё раз, на всякий случай, подошёл к старшему помощнику узнать, скоро ли наконец поедем, и ещё раз получил ответ, что как погрузим, так и поедем, а погрузим тогда, когда поедем.
Зевая и сонно думая о том, что, очевидно, всё на свете товар, и помидоры — товар, и баржи — товар, и домики на земляном берегу — товар, и лимонно-жёлтые скирды возле этих домиков — товар, и, очень возможно, даже грузчики — товар, Петя побрёл в каюту, примостился возле Павлика. Он даже не заметил, как заснул, а когда проснулся, оказалось, что пароход уже идёт.
Положение каюты как-то непонятно переменилось. В ней стало гораздо светлей. По потолку бежало зеркальное отражение волны.
Машина работала. Слышался хлопотливый шум колёс. Петя пропустил интереснейший момент отплытия — пропустил третий гудок, команду капитана, уборку трапа, отдачу концов... Это было тем более ужасно, что ни папы, ни Павлика в каюте не было. Значит, они видели всё.
— Что же вы меня не разбудили? — закричал Петя, чувствуя себя обворованным во сне.
Кинувшись из каюты на палубу, он пребольно ушиб ногу об острый медный порог. Но даже не обратил внимания на такие пустяки.
— Окаянные, окаянные!
Впрочем, Петя напрасно так волновался. Пароход хотя действительно уже и отвалил от пристани, но всё же шёл ещё не по прямому курсу, а только разворачивался. Значит, самое интересное ещё не произошло.
Предстояли ещё и «малый ход вперёд», и «самый малый ход вперёд», и «стоп», и «задний ход», и «самый малый задний», и ещё множество увлекательнейших вещей, известных мальчику в совершенстве.
Пристань удалялась, становилась маленькой, поворачивалась. Пассажиры, которых вдруг оказался полон пароход, столпились, навалившись на один борт. Они продолжали махать платками и шляпами с таким горячим отчаянием, словно отправлялись бог весть куда, на край света, в то время как в действительности они уезжали ровным счётом на тридцать вёрст по прямой линии.
Но уж таковы были традиции морского путешествия и горячий темперамент южан.
Главным образом это были пассажиры третьего класса и так называемые «палубные», помещавшиеся на нижней носовой палубе возле трюма. Они не имели права находиться на верхних палубах, предназначенных исключительно для «чистой» публики первого и второго классов.
Петя увидел папу и Павлика на верхней палубе. Они азартно махали шляпами.
Тут же находились капитан и весь экипаж корабля: старший помощник и два босых матроса. Из всей команды только капитан и один матрос занимались настоящим делом управления пароходом. Старший помощник и другой матрос продавали билеты. С разноцветными рулонами и зелёной проволочной кассой, вроде тех, что чаще всего бывают в пекарнях, они обходили пассажиров, не успевших купить билеты на пристани.
Капитан отдавал команду, расхаживая поперёк палубы — между двумя мостиками на крыльях парохода. В это время матрос на глазах у изумлённых пассажиров смотрел в медный котёл большого компаса и крутил колесо штурвала, изредка помогая себе босой ногой. При этом штурвал невероятно скрипел и гулевые цепи с грохотом ползли взад и вперёд вдоль борта, каждую минуту готовые оторвать шлейфы у неосторожных дам.
Пароход шёл задним ходом, медленно поворачивая.
— Право на борт! — не обращая ни малейшего внимания на пассажиров, почтительно обступивших компас, кричал капитан рулевому хриплым, горчичным голосом обжоры и грубияна. — Право на борт! Ещё правей! Ещё немножко! Ещё самую чуть-чуть! Хорошо. Так держать.
Он перешёл на правый мостик, открыл крышечку рупора, труба которого была проведена вниз, и постучал ногою по педали. В недрах пакетбота раздалось дилиньканье колокольчика. Пассажиры с уважением подняли брови и молчаливо переглянулись. Они поняли, что капитан позвонил в машинное отделение.
Что делать? Бежать на мостик смотреть, как будет говорить капитан в рупор, или оставаться возле матроса и компаса? Петя готов был разорваться.
Но рупор перевесил.
Мальчик схватил Павлика за руку и поволок его к мостику, возбуждённо крича не без тайного намерения поразить двух незнакомых, но прекрасных девочек своей осведомлённостью в морских делах:
— Смотри, Павлик, смотри, сейчас он будет говорить в рупор: «Передний ход».
— Малый ход назад! — сказал капитан в трубку.
И тотчас внизу задилинькал колокольчик. Это означало, что команда принята.
7. ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА
Вот уже и Аккерман скрылся из глаз. Не стало видно развалин старинной турецкой крепости. А пароход продолжал идти по непомерно широкому днестровскому лиману, и казалось, конца-краю не будет некрасивой кофейной воде, облитой оловом солнца. Вода была так мутна, что тень парохода лежала на ней как на глине.
Путешествие всё ещё как будто и не начиналось. Измученные лиманом, все ожидали выхода в море.
Наконец часа через полтора пароход стал выходить из устья лимана. Петя прильнул к борту, боясь пропустить малейшую подробность этой торжественной минуты. Вода заметно посветлела, хотя всё ещё была достаточно грязной.
Волна пошла крупнее и выше. Красные палки буйков, показывавшие фарватер, торчали из воды, валко раскачиваясь остроконечными грибками шляпок.
Иногда они проплывали так близко от борта, что Петя ясно видел в середине такого решётчатого грибка железную клеточку, куда ночью вставляют фонарик.
«Тургенев» обогнал несколько чёрных рыбачьих лодок и два дубка с круто надутыми тёмными парусами.
Лодки закачались, поднятые и опущенные волной, оставленной пароходом.
Мимо горючего песчаного мыса Каролино-Бугаз с казармой и мачтой кордона широкая водяная дорога, отмеченная двумя рядами буйков, выводила в открытое море.
Капитан всякую минуту заглядывал в компас, лично показывая рулевому курс.
Дело было, как видно, нешуточное.
Вода стала ещё светлей. Теперь она была явно разбавлена чистой голубоватой морской водой.
— Средний ход! — сказал капитан в рупор.
Впереди, резко отделяясь от жёлтой воды лимана, лежала чёрно-синяя полоса мохнатого моря.
— Малый ход!
Оттуда било свежим ветром.
— Самый малый!
Машина почти перестала дышать. Лопасти еле-еле шлёпали по воде. Плоский берег тянулся так близко, что казалось, до него ничего не стоит дойти вброд.
Маленький, ослепительно белый маячок кордона; высокая его мачта, нарядно одетая гирляндами разноцветных морских флагов, отнесённых крепким бризом в одну сторону; канонерка, низко сидящая в камышах; фигурки солдат пограничной стражи, стирающих бельё в мелкой хрустальной воде, — всё это, подробно освещённое солнцем, почти бесшумно двигалось мимо парохода, отчётливое и прозрачное, как переводная картинка.
Близкое присутствие моря возвратило миру свежесть и чистоту, как будто бы сразу сдуло с парохода и пассажиров всю пыль.
Даже ящики и корзины, бывшие до сих пор отвратительно скучным товаром, мало-помалу превращались в груз и по мере приближения к морю стали, как это и подобало грузу, слегка поскрипывать.
— Средний ход!
Кордон был уже за кормой, поворачивался, уходил вдаль. Чистая тёмно-зелёная глубокая вода окружала пароход. Едва он вошёл в неё, как его сразу подхватила качка, обдало водяной пылью крепкого ветра.
— Полный ход!
Мрачные клубы сажи обильно повалили из сипящих труб. Косая тень легла на кормовой тент.
Как видно, не так-то легко было старушке машине бороться с сильной волной открытого моря. Она задышала тяжелей.
Мерно заскрипела дряблая обшивка. Якорь под бушпритом кланялся волне. Ветер уже успел сорвать чью-то соломенную шляпу, и она уплывала за кормой, качаясь на широкой полосе пены.
Четыре слепых еврея в синих очках гуськом поднимались по трапу, придерживая котелки.
Усевшись на скамейке верхней палубы, они порывисто ударили в смычки.
Раздирающие фальшивые звуки марша «На сопках Маньчжурии» тотчас смешались с тяжёлыми вздохами старой машины.
С развевающимися фалдами фрака пробежал вверх по тому же трапу один из двух пароходных официантов в сравнительно белых нитяных перчатках. С ловкостью фокусника он размахивал крошечным подносиком с дымящейся бутылкой «лимонада-газес».
Так началось море.
Петя уже успел облазить весь пароход. Он выяснил, что подходящих детей нет и завести приятное знакомство почти не с кем.
Сначала, правда, была некоторая надежда на тех двух девочек, перед которыми Петя так неудачно показал свои морские познания.
Но эта надежда не оправдалась.
Прежде всею девочки ехали в первом классе и сразу же дали понять, заговорив с гувернанткой по-французски, что мальчик — из второго класса — не их поля ягода.
Затем одну из них сейчас же, как вышли в море, укачало, и она — Петя видел это в незапертую дверь — лежала на бархатном диване в недоступно роскошной каюте первого класса и сосала лимон, что было глубоко противно.
И, наконец, оставшаяся на палубе девочка, несмотря на свою несомненную красоту и элегантность (на ней было короткое пальтишко с золотыми пуговицами с якорями и матросская шапочка с красным французским помпоном), оказалась неслыханной капризой и плаксой. Она бесконечно препиралась со своим папой, высоким, крайне флегматичным господином в бакенбардах и крылатке. Он был как две капли воды похож на лорда Гленарвана из книги «Дети капитана Гранта».
Между отцом и дочерью всё время происходил следующий диалог:
— Папа, мне хочется пить.
— Хочется, перехочется, перетерпится, — флегматично отвечал «лорд Гленарван», не отрываясь от морского бинокля.
Девочка капризно топала ногой и в повышенном тоне повторяла:
— Мне хочется пить!
— Хочется, перехочется, перетерпится, — ещё более невозмутимо говорил отец.
Девочка с упрямой яростью твердила:
— Папа, мне хочется пить! Папа, мне хочется пить! Папа, мне хочется пить!
Слюни кипели на её злых губах. Она нудно тянула голосом, способным у кого угодно вымотать душу:
— Па-а-апа-аа, мне-е-е хочетца-а-а пи-и-ить.
На что «лорд Гленарван» ещё равнодушнее говорил, не торопясь и не повышая голоса:
— Хочется, перехочется, перетерпится.
Это был страшный поединок двух упрямцев, начавшийся ещё чуть ли не в Аккермане.
Разумеется, ни о каком знакомстве нечего было и думать.
Тогда Петя нашёл очень интересное занятие: он стал ходить по пятам за одним пассажиром. Куда пассажир — туда и Петя.
Это было очень интересно, тем более что пассажир уже давно обратил на себя внимание мальчика некоторой странностью своего поведения.
Может быть, другие пассажиры ничего не заметили. Но Пете бросилась в глаза одна вещь, сильно поразившая его.
Дело в том, что пассажир ехал без билета. А между тем старший помощник отлично это знал. Однако он почему-то не только ничего не говорил странному пассажиру, но даже как бы молчаливо разрешал ему ходить куда угодно, даже в каюту первого класса.
Петя ясно видел, что произошло, когда старший помощник подошёл к странному пассажиру со своей проволочной кассой.
— Ваш билет, — сказал старший помощник.
Пассажир что-то шепнул ему на ухо. Старший помощник кивнул головой и сказал:
— Пожалуйста.
После этого никто уже больше не тревожил странного пассажира. А он стал прогуливаться по всему пароходу, заглядывая всюду: в каюты, в машинное отделение, в буфет, в уборную, в трюм.
Кто же он был? Помещик? Нет. Помещики так не одевались и не так себя вели. У бессарабского помещика обязательно был парусиновый пылевик и белый дорожный картуз с козырьком, захватанным пальцами. Затем кукурузные степные усы и небольшая плетёная корзиночка с висячим замком. В ней обязательно находились ящичек копчёной скумбрии, помидоры, брынза и две-три кварты белого молодого вина в зелёном штофике.
Помещики ехали ради экономии во втором классе, держались все вместе, из каюты не выходили и всё время закусывали или играли в карты.
Петя не видел в их компании странного пассажира. На нём, правда, был летний картуз, но зато не было ни пылевика, ни корзиночки. Нет, конечно, это был не помещик. Может быть, он какой-нибудь чиновник с почты или учитель? Вряд ли.
Хотя у него и была под пиджаком чесучовая рубашка с отложным воротником и вместо галстука висел шнурок с помпончиками, но зато никак не подходили закрученные вверх чёрные, как вакса, усы и выскобленный подбородок.
И уже совсем не подходило ни к какой категории пассажиров небывалой величины дымчатое пенсне на мясистом, вульгарном носу с ноздрями, набитыми волосом.
И потом, эти брюки в мелкую полоску и скороходовские сандалии, надетые на толстые белые, какие-то казённые карпетки.
Нет, тут положительно что-то было неладно. Засунув руки в карманы — что, надо сказать, было ему строжайше запрещено, — Петя с самым независимым видом расхаживал за странным пассажиром по всему пароходу.
Сперва странный пассажир постоял в узком проходе возле машинного отделения, рядом с кухней.
Из кухни разило горьким чадом кухмистерской, а из открытых отдушин машинного отделения дуло горячим ветром, насыщенным запахом перегретого пара, железа, кипятка и масла.
Стеклянная рама люка была приподнята. Можно было сверху заглянуть в машинное отделение, что Петя с наслаждением и проделал.
Он знал эту машину, как свои пять пальцев. Но каждый раз она вызывала восхищение. Мальчик готов был смотреть на её работу часами.
Хотя всем было известно, что машина устаревшая, никуда не годная и так далее, но, даже и такая, она поражала своей невероятной, сокрушительной силой.
Стальные шатуны, облитые тугим зелёным маслом, носились туда и обратно с лёгкостью, изумительной при их стопудовом весе.
Жарко шаркали поршни. Порхали литые кривошипы. Медные диски эксцентриков быстро и нервно тёрлись друг о друга, оказывая таинственное влияние на почти незаметную, кропотливую деятельность скромных, но очень важных золотников.
И надо всем этим головокружительным хаосом царил непомерно громадный маховик, крутившийся на первый взгляд медленно, а если присмотреться, то с чудовищной быстротой, поднимая ровный горячий ветер.
Жутко было смотреть, как машинист ходил среди всех этих неумолимо движущихся суставов и, нагибаясь, прикладывал к ним длинный хоботок своей маслёнки.
Но самое поразительное во всём машинном отделении была единственная на весь пароход электрическая лампочка.
Она висела под жестяной тарелкой, в грубом проволочном намордничке. (Как она была не похожа на теперешние ослепительно яркие полуваттные электрические лампы!)
В её почерневшей склянке слабо светилась докрасна раскалённая проволочная петелька, хрупко дрожавшая от сотрясений парохода.
Но она казалась чудом. Она была связана с волшебным словом «Эдисон», давно уже в понятии мальчика потерявшим значение фамилии и приобретшим таинственное значение явления природы, как, например, «магнетизм» или «электричество».
Затем странный человек не торопясь обошёл нижние палубы. Мальчику показалось, что незнакомец незаметно, но крайне внимательно осматривает пассажиров, примостившихся на своих узлах и корзинах вокруг мачты, у бортов, среди груза.
Петя готов был держать пари — между прочим, пари тоже категорически запрещалось, — что этот человек тайно кого-то разыскивает.
Незнакомец довольно бесцеремонно переступал через спящих молдаван. Он протискивался сквозь группы евреев, обедающих маслинами. Он украдкой приподнимал края брезента, покрывавшего ящики помидоров.
Какой-то человек спал на досках палубы, прикрыв щёку картузиком и уткнувшись головой в ту верёвочную подушку, которую обычно спускают с борта, чтобы смягчить удар парохода о пристань.
Он лежал, раскинув во сне руки и совсем по-детски поджав ноги.
Вдруг мальчик нечаянно посмотрел на эти ноги в задравшихся штанах и остолбенел: на них были хорошо знакомые флотские сапоги с рыжими голенищами.
Не было сомнения, что именно эти самые сапоги Петя видел сегодня под скамейкой дилижанса.
Но даже если это и было простым совпадением, то уж во всяком случае не могло быть совпадением другое обстоятельство: на руке у спящего, как раз на том самом мясистом треугольнике под большим и указательным пальцами, Петя явственно разглядел маленький голубой якорь.
Мальчик чуть не вскрикнул от неожиданности. Но сдержался: он заметил, что усатый пассажир тоже обратил внимание на спящего.
Усатый прошёл несколько раз мимо, стараясь заглянуть в лицо, прикрытое картузиком. Однако это ему никак не удавалось. Тогда он, проходя мимо, как бы нечаянно наступил спящему на руку:
— Виноват.
Спящий вздрогнул. Он сел, испуганно озираясь ничего не понимающими, заспанными глазами.
— А? Что такое? Куда? — бессмысленно бормотал он и тёр кулаком щёку, на которой отпечатался коралловый рубец каната.
Это был он, тот самый матрос!
Петя спрятался за выступ трюма и затаив дыхание стал наблюдать, что будет дальше.
Однако ничего особенного не произошло. Ещё раз извинившись, усатый отправился дальше, а матрос перевернулся на другой бок, но уже не спал, а смотрел по сторонам с тревогой и, как показалось Пете, с какой-то нетерпеливой досадой.
Что делать? Бежать к папе? Рассказать всё старшему помощнику? Нет, нет! Петя хорошо запомнил поведение отца в дилижансе. Очевидно, во всём этом происшествии было нечто такое, о чём никому не надо говорить, никого не надо расспрашивать, а молчать, делая вид, что ничего не знаешь.
Тогда мальчик решил отыскать усатого и посмотреть, что он делает. Он нашёл его на почти пустой палубе первого класса. Тот стоял, прислонившись к спасательной лодке, туго обтянутой зашнурованным брезентом.
Под рубкой шумело невидимое колесо, взбивая почти чёрную воду, покрытую крупным кружевом пены. Шум стоял, как на мельнице. Уже довольно длинная тень парохода быстро скользила по ярким волнам, которые чем дальше от парохода, тем становились синее.
За кормой развевался просвеченный солнцем бело-сине-красный торговый флаг. За пароходом, всё расширяясь и тая, далеко тянулась широкая, как бы масленичная, санная, хорошо размётанная дорога.
Слева уже шёл высокий глинистый берег Новороссии. А усатый держал в руке и украдкой рассматривал какую-то вещь. Петя незаметно подошёл сзади, стал на цыпочки и увидел её. Это была небольшая, так называемого визитного формата, фотографическая карточка матроса в полной форме, в лихо заломленной бескозырке с надписью на ленте: «Князь Потёмкин-Таврический».
Матрос был не кто иной, как тот самый, с якорем на руке. И тут же в силу какого-то непонятного течения мыслей Петя вдруг совершенно ясно понял, что именно было странного в наружности усатого: усатый, так же как и тот, с якорем, тоже был переодет.
8. «ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ!»
Ветер дул свежий, попутный. Чтобы помочь машине и наверстать время, потерянное при затянувшейся погрузке, капитан приказал поставить парус.
Никакой праздник, никакие подарки не привели бы Петю в такой восторг, как эта безделица.
Впрочем, хороша безделица!
Сразу на одном пароходе, в одно и то же время и машина и парус. И пакетбот и фрегат одновременно!
Я думаю, что и вы бы, товарищи, пришли в восторг, если бы вам вдруг выпало счастье прокатиться по морю на настоящем пароходе, да, кроме того, ещё и под парусом.
Даже и в те времена парус ставили только на самых старых пароходах, и то чрезвычайно редко. Теперь же этого и вовсе никогда не случается. Так что легко себе представить, как переживал это событие Петя.
Разумеется, мальчик сразу забыл и про усатого, и про беглого. Он, как очарованный, стоял на носу, не сводя глаз с босого матроса, который довольно лениво возился возле люка, вытаскивая аккуратно сложенный парус.
Петя превосходно знал, что это кливер. Всё же он подошёл к старшему помощнику, помогавшему — за неимением других матросов — ставить парус.
— Погашайте, скажите, пожалуйста, это кливер?
— Кливер, — довольно неприветливо ответил старший помощник.
Но Петя на него ничуть не обиделся. Он прекрасно понимал, что настоящий морской волк обязательно должен быть несколько груб. Иначе что ж это за моряк?
Петя со сдержанной улыбкой превосходства посмотрел на пассажиров и снова несколько небрежно, как равный к равному, обратился к старшему помощнику:
— А скажите, пожалуйста, какие ещё бывают паруса? Кажется, грот и фок?
— Мальчик, не путайся под ногами, — проговорил помощник с таким видом, как будто у него вдруг начал болеть зуб, — иди отсюда с богом в каюту к мамаше.
— У меня мама умерла, — с грустной гордостью ответил Петя грубияну. — Мы едем с папой.
Но старший помощник ничего на это не сказал, и разговор прекратился.
Наконец поставили кливер. Пароходик побежал ещё быстрее.
Уже чувствовалось приближение к Одессе. Впереди виднелась белая коса Сухого лимана. Низкая его вода была до того густой, синей, что даже отсвечивала красным.
Затем показались шиферные крыши немецкой колонии Люстдорф и высокая грубая кирка с флюгером на шпиле.
А уж дальше пошли дачи, сады, огороды, купальни, башни, маяки...
Сначала знаменитая башня Ковалевского, о которой даже существовала легенда.
Некий богач, господин Ковалевский, решил на свой риск и страх построить для города водопровод. Это принесло бы ему несметные барыши. Шутка сказать! За каждый глоток воды люди должны были платить господину Ковалевскому столько, сколько он пожелает. Дело в том, что в земле господина Ковалевского имелся источник пресной воды, единственный в окрестностях Одессы. Однако вода была очень глубоко. Чтобы её добыть, следовало построить громаднейшую водокачку. Такое предприятие трудно поднять одному. Но господин Ковалевский ни с кем не захотел делить будущие барыши. Он начал строить башню один. Постройка оказалась гораздо дороже, чем он предполагал по смете. Родственники умоляли его отказаться от безумной затеи, но он уже вложил в это предприятие слишком много денег, отступать было поздно. Он продолжал постройку. Он вывел башню на три четверти, и у него не стало средств. Тогда он заложил все свои дома и земли, и ему удалось достроить башню. Это было громадное сооружение, похожее на чудовищно увеличенную шахматную туру. Одесситы приходили по воскресеньям целыми семьями посмотреть на диковину. Но одной башни, разумеется, было мало. Надо было выписывать из-за границы машины, бурить почву, прокладывать трубы. Господин Ковалевский в отчаянии бросился за деньгами к одесским негоциантам и банкирам. Он предлагал им баснословные проценты. Он обещал небывалые барыши. Он умолял, унижался, плакал. Богачи, которые не могли ему простить, что он раньше не захотел взять их в компанию, теперь были непреклонны. Никто не дал ему ни копейки. Он был совершенно разорён, уничтожен, раздавлен. Водопровод сделался его навязчивой идеей. По целым дням он ходил, как безумный, вокруг башни, проглотившей всё его состояние, и ломал голову — где бы достать денег. Он медленно сходил с ума. Наконец однажды он взобрался на самую верхушку проклятой башни и бросился вниз. Это случилось лет пятьдесят назад, но до сих пор почерневшая от времени башня стояла над морем, недалеко от богатого торгового города, мрачным предостережением, страшным памятником ненасытной человеческой алчности.
Затем показался новый белый маяк, а за ним старый — бездействующий. Оба они, выпукло освещённые розовым солнцем, садившимся в золотую пыль дачных акаций, так отчётливо, так близко — а главное, так знакомо — стояли над обрывами, что Петя готов был изо всех сил дуть в кливер, лишь бы поскорее доехать.
Тут уже каждый кусочек берега был ему известен до малейших подробностей.
Большой Фонтан, Средний Фонтан, Малый Фонтан, высокие обрывистые берега, поросшие дерезой, шиповником, сиренью, боярышником.
В воде под берегом — скалы, до половины зелёные от тины, и на этих скалах — рыболовы с бамбуковыми удочками и купальщики.
А вот и «Аркадия», ресторан на сваях, раковина для оркестра — издали маленькая, не больше суфлёрской будки, — разноцветные зонтики, скатерти, по которым бежит свежий ветер.
Все эти подробности возникали перед глазами мальчика, одна другой свежее, одна другой интереснее. Но они не были забыты. Нет! Их ни за что нельзя было забыть, как нельзя было забыть своё имя. Они лишь как-то ускользнули на время из памяти. Теперь они вдруг бежали назад, как домой после самовольной отлучки. Они бежали одна за другой. Их становилось всё больше и больше. Они обгоняли друг дружку.
Казалось, они наперерыв кричали мальчику:
«Здравствуй, Петя! Наконец-то ты приехал! А мы все без тебя соскучились! Неужели ты нас не узнаёшь? Посмотри хорошенько: это же я, твоя любимая дача Маразли. Ты так любил ходить по моим великолепно выстриженным изумрудным газонам, хотя это строжайше воспрещалось! Ты так любил рассматривать мои мраморные статуи, по которым ползали крупные улитки с четырьмя рожками, так называемые «Лаврики-Павлики», оставляя за собой слюдяную дорожку! Посмотри, как я выросла за лето! Посмотри, какими густыми стали мои каштаны! Какие пышные георгины и пионы цветут на моих клумбах! Какие роскошнейшие августовские бабочки садятся, в чёрной тени моих аллей!»
«А это я: «Отрада»! Не может быть, чтоб ты забыл мои купальни, и мой тир, и мой кегельбан! Посмотри же: пока ты пропадал, тут успели поставить замечательную карусель с лодочками и лошадками. Тут же неподалёку живёт твой друг и товарищ Гаврик. Он ждёт не дождётся, когда ты приедешь. Скорее же, скорей!»
«А вот и я! Здравствуй, Петька! Не узнал Ланжерона? Смотри, сколько плоскодонных шаланд лежит на моём берегу, сколько рыбачьих сетей сушится на вёслах, составленных в козлы! Ведь это именно в моём песке ты нашёл в прошлом году две копейки и потом выпил — хоть в тебя уже и не лезло — четыре кружки кислого хлебного квасу, бившего в нос и щипавшего язык. Неужели ты не узнаешь эту будку квасника? Да вот же она, вот, стоит как ни в чём не бывало на обрыве в разросшемся за лето бурьяне! Тут даже и бинокля не надо».
«А вот и я! И я! Здравствуй, Петя! Ох, что тут без тебя в Одессе было! Здравствуй, здравствуй!»
Чем ближе к городу, тем ветер становился тише и теплей. Солнца уже совсем не было видно; только ещё верхушка мачты с крошечным красным колпачком флюгера светилась в совершенно чистом розовом небе.
Кливер убрали.
Стук пароходной машины звучно отдавался в скалах и обрывах берега. Вверх по мачте полз бледно-жёлтый топовый огонь.
Все мысли Пети были тут, на берегу, в Одессе. Он ни за что не поверил бы, если бы ему сказали, что совсем-совсем недавно, лишь сегодня утром, он чуть не плакал, прощаясь с экономией.
Какая экономия? Что за экономия? Он уже забыл о ней. Она уже не существовала для него... до будущего лета.
Скорее, скорее в каюту, торопить папу, собирать вещи!
Петя повернулся, чтобы бежать, и вдруг похолодел от ужаса... Тот самый матрос с якорем на руке сидел на ступеньке носового трапа, а усатый шёл прямо на него, без пенсне, руки в карманах, отчётливо скрипя «скороходами».
Он подошёл к нему вплотную, наклонился и спросил не громко, но и не тихо:
— Жуков?
— Чего — Жуков? — тихо, как бы через силу произнёс матрос, заметно побледнел и встал на ступеньки.
— Сядь. Тихо. Сядь, я тебе говорю.
Матрос продолжал стоять. Слабая улыбка дрожала на его посеревших губах.
Усатый нахмурился:
— С «Потёмкина»? Здравствуй, милый. Ты бы хоть сапожки, что ли, переменил. А мы вас ждали, ждали, ждали... Ну, что скажешь, Родион Жуков? Приехали?
И с этими словами усатый крепко взял матроса за рукав.
Лицо матроса исказилось.
— Не трожь! — закричал он страшным голосом, рванулся и изо всех сил толкнул усатого кулаком в грудь. — Не тр-рожь больного человека, мор-рда!
Рукав затрещал.
— Стой!
Но было поздно.
Матрос вырвался и бежал по палубе, увёртываясь и виляя между корзинами, ящиками, людьми. За ним бежал усатый.
Глядя со стороны, можно было подумать, что эти двое взрослых людей играют в салки.
Они, один за другим, нырнули в проход машинного отделения. Затем вынырнули с другой стороны. Пробежали вверх по трапу, дробно стуча подошвами и срываясь со скользких медных ступенек.
— Стой, держи! — кричал усатый, тяжело сопя.
В руках у матроса появилась оторванная откуда-то на бегу рейка.
— Держи, держи-и-и!
Пассажиры со страхом и любопытством сбились на палубе. Кто-то пронзительно засвистел в полицейский свисток.
Матрос со всего маху перепрыгнул через высокую крышку люка. Он увернулся от усатого, обежавшего сбоку, вильнул, перепрыгнул через люк обратно и вскочил на скамейку. Со скамейки — на перила борта, схватился за флагшток кормового флага, изо всей силы шарахнул усатого рейкой по морде и прыгнул в море.
Над кормой взлетели брызги.
— Ах!
Пассажиры все, сколько их ни было, качнулись назад, будто на них спереди дунуло.
Усатый метался возле борта, держась руками за лицо, и хрипло кричал:
— Держите, уйдёт! Держите, уйдёт!
Старший помощник шагал вверх по трапу через три ступеньки со спасательным кругом.
— Человек за бортом!
Пассажиры качнулись вперёд к борту, будто на них дунуло сзади. Петя протиснулся к борту. Уже довольно далеко от парохода, среди взбитого белка пены, на волне качалась, как поплавок, голова плывущего человека.
Но только он плыл не к пароходу, а от парохода, изо всех сил работая руками и ногами. Через каждые три-четыре взмаха он поворачивал назад злое, напряжённое лицо.
Старший помощник заметил, что человек за бортом, видать, не имеет ни малейшего желания быть «спасённым». Наоборот, он явно старается уйти как можно дальше от спасителей. Кроме того, он превосходно плывёт, а до берега сравнительно недалеко.
Так что всё в порядке. Нет никаких оснований волноваться. Напрасно усатый хватал старшего помощника за рукав, делал зверские глаза, требовал остановить пароход и спустить шлюпку.
— Это политический преступник. Вы будете отвечать!
Помощник флегматично пожал плечами:
— Не моё дело. Не имею приказанья. Обратитесь к капитану.
Капитан же только махнул рукой. И так опаздываем. Куда там, батюшка! Очень нужно. Вот через полчасика пришвартуемся, тогда и ловите своего политического. А у нас пароходство коммерческое и частное. Оно политикой не занимается, и на этот счёт нет никаких инструкций.
Тогда усатый, ругаясь сквозь зубы, с ободранной мордой, стал пробираться сквозь толпу приготовившихся к высадке пассажиров третьего класса к тому месту, куда должны были подать сходни. Он грубо расталкивал испуганных людей, наступал на ноги, пихал корзины и наконец очутился у самого борта, с тем чтобы первому выскочить на пристань, как только причалят.
Между тем голова матроса уже еле-еле виднелась в волне среди флажков, качавшихся над рыбачьими сетями и переметами.
9. В ОДЕССЕ НОЧЬЮ
Берег быстро темнел, становился голубым, синим, лиловым. На суше уже наступил вечер. В море было ещё светло. Глянцевая зыбь отражала чистое небо. Но всё же вечер чувствовался и тут.
Выпуклые стёкла незаметно зажжённых сигнальных фонарей на крыльях парохода — настолько тёмные и толстые, что днём невозможно было отгадать, какого они цвета, — теперь стали просвечивать зелёным и красным и хотя ещё не освещали, но уже явственно светились.
Синий город, с куполообразной крышей городского театра и колоннадой Воронцовского дворца, возник как-то сразу и заслонил полгоризонта.
Водянистые звёзды портовых фонарей жидко отражались в светлом и совершенно неподвижном озере гавани. Туда и заворачивал «Тургенев», очень близко огибая толстую башню, в сущности, не очень большого маяка с колоколом и лестницей.
В последний раз в машинном отделении задилинькал капитанский звонок.
— Малый ход!
— Самый малый!
Быстро и почти бесшумно скользил узкий пароходик мимо трёхэтажных носов океанских пароходов Добровольного флота, выставленных в ряд с внутренней стороны брекватера. Чтобы полюбоваться их чудовищными якорями, Пете пришлось задрать голову.
Вот это пароходы!
— Стоп!
В полной тишине с разгону, не уменьшая хода, нёсся «Тургенев» наискось через гавань — вот-вот врежется в пристань.
Две длинные морщины тянулись от его острого носа, делая воду полосатой, как скумбрия. По борту слабо журчала вода.
От надвигавшегося города веяло жаром, как из печки. И вдруг Петя увидел торчащие из зеркальной воды трубу и две мачты. Они проплыли совсем близко от борта, чёрные, страшные, мёртвые...
Пассажиры, столпившиеся у борта, ахнули.
— Потопили пароход, — сказал кто-то тихо.
«Кто же потопил?» — хотел спросить мальчик, чувствуя ужас. Но тут же увидел ещё более жуткое: железный скелет сгоревшего парохода, прислонённый к обуглившемуся причалу.
— Сожгли, — ещё тише сказал тот же голос.
Тут навалилась пристань.
— Задний ход!
Замолкшие было колёса шумно забили, закрутились в обратную сторону. Воронки побежали по воде.
Пристань стала удаляться, как-то такое переходить на ту сторону, потом опять — очень медленно — приблизилась, но уже с другого борта.
Над головами пассажиров пролетел, разматываясь на лету, свёрнутый канат. Петя почувствовал лёгкий толчок, смягчённый верёвочной подушкой. С пристани подали сходни. Первым по ним сбежал усатый и тотчас пропал, смешавшись с толпой.
Вскоре, дождавшись своей очереди, и наши путешественники медленно сошли на мостовую пристани.
Мальчика удивило, что у сходней стояли городовой и несколько человек штатских. Они самым внимательным образом осматривали каждого сходившего с парохода. Осмотрели они также и папу. При этом господин Бачей машинально стал застёгиваться, выставив вперёд дрожащую бородку. Он крепко стиснул ручку Павлика, и лицо его приняло точно такое же неприятное выражение, как утром в дилижансе, когда он разговаривал с солдатом.
Они наняли извозчика — Павлика посадили на переднюю откидную скамеечку, а Петя, совершенно как взрослый, поместился рядом с папой на главном сиденье — и поехали.
При выезде из агентства у ворот стоял часовой в подсумках, с винтовкой. Этого раньше никогда не было.
— Папа, почему стоит часовой? — шёпотом спросил мальчик.
— Ах, боже мой! — раздражённо сказал отец, дёргая шеей. — Отчего да почему! А я почём знаю? Стоит и стоит. А ты сиди.
Петя понял, что расспрашивать не надо, но также не надо и сердиться на раздражительность папы.
Но когда на железнодорожном переезде мальчик вдруг увидел сожжённую дотла эстакаду, горы обугленных шпал, петли рельсов, повисших в воздухе, колёса опрокинутых вагонов, весь этот неподвижный хаос, он закричал, захлёбываясь:
— Ой, что это? Посмотрите! Послушайте, извозчик, что это?
— Пожгли, — сказал извозчик таинственно и закачал головой в твёрдой касторовой шляпе, не то осуждая, не то одобряя.
Проехали мимо знаменитой одесской лестницы.
Вверху её треугольника, в пролёте между силуэтами двух полукруглых симметричных дворцов, на светлом фоне ночного неба стояла маленькая фигурка дюка де Ришелье с античной рукой, простёртой к морю.
Сверкали трехрукие фонари бульвара. С эспланады открытого ресторана слышалась музыка. Над каштанами и гравием бульвара бледно дрожала первая звезда.
Петя знал, что именно там, наверху, за Николаевским бульваром, сияло и шумело то в высшей степени заманчивое, недоступное, призрачное, о чём говорилось в семействе Бачей с оттенком презрительного уважения: «в центре».
В центре жили «богатые», то есть те особые люди, которые ездили в первом классе, каждый день могли ходить в театр, обедали почему-то в семь часов вечера, держали вместо кухарки повара, а вместо няньки — бонну и зачастую имели даже «собственный выезд», что уже превышало человеческое воображение. Разумеется, Бачей жили далеко не «в центре».
Дрожки, треща по мостовой, проехали низом, Карантинной улицей, и затем, свернув направо, стали подниматься в город. Петя за лето отвык от города. Мальчик был оглушён хлопаньем подков, высекавших на мостовой искры, дробным стуком колёс, звонками конок, скрипом обуви и твёрдым постукиванием тросточек по тротуару, выложенному синими плитками лавы.
На экономии, среди сжатых полей, в широко открытой степи, уже давно свежо и грустно золотела осень. Здесь, в городе, всё ещё стояло густое, роскошное лето.
Томная ночная жара неподвижно висела в бездыханном воздухе улиц, заросших акациями.
В открытых дверях мелочных лавочек желтели неяркие языки керосиновых ламп, освещая банки с крашеными леденцами. Прямо на тротуаре, под акациями, лежали горы арбузов — чёрно-зелёных глянцевых «туманов» с восковыми лысинами и длинных «монастырских», светлых, в продольную полоску.
Иногда на углу возникало сияющее видение фруктовой лавки. Там персы в нестерпимо ярком свете только что появившихся калильных ламп обмахивали шумящими султанами из папиросной бумаги прекрасные крымские фрукты — крупные лиловые сливы, покрытые бирюзовой пылью, и нежные коричневые, очень дорогие груши «бер Александр».
Сквозь железные решётки, увитые диким виноградом, в палисадниках виднелись клумбы, освещённые окнами особняков. Над роскошно разросшимися георгинами, бегониями, настурциями трепетали пухлые ночные бабочки-бражники.
С вокзала доносились свистки паровиков. Проехали мимо знакомой аптеки. За большим цельным окном с золотыми стеклянными буквами выпукло светились две хрустальные груши, полные яркой фиолетовой и зелёной жидкости. Петя был уверен — яда. Из этой аптеки носили для умирающей мамы страшные кислородные подушки. Ах, как ужасно они храпели возле маминых губ, чёрных от лекарств!
Павлик совсем спал. Отец взял его на руки. Головка ребёнка болталась и подпрыгивала. Тяжёленькие голые ноги сползали с отцовских колен. Но пальчики крепко держали сумку с заветной копилкой.
Таким его и передали с рук на руки кухарке Дуне, ожидавшей господ на улице, когда извозчик наконец остановился у ворот с глухим треугольным фонариком, слабо светившимся вырезанной цифрой.
— С приездом! С приездом!
Всё ещё продолжая чувствовать под ногами валкую палубу, Петя вбежал в парадное.
Какая громадная, пустынная лестница! Ярко и гулко. Сколько ламп! На стене каждого пролёта — керосиновая лампа в чугунном кронштейне. И над каждой лампой сонно качается в световом круге крышечка.
Медные, ярко начищенные таблички на дверях. Кокосовые маты для ног. Детская коляска. Все эти крепко забытые вещи вдруг возникли перед Петиными изумлёнными глазами во всей своей первобытной новизне. К ним надо опять привыкать.
Вот где-то вверху звонко, на всю лестницу, щёлкнул ключ, бухнула дверь, быстро заговорили голоса. Каждое восклицание — как пистолетный выстрел.
Побежали лёгкие и бравурные звуки рояля, приглушённые стеной. Это музыка настойчивыми аккордами напоминала мальчику о своём существовании.
И наконец... боже мой!.. Кто это?.. Из двери выбегает забытая, но ужасно знакомая дама в синем шёлковом платье с кружевным воротничком и кружевными манжетами. У неё красные от слёз, возбуждённые, радостные глаза, натянувшиеся от смеха губы. Её подбородок дрожит не то от смеха, не то от слёз.
— Павлик!
Она вырывает у кухарки из рук Павлика.
— Бож-же мой, какой стал тяжёлый!
Павлик открывает совершенно чёрные со сна глаза, с безгранично равнодушным изумлением говорит:
— О? Тётя!
И засыпает опять. Ну да, конечно, конечно же, это тётя! Отлично знакомая, дорогая, родная, но только немножко забытая тётя. Как можно было не узнать?
— Петя? Мальчик! Какая громадина!
— Тётя, вы знаете, что с нами было? — сразу же начал Петя. — Тётя, вы ничего не знаете! Да тётя же! Вы слушайте, что только с нами было. Тётя, да вы же не слушаете! Тётя, вы же слушайте!
— Хорошо, хорошо, только не всё сразу. Иди в комнаты. А где же Василий Петрович?
— Здесь, здесь...
По лестнице поднимался отец:
— Ну, вот и мы. Здравствуйте, Татьяна Ивановна.
— С приездом, с приездом! Пожалуйте. Не укачало вас?
— Ничуть. Прекрасно доехали. Нет ли у вас мелочи? У извозчика нет с трёх рублей сдачи.
— Сейчас, сейчас. Вы только не беспокойтесь... Петя, да не путайся же ты под ногами... После расскажешь. Дуня, голубчик, сбегайте вниз — отнесите извозчику... Возьмите у меня на туалете...
Петя вошёл в переднюю, показавшуюся ему просторной, сумрачной и до такой степени чужой, что даже тот черномазый большой мальчик в соломенной шляпе, который вдруг появился, откуда ни возьмись, в ореховой раме забытого, но знакомого зеркала, освещённого забытой, но знакомой лампой, не сразу был узнан.
А его-то, кажется, Петя мог узнать без труда, так как это именно и был он сам!
10. ДОМА
Там, в экономии, была маленькая, чисто выбеленная комнатка с тремя парусиновыми кроватями, покрытыми летними марсельскими одеялами.
Железный рукомойник. Сосновый столик. Стул. Свеча в стеклянном колпаке. Зелёные решётчатые ставни-жалюзи. Крашеный пол, облезший от постоянного мытья.
Как сладко и прохладно было засыпать, наевшись простокваши с серым пшеничным хлебом, под свежий шум моря в этой пустой, печальной комнате!
Здесь было совсем не то. Это была большая квартира, оклеенная старыми бумажными шпалерами и заставленная мебелью в чехлах.
В каждой комнате шпалеры были другие и мебель другая. Букеты и ромбы на шпалерах делали комнаты меньше. Мебель, называвшаяся здесь «обстановка», глушила шаги и голоса.
Из комнаты в комнату переносили лампы. В гостиной стояли фикусы с жёсткими вощёными листьями. Их новые побеги торчали острыми стручками, как бы завёрнутыми в сафьяновые чехольчики.
Свет переставляемых ламп переходил из зеркала в зеркало. На крышке пианино дрожала вазочка: это по улице проезжали дрожки. Треск колёс соединял город с домом.
Пете ужасно хотелось, поскорее напившись чаю, выбежать хоть на минуточку во двор — узнать, как там и что, повидаться с мальчиками. Но было уже очень поздно: десятый час. Все мальчики, наверно, давно спят.
Хотелось поскорее рассказать тёте или, на худой конец, Дуне про беглого матроса. Но все были заняты: стелили постели, взбивали подушки, вынимали из комода тяжёлые, скользкие простыни, переносили из комнаты в комнату лампы.
Петя ходил за тётей, наступая на шлейф, и канючил:
— Тётя, что же вы меня не слушаете? Послушайте!..
— Ты видишь, я занята.
— Тётя, ну что вам стоит!
— Завтра расскажешь.
— Ой, какая вы в самом деле! Не даёте рассказать. Ну тётя же!
— Не путайся под ногами. Расскажи Дуне.
Петя уныло плёлся на кухню, где на окне в деревянном ящике рос зелёный лук. Дуня торопливо гладила на доске, обшитой солдатским сукном, наволочку.
Из-под утюга шёл сытный пар.
— Дуня, послушайте, что с нами было... — жалобным голосом начинал Петя, глядя на Дунин голый жилистый локоть с натянутой глянцевитой кожей.
— Панич, отойдите, а то, не дай бог, обшмалю утюгом.
— Да вы только послушайте!
— Идите расскажите тёте.
— Тётя не хочет. Я лучше вам расскажу. Ду-уня же!
— Идите барину расскажите.
— Ой, боже мой, какая вы глупая! Папа же знает.
— Завтра, панич, завтра...
— А я хочу сегодня...
— Отойдите из-под локтя. Мало вам комнат, что вы ещё в кухню лазите?
— Я, Дунечка, расскажу и сейчас же уйду, честное благородное слово, святой истинный крест!
— От наказание с этим мальчиком! Приехал на мою голову.
Дуня с сердцем поставила утюг на конфорку. Схватила выглаженную наволочку и бросилась в комнаты так стремительно, что по кухне пролетел ветер.
Петя горестно потёр кулаками глаза, и вдруг его одолела такая страшная зевота, что он с трудом дотащился до своей кровати и, не в состоянии разлепить глаза, начал, как слепой, стаскивать матроску.
Он едва дотянулся разгоревшейся щекой до подушки, как тотчас заснул таким крепким сном, что даже не почувствовал бороды отца, пришедшего, по обычаю, поцеловать его на сон грядущий.
Что касается Павлика, то с ним пришлось-таки повозиться. Он до того разоспался на извозчике, что папа и тётя вместе раздели его с большим трудом.
Но едва его уложили в постель, как мальчик открыл совершенно свежие глаза, с изумлением осмотрелся и сказал:
— Мы ещё едем?
Тётя нежно поцеловала его в горячую пунцовую щёчку:
— Нет, уже приехали. Спи, детка.
Но оказалось, что Павлик уже выспался и склонен был к разговорам:
— Тётя, это вы?
— Я, курочка. Спи.
Павлик долго лежал с широко открытыми, внимательными, тёмными, как маслины, глазами, прислушиваясь к незнакомым городским звукам квартиры.
— Тётя, что это шумит? — наконец спросил он испуганным шёпотом.
— Где шумит?
— Там. Храпит.
— Это, деточка, вода в кране.
— Она сморкается?
— Сморкается, сморкается. Спи.
— А что это свистит?
— Это паровоз свистит.
— А где?
— Разве ты забыл? На вокзале. Тут у нас напротив вокзал. Спи.
— А почему музыка?
— Это наверху играют на рояле. Разве ты уже забыл, как играют на рояле?
Павлик долго молчал. Можно было подумать, что он спит. Но глаза его — в зеленоватом свете ночника, стоявшего на комоде, — отчётливо блестели. Он с ужасом следил за длинными лучами, передвигающимися взад и вперёд по потолку.
— Тётя, что это?
— Извозчики ездят с фонарями. Закрой глазки.
— А это что?
Громадная бабочка «мёртвая голова» со зловещим зуденьем трепетала в углу потолка.
— Бабочка. Спи.
— А она кусается?
— Нет, не кусается. Спи.
— Я не хочу спать. Мне страшно.
— Чего ж тебе страшно? Не выдумывай. Такой большой мальчик! Ай-яй-яй!
Павлик глубоко и сладко, с дрожью втянул в себя воздух. Схватил обеими горячими ручонками тётину руку и прошептал:
— Цыгана видели?
— Нет, не видела.
— Волка видели?
— Не видела. Спи.
— Трубочиста видели?
— Трубочиста не видела. Можешь спать совершенно спокойно.
Мальчик ещё раз глубоко и сладко вздохнул, перевернулся на другую щёчку, подложил под неё ладошки ковшиком и, закрывая глаза, пробормотал:
— Тётя, дайте ганьку.
— Здравствуйте! А я-то думала, что ты от ганьки давно отвык.
«Ганькой» назывался чистый, специальный носовой платок, который Павлик привык сосать в постели и без которого никак не мог уснуть.
— Га-аньку... — протянул мальчик, капризно кряхтя.
Однако тётя ганьки не дала. Большой мальчик. Пора отвыкать. Тогда Павлик, продолжая капризничать, потянул в рот угол подушки, обслюнил его, вяло улыбнулся слипшимися, как вареники, глазами. Но вдруг он с ужасом вспомнил про копилку: а что, если её украли воры? Однако уже не было сил волноваться.
И мальчик мирно уснул.
11. ГАВРИК
В этот же день другой мальчик, Гаврик — тот самый, о котором мы вскользь упомянули, описывая одесские берега, — проснулся на рассвете от холода.
Он спал на берегу возле шаланды, положив под голову гладкий морской камень и укрыв лицо старым дедушкиным пиджаком. На ноги пиджака не хватило.
Ночь была тёплая, но к утру стало свежо. Босые ноги озябли. Гаврик спросонья стянул пиджак с головы и укутал ноги. Тогда стала зябнуть голова.
Гаврик начал дрожать, но не сдавался. Хотел пересилить холод. Однако заснуть было уже невозможно.
Ничего не поделаешь, ну его к чёрту, надо вставать. Гаврик кисло приоткрыл глаза. Он видел глянцевое лимонное море и сумрачную тёмно-вишнёвую зарю на совершенно чистом сероватом небе. День будет знойный. Но пока не подымется солнце, о тепле нечего и думать. Конечно, Гаврик свободно мог спать с дедушкой в хибарке. Там было тепло и мягко. Но какой же мальчик откажется от наслаждения лишний раз переночевать на берегу моря под открытым небом?
Редкая волна тихо, чуть слышно, шлёпает в берег. Шлёпнет и уходит назад, лениво волоча за собой гравий. Подождёт, подождёт — и снова тащит гравий обратно, и снова шлёпнет.
Серебристо-чёрное небо сплошь осыпано августовскими звёздами. Раздвоенный рукав Млечного Пути висит над головой видением небесной реки.
Небо отражается в море так полно, так роскошно, что, лёжа на тёплой гальке, задрав голову, никак не поймёшь, где верх, а где низ. Будто висишь среди звёздной бездны.
По всем направлениям катятся, вспыхивая, падающие звёзды. В бурьяне тыркают сверчки. Где-то очень далеко на обрыве лают собаки. Сначала можно подумать, что звёзды неподвижны. Но нет. Присмотришься — и видно, что весь небесный свод медленно поворачивается. Одни звёзды опускаются за дачи. Другие, новые, выходят из моря.
Тёплый ветерок холодеет. Небо становится белее, прозрачнее. Море темнеет. Утренняя звезда отражается в тёмной воде, как маленькая луна. По дачам сонно кричат третьи петухи. Светает. Как же можно спать в такую ночь под крышей? Гаврик встал, сладко растянул руки, закатал штаны и, зевая, вошёл по щиколотку в воду. С ума он сошёл, что ли? Ноги и так озябли до синевы, а тут ещё лезть в море, один вид которого вызывает озноб!
Однако мальчик хорошо знал, что он делает. Вода только на вид казалась холодной. На самом деле она была очень тёплой, гораздо теплее воздуха. Мальчик просто-напросто грел в ней ноги.
Затем он умылся и так громко высморкался в море, что несколько головастых мальков, безмятежно заснувших под берегом, брызнули во все стороны, вильнули и пропали в глубине.
Зевая и жмурясь на восходящее солнце, Гаврик насухо вытер рубашкой маленькое пёстрое лицо с лилово-розовым носиком, облупленным, как молодая картофелька.
— Ох-ох-ох... — сказал он совершенно как взрослый, не торопясь перекрестил рот, где до сих пор ещё не хватало двух передних зубов, подобрал пиджак и побрёл вверх валкой, цепкой походочкой одесского рыбака.
Он продирался сквозь густые заросли сильно разросшегося бурьяна, осыпавшего мокрые ноги и штаны жёлтым порошком цветения.
Хибарка стояла шагах в тридцати от берега на бугорке красной глины, мерцавшей кристалликами сланца.
Собственно, это был небольшой сарайчик, грубо сколоченный из всякого деревянного старья: из обломков крашеных лодочных досок, ящиков, фанеры, мачт.
Плоская крыша была покрыта глиной, и на ней росли бурьяны и помидоры. Когда ещё была жива бабушка, она обязательно два раза в год — на пасху и на спаса — белила мелом хибарку, чтобы хоть как-нибудь скрасить перед людьми её нищенский вид. Но бабушка умерла, и вот уже года три, как хибарку никто не белил. Её стены потемнели, облезли. Но всё же кое-где остались слабые следы мела, въевшегося в старое дерево. Они постоянно напоминали Гаврику о бабушке и о её жизни, менее прочной, чем даже мел.
Гаврик был круглый сирота. Отца своего он совсем не помнил. Мать помнил, но еле-еле: какое-то распаренное корыто, красные руки, киевское печатное кольцо на скользком, распухшем пальце и множество радужных мыльных пузырей, летающих вокруг её железных гребёнок.
Дедушка уже встал. Он ходил по крошечному огороду, заросшему бурьяном, заваленному мусором, где ярко теплилось несколько больших поздних цветков тыквы — оранжевых, мясистых, волосатых, со сладкой жидкостью на дне прозрачной чашечки.
Дедушка собирал помидоры в подол стираной-перестираной рубахи, потерявшей всякий цвет, но теперь нежно-розовой от восходящего солнца.
Между задранной рубахой и мешковатыми штанами виднелся худой коричневый живот с чёрной ямкой пупа.
Помидоров на огороде оставалось совсем мало. Поели почти всё. Дедушке удалось собрать штук восемь — маленьких, желтоватых. Больше не было.
Старик ходил, опустив сивую голову. Поджав выскобленный по-солдатски подбородок, он пошевеливал босой ногой кусты бурьяна — не найдётся ли там чего-нибудь? Но ничего больше не находилось.
Взрослый цыплёнок с тряпочкой на ноге бегал за дедушкой, изредка поклёвывая землю, отчего вверху вздрагивали зонтички укропа.
Дедушка и внучек не поздоровались и не пожелали друг другу доброго утра. Но это вовсе не обозначало, что они в ссоре. Наоборот. Они были большие приятели.
Просто-напросто наступившее утро не обещало ничего, кроме тяжёлого труда и забот. Не было никакого резона обманывать себя пустыми пожеланиями.
— Всё поели, ничего не осталось, — бормотал дед, как бы продолжая вчерашний разговор. — Что ты скажешь! Восемь помидоров — куда это годится? На смех курям.
— Поедем, что ли? — спросил Гаврик, посмотрев из-под руки на солнце.
— Надо ехать, — сказал дед, выходя из огорода.
Они вошли в хибарку и степенно напились из ведра, аккуратно прикрытого чистой дощечкой.
Старик крякнул, и Гаврик крякнул. Дедушка потуже подтянул ремешок штанов, и внучек сделал то же самое.
Затем дедушка достал с полочки кусок вчерашнего ситника и завязал его вместе с помидорами в ситцевый платок с чёрными капочками.
Кроме того, он взял под мышку плоский бочоночек с водой, вышел из хибарки и навесил на дверь замок. Это была излишняя предосторожность. Во-первых, красть было нечего, а во-вторых, у кого бы хватило совести воровать у нищих? Гаврик снял с крыши вёсла и взвалил их на маленькое, но крепкое плечо. Сегодня дедушке и внучку предстояло много дела. Третьего дня бушевал шторм. Волна порвала переметы. Рыба не шла. Улова не было никакого. Денег не осталось ни копейки.
Вчера море улеглось, и на ночь поставили перемёт. Сегодня его надо было выбрать, успеть с рыбой на привоз, наживить перемёт и вечером обязательно его опять поставить, чтобы не пропустить хорошей погоды. Они, натужась, стащили шаланду по гальке к воде и осторожно толкнули в волну.
Стоя по колено в море, Гаврик поставил на корму садок для рыбы — маленькую закрытую лодочку с дырками, сильно толкнул шаланду, разбежался и лёг животом на борт, болтая над скользящей водой ногами, с которых падали сверкающие капли. И лишь когда шаланда проскочила сажени три-четыре, мальчик влез в неё и сел грести рядом с дедушкой.
Каждый из них работал одним веслом. Это было легко и весело: кто кого перегребёт? Однако оба они равнодушно хмурились и только покрякивали.
Ладони у Гаврика приятно горели. Весло, опущенное в прозрачную зелёную воду, казалось сломанным. Узкая его лопаточка упруго шла под водой, гоня назад воронки. Шаланда подвигалась сильными рывками, поворачивая то вправо, то влево. То дедушка нажмёт, то внучек нажмёт.
— Эх-х! — крякал дедушка, отваливаясь с силой.
И шаланда рывком заворачивала влево.
— Э-х-х! — ещё сильнее крякал Гаврик.
И лодка рывком выравнивалась и поворачивала вправо. Дедушка упирался в переднюю банку босой ногой со скрюченным большим пальцем и коротко рвал весло. Но и внучек не отставал. Он упирался обеими ногами и закусывал губу.
— А вот не подужите, дедушка, — сквозь стиснутые зубы цедил Гаврик, обливаясь потом.
— А вот подужу, — кряхтел дед, тяжело переводя дыхание.
— Та, ей-богу, не подужите!
— Побачимо!
— Побачимо!
Но как дедушка ни наваливался, ничего не получалось. Не те годы! Да и внучек подрос подходящий. Маленький-маленький, а смотри ты, какой упрямый! Против собственного деда не боится идти на спор!
Дедушка сердито хмурился, искоса поглядывая из-под седых бровей на хлопчика, сопевшего рядом. И в его старчески водянистых глазах светилось весёлое изумление.
Так, не осилив друг друга, они отошли по крайней мере на версту от берега. Тут среди волн качались на пробках выцветшие флажки их перемёта.
Тем временем уже всё море покрылось рыбачьими шаландами, вышедшими на лов.
Высоко подскакивая и с маху шлёпаясь в волну плоским рубчатым дном, высунутым из воды на треть, пронеслась под полным парусом новая синяя красавица шаланда «Надя и Вера». На корме, небрежно раскинувшись, лежал хорошо знакомый Гаврику малофонтанский рыбак Федя с чёрной семечкой, прилипшей к губе.
Из-под клеёнчатого козырька синей фуражки с якорными пуговичками лениво смотрели прекрасные томные глаза, почти прикрытые чёлкой, тёмной от брызг.
Прижав каменной спиной круто повёрнутый румпель, Федя даже не взглянул на жалкую шаланду дедушки.
Но Федин брат, Вася, в полосатом тельнике с короткими рукавами, увидев Гаврика, перестал раскручивать лесу самодура и, приложив к глазам против солнца руку, успел крикнуть:
— Эй, Гаврюха, ничего, не дрейфь! Держись за воду — не потонешь!
И «Надя и Вера» пронеслась мимо, обдав дедушку и внучка целым фонтаном брызг.
Конечно, в этом не было ничего обидного. Обыкновенная дружеская шутка. Но дедушка на всякий случай сделал вид, что ничего не расслышал. Однако в глубине души осталась обида. Ведь и у него, у дедушки, была когда-то прекрасная шаланда с новеньким, прочным парусом. Ловил на ней дедушка на самодур скумбрию. Да ещё как ловил! В иной день по две, по три сотни тащила покойная бабушка на привоз. Но жизнь прошла... И остались у дедушки лишь нищенская хибарка на берегу да старая шаланда без паруса.
Парус пролечили, когда заболела бабушка. Да и то напрасно: всё равно померла. Теперь такого паруса больше никогда не справишь. А без паруса какая же ловля? На смех курам! Разве только бычков на перемёт. Грустно!
Гаврик прекрасно понимал, о чём думает дедушка. Но и виду не подавал. Наоборот. Чтобы отвлечь старика от горьких мыслей, он стал деловито возиться возле перемёта: вытаскивать первый флажок.
Дедушка тотчас перебрался через банки, стал рядом с внучком, и они начали в четыре руки травить мокрый конец перемёта. Вскоре пошли крючки. Однако бычков на них было мало, да и то мелочь.
Гаврик крепко брал головастую трепещущую рыбку за скользкие жабры, ловко выдирал крючок из хищных челюстей и бросал её в садок, спущенный в море.
Но из десяти крючков едва ли на трёх попадалась настоящая добыча — на остальных болтались тощие глосики или крабы.
— Не идут на креветку, — сокрушённо бормотал дедушка. — Ну что ты скажешь! Одна мелочь. Надо мясом наживлять. На мясо обязательно пойдут. А где это взять то мясо, если оно на привозе по одиннадцать копеек фунт! Просто курям на смех.
Но тут вдруг навалилось что-то громадное, с коричневым дымом. Пролетели по воде две косые тени. Страшно зашумела вода... И совсем близко от шаланды прошёл пароход, хлопотливо мелькая красными лопастями колёс.
Лодку подбросило, потом уронило, потом опять подбросило. Флажки перемёта запрыгали почти под самыми колёсами. Ещё немножко — и их смолотило бы в щепки.
— Эй, на «Тургеневе»! — заорал дедушка не своим голосом и растопырил руки, как бы желая остановить несущуюся лошадь. — Что у вас, повылазило? Не видите переметов? Паршивые сволочи!
Но пароход уже благополучно пронесло. Он шумно удалялся — с трёхцветным флагом за кормой, со спасательными кругами и шлюпками, с пассажирами, с клубами бурого каменноугольного дыма, — оставляя за собой крупное белоснежное кружево на чистой тёмно-зелёной воде. Значит, было уже семь часов утра. «Тургенев» заменял рыбакам часы. В восемь часов вечера он проходил обратно из Аккермана в Одессу. Надо было торопиться, чтобы не опоздать с бычками на привоз.
Дедушка и внучек наскоро позавтракали помидорами с хлебом, запили свой завтрак водой, которая уже успела нагреться в бочоночке и приобрести дубовый привкус, и торопливо взялись за перемёт.
12. «ПОДУМАЕШЬ, ЛОШАДЬ!»
Часов около девяти Гаврик уже шагал в город. Он нёс на плече садок с бычками. Можно было, конечно, переложить их в корзинку, но садок имел более солидный вид.
Он показывал, что рыба совершенно свежая, живая, только что из моря. Дедушка остался дома чинить перемёт.
Хотя Гаврику едва минуло девять лет, но дедушка легко доверял ему такую важную вещь, как продажа рыбы. Он вполне надеялся на внучка. Сам понимает.
Не маленький. А на кого ж старику было ещё надеяться, как не на собственного внучка?
С полным сознанием важности и ответственности поручения Гаврик деловито и даже несколько сумрачно шлёпал по горячей тропинке среди пахучего бурьяна, оставляя в пыли отчётливые оттиски маленьких ножек со всеми пятью пальцами.
Весь его сосредоточенный солидный вид как бы говорил: «Вы себе там как хотите — купайтесь в море, валяйтесь на песке, ездите на велосипедах, пейте возле будки зельтерскую воду, — моё дело рыбацкое — ловить бычков на перемёт и продавать их на привозе, остальное меня не касается».
Проходя мимо купальни, где над окошечком кассы висела замурзанная чёрная доска с надписью мелом «18°», Гаврик даже презрительно усмехнулся: до того противно было ему смотреть на белотелого толстяка с платочком на лысине. Толстяк, заткнув пальцами нос и уши, окунулся в глинистую прибрежную воду, не отходя от спасательного каната, обросшего зелёной бородой тины.
Подняться на обрыв можно было двумя способами: по длинному, пологому спуску в три марша или по крутой, почти отвесной деревянной лестнице с гнилыми ступеньками.
Нечего и говорить, что Гаврик выбрал лестницу. Поджав губы, мальчик быстро заработал ногами. До самого верха он добежал, ни разу не остановившись передохнуть.
Пыльный, но тенистый переулок вывел его мимо «Заведения тёплых морских ванн» к юнкерскому училищу. Тут уж был почти совсем город.
По Французскому бульвару, в тени пятнистых платанов, тащилась в Аркадию открытая конка. Со стороны солнца она была занавешена парусиной. С задней площадки торчал вверх пучок бамбуковых удочек с поплавками, наполовину красными, наполовину синими. Три бодрые клячи щёлкали подковами по мелкому щебню. Визжал и ныл на повороте тормоз.
Будка квасника особенно привлекала внимание мальчика. Это был рундук под двускатной крышей на двух столбиках. Снаружи он был выкрашен зелёной масляной краской, а внутри — такой же густой и блестящей — белой.
Сам квасник являл собою вид такой непревзойдённой праздничной красоты, что Гаврик каждый раз, как его видел, не мог не остановиться на углу в порыве восхищения и зависти.
Гаврик никогда не задумывался над вопросом, кем ему быть, когда он вырастет и станет взрослым. Особенно нечего выбирать. Но уж если выбирать, то, разумеется, квасником.
Все одесские квасники были нарядные и красивые, как на картинке. А этот в особенности. Ни дать ни взять — Ванька-ключник.
И точно. Высокий купеческий картуз тонкого синего сукна, русые кудри, сапоги бутылками. А рубаха! Господи, да такую рубаху только и надевать что на первый день пасхи: блестящая, кумачовая, рукава пузырями, длинная — до колен, со множеством синеньких стеклянных пуговичек!
А поверх рубахи — чёрный суконный жилет с серебряной часовой цепочкой, вдетой в петлю серебряной палочкой.
Один вид его пламенной рубахи вызывает в человеке желание напиться холодного квасу.
А как он работает! Ловко, споро, чисто... Вот подходит покупатель:
— Дай-ка, милый, стаканчик.
— Какого прикажете? Кислого, сладкого? Сладкий копейка кружка, кислый — на копейку две.
— Давай кислого.
— Извольте-с!
И тут же мигом одна рука проворно отдирает за кольцо круглую крышку рундука и лезет в глубокий ледяной сумрак за бутылкой, в то время как другая вытирает тряпкой и без того сухой белый прилавок, полощет в ведре громадную литую кружку с жульническим толстым дном, щегольски переворачивает эту кружку и со стуком ставит перед покупателем.
Маленький штопор вонзается в пробку. Бутылка, зажатая между сапог, стреляет. Рыжая пена лезет из горлышка длинными буклями. Молодец опрокидывает бутылку над кружкой, наполняя её на четверть жёлто-лимонным квасом и на три четверти пеной.
Покупатель жадно сдувает пену и пьёт, пьёт, пьёт... А Ванька-ключник уже лихо вытирает стойку и смахивает мокрую копейку с орлом в жестяную коробочку из-под монпансье фабрики «Бр. Крахмальниковы».
Вот это человек! Вот это жизнь!
Конечно, Гаврику ужасно хотелось выпить квасу, но не было денег. Может быть, на обратном пути, да и то вряд ли. Дело в том, что хотя бычков и было в садке сотни две, но торговке, которой всегда продавали улов, дедушка сильно задолжал. Он взял у неё на прошлой неделе три рубля на пробки и крючки для перемёта, а отдал всего рубль сорок пять. Так что оставалось больше чем полтора рубля долгу — деньги громадные.
Хорошо, если торговка согласится удержать не всё. А если всё? Тогда дай бог, чтоб осталось на мясо для наживки и на хлеб, а уж о квасе нечего и думать!
Гаврик сплюнул совершенно так же, как это делали взрослые рыбаки, когда их одолевала забота.
Он переставил садок с одного плеча на другое и отправился дальше, унося в воображении нарядный образ Ваньки-ключника и душистую прохладу кислого кваса, которого так и не попробовал.
Дальше шёл уже настоящий город, с высокими домами, лавками, складами, воротами. Всё было испещрено сквозной тенью акаций, светившихся зелёными виноградинами листьев.
По мостовой тарахтел фургон. Пёстрая тень неслась сверху вниз по лошадям в высоких немецких хомутах, по кучеру, по белым стенкам с надписью: «Завод искусственного льда».
Шли кухарки с корзинами. По ним тоже скользила тень. Собаки с высунутыми языками подбежали к специальным жестянкам, прикованным к стволам деревьев. Задрав хвост бубликом, они лакали тёплую воду, чрезвычайно довольные одесской городской управой, позаботившейся о том, чтобы они не бесились от жажды.
Всё это было хорошо знакомо и малоинтересно. Но вот что вызвало изумление — тележка, запряжённая пони. Такой маленькой лошадки Гаврик ещё никогда в жизни не видывал. Не больше телёнка и вместе с тем совершенно как большая.
Бежевая, пузатенькая, с шоколадной гривкой и маленьким, но пышным хвостом, в соломенной шляпке с дырами для ушей, она стояла, подняв мохнатые ресницы, смиренно и скромно, как благовоспитанная девочка, возле подъезда в тени акации.
Лошадку окружали дети. Гаврик подошёл и долго стоял молча, не зная, как отнестись к феномену. Нет слов, лошадка ему понравилась. Но вместе с тем она вызывала также и чувство раздражения.
Он обошёл лошадку со всех сторон. Лошадь как лошадь: копытца, чёлочка, зубки. Но до чего же маленькая! Даже противно.
— Подумаешь, лошадь! — сказал он с презрением и сморщил нос.
— Это не лошадь, это не лошадь! — поспешно затараторила девочка с двумя косичками, приседая от восторга и хлопая в ладоши, — Это совсем не лошадь, а всего только поня.
— А вот лошадь, — сумрачно сказал Гаврик и тотчас надулся от стыда за то, что не удержался и унизился до разговора с такой малявкой в бантиках.
— А вот поня, а вот поня!
— Из цирка, — сиплым басом проговорил Гаврик, как бы не обращаясь ни к кому. — Обыкновенная из цирка.
— А вот не из цирка, а вот не из цирка! Поня. На ней развозят керосин Нобеля, на поне. Видишь, жестянки.
Действительно, в тележке стояли чистенькие бидоны с керосином. Для Гаврика это была полная неожиданность. Известно всем, что керосин покупается в лавочке на копейку кварта в собственную посуду. Но чтоб его развозили по домам в тележке, да ещё и запряжённой какой-то нарядной поней, — это было уж слишком!
— Простая лошадь! — сердито огрызнулся Гаврик, отходя прочь.
— А вот и поня! А вот поня! А вот поня! — кричала ему вслед девочка, как попугай, и, приседая, хлопала в ладоши.
«Сама ты поня», — подумал Гаврик, но, к сожалению, не было времени затевать крупную ссору.
Огибая вокзальный сквер, из-за чугунной решётки которого горячо и сухо пахло миртом и туей с терпкими шишечками, мальчик остановился, задрал голову и довольно долго смотрел на циферблат вокзальных часов.
Совсем недавно он наконец научился узнавать по часам время. Теперь он не мог пройти мимо часов без того, чтобы не остановиться и не посчитать.
Он ещё считал по пальцам эти странные палочки римских цифр, так не похожих на обычные цифры из арифметики. Он только знал, что самая верхняя — двенадцать и от неё надо начинать считать.
Гаврик поставил к ногам садок и зашевелил губами, крепко загибая пальцы.
— Одна, две, три, четыре... — шептал он,, наморщив лоб.
Маленькая стрелка стояла на девяти, а большая на шести.
— Девять и с половиной, — со вздохом удовлетворения проговорил мальчик, вытирая рубахой пот с носа.
Похоже, что так. Но всё же не мешало бы проверить.
— Дядя, сколько время?
Господин в чесучовом пиджаке и люфовом шлеме «здравствуй и прощай» приложил к римскому носу золотое пенсне, задрал седую бородку, мельком взглянул на циферблат и быстро сказал:
— Половина десятого.
Гаврик остолбенел от изумления:
— Дядя, а как же там написано — девять и с половиной?
— Значит, и есть полчаса десятого, — не глядя на мальчика, строго сказал господин, сел на извозчика и уехал, поставив между колен палку с костяным набалдашником.
Гаврик стоял некоторое время, полуоткрыв рот с недостающими зубами, стараясь понять, пошутил ли над ним барин или так оно и есть.
Наконец он взвалил на плечо садок, подтянул штаны и пошёл дальше, крутя головой и недоверчиво улыбаясь.
Оказывается, девять с половиной всё равно, что полчаса десятого. Странно. Очень странно. Во всяком случае, не мешало б спросить у кого-нибудь понимающего.
13. МАДАМ СТОРОЖЕНКО
— Раки! Раки! Раки! Раки!
— Камбала! Камбала! Камбала!
— Скумбрия живая! Скумбрия, скумбрия!
— Барбунька! Барбунька!
— Мидии! Мидии! Мидии! Мидии! Мидии!
— Бычки! Бычки! Бычки!
Из всех торговок привоза наиболее резкими, крикливыми голосами славились торговки рыбного ряда.
Надо было обладать бесстрашием одесских хозяек и кухарок, чтобы неторопливо пройтись по этой аллее столов, корзинок и рундуков, заваленных грудами морской рыбы, раковин и раков.
Под громадными парусиновыми зонтиками и дощатыми навесами, трепеща и сверкая, лежали вываленные напоказ живые богатства Чёрного моря.
Какое разнообразие форм, цветов, размеров! Природа приложила все усилия, чтобы защитить и спасти от гибели свои замечательные создания. Она постаралась сделать их как можно более незаметными для человеческого глаза. Она раскрасила их во все оттенки моря.
Например, благородная и дорогая рыба скумбрия, царица Чёрного моря. Её тугое тело, прямое и гладкое, как веретено, окрашено нежнейшими муаровыми тонами, от светло-голубого до тёмно-синего.
Гаврик знал, что именно такого цвета — голубого, с синими морщинами ряби — бывает море далеко от берега, как раз там, где главным образом ходят косяки скумбрии. Ишь какая хитрая скумбрия!
Хотя Гаврик ежедневно видел рыбу, привык к ней, умел за полверсты обнаружить в море косяк скумбрии, но всё же каждый раз он неизменно восхищался её красотой и хитростью.
Или бычки. Они водятся под берегом, среди скал, а также в песке, поглубже. Поэтому и окрашены они в бурый цвет скал или желтоватый цвет песка.
Смотри ты!
Большие плоские камбалы, привыкшие жить на тинистом дне тихих бухточек, поражают чёрно-зелёным цветом своей толстой кожи, усеянной плоскими костяными шипами, похожими на ракушки. Оба глаза помещаются у них сверху, почему камбала и напоминает детский рисунок углём на заборе: голова в профиль, но с двумя глазами.
Правда, брюхо у камбалы воскового, поросячьего цвета, но ведь брюхо-то эта рыба никогда не показывает, а всегда лежит на дне, плотно прижавшись к песку.
И мальчик восхищался хитростью камбалы. Была ещё барбунька, маленькая красно-чёрная горбатая рыбка с крупной, как бы окровавленной чешуёй. Точно такие же крупные розовые ракушки мерцают в самых чистых бухточках.
Стада серебряной тюльки кишат на поверхности моря у берега, сливаясь с серебряным кипением утреннего солнца.
Нет слов, природа хитра. Но Гаврик знал, что человек ещё хитрее. Человек как наставит сетей и переметов, как забросит прозрачную лесу удочек, как сверкнёт блесной и пёстрыми пёрышками самодура, и вот вся эта рыба, такая незаметная в море, будет великолепно сверкать всеми своими волшебными красками в корзинках и на прилавках привоза!
Лишь бы только деньги на хорошую снасть! Мальчик шёл, отыскивая знакомую торговку, мимо корзин, кишевших прозрачными светло-зелёными раками. Раки, шурша, протягивали вверх свои клешни, судорожно разинутые, как ножницы.
Тюлька горела грудами серебряной мелочи. Пружинистые креветки щёлкали под мокрой сеткой и стреляли во все стороны солью. Слюдяные чешуйки прилипали к босым ногам. Пятки скользили по рыбьим внутренностям.
Ободранные базарные кошки с безумными, стоячими зрачками, прижав уши и хищно выставив лопатки, ползали по земле за добычей.
Хозяйки с верёвочными кошёлками, из которых торчала морковь, подбрасывали на ладонях толстые бруски разрубленной камбалы.
Солнце жгло. Рыба засыпала. Знакомая торговка сидела на детской скамеечке под парусиновым зонтиком великанши, окружённая корзинами с товаром. Громадная, одетая, несмотря на двадцатиградусную жару, в зимнюю жакетку с буфами, накрест обвязанная песочным платком и с увесистым кошельком через плечо, она как раз в тот момент торговалась с покупательницей.
Гаврик почтительно остановился поодаль, дожидаясь, когда она освободится. Он прекрасно понимал, что они с дедушкой всецело зависят от этой женщины. Значит, надо быть как можно скромнее и вежливее. Он непременно снял бы шапку, если бы она у него была. Но шапки не было.
Мальчик ограничился тем, что тихонько поставил садок на землю, опустил руки и посматривал на свои босые переминающиеся ноги, по щиколотку одетые серой замшевой пылью.
Хотя дело шло всего о двух десятках бычков, торговля продолжалась ужасно долго. Десять раз покупательница уходила и десять раз возвращалась. Десять раз торговка бралась за медные чашки весов, облепленные рыбьей чешуёй, и десять раз бросала их обратно в корзину с камбалой.
Она быстро жестикулировала мясистыми руками в чёрных нитяных перчатках с отрезанными пальцами, не забывая изящно отставить мизинцы.
Она вытирала рукавом лилово-красное глянцевитое лицо с чёрными усиками и с седыми колечками на подбородке. Она судорожно втыкала в синие сальные волосы большие железные шпильки. Она кричала осипшим голосом:
— Мадам, о чём может быть речь? Таких бычков вы нигде не будете иметь! Разве это бычки? Это золото!
— Мелочь, — говорила покупательница, презрительно отходя, — нечего жарить.
— Мадам, вернитесь! Если эту рыбу вы называете «нечего жарить», то я не знаю, у кого вы будете иметь крупнее! Может быть, у жидов? Так идите до жидов! Вы же меня хорошо знаете. Я никогда не позволю себе всучить постоянной покупательнице мелочь!
— Такие бычки — десять копеек десяток! Никогда! Самое большее — восемь.
— Возьмите два десятка за девятнадцать.
— Лучше я возьму у кого-нибудь другого на те же деньги чирус.
— Мадам, последняя цена — восемнадцать. Не хотите, как хотите... Мадам, куда же вы идёте?
Наконец торг состоялся, и, отпустив рыбу, торговка высыпала в кошель деньги. Гаврик терпеливо дожидался, когда его заметят. Но торговка, хотя давно увидела мальчика, продолжала делать вид, что не замечает его. Таков был базарный обычай. Кому нужны деньги, тот пусть и ждёт. Ничего. Не сдохнет — постоит.
— Кому свежей рыбы? Живые бычки! Камбала, камбала, камбала! — закричала торговка, передохнув, и вдруг, не глядя на Гаврика, сказала: — Ну? Покажь!
Мальчик открыл дверцу садка и придвинул его к торговке.
— Бычки, — сказал он почтительно.
Она запустила в садок пятерню и проворно вытащила несколько бычков; посмотрела на них вскользь и уставилась на Гаврика круглыми глазами, чёрными и синими, как виноград «изабелла».
— Ну? Где ж бычки?
Гаврик молчал.
— Я тебя спрашиваю: где бычки?
Мальчик в тоске переступил с ноги на ногу и скромно улыбнулся, желая превратить неприятный разговор в шутку.
— Так вот же бычки, тётя. У вас в руках. Что вы, не видите?
— Где бычки? — закричала вдруг торговка, делаясь от гнева красной, как свёкла, — Где бычки? Покажи мне где? Я не вижу. Может быть, вот это, что я держу в руках? Так это не бычки, а воши! Тут разве есть, что жарить? Тут даже нет, чего жарить! Что вы мне все носите мелочь и мелочь! Носите жидам мелочь!
Гаврик молчал.
Конечно, нельзя сказать, что бычки были крупные, но уж всяком случае и не такая мелочь, как кричала торговка. Однако возражать не приходилось.
Окончив кричать, торговка совершенно спокойно принялась перекладывать бычки из садка в свою корзину, ловко отсчитывая десятки. Её руки мелькали так быстро, что Гаврик не успевал следить за счётом. Ему казалось, что она хочет его обдурить. Но не было никакой возможности проверить. В её корзине лежали другие бычки. Поди разберись!
Гаврика охватил ужас. Он вспотел от волнения.
— Для ровного счёта две с половиной сотни, — сказала торговка, закрывая корзину рогожкой. — Забирай садок. До свиданья. Скажешь деду, что с него ещё остаётся восемьдесят копеек. Чтоб он помнил. И пускай больше не присылает мелочь, а то не буду брать!
Мальчик остолбенел. Он хотел что-то сказать, но горло сжалось. А торговка уже кричала, не обращая на него ни малейшего внимания:
— Камбала, камбала, камбала! Бычки, бычки, бычки!
— Мадам Стороженко, — наконец с большим трудом выговорил мальчик, — мадам Стороженко...
Она нетерпеливо обернулась:
— Ты ещё здесь? Ну?
— Мадам Стороженко... сколько же вы даёте за сотню?
— Тридцать копеек сотня, итого семьдесят пять копеек, да вы мне остались один рубль пятьдесят пять, значит, ещё с вас восемьдесят. Так и скажешь дедушке. До свиданья.
— Тридцать копеек сотня!
Гаврику хотелось кричать от обиды и злости. Дать бы ей изо всей силы кулаком в морду, так чтоб из носа потекла юшка. Обязательно чтоб потекла. Или укусить...
Но вместо этого он вдруг заискивающе улыбнулся и проговорил, чуть не плача:
— Мадам Стороженко, вы же всегда давали по сорок пять...
— Скажите спасибо, что даю за такую рвань по тридцать. Иди с богом!
— Мадам Стороженко... Вы ж сами торгуете по восемьдесят...
— Иди, иди, не морочь голову! Мой товар. По сколько надо, по столько и торгую, ты мне можешь не указывать... Камбала, камбала, камбала!
Гаврик посмотрел на мадам Стороженко. Она сидела на своей детской скамеечке — громадная, неприступная, каменная.
Он мог бы ей сказать, что у них с дедушкой совершенно нет денег, что надо обязательно купить хлеба и мяса для наживки, что требуется всего-навсего копеек пятнадцать — двадцать, — но стоило ли унижаться?
В мальчике вдруг заговорила рыбацкая гордость.
Он вытер рукавом слёзы, щипавшие облупленный носик, высморкался двумя пальцами в пыль, вскинул на плечо лёгкий садок и пошёл прочь своей цепкой, черноморской походочкой.
Он шёл и думал, где бы раздобыть мяса и хлеба.
14. «НИЖНИЕ ЧИНЫ»
Хотя, как мы это видели, жизнь Гаврика была полна трудов и забот, совершенно как у взрослого человека, всё же не следует забывать, что он был всего лишь девятилетний мальчик.
У него были друзья и приятели, с которыми он охотно играл, бегал, дрался, ловил воробьёв, стрелял из рогатки и вообще занимался всем тем, чем занимались все одесские мальчики небогатых семейств.
Он принадлежал к категории так называемых «уличных мальчиков», а потому знакомства у него были обширные.
Никто не мешал ему ходить по любым дворам и играть на любой улице. Он был свободная птица. Весь город принадлежал ему.
Однако и у самой свободной птицы есть свои особо излюбленные места. Гаврик обосновался главным образом в районе приморских улиц Страды и Малого Фонтана. Здесь он безраздельно царил среди прочих мальчиков, со страхом и восхищением взиравших на его независимую жизнь.
Приятелей у Гаврика было много, а настоящих друзей всего один — Петя. Проще всего было бы пойти к Пете и посоветоваться насчёт хлеба и мяса. Конечно, денег у Пети не было, особенно таких больших, как пятнадцать копеек. Об этом нечего и думать. Но Петя мог бы утащить на кухне кусочек мяса и достать в буфете хлеб.
Гаврик был один раз у Пети в гостях на прошлое рождество и прекрасно знал, что у них есть буфет, где лежит много хлеба, на который никто не обращает внимания. Так что ничего не стоит вынести хоть полбатона. Там у них с этим не считаются.
Вся же беда заключалась в том, что не было известно, приехал ли Петя из экономии. Пора бы уже, кажется, приехать. Несколько раз в течение лета заходил Гаврик к Пете во двор узнавать, как дела. Но Пети всё не было и не было.
В прошлый раз их кухарка Дуня сказала, что скоро вернутся. Это было дней пять тому назад. Может быть, уже приехали?
С привоза Гаврик отправился во двор к Пете. Благо недалеко: прямо против вокзала — Куликово поле, угол Канатной, рядом со штабом — большой, четырёхэтажный дом, прекрасно приспособленный для хорошей жизни.
Во-первых, он был незаменим для уличных сражений, так как в нём было двое ворот. Одни выходили на Куликово поле, или попросту Кулички, а другие — на великолепнейший пустырь, с кустарником, с норами тарантулов и, правда, небольшой, но зато исключительно богатой помойкой. Там, если хорошенько порыться, всегда можно было набрать массу полезных предметов — от аптекарского пузырька до мёртвой крысы. Петьке повезло. Не у каждого мальчика рядом с домом такая помойка!
Во-вторых, мимо дома бегали маленькие дачные поезда с паровичком-кукушкой. Так что, для того чтобы положить под колёса петарду или камень, не нужно было далеко ходить.
В-третьих, соседство штаба. Там, за высокой каменной стеной, выходящей на полянку, находился таинственный мир, днём и ночью охраняемый часовыми. Там шумели машины штабной типографии. Ветер переносил через забор вороха удивительно интересных обрезков: лент, полосок, бумажной лапши.
На полянку же выходили и окна писарских квартир. Взобравшись на камень, можно было заглянуть через решётку и посмотреть, как живут писаря, эти в высшей степени красивые, важные и молодцеватые молодые люди в длинных офицерских брюках, но в солдатских погонах.
О писарях было достоверно известно, что они самые обыкновенные «нижние чины», то есть те же солдаты. Но какая громадная разница была между ними и солдатами! Может быть, за исключением квасников, писаря были самыми элегантными и нарядными красавцами в городе.
Горничные из соседних домов при виде писаря дрожали и бледнели, каждую минуту готовые упасть в обморок. Они нещадно палили себе виски и волосы щипцами, пудрили нос зубным порошком и румянили щёки конфетной бумажкой. Но писаря не обращали на них внимания.
Если для любого одесского солдата горничная была существом недоступным и высшим, то для писаря это была не больше как «деревенщина», недостойная даже взгляда.
Писаря одиноко и меланхолично сидели на железных койках у себя за решёткой и, сняв мундиры, тихонько наигрывали на гитарах. Были они в длинных брюках с высоким красным стёганым корсажем и в чистых сорочках с чёрным офицерским галстуком.
Если же в воскресенье вечером писарь появлялся на улице, то непременно под ручку с двумя модистками в высоких причёсках валиком.
Писаря были неслыханно богаты. Гаврик собственными глазами видел, как однажды писарь ехал на извозчике.
И всё же, как ни странно, писаря были всего только «нижние чины». И Гаврик собственными глазами видел, как однажды на углу Пироговской и Куликова поля генерал с серебряными погонами бил писаря по зубам, крича грозным голосом:
— Как стоишь, каналья? Как-к с-с-стоишь?
И писарь, вытянувшись и мотая головой, с вылупленными, как у простого солдата, светлыми крестьянскими глазами, бормотал:
— Виноват, ваше превосходительство! Последний раз!
Вот это двойственное положение и делало писарей существами странными, прекрасными и вместе с тем жалкими, как падшие ангелы, сосланные в наказание с неба на землю.
Была также очень интересна и жизнь простых караульных солдат, помещавшихся рядом с писарями.
У солдат тоже было два естества.
Одно — это когда они стояли попарно, в полной караульной форме с подсумками, у алебастрового штабного подъезда, каждую минуту лихо вытягиваясь и делая по-ефрейторски «на краул», то есть отводя немного в сторону хорошо смазанный салом штык, перед входящим или выходящим офицером.
Другое естество было простое, домашнее, крестьянское, когда они сидели в казарме, пришивая пуговицы, чистя сапоги ваксой или играя в шашки, а по-ихнему — «в дамки».
На окнах у них вечно сушились миски и деревянные ложки, лежало много объедков чёрного солдатского хлеба, которые они охотно отдавали нищим.
С мальчиками они разговаривали также охотно, но задавали такие вопросы и произносили такие слова, что у мальчиков горели уши и они в ужасе разбегались.
Оба двора, покрытые асфальтом, как нельзя лучше подходили для игры в классы. По асфальту можно было превосходно чертить углём и мелом клетки с цифрами. Гладкие морские камешки скользили замечательно.
Если же дворник, выведенный из терпения детским гвалтом, выгонял игроков метлой, очень удобно было тотчас перейти на другой двор. Кроме того, в доме имелись чудесные таинственные подвалы с дровяными сараями. Прятаться в этих сараях среди дров и различной рухляди, в пыльной сухой тьме, в то время как на дворе яркий день, было неописуемым блаженством.
Одним словом, дом, где жил Петя, во всех отношениях был превосходный.
Гаврик вошёл во двор и остановился под окнами Петиной квартиры, находившейся в третьем этаже.
Двор, рассечённый наискось резкой, полуденной тенью, был совершенно пуст. Ни одного мальчика! Очевидно, всё или в деревне, или на море. Большинство окон закрыто ставнями. Знойная, полуденная, ленивая тишина. Ни звука.
Только откуда-то издалека — может быть, даже с Ботанической улицы — слышатся урчанье и выстрелы раскалённой сковородки. Судя по запаху, где-то жарится кефаль на подсолнечном масле.
— Петя! — закричал Гаврик вверх, приложив ко рту ладошки.
Молчание.
— Пе-еть-ка!
Ставни закрыты.
— Пе-е-е-е-тька-а-а-а!!
Форточка в кухне отворилась и выглянула повязанная белым платком голова кухарки Дуни.
— Ещё не приехали, — быстро сказала она обычную фразу.
— А когда приедут?
— Ожидаем сегодня вечером.
Мальчик сплюнул и растёр ногой. Помолчал.
— Слушайте, тётя, как только он приедет, скажите, что Гаврик приходил.
— Слушаюсь, ваше благородие.
— Скажите, что я завтра утречком зайду.
— Свободно можешь не заходить. Нашего Петю теперь в гимназию будут отдавать. Так что — до свиданья всем вашим шкодам.
— Ладно, — хмуро буркнул Гаврик, — вы только, главное, скажите. Скажете?
— Скажу, не плачь.
— До свиданья, тётя.
— До свиданья, прекрасное созданье.
Как видно, самой Дуне до такой степени надоело летнее безделье, что она даже снизошла до шутливого разговора с маленьким босяком.
Гаврик подтянул штаны и побрёл со двора. Плохо дело! Как же теперь быть? Можно было, конечно, сходить к старшему брату Терентию на Ближние Мельницы. Но, во-первых, эти Ближние Мельницы бог знает где — туда и обратно часа четыре, не меньше. А во-вторых, после беспорядков ещё неизвестно, дома ли Терентий. Очень может быть, что он где-нибудь прячется или сам «сидит на дикофте», то есть самому нечего есть.
Что ж понапрасну бить ноги — не казённые! Мальчик вышел на полянку и, проходя мимо, заглянул в окна к солдатам. Солдаты как раз только что пообедали и полоскали на подоконнике ложки. Куча недоеденного хлеба сохла на сильном солнце. Мухи ползали по чёрным губчатым кускам с каштановой, даже на вид кисленькой коркой.
Гаврик остановился под окном, очарованный зрелищем этого изобилия. Он помолчал и вдруг, неожиданно для самого себя, сказал грубо:
— Дядя, дайте хлеба!
Но тут же спохватился, подобрал садок и пошёл дальше, показав солдатам щербатую улыбку:
— Та нет, я так! Не надо.
Но солдаты сгрудились на подоконнике, крича и свистя мальчику:
— Эй! Пёс! Куда побег? Вертай назад!
Они протягивали ему через решётку куски хлеба:
— Бери! Не бойсь!
Он нерешительно остановился.
— Подставляй рубаху!
В их криках и шуме было столько весёлого добродушия, что Гаврик понял: не будет ничего унизительного, если он возьмёт у них хлеб. Он подошёл и подставил рубаху.
Полетели куски.
— Ничего, поешь нашего солдатского, казённого! Приучайся!
Кроме хлеба, которого накидали фунтов пять, солдаты навалили ещё порядочно вчерашней каши.
Мальчик аккуратно уложил всё это в садок и, провожаемый крепкими шутками насчёт действия на живот солдатской пищи, отправился домой помогать дедушке чинить перемёт.
К вечеру они снова вышли в море.
15. ШАЛАНДА В МОРЕ
Заметив, что пароход не остановился и не спустил шлюпки, а продолжает прежний курс, матрос немного успокоился и пришёл в себя.
Прежде всего, он поспешил скинуть робу, мешавшую плыть. Отделаться от пиджака было всего легче. Перевернувшись несколько раз и отплёвываясь от солоновато-горькой волны, матрос в три приёма стянул пиджак, тяжёлый от воды, как чугун.
Пиджак, раскинув рукава, плыл некоторое время за матросом, как живой, не желая расстаться с хозяином и норовя обвиться вокруг его ног.
Матрос пихнул его несколько раз, пиджак отстал и начал медленно тонуть, качаясь и переходя из слоя в слой, пока не пропал в пучине, куда слабо уходили мутные снопы вечернего света.
Больше всего возни было с сапогами. Они липли, как наполненные клеем. Матрос яростно нога об ногу сдирал эти грубые флотские сапоги с рыжими голенищами, уличавшие его. Гребя руками, он танцевал в воде, то проваливаясь с головой, то высовываясь из волны по плечи.
Сапоги не поддавались. Тогда он набрал в лёгкие побольше воздуха и схватил сапог руками. Погрузившись с головой в волну, он рванул его за скользкий каблук, мысленно ругаясь самыми последними словами и проклиная всё на свете.
Наконец ему удалось стащить проклятый сапог. Другой пошёл легче.
Однако, когда оба сапога и штаны были сняты и брошены, вместе с облегчением Родион почувствовал сильнейшую усталость. В горле горело от морской воды, которой он, несмотря на все свои старания, порядочно нахлебался.
Кроме того, прыгнув с парохода, он сильно ушибся о воду. Он почти не спал двое суток, прошёл пешком вёрст сорок или пятьдесят, переволновался. В глазах было темновато. Впрочем, может быть, оттого, что быстро наступал вечер.
Вода потеряла свой дневной цвет и стала какой-то хотя и глянцевитой, ярко-гелиотроповой на поверхности, но страшной, почти чёрной в глубине.
Снизу, с поверхности моря, берега совсем не было видно. Горизонт до крайности сузился. Только чистое небо с края светилось прозрачной зеленью заката со слабенькой, еле заметной звёздочкой.
Значит, в той стороне берег, и туда надо плыть. На матросе остались лишь рубаха и подштанники. Они почти не мешали. Но голова кружилась, руки и ноги ломило в суставах, плыть становилось всё труднее.
Иногда ему казалось, что он теряет сознание. Иногда начинало тошнить. А то вдруг его охватывал короткий припадок страха. Одиночество и глубина пугали его.
Раньше с ним этого никогда не бывало. Похоже на то, что он заболел. Мокрые короткие волосы казались сухими, горячими и такими жёсткими, что кололи голову.
Вокруг не было ни души. Вверху в пустом вечереющем воздухе пролетел мартын на толстых крыльях и сам толстый, как кошка. В длинном, изогнутом на конце клюве он держал маленькую рыбку.
Новый приступ страха охватил матроса. Вот-вот разорвётся сердце, и он пойдёт ко дну. Он хотел крикнуть, но не мог разжать зубы.
Вдруг он услышал нежный всплеск вёсел и немного погодя увидел почти чёрный силуэт шаланды.
Он собрал все силы и двинулся за ней, отчаянно толкая воду ногами. Он догнал её и успел схватиться за высокую корму.
Перехватывая руками, кое-как добрался до борта, где было пониже, натужился и заглянул в шаланду.
— А ну, не балуйся! — закричал Гаврик сумрачным басом, увидев мокрую голову, высунувшуюся над качнувшимся бортом.
Появление этой головы нисколько не удивило мальчика. Одесса славилась своими пловцами.
Иные из них, случалось, заплывали версты за три, за четыре от берега и возвращались назад поздним вечером. Вероятно, это один из таких пловцов.
Но уж если ты такой герой, так не хватайся за чужую шаланду и не отдыхай, а плыви сам! А здесь люди и без тебя усталые, только что с работы.
— А ну, не валяй дурака, отцепляйся! А то сейчас веслом как двину!..
И мальчик для пущей острастки даже сделал вид, что снимает весло с колышка, точь-в-точь как это делал в подобных случаях дедушка.
— Я... больной... — задыхаясь, сказала голова.
Из-за борта протянулась дрожащая рука в налипшем рукаве вышитой рубахи.
Тут Гаврик сразу сообразил, что это не пловец: пловцы в вышитых рубахах по морю не плавают.
— Ты что, тонул?
Матрос молчал. Его руки и голова безжизненно висели внутри шаланды, в то время как ноги в подштанниках волоклись снаружи по воде. Он был в обмороке.
Гаврик и дедушка побросали вёсла и с трудом втащили вялое, но страшно тяжёлое тело в шаланду.
— Ух ты, какой горячий! — сказал дедушка, переводя ДУХ.
Действительно, матрос, хотя дрожал и был мокр, весь так и горел сухим, болезненным жаром.
— Дядя, хочете напиться? — спросил Гаврик.
Матрос не ответил. Он только бессмысленно повёл глазами с мутной поволокой и пошевелил воспалённым ртом.
Мальчик подал ему дубовый бочоночек. Матрос отвёл его слабой рукой, с отвращением проглотив слюну, и тут же его стошнило.
Голова упала и стукнулась о банку. Потом матрос потянулся к бочоночку, нашарил его в потёмках, как слепой, и, стуча зубами по дубовой клёпке, кое-как напился.
Дедушка покрутил головой:
— История!..
— Дядя, откуда вы? — спросил мальчик.
Матрос опять проглотил слюну, хотел сказать, но только протянул руку вдаль и тотчас уронил её в бессилии.
— Ой, ну его к чёрту! — пробормотал он неразборчивой скороговоркой. — Не показывайте меня людям... Я матрос... сховайте где-нибудь... а то повесят... ей-богу, правда... святой истинный...
Он хотел, видимо, перекреститься, но не смог поднять руку. Хотел улыбнуться своей слабости, но вместо улыбки по его глазам пошла поволока. И он опять потерял сознание.
Дедушка и внучек переглянулись, но не сказали друг другу ни слова. Время было такое, что лучше всего — знать да помалкивать.
Они осторожно положили матроса на решётчатом настиле, в клетках которого хлюпала невычерпанная вода, подсунули ему под голову бочоночек и сели на вёсла.
Гребли они помаленьку, не спеша, с таким расчётом, чтобы добраться до берега, когда уже совсем стемнеет. Чем темнее, тем лучше. Они даже, прежде чем пристать, покрутились немного между знакомых скал. К счастью, на берегу никого не было.
Стояла тёплая, глубокая тьма, полная сверчков и звёзд. Дедушка и внучек вытащили шаланду на берег. Таинственно зашуршала галька. Дедушка остался охранять больного, а Гаврик сбегал посмотреть, нет ли кого поблизости.
Он скоро вернулся неслышными шагами. По этим шагам дедушка понял, что всё в порядке. Они с большим трудом, но осторожно вытащили матроса из шаланды и поставили его на ноги, поддерживая с обеих сторон. Матрос обнял Гаврика за шею и прижал к своему, уже обсохшему, необыкновенно горячему телу. Он грузно навалился на мальчика, едва ли что-нибудь соображая.
Гаврик расставил ноги покрепче и прошептал:
— Идти можете?
Матрос ничего не ответил, но сделал, шатаясь, несколько шагов, как лунатик.
— Потихонечку, потихонечку, — приговаривал дед, поддерживая матроса за спину.
— Тут недалеко, дядя... два шага...
Они наконец поднялись на горку. Их никто не видел. А если бы даже и увидел, то вряд ли обратил бы внимание на белую шатающуюся фигуру, ведомую стариком и мальчиком. Картина известная. Пьяного рыбака ведут родственники до дому. А что рыбак при этом не ругается и не орёт песен, так это просто потому, что уж чересчур много хватил монопольки.
Едва матроса ввели в пахучую, жаркую тьму хибарки, как он тотчас рухнул на дощатую койку.
Дедушка заложил окошко куском ящичной фанеры и плотно притворил дверь. Лишь после этого он зажёг маленькую керосиновую лампочку без стекла, прикрутив фитиль насколько возможно короче.
Лампочка стояла в углу, на полке, покрытой старой газетой. Там же были солдатский хлеб, завёрнутый в сырую тряпочку, чтоб не высох, кружка, сделанная из консервной банки, жестяная мисочка с солдатской кашей, две деревянные ложки, немного крупной соли в большой синей раковине мидии — словом, всё это нищее, но необыкновенно аккуратное хозяйство.
Старая, до черноты закопчённая икона св. Николая-чудотворца — покровителя рыбаков, прибитая в углу над полкой, смотрела продолговатым кофейным пятном древнего лика и жуткими глазами киевского письма.
Сейчас по этому вековому лицу снизу вверх струились лёгкая копоть и свет лампочки. Лицо, казалось, живёт, дышит...
Давно уже дедушка не верил ни в бога, ни в чёрта. От них он не видел в жизни своей ни добра, ни зла. А в Николая-чудотворца верил.
Да и как же не верить в святого, помогающего человеку в его тяжком и опасном ремесле? Ведь ничего не было в жизни дедушки важнее рыбацкого ремесла.
Но, по правде сказать, последнее время чудотворец стал что-то сдавать. Когда дедушка был помоложе, имел хорошую снасть, парус, силы, чудотворец — ничего, помогал. Был от чудотворца в хозяйстве кое-какой толк. Но чем старее становился дед, тем меньше было толку и от святого.
Конечно, если паруса нет в рыбацком хозяйстве, если силы у старика с каждым днём убывают, если денег не хватает на мясо для наживки, то будь ты хоть самый распрочудотворец — рыба пойдёт мелкая, никудышная... И нечего от человека требовать.
Видно, и чудотворцу нелегко идти против старости и бедности. Всё же старику становилось подчас горько и обидно смотреть на строгого, но бесполезного святого. Правда, есть-пить он не просит, висит в углу смирно. Ну, да уж пусть висит: авось когда-нибудь и поможет. Со временем у старика вошло в привычку снисходительное, даже как бы несколько насмешливое отношение к чудотворцу.
Возвращаясь после лова в хибарку — а лов теперь по большей части был из рук вон плох, — дедушка ворчал, искоса поглядывая на смущённого чудотворца:
— Ну что, старый хрен, опять мы с тобой сели? Такую мелочь привезли, что на привоз совестно нести. Не бычки, а воши.
И он добродушно прибавлял, для того чтобы не окончательно унижать угодника:
— Да что! Разве ж настоящий крупный бычок на креветку пойдёт? Настоящему сытому бычку на креветку плевать. Ему надо мясо, настоящему, сытому бычку. А где мы его возьмём с тобой, мясо-то? Его чудом не купишь? Вот то-то!
Однако сейчас старику было не до угодника. Его сильно беспокоил матрос. И не столько его жар и беспамятство, сколько предчувствие смертельной опасности, угрожающей ему неведомо откуда.
Разумеется, дедушка кое-что соображал, кое о чём догадывался. Но всё же, чтобы помочь человеку, надо бы знать побольше.
А матрос, как на грех, лежал в забытьи, разметавшись в жару по лоскутному одеялу, и смотрел перед собой открытыми, но ничего не видящими глазами.
Одна его рука свесилась с койки, а другая лежала на груди. На ней дедушка рассмотрел голубой якорёк.
По временам матрос пытался вскочить; мыча и обливаясь горячим потом, он грыз в беспамятстве руку, как бы стараясь выгрызть якорь, точно, не будь этого якоря, ему сразу бы полегчало.
Дедушка силой укладывал его обратно, обтирая ему лоб и приговаривая:
— Ну, ляжь... Ляжь, я тебе говорю... И спи, не бойся... Спи!
Гаврик на огороде кипятил в казанке воду — напоить больного чаем. То есть не чаем, а, вернее сказать, той душистой травкой, которую дедушка собирал в мае на окрестных холмах, сушил и употреблял вместо чая.
16. «БАШЕННОЕ, ОГОНЬ!»
Ночь прошла очень тревожно. Матрос рвал на груди рубаху. Ему было душно. Дедушка потушил коптилку и отворил дверь, чтобы впустить свежего воздуха. Матрос увидел звёздное небо и не понял, что это такое. Ночной ветерок влетел в хибарку и освежил его голову.
Гаврик лёг на бурьян возле двери, прислушиваясь к каждому шороху. До утра мальчик не сомкнул глаз. Отлежал локоть. Дедушка устроился на земляном полу хибарки и тоже не спал, слушая сверчков, волну и стоны больного, который иногда вдруг взволнованно вскакивал, крича слабым, прозрачным голосом:
— Башенное, огонь! Кошуба! Бей, башенное!..
И всякую другую чепуху.
Тогда дедушка крепко брал его за плечи, осторожно тряс и шептал в самый его рот, дышащий жаром:
— Ляжь, не кричи. За-ради самого господа бога, не бузуй. Ляжь и молчи. Наказанье!
И матрос понемножку утихал, поскрипывая зубами.
И кто же такой был этот странный больной?
В числе семисот матросов, высадившихся с броненосца «Потёмкин» на румынский берег, был Родион Жуков.
Ничем замечательным не отличался он от прочих матросов мятежного корабля. С первой минуты восстания, с той самой минуты, когда командир броненосца в ужасе и отчаянии бросился на колени перед командой, когда раздались первые винтовочные залпы и трупы некоторых офицеров полетели за борт, когда матрос Матюшенко с треском отодрал дверь адмиральской каюты, той самой каюты, мимо которой до сих пор страшно было даже проходить, с той самой минуты Родион Жуков жил, думал и действовал так же, как и большинство остальных матросов, — в лёгком тумане, в восторге, в жару, — до тех пор, пока не пришлось сдаться румынам и высадиться в Констанце.
Никогда до тех пор не ступала нога Родиона на чужую землю. А чужая земля, как бесполезная воля, широка и горька.
«Потёмкин» стоял совсем близко от пристани.
Среди фелюг и грузовых пароходов, трёхтрубный и серый, окружённый яликами, яхтами и катерами, рядом с тощим румынским крейсером он был бессмысленно велик.
Высоко над орудийными башнями, шлюпками, реями всё ещё висел белый Андреевский флаг, косо помеченный голубым крестом, как перечёркнутый пакет.
Но вот флаг дрогнул, опал и короткими стёжками стал опускаться. Обеими руками снял тогда Родион бескозырку и так низко поклонился, что кончики новых георгиевских лент мягко легли в пыль, как оранжево-чёрные деревенские цветы чернобривцы.
— Просто срам... Чистый срам! Орудия двенадцатидюймовые, боевых патронов хоть залейся, наводчики один в одного. Даром Кошубу не послушались. Дорофей Кошуба правильно говорил: кондукторов, паршивых шкур, — за борт! «Георгия Победоносца» — потопить. Идти на Одессу высаживать десант. Весь бы одесский гарнизон подняли, всех бы рабочих, всё бы Чёрное море! Эх, Кошуба, Кошуба, было бы тебя послушаться... А то такая ерунда получилась!
В последний раз поклонился Родион своему родному кораблю.
— Ладно, — сказал он сквозь зубы, — ладно. За нами не пропадёт. Всё равно всю Россию подымем.
Через несколько дней, купив на последние деньги вольную одежду, он ночью переправился через гирло Дуная, возле Вилково, на русскую сторону.
План у него был такой: добраться степью до Аккермана, оттуда на барже или на пароходе в Одессу; из Одессы до родного села Нерубайского — рукой подать. А там — как выйдет...
Одно только знал Родион наверняка: что к прошлому для него все пути заказаны, что прежняя его жизнь, подневольная матросская жизнь на царском броненосце и трудная родная крестьянская жизнь дома, в голубой мазанке с синими окошками среди жёлтых и розовых мальв, отрезана от него навсегда.
Теперь — либо на виселицу, либо скрываться, поднять восстание, жечь помещиков, идти в город искать комитет.
Он почувствовал себя худо ещё в дороге. Но останавливаться было уже нельзя. Он шёл больной.
И вот теперь... Что это с ним происходит? Где он лежит? Почему в дверях качаются звёзды? И звёзды ли это?
Чёрным морем обступила. Родиона ночь. Звёзды сгустились, разгорелись и легли перед глазами низкими карантинными огнями. Зашумел город, загорелась в порту эстакада, побежали люди, путаясь в бунтующем огне. Длинными рельсами упали вдоль мостовых железные винтовочные залпы.
Качнулась ночь корабельной палубой. Зеркальный круг прожектора побежал по волнистому берегу, добела раскаляя углы домов, вспыхивая в стёклах, выдёргивая из темноты бегущих солдат, красные лоскутья флагов, зарядные ящики, лафеты, поваленные поперёк улицы конки.
И вот он видит себя в орудийной башне. Наводчик глазом припал к дальномеру. Башня поворачивается сама собой, наводя на город пустое дуло, сияющее внутри зеркальными нарезами. Стоп! Как раз точка в точку против синего купола театра, где осанистый генерал держит военный совет против мятежников.
В башне канителится жидкий телефонный звонок. А может быть, это сверчки воркуют в степи? Нет, это телефон. Электрический подъёмник с медленным лязгом выносит из погреба снаряд — он качается на цепях — прямо в руки Родиона. А может быть, это не снаряд, а прохладная дыня? Ах, как хорошо было б напиться! Но нет, нет, это снаряд.
— Башенное, огонь!
И в тот же миг зазвенело в ушах, словно ударило снаружи в башенную броню, как в бубен. Вспыхнул огонь, и обварило запахом жжёного гребня.
Дрогнул рейд во всю ширь. Закачались на рейде шлюпки. Железная полоса легла между броненосцем и городом.
Перелёт.
Разгорелись у Родиона руки. Но вот опять сверчки хрустальным ручейком пробираются среди частых звёзд и бурьяна. А может, это воркует телефон?
И второй снаряд сам собой лезет из подъёмника в руки матроса. Доконаем генерала, погоди!
— Башенное, огонь! Башенное, огонь!
— Ляжь, не кричи... Может, тебе дать напиться? Ляжь тихо...
... И вторая полоса легла поперёк бухты. Опять перелёт. Ничего, авось в третий раз не промажем! Снарядов небось хватит. Полны погреба.
Легче пушинки и вместе с тем тяжелее дома лёг в ослабевшие ладони третий снаряд. Только бы пустить его поскорее. Только бы дым повалил поскорее из синего купола. А там и пойдёт, и пойдёт!..
Но что-то не воркует телефон, перестали звенеть сверчки... Поумирали там все наверху, что ли?
Или это утро наступает такое тихое и такое розовое?
Башня словно сама собой поворачивается обратно. «Отбой!» — и снаряд, выскользнув из упавших рук, опускается обратно в погреб, гремя цепями подъёмника. Нет, нет, это покатилась из пальцев кружка и нежно журчит водица с койки на пол.
И тишина, тишина...
«Да что ж это такое? Эх, продали, продали волю, чёртовы шкуры! Сдрейфили!
Уж если бить, так бить до конца! Чтоб камня на камне не осталось!»
— Бей, башенное, бей!..
— Ох, господи, господи, святой чудотворец Николай! Ляжь, выпей ещё воды. Несчастье!..
Слабая, розовая тишина утра нежно и успокоительно прилегла к воспалённой щеке Родиона. Далеко на золотистом обрыве кричали петухи.
17. ХОЗЯИН ТИРА
Дедушка и внучек обсудили положение и решили, что больного покуда не следует никому показывать. Тем более не следует отправлять его в городскую больницу, где обязательно спросят паспорт.
По мнению дедушки, у матроса — обыкновенная, не слишком даже сильная горячка, которая скоро пройдёт. А там пускай сам себе обдумает.
Между тем уже совсем рассвело, и надо было опять выходить в море.
Больной не спал. Ослабевший от ночного пота, он неподвижно лежал на спине, глядя живыми, сознательными глазами на образ чудотворца с пучком свежих васильков, заткнутых за согнутую от времени тёмную доску.
— Чуешь? — спросил дедушка, подходя к больному.
Тот слабо пошевелил губами, как бы желая промолвить: «Чую».
— Полегчало?
Больной в знак утверждения прикрыл глаза.
— Может, ты хочешь кушать?
Дедушка покосился на полку с хлебом и кашей.
Матрос слабо качнул головой: «Нет».
— Ну, как хочешь. Слухай, сынок... Нам надо выходить в море по бычки, чуешь? Так мы тебя здесь оставим одного и запрём на замочек. Можешь нам свободно доверять. Мы такие же самые люди, как ты, — черноморские. Чуешь? Ты себе тута тихонечко лежи и отдыхай. А если кто-нибудь постучится, так ты просто молчи, и больше ничего. Мы с Гавриком зараз управимся и тоди быстренько вернёмся. Я тебе тут в кружечке воду поставлю: захочешь, так напейся, это ничего. И ни об чём не думай, можешь вполне надеяться. Ты чуешь?
Старик разговаривал с больным, как с несмышлёным ребёнком, через каждые два слова приговаривая: «Чуешь?»
Матрос смотрел на него улыбающимися через силу глазами и прикрывал их изредка: дескать, не беспокойся, понимаем, спасибо.
Заперев матроса, рыбаки отправились на промысел и часа через четыре возвратились назад, найдя дома всё в полном порядке. Больной спал.
На этот раз им повезло. Они сняли с перемёта сотни три с половиной прекрасных, крупных бычков, и дедушка, благосклонно посмотрев на чудотворца и пожевав морщинистыми губами, заметил:
— Ничего. Сегодня ничего. Хотя и на креветку, а крупные. Дай бог тебе здоровья.
Но чудотворец, в полном сознании своего могущества, смотрел на деда строго и даже высокомерно, как бы желая сказать: «А ты ещё сомневался, хреном называл. Сам ты хрен».
Дедушка решил сам идти с бычками на привоз. Надо было наконец выяснить отношения с мадам Стороженко. А то что ж это такое получается: сколько ни носи товара, всё равно остаётся долг, а живых денег не видно! Так и рыбачить, выходит, неинтересно.
Сегодня для этого представлялся самый подходящий случай. Не стыдно показать товар. Бычки — один в одного.
Гаврику, конечно, тоже бы хотелось сходить сегодня на привоз, чтобы на обратном пути повидаться с Петькой и наконец выпить на углу квасу.
Но опасно было оставлять матроса одного, так как было воскресенье: на берег, наверно, понаедет множество народа из города.
Дедушка взвалил на плечо ещё мокрый садок и пошлёпал на привоз, а Гаврик переменил в кружке воду, прикрыл матросу ноги, чтоб не кусали мухи, и, навесив на дверь замок, отправился немножко пройтись.
Тут совсем недалеко, на берегу, находились различные увеселительные заведения: ресторанчик с садом и кегельбаном, тир, карусель, будки с зельтерской водой и восточными сладостями, автоматы-силомеры — словом, маленькая ярмарка. Походить по ней и поглазеть было для мальчика настоящей радостью.
Обедни ещё не отошли. Вверху, над обрывами, плыл колокольный звон приморских церквей.
Ветер, совершенно не ощутимый внизу, иногда плавно проносил по небу белоснежное облако, такое же круглое и яркое, как этот звон.
Гулянье по-настоящему ещё не начиналось, но несколько нарядно разодетых горожан уже слонялись возле карусели, ожидая, когда же наконец снимут с неё парусиновый чехол.
Из кегельбана доносилось медленное чугунное ворчанье тяжёлого шара, пущенного по узкой дороге. Шар катился ужасно долго, его шум всё слабел и слабел, пока вдруг, после короткой тишины, не долетало из-за ограды, поросшей жёлтой акацией, лёгкое музыкальное щёлканье рассыпавшихся кеглей.
В тире кто-то изредка постреливал. Иногда после слабенького отрывистого выстрела слышался звон разбитой бутылки или начинал шуметь механизм движущейся мишени. Тир притягивал к себе неудержимо.
Гаврик подошёл к балагану и остановился возле дверей, жадно вдыхая ни с чем не сравнимый, какой-то синевато-свинцовый запах пороха. Особый, кисленький и душный вкус выстрела чувствовался даже на языке.
О, эти ружья, расставленные так заманчиво на специальных стойках! Маленькие, точно литые приклады, чисто сработанные из тяжёлого, как железо, дерева, нарезанного острой сеткой в тех местах, где надобно браться рукой, чтобы не скользило. Толстый, но длинный гранёный ствол синей воронёной стали с маленькой, как горошинка, дырочкой дула. Синяя стальная мушка. И так легко и просто поднимается рамка затвора.
Даже самые богатые мальчики мечтали о таком ружье. Слово «монтекристо» произносилось с замиранием сердца. В нём заключалось всеобъемлющее понятие сказочного богатства, счастья, славы, мужества. Обладать монтекристо было даже больше, чем иметь собственный велосипед. Мальчики, имевшие монтекристо, были известны далеко за пределами своего квартала. О них так и говорилось:
«Тот Володька с Ришельевской, у которого монтекристо».
Конечно, Гаврик не смел мечтать о монтекристо. Даже он не смел мечтать из него выстрелить, так как выстрел стоил бессовестно дорого: пять копеек. Быть стрелком мог позволить себе только очень состоятельный человек. Гаврик смел мечтать только прицелиться из чудесного ружья. Хозяин тира иногда доставлял ему это удовольствие.
Но теперь в тире находился посетитель, так что сейчас об этом нечего было и думать. Может быть, когда стрелок уйдёт, Гаврик попросит хозяина, и тогда...
Но посетитель не торопился уходить. Он стоял, расставив плотные ноги в закрытых скороходовских сандалиях, и не столько стрелял, сколько разговаривал с хозяином тира.
Гаврик улучил минуту, когда хозяин оглянулся, и учтиво поздоровался:
— Бог помощь, дядя. С праздником.
Хозяин с большим достоинством ответил медленным кивком головы, как и подобало владельцу такого необыкновенного увеселительного предприятия. Это был хороший признак. Значит, хозяин в духе и, весьма-весьма возможно, даст подержать монтекристо.
Мальчик счёл возможным приблизиться и даже стать на пороге тира. Он с жадным восхищением рассматривал висящие над прилавком пистолеты, ветвистую подставку для стрельбы с упора, заводные игрушки мишеней, из которых одна нравилась мальчику.
Это был японский броненосец с пушками и флагом среди резко зелёных волн жестяного моря. Из моря торчал на палочке маленький кружок. Стоило в него попасть, как броненосец с шумом раскалывался пополам и тонул, а на его мосте выскакивал жестяной веер взрыва.
Конечно, среди барабанящих зайцев, балерин, рыболовов с башмаком на удочке и бутылок, движущихся одна за другой на бесконечной ленте, японский броненосец занимал первое место по блестящей выдумке и художественному выполнению.
Всем было известно, что японцы совсем недавно под Цусимой пустили ко дну весь русский флот, и среди стрелков непременно находился охотник отомстить япошкам.
В тире был ещё настоящий фонтанчик. Его пускали по особому заказу. Хозяин клал на струю лёгонький целлулоидный шарик. Вода подбрасывала его, вертела: то вдруг опускала, то вдруг подымала. Это было настоящее чудо, загадка природы.
Попасть в него было неслыханно трудно. Любители, войдя в азарт, просаживали по десять — пятнадцать пуль и чаще всего уходили ни с чем.
Но уж если кто-нибудь сбивал шарик, то за это ему полагался лишний выстрел бесплатно.
— Значит, ничего такого у вас вечером не случилось? — продолжал разговор посетитель, играя изящным ружьецом, совсем маленьким в его больших лапах.
— Как будто бы ничего.
— Так-с.
Стрелок поискал глазами, во что бы прицелиться. Он снял синее пенсне, отчего на его мясистом носу обнаружились две коралловые вдавлины, и прицелился в зайца с барабаном. Но затем раздумал и опустил ружьё.
— И местные рыбаки ничего такого не рассказывали?
— Не рассказывали.
— Гм...
Посетитель опять прикинул монтекристо и опять его опустил.
— А я слышал, что вчера вечером здесь против берега какой-то человек с «Тургенева» упал. Ничего не слышали?
— Ничего.
У Гаврика перехватило дыхание, как будто его вдруг окатили целым ведром ледяной воды. Сердце так стиснулось, что его не стало слышно. Ноги ослабли. Мальчик боялся пошевелиться.
— А я слышал, что будто прыгнул с парохода один человек, которого преследует полиция. Вот тут, против этого берега. Не знаете?
— От вас первого слышу.
Как видно, хозяину тира уже давно надоел этот усатый болтун. Хозяин с учтивым достоинством вертел в руках зелёную коробочку с патрончиками и почти зевал. Он совершенно справедливо полагал, что если ты пришёл стрелять, то и стреляй. Если же тебе хочется поговорить с человеком, то — отчего же? — можно и поговорить между двумя выстрелами. Но только, разумеется, поговорить на какую-нибудь интересную тему: например, о велосипедных гонках на циклодроме или же о русско-японской войне.
На его потёртом, истерзанном тайными страстями лице неудачника отражалась томительная скука.
Гаврику было его от всего сердца жаль. Он, как и все другие дети, почему-то очень любил этого человека с косо подрезанными бачками, с кривыми, как у таксы, ногами, с волосатой грудью, просвечивавшей сквозь сетчатый тельник густой татуировкой.
Гаврик знал, что, несмотря на приличные заработки, у него никогда не было копейки за душой. Всегда он кому-нибудь должен, всегда чем-то озабочен до крайности. Про него ходили слухи, что когда-то он был знаменитый цирковой наездник, но однажды за какую-то подлость ударил хозяина цирка хлыстом по лицу. Его выгнали. Лишённый куска хлеба, с волчьим билетом в кармане, он стал играть на бегах, и игра погубила его. Теперь он играл во все игры, не брезгая даже играть с мальчишками в «пожара» по копейке.
Страшный азарт вечно терзал его душу. Было известно, что иногда он проигрывал с себя всё. Например, штиблеты, бывшие на нём, принадлежали не ему. Он их проиграл ещё в начале лета в «двадцать одно» и теперь, закрывая на ночь своё заведение, снимал их и шёл домой босиком, держа под мышкой ящик с ружьями и пистолетами, которые — из страха проиграть их — сдавал до утра на хранение одному знакомому дворнику с Малой Арнаутской улицы.
Однажды на глазах у Гаврика он поспорил на полтинник с каким-то гулявшим по берегу барином, что попадёт из монтекристо в воробья на лету. Разумеется, он промазал.
Гаврику до слёз жалко было смотреть, как он долго с искусственным постыдным удивлением рассматривал ружьё, пожимал плечами и наконец полез куда-то в подкладку своего латаного пиджачка. Он извлёк оттуда полтинник и, бледный, подал барину. Барин стал было со смехом отказываться, говоря, что это было в шутку. Но хозяин тира посмотрел вдруг на него такими сумасшедшими, жалкими и вместе с тем грозно налившимися кровью глазами, что тот поспешил взять полтинник и смущённо спрятал его в карман чесучового пиджака.
В этот день хозяин тира не закрывал своего заведения на обед.
— ... Я вам советую, господин, выстрелить в балерину. Увидите, как она пикантно сделает ножками, — с польским акцентом сказал хозяин, чтобы прекратить надоевший разговор и вернуть посетителя к стрельбе.
— Однако же странно, что никто ничего не знает, — сказал посетитель и вдруг заметил Гаврика.
Он осмотрел его бегло с ног до головы:
— Мальчик, ты тутошний?
— Тутошний, — неожиданно тонким голоском сказал мальчик.
— Рыбацкий?
— Рыбацкий.
— Чего ж ты стесняешься? Подойди, не бойся.
Гаврик смотрел на жёсткие, крепко закрученные чёрные, как вакса, усы, на длинную полоску пластыря поперёк щеки и, машинально переступая ногами, с ужасом приближался к господину.
18. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
— У тебя есть батько и матка?
— Ни.
— С кем же ты живёшь?
— С дедом.
— А дед кто?
— Старик.
— Понятно, что старик, а не молодой. А что он делает?
— Рыбу ловит.
— Значит, рыбак?
— Ну, рыбак. Рыбалка.
— А ты что?
— Хлопец.
— Это ясно, что хлопец, а не девочка. Я тебя спрашиваю: что ты делаешь?
— А ничего. Дедушке помогаю.
— Стало быть, вместе рыбачите?
— Эге.
— Так-с. Понятно. Как же это вы так рыбачите?
— А просто. Ставим на ночь перемёт, а потом утром вытягиваем бычков.
— Стало быть, выходите в море на шаланде?
— Эге.
— Каждый день?
— Как это? Что вы спрашиваете, дядя? Я не понимаю.
— Экий ты дурень! Я тебя спрашиваю: каждый ли вы день выходите в море на шаланде?
— А то как же!
— Утром и вечером?
— Ни.
— Что ни?
— Только утром.
— А вечером?
— И вечером тоже.
— Так как же ты говоришь, что только утром, когда и вечером тоже?
— Ни. Мы вечером только ставим перемёт. А бычков — тех вытягиваем утречком.
— Понимаю. Стало быть, вечером тоже выходите?
— Ни. Вечером только ставим.
— Ой, господи боже! Но для того, чтобы поставить, ведь надо вам прежде выйти в море?
— А как же!
— Значит, вечером тоже выходите?
— Ни. Вечером не вытягиваем. Вытягиваем только утречком.
— А вечером выходите ставить?
— А как же!
— Стало быть, вечером тоже выходите?
— Эге.
— Ну, вот видишь, какой ты дурень! С тобой надо разговаривать, хорошенько накушавшись гороха. Ты зачем такой дурень?
— Я маленький.
Усатый господин посмотрел на Гаврика сверху вниз с нескрываемой насмешкой и слегка, но, впрочем, довольно-таки основательно щёлкнул его по голове.
— Эх ты, рыбалка!
Но мальчик вовсе не был таким дурнем. Он сразу почувствовал в усатом хитрого и опасного врага. Ходит по берегу, выспрашивает про матроса. Только делает вид, что пришёл пострелять. А на самом деле, кто его знает, что у него на уме. Наверное, какой-нибудь из сыскного. Ещё, чего доброго, пронюхает как-нибудь, что именно у них в хибарке и скрывается беглец. Может, уже и проследил, не дай бог!
Гаврик тотчас решил прикинуться совсем маленьким дурачком. От дурачка не много узнаешь.
Мальчик тут же скроил глупую рожу, какая, по его мнению, должна быть у маленького дурня, выпучил бессмысленно глаза и стал преувеличенно застенчиво переминаться с ноги на ногу, ковыряя на губе заеду.
Усатый, видя, что имеет дело с полным несмышлёнышем, решил сначала войти с ним в дружбу, а уж потом обо всём выспросить. Он не без основания полагал, что дети — народ любопытный и наблюдательный и знают лучше взрослых, что делается вокруг.
— А как тебя звать, мальчик?
— Гаврик.
— Так-с. Стало быть, Гаврюха?
— Эге. Гаврюха.
— Ну, вот что, Гаврюха: хочешь выстрелить?
Даже уши у мальчика и те покрылись горячей краской. Однако он тут же овладел собой и, продолжая изображать дурачка, пропищал совсем тоненьким голоском:
— А у меня, дяденька, нету пятачка.
— Это я понимаю, что у тебя нету капиталов. Ничего. Один раз можешь выстрелить, я заплачу.
— Дяденька, а вы с меня не смеётесь?
— Не доверяешь? Ну хорошо... Вот!
С этими словами усатый выложил на прилавок большой, совершенно новый пятак.
— Пали!
Гаврик, задохнувшийся от счастья, нерешительно посмотрел на хозяина тира. Но у того на лице появилось уже строго официальное выражение, исключавшее даже самую возможность дружеских перемигиваний.
Он посмотрел на мальчика, как на незнакомого, и, учтиво, склонившись над прилавком, спросил:
— Из чего вы предпочитаете стрелять, молодой человек: из пистолета или же из ружья-с?
Тут Гаврик и взаправду почувствовал себя дурачком — до того растерялся от так неожиданно подвалившего ему счастья.
Он обалдело улыбнулся и, почти заикаясь, пролепетал:
— Из монтекристо.
Хозяин элегантно зарядил ружьё и подал его мальчику. Гаврик, сопя, припал к прилавку и стал целиться в бутылку. Конечно, ему больше хотелось бы выстрелить в японский броненосец. Но он боялся промахнуться, а бутылка была большая.
Мальчик старался как можно дольше растянуть наслаждение прицеливания. Поцелившись немножко в бутылку, он стал целить в зайца, потом в броненосец, потом опять в бутылку. Он переводил мушку с кружка на кружок, глотая слюну и с ужасом думая, что вот он сейчас выпалит — и всё это блаженство кончится.
Гаврик глубоко вздохнул, положил ружьё и, виновато взглянув на хозяина, сказал усатому:
— Знаете что, дядя: я лучше не буду стрелять, я уже всё равно поцелился, а вы меня лучше угостите в будке зельтерской с сюрпризом. Вам же дешевле обойдётся.
Усатый ничего не имел против, и они, стараясь не глядеть на хозяина, на его презрительную и вместе с тем насмешливо-равнодушную физиономию, отправились к будке.
Здесь усатый сразу проявил такую щедрость, что Гаврик ахнул. Вместо воды с сиропом, стоившей две копейки, господин потребовал ни больше ни меньше, как целую большую бутылку воды «Фиалка» за восемь копеек.
Мальчик даже не поверил своим глазам, когда будочник достал белую бутылку с фиолетовой наклейкой и раскупорил тоненькую проволоку, которой была прикручена пробочка.
Бутылка выстрелила, но не грубо, как стрелял квас, а тоненько, упруго, деликатно. И тотчас прозрачная вода закипела, а из горлышка пошёл лёгкий дымок, действительно распространивший нежнейший аромат самой настоящей фиалки.
Гаврик осторожно взял обеими руками, как драгоценность, холодный кипучий стакан и, зажмурившись против солнца, стал пить, чувствуя, как пахучий газ бьёт через горло в нос.
Мальчик глотал этот волшебный напиток богачей, и ему казалось, что на его триумф смотрит весь мир: солнце, облака, море, люди, собаки, велосипедисты, деревянные лошадки карусели, кассирша городской купальни... И все они говорят: «Смотрите, смотрите, этот мальчик пьёт воду «Фиалка»!»
Даже маленькая бирюзовая ящеричка, выскочившая из бурьяна погреть на солнце бисерную спину, висела, схватившись лапкой за камень, и смотрела на мальчика прищуренными глазами, как бы говоря тоже: «Смотрите на этого счастливого мальчика: он пьёт воду «Фиалка»!»
Гаврик пил и вместе с тем обдумывал, как он будет выбираться, если усатый снова начнёт приставать с вопросами. У мальчика на этот счёт даже созрел целый план.
— Ну что, Гаврюха, понравилась тебе вода «Фиалка»?
— Спасибо, дядечка, сроду такой вкусной не пил.
— Я думаю. А скажи мне теперь: выходили вы вчера вечером в море?
— Выходили.
— Пароход «Тургенев» видели?
— А как же! Он нам чуть было весь перемёт колёсами не покалечил.
— Ас парохода никто не прыгал?
Усатый смотрел на мальчика в упор чёрными мохнатыми глазами. Гаврик с трудом ухмыльнулся и преувеличенно возбуждённо заговорил:
— А ей-богу, прыгал! Чтоб мне пропасть! Он ка-ак прыгнет, а брызги во все стороны ка-ак полетят! А он как поплывёт наразмашку!..
— Стоп! Да ты не брешешь? Куда ж он поплыл?
— Ей-богу, не брешу, святой истинный крест!
Тут Гаврик, хотя и знал, что это грех, быстро раза четыре подряд перекрестился.
— Как поплывёт, как поплывёт...
И мальчик стал, размахивая руками, показывать, как плыл матрос.
— Куда же?
— Туда! — Мальчик махнул рукой в море.
— А куда ж он потом делся?
— Потом его якась шаланда подобрала.
— Шаланда? Какая?
— Такая, знаете, большая — громадная очаковская шаланда под парусом.
— Здешняя?
— Не.
— А какая?
— С Большого Фонтана... А то, может, из Люстдорфа. Такая вся синяя-синяя и наполовину красная, громадная. Она его как подобрала, так сразу тем же ходом и пошла и пошла прямо на Люстдорф. Святой истинный крест...
— Название лодки не заметил?
— Как же, заметил: «Соня».
— «Соня»? Прекрасно. Да ты не врёшь?
— Святой истинный крест, чтоб мне в жизни счастья не видеть, или «Соня», или «Вера».
— «Соня» или «Вера»?
— Или «Соня», или «Вера»... или «Надя».
— А то смотри...
Тут, вместо того чтобы расплатиться, усатый шепнул будочнику на ухо что-то такое, от чего лицо будочника сразу стало кислое. Затем он кивнул мальчику и торопливо побежал к подъёму в город, как понял мальчик — на дачный поезд...
Гаврик только того и дожидался.
19. ПОЛТОРА ФУНТА ЖИТНОГО
Надо поскорее предупредить матроса. Но Гаврик был мальчик смышлёный и осторожный. Прежде чем вернуться домой, он отправился за усатым, издали наблюдая за ним до тех пор, пока собственными глазами не убедился, что тот действительно поднялся наверх и скрылся в переулке.
Только тогда мальчик побежал в хибарку. Матрос спал. Но едва щёлкнул замок, как вскочил и сел на койке, повернув к двери лицо с блестящими, испуганными глазами.
— Не бойтесь, дядя, это я. Ложитесь.
Больной лёг.
Мальчик долго возился в углу, делая вид, что пересматривает крючки перемёта, уложенного «бухтой» в круглую ивовую корзинку. Он не знал, как приступить к делу, чтобы не слишком встревожить больного.
Наконец подошёл к койке и некоторое время мялся, почёсывая одну ногу о другую.
— Легче вам, дядя?
— Легче.
— Соображаете что-нибудь?
— Соображаю.
— Дать вам кушать?
Больной, обессиленный даже таким коротким разговором, замотал головой и прикрыл глаза.
Мальчик дал ему отдохнуть.
— Дядя, — сказал он через некоторое время тихо, с настойчивой лаской, — это вы вчерась прыгали с парохода «Тургенев»?
Больной открыл глаза и посмотрел на мальчика снизу вверх, внимательно и очень напряжённо, но ничего не ответил.
— Дядя, слухайте, что я вам скажу, — зашептал Гаврик, подсаживаясь к нему на койку. — Только вы не дёргайтесь, а лежите тихо...
И мальчик как можно осторожней рассказал ему о своём знакомстве с усатым.
Больной снова вскочил и сел на койке, крепко держась руками за её доску. Он не спускал с мальчика неподвижно расширенных глаз. Его лоб стал сырой. Однако он всё время молчал. Только один раз нарушил молчание, именно тогда, когда Гаврик сказал, что у усатого на щеке был пластырь. В этом месте рассказа в глазах у больного мелькнуло какое-то дикое и весёлое украинское лукавство, и он проговорил сипло, сквозь зубы:
— Это его, наверно, кошка поцарапала.
Потом он вдруг засуетился и, держась за стенку, встал на дрожащие ноги.
— Давай, — бормотал он, бестолково тычась во все стороны, — давай куда-нибудь... За-ради Христа...
— Дядя, ложитесь. Вы ж больной.
— Давай... давай... Давай мою робу... Где вещи?
Он, вероятно, забыл, что скинул верхнюю одежду в море, и теперь беспомощно шарил похудевшей рукой по койке, небритый, страшный, похожий в белой рубахе, и подштанниках на сумасшедшего.
Его вид был так жалок и вместе с тем так грозен, что Гаврик готов был бежать от страха куда глаза глядят.
Но всё же, пересиливая страх, он с силой обхватил больного руками за туловище и пробовал уложить обратно на койку. Мальчик чуть не плакал:
— Дядя, пожалейте себя, ляжьте!
— Пусти. Я сейчас пойду.
— Куда ж вы пойдёте в подштанниках?
— Дай вещи...
— Что вы говорите, дядя? Какие вещи? Ложитесь обратно. На вас ничего не было.
— Пусти. Пойду...
— Вот мне с вами наказанье, если бы вы только знали, дядя! Всё равно как маленький! Ложитесь, я вам говорю! — вдруг сердито крикнул мальчик, потеряв терпенье. — Что я тут буду с вами цацкаться, как с дитём!
Больной покорно лёг, и Гаврик увидел, что его глаза снова подёрнулись горячечной поволокой.
Матрос тихонько замычал, морщась и потягиваясь:
— За-ради Христа... Пускай меня кто-нибудь сховает... Пустите меня в комитет... Вы не знаете, где тут одесский комитет?.. Не стреляйте, ну вас к чёрту, а то весь виноград перестреляете...
И он понёс чепуху. «Дело плохо», — подумал Гаврик. В это время снаружи послышались шаги. Кто-то шёл прямо к хибарке через бурьян, с шумом ломая кусты.
Мальчик весь так и сжался, не смея дохнуть. Множество самых ужасных мыслей пронеслось у него в голове. Но вдруг он услышал знакомый кашель. В хибарку вошёл дедушка. И по тому, как старик сбросил у порога пустой садок, как высморкался и как долго и ядовито крестился на чудотворца, Гаврик безошибочно понял, что дедушка выпил.
Это случалось со стариком чрезвычайно редко и обязательно после какого-нибудь из ряда вон выходящего события, всё равно — радостного или печального. На этот раз, судя по обращению к Николаю-угоднику, случай был, скорее всего, печальный.
— Ну что, дедушка, купили мясо для наживы?
— Мясо для наживы?
Старик прозрачно посмотрел на Гаврика и сунул ему под самый нос дулю.
— На мясо! Наживляй! И скажи спасибо нашему хрену-чудотворцу. Помолись ему, старому дурню, чтоб он лопнул! Наловить крупных бычков — это он может, а цены подходящие сделать на привозе — так это маком! Что вы скажете, господа! За такого бычка — тридцать копеек сотня! Где-нибудь это видано?
— По тридцать копеек! — ахнул мальчик.
— По тридцать, чтоб мне не сойти с этого места! Я ей: «За такой товар по тридцать копеек? Побойтесь бога, мадам Стороженко!» А она мне: «У нас бог до привозных цен не касается. У нас свои цены, а у бога свои. А если вы несогласные, то идите к жидам, может, они вам на какую-нибудь копейку больше дадут, только сначала верните мне восемьдесят копеек вашего долга!» Видели вы такое? Ну, не плюнуть за это в самые её поганые очи? Так представьте ж себе, господа, что я таки и плюнул. Перед всем привозом не посмотрел и нахаркал! Истинный крест! Наплевал ей полные очи!
Дедушка при этом стал поспешно креститься. Но он привирал. Никому он в очи, конечно, не плевал. Он только весь затрясся, побледнел, засуетился и стал швырять рыбу из садка в корзину мадам Стороженко, бормоча: «Забирайте и подавитесь. Чтоб вам от этих бычков повылазило!»
Мадам же Стороженко невозмутимо пересчитала рыбу и протянула дедушке двенадцать копеек липкими медяками, коротко заметив: «В расчёте».
Дедушка взял деньги и тут же, весь клокоча от бессильного гнева, пошёл в монопольку и купил за шесть копеек голубой шкалик с красной головкой. Он ободрал сургуч о специальную тёрку, прибитую на акации возле питейного заведения, и трясущейся рукой выбил пробочку, завёрнутую в тонкую бумажку.
Он одним духом вылил в горло водку и «вместо закуски» вдребезги трахнул о мостовую тонкую посуду, хотя мог бы получить за неё копейку залога.
Затем отправился домой, купив по дороге для внучка за копейку красного леденечного петуха на сосновой щепочке — ему всё ещё казалось, что Гаврик совсем маленький мальчик, — а также два монастырских, очень белых и очень кислых бублика для больного матроса.
Остальные деньги он истратил на полтора фунта житного. По дороге его разбирала такая злоба, что он раз десять останавливался и плевал с яростью куда попало, будучи в полной уверенности, что плюёт в поганые очи мадам Стороженко.
— Святой истинный крест! — говорил он, дыша прямо в лицо Гаврику сладковатым запахом водки и суя ему в руку леденечного петуха. — Кого хочешь спроси на привозе — весь привоз видел, как я ей наплевал в поганые очи! А ты, деточка, скушай петушка, ничего. Он всё равно как пряник.
Тут старик вспомнил про больного и стал совать ему бублики.
— Не трожьте его, дедушка. Он только что заснул. Пускай отдыхает.
Дедушка осторожно положил бублики на подушку рядом с головой матроса и шёпотом сказал:
— Ссс! Ссс! Пускай теперь отдыхает. А потом, как проснётся, будет есть. Житный ему нельзя: у него теперь кишки сильно слабые, а бублички можно, ничего.
Полюбовавшись на бублики и на больного, старик покачал головой и заметил нежно:
— Спит и ничего не чует. Эх, матрос, матрос, неважное твоё дело!
Он постелил себе в углу пиджак и лёг отдыхать. Гаврик вышел из хибарки, огляделся по сторонам и плотно прикрыл за собой дверь. Он решил, не медля ни минуты, отправиться на Ближние Мельницы, к старшему брату Терентию. Это решение возникло в ту же минуту, когда мальчик услышал, как больной произнёс в бреду слово «комитет». Гаврик не знал в точности, что такое комитет. Но однажды он слышал, как это слово сказал Терентий.
20. УТРО
Петя проснулся и был поражён, увидев себя в городской комнате, среди забытой за лето мебели и обоев.
Сухой луч солнца, пробившийся в щель ставня, пересекал комнату. Пыльный воздух был как бы косо распилен сверху донизу. Ярко освещённые опилки воздуха — пылинки, ниточки, ворсинки, движущиеся и вместе с тем неподвижные, — образовали полупрозрачную стену.
Крупная осенняя муха, пролетая сквозь неё, вдруг вспыхнула и тотчас погасла.
Не слышалось ни кряканья качек, ни истерического припадка курицы, снёсшей за домом яйцо, ни глупой болтовни индюков, ни свежего чириканья воробья, качающегося чуть ли не в самом окне на тоненькой веточке шелковицы, согнутой под ним в дугу.
Совсем другие, городские звуки слышались снаружи и внутри квартиры. В столовой легко гремели венские стулья. Музыкально звучала полоскательница, в которой мыли поющий стакан. Раздавался «бородатый» — в представлении мальчика — голос отца, мужественный и по-городскому чужой. Электрический звонок наполнял коридор. Хлопали двери, то парадная, то кухонная, и Петя вдруг узнавал по звуку, которая из них хлопнула.
А между тем снаружи, из какой-то комнаты с окном, открытым во двор — ах, да! из тётиной, — не прекращаясь ни на минуту, слышалось пение разносчиков. Они появлялись один за другим, эти дворовые гастролёры, и каждый исполнял свою короткую арию.
— Угле-ей! Угле-е-ей! — откуда-то издалека пел русский тенор, как бы оплакивая свою былую удаль, своё улетевшее счастье. — Угле-е-ей!
Его место занимал низкий комический басок точильщика:
— Точить ножи-ножницы, бритвы!.. Чшшить ножи-ножжж, бритввв!.. Ножиножжж... Бррр-иттт...
Паяльщик появлялся вслед за точильщиком, наполняя двор мужественными руладами бархатного баритона:
— Па-аять, починять вёдра, каструли! Па-ять, починять вёдра, каструлии!
Вбегала безголосая торговка, оглашая знойный воздух городского утра картавым речитативом:
— Груш, яблук, помадоррр! Груш, яблук, помадоррр!
Печальный старьёвщик исполнял еврейские куплеты:
— Старые вещи, старые вещи! Старивэшшш... Старивэшшш...
Наконец, венчая весь этот концерт прелестной неаполитанской канцонеттой, вступала новенькая шарманка фирмы «Нечада», и раздавался крикливый голос уличной певицы:
Ветерок чуть колышет листочки,
Где-то слышится трель со-ло-вья.
Ты вчера лишь гуляла в плато-чке,
А сс-го-днл гу-ляешь в ше-лках.
Пой, ласточка, пой.
Сэр-це ус-па-кой...
— Углей, угле-е-ей! — запел русский тенор сейчас же после того, как шарманка ушла.
И концерт начался снова. В то же время с улицы слышался стук дрожек, шум дачного поезда, военная музыка.
И вдруг среди всего этого гомона раздалось какое-то ужасно знакомое шипенье, что-то щёлкнуло, завелось, и один за другим чётко забили, как бы что-то отсчитывая, прозрачные пружинные звуки. Что это? Позвольте, но ведь это же часы! Те самые знаменитые столовые часы, которые, как гласила семейная легенда, папа выиграл на лотерее-аллегри, будучи ещё женихом мамы.
Как Петя мог о них забыть! Ну да, конечно, это они! Они отсчитывали время. Они «били»! Но мальчик не успел сосчитать сколько. Во всяком случае, что-то много: не то десять, не то одиннадцать. Боже мой! На даче Петя вставал в семь...
Он вскочил, поскорее оделся, умылся — в ванной! — и вышел в столовую, жмурясь от солнца, лежавшего на паркете горячими косяками.
— А, как не стыдно! — воскликнула тётя, качая головой и вместе с тем радостно улыбаясь так выросшему и так загоревшему племяннику. — Одиннадцать часов. Мы тебя нарочно не будили. Хотели посмотреть, до каких пор ты будешь валяться, деревенский лентюга. Ну, да ничего! С дороги можно. Скорей садись. Тебе с молоком или без? В стакан или в твою чашку?
Ах, совершенно верно! Как это он забыл? «Своя чашка»! Ну да, ведь у него была «своя чашка», фарфоровая, с незабудками и золотой надписью: «С днём ангела», прошлогодний подарок Дуни.
Позвольте, батюшки, наш самовар! Оказывается, он о нём тоже забыл. И бублики греются, повешенные на его ручки! И сахарница белого металла в форме груши, и щипчики в виде цапли!
Позвольте, а жёлудь звонка на шнурке под висячей лампой... Да и сама лампа: шар с дробью над белым колпаком!
Позвольте, а что это в руках у отца? Ба, газета! Вот уж, правду сказать, совсем забыл, что в природе существуют газеты! «Одесский листок» с дымящим паровозиком над расписанием поездов и дымящим пароходиком над расписанием пароходов. (И дама в корсете среди объявлений!) Э, э!.. «Нива»! «Задушевное слово»! Ого, сколько бандеролей накопилось за лето!
Одним словом, вокруг Пети оказалось такое множество старых-престарых новостей, что у него разбежались глаза.
Павлик же вскочил чуть свет и уже вполне освоился с новой старой обстановкой. Он уже давно напился молока и теперь запрягал Кудлатку в дилижанс, составленный из стульев.
Иногда он озабоченно пробегал по комнатам, трубя в трубу и сзывая воображаемых пассажиров.
Тут Петя вспомнил вчерашние события и даже вскочил из-за стола:
— Ой, тётечка! Я же вам вчера так и не успел рассказать! Ах, что только с нами было, вы себе не можете представить! Сейчас я вам расскажу, только ты, Павлик, пожалуйста, не перебивай...
— Да уж знаю, знаю.
Петя даже слегка побледнел:
— И про дилижанс знаете?
— Знаю, знаю.
— И про пароход?
— И про пароход.
— И как он прыгал прямо в море?
— Знаю всё.
— Кто ж вам рассказал?
— Василий Петрович.
— Ну, папа! — в отчаянии закричал Петя и даже топнул обеими ногами. — Ну, кто тебя просил рассказывать, когда я лучше умею рассказывать, чем ты! Вот видишь, ты теперь мне всё испортил!
Петя чуть не плакал. Он даже забыл, что он уже взрослый и завтра будет поступать в гимназию.
Стал хныкать:
— Тётечка, я вам лучше ещё раз расскажу, у меня будет гораздо интереснее.
Но у тёти вдруг покраснел нос, глаза наполнились слезами, и она, прижав пальцы к вискам, проговорила со страданием в голосе:
— Ради бога, ради бога, не надо! Ну, не могу я это ещё раз слушать равнодушно. Как только у людей, которые называют себя христианами, хватает совести так мучить друг друга!
Она отвернулась, вытирая нос маленьким платочком с кружевами.
Петя испуганно взглянул на отца. Отец смотрел очень серьёзно и очень неподвижно в окно. Мальчику показалось, что на его глазах тоже блестят слёзы.
Петя ничего не понял, кроме того, что рассказать здесь вчерашнюю историю вряд ли удастся. Он поскорее выпил чай и отправился во двор искать слушателей. Дворник выслушал рассказ весьма равнодушно и заметил:
— Ну что ж, очень просто. Бывает и не такое.
А больше рассказывать было положительно некому. Нюся Коган, сын лавочника из этого же дома, как назло, поехал гостить к дяде на Куяльницкий лиман. Володька Дыбский куда-то перебрался. Прочие ещё не возвращались с дач.
Гаврик передал через Дуню, что сегодня зайдёт, но его всё не было. Вот ему бы рассказать! Не пойти ли к Гаврику на берег?
Пете не разрешалось ходить одному на берег, но искушение было слишком велико.
Петя засунул руки в карманы, покрутился равнодушно под окнами, затем так же равнодушно, чтобы не возбуждать подозрений, вышел на улицу, погулял для виду возле дома, завернул за угол и бросился рысью к морю.
Но на середине переулка с тёплыми морскими ваннами наткнулся на босого мальчика. Что-то знакомое... Кто это?
Позвольте, да ведь это же Гаврик!
21. ЧЕСТНОЕ БЛАГОРОДНОЕ СЛОВО
— О Гаврик!
— О Петька!
Этими двумя возгласами изумления и радости, собственно, и закончился первый момент встречи закадычных друзей.
Мальчики не обнимались, не тискали друг другу рук, не заглядывали в глаза, как, несомненно, на их месте поступили бы девчонки.
Они не расспрашивали друг друга о здоровье, не выражали громко восторга, не суетились.
Они поступили, как подобало мужчинам, черноморцам: выразили свои чувства короткими, сдержанными восклицаниями и тотчас перешли к делу, как будто бы расстались только вчера.
— Куда ты идёшь?
— На море.
— А ты?
— На Ближние Мельницы, к братану.
— Зачем?
— Надо. Пойдёшь?
— На Ближние Мельницы?
— А что же?
— Ближние Мельницы...
Петя никогда не бывал на Ближних Мельницах. Он только знал, что это ужасно далеко, «у чёрта на куличках».
Ближние Мельницы в его представлении были печальной страной вдов и сирот. Существование Ближних Мельниц всегда обнаруживалось вследствие какого-нибудь несчастья.
Чаще всего понятие «Ближние Мельницы» сопутствовало чьей-нибудь скоропостижной смерти. Говорили: «Вы слышали, какое горе? У Анжелики Ивановны скоропостижно скончался муж и оставил её без всяких средств. Она с Маразлиевской перебралась на Ближние Мельницы».
Оттуда не было возврата. Оттуда человек если и возвращался, то в виде тени, да и то ненадолго — на час, не больше.
Говорили: «Вчера к нам с Ближних Мельниц приходила Анжелика Ивановна, у которой скоропостижно скончался муж, и просидела час — не больше. Её трудно узнать. Тень... «
Однажды Петя был с отцом на похоронах одного скоропостижно скончавшегося преподавателя и слышал дивные, пугающие слова, возглашённые священником перед гробом, — о каких-то «селениях праведных, идеже упокояются», или что-то вроде этого.
Не было ни малейшего сомнения, что «селения праведных» суть не что иное, как именно Ближние Мельницы, где как-то потом «упокояются» родственники усопшего.
Петя живо представлял себе эти печальные селения со множеством ветряных мельниц, среди которых «упокояются» тени вдов в чёрных платках и сирот в заплатанных платьицах.
Разумеется, пойти без спросу на Ближние Мельницы являлось поступком ужасным. Это было, конечно, гораздо хуже, чем полезть в буфет за вареньем или даже принести домой за пазухой дохлую крысу. Это было настоящим преступлением. И хотя Пете ужасно хотелось отправиться с Гавриком в волшебную страну скорбных мельниц и собственными глазами увидеть тени вдов, всё же он решился не сразу.
Минут десять его мучила совесть. Он колебался. Впрочем, это не мешало ему уже давно шагать рядом с Гавриком по городу и, захлёбываясь, рассказывать о своих дорожных приключениях.
Так что, когда в страшной борьбе с совестью победа осталась всё-таки на стороне Пети, а совесть была окончательно раздавлена, оказалось, что мальчики зашли уже довольно далеко.
Правила хорошего тона предписывали черноморским мальчикам относиться ко всему на свете как можно равнодушнее.
Однако Петин рассказ, против всяких ожиданий, произвёл на Гаврика громадное впечатление. Гаврик ни разу не сплюнул презрительно через плечо и ни разу не сказал: «брешешь». Пете показалось даже, что Гаврик испугался. Но Петя тотчас приписал это своему таланту рассказчика.
Он раскраснелся и кричал на всю улицу, изображая страшную сцену в лицах:
— Тогда этот ка-ак вдарит его по морде щепкой с гвоздём! Честное благородное слово! А тогда тот ка-ак закричит на весь «Тургенев»: «Сто-ой, сто-о-ой!» Можешь мне наплевать в глаза, если вру. А тогда этот ка-ак вскочит на перила да как соскочит в море — бабах! — аж только брызги полетели, высокие, до четвёртого этажа, чтоб я пропал, святой истинный крест!..
Петя так размахался руками и так распрыгался, что опрокинул у какой-то лавочки корзину с рожками, и мальчикам пришлось, высунув языки, два квартала бежать от хозяина.
— А этот был какой? — спросил Гаврик. — С якорем на руке, что ли?
— Ну да! Ясно! — возбуждённо орал Петя, тяжело переводя дух.
— Вот тут якорь?
— Ясно. А ты откуда знаешь?
— Не видал я матросов! — буркнул Гаврик и сплюнул, совершенно как взрослый.
Петя с завистью посмотрел на своего приятеля и тоже плюнул. Но плевок вышел не такой отрывистый и шикарный. Вместо того чтобы отлететь далеко, он вяло капнул на Петино колено, и пришлось вытирать рукавом.
Тогда Петя взял себе на заметку, что необходимо малость подучиться плевать, и всю дорогу практиковался в плевании так усердно, что на другой день у него потрескались губы и больно было есть дыню...
— А тот, — сказал Гаврик, — был в «скороходах» и в очках?
— В пенсне.
— Нехай будет так.
— А ты откуда знаешь?
— Не видал я агентов из сыскного!
Окончив свою историю, Петя поспешно облизал губы и тотчас, без передышки, стал рассказывать её опять с самого начала.
Трудно себе представить муки, которые при этом испытывал Гаврик. Перед тем, что знал он, Петины приключения не стоили выеденного яйца! Гаврику стоило только намекнуть, что этот самый таинственный матрос в данный момент находится у них в хибарке, как с Петьки тотчас соскочил бы всякий фасон.
Но приходилось молчать и слушать во второй раз Петину болтовню. И это было нестерпимо.
А может быть, всё-таки намекнуть? Так только, одно словечко. Нет, нет, ни за что! Петька обязательно разболтает. А если взять с него честное благородное слово? Нет, нет, всё равно разболтает. А если заставить перекреститься на церковь? Пожалуй, если заставить — на церковь, то не разболтает...
Словом, Гаврика терзали сомнения. Язык чесался до такой степени, что иногда мальчик, чтобы не начать болтать, с силой сжимал себе пальцами губы. Однако ничто не помогало. Открыть тайну хотелось всё сильней и сильней. А Петя между тем продолжал с жаром рассказывать, изображая, как ехал дилижанс, как из виноградника выскочил страшный матрос и напал на кучера, как Петя на него закричал и как тот спрятался под скамейку...
Это было уже слишком. Гаврик не выдержал:
— Дай честное благородное слово, что никому не скажешь!
— Честное благородное слово, — быстро, не моргнув глазом, сказал Петя.
— Побожись!
— Ей-богу, святой истинный крест! А что?
— Я тебе что-то скажу.
— Ну?
— Только ты никому не скажешь?
— Чтоб я не сошёл с этого места!
— Побожись счастьем!
— Чтоб мне не видать в жизни счастья! — с готовностью проговорил Петя, от любопытства крупно глотая слюни, и для большей верности быстро прибавил: — Пусть у меня лопнут глаза! Ну?
Гаврик некоторое время шёл молча, сопя и отплёвываясь. В нём всё ещё продолжалась борьба с искушением. Но искушение побеждало.
— Петька, — сказал Гаврик сипло, — перекрестись на церкву.
Петя, сгоравший от нетерпения поскорее услышать секрет, стал искать глазами церковь.
Как раз в это время мальчики проходили мимо Старого христианского кладбища. Над известняковой стеной, вдоль которой расположились продавцы венков и памятников, виднелись верхушки старых акаций и мраморные крылья скорбных ангелов. (Значит, и вправду Ближние Мельницы находились в тесном соседстве со смертью, если путь к ним лежал мимо кладбища!)
За акациями и ангелами в светло-сиреневом пыльном небе висел голубой купол кладбищенской церкви.
Петя истово помолился на золотой крест с цепями и проговорил с убеждением:
— Святой истинный крест, что не скажу! Ну?
— Слышь, Петька...
Гаврик кусал губы и грыз себе руку. У него в глазах стояли слёзы.
— Слышь, Петька... Ешь землю, что не скажешь!
Петя внимательно осмотрелся по сторонам и увидел под стеной подходящую, довольно чистую землю. Он выцарапал ногтями щепотку и, высунув язык, свежий и розовый, как чайная колбаса, положил на него землю. После этого он вопросительно повернул выпученные глаза к приятелю.
— Ешь! — мрачно сказал Гаврик.
Петя зажмурился и начал старательно жевать землю.
Но в этот миг на дороге послышался странный нежный звон. Два солдата конвойной команды, в чёрных погонах, с шашками наголо, вели арестанта в кандалах. Третий солдат, с револьвером и толстой разносной книгой в мраморном переплёте, шёл сзади. Арестант в ермолке солдатского сукна и в таком же халате, из-под которого высовывались серые подштанники, шёл, опустив голову.
Ножных кандалов не было видно — они глухо брякали в подштанниках, — но длинная цепочка ручных висела спереди и, нежно звеня, била по коленям.
То и дело арестант подбирал её жестом священника, переходящего через лужу.
Выбритый и серолицый, он походил чем-то на солдата или на матроса. Было заметно, что ему очень совестно идти среди бела дня по мостовой в таком виде. Он старался не смотреть по сторонам.
Солдатам, по-видимому, тоже было совестно, но они смотрели не вниз, а, наоборот, вверх, сердито, с таким расчётом, чтобы не встречаться глазами с прохожими.
Мальчики остановились и, открыв рты, разглядывали косо посаженные бескозырки солдат, синие револьверные шнуры и ярко-белые ножи качающихся вместе с руками шашек, на кончиках которых ослепительно вспыхивало солнце.
— Проходите, не останавливайтесь, — не глядя на мальчиков, сказал сердито солдат с книгой. — Не приказано смотреть.
Арестанта провели.
Петя вытер язык рукавом и сказал:
— Ну?
— Чего?
— Ну, теперь скажи.
Гаврик вдруг злобно посмотрел на приятеля, с ожесточением согнул руку и сунул заплатанный локоть Пете под самый нос:
— На! Пососи!
Петя глазам своим не поверил. Губы у него дрогнули.
— Я ж землю кушал! — проговорил он, чуть не плача. Глаза Гаврика блеснули диким лукавством, и он, присев на корточки, завертелся юлой, крича оскорбительным голосом:
— Обманули дурака на четыре кулака, на пятое стуло, чтоб тебя раздуло!
Петя понял, что попал впросак: никакой тайны у Гаврика, разумеется, не было, он только хотел над ним посмеяться — заставить есть землю! Это, конечно, обидно, но не слишком.
В другой раз он выкинет с Гавриком такую штуку, что тот не обрадуется.
Посмотрим!
— Ничего, сволочь, попомнишь! — с достоинством заметил Петя, и приятели продолжали путь как ни в чём не бывало.
Только иногда Гаврик вдруг ни с того ни с сего начинал дробно стучать босыми пятками и петь:
Обманули дурака
На четыре кулака,
На пятое стуло,
Чтоб тебя раздуло!
22. БЛИЖНИЕ МЕЛЬНИЦЫ
Идти было весело и очень интересно.
Петя никогда не предполагал, что город такой большой. Незнакомые улицы становились всё беднее и беднее. Иногда попадались магазины с товаром, выставленным прямо на тротуар.
Под акациями стояли дешёвые железные кровати, полосатые матрацы, кухонные табуреты. Были навалены большие красные подушки, просяные веники, швабры, мебельные пружины. Всего много, и всё крупное, новое, по-видимому, дешёвое.
За кладбищем потянулись дровяные склады, от которых исходил удивительно приятный горячий, но несколько кисловатый запах дуба.
Потом начались лабазы — овёс, сено, отруби — с несуразно большими весами на железных цепях. Там стояли гири, громадные, как в цирке.
Затем — лесные склады с сохнущим тёсом. Здесь тоже преобладал горячий запах пилёного дерева. Но так как это была сосна, то запах казался не кислым, а, наоборот, сухим, ароматным, скипидарным.
Сразу бросалось в глаза, что по мере приближения к Ближним Мельницам мир становился грубее, некрасивее.
Куда девались нарядные «буфеты искусственных минеральных вод», сверкающие никелированными вертушками с множеством разноцветных сиропов? Их заменили теперь съестные лавки с синими вывесками — селёдка на вилке — и трактиры, в открытых дверях которых виднелись полки с белыми яйцевидными чайниками, расписанными грубыми цветами, более похожими на овощи, чем на цветы.
Вместо щеголеватых извозчиков по плохой мостовой, усыпанной сеном и отрубями, грохотали ломовики.
Что же касается находок, то в этой части города их оказалось гораздо больше, чем в знакомых местах. То и дело в пыли мелькнёт подкова, или гайка, или папиросная коробка.
Увидя находку, мальчики бросались к ней наперегонки, толкая друг друга и крича не своим голосом:
— Чур, без доли!
Или:
— Чур, на долю!
И в зависимости от того, кто прежде крикнул, находка свято, нерушимо считалась личной или же общей.
Находок было так много, что мальчики в конце концов перестали их подбирать, делая исключение лишь для папиросных коробок.
Коробки были необходимы для игры в «картонки». Каждая имела свою ценность в зависимости от картинки. Человеческая фигура считалась за пятёрку, животное — за один, дом — за пятьдесят.
У каждого одесского мальчика в кармане обязательно находилась колода таких папиросных крышечек.
Играли также и в конфетные бумажки, но по преимуществу девочки и совсем маленькие мальчики, не свыше пяти лет.
Что касается Гаврика и Пети, то они, разумеется, давно уже относились к бумажкам с глубочайшим презрением и играли только в картонки.
В приморских районах почему-то курили исключительно «Цыганку» и «Ласточку».
Что привлекательного находили приморские курильщики в этих папиросах, было неразрешимой загадкой. Отвратительнейшие папиросы!
На одних — яркий лаковый портрет черноокой цыганочки: дымящаяся папироска в коралловом ротике и роза в синих волосах. «Цыганка» считалась всего-навсего пятёркой, да и то с большой натяжкой, так как фигура цыганки была только по пояс.
На других — три жалкие ласточки. Они стоили и того меньше: всего-навсего тройку.
Некоторые чудаки курили даже «Зефир», где вообще не было никакой картинки, одна только надпись, так что картонка и вовсе в игру не принималась. А именно эти-то папиросы, как ни странно, были самые дорогие в лавочке.
Надо быть круглым дураком, чтобы покупать такую дрянь. Мальчики даже плевались, когда им попадалась коробочка «Зефир». Петя и Гаврик горели нетерпением поскорее вырасти и сделаться курильщиками. Уж они-то не сваляют дурака и будут покупать исключительно «Керчь» — превосходные папиросы, где на крышечке целая картина: приморский город и гавань со множеством пароходов.
Самые лучшие специалисты по картонкам и те не знали в точности, за сколько надо считать «Керчь», так как расходились в оценке пароходов. На всякий случай, для ровного счёта, «Керчь» на уличной бирже шла за пятьсот.
Мальчикам обыкновенно везло.
Можно было подумать, что все кладбищенские курильщики задались специальной целью обогатить Петю и Гаврика: они курили исключительно «Керчь».
Мальчики не успевали поднимать драгоценные коробочки. Сначала они не верили своим глазам. Это было совершенно как во сне, когда идёшь по дороге и через каждые три шага находишь три рубля.
Вскоре их карманы оказались набитыми доверху. Богатство было так велико, что перестало радовать. Наступило пресыщение.
Под высокой и узкой стеной какой-то фабрики, где по черноватому от копоти кирпичу были намалёваны такие громадные печатные буквы, что их невозможно было вблизи прочитать, мальчики сыграли несколько партий, подбрасывая картонки и следя, какой стороной они упадут. Однако игра шла без всякого азарта. Слишком много у каждого было картонок. Не жаль проигрывать. А без этого какое же удовольствие?
А город всё тянулся и тянулся, с каждой минутой меняя свой вид и характер.
Сначала в нём преобладал оттенок кладбищенский, тюремный. Потом — какой-то «оптовый» и вместе с тем трактирный. Потом — фабричный.
Теперь пейзажем безраздельно завладела железная дорога. Пошли пакгаузы, блокпосты, семафоры... Наконец дорогу преградил опустившийся перед самым носом полосатый шлагбаум.
Из будочки вышел стрелочник с зелёным флажком. Раздался свисток. Из-за деревьев вверх ударило облачко белоснежного пара, и мимо очарованных мальчиков задом пробежал настоящий большой локомотив, толкая перед собой тендер.
О, что за зрелище! Ради этого одного стоило уйти без спросу из дому.
Как суетливо и быстро стучали шатуны, как пели рельсы, с какой непреодолимой волшебной силой притягивали к себе головокружительно мелькающие литые колёса, окутанные плотным и вместе с тем почти прозрачным паром!
Очарованная душа охвачена сумасшедшим порывом и вовлечена в нечеловеческое, неотвратимое движение машины, в то время как тело изо всех сил противится искушению, упирается и каменеет от ужаса, на один миг покинутое бросившейся под колёса душой!
Мальчики стояли, стиснув кулачки и расставив ноги, бледные, маленькие, с блестящими глазами, чувствуя свои похолодевшие волосы.
У, как это было жутко и в то же время весело!
Гаврику, правда, это чувство было уже знакомо, но Петя испытывал его впервые. Сначала он даже не обратил внимания, что вместо машиниста из овального окошечка локомотива выглядывал солдат в бескозырке с красным околышем и на тендере стоял другой солдат, в подсумках, с винтовкой.
Едва локомотив скрылся за поворотом, как мальчики бросились на насыпь и прижались ушами к горячим, добела натёртым рельсам, гремящим, как оркестр.
Разве не стоило убежать без спросу из дому и перенести потом какое угодно наказание за счастье прижаться к рельсу, по которому — вот только что, сию минуту — прошёл настоящий локомотив?
— Почему на нём вместо машиниста солдат? — спросил Петя, когда они, вдоволь наслушавшись шума рельсов и набрав «кремушков» с балласта, отправились дальше.
— Видать, опять железнодорожники бастуют, — нехотя ответил Гаврик.
— Что это значит — бастуют?
— Бастуют — значит, бастуют, — ещё сумрачнее сказал Гаврик. — Не выходят на работу. Тогда, бывает, заместо их солдаты водят поезда.
— А солдаты не бастуют?
— Солдаты не бастуют. Не имеют права. Ихнего брата за это — ого! — в арестантские роты могут. Очень просто.
— А то бы бастовали?
— Спрашиваешь...
— А твой братан Теретий бастует?
— Когда как...
— Отчего же он бастует?
— Оттого, что потому. Не морочь голову. Смотри лучше — «Одесса-Товарная». А вон они самые, Ближние Мельницы.
Напрасно Петя вытягивал шею, всматриваясь вдаль. Решительно нигде не было никаких мельниц: ни ветряных, ни водяных.
Были: водокачка, жёлтый частокол станционного двора Одессы-Товарной, красные вагоны, санитарный поезд с флажком Красного Креста, штабеля грузов, покрытых брезентом, часовые...
— Где же мельницы? Где?
— Вот же они, прямо за вагонными мастерскими, чудило!
Петя смолчал, боясь как-нибудь снова не очутиться в дураках. Он так усердно вертел во все стороны головой, что даже натёр себе воротником шею, но мельниц нигде так и не заметил.
Странно!
Между тем Гаврик не обнаруживал ни малейшего удивления по поводу их отсутствия. Он бойко шагал по узенькой тропинке вдоль длинной закопчённой стены, мимо громадных клетчатых окон со множеством выбитых стёклышек.
Петя, порядком уже уставший, плёлся за ним, шаркая башмаками по траве, тёмной от пыли и копоти. Иногда под ногами хрустела железная стружка, очевидно выкинутая из окна.
Гаврик привстал на цыпочки и заглянул в окно.
— Смотри, Петька, вагонные мастерские. Тута Терентий работает. Никогда не видал? Иди сюда.
Петя стал рядом с приятелем на цыпочки и заглянул в выбитое стекло. Он увидел громадный сумрачный воздух и мутные крошечные квадратики противоположных окон. Висели широкие ремни, всюду стояли какие-то большие скучные железные вещи с колёсиками. Всё было усыпано металлической стружкой.
Солнечный свет, пройдя сквозь пыльные стёкла, лежал по всему непомерному полу бледными клетчатыми косяками.
И во всём этом громадном, странном пространстве не было заметно ни одной живой души.
Сверху донизу стояла такая немая, такая нечеловеческая тишина, что Пете стало страшно, и он прошептал чуть внятно:
— Никого нету...
И Гаврик, подчиняясь его шёпоту, сказал ещё тише, одними губами:
— Наверно, опять бастуют.
— А ну, не балуйся под окнами! — раздался вдруг над мальчиками грубый голос.
Они вздрогнули и обернулись. Рядом с ними стоял солдат в скатке через плечо, с винтовкой. Он стоял так близко, что Петя явственно услышал страшный запах солдатских щей и ваксы.
Светло-жёлтые кожаные подсумки — тяжёлые, скрипучие, наверное полные боевых патронов, — грозно и близко торчали перед мальчиками, а весь солдат в целом казался таким громадным, что два ряда медных пуговиц уходили снизу вверх на головокружительную высоту, в самое небо.
«Погиб!» — с ужасом подумал Петя и почувствовал: вот-вот с ним случится постыдная неприятность, та самая, что обычно случается с очень маленькими детьми от сильного испуга.
— Тикай! — закричал Гаврик тонким голосом и, шмыгнув мимо солдата, кинулся удирать.
Не слыша под собой ног, Петя рванулся за приятелем. Ему казалось, что позади топают солдатские сапоги. Он припустил ещё, насколько хватало сил. Сапоги не отставали. Глаза ничего не видели, кроме мелькающих впереди коричневых пяток Гаврика. Сердце колотилось громко и быстро. Солдат не отставал. Ветер шумел в ушах.
И, только пробежав, по крайней мере, версту, Петя наконец сообразил, что это не стук солдатских сапог, а колотится на спине сорвавшаяся соломенная шляпа.
Мальчики с трудом перевели дух. По вискам бежали ручьи горячего пота, на подбородке висели капли.
Но едва мальчики убедились, что солдата поблизости нет, как тотчас сделали совершенно равнодушные лица и, небрежно засунув руки в карманы, не торопясь зашагали дальше.
Они делали вид друг перед другом, будто бы решительно ничего не случилось, а если даже и случилось, то такие пустяки, о которых не стоит и разговаривать.
Теперь они уже давно шли по широкой немощёной улице. Хотя на калитках и на домиках висели городские фонари с номерами и вывески лавочек и мастерских, а на одном из углов находилась даже аптека с разноцветными графинами и золотым орлом, всё же улица эта скорее напоминала не городскую, а деревенскую.
— Ну, где же твои Ближние Мельницы? — сказал Петя кисло.
— А это тебе что? Скажешь, не Мельницы?
— Где?
— Что значит — где? Тут.
— Где же тут?
— Где мы идём.
— А самые мельницы?
— Чудак человек! — снисходительно сказал Гаврик. — А где ты видел на Фонтане фонтан? Всё равно как маленький! Спрашиваешь, а сам не знаешь что!
Петя ничего не ответил. Гаврик был совершенно прав. В самом деле, Малый Фонтан, Большой Фонтан, Средний Фонтан. А самих фонтанов там, оказывается, никаких нет. Просто «так называется».
Называется Мельницы, а мельниц-то никаких на самом деле и нет. Но мельницы — это, в сущности, пустяки. А вот где тени не похожих на себя вдов и маленькие бледные сиротки в заплатанных платьицах? Где серое, призрачное небо и плакучие ивы? Где сказочно-грустная страна, откуда нет возврата? Гаврика об этом нечего было и спрашивать!
К своему полному разочарованию, Петя не видел ни вдов, ни плакучих ив, ни серого неба. Наоборот. Небо было горячее, ветреное, яркое, как синька.
Во дворах блестели шелковицы и акации. На огородах светились запоздавшие цветы тыкв. По курчавой травке шли гуси, поворачивая глупые головы то направо, то налево, как солдаты на Куликовом поле.
В кузне звенели молотки и слышался ветер мехов. Конечно, всё это было по-своему тоже очень увлекательно. Но трудно было расстаться с представлением о призрачном мире, где как-то таинственно «упокояются» родственники скоропостижно скончавшихся мужчин.
И долго ещё в Петиной душе боролась призрачная картина воображаемых мельниц, где «упокояются», с живой, разноцветной картиной железнодорожной слободки Ближние Мельницы, где жил братан Гаврика Терентий.
23. ДЯДЯ ГАВРИК
— Тута!
Гаврик толкнул ногой калитку, и друзья пролезли в сухой палисадник, обсаженный лиловыми петушками. На мальчиков тотчас же бросилась большая собака с бежевыми бровями.
— Цыц, Рудько! — крикнул Гаврик. — Не узнала?
Собака понюхала, узнала и кисло улыбнулась. Зря побеспокоилась. Задрала лохматый хвост бубликом, повесила язык и, часто, сухо дыша, побежала в глубь двора, волоча за собой по высоко натянутой проволоке гремучую цепь.
Из деревянных сеней слободской мазанки выглянула испуганная женщина. Она увидела мальчиков и, вытирая ситцевым передником руки, сказала, обернувшись назад:
— Ничего. Это до тебя братик прийшов.
Из-за спины женщины выдвинулся большой мужчина в полосатом матросском тельнике с рукавами, отрезанными по самые плечи, толстые, как у борца.
Выражение его сконфуженного конопатого лица, покрытого мельчайшими капельками пота, совсем не соответствовало атлетической фигуре. Насколько фигура была сильной и даже как бы грозной, настолько лицо казалось добродушным, почти бабьим.
Подтянув ремешок штанов, мужчина подошёл к мальчикам.
— Это Петька с Канатной, угол Куликова поля, — сказал Гаврик, небрежно мотнув головой на приятеля. — Учителя мальчик. Ничего.
Терентий вскользь посмотрел на Петю и уставился на Гаврика небольшими глазами с весёлой искоркой.
— Ну, где ж те башмаки, которые я тебе справил на пасху? Что ты ходишь, всё равно как босяк с Дюковского сада?
Гаврик печально и длинно свистнул:
— Эге-э-э, где теи башмаки-и-и..
— Босявка ты, босявка!
Терентий сокрушённо покрутил головой и пошёл за дом, куда последовали и мальчики.
Тут, к неописуемому восхищению Пети, на старом кухонном столе, под шелковицей, была устроена целая слесарно-механическая мастерская. Даже шумела паяльная лампа. Из короткого дула, как из пушечки, вырывалось сильное обрубленное лазурное пламя.
Судя по детской цинковой ванночке, прислонённой вверх дном к дереву, и по паяльному молоточку в руке у Терентия, можно было заключить, что хозяин занят работой.
— Майстрачишь? — спросил Гаврик, сплёвывая совершенно как взрослый.
— Эге.
— А мастерские стоят?
Терентий, как бы не расслышав вопроса, сунул молоточек в пламя паяльника и стал внимательно следить, как он накаляется. При этом он бормотал:
— Ничего, за нас вы не беспокойтесь. Мы себе на кусок хлеба всегда намайстрачим...
Гаврик сел на табуретку и скрючил не достававшие до земли босые ноги. Он упёрся руками в колено и, неторопливо покачиваясь, повёл степенный хозяйский разговор со старшим братом.
Морща облупленный носик и сдвинув брови, совсем обесцвеченные солнцем и солью, Гаврик передал поклон от дедушки, сообщал цены на бычки, с негодованием обрушивался на мадам Стороженко, которая — «такая стерва — держит всё время за горло и не даёт людям дышать», и прочее в таком же роде.
Терентий поддакивал, осторожно проводя носиком накалённого молоточка по слитку олова, которое от его прикосновения таяло, как масло.
На первый взгляд не было ничего особенного, а тем более странного в том, что брат пришёл в гости к брату и разговаривает с ним о своих делах. Однако, если принять во внимание озабоченный вид Гаврика, а также расстояние, которое ему пришлось пройти специально для того, чтобы поговорить с братаном, нетрудно было догадаться, что у Гаврика было важное дело.
Несколько раз Терентий вопросительно поглядывал на брата, но Гаврик незаметно моргал на Петю и продолжал как ни в чём не бывало беседу.
Петя же забыл всё на свете, поглощённый волшебным зрелищем паяния. Он не отрываясь следил за движением громадных ножниц, режущих толстый цинк, как бумагу.
Одним из самых увлекательных занятий одесских мальчиков было стоять посреди двора вокруг паяльщика, наблюдая его волшебное искусство. Но там был незнакомый человек, гастролёр, фокусник на сцене: быстро и ловко сделал своё дело — запаял чайник, перекинул через плечо свёрнутые в трубку обрезки жести, подхватил жаровню и пошёл себе со двора, крича: «Па-ять, па-а-ачи-нять!.. «
А здесь был знакомый, брат приятеля, артист, показывающий своё искусство дома, для избранных. В любой момент можно было спросить у него: «Послушайте, что это у вас здесь в железной коробочке — кислота, что ли?!» — и не нарваться на грубый ответ: «Иди, мальчик, откуда пришёл. Не мешай человеку паять». Это совсем другое дело.
Петя даже высунул от восхищения язык, что совсем не подобало такому большому мальчику. Вероятно, он так бы никогда и не отошёл от стола, если бы вдруг не обратил внимания на девочку с ребёнком на руках, подошедшую к шелковице.
Девочка не без труда подняла толстого годовалого ребёнка с двумя ярко-белыми зубами в коралловом ротике и поднесла его к Гаврику:
— Посмотри, кто пришёл, агу! Гаврик пришёл, агу! Скажи дяде Гаврику: «Здравствуйте, дядя Гаврик!»
Гаврик с чрезвычайной серьёзностью полез за пазуху и, к безграничному удивлению Пети, извлёк оттуда красного леденечного петуха на палочке.
Три часа таскать с собой такое лакомство и не только не попробовать его, но даже не показать — это мог сделать только человек с неслыханной силой воли! Гаврик протянул петуха ребёнку:
— На!
— Возьми, Женечка, — засуетилась девочка, поднося ребёнка к самому петушку. — Возьми ручкой. Видишь, какого тебе гостинца принёс дядя Гаврик. Возьми петушка ручкой. Вот так, вот так. Скажи теперь дяде: «Спасибо, дядечка!» Ну, скажи: «Спасибо, дядечка».
Ребёнок крепко держал пухлой замурзанной ручкой лучину с ярким леденцом на конце и пускал крупные пузыри, уставясь на дядю бессмысленно голубыми глазками.
— Видите, это он говорит: «Спасибо, дядечка», — суетилась девочка, не спуская завистливых глаз с лакомства. — Куда же ты тянешь в рот. Подожди, поиграйся сначала. Сначала надо кашку покушать, а тогда уже можно петушка... — продолжала она с благонравной рассудительностью, то и дело бросая быстрые любопытные взгляды на незнакомого красивого мальчика в новых башмаках на пуговичках и в соломенной шляпе.
— Это Петя с Канатной, угол Куликова, — сказал Гаврик, — пойди с ним поиграй, Мотя.
Девочка от волнения даже побледнела. Прижимая к себе ребёнка, она попятилась, глядя исподлобья на Петю, и пятилась до тех пор, пока не прислонилась спиной к отцовской ноге. Терентий погладил дочку по плечику, поправил на её стриженной под нуль голове беленький чепчик с оборочкой и сказал:
— Пойди, Мотя, поиграй с мальчиком, покажи ему те свои русско-японские картины, что я тебе куплял, когда ты лежала больная. Пойди, деточка, а Женечку отдай маме.
Мотя потёрлась об отцовскую ногу и задрала вверх лицо, ставшее совершенно красным от конфуза. Её глаза были полны слёз, и в ушах дрожали крошечные бирюзовые серёжки.
Петя заметил, что такие серёжки чаще всего бывают у молочниц.
— Ничего, деточка, мальчик не будет драться, не бойся.
Мотя послушно отнесла ребёнка в дом и вернулась, прямая, как палка, со втянутыми щеками, страшно серьёзная.
Она остановилась шагах в четырёх от Пети и, глотнув как можно больше воздуха, сказала, запинаясь и скосив глаза, неестественно тонким голосом:
— Мальчик, хочете, я вам покажу русско-японские картины?
— Покажь, — сказал Петя тем сиплым, небрежным голосом, каким, по правилам хорошего тона, следовало разговаривать с девочками. При этом он старательно и довольно удачно плюнул через плечо.
— Пойдём, мальчик.
Девочка не без некоторого кокетства повернулась к Пете спиной и, чересчур часто двигая плечами, пошла, подскакивая, в глубь двора, за погреб, где у неё было устроено своё кукольное хозяйство.
Петя вразвалку следовал за ней. Глядя на её худую шею с ложбинкой и треугольным мысиком волос, мальчик чувствовал такое волнение, что у него подгибались ноги. Конечно, нельзя сказать, чтобы это была страстная любовь. Но в том, что дело кончится серьёзным романом, не могло быть никакого сомнения.
24. ЛЮБОВЬ
Сказать по правде, Петя уже любил на своём веку многих. Во-первых, он любил ту маленькую чёрненькую девочку — кажется, Верочку, — с которой познакомился в прошлом году на ёлке у одного папиного сослуживца. Он любил её весь вечер, сидел рядом с ней за столом, потом ползал впотьмах под затушенной ёлкой по полу, скользкому от нападавших иголок.
Он полюбил её с первого взгляда и был в полном отчаянии, когда в половине девятого её стали уводить домой. Он даже начал капризничать и хныкать, когда увидел, как все её косички и бантики скрываются под капором и шубкой.
Он тут же мысленно поклялся любить её до гроба и подарил ей на прощанье полученную с ёлки картонажную мандолину и четыре ореха: три золотых и один серебряный.
Однако прошло два дня, и от этой любви не осталось ничего, кроме горьких сожалений по поводу так безрассудно утраченной мандолины.
Затем, конечно, он любил на даче ту самую Зою в розовых чулках феи, с которой даже целовался возле кадки с водой под абрикосой. Но эта любовь оказалась ошибкой, так как на другой же день Зоя так нахально мошенничала в крокет, что пришлось ей дать хорошенько крокетным молотком по ногам, после чего, конечно, ни о каком романе не могло быть и речи.
Потом мимолётная страсть к той красивой девочке на пароходе, которая ехала в первом классе и всю дорогу препиралась со своим отцом, «лордом Гленарваном».
Но всё это, разумеется, не в счёт. Кто не испытывал таких безрассудных увлечений!
Что же касается Моти, то это совсем другое дело. Помимо того, что она была девочкой, помимо того, что у неё в ушах качались голубенькие серёжки, помимо того, что она так ужасно бледнела и краснела и так мило двигала худыми лопатками, — помимо всего этого, она была ещё и сестра товарища. Собственно, не сестра, а племянница. Но по возрасту Гаврика — совсем сестрёнка! Сестра товарища! Разве может быть в девочке что-нибудь более привлекательное и нежное, чем то, что она сестра товарища? Разве не заключено уже в одном этом зерно неизбежной любви?
Петя сразу почувствовал себя побеждённым. Пока они дошли до погреба, он влюбился окончательно.
Однако, чтобы Мотя как-нибудь об этом не догадалась, мальчик тут же напустил на себя невыносимое высокомерие и равнодушие.
Едва Мотя вежливо стала ему показывать своих кукол, аккуратно уложенных по кроваткам, и маленькую плиту с всамделишными, но только маленькими кастрюльками, сделанными отцом из обрезков цинка — что, если правду сказать, Пете ужасно понравилось, — как мальчик презрительно сплюнул сквозь зубы и, оскорбительно хихикая, спросил:
— Мотька, чего ты такая стриженая?
— У меня был тиф, — тоненьким от обиды голоском сказала Мотя и так глубоко вздохнула, что в горле у неё пискнуло, как у птички. — Хочете посмотреть картины?
Петя снисходительно согласился.
Они сели рядом на землю и стали рассматривать разноцветные лубочные литографии патриотического содержания, главным образом морские сражения.
Узкие лучи прожекторов пересекали по всем направлениям тёмно-синее липкое небо. Падали сломанные мачты с японскими флагами. Из острых волн вылетали белые фонтанчики взрывов. В воздухе звёздами лопались шимозы.
Задрав острый нос, тонул японский крейсер, весь охваченный жёлто-красным пламенем пожара. В кипящую воду сыпались маленькие желтолицые человечки.
— Япончики! — шептала восхищённая девочка, ползая на коленях возле картины.
— Не япончики, а япошки! — строго поправил Петя, знавший толк в политике.
На другой картине лихой казак, с красными лампасами, в чёрной папахе набекрень, только что отрубил нос высунувшемуся из-за сопки японцу.
Из японца била дугой толстая струя крови. А курносый оранжевый нос с двумя чёрными ноздрями валялся на сопке совершенно отдельно, вызывая в детях неудержимый смех.
— Не суйся, не суйся! — кричал Петя, хохоча, и хлопал ладонями по тёплой сухой земле, испятнанной известковыми звёздами домашней птицы.
— Не совайся! — суетливо повторяла Мотя, поглядывая через плечико на красивого мальчика, и морщила худой, остренький нос, пёстрый, как у Гаврика.
Третья картина изображала того же казака и ту же сопку. Теперь из-за неё виднелись гетры удирающего японца. Внизу было написано:
Генерал японский Ноги,
Батюшки,
Чуть унёс от русских ноги.
Матушки!
— Не совайся, не совайся! — заливалась Мотя, прижимаясь доверчиво к Пете.
— Правда, пускай тоже не совается!
Петя, насупившись, густо краснел и молчал, стараясь не смотреть на худенькую голую руку девочки с двумя лоснившимися на предплечье шрамиками оспы, нежно-телесными, как облатки.
Но поздно. Он уже был влюблён по уши.
Когда же оказалось, что, кроме русско-японских картин, у Моти есть ещё превосходные кремушки, орехи для игры в «короля-принца», бумажки от конфет и даже картонки, Петина любовь дошла до наивысшего предела..
Ах, какой это был счастливый, замечательный, неповторимый день! Никогда в жизни Петя не забудет его.
Петя заинтересовался, каким образом на ушах держатся серьги, и девочка показала ему проколотые совсем недавно дырочки. Петя даже решился потрогать мочку Мотиного уха, нежную и ещё припухшую, как долька мандарина.
Потом они поиграли в картонки, причём Петя начисто обыграл девочку. Но у неё сделалось такое несчастное лицо, что ему стало жалко, и он не только отдал ей обратно все выигранные картонки, но даже великодушно подарил все свои. Пускай знает!
Потом натаскали сухого бурьяна, щепочек и затопили кукольную плиту. Дыму было много, а огня совсем не вышло. Бросили и стали играть в «дыр-дыра», иначе — в прятки.
Прячась друг от друга, они залезали в такие отдалённые, глухие местечки, сидеть в которых одному становилось даже страшновато.
Но зато как жгуче-радостно было слышать осторожное приближение робких шажков, сидя в засаде и обеими руками закрывая рот и нос, чтобы не фыркнуть!
Как дико колотилось сердце, какой неистовый звон стоял в ушах!
И вдруг из-за угла медленно-медленно выдвигается половина бледного от волнения, вытянутого лица с плотно сжатыми губами. Облупленный носик, круглый глаз, острый подбородок, чепчик с оборочками...
Глаза вдруг встречаются. Оба так испуганы, что вот-вот потеряют сознание.
И тотчас неистовый, душераздирающий вопль торжества и победы:
— Петька! Дыр-дыра!
И оба лупят во все лопатки — кто скорее? — к месту, где лежит палочка-стукалочка.
— Дыр-дыра!
— Дыр-дыра!
Один раз девочка спряталась так далеко, что мальчик искал её битых полчаса, пока наконец не догадался перелезть через задний плетень и сбегать на выгон.
Мотя сидела на корточках, полумёртвая от страха, в яме, заросшей будяками. Поставив худой подбородок на исцарапанные колени, она смотрела исподлобья вверх, в небо, по которому плыло предвечернее облако.
Вокруг тыркали сверчки и ходили коровы. Было необыкновенно жутко.
Петя заглянул в яму. Дети долго смотрели друг другу в глаза, испытывая необъяснимое жгучее смущение, совсем не похожее на смущение игры.
«Дыр-дыра, Мотька!» — хотел крикнуть мальчик, но не мог вымолвить ни слова. Нет, это, уж конечно, не была игра, а что-то совсем, совсем другое.
Мотя осторожно вылезла из ямы, и они смущённо пошли во двор как ни в чём не бывало, поталкивая друг друга плечами, но в то же время стараясь не держаться за руки.
Тень облака прохладно скользила по бессмертникам городского выгона.
Впрочем, едва они перелезли обратно через плетень, как Петя опомнился.
— Дыр-дыра! — отчаянно закричал хитрый мальчик и кинулся к палочке-стукалочке, чтобы поскорее «задыркать» зазевавшуюся девочку.
Словом, всё было так необыкновенно, так увлекательно, что Петя даже не обратил внимания на Гаврика, подошедшего в самый разгар игры.
— Петька, как звать того матроса? — озабоченно спросил Гаврик.
— Какого матроса?
— Который прыгал с «Тургенева».
— Не знаю.
— Ты ж ещё рассказывал, что его на пароходе как-то там называл тот усатый чёрт из сыскного.
— Ну да... Ах, да!.. Жуков, Родион Жуков... Не мешай, мы играем.
Гаврик ушёл озабоченный, а Петя тотчас забыл об этом, всецело поглощённый новой любовью.
Вскоре пришла Мотина мама звать ужинать:
— Мотя, приглашай своего кавалера кулеш кушать, а то они, наверно, голодный.
Мотя сильно покраснела, потом побледнела, стала опять прямая, как палка, и произнесла сдавленным голосом:
— Мальчик, хочете с нами кушать кулеша?
Только сейчас Петя почувствовал голод. Ведь он сегодня не обедал! Ах, никогда в жизни не ел он такого вкусного, густого кулеша с твердоватой, упоительно придымленной картошечкой и маленькими кубиками свиного сала!
После этого чудеснейшего ужина на свежем воздухе под той же шелковицей мальчики отправились домой.
С ними пошёл в город и Терентий. Он на минутку сбегал в дом и вернулся в коротком пиджаке и люстриновом картузике с пуговичкой, держа в руке тоненькую железную палочку от зонтика, такую самую, с какой обыкновенно гуляли одесские мастеровые в праздник.
— Тереша, не ходи, поздно, — умоляюще сказала жена, провожая мужа до калитки.
Она посмотрела на него с такой тревогой, что Пете почему-то стало не по себе.
— Сиди лучше дома! Мало что...
— Есть дело.
— Как хочешь, — покорно сказала она.
Терентий весело мигнул:
— Ничего.
— Не иди мимо Товарной.
— Спрашиваешь!
— Счастливого.
— Взаимно.
Терентий и мальчики зашагали в город. Однако это была совсем не та дорога, по которой пришли сюда. Терентий вёл их какими-то пустырями, переулками, огородами. Этот путь оказался гораздо короче и безлюднее.
По дороге Терентий остановился возле небольшого домика и постучал в окно. В форточку выглянуло худое, костлявое лицо человека с усами, опущенными на рот.
— Здорово, Синичкин, — сказал Терентий. — Выйди на минуточку. Есть новости.
Затем на улицу вышел в жилете поверх сатиновой рубахи высокий, тощий человек, напоминавший Пете «Дон Кихота», которого он недавно читал.
Терентий и Синичкин пошептались, после чего путь продолжался. Совершенно неожиданно они вышли на знакомую Сенную площадь. Здесь Терентий сказал Гаврику:
— Я ещё сегодня к вам заскочу.
Кивнул головой и исчез в толпе. Солнце уже село. Кое-где в лавочках зажигали лампы. Петя ужаснулся: что будет дома! Счастье кончилось. Наступила расплата. Петя старался об этом не думать, но не думать было невозможно.
Боже, на что стали похожи новые башмаки! А чулки! Откуда взялись эти большие круглые дыры на коленях? Утром их совсем не было. О руках нечего и говорить — руки как у сапожника. На щеках следы дёгтя. Боже, боже! Нет, положительно дома будет что-то страшное!
Ну, пусть бы хоть отлупили. Но ведь в том-то и ужас, что лупить ни в коем случае не будут. Будут стонать, охать, говорить разрывающие душу горькие, но — увы! — совершенно справедливые вещи.
А папа ещё, чего доброго, схватит за плечи и начнёт изо всех сил трясти, крича: «Негодяй, где ты шлялся? Ты хочешь свести меня в могилу?», что, как известно, в десять раз хуже, чем самая лютая порка.
Эти и тому подобные горькие мысли привели мальчика в полное уныние, усугублявшееся безумными сожалениями по поводу картонок, так глупо отданных в порыве страсти первой попавшейся девчонке.
25. «МЕНЯ УКРАЛИ»
Казалось, никакая сила в мире не могла спасти Петю от неслыханного скандала. Однако недаром у него на голове была не одна макушка, как у большинства мальчиков, а две, что, как известно, является вернейшим признаком счастливчика. Судьба посылала Пете неожиданное избавление.
Можно было ожидать всё, что угодно, но только не этого.
Недалеко от Сенной площади, по Старопортофранковской улице, спотыкаясь, бежал Павлик. Он был совершенно один.
По его замурзанному лицу, как из выжатой тряпки, струились слёзы. В открытом квадратном ротике горестно дрожал крошечный язык. Из носу текли нежные сопли.
Он непрерывно голосил на буквы «а», но так как при этом не переставал бежать, то вместо плавного: «а-а-а-а-а» — получалось икающее и прыгающее: «а! а! а! а! а!»
— Павлик!
Ребёнок увидел Петю, со всех ног бросился к нему и обеими ручками вцепился в матроску брата.
— Петя, Петя! — кричал он, дрожа и захлёбываясь. — Петечка!
— Что ты здесь делаешь, скверный мальчишка? — сурово спросил Петя.
Ребёнок вместо ответа стал икать, не в силах выговорить ни слова.
— Я тебя спрашиваю: что ты здесь делаешь? Ну? Негодяй, где ты шлялся? Ты, кажется, хочешь довести меня до могилы... Вот... набью тебе морду, тогда будешь знать!
Петя схватил Павлика за плечи и стал его трясти до тех пор, пока тот не прорыдал сквозь икоту:
— Меня... и!... Меня ук... украли.
И опять залился слезами.
Что же случилось?
Оказывается, не одному Пете пришла в голову счастливая мысль на другой день после приезда самостоятельно погулять. Павлик тоже давно мечтал об этом.
Он, конечно, не собирался заходить так далеко, как Петя. В его планы входило лишь побывать на помойке да, в самом крайнем случае, сходить за угол посмотреть, как у подъезда штаба солдаты отдают ружьями честь. Но, на беду, как раз в это время во двор пришёл Ванька-Рутютю, иначе говоря — Петрушка. Вместе с другими детьми Павлик посмотрел всё представление, показавшееся слишком коротким. Впрочем, распространился слух, что в другом дворе будут показывать больше.
Дети перекочевали вслед за Ванькой-Рутютю в другой двор. Но там представление оказалось ещё короче. Оно закончилось тем, что Ванька-Рутютю — длинноносая кукла в колпаке, похожем на стручок красного перца, с деревянной шеей паралитика — убил дубинкой городового. Между тем решительно всем было известно, что потом должно ещё обязательно появиться страшное чудовище — нечто среднее между жёлтой мохнатой уткой и крокодилом — и, схватив Ваньку-Рутютю зубами за голову, утащить его в преисподнюю.
Однако этого-то и не показали. Может быть, потому, что слишком мало падало из окон медяков. Не было сомнения, что в следующем дворе дело пойдёт лучше.
Жадно поглядывая на плетёную кошёлку с таинственно спрятанными там куклами, дети как очарованные переходили таким образом из одного двора в другой вслед за пёстрой женщиной, тащившей на спине шарманку, и мужчиной без шапки, с ширмой под мышкой.
Пожираемый непобедимым любопытством, Павлик топал на своих крепеньких ножках в толпе других детей. Высунув язык и широко раскрыв светло-шоколадные глаза с большими чёрными зрачками, ребёнок забыл всё на свете: и тётю, и папу, и даже Кудлатку, которую не успел поставить на конюшню и хорошенько накормить овсом и сеном.
Мальчик потерял всякое представление о времени и пришёл в себя, лишь заметив с удивлением, что уже вечер и он идёт за шарманкой по совершенно незнакомой улице. Все дети давно отстали и разошлись. Он был совсем один.
Пёстрая женщина и мужчина с ширмой шли быстро, очевидно торопясь домой. Павлик едва поспевал за ними. Город становился всё более незнакомым, подозрительным. Павлику показалось, что мужчина и женщина о чём-то зловеще шепчутся.
Поворачивая за угол, они вдруг оба обернулись, и Павлик с беспокойством увидел во рту у женщины папироску. Ребёнка охватил ужас. Ему в голову внезапно пришла мысль, заставившая его задрожать. Ведь было решительно всем известно, что шарманщики заманивают маленьких детей, крадут их, выламывают руки и ноги, а потом продают в балаганы акробатам.
О, как он мог забыть об этом! Это было так же общеизвестно, как то, что конфетами фабрики «Бр. Крахмальниковы» можно отравиться или что мороженщики делают мороженое из молока, в котором купали больных.
Сомненья нет. Только цыганки и другие воровки детей курят папиросы. Сейчас его схватят, заткнут тряпкой рот и унесут куда-нибудь на слободку Романовку, где будут выворачивать руки и ноги, превращая в маленького акробата.
С громким рёвом Павлик бросился наутёк и бежал до тех пор, пока неожиданно не наткнулся на Петю.
Задав братику основательную трёпку, Петя торжественно приволок его за руку домой, где уже царила полнейшая паника. Дуня, свистя коленкоровой юбкой, носилась по соседним дворам. Тётя натирала виски карандашом от мигрени. Папа уже надевал летнее пальто, чтобы идти в участок заявлять о пропаже детей.
Увидев Павлика целым и невредимым, тётя бросилась к нему, не зная, что делать — плакать или смеяться.
Она заплакала и засмеялась в одно и то же время. Потом под горячую руку хорошенько отшлёпала беглеца. Потом обцеловала всю его зарёванную мордочку.
Потом опять отшлёпала. И только после этого обратила грозное лицо к Пете:
— А ты, друг мой?
— А ты где шлялся, разбойник? — закричал отец, хватая мальчика за плечи.
— Искал Павлика, — скромно ответил Петя. — По всему городу бегал, пока не нашёл. Скажите спасибо. Если б не я, его бы уже давно украли.
И Петя тут же рассказал великолепную историю, как он гнался за шарманщиком, как шарманщик убегал от него через проходные дворы, но как он всё-таки его схватил за шиворот и стал звать городового. Тогда шарманщик испугался и отдал Павлика, а сам всё-таки удрал.
— А то б я его в участок посадил, истинный крест!
Хотя Петин рассказ, против ожидания, не вызвал ни в ком ни малейшего восторга, а папа даже с отвращением зажмурился, сказав: «Как не стыдно языком молоть... Ведь уши вянут!» — однако ничего не поделаешь: не кто другой, а именно Петя привёл домой пропавшего Павлика. Благодаря этому Петя и вышел сухим из воды, избавившись от неслыханного скандала.
На то он, видно, и был счастливчиком с двумя макушками!
... Тем временем Гаврик вернулся в хибарку, где застал дедушку и матроса в большом волнении. Оказывается, совсем недавно, только что, к ним заходила какая-то комиссия из городской якобы управы проверять разрешение на рыбную ловлю. Бумаги оказались в исправности.
— А это у тебя кто лежит? — спросил вдруг господин с портфелем, заметив матроса.
Дедушка замялся.
— Больной, что ли? Если больной, то что ж ты его не отведёшь в больницу?
— Не, — сказал дедушка, напуская на себя весёлое равнодушие, — он не больной, а только пьяный.
— А, пьяный! Сын, что ли?
— Не.
— Чужой?
— Я же вам говорю, ваше благородие: пьяный!
— Я понимаю, что пьяный, да откуда он у тебя?
— Как это — откуда? — забормотал дедушка, прикидываясь совсем выжившим из ума стариком. — Ну, пьяный и пьяный, известное дело. Валялся в бурьяне, и годи!
Господин внимательно посмотрел на матроса:
— Что ж он, так и валялся в бурьяне в одних подштанниках?
— Так и валялся.
— Эй, ты, а ну-ка, дыхни! — закричал господин, совсем близко наклоняясь к матросу.
Жуков сделал вид, что ничего не слышит, и повернулся лицом к стенке, закрыв голову подушкой.
— Пьяный, а вином не пахнет, — заметил господин и, строго уставившись на дедушку, прибавил: — Смотри!
С тем комиссия и удалилась.
Гаврику это не понравилось. Проходя мимо ресторана, он видел за столиком околоточного надзирателя, того самого вредного надзирателя, которого местные рыбаки называли не иначе, как «наш окололодочный».
Он пил пиво, ставя кружку на толстый кружочек из прессованного картона с надписью: «Пиво Санценбахера». И не столько пил, сколько посматривал на серебряные часы.
... Матрос чувствовал себя гораздо лучше. Как видно, кризис уже миновал. Жара не было.
Он сидел на койке, потирая колючие щёки, и говорил:
— Не иначе, как сейчас же надо скрываться.
— Куда ж ты пойдёшь без штанов? — сокрушённо заметил дедушка. — Пока не смеркнет, надо в хате сидеть. Одно. Гаврик, кушать хочешь?
— Я у Терентия повечерял.
Дедушка высоко поднял брови. Вот оно что. Значит, внучек уже успел побывать у Терентия. Ловко!
— Как там дело?
— Собирался сегодня до нас заскочить.
Старик пожевал губами и ещё выше поднял брови, удивляясь, какой у него вырос бедовый внучек: всё понимает лучше всякого взрослого. И, главное, хитрый! У, хитрый!
Несмотря на свои девять с половиной лет, Гаврик в иных случаях жизни действительно разбирался лучше, чем многие взрослые. Да и не мудрено. Мальчик с самых ранних лет жил среди рыбаков, а одесские рыбаки, в сущности, мало чем отличались от матросов, кочегаров, рабочих из доков, портовых грузчиков, то есть самой нищей и самой вольнолюбивой части городского населения.
Все эти люди на своём веку довольно хлебнули горя и на собственной шкуре испытали, «почём фунт лиха», что взрослые, что дети — безразлично. Может быть, детям было даже ещё хуже, чем взрослым.
Шёл тысяча девятьсот пятый год, год первой русской революции.Все нищие, обездоленные, бесправные подымались на борьбу с царизмом.
Рыбаки занимали среди них не последнее место. А борьба начиналась лютая: не на жизнь, а на смерть. Борьба учила хитрости, осторожности, зоркости, смелости. Все эти качества совершенно незаметно, исподволь росли и развивались в маленьком рыбаке.
Брат Гаврика, Терентий, тоже сперва рыбачил, но потом женился и пошёл работать в вагонные мастерские. По множеству признаков Гаврик не мог не догадываться, что старший брат его имеет какое-то отношение к тому, что в те времена называлось глухо и многозначительно — «движение «.
Бывая в гостях у Терентия на Ближних Мельницах, Гаврик частенько слышал, как братан говорил слова «комитет», «фракция», «явка»... И хотя смысла их Гаврик не понимал, однако чувствовал, что слова эти связаны с другими, понятными всякому: «забастовка», «сыскное», «листовка».
Особенно хорошо было известно Гаврику, что такое листовки — эти странички плохой бумаги с мелкой серой печатью. Однажды, по просьбе Терентия, Гаврик даже разносил их ночью по берегу и клал, стараясь, чтобы никто не заметил, в рыбачьи шаланды.
Тогда Терентий сказал:
— А как кто-нибудь увидит — прямо кидай их в воду и тикай. А как поймают — скажи, что нашёл в бурьяне.
Но всё обошлось благополучно. Вот именно поэтому Гаврик прежде всего и решил рассказать про матроса брату своему, Терентию. Мальчик знал, что Терентий всё устроит. Однако он понимал, что следует ещё кое с кем посоветоваться, кое-где побывать, может быть, даже в том самом «комитете».
Значит, нужно пока что ждать. Но ждать становилось опасно.
Несколько раз матрос приоткрывал дверь и осторожно выглядывал наружу. Но хотя вокруг было уже довольно темно, всё же не настолько, чтобы можно было выйти в таком виде, не обратив на себя внимания, тем более что на берегу ещё оставалось много народу и с моря слышались песни катающихся на лодках.
Матрос снова садился на койку и, уже не стесняясь старика и Гаврика, громко говорил:
— Драконы... Шкуры... Ну, только пусть они мне когда-нибудь попадут в руки!.. Я из них не знаю что наделаю... Голову положу, а наделаю... — и постукивал тихонько по койке литым кулаком.
26. ПОГОНЯ
Уже смеркалось, когда дверь хибарки неожиданно открылась и вошёл большой человек, на миг заслонив собой звёзды. Матрос вскочил.
— Ничего, дядя, сидите, это наш Терентий, — сказал Гаврик.
Матрос сел, силясь в темноте рассмотреть вошедшего.
— Вечер добрый, — сказал голос Терентия. — Кто тут есть, никого не вижу. Почему лампу не зажигаете: керосину нема, чи шо?
— Ще трошки есть, — прокряхтел дедушка и зажёг лампочку.
— Здорово, диду, как дело? А я вышел сегодня в город — и дай, думаю, заскочу до своих родичей. Э, да, я вижу, у вас тут ещё кто-то есть в хате! Здравствуйте!
Терентий быстро, но очень внимательно оглядел матроса при слабом свете разгоравшейся коптилки.
— Наш утопленник, — с добродушной усмешкой пояснил дедушка.
— Слыхал.
Матрос с сумрачным сомнением смотрел на Терентия и молчал.
— Родион Жуков? — спросил Терентий почти весело.
Матрос вздрогнул, но взял себя в руки. Он ещё твёрже упёрся кулаками в койку и, сузив глаза, выговорил с дерзкой улыбкой:
— Допустим, Жуков. А вы кто такой, что я вам обязанный отвечать? Я, может быть, обязанный отвечать лишь перед одним комитетом.
Усмешка сошла с рябоватого лица Терентия. Гаврик никогда не видел брата таким серьёзным.
— Можешь меня считать за комитет, — немного подумав, заметил Терентий и сел рядом с матросом на койку.
— Чем вы докажете? — упрямо сказал матрос, отвергая товарищеское «ты» и отодвигаясь.
— Надо сначала, чтоб вы доказали, — ответил Терентий.
— Кажется, мои факты довольно-таки ясные. — И матрос сердито показал глазами на ноги в подштанниках.
— Мало что!
Терентий подошёл к двери, приоткрыл её и негромко сказал в щель:
— Илья Борисович, зайдите на минуту.
Тотчас зашумел бурьян, и в хибарку вошёл маленький, щуплый, очень молодой человек в пенсне с чёрной тесёмкой, заложенной за ухо. Под старой расстёгнутой тужуркой виднелась чёрная сатиновая косоворотка, подпоясанная ремешком. На обросшей голове сидела приплюснутая техническая фуражка.
Матросу показалось, что он уже где-то видел этого «студента». Молодой человек стал боком, поправляя пенсне и посмотрел на матроса одним глазом.
— Ну? — спросил Терентий.
— Я видел товарища утром пятнадцатого июня на Платоновском молу в карауле у тела матроса Вакулинчука, зверски убитого офицерами, — быстро и без передышки проговорил молодой человек. — Вы там были, товарищ?
— Факт!
— Видите. Стало быть, я не ошибся.
Тогда Терентий молча достал из-под пиджака свёрток и положил на колени матросу.
— Пара брюк, ремешок, тужурка, ботинок, к сожалению, не достали, пока будете ходить так, а потом купите, не теряя времени — одевайтесь, мы можем отвернуться, — так же быстро и без знаков препинания высыпал молодой человек, прибавив: — А то мне кажется, что за этим домом слежка.
Терентий мигнул:
— А ну-ка, Гаврик.
Мальчик сразу понял и тихонько выбрался из хибарки в темноту. Он остановился. Прислушался. Ему показалось, что на огороде трещит сухая картофельная ботва.
Он пригнулся, сделал несколько шажков и вдруг, привыкнув к темноте, ясно увидел посреди огорода две неподвижные фигуры.
У мальчика захватило дух. В ушах так зашумело, что он перестал слышать море. Прикусив изо всех сил губу, Гаврик совсем неслышно пробрался за хибарку, с тем чтобы посмотреть, нет ли кого-нибудь на тропинке. На тропинке стояло ещё двое, из которых один белел кителем.
Гаврик пополз к горке и увидел на ней несколько городовых. Он сразу узнал их по белым кителям. Хибарка была окружена.
Мальчик хотел броситься назад, как вдруг почувствовал большую горячую руку, крепко схватившую его сзади за шею. Он рванулся, но тотчас получил подножку и полетел лицом в бурьян.
Сильные руки схватили его. Он вывернулся и, к ужасу своему, нос к носу увидел над собой усатого, его открытый рот, из которого разило говядиной, его жёсткий, как сосновая доска, солдатский подбородок.
— Дяденька-а-а, — притворно тонким голосом заплакал Гаврик.
— Молчи, шкура... — зашипел усатый.
— Пусти-и-ите!
— А ну, покричи у меня, сволочуга, — сквозь зубы выцедил усатый, взяв железными пальцами мальчика за ухо.
Гаврик съёжился и диким голосом закричал, повернув лицо к хибарке:
— Тикайте!
— Молчи, убью!
Усатый так рванул ухо, что оно затрещало. Показалось, что лопнула голова. Ужасная, ни с чем не сравнимая боль обожгла мозг. Вместе с тем Гаврик почувствовал прилив ненависти и ярости, от которой потемнело в глазах.
— Тикайте! — ещё раз закричал он во всю глотку, корчась от боли.
Усатый навалился на Гаврика, продолжая одной рукой изо всех сил крутить ухо, а другой затыкая рот. Но мальчик катался по земле, кусая потную, ненавистную волосатую руку, и, обливаясь слезами, исступлённо орал:
— Тикайте! Тикайте! Тика-а-а-айте-е-е!
Усатый яростно отшвырнул мальчика и кинулся к хибарке. Раздался длинный полицейский свисток.
Гаврик поднялся на ноги и сразу понял, что его крик был услышан: три фигуры — две рослые и одна маленькая — выскочили из хибарки и, спотыкаясь, бежали через огород.
Два белых кителя преградили им дорогу. Беглецы хотели повернуть, но увидели, что окружены.
— Стой! — закричал в темноте незнакомый голос.
— Илья Борисович, стреляйте! — услышал мальчик отчаянный крик Терентия.
В тот же миг сверкнули огоньки, и раздались подряд три револьверных выстрела, похожих на хлопанье кнута. По крикам и возне Гаврик понял, что в темноте происходит свалка.
Неужели их возьмут? Ничего не соображая от ужаса, Гаврик бросился вперёд, как будто мог чем-нибудь помочь.
Не успел он пробежать и десяти шагов, как увидел, что из свалки вырвались всё те же три фигуры — две большие и одна маленькая, — кинулись к обрыву и пропали в темноте.
— Держи! Держи-и-и!
Вылетел красный сноп огня. Ударил сильный выстрел из полицейского смит-вессона. Вверху на обрывах заливались свистки городовых. Было похоже, что оцеплен весь берег.
Мальчик в отчаянии прислушивался к шуму погони. Он совершенно не понимал, зачем Терентий выбрал для бегства это направление. Надо быть сумасшедшим, чтобы взбираться наверх: там засада, и наверняка их там схватят. Лучше было бы проскользнуть вдоль берега.
Гаврик пробежал ещё немного, и ему показалось, что он видит, как по крутому, почти отвесному обрыву карабкаются три фигурки. Верная гибель!
— Ой, Терентий, куда ж вы полезли! — с отчаянием шептал мальчик, кусая руки, чтоб не заплакать, а едкие слёзы щекотали нос и кипели в горле.
И вдруг, в одну секунду, мальчик понял, зачем понадобилось им лезть на обрыв. Он совсем упустил из виду... А ведь это так просто! Дело в том, что... Но в это время усатый налетел на Гаврика, схватил его под мышку и, разрывая на нём рубаху, поволок его обратно. Он с силой втолкнул мальчика в хибарку. Возле неё уже стояло двое городовых. Гаврик больно треснулся скулой о косяк и упал в угол на дедушку, сидевшего на земле.
— Уйдут — головы сорву! — крикнул усатый городовым и выбежал вон.
Гаврик сел рядом с дедушкой, совершенно так же, как и он, подвернув ноги. Они сидели, ничего не говоря, прислушиваясь к свисткам и крикам, мало-помалу затихающим в отдалении. Наконец шума совсем не стало слышно.
Тогда Гаврик почувствовал ухо, о котором было забыл. Оно ужасно болело. Казалось раскалённым. До него страшно было дотронуться.
— У, дракон, чисто всё ухо оторвал, — проговорил Гаврик, изо всех сил сдерживая слёзы и желая казаться равнодушным.
Дедушка искоса посмотрел на него. Глаза старика были неподвижны, страшные своей глубокой пустотой. Губы мягко жевали. Он долго молчал. Наконец покачал головой и укоризненно произнёс:
— Видели вы, господа, такое дело, чтобы ухи детям обрывать? Разве это полагается?
Он тяжко вздохнул и опять зажевал губами. Вдруг суетливо наклонился к Гаврику, испуганно посмотрел на дверь — не подслушивает ли кто — и шепнул:
— Ничего не слыхать, ушли они или остались?
— Они на обрыв полезли, — быстро и тихо сказал мальчик. — Терентий их повёл до катакомбы. Если их по дороге не постреляют, непременно уйдут.
Дедушка повернул лицо к чудотворцу, прикрыл глаза и медленно, размашисто перекрестился, с силой вдавливая сложенные щепоткой пальцы в лоб, в живот, в оба плеча. Крошечная, еле заметная слеза поползла по щеке и пропала в морщине.
27. ДЕДУШКА
Под многими городами мира есть катакомбы. Катакомбы есть в Риме, Неаполе, Константинополе, Александрии, Париже, Одессе.
Когда-то, лет пятьдесят тому назад, одесские катакомбы были городскими каменоломнями, из которых выпиливали известняк для построек. Они и сейчас простираются запутанным лабиринтом под всем городом, имея несколько выходов за его чертой.
Жители Одессы, конечно, знали о существовании катакомб, но мало кто спускался в них, а тем более представлял себе их расположение. Катакомбы являлись как бы тайной города, его легендой.
Но недаром же Терентий был в своё время рыбаком. Он великолепно знал одесский берег и в точности изучил все выходы катакомб к морю.
Один из таких выходов находился в ста шагах позади хибарки, посредине обрыва. Это была узкая щель в скале, сплошь заросшая шиповником и бересклетом. Маленький ручеёк просачивался из щели и бежал вниз по обрыву, заставляя вздрагивать ползучие растения и бурьян.
Отбившись от первого натиска городовых и сыщиков, Терентий повёл товарищей прямо к знакомой расселине.
Преследователи понятия о ней не имели. Они думали, что беглецы хотят дачами пробраться в город. Полицейским это было на руку. Все дачи были оцеплены. Беглецы неизбежно попадали в засаду.
Поэтому после первого же выстрела городовым было приказано больше не стрелять.
Однако, прождав внизу с четверть часа, пристав Александровской части, который лично руководил облавой, послал околоточного надзирателя узнать, схвачены ли преступники.
Околоточный отправился в обход удобной дорогой и вернулся ещё через четверть часа, сообщив, что беглецы наверху не появлялись. Таким образом, их не было ни наверху, ни внизу. Где же они? Было совершенно невероятно, чтобы они сидели где-нибудь посреди обрыва, в кустах, и ждали, пока их схватят.
Тем не менее, пристав велел своим молодцам лезть вверх и обшарить каждый кустик. Страшно ругаясь, поминутно скользя лакированными сапогами по траве и глине, он сам полез на обрыв, больше не доверяя «этим болванам».
Они обшарили в темноте весь обрыв снизу доверху и ничего не нашли. Это было похоже на чудо. Не провалились же беглецы, в самом деле, сквозь землю!
— Ваше высокоблагородие! — раздался вдруг испуганный голос сверху. — Пожалуйста сюда!
— Что там такое?
— Так что, ваше высокоблагородие, катакомба!
Пристав схватился белыми перчатками за колючие ветки. Тотчас он был подхвачен дюжими руками и втащен на маленькую площадку.
Усатый зажигал спичку за спичкой. При свете их можно было рассмотреть заросшую кустами чёрную узкую щель в скале.
Пристав мигом понял, что дело проиграно. Ушла такая добыча! Он затрясся в ярости, затопал узкими сапогами и, тыча кулаками в белых перчатках направо и налево, куда попало, в морды, в скулы, в усы, кричал залихватским, осипшим от крика голосом:
— Что же вы стоите, бал-л-ваны? Вперёд! Обыскать все катакомбы! Головы посрываю, мор-р-ды р-р-р-раскрошу к чёртовой матери! Чтоб негодяи были схвачены! Марш!
Но он сам понимал, что всё равно ничего не выйдет. Чтобы обыскать все катакомбы, надо по крайней мере недели две. Да и всё равно напрасно, так как прошло уже больше получаса и беглецы, несомненно, уже давно в другом конце города.
Несколько городовых с неохотой полезли в щель и, беспрерывно зажигая спички, топтались недалеко от входа, оглядывая серые известняковые стены подземного коридора, терявшегося в могильной тьме.
Пристав изо всех сил плюнул и, дробно бренча шпорами, побежал вниз. Ярость душила его. Он рванул перекрахмаленный воротник пикейного кителя с такой силой, что отлетели крючки.
Крупно шагая по трескучему бурьяну, он подошёл к хибарке и с остервенением дёрнул дверь. Городовые в ужасе вытянулись.
Пристав вошёл в каморку и застыл, расставив ноги и заложив судорожно играющие пальцы за спину. Тотчас за приставом в дверь пролез усатый.
— Ваше высокоблагородие, разрешите доложить, — таинственно шепнул он, показывая круглыми глазами на дедушку, — хозяин конспиративной квартиры, а это его мальчишка.
Пристав, не глядя на усатого, протянул к нему руку, взял его ощупью всей белой растопыренной пятернёй за потную морду и с яростным отвращением оттолкнул:
— Тебя, бал-лвана, не спрашивают. Сам знаю.
Гаврика охватил ужас. Он чувствовал, что сейчас произойдёт что-то страшное. Бледный и маленький, с красным, распухшим ухом, он смотрел не мигая на стройного, плечистого офицера в голубых шароварах и чёрной лаковой портупее через плечо.
Постояв таким образом не менее минуты, показавшейся мальчику часом, пристав присел боком на койку. Не спуская глаз с дедушки, он вытянул лаковый сапог, извлёк из тесного кармана серебряную папиросницу с оранжевым трутом и закурил жёлтую папироску.
«Фабрики Асмолова», — подумал Гаврик.
Пристав пустил из ноздрей дым, произнёс вместе с дымом: «Н-нусс» — и вдруг заорал во всю глотку так, что зазвенело в ушах:
— Встань, мерзавец, когда находишься в присутствии офицера!
Дедушка суетливо вскочил. Скрючив босые чёрные ноги и оправляя на тщедушном теле рубаху, старик уставился на пристава бессмысленными солдатскими глазами.
Гаврик видел, как дрожала дедушкина вытянутая шея и как двумя вожжами натягивалась под подбородком сухая кожа со старинным шрамом.
— Нелегальных прячешь? — ледяным голосом произнёс пристав.
— Никак нет, — прошептал дедушка.
— Говори: кто у тебя только что был?
— Не могу знать.
— Ах, ты не можешь знать! — И офицер медленно привстал.
Сжав губы, он коротким и точным движением ударил старика в ухо с такой силой, что тот отлетел и всем телом стукнулся в стенку.
— Говори, кто был?
— Не могу знать, — твёрдо сказал старик, двигая скулами.
Снова мелькнул кулак в белой перчатке. Из дедушкиных ноздрей потекли две слабые струйки крови. Старик зажмурился, вдавил голову в плечи и всхлипнул.
— За что же вы бьёте, ваше благородие? — тихо, но грозно сказал дедушка, вытирая под носом и показывая приставу запачканную руку.
— Молчать! — заорал офицер бледнея.
Большая бархатная родинка чернела на его гипсовом лице. Он с отвращением посмотрел на свою испорченную перчатку.
— Говори, кто был?
— Не могу знать...
Старик успел закрыть лицо руками и отвернуться к стенке. Удар пришёлся по голове. Штаны на коленях обвисли. Дедушка стал медленно сползать вниз.
— Дядя, не бейте его, он — старик! — со слезами отчаяния закричал Гаврик, бросаясь к приставу.
Но пристав уже выходил из хибарки, крича:
— Взять мерзавца! Отвезти!
Городовые бросились к старику и схватили его, выворачивая локти. Они потащили его из хибарки, как куль соломы. Гаврик сел на пол и, кусая кулачки, зарыдал злыми, бешеными слезами.
Некоторое время он сидел не шевелясь, прислушиваясь одним ухом к шумам и шорохам ночи. Другое оглохло. Иногда мальчик нарочно затыкал здоровое ухо. Тогда со всех сторон его охватывала глубокая, немая тишина. Становилось страшно, как будто в этой тишине его молчаливо подстерегала какая-то опасность. Он открывал ухо, как бы торопясь выпустить на волю запертые звуки. Но одно ухо не могло вместить в себя всё их разнообразие.
То слышались редкие, сильные вздохи моря и ничего больше. То начиналась хрустальная музыка сверчков, и тогда прекращался шум моря. То тёплый бриз пробегал по бурьяну, наполняя ночь шелестом, не оставляющим места ни для сверчков, ни для моря. То слышался один лишь треск лампочки, в которой выгорел керосин.
Внезапно мальчик ясно почувствовал своё одиночество. Он торопливо задул огонь и бросился за дедушкой.
Роскошная августовская ночь висела над миром. Чёрное мерцающее небо осыпало бегущего мальчика звёздами. Звон сверчков подымался, струясь, до самого Млечного Пути. Но какое дело было измученному и оскорблённому ребёнку до этой равнодушной красоты, не имевшей власти сделать его счастливым?
Гаврик бежал изо всех сил. Он догнал дедушку лишь в городе, на Старопортофранковской улице, возле самого участка.
Два городовых — один сидя, а другой стоя — везли дедушку на извозчике.
Старик лежал, соскользнув с сиденья, в ногах у городового, поперёк дрожек. Его голова бессильно прыгала и билась о подножку. По лицу, грязному от пыли и крови, бежал свет газовых фонарей.
Гаврик бросился к дрожкам, но они уже остановились у ворот участка. Городовые тащили спотыкающегося старика в ворота.
— Дедушка! — закричал мальчик.
Городовой слегка стукнул Гаврика ножнами шашки по шее. Ворота закрылись. Мальчик остался один.
28. УПРЯМАЯ ТЁТЯ
Наступил миг величайшего Петиного торжества и счастья.
Не было ещё и часу дня, а он уже обегал всех знакомых в доме, показывая свою новенькую гимназическую фуражку и возбуждённо рассказывая, как он только что экзаменовался.
По совести признаться, рассказывать было почти нечего. Никакого экзамена, собственно, не было — было лёгкое приёмное испытание, продолжавшееся пятнадцать минут. Оно началось в половине одиннадцатого, а в пять минут двенадцатого приказчик в магазине рядом с гимназией уже вручил мальчику, галантно улыбаясь, его старую соломенную шляпу, завёрнутую в бумагу.
Фуражку Петя как надел перед зеркалом в магазине, так уже и не снимал до самого вечера.
— Ух, как я ловко выдержал экзамен! — возбуждённо говорил Петя, торопливо шагая по улице.
Он заглядывал во все стёкла, чтобы лишний раз увидеть себя в фуражке.
— Друг мой, — замечала тётя, у которой от смеха дрожал подбородок, — успокойся. Это был не экзамен, а всего лишь испытание.
— Ну, тётя! Как вы можете так говорить? — гневно багровея и топая ногами, на всю улицу кричал Петя, готовый зарыдать от обиды. — Ведь вы же не видели, а утверждаете! Это был самый настоящий экзамен, а вы в это время сидели в приёмной и не имеете права так утверждать! Я вам говорю, что был эк-за-мен!
— Конечно. Я дура, а ты умный! Было испытание.
— А вот экзамен!
— Я ему — брито, а он мне — стрижено.
Этими словами тётя весьма прозрачно намекала на старинный украинский анекдот про одного упрямца, который поспорил с женой: стрижена или брита борода у волостного писаря.
Упрямец против всякой очевидности кричал «стрижено» до тех пор, пока разъярённая жена не кинула его в речку. Уже утопая, он продолжал показывать пальцами над водой, что стрижено.
Но Петя не обратил на этот намёк никакого внимания и со слезами в голосе повторял:
— А вот экзамен, а вот экзамен!
У тёти было доброе сердце. Ей стало жаль отнимать у племянника самую дорогую часть его торжества. «Экзамен» — одно слово чего стоит! Пусть же мальчик радуется. Не стоит его огорчать в этот знаменательный день.
Тут тётя даже решила немножко покривить душой.
— Впрочем, — сказала она с тонкой улыбкой, — я, вероятно, ошиблась. Кажется, это был действительно экзамен.
Петя просиял:
— Ого, ещё какой экзамен!
Но в глубине души Петю, конечно, грызло сомнение. Всё произошло как-то чересчур быстро и легко для «экзамена «.
Правда, детей выстроили в пары и повели «в класс». Правда, был длинный стол, покрытый синим сукном. Правда, сидели строгие преподаватели в синих мундирах, в золотых очках и пуговицах, в орденах, в крахмальных, даже на вид твёрдых, как скорлупа, манишках и гремящих манжетах. Среди них выделялись муаровая ряса и женские кудри священника.
Опускался желудок, потели ноги, ледяной пот выступал на висках... Всё было, как полагается испокон веков.
Но сам экзамен... Нет, теперь Петя ясно понимал, что это было всё-таки лишь испытание.
Как только мальчики расселись по партам, один из преподавателей тотчас уткнул нос в большую бумагу на столе и произнёс, прекрасно, отчётливо, кругло выговаривая каждое слово:
— Что ж, приступим. Александров Борис, Александров Николай, Бачей Пётр. Пожалуйте сюда.
Услышав свою фамилию и имя, прозвучавшие так чуждо и вместе с тем так жгуче в этом гулком, пустынном классе, Петя почувствовал, будто его внезапно ударили кулаком под ложечку. Он никак не предполагал, что страшный миг наступит так быстро.
Мальчик был застигнут врасплох. Он густо покраснел и, почти теряя сознание, подошёл по скользкому полу к столу.
Три мальчика поступили в распоряжение преподавателей.
Петя достался священнику.
— Нуте-с, — сказал громадный старик, заворачивая широкий рукав рясы.
Затем он воткнул в узкую грудь кинжал наперсного креста на серебряной цепочке. Цепочка была из плоских звеньев, с прорезью, как в кофейных зёрнышках.
— Подойди, отрок. Как звать?
— Петя.
— Пётр, дорогой мой, Пётр. Петя дома остался. Фамилия как?
— Бачей.
— Василия Петровича сын? Преподавателя ремесленного училища из школы десятников?
— Да.
Священник откинулся на спинку стула в мечтательной позе курильщика. Он прищурился на Петю и с непонятной для мальчика усмешкой сказал:
— Знаю, как же. Либеральный господин. Нуте-с... — Священник ещё больше откинулся.
Теперь маленький стул качался на двух задних ножках.
— Какие знаешь молитвы? «Верую» читаешь?
— Читаю.
— Говори.
Петя набрал полон рот воздуха и пошёл чесать без знаков препинания, норовя выпалить всю молитву одним духом:
— Верую во единого бога-отца вседержителя творца неба и земли видимым же всем и невидимым и во единого господа Иисуса Христа сына...
Тут воздух кончился, и Петя остановился. Торопливо, чтобы священник не подумал, что он забыл, мальчик со всхлипом вобрал в себя свежую порцию воздуха, но священник испуганно махнул рукой:
— Довольно, довольно. Иди дальше.
И тут же мальчик поступил в распоряжение математика.
— До скольких умеешь считать.
— До сколько угодно, — сказал Петя, ободрённый триумфом по закону божьему.
— Прекрасно. Считай до миллиона.
Пете показалось, что он провалился в прорубь, он даже — совершенно непроизвольно — сделал ртом такой звук, будто захлебнулся. С отчаянием посмотрел по сторонам, ища помощи. Но всё вокруг были заняты, а математик смотрел в сторону сквозь очки, в стёклах которых выпукло и очень отчётливо отражались два больших классных окна с зеленью гимназического сада, с голубыми куполами Пантелеймоновского подворья и даже с каланчой Александровского участка, на которой висело два чёрных шарика, означавших, что во второй части — пожар.
Считать до миллиона... Петя погиб!
— Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь... — старательно начал мальчик, исподтишка загибая пальцы и блудливо, но грустно улыбаясь, — восемь, девять, десять, одиннадцать...
Математик бесстрастно смотрел в окно. Когда удручённый мальчик произнёс «семьдесят девять», учитель сказал:
— Достаточно. Таблицы умножения учил?
— Одиныжды один — один, одиныжды два — два, одиныжды три — три, — быстро и звонко начал Петя, боясь, чтобы его не прервали, но преподаватель кивнул головой:
— Будет.
— Я ещё знаю сложение, вычитание, умножение и деление!
— Будет. Ступай дальше.
Что ж это такое, рта не дают открыть! Даже обидно!
Петя перешёл к следующему преподавателю, с орденом, просвечивающим сквозь сухую бороду.
— Читай вот до сих пор.
Петя с уважением взял книгу в мраморном переплёте и посмотрел на толстый жёлтый ноготь, лежавший на крупном заголовке «Лев и собачка».
— «Лев и собачка, — начал Петя довольно бойко, хотя и запинаясь от волнения. — Лев и собачка. В одном зверинце находился лев. Он был очень кровожаден. Сторожа боялись его. Лев пожирал очень много мяса. Хозяин зверинца не знал, как тут быть...»
— Хватит.
Петя чуть не заплакал. Ещё даже не дошло до собачки, а он уже — «хватит»...
— Стихотворение какое-нибудь на память знаешь?
Этого момента Петя ждал с трепетом тайного торжества. Вот тут-то он себя наконец покажет в полном блеске!
— Знаю «Парус», стихотворение М. Ю. Лермонтова.
— Ну, скажи.
— Сказать с выражением?
— Скажи с выражением.
— Сейчас.
Петя быстро отставил ногу, что являлось совершенно необходимым условием выразительного чтения и гордо закинул голову.
— «Парус», стихотворение М. Ю. Лермонтова! — провозгласил он с некоторым завыванием. —
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом...
Что ищет он в стране далёкой?
Что кинул он в краю родном!
Наскоро сделав обеими руками знак удивления и вопроса, он продолжал торопясь сказать как можно больше, пока его не остановили:
Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнётся и скрипит...
Увы, он счастия не ищет
И не от счастия бежит!
Петя торопливо показал жестом «увы», но преподаватель успел замахать руками:
— Хватит.
— Я сейчас кончу, там ещё чуть-чуть, — простонал мальчик. —
Под ним струя светлей лазури...
— Хватит, хватит. Иди домой.
— А ещё больше ничего не надо? Я ещё знаю «Как ныне сбирается... «, стихотворение А. С. Пушкина.
— Ничего больше не надо. Можешь сказать родителям, что ты принят. Вот и всё.
Петя был ошеломлён. Он минуты две стоял посредине класса, не зная, что же теперь делать.
Казалось совершенно невероятным, что это страшное и загадочное событие, к которому он с трепетом готовился всё лето, уже совершилось.
Наконец мальчик неловко шаркнул ногой, споткнулся и бросился из класса. Но через секунду как очумелый вбежал назад и спросил прерывающимся от волнения голосом:
— Гимназическую фуражку уже можно покупать?
— Можно, можно. Ступай.
Петя ворвался в приёмную, где на золочёном стуле под гипсовым бюстом Ломоносова сидела тётя в летней шляпе с вуалью и в длинных перчатках.
Он кричал так громко, что его, несомненно, слышали на улице извозчики.
— Тётя! Идём скорее! Они сказали, что уже надо покупать гимназическую фуражку!
29. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ УЧАСТОК
Ах, какое это было блаженство — покупать фуражку!
Сначала её долго примеривали, потом торговались, потом выбирали герб, эту изящнейшую серебряную вещицу. Она состояла из двух скрещённых колючих веточек с «О. 5. Г. « между ними — вензелем Одесской пятой гимназии.
Герб выбрали самый большой и самый дешёвый, за пятнадцать копеек. Приказчик проткнул шилом две дырки в твёрдом околыше синей касторовой фуражки и вставил в них герб, отогнув с внутренней стороны латунные лапки. Дома фуражка с гербом вызвала общий восторг. Все норовили потрогать её. Но Петя не давал. Любоваться — пожалуйста, любуйтесь, а руками не хватать! Папа, Дуня, Павлик — все наперебой спрашивали: «Сколько стоит?», как будто в этом было дело.
Петя горячо отвечал всем:
— Руб сорок пять фуражка и пятнадцать герб, да это что? Вот если бы видели, как я выдержал экзамен, вы б тогда знали!
Глядя на фуражку, Павлик завистливо косил глаза и сопел, каждую минуту готовый зареветь. Затем Петя побежал показывать фуражку вниз, в лавочку, Нюсе Когану. Нюся Коган опять гостил на лимане. Наказание!
Зато чрезвычайно заинтересовался новой фуражкой отец Нюси, старик Коган, лавочник, по прозвищу «Борис — семейство крыс».
Надев очки, он долго рассматривал фуражку со всех сторон, цокая языком — «ц-ц-ц», и наконец задал вопрос:
— Сколько стоит?
Обегав всех знакомых в доме, Петя отправился на полянку и показал фуражку солдатам. Солдаты тоже спросили, сколько стоит. Больше показывать было некому, а не прошло ещё и половины дня!
Петя был в отчаянии.
Вдруг он увидел Гаврика, шедшего под забором родильного приюта. Петя бросился к приятелю, оглашая воздух криками и размахивая фуражкой.
Но — боже мой! — что сделалось с Гавриком? Его маленькие глаза были обведены коричневыми кругами. Они тусклой злобой блестели на худом, немытом лице. Рубаха была изодрана. Одно ухо, лилово-красное, распухшее, сразу бросалось в глаза, пугая своим страшным неправдоподобием.
«Ух, как я ловко выдержал экзамен!» — хотел было крикнуть Петя, но слова эти застряли у него в горле.
Он прошептал:
— Ой! С кем ты дрался? Кто тебя побил?
Гаврик угрюмо усмехнулся, опуская глаза.
— А ну покажь, — сказал он вместо ответа и протянул руку к фуражке. — Сколько стоит?
Хотя давать фуражку в чужие руки было мучительно, всё же Петя — правда, с болью в сердце — позволил Гаврику потрогать обновку.
— Только ты не попорти!
— Не дрейфь.
Мальчики уселись под кустиком возле помойки и принялись всесторонне рассматривать фуражку.
Гаврик тотчас открыл в ней множество тайн и возможностей, ускользнувших от глаз Пети.
Во-первых, обнаружилось, что вынимается тонкий стальной обруч, распирающий дно. Обруч был оклеен заржавленной бумагой и, вытащенный из фуражки, представлял самостоятельную ценность.
Из него ничего не стоило наломать массу маленьких стальных пластинок, годных хотя бы для того, чтобы класть на рельсы под дачный поезд — интересно, что с ними сделается!
Во-вторых, была чёрная сатиновая подкладка с напечатанной золотом прописью: «Бр. Гуральник». Если её немножко отодрать, за неё можно прятать различные мелкие вещи — ни за что никто не найдёт!
В-третьих, кожаный козырёк, покрытый снаружи чёрным лаком, можно легко сделать более блестящим, если хорошенько натереть зелёными стручками дерева, носящего среди мальчиков название «лаковое».
Что касается герба, то его немедленно надо подогнуть по моде и даже слегка подрезать веточки.
Мальчики тут же с жаром принялись за дело и работали до тех пор, пока не извлекли из фуражки все удовольствия, какие в ней заключались.
Это немного развлекло Гаврика.
Но, когда фуражка окончательно потеряла человеческий вид и надоела, Гаврик снова стал угрюм.
— Слышь, Петька, вынеси кусок хлеба и два куска сахару, — сказал он вдруг с напускной грубостью. — Отнесу деду.
— Куда?
— В участок.
Петя смотрел на приятеля широко раскрытыми, ничего не понимающими глазами.
Гаврик сумрачно усмехнулся и сплюнул под ноги:
— Ну, чего смотришь? Не понимаешь, чи шо? Маленький? Нашего деда вчерась забрали в участок. Надо нести передачу.
Петя продолжал ничего не понимать. Он слышал, что в участок забирают пьяниц, буянов, воров, босяков. Но — дедушку Гаврика? Это было выше его понимания.
Петя прекрасно знал старика: мальчик часто приходил к Гаврику в гости, на берег.
Сколько раз дедушка брал его вместе с Гавриком в море ловить бычков! Сколько раз он угощал его своим особенным, душистым и придымлённым, чаем, всегда извиняясь, что «только нема сахару»! Сколько раз он налаживал Пете грузило и учил, как надо привязывать лесу!..
А какие смешные украинские поговорки были у него припасены на всякий случай жизни, какое множество историй из времён турецкой кампании, какую уйму солдатских анекдотов он знал!
Бывало, сидит сам, как турок, подвернув под себя ноги, штопает сеть специально вырезанной деревянной иглой и рассказывает и рассказывает. Животики можно надорвать. И про то, как солдат топор варил, и про бомбардира, попавшего в рай, и про денщика, так ловко обманувшего пьяного офицера...
В жизни не встречал Петя такого любезного, гостеприимного хозяина. Сам рассказывает охотно, но и других слушает с удовольствием, с радостью.
Начнёт Петя, бывало, что-нибудь рассказывать, увлечётся, размахается руками, заврётся до того, что уши вянут, а дедушка ничего — сидит и серьёзно кивает головой:
«А что вы себе думаете, очень даже просто могло случиться!»
И такого человека забрали в участок! Невероятно!
— Да за что же, за что?
— А вот за то самое!
Гаврик вздохнул солидно, как взрослый, немного помолчал и вдруг, прислонившись плечом к другу, таинственно шепнул:
— Слухай...
И он рассказал Пете, что случилось ночью. Конечно, он рассказал не всё. Он ни словом не упомянул ни о матросе, ни о Терентии. Из его рассказа выходило, что ночью к ним в хибарку прибежали каких-то трое, которые спрятались от городовых. Остальное в точности соответствовало тому, что было.
— Тут этот самый дракон ка-ак пошёл мне накручивать ухи!
— Я б ему так наддал, так наддал!.. — возбуждённо закричал Петя, сверкая глазами. — Он бы у меня тогда хорошенько узнал!..
— Заткнись, — угрюмо сказал Гаврик и, крепко взявшись за козырёк Петиной фуражки, насунул её Пете до половины лица, так что оттопырились уши.
Проделавши это, Гаврик продолжал свой рассказ. Петя слушал его с ужасом.
— Кто ж были эти? — спросил он, когда Гаврик кончил. — Грабители?
— Зачем? Я ж тебе говорю кто: простые люди, комитетчики.
Петя не понял:
— Какие?
— Ну, с тобой разговаривать — житного хлеба сперва накушаться. Я ж тебе говорю — комитетчики. Значит, с комитету.
Гаврик совсем близко наклонился к Пете и прошептал ему в самый рот, дыша луком:
— Которые делают забастовки. Из партии. Чуешь?
— Так зачем же дедушку били и отвезли в участок?
Гаврик с презрением усмехнулся:
— Я ему сто, а он мне двести. За то, что он их ховал. Голова! Меня б тоже забрали, только не имеют права: я маленький. Знаешь, сколько полагается сидеть там, кто ховает? Ого! Только, чуешь...
Гаврик ещё больше понизил голос и прошептал совсем еле слышно, озираясь по сторонам:
— Только, чуешь, он не просидит больше как одну неделю. Те все скоро пойдут по Одессе участки разбивать. Драконов до одного покидают в Чёрное море... Чтоб я не видел счастья! Святой истинный крест!
Гаврик опять сплюнул под ноги и уже совсем другим, деловым тоном сказал:
— Так вынесешь?
Петя помчался домой и через две минуты вернулся с шестью кусками сахара в кармане и половиной ситного хлеба за пазухой матроски.
— Хватит, — сказал Гаврик, посчитав сахар и взвесив на ладони хлеб. — Пойдёшь со мной в участок?
Хотя участок был недалеко, но, разумеется, ходить туда безусловно запрещалось. Пете же, как назло, до такой степени захотелось вдруг в участок, что невозможно описать. В душе мальчика снова началась жестокая борьба с совестью, и борьба эта продолжалась всю дорогу, вплоть до самого участка.
Когда же совесть, в конце концов, победила, то уже было поздно: мальчики пришли к участку.
Все понятия и вещи в присутствии Гаврика тотчас теряли свою привычную оболочку и обнаруживали множество качеств, до сих пор скрытых от Пети, — Ближние Мельницы из печального селения вдов и сирот превращались в рабочую слободку с лиловыми петушками в палисадниках; городовой становился драконом; в фуражке оказывался стальной обруч.
И вот теперь — участок.
Чем был он до сих пор в Петином представлении? Основательным казённым зданием на углу Ришельевской и Новорыбной, против Пантелеймоновского подворья. Сколько раз мимо него проезжал Петя на конке!..
Главное в этом здании была высокая четырёхугольная каланча с маленьким пожарным наверху. День и ночь, озирая сверху город, ходил человек в овчинной шубе по балкончику вокруг мачты с перекладиной. Мачта эта всегда напоминала Пете весы или трапецию. На ней постоянно висело несколько чёрных зловещих шариков, числом своим показывая, в какой части города пожар. Город же был так велик, что непременно где-нибудь горело.
У подножия каланчи находилось депо одесской пожарной команды. Оно состояло из ряда громадных кованых ворот. Иногда оттуда, при раздирающих криках труб, вырывались одна за другой четвёрки бешеных лошадей в яблоках, с развевающимися белоснежными гривами и хвостами.
Красный пожарный обоз, зловещий и вместе с тем как бы игрушечный, проносился по мостовой, сопровождаемый беспрерывным набатом и оставляя за собой в воздухе оранжевые языки пламени, оторвавшиеся от факелов. Огонь отражался в медных касках. Признак беды вставал над беспечным городом. Кроме этого, ничем замечательным в глазах Пети не отличался участок.
Но стоило только Гаврику приблизиться к нему — и он оборотился, как от прикосновения волшебной палочки, узким переулком, куда выходили решётчатые окна арестного дома.
Участок оказался просто тюрьмой.
— Постой здесь, — сказал Гаврик.
Он перебежал сырую мостовую и незаметно юркнул мимо городового в ворота участка. Как видно, и здесь Гаврик был свой человек.
Петя остался один в небольшой толпе против участка. Это были родственники. Они переговаривались через улицу с арестованными.
Петя никак не предполагал, что в участке может «сидеть» столько людей. Их было не меньше сотни.
Впрочем, они отнюдь не сидели. Одни стояли на подоконниках, держась за решётки открытых окон; другие выглядывали из-за них, махая руками; третьи подпрыгивали, стараясь через головы и плечи увидеть улицу.
К удивлению Пети, здесь не было ни воров, ни пьяных, ни босяков. Наоборот: обыкновенные, простые, вполне приличные люди, из числа тех, каких можно было каждый день встретить возле вокзала, на Ланжероне, в Александровском парке, на конке... Было даже несколько студентов. Один привлёк особое внимание чёрной кавказской буркой поверх белого кителя с золотыми пуговицами. Приложив ладони к своим худым щекам, он кричал кому-то в толпе оглушительным гортанным голосом:
— Передайте, пожалуйста, в землячество, что сегодня ночью товарища Лордкипанидзе, Красикова и Буревого вызвали из камеры с вещами. Повторяю:
Лордкипанидзе, Красикова и Буревого! Сегодня ночью! Организуйте общественный протест! Привет товарищам!
Человек в пиджаке и косоворотке с расстёгнутым воротом, чем-то напоминавший Терентия, кричал из другого окна:
— Пущай Серёжа пойдёт в контору за моей получкой!
Раздавались голоса, перебивавшие друг друга:
— Не доверяйтесь Афанасьеву! Слышь, Афанасьеву не доверяйтесь!
— Колька сидит в Бульварном!
— У Павел Иваныча в ящике, за шкафом!
— Самое позднее — в среду!
Родственники тоже кричали, поднимая над головой кошёлки и детей. Одна женщина держала на руках девочку с такими же точно серёжками, как у Моти.
Она кричала:
— За нас не беспокойся! Нас люди не оставляют! Мы имеем что кушать. Смотри, какая наша Верочка здоровенькая!
Иногда к толпе подходил городовой, держась обеими руками за ножны шашки.
— Господа, вас честью просят не останавливаться напротив окон и не вступать с задержанными в разговоры.
Но тотчас из окон раздавались оглушительные свистки, невообразимая брань, рёв. В городового летели арбузные корки, кукурузные кочерыжки, огурцы.
— Дракон!
— Фараон!
— Иди бей японцев!
И городовой с шашкой под мышкой неторопливо возвращался к воротам, делая вид, что ничего особенного не произошло.
Нет, положительно, на свете всё было вовсе не так благополучно, как это могло показаться с первого взгляда.
Гаврик возвратился сумрачный, злой.
— Ну что, видел дедушку?
Гаврик не ответил ни слова. Мальчики пошли назад. Возле вокзала Гаврик остановился.
— Они его каждый день бьют, — глухо сказал он, вытирая драным рукавом щёки. — Увидимся.
И Гаврик пошёл прочь.
— Куда?
— На Ближние Мельницы.
Через Куликово поле Петя побрёл домой. Ветер гнал тучи сухой, скучной пыли.
На душе у мальчика было так тяжело, что даже сплющенная гильза от винтовочного патрона, которую он нашёл по дороге, нисколько не обрадовала его.
30. В ПРИГОТОВИТЕЛЬНОМ
Наступила осень.
Петя уже ходил в гимназию. Из большого загорелого мальчика с длинными ногами в фильдекосовых чулках он, надев форму, превратился в маленького, выстриженного под нуль, лопоухого приготовишку, на гимназическом языке — «мартыхана».
Длинные суконные брюки и форменная курточка, купленные за тридцать шесть рублей в конфекционе готового платья Ландесмана, сидели мешковато, очень неудобно.
Грубый воротник натирал нежную шею, привыкшую к свободному вырезу матроски.
Даже пояс, настоящий гимназический пояс с мельхиоровой бляхой, о котором больше всего после фуражки мечтал Петя, не оправдал ожиданий. Он всё время лез под мышки, бляха съезжала набок, языком висел свободный конец ремня.
Не придавая фигуре ничего мужественного — на что сильно рассчитывал мальчик, — пояс оказался лишь постоянным источником унизительных хлопот, вызывавших неуместные насмешки взрослых.
Но зато сколько неожиданной радости принесла Пете покупка тетрадей, учебников, письменных принадлежностей!
Как не похож оказался серьёзный, тихий книжный магазин на другие, уже известные мальчику легкомысленные, вздорные магазины Ришельевской улицы или Пассажа! Пожалуй, он даже был серьёзней аптеки, во всяком случае — много интеллигентней.
Уже одна его узкая, скромная вывеска ОБРАЗОВАНИЕ внушала чувство глубочайшего уважения.
Был тёмный осенний вечер, когда Петя отправился с папой в «Образование».
Это было сонное царство книжных корешков, зеленовато, как-то по-университетски освещённых газовыми рожками и увенчанных раскрашенными головами представителей четырёх человеческих рас: красной, жёлтой, чёрной и белой.
Первые три головы в точности соответствовали названию своей расы. Индеец был действительно совершенно красный. Китаец — жёлтый, как лимон. Негр — чернее смолы. И лишь для представителя белой, господствующей расы сделали послабление: он был не белый, но нежно-розовый, с гофрированной русой бородкой. Петя, как очарованный, рассматривал голубые глобусы с медными меридианами, чёрные карты звёздного неба, страшные и вместе с тем поразительно яркие анатомические таблицы.
Вся мудрость Вселенной, сосредоточенная в этом магазине, казалось, проникала в поры покупателя. По крайней мере, Петя, возвращаясь на конке домой, уже чувствовал себя необыкновенно образованным. А между тем в магазине пробыли не более десяти минут и купили всего пять книжек, из которых самая толстая стоила сорок две копейки.
Потом был куплен настоящий ранец из телячьей кожи шерстью наружу и маленькая корзиночка для завтраков.
Затем выбрали прекраснейший пенал с переводной картинкой на выдвижной лакированной крышке. Тугая крышка скрипела, как деревянная писанка. Все отделения пенала Петя с большим вкусом и старанием наполнил предназначенными для них предметами, особенно заботясь, чтоб ни одно не пустовало. Были положены разных сортов пёрышки: синие с тремя дырочками, «коссодо», «рондо», «номер восемьдесят шесть», «Пушкин» — с курчавой головой знаменитого писателя — и множество других.
Затем — резинка со слоном, липка, растушёвка, два карандаша: один для писания, другой для рисования, перламутровый перочинный ножичек, дорогая ручка за двадцать копеек, разноцветные облатки, кнопки, булавки, картинки.
И всё это совершенно новенькое, лаковое, упоительно пахучее — все эти маленькие, изящные орудия прилежания!
Весь вечер Петя усердно обёртывал учебники и тетради специальной синей бумагой, скрепляя её облатками. Он приклеивал к углу промокашек кружевные картинки. Лакированные букеты и ангелы крепко прижимали шёлковые ленточки.
Все тетради были аккуратно надписаны:
ТЕТРАДЬ ученика приготовительного класса О. 5. Г.
Петра Бачей
Петя едва дождался утра. На дворе было ещё почти темно, а дома горела утренняя лампа, когда мальчик побежал в гимназию, с ног до головы снаряжённый, как на войну.
Уж теперь-то ни одна наука не устоит против Пети! Три недели мальчик с неслыханным терпением — в гимназии и дома — занимался улучшением своего научного хозяйства. Он то и дело переклеивал картинки, заново обёртывал учебники, менял в пенале перья, добиваясь наибольшей красоты и совершенства.
И когда тётя, бывало, скажет:
— Ты бы лучше уроки учил...
Петя с отчаянием стонал:
— Ой, тётя, ну что вы говорите разные глупости! Как же я могу учить уроки, когда у меня ещё ничего не готово?
Словом, всё шло прекрасно.
Одно только омрачало радость ученья: Петю ещё ни разу не вызывали, и ни одной отметки ещё не стояло в его записной тетради. Почти у всех мальчиков в классе были отметки, а у Пети не было.
Каждую субботу он с грустью приносил свою пустую записную тетрадь, роскошно обёрнутую в розовую бумагу, оклеенную золотыми и серебряными звёздами, орденами, украшенную разноцветными закладками. Но вот однажды в субботу Петя, не раздеваясь, вбежал в столовую, сияющий, взволнованный, красный от счастья. Он размахивал нарядной записной тетрадью, крича на всю квартиру:
— Тётя! Павка! Дуня! Идите сюда скорее! Смотрите, мне поставили отметки! Ах, как жалко, что папа на уроках!
И, торжественно швырнув тетрадь на стол, мальчик с гордой скромностью отошёл в сторону, как бы не желая мешать созерцанию отметок.
— А ну-ка, ну-ка! — воскликнула тётя, вбегая с выкройкой в руках в столовую. — Покажи свои отметки.
Она взяла со стола тетрадь и быстро пробежала её глазами.
— Закон божий — два, русский — два, арифметика — два, внимание — три и прилежание — три, — с удивлением сказала тётя, укоризненно качая головой. — Не понимаю, чего же ты радуешься? Сплошные двойки!
Петя с досады даже топнул ногой.
— Вот так я и знал! — закричал он, чуть не плача от обиды. — Как вы, тётя, не понимаете? Важно, что отметки! Понимаете: от-мет-ки! А вы этого не хотите понять... Так всегда!..
И Петя, сердито схватив знаменитую тетрадь, помчался во двор показывать отметки мальчикам.
На этом закончился первый, праздничный период Петиного ученья. За ним наступили суровые будни, скучная пора зубрёжки.
Гаврик больше не появлялся, и Петя его почти забыл, всецело занятый гимназией.
До поры до времени забыл о Петином существовании и Гаврик. Теперь он жил на Ближних Мельницах, у Терентия.
Дедушку всё ещё не выпускали. Он сидел то в Александровском участке, то в охранке, куда его часто возили ночью на извозчике. Но, как видно, старик умел держать язык за зубами, так как Терентия до сих пор не трогали.
Куда девался матрос, Гаврик в точности не знал. Расспрашивать же Терентия он не считал нужным. Впрочем, по некоторым признакам можно было заключить, что матрос в безопасности и находится где-то поблизости.
Мало ли было на Ближних Мельницах трущоб и закоулков, где человек мог сгинуть, пропасть, исчезнуть? И мало ли было таких сгинувших до поры до времени людей в районе Ближних Мельниц?
Не в правилах Гаврика было совать нос в чужие дела. У него и своих дел оказалось достаточно.
Терентию с семьёй приходилось туго. Железная дорога бастовала почти всё время. Терентий пробавлялся мелкой слесарной работой, которую брал на дом. Но, во-первых, работы было мало, а во-вторых, много времени отнимали те неотложные дела, о которых в семье принято было говорить только намёками.
Терентий как бы вовсе не принадлежал себе. Случалось, за ним являлись ночью, и он, не говоря ни слова, одевался и уходил, иногда на целые сутки.
Постоянно в доме сидели какие-то приезжие, которым надо было готовить кулеш, кипятить в чайнике воду. В сенях не выводилась осенняя грязь, в комнате столбом стоял махорочный дым.
У мальчика не хватало совести сесть на шею семейному брату, приходилось кормиться самому. Не маленький! Надо было тоже носить передачи дедушке в участок. Конечно, без дедушки о рыбной ловле нечего было и думать. Да и погода пошла плохая — через день шторм.
Гаврик сходил на берег, перетащил лодку к соседям и запер хибарку на замок.
Теперь он целыми днями бродил по городу в старых чоботах Терентия, ища себе пропитания. Конечно, выгоднее всего было просить милостыню. Но Гаврик скорее согласился бы сдохнуть, чем протянуть руку прохожему. Вся его рыбацкая кровь закипала при одной мысли об этом.
Нет! Он привык добывать хлеб трудом. Он носил кухаркам корзинки с привоза до самого дома за две копейки. Он помогал грузчикам на станции Одесса-Товарная. Для извозчиков, которые, под угрозой штрафа, не имели права отлучаться от лошади, он бегал в монопольку за шкаликом водки.
Если же работы всё-таки не находилось, а есть хоте лось, он отправлялся в кладбищенскую церковь и дожи дался покойника, чтобы получить в шапку горсть колева, этого погребального блюда, состоящего из варёного риса, засыпанного сахарной пудрой и выложенного лиловыми мармеладками.
Раздавать на похоронах колево — такой был одесский обычай. Этим обычно широко пользовались кладбищенские нищие. Некоторые из них нагуливали себе довольно толстые морды. Но так как колево ели не только нищие, но и все присутствующие на похоронах, то Гаврик не считал для себя унизительным пользоваться столь удобным обычаем. Тем более, что попадавшиеся мармеладки можно было снести детям Терентия в виде гостинца, без которого Гаврик считал неудобным являться ночевать.
Иногда Терентий посылал его отнести какой-нибудь свёрток по адресу, который непременно надо было выучить наизусть и ни в коем случае не записывать на бумажку. Гаврику очень нравились эту поручения, несомненно, имевшие какую-то связь с теми делами, которыми постоянно был занят Терентий.
Свёрток — чаще всего это были бумаги — Гаврик засовывал глубоко в карман и сверху приглаживал, чтобы не торчало. Он знал: «в случае чего» надо говорить, что свёрток нашёл. Отыскав человека, надо обязательно сначала сказать: «Здравствуйте, дядя, вам кланяется Софья Ивановна». Человек ответит: «Как здоровье Софьи Ивановны?» И только тогда можно отдать свёрток, но не раньше! Очень часто человек, получая свёрток, давал целый гривенник «на конку».
Ух, как жутко и весело было идти по такому поручению!
Наконец, Гаврик добывал деньги игрой в ушки. Эта игра только что вошла в моду. Ею увлекались не только дети, но и взрослые. Ушками назывались форменные пуговицы различных ведомств, со вбитыми внутрь петельками.
В общих чертах игра состояла в том, что игроки ставили чашечки ушек в кон, а затем по очереди били по ним специальной ушкой-битой, стараясь их перевернуть орлом вверх. Каждая перевёрнутая таким образом ушка считалась выигранной.
Игра в ушки не была труднее или интереснее других уличных игр, но в ней заключалась особая, дьявольская прелесть: ушки стоили денег. Их всегда можно было купить и продать. Они котировались по особому курсу на уличной бирже.
Гаврик блестяще играл в ушки. У него был твёрдый, сильный удар и очень меткий глаз. В короткое время он приобрёл славу чемпиона. Его мешочек всегда был наполнен превосходными, дорогими ушками. Когда его дела становились особенно скверными, он продавал часть своего запаса.
Но его мешочек никогда не пустовал. На другой же день Гаврик выигрывал ещё больше ушек, чем продал накануне.
Таким образом, то, что для других было развлечением, для мальчика стало чем-то вроде выгодной профессии. Ничего не поделаешь, приходилось выкручиваться!
31. ЯЩИК НА ЛАФЕТЕ
Надвигались события. Казалось, что они надвигаются страшно медленно. В действительности они приближались с чудовищной быстротой курьерского поезда.
Как хорошо было знакомо Гаврику, жителю Ближних Мельниц, это чувство ожидания летящего поезда!
Поезд ещё где-то очень далеко, его ещё не видно и не слышно, но длинное дилиньканье повестки на станции Одесса-Товарная уже даёт знать о его приближении. Путь свободен. Семафор открыт. Рельсы блестящи и неподвижны. Вокруг полная тишина. Но все уже знают, что поезд идёт и никакая сила не может его остановить.
Медленно опускается на переезде шлагбаум. Мальчики торопятся взобраться на станционный забор. Стаи птиц в тревоге снимаются с деревьев и кружат над водокачкой. Они с высоты уже, наверно, видят поезд.
Издалека доносится еле слышный рожок стрелочника. И вот, совершенно незаметно, к тишине примешивается слабый шум. Даже нет.
Это ещё не шум. Это как бы предчувствие шума, тончайшая дрожь рельсов, наполняющихся неощутимым звуком. Но, тем не менее, это — дрожь, это — звук, это — шум.
Теперь он уже ясно слышен: медленные выдохи пара, каждый следующий явственнее предыдущего.
И всё-таки ещё не верится, что через минуту пролетит курьерский. Но вот вдруг впереди неожиданно обнаруживается паровоз, охваченный облаком пара. Кажется, что он стоит неподвижно в конце аллеи зелёных насаждений.
Да, несомненно, он остановился. Но тогда почему же он так чудовищно увеличивается с каждым мигом? Однако уже нет времени ответить на этот вопрос.
Отбрасывая в стороны шары пара, проносится курьерский, обдавая головокружительным вихрем колёс, окон, площадок, бандажей, тамбуров, буферов...
Бродя целыми днями по городу, Гаврик не мог не чувствовать приближения событий. Они ещё были где-то в пути — может быть, на полдороге между Одессой и Санкт-Петербургом, — но к тишине ожидания уже примешивался не столько слышимый, сколько угадываемый шум неотвратимого движения.
По улицам, качаясь на новеньких костылях, ходили обросшие бородой раненые в чёрных косматых маньчжурских папахах и в накинутых на плечи шинелях с георгиевскими крестами.
Приезжавшие из Центральной России мастеровые приносили слухи о всеобщей стачке. В толпах возле участков говорили о насилии. В толпах возле университета и высших женских курсов говорили о свободе. В толпах возле завода Гена говорили о вооружённом восстании.
Однажды в конце сентября в порт пришёл большой белый пароход с телом генерала Кондратенко, убитого в Порт-Артуре.
Почти год странствовал громадный, шестидесятипудовый ящик со свинцовым гробом по чужим землям и морям, пока наконец не добрался до родины.
Здесь, в порту, его поставили на лафет и повезли по широким аллеям одесских улиц на вокзал.
Гаврик видел мрачную, торжественную процессию, освещённую бедным сентябрьским солнцем: погребальные ризы священников, кавалерию, городовых в белых перчатках, креповые банты на газовых уличных фонарях.
Мортусы в чёрных треуголках, обшитых серебряным галуном, несли на палках стеклянные фонари с бледными языками свечей, еле видными при дневном свете.
Беспрерывно, но страшно медленно играли оркестры военной музыки, смешиваясь с хором архиерейских певчих.
Нестерпимо высокие, почти воющие, но вместе с тем удручающе стройные детские голоса возносились вверх, дрожа под сводами вялых акаций. Слабое солнце сквозило в сиреневом дыму ладана. И медленно-медленно двигался к вокзалу посредине оцепленной войсками Пушкинской улицы лафет с высоко поставленным громадным чёрным ящиком, заваленным венками и лентами. Когда процессия поравнялась с вокзальным сквером, на чугунной решётке появился студент. Он взмахнул над заросшей головой студенческой фуражкой с выгоревшим добела голубым околышем и закричал:
— Товарищи!
В этой громадной толпе безмолвного народа его голос показался совсем слабым, еле слышным. Но слово, которое он выкрикнул, — «товарищи» — было так невероятно, непривычно, вызывающе, что его услышали все, и все головы, сколько их было, повернулись к маленькой фигурке, повисшей на массивной ограде сквера.
— Товарищи! Помните о Порт-Артуре, помните о Цусиме! Помните о кровавых днях Девятого января! Царь и его опричники довели Россию до неслыханного позора, до неслыханного разорения и нищеты! Но великий русский народ живёт и будет жить! Долой самодержавие!
Городовые уже стаскивали студента. Но он, цепляясь ногами за ограду и размахивая фуражкой, кричал быстро, исступлённо, во что бы то ни стало желая окончить речь:
— Долой самодержавие! Да здравствует свобода! Да здравствует ре...
Гаврик видел, как его стащили и, держа за руки, повели.
Погребальный звон плыл над городом. Пощёлкивали подковы конницы. Гроб с телом генерала Кондратенко поставили в траурный вагон санкт-петербургского поезда. В последний раз грянули оркестры.
— На-а-а! кра-а-а! ул!
Поезд тронулся.
Траурный вагон медленно проплыл за светлой оградой вытянутых в струнку штыков, унося чёрный ящик с крестом на верхней крышке, мимо Одессы-Товарной, мимо предместий, усыпанных толпами неподвижных людей, мимо молчаливых станций и полустанков — через всю Россию на север, в Петербург. Призрак проигранной войны двигался по России вместе с этим печальным поездом.
Пете в эти несколько дней казалось, что в их доме — покойник. Ходили тихо. Говорили мало. У тёти на туалете лежал скомканный носовой платок. Сразу после обеда отец молча накрывал лампу зелёным абажуром и до поздней ночи исправлял тетрадки, то и дело роняя пенсне и протирая его подкладкой сюртука.
Петя притих. Он рисовал в специальной «рисовальной тетради» вместо заданных шаров и конусов бой под Тюренченом и остроносый крейсер «Ретвизан», окружённый фонтанами взрывающихся японских мин. Только неутомимый Павлик то и дело запрягал Кудлатку в перевёрнутый стул и, неистово дуя в крашеную жестяную трубу, возил по коридору «похороны Кондратенко».
Однажды, ложась спать, Петя услышал из столовой голоса папы и тёти.
— Невозможно, невозможно жить, — говорила тётя в нос, как будто у неё был насморк.
А мальчик прекрасно знал, что она здорова.
Петя стал слушать.
— Буквально нечем дышать, — продолжала тётя со слезами в голосе. — Неужели вы этого не чувствуете, Василий Петрович? Мне бы на их месте совестно было людям в глаза смотреть, а они — боже мой! — как будто бы это так и надо. Иду по Французскому бульвару и глазам своим не верю. Великолепнейший выезд, рысаки в серых яблоках, ландо, на козлах кучер-солдат в белых перчатках, шум, гром, блеск... Две дамы в белых косынках с красными крестами, в бархатных собольих ротондах, на пальцах вот такие брильянты, лорнеты, брови намазаны, глаза блестят от белладонны, и напротив два шикарных адъютанта с зеркальными саблями, с папиросами в белых зубах. Хохот, веселье... И, как бы вы думали, кто? Мадам Каульбарс с дочерью и поклонниками катит в Аркадию, в то время когда Россия буквально истекает кровью и слезами! Ну, что вы скажете? Нет, вы только подумайте — вот такие брильянты! А, позвольте спросить, откуда? Наворовали, награбили, набили карманы... Ох, до чего же я ненавижу всю эту — простите меня за резкость — сволочь! Три четверти страны голодает... Вымирают целые уезды... Я больше не могу, не в состоянии, поймите же это!
Петя услышал горячие всхлипывания.
— Ради бога, Татьяна Ивановна... Но что же делать? Что делать?
— Ах, почём я знаю, что делать! Протестовать, требовать, кричать, идти на улицу...
— Умоляю вас... Я понимаю... Но скажите, что мы можем?
— Что мы можем? — вдруг воскликнула тётя высоким и чистым голосом. — Мы всё можем, всё! Если только захотим и не побоимся. Мы можем мерзавцу сказать в глаза, что он мерзавец, вору — что он вор, трусу — что он трус... А мы вместо этого сидим дома и молчим! Боже мой, боже мой, страшно подумать, до чего дошла несчастная Россия! Бездарные генералы, бездарные министры, бездарный царь...
— Ради бога, Татьяна Ивановна, услышат дети!
— И прекрасно, если услышат. Пусть знают, в какой стране они живут. Потом нам же скажут спасибо. Пусть знают, что у них царь — дурак и пьяница, кроме того ещё и битый бамбуковой палкой по голове. Выродок! А лучшие люди страны, самые честные, самые образованные, самые умные, гниют по тюрьмам, по каторгам...
Отец осторожно прошёл в детскую — посмотрел, спят ли мальчики. Петя закрыл глаза и стал дышать глубоко и ровно, делая вид, что спит. Отец наклонился к нему, поцеловал дрожащими губами в щёку и вышел на цыпочках, плотно притворив за собой дверь.
Но долго ещё из столовой доносились голоса. Петя не спал. По потолку взад и вперёд двигались полосы ночного света. Щёлкали подковы. Тихонько дрожали стёкла. И мальчику казалось, что это мимо окон всё время ездит взад и вперёд сверкающее ландо мадам Каульбарс, наворовавшей в казне (казна имела вид кованого ящика на колёсах) множество денег и брильянтов.
32. ТУМАН
В этот вечер Пете открылось много такого, о чём он раньше не подозревал.
Раньше существовали понятия, до такой степени общеизвестные и непреложные, что о них никогда даже и не приходилось думать.
Например — Россия. Было всегда совершенно ясно и непреложно, что Россия — самая лучшая, самая сильная и самая красивая страна в мире. Иначе как можно было бы объяснить, что они живут в России?
Затем папа. Папа — самый умный, самый добрый, самый мужественный и образованный человек на свете.
Затем царь. О царе нечего и говорить. Царь — это царь. Самый мудрый, самый могущественный, самый богатый. Иначе чем можно было бы объяснить, что Россия принадлежит именно ему, а не какому-нибудь другому царю или королю, например французскому?
Ну и, конечно, бог, о котором уже совсем нечего говорить, — всё понятно.
И вдруг что же оказалось? Оказалось, что Россия — несчастная, что, кроме папы, есть ещё какие-то самые лучшие люди, которые гниют на каторгах, что царь — дурак и пьяница, да ещё и битый бамбуковой палкой по голове. Кроме того, министры — бездарные, генералы — бездарные, и, оказывается, не Россия побила Японию, в чём не было до сих пор ни малейших сомнений, а как раз Япония — Россию.
И самое главное — что об этом говорили папа и тётя. Впрочем, кое о чём уже догадывался и сам Петя.
В участке сидели приличные, трезвые люди, даже такой замечательный старик, как дедушка Гаврика, которого, кроме того, ещё и били. Матрос прыгнул с парохода. Солдаты остановили дилижанс. В порту стояли часовые. Горела эстакада. С броненосца стреляли по городу.
Нет, было совершенно ясно, что жизнь — вовсе не такая весёлая, приятная, беззаботная вещь, какой казалась ещё совсем-совсем недавно.
Пете ужасно хотелось спросить тётю, как это и кто бил царя по голове палкой. Главное, почему именно бамбуковой? Но мальчик понимал уже, что существуют вещи, о которых лучше ничего не говорить, а молчать, делая вид, будто ничего не знаешь. Тем более что тётя продолжала быть той же приветливой, насмешливой, деловитой тётей, какой была и раньше, ничем не показывала своих чувств, так откровенно выраженных лишь один раз вечером.
Уже шёл октябрь. Акации почти осыпались. В море ревели штормы. Вставали и одевались при свете лампы. По неделям над городом стоял туман. Люди и деревья были нарисованы на нём, как на матовом стекле.
Лампы, потушенные в девять часов утра, зажигались снова в пять вечера. Моросил дождь. Иногда он переставал. Ветер уносил туман. Тогда рябиновая заря долго горела на чистом, как лёд, небе, за вокзалом, за привозом, за костылями заборов, за голыми прутьями деревьев, густо закиданных вороньими гнёздами, большими и чёрными, как маньчжурские папахи.
Руки сильно зябли без перчаток. Земля становилась тугой. Страшная пустота и прозрачность стояли над чердаками. В эти недолгие часы тишина стояла от неба до земли. Город был отрезан от Куликова поля её прозрачной стеной. Он бесконечно отдалялся со всеми своими тревожными слухами, тайнами, ожиданиями событий. Он виднелся чётко, почти резко и вместе с тем страшно далеко, как в обратную сторону бинокля.
Но портилась погода, небо темнело, с моря надвигался непроницаемый туман. В двух шагах ничего не было видно. Наступал страшный слепой вечер, потом — ночь.
С моря дул прохватывающий ветер. Из порта доносился тёмный, вселяющий ужас голос сирены. Он начинался с низких, басовых нот и вдруг с головокружительной быстротой взвивался хроматической гаммой до пронзительного, но мягкого воя нечеловеческой высоты и мрачности. Как будто вырывался с леденящим воем смертоносный снаряд и уносился во мрак непогоды.
В такие вечера Пете было даже страшно подойти к окну и, приоткрыв ставни, посмотреть на улицу.
На всём громадном и диком пространстве Куликова поля не было видно ни зги. Туманная тьма плотно соединяла его с городом. Тайны делались общими. Казалось, они незаметно распространяются от фонаря к фонарю, задушенному туманом.
Скользили тени редких прохожих. Иногда в темноте слышался длинный и слабый полицейский свисток. У штаба стоял усиленный караул. Раздавались грубые шаги проходящего патруля.
За каждым углом мог кто-то прятаться, каждую минуту могло что-то случиться — непредвиденное и ужасное. И действительно, однажды случилось.
Часов около десяти вечера в столовую вбежала, не снимая платка, Дуня, ходившая в лавочку за керосином, и сказала, что пять минут назад на пустыре, под стеной штаба, застрелился часовой. Она передала страшные подробности: солдат снял сапог, вложил дуло винтовки в рот и большим пальцем босой ноги спустил курок. Ему разнесло затылок. Дуня стояла мертвенно-бледная, с пепельными губами, всё время развязывая и завязывая узел тёплого платка с бахромой.
— Главное дело, говорят, даже записки никакой не оставил, — вымолвила она наконец. — Наверно, неграмотный.
Тётя изо всех сил сжала косточками кулаков виски.
— Ах, да какая там записка!.. — воскликнула она со слезами досады и положила голову на скатерть возле блюдца чая, где во всех подробностях, но крошечная, отражалась, покачиваясь, столовая лампа в белом абажуре. — Какая там записка! И так всё ясно...
Из окна кухни, выходившего на пустырь, Петя видел блуждающие фонари кареты «скорой помощи», тени людей.
Дрожа от страха и холода, мальчик сидел на ледяном подоконнике пустой кухни, припав к облитому дождём стеклу, не в силах отвести глаза от темноты, в которой ещё чудилось присутствие смерти.
Петя долго не засыпал в эту ночь, всё время с ужасом представляя себе труп босого солдата, в полной караульной форме, с размозжённым затылком и синим, загадочно неподвижным лицом.
Всё же на следующее утро, несмотря на весь свой ужас, он не смог преодолеть искушения взглянуть на страшное место. Необъяснимая сила тянула его на пустырь. По дороге в гимназию он завернул туда и осторожно, на цыпочках, как в церкви, приблизился по мокрой от дождя и тумана гнилой траве к тому месту, где уже стояло несколько любопытных.
Возле штабной стены мальчик увидел выдавленную в сырой земле круглую ямку величиной с человеческую голову. Она была полна дождевой воды, бледно-розовой от примеси размытой крови. На этом месте мёртвый солдат, вероятно, и стукнулся затылком.
Это было всё, что осталось от ночного происшествия.
Петя поднял воротник гимназической шинели и, дрожа от сырости, некоторое время стоял возле ямки. И тут под ногами мальчик заметил какой-то небольшой кружок. Он поднял его и задрожал от радости. Это был пятак, чёрный и пятнистый, с бирюзовым лишаём вместо орла.
Разумеется, находка была случайная и к происшествию никакого отношения не имела. Вернее всего, пятак пролежал здесь с лета, когда его потеряли игравшие в орлянку мастеровые или обронила ночевавшая под кустом нищенка. Однако монета сразу приобрела в глазах мальчика значение как бы заколдованной, не говоря уже о том, что, помимо всего, это было целое богатство: пять копеек!
Отец никогда не давал Пете на руки денег. Он считал, что деньги легко могут развратить мальчика. Найдя пятак, Петя был вне себя от восторга.
Весь этот день, волшебно озарённый находкой, превратился для мальчика в сплошной праздник.
В классе пятак переходил из рук в руки. Среди товарищей нашлись люди, опытные в такого рода делах. Они божились, крестясь на купола Пантелеймоновского подворья, что наверняка это не что иное, как неразменный пятак, младший брат сказочного неразменного рубля. Он должен принести Пете неслыханные богатства.
Один мальчик — Жорка Колесничук — даже предлагал Пете в обмен на этот талисман завтрак вместе с корзиночкой и в придачу перочинный ножичек. Разумеется, Петя с грубым смехом отказался.
Но Жорка Колесничук не отставал.
Маленький, носатый — за что в первый же день пребывания в гимназии заработал прозвище «дубастый» — он ходил за Петей по коридору, в курточке до колен и в чересчур длинных брюках «на вырост», которые то и дело подворачивались под каблуки, мешая ходить, и канючил:
— Ну, дава-а-ай...
— Отчепись!
— Корзиночку и но-о-жик...
— Не треба.
— Петька, не будь вредный!
— Уйди, дубастый.
— Что тебе сто-о-ит... — ныл Жорка Колесничук.
— Сказано: нет! — неумолимо отвечал Петя.
Только круглый дурак согласился бы на такую мену.
Петя, задыхаясь, бежал из гимназии домой.
— Жада-помада! — кричал издали Жорка Колесничук, путаясь в штанах, угрожая: — Будешь помнить!.. Придёт коза до воза и скажет мэ-э-э!..
Но Петя даже ни разу не обернулся: ему хотелось как можно скорее показать находку дома и во дворе.
Какова же была его радость, когда он увидел во дворе Гаврика!
Гаврик стоял на коленях, окружённый детьми, присевшими на корточки. Он обучал их модной игре в ушки.
Петя ещё даже не успел хорошенько поздороваться с приятелем, с которым не виделся столько времени, как уже был охвачен азартом. Они сыграли на пробу одну партию ушками Гаврика. Но это ещё больше раззадорило Петю.
— Гаврик, дай на разживу десяток, — сказал Петя, протягивая руку, дрожащую от нетерпения. — Я, как только наиграю, так и отдам, святой истинный крест!
— Не лапай, не купишь, — сумрачно ответил Гаврик, высыпал ушки в байковый серый мешочек и аккуратно завязал его шпагатиком. — Ушки тебе не картонки. Они деньги стоят. Могу продать, если хочешь.
Петя ничуть не обиделся на Гаврика и не надулся. Он прекрасно понимал, что дружба дружбой, а каждая игра имеет свои нерушимые правила. Раз ушки стоят денег — значит, за них надо платить деньги, и никакая дружба тут не поможет. Таков железный закон улицы.
Но как же быть?
Играть хотелось мучительно. Буря пронеслась в душе мальчика. Он колебался не дольше минуты, полез в карман и протянул Гаврику знаменитый пятак.
Гаврик внимательно со всех сторон осмотрел подозрительную монету и покачал головой:
— Его никто не возьмёт.
— А вот возьмёт!
— А вот не возьмёт!
— Дурак!
— От такового слышу... Пойди в лавочку разменяй.
— Поди ты разменяй.
— Чего я буду ходить! Твой пятак!
— Твои ушки.
— Не хочешь — не надо.
— Не надо.
Гаврик спокойно опустил мешочек в карман и равнодушно плюнул сквозь зубы далеко в сторону. Тогда Петя бросился в лавочку и попросил разменять свой пятак. Пока «Борис — семейство крыс» подносил к больным глазам подозрительную монету, мальчик пережил множество самых унизительных чувств, среди которых преобладало трусливое нетерпение вора, сбывающего краденое.
Петя, пожалуй, не удивился бы, если бы в эту минуту в лавочку спустились городовые с шашками и отвезли его на извозчике в участок за соучастие в некоем тайном и постыдном преступлении.
Наконец «Борис — семейство крыс» скинул пятак в ящик и равнодушно выбросил на чашку весов пять копеек мелочью. Петя поспешил во двор, где Гаврик уже продавал ушки другим мальчикам. Петя купил у него на все деньги несколько штук разного достоинства.
Они начали играть. Петя забыл всё на свете.
На дворе уже стало совсем темно, когда у Пети не осталось больше ни одной ушки. Это было тем более ужасно, что сначала ему страшно везло и выигранные ушки уже не помещались в кармане.
А теперь, увы, ни денег, ни ушек.
Петя чуть не плакал. Он был в полном отчаяний. Гаврик сжалился над приятелем. Он дал в долг на отыгрыш две ушки-одинарки. Но Петя был слишком азартен и нетерпелив — он в пять минут проигрался снова. С Гавриком трудно было бороться.
Гаврик небрежно ссыпал весь свой баснословный выигрыш в мешочек и отправился домой, сказав, что завтра зайдёт опять.
33. УШКИ
О, как много их было!..
Дутые студенческие десятки с накладными орлами. Золотые офицерские пятки с орлами чеканными. Коричневые — коммерческого училища, с жезлом Меркурия, перевитым змеями, и с плутовской крылатой шапочкой. Светлые мореходные со скрещёнными якорями. Почтово-телеграфные с позеленевшими молниями и рожками. Артиллерийские с пушками. Судейские со столбиками законов. Медные ливрейные величиной с полтинник, украшенные геральдическими львами. Толстые тройки чиновничьих вицмундиров. Тончайшие писарские «лимонки» с острыми, режущими краями, издающие при игре комариный звон. Толстые одинарки гимназических шинелей с серебряными чашечками, докрасна вытертыми посредине.
Сказочные сокровища, вся геральдика Российской империи, на один счастливый миг были сосредоточены в Петиных руках.
Ладони мальчика ещё продолжали ощущать многообразные формы ушек и их солидный свинцовый вес. Между тем он был уже совершенно разорён, опустошён, пущен по ветру. Вот тебе и волшебный неразменный пятак!
Мальчик думал об ушках, и только об ушках. Они стояли всё время перед его глазами видением приснившегося богатства. Он рассеянно смотрел за обедом в тарелку супа, в масляных капсюлях которого отражались, по крайней мере, триста крошечных абажуров столовой лампы, он видел триста сверкающих ушек с золотыми орлами.
Он с отвращением рассматривал пуговицы отцовского сюртука, обшитые сукном и не представляющие ни малейшей ценности.
Вообще он только сегодня заметил, что, в сущности, живёт в нищей семье, где во всём доме нет ни одной приличной пуговицы.
Тётя сразу обратила внимание на странное состояние мальчика.
— Что с тобой сегодня такое? — спросила она, проницательно вглядываясь в необычно возбуждённое лицо Пети. — Может быть, тебя мальчики на дворе побили?
Петя сердито мотнул головой.
— Или, может быть, опять двоек нахватался? Так ты лучше прямо скажи, чем сидеть и мучиться.
— Да нет же! Ну что вы ко мне все пристали, я не понимаю!
— А ты, часом, не болен?
— Ой, боже мой!..
Петя даже захныкал от этих расспросов.
— Ну, как знаешь. Не хочешь говорить — не надо. Страдай!
И Петя действительно страдал, ломая голову, где бы раздобыть денег, необходимых на завтрашнюю игру. Он даже неважно спал, терзаемый желанием поскорее отыграться. Утром он решился на тонкую хитрость. Он долго и нежно тёрся возле отца, просовывая голову под его локоть, целовал красную пористую шею, пахнущую свежестью умывания. Отец гладил колючую головку маленького гимназиста и прижимал её к сюртуку с отвратительными пуговицами.
— Ну что, Петюша, ну что, маленький?
Мальчик только и дожидался этого вопроса, этого нежного дрожания в отцовском голосе, показывающего, что отец теперь ни в чём не откажет, чего ни попроси.
— Папа! — сказал мальчик, выкручиваясь возле отца и с деланной застенчивостью поправляя пояс. — Папа, дай мне пять копеек.
— Для чего? — спросил отец, никогда, даже в самые нежные минуты, не отказывавшийся от строгих принципов воспитания.
— Мне очень нужно.
— Нет, ты скажи, для чего.
— Нет, ты дай.
— Нет, ты скажи. Я должен знать, на что ты собираешься истратить эту сумму. На дельную, полезную вещь я тебе дам денег с удовольствием, а на вредную не дам. Так вот, ты мне и скажи: на что тебе нужны деньги?
Как мог Петя сказать отцу, что ему необходимы деньги для азартной игры? Разумеется, это было совершенно невозможно.
Тогда Петя сделал простодушное лицо благонравного мальчика, которому хочется немножко полакомиться.
— Я себе куплю шоколадку, — тихим голосом сказал он.
— Шоколадку? Прекрасно! Против этого трудно что-нибудь возразить.
Петя так и просиял.
Но тут отец молча подошёл к письменному столу, отомкнул его и подал совершенно ошеломлённому мальчику плитку шоколада с передвижной картинкой на обёртке, запечатанной, как конвертик, пятью сургучными кляксами.
Со слезами на глазах Петя взял шоколадку, пробормотав:
— Спасибо, папочка.
С разбитым сердцем он отправился в гимназию.
Но всё же это было лучше, чем ничего. Шоколадку можно было попытаться обменять на ушки. Однако в этот день Пете не пришлось играть.
Едва мальчик, миновав Куликово поле, вышел на Новорыбную, где находилась гимназия, как он сразу заметил, что в городе происходит какое-то важное, торжественное и чрезвычайно радостное событие.
Несмотря на ранний час, улицы были полны народа. Вид у всех был крайне возбуждённый и деловитый, хотя никто никуда не торопился. По большей части люди стояли кучками возле ворот и задерживались на углах, окружая киоски. Всюду разворачивались газеты, сразу становившиеся под мелким дождиком ещё более серыми.
Над всеми воротами были выставлены национальные бело-сине-красные флаги. По ним Петя привык судить о богатстве домовладельца. Были флаги небольшие, полинявшие, на коротких палках, кое-как привязанных к воротам. Были совершенно новые, громадные, обшитые трёхцветным шнуром с пышными трёхцветными кистями до самого тротуара.
Ветер с трудом поворачивал грузные полотнища, ощутительно пахнущие краской сырого коленкора.
Гимназия оказалась закрытой. Навстречу бежали весёлые гимназисты. Гимназический дворник в белом фартуке поверх зимнего пальто с барашковым воротником протягивал вдоль фасада, между деревьями, тонкую проволоку. Значит, вечером будет иллюминация! Она обычно зажигалась в табельные дни.
Например, в день тезоименитства государя императора.
Эти три магических слова — иллюминация, табель и тезоименитство — были для мальчика как бы тремя гранями стеклянного подвеска. Такие подвески от церковных люстр весьма ценились среди одесских мальчиков. Стоило только поднести к глазам эту маленькую призму, как тотчас мир загорался патриотической радугой «царского дня».
Но разве сегодня царский день? Нет. О царском дне обычно известно заранее из календаря. Сегодня же на папином отрывном календаре цифра была чёрная, не предвещавшая ни иллюминации, ни табеля, ни тезоименитства.
Что же случилось? Неужели у царя опять, как и в прошлом году, родился наследник? Нет, нет! Не может быть, чтобы каждый год по мальчику! Наверное, что-то другое. Но, в таком случае, что?
— Послушайте, — спросил Петя у дворника, — что сегодня?
— Свобода, — ответил дворник, как показалось мальчику, несерьёзно.
— Нет, кроме шуток.
— Какие могут быть шутки? Говорю — свобода.
— Как это — свобода?
— А так само, что вы сегодня свободно можете идти домой, потому что уроков не будет. Отменяются.
Петя обиделся.
— Послушайте, дворник, я вас серьёзно спрашиваю, — строго сказал он, изо всех сил поддерживая достоинство гимназиста Одесской пятой гимназии.
— А я вам серьёзно говорю, что идите себе домой к родителям, которые вас ждут не дождутся, и не путайтесь у занятого человека под ногами.
Петя презрительно пожал плечами и независимо, как бы прогуливаясь, отошёл от дворника, усвоившего себе отвратительную привычку разговаривать с гимназистами тоном классного наставника.
Городовой, к которому Петя решил обратиться со своим вопросом как к представителю власти, посмотрел на черномазого мальчика сверху вниз и неторопливо разгладил рыжие усы с подусниками.
Вдруг он неожиданно скорчил совершенно еврейское лицо и, ломая язык, сказал:
— Швобода!
Вконец обиженный, мальчик побрёл домой. Людей на улице становилось всё больше и больше. Мелькали студенческие фуражки, каракулевые муфточки курсисток, широкополые шляпы вольнодумцев. Несколько раз Петя услышал не совсем понятное слово «свобода». Наконец на углу Канатной его внимание привлекла небольшая толпа возле бумажки, наклеенной на дощатый забор дровяного склада.
Петя пробрался вперёд и прочёл по-печатному следующее:
ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ
Божьей милостью Мы, Николай Второй, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий князь Финляндский, прочая, и прочая, и прочая.
Смуты и волнения в столицах и во многих местностях Империи Нашей великой и тяжёлою скорбью преисполняют сердце Наше. Благо Российского Государя неразрывно с благом народным, и печаль народная — его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое настроение народное и угроза целости и единству Державы Нашей.
Великий обет Царского служения повелевает Нам всеми силами разума и власти Нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для Государства смуты...
Петя не без труда дочитал до этих пор, спотыкаясь на трудных и туманных словах: «преисполняют», «ныне возникших», «повелевают», «скорейшему прекращению», и на множестве больших букв, торчавших из строчек вопреки всяким правилам правописания в совершенно неожиданных местах, как обгорелые пни на пожарище.
Мальчик ничего не понял, кроме того, что царю, наверное, приходится плохо и он просит по возможности ему помочь, кто чем может.
Признаться, мальчику в глубине души даже стало немножко жаль бедного царя, особенно когда Петя вспомнил, что царя стукнули по голове бамбуковой палкой.
Но почему же все вокруг радуются и развешивают флаги — это было непонятно. Может быть, что-нибудь весёлое написано ещё дальше? Однако у мальчика не хватило прилежания дочитать эту грустную царскую бумагу до конца.
Впрочем, мальчик заметил, что почти каждый подходивший к афишке первым долгом отыскивал в ней в середине место, которое почему-то всем особенно нравилось. Это место каждый непременно читал вслух и с торжеством оборачивался к остальным, восклицая:
— Эге! действительно — чёрным по белому: даровать неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний и союзов.
При этом некоторые, не стесняясь тем, что находятся на улице, кричали «ура» и целовались, как на пасху. Тут же мальчик оказался свидетелем сцены, потрясшей его до глубины души.
К толпе подкатили дрожки, из которых проворно выпрыгнул господин в совершенно новом, но уже продавленном котелке, быстро прочитал, приложив к носу кривое пенсне, знаменитое место, затем трижды поцеловал ошалевшего извозчика в медно-красную бороду, плюхнулся на дрожки и, заорав на всю улицу: «Полтинник на водку! Гони, скотина!», пропал из глаз так же быстро, как и появился.
Словом, это был во всех отношениях необыкновенный день. Тучи поредели. Перестал дождик. Просвечивало перламутровое солнце. Во дворе важно расхаживал в своей чёрной гимназической курточке с крючками вместо пуговиц и в фуражке без герба Нюся Коган, мечтая, как он теперь, ввиду наступившей свободы вероисповедания, поступит в гимназию и какой у него появится на фуражке красивый герб.
Петя долго играл с ним в классы, после каждого прыжка останавливаясь и продолжая рассказывать про гимназию страшные вещи.
Пугал:
— А потом он тебя ка-ак вызовет да ка-ак начнёт спрашивать, а ты ка-ак не будешь ничего знать, а тогда он тебе ка-ак скажет: «Можете идти на место, садитесь», да ка-ак припаяет тебе кол, вот тогда будешь знать!
На что рассудительный Нюся возражал, тихо сияя:
— Почему? А если я буду хорошо готовить уроки?
И пожимал плечами.
— Всё равно, — неумолимо резал Петя, прыгая на одной ноге и норовя носком выбить камешек из клетки «небо» (через ять). — Всё равно! Ка-ак влепит кол!
Потом Петя угостил Нюсю шоколадкой, а Нюся сбегал в лавочку и принёс «вот такую жменю кишмиша».
Потом Петю позвали завтракать. Петя пригласил к себе Нюсю. Отец был уже дома.
— А! — воскликнул он весело, увидев Нюсю. — Надо полагать, что теперь мы скоро будем иметь удовольствие видеть вас гимназистом, молодой человек! Поздравляю, поздравляю...
Нюся вежливо и солидно шаркнул ногой.
— Почему нет? — сказал он, с застенчивым достоинством опуская глаза, и густо покраснел от удовольствия.
Тётя сияла. Папа сиял. Павлик громыхал в коридоре, играя в «свободу», причём перевёрнутые и расставленные в ряд стулья он почему-то накрывал ковриком и ползал под ними, нещадно дуя в трубу, без которой, к общему ужасу, не обходилась ни одна игра.
Но сегодня мальчика никто не останавливал, и он возился в полное своё удовольствие.
Каждую минуту со двора прибегала Дуня, взволнованно сообщая свежие городские новости. То у вокзала видели толпу с красным флагом — «не пройдёшь!». То на Ришельевской качали солдатика: «Он, бедненький, так и подлетает, так и подпрыгивает!» То народ бежал со всех сторон к участку, где, говорят, выпускают арестованных. «Одна женщина бежит с девочкой на руках, а у самой аж слёзы из глаз капают и капают». То возле штаба поставили караул из юнкеров — никого посторонних до штабных солдат не пропускают, даже от окон отгоняют. А вольный один всё-таки успел подбежать к окну, стал на камень и как закричит: «Да здравствует свобода!» А те солдаты ему из своих окошек обратно: «Да здравствует свобода!»
Все эти новости принимались с радостью, с поспешными вопросами:
— А что полиция?
— А что он?
— А что она?
— А что они?
— А что на Греческой?
Иногда открывали балкон и, не обращая внимания на холод, выходили посмотреть, что делается на улице. В конце Куликова поля можно было рассмотреть тёмную массу народа и красный флаг.
Вечером пришли гости, чего уже давно не бывало: папины сослуживцы, тётины знакомые курсистки. Вешалка в передней покрылась чёрными пальто, мантильями, широкополыми шляпами, каракулевыми шапочками пирожком.
Петя видел, как резали на кухне чайную колбасу, прекрасную ветчину и батоны хлеба.
И, засыпая после этого утомительного, но весёлого дня, мальчик слышал доносившиеся из столовой густые раскаты чужих голосов, смех, звон ложечек.
Вместе с ярким лучом лампы из столовой в детскую проникал синеватый дым папиросы, вносивший в свежий и тёплый воздух нечто необыкновенно мужское и свободное, чего в доме не было, так как папа не курил.
За окном было гораздо светлее, чем обычно: к слабому свету уличных фонарей примешивались разноцветные, как бы желатиновые линейки иллюминации.
Петя знал, что теперь взамен флагов по всему городу между деревьями развешаны на проволоке шестигранные фонарики со стёклами, раскалёнными и закопчёнными горящей внутри свечкой.
Двойные нити однообразных огоньков тянутся в глубину прямых и длинных одесских улиц. Они манят всё дальше и дальше в таинственную даль неузнаваемого города, из улицы в улицу, как бы обещая где-то, может быть совсем-совсем близко, вот тут за углом, некое замечательнейшее многоцветное зрелище необычайной красоты и блеска.
Но за углом всё та же длинная улица, всё те же однообразные, хотя и разноцветные нити фонариков, так же уставших гореть, как и человек среди них — гулять.
Красные, зелёные, лиловые, жёлтые, синие полотнища света, поворачиваясь в тумане, падают на прохожих, скользят по фасадам, обманывают обещанием показать за углом что-то гораздо более прекрасное и новое.
И всё это утомительное разнообразие, всегда называвшееся «тезоименитство», «табель», «царский день», сегодня называется таким же разноцветным словом «конституция». Слово «конституция» то и дело раздавалось из столовой среди раскатов чужих басов и серебряного дилиньканья чайных ложечек.
Петя заснул под шум гостей, которые разошлись необыкновенно поздно — наверное, часу в двенадцатом.
34. В ПОДВАЛЕ
Едва на Ближних Мельницах распространился слух, что выпускают арестованных, Гаврик тотчас побежал к участку.
Терентий, не ночевавший последнюю неделю дома и неизвестно откуда появившийся рано утром, проводил Гаврика до угла, сумрачный, шатающийся от усталости.
— Ты, Гаврюха, конечно, старика встреть, только, не дай бог, не веди его сюда. А то с этой самой «свободой», будь она трижды проклята, возле участка, наверное, полно тех драконов. Подцепите за собой какого-нибудь Якова, а потом провалите нам квартиру, даром людей закопаете. Чуешь?
Гаврик кивнул головой:
— Чую.
За время жизни на Ближних Мельницах мальчик научился многое понимать и многое узнал. Для него уже не было тайной, что у Терентия на квартире собирается стачечный комитет.
Сколько раз приходилось Гаврику просиживать на скамеечке у калитки почти всю ночь, давая тихий свисток, когда возле дома появлялись чужие люди!
Несколько раз он даже видел матроса, приходившего откуда-то на рассвете и быстро исчезавшего. Но теперь матроса почти невозможно было узнать. Он завёл себе приличное драповое пальто, фуражку с молоточками, а главное — небольшие франтоватые усики и бородку, делавшие его до такой степени непохожим на себя, что мальчику не верилось, будто он именно тот самый человек, которого они вместе с дедушкой подобрали в море.
Однако стоило только всмотреться в эти карие смешливые глаза, в эту капризную улыбку, в якорь на руке, чтобы всякие сомнения тотчас рассеялись.
По неписаному, но твёрдому закону Ближних Мельниц — никогда ничему не удивляться, никогда никого не узнавать и держать язык за зубами — Гаврик, встречаясь с матросом, представлялся, что видит его в первый раз. Точно так же держался и матрос с Гавриком.
Только один раз Жуков, уходя, кивнул мальчику, как хорошо знакомому, мигнул и, хлопнув по плечу совершенно как взрослого, запел:
— Ты не плачь, Маруся, будешь ты моя!
И, нагнув голову, шагнул в сени, в темноту.
А между тем Гаврик догадывался, что из всех людей, приходивших к Терентию, из всех представителей завода Гена, мукомольной фабрики Вайнштейна, доков, фабрики Бродского и многих, многих других матрос был самый страшный, самый опасный гость.
Несомненно, он принадлежал к той славной и таинственной «боевой организации», о которой так много было разговоров в последнее время не только на Ближних Мельницах, но и по всему городу.
— ... Чую, — сказал Гаврик. — Только куда ж я нашего старика отведу по такому холоду, если не на Ближние Мельницы?
Терентий задумался.
— Слушай здесь, — сказал он наконец, — ты его перво-наперво отведи на море в хибарку. В случае, если за вами кто-нибудь и прилипнет, то пускай видит, куда вы пошли. Переждёте в своей халабуде до вечера, а как только смеркнет, тихонько идите прямо по такому адресу... я тебе сейчас скажу, а ты хорошенько запоминай: Малая Арнаутская, номер пятнадцать. Зайдёшь к дворнику и спросишь Иосифа Карловича. Ему скажешь, хорошенько запоминай:
«Здравствуйте, Иосиф Карлович, прислала Софья Петровна узнать, получили ли вы письмо из Николаева». Тогда он тебе ответит: «Уж два месяца нету писем». Чуешь?
— Чую.
— Повторить можешь?
— Могу.
— А ну скажи.
Гаврик собрал на лбу прилежные складки, сморщил носик и сосредоточенно выговорил, как на экзамене:
— Значится, Малая Арнаутская, пятнадцать, спросить у дворника Иосифа Карловича, сказать: «Здравствуйте, Иосиф Карлович, прислала до вас Софья Петровна узнать, чи вы получили письмо с Николаева». Тогда той мне должен сказать: «Уж два месяца нету писем»...
— Верно. Тогда ты ему можешь смело сказать, что прислал Терентий, и пускай он нашего старика возьмёт пока что к себе и кормит его, а там видно будет. Я тогда заскочу... Чуешь?
— Чую.
— Ну, так будь здоров.
Терентий повернул домой, а Гаврик побежал к участку. Он бежал во весь дух, продираясь сквозь толпу, становившуюся по мере приближения к вокзалу всё гуще и гуще.
Начиная с Сенной площади навстречу ему стали попадаться выпущенные из участка арестованные. Они шли или ехали на извозчиках, с корзинками и кошёлками, как с вокзала, размахивая шапками, в сопровождении родственников, знакомых, товарищей.
Толпы бегущих по мостовой людей провожали их, крича без перерыва:
— Да здравствует свобода! Да здравствует свобода!
Возле Александровского участка, окружённого усиленными нарядами конной и пешей полиции, стояла такая громадная и тесная толпа, что даже Гаврику не удалось пробраться сквозь неё. Тут легко можно разминуться со стариком.
При одной мысли, что в случае, если действительно разминутся, дедушка может привести за собой на Ближние Мельницы «Якова», мальчик вспотел.
С бьющимся сердцем он бросился в переулок, с тем чтобы как-нибудь обойти толпу, во что бы то ни стало пробраться к участку и перехватить дедушку. Неожиданно он увидел его в двух шагах от себя.
Но, боже мой, что стало с дедушкой! Гаврик даже не сразу его узнал. Навстречу мальчику, держась поближе к домам, покачиваясь на согнутых, как бы ватных ногах, тяжело шаркая рваными чоботами по щебню и останавливаясь через каждые три шага, шёл дряхлый старик с серебряной щетиной бороды, с голубенькими слезящимися глазами и провалившимся беззубым ртом. Если бы не кошёлка, болтавшаяся в дрожащей руке старика, Гаврик ни за что б не узнал дедушку. Но эта хорошо знакомая тростниковая плетёнка, обшитая грязной холстиной, сразу же бросилась в глаза и заставила сердце мальчика сжаться от ни с чем ни сравнимой боли.
— Дедушка! — испуганно закричал он. — Дедушка, это вы?
Старик даже не вздрогнул от этого неожиданного окрика. Он медленно остановился и медленно повернул к Гаврику лицо с равнодушно жующими губами, не выражая ни радости, ни волнения — ничего, кроме покорного, выжидающего спокойствия.
Можно было подумать, что он не видит внука, — до того неподвижны были его слезящиеся глаза, устремлённые куда-то мимо.
— Дедушка, куда вы идёте? — спросил Гаврик громко, как у глухого.
Старик долго жевал губами, прежде чем произнёс — тихо, но сознательно:
— На Ближние Мельницы.
— Туда нельзя, — шёпотом сказал Гаврик, осторожно оглядываясь. — Терентий сказал, чтоб на Ближние, ради бога, не приходили.
Старик тоже оглянулся по сторонам, но как-то слишком медленно, безразлично, машинально.
— Пойдёмте, дедушка, пока до дому, а там посмотрим.
Дедушка покорно затоптался, поворачиваясь в другую сторону, и, не говоря ни слова, зашаркал назад, с усилием переставляя ноги.
Гаврик подставил старику плечо, за которое тот крепко взялся. Они потихонечку пошли через возбуждённый город к морю, как слепой с поводырём: мальчик впереди, дедушка несколько сзади.
Очень часто старик останавливался и отдыхал. Они шли от участка до берега часа два. Этот путь Гаврик один пробегал обычно в пятнадцать минут.
Помятый и заржавленный замок валялся в коричневом бурьяне возле хибарки. Дверь косо висела на одной верхней петле, скрипя и покачиваясь от ветра. Осенние ливни смыли с почерневших досок последние следы бабушкиного мела. Вся крыша была сплошь утыкана репейником — видать, здесь хозяйничали птицеловы, устроившие в пустой хибарке засаду.
В каморке всё было перевёрнуто вверх дном. Лоскутное одеяльце и подушка — сырые, вымазанные глиной, — валялись в углу. Однако сундучок, нетронутый, стоял на своём месте. Старик не торопясь вошёл в свой дом и присел на край койки. Он поставил на колени кошёлку и безучастно смотрел в угол, не обращая ни малейшего внимания на разгром. Казалось, он зашёл сюда отдохнуть: вот посидит минуты две, переведёт дух и пойдёт себе помаленьку дальше.
В разбитое окно дул сильный, холодный ветер, насыщенный водяной пылью прибоя. Шторм кипел вдоль пустынного берега. Белые клочья чаек и пены летали по ветру над звучными скалами. Удары волн отдавались в пещерах берега.
— Что же вы сидите, дедушка? Вы ляжьте.
Дедушка послушно лёг. Гаврик дал ему подушку и прикрыл одеялом. Старик поджал ноги. Его знобило.
— Ничего, дедушка. Слушайте здесь. Как смеркнет, мы отсюдова пойдём в одно место. А пока лежите.
Дедушка молчал, всем своим видом выражая полное равнодушие и покорность. Вдруг он повернул к Гаврику отёкшие, как бы вывернутые наизнанку глаза, долго жевал проваленным ртом и наконец выговорил:
— Шаланду не унесёт?
Гаврик поспешил успокоить его, сказав, что шаланда в безопасном месте, у соседей. Старик одобрительно кивнул головой и смолк.
Через час он, кряхтя, перевернулся на другой бок и осторожно застонал.
— Дедушка, у вас болит?
— Отбили... — промолвил он и виновато улыбнулся, обнаружив розовые беззубые дёсны. — Чисто все печёнки отбили...
Гаврик отвернулся.
До самого вечера старик не произнёс больше ни слова. Как только стемнело, мальчик сказал:
— Пойдёмте, дедушка.
Старик поднялся, взял свою кошёлку, и они пошли мимо заколоченных дач, мимо закрытого тира и ресторана в город, на Малую Арнаутскую, пятнадцать.
Расспросив дворника, Гаврик без труда отыскал в тёмном полуподвале квартиру Иосифа Карловича и постучал в дверь, обитую рваным войлоком.
— Кто там? — послышался голос, показавшийся знакомым.
— Здесь квартира Иосифа Карловича?
— А что надо?
— Откройте, дядя. Я к вам от Софьи Петровны.
Дверь тотчас открылась, и, к своему величайшему изумлению, мальчик увидел на пороге, с керосиновой лампочкой в руке, хозяина тира. Он посмотрел невозмутимо, но несколько высокомерно на мальчика и, не двигаясь с места, сказал:
— Я Иосиф Карлович. Ну, а что же дальше?
— Здравствуйте, Иосиф Карлович, — произнёс мальчик тщательно, как хорошо выученный урок. — Прислала до вас Софья Петровна узнать, чи вы получили письмо с Николаева.
Удивлённо осмотрев мальчика с ног до головы, на что ушло по меньшей мере минуты две, хотя мальчик был весьма небольшой, хозяин тира произнёс ещё более высокомерно:
— Уж два месяца нету писем.
Он помолчал и, сокрушённо покачав головой, прибавил:
— Какая, знаете ли, неаккуратная дамочка! Ай-яй-яй!
И вдруг сделал любезнейшее лицо польского магната, принимающего у себя в имении папского нунция. Это ни в какой мере не соответствовало его босым ногам и отсутствию рубахи под пиджаком.
— Прошу покорно, молодой человек. Вы, кажется, иногда посещали моё заведение? Какой приятный случай! А этот старик, если не ошибаюсь, ваш дедушка? Заходите же в комнату.
Дедушка и внучек очутились в конуре, поразившей даже их своей нищетой. О, совсем, совсем не так представлял себе Гаврик жизнь этого могущественного, богатейшего человека, хозяина тира и — шутка ли! — обладателя четырёх монтекристо.
Мальчик с удивлением оглядывал пустые, зеленоватые от сырости стены. Он ожидал увидеть на них развешанные ружья и пистолеты. Но вместо этого увидел один-единственный гвоздь, на котором висели неслыханно запущенные подтяжки, более, впрочем, похожие на вожжи.
— Дядя, а где ж ваши ружья? — почти с ужасом воскликнул Гаврик.
Иосиф Карлович сделал вид, что не расслышал этого вопроса. Он широким жестом предложил сесть на стул и, отойдя в угол, глухо сказал:
— Вы имеете мне что-нибудь сообщить?
Гаврик от имени брата попросил временно приютить дедушку.
— Передайте вашему брату, что всё будет исполнено, пускай не сомневается, — быстро сказал Иосиф Карлович. — У меня есть в городе кое-какие связи. Я думаю, что мне удастся в конце концов устроить его ночным сторожем.
Гаврик оставил дедушку у Иосифа Карловича, обещал заходить и вышел. У дверей его нагнал хозяин.
— Передайте Терентию, — сказал он шёпотом, — что Софья Петровна просила передать: у неё имеется порядочный запас орехов, только, к сожалению, не очень крупных. Не грецких. Он поймёт. Не грецких. Пусть наладит транспорт. Вы меня поняли?
— Понял, — сказал Гаврик, уже привыкший к подобным поручениям. — Не грецких, и пущай сам за ними присылает.
— Верно.
Иосиф Карлович полез в подкладку своего ужасного пиджака, порылся и подал Гаврику гривенник:
— Прошу вас, возьмите это себе на конфеты. К сожалению, больше ничего не могу вам предложить. Я бы вам, клянусь честью, с удовольствием подарил монтекристо, но...
Иосиф Карлович горестно развёл руками, и по его истерзанному страстями лицу пробежала судорога.
— … но, к сожалению, благодаря моему несчастному характеру я больше не имею ни одной штуки.
Гаврик серьёзно и просто взял гривенник, поблагодарил и вышел на улицу, озарённую тревожным светом иллюминации.
35. ДОЛГ ЧЕСТИ
Утром Петя унёс из чулана две пары летних кожаных скороходов и по дороге в гимназию продал их старьёвщику за четыре копейки.
Когда днём явился Гаврик, мальчики тотчас расставили ушки. Петя проиграл всё только что купленное у Гаврика ещё скорее, чем в первый раз.
Да и понятно: у приятелей были слишком неравные силы. Почти все ушки Приморского района лежали в мешочках Гаврика. Он мог широко рисковать, в то время как Петя принуждён был дорожить каждой двойкой и делать нищенские ставки, а это, как известно, всегда приводит к быстрому проигрышу.
На другой день Петя, уже совершенно не владея собой, потихоньку взял шестнадцать копеек — сдачу, оставленную Дуней на буфете.
На этот раз он решил вести себя умнее и осторожнее. Прежде всего для удачной игры была необходима настоящая, хорошая битка.
Петина битка — большая и на вид необыкновенно красивая ливрейная пуговица с геральдическими львами и графской короной, — несмотря на всю свою красоту, никуда не годилась: она была слишком лёгкая. Её требовалось утяжелить. Петя отправился на вокзал, пробрался на запасные пути и в отдалённом тупике, за депо, сходя с ума от страха, срезал с товарного вагона свинцовую пломбу.
Дома он вколотил её молотком в чашечку битки, потом вышел на Куликово поле и положил битку под дачный поезд. Он поднял её с рельсов великолепно расплющенную, горячую, тяжёлую. Теперь она не уступала лучшим биткам Гаврика.
Вскоре пришёл Гаврик, и началась игра. Мальчики сражались долго и ожесточённо.
Однако оказалось, что иметь хорошую битку — этого ещё мало. Надо быть мастером! В конце концов Петя проиграл не только всё, что у него было, но ещё остался должен. Гаврик пообещал прийти завтра за долгом.
Для Пети наступило время, похожее на дурной сон.
— На буфете лежала сдача, шестнадцать копеек, — спокойно сказал отец вечером, после обеда. — Ты случайно не брал?
Кровь прилила к Петиному сердцу и тотчас отхлынула.
— Нет, — сказал он как можно равнодушнее.
— А посмотри-ка мне в глаза.
Отец взял мальчика за подбородок и повернул его лицо к себе.
— Честное благородное слово, — сказал Петя, изо всех сил стараясь смотреть отцу прямо в глаза. — Святой истинный крест!
Холодея от ужаса, мальчик перекрестился на икону. Он ожидал, что сию же секунду разверзнется потолок и в него ударит молния. Ведь должен же был бог немедленно покарать за такое наглое клятвопреступление!
Однако всё было тихо.
— Это очень странно, — хладнокровно заметил отец. — Значит, у нас в доме завёлся вор. Мне и тёте, разумеется, нет никакой необходимости тайно брать деньги с буфета. Павлик целый день на глазах у взрослых и тоже не мог этого сделать. Ты дал честное слово. Следовательно, остаётся предположить, что это сделала Дуня, которая у нас служит пять лет...
В это время Дуня заправляла в передней лампу.
Она тотчас положила на подзеркальник стекло и тряпку и появилась в дверях. Не только шея, но даже обнажённые до локтей руки её стали красными.
Большое добродушное лицо было покрыто пятнами и искажено мукой.
— Чтоб мне не было в жизни счастья, — закричала она, — если тую сдачу с базара паныч не проиграл в ушки Гаврику!
Отец взглянул на Петю. Мальчик понял, что должен немедленно, молниеносно, сию же секунду сказать нечто благородное, гордое, справедливое, страшное, что мгновенно сняло бы с него всякое подозрение.
Минуту назад он ещё мог бы, пожалуй, сознаться. Но теперь, когда дело коснулось ушек, — ни за что!
— Вы не имеете права так говорить! — заорал Петя сипнущим голосом, и яркий румянец лживого негодования выступил на его лице. — Вы врёте!
Но и этого показалось ему мало.
— Вы... вы, наверное, сами... воровка! — затопав ногами, выкрикнул Петя.
Отец с серьёзной грустью укоризненно качал головой, не в состоянии понять, что делается в душе мальчика.
Покуда Дуня бестолково суетилась в кухне, собирая вещи и требуя расчёта, Петя выбежал в детскую и так страшно хлопнул дверью, что на спинке кровати закачался эмалевый образок ангела-хранителя.
Мальчик наотрез отказался просить у Дуни прощенья. Он лёг в постель и притворился, что у него обморок. Его оставили в покое.
Отец не поцеловал его на ночь.
Петя слышал, как тётя уговаривала Дуню остаться и как та, всхлипывая, наконец согласилась.
Среди ночи Петя часто просыпался, ужасаясь своему поступку. Он был готов бежать в кухню и целовать Дуне ноги, умоляя о прощении. Но ещё большее волнение охватывало мальчика при мысли о Гаврике, который потребует завтра денег.
Утром, выждав момент, когда отец повёл Павлика в ванную комнату умываться, Петя вынул из шкафа старый вицмундир.
Семейное предание гласило, что вицмундир этот был сшит папой тотчас при выходе из университета и надет всего один раз в жизни, по настоянию маминых чопорных родственников, требовавших, когда папа венчался с мамой, чтобы всё было, как у людей. С тех пор вицмундир висел, всеми забытый, в шкафу.
Ушек на нём оказалось очень много, но большинство из них, к сожалению, были слишком маленькие, в игру не годившиеся.
Больших имелось всего четыре, да и они не оправдывали надежд. Это были малоценные толстые, белые, почти вышедшие из употребления тройки.
На совесть пришитые к тонкому сукну старательным одесским портным прошлого века, они не поддавались ножницам. Петя нетерпеливо зубами выдрал их с мясом.
Стоит ли говорить, что и на этот раз Петю постигла в игре полная неудача? Его долг Гаврику возрос необычайно.
Петя окончательно запутался. Гаврик посматривал на приятеля с мрачным сочувствием, не предвещавшим ни чего хорошего.
— Ну, Петька, как же будет? — спросил он сурово.
В значении этих слов трудно было ошибиться. Их смысл был примерно таков:
«Что ж это, брат? Набрал в долг ушек и не отдаёшь? Печально. Придётся набить морду. Дружба дружбой, да ничего не поделаешь. Так полагается. Сам понимаешь. Ушки — это тебе не картонки, они денег стоят. Уж ты на меня не сердись».
Петя и не сердился. Он понимал, что Гаврик совершенно прав. Он только тяжело вздохнул и попросил ещё немножечко обождать. Гаврик согласился.
Петя промучился весь вечер. От умственного напряжения у него даже до того разгорелись уши, что против лампы светились совершенно как рубиновые.
Мальчик перебрал тысячи способов быстрого обогащения, но все они были или слишком фантастические, или слишком преступные.
Наконец ему в голову пришла удивительно простая и вместе с тем замечательная мысль. Ведь покойный-то дедушка, мамин папа, был майор! О, как он мог это забыть!
Не теряя времени, Петя вырвал из арифметической тетрадки лист бумаги и принялся писать бабушке, маминой маме, письмо в Екатеринослав.
Осыпая бабушку ласковыми именами и сообщая о своих блестящих гимназических успехах — что, по правде сказать, было сильно преувеличено, — Петя просил прислать ему на память — как можно скорее — майорский мундир дорогого дедушки.
Хитрый мальчик отлично понимал, на какую наживку легче всего клюнет добрая старушка, одинаково сильно чтившая память дедушки, героя турецкой кампании, и любившая Петю, своего старшего внучка.
Мальчик извещал её далее, что, по примеру дедушки-героя, сам твёрдо решил стать героем и поэтому избирает военную карьеру, а мундир необходим для постоянного поддержания в нём воинского духа.
Петя надеялся, что на майорском мундире масса ушек — штук двадцать, если не тридцать отличных офицерских пятков с чеканными орлами.
Это одно могло помочь ему выпутаться из долгов и, может быть, даже отыграться.
По Петиным расчётам, посылка обязательно должна прийти через неделю, не позже. Петя рассказал Гаврику всё. Гаврик вполне одобрил.
Мальчики вместе, встав на цыпочки, опустили письмо в большой жёлтый ящик с изображением заказного пакета за пятью сургучными печатями и двух скрещённых почтовых рожков.
Теперь оставалось спокойно ждать. В предвкушении несметных богатств Гаврик открыл Пете новый неограниченный кредит, и Петя беззаботно проигрывал будущее дедушкино наследство.
36. ТЯЖЁЛЫЙ РАНЕЦ
Прошла неделя, другая, а посылка от бабушки не приходила. Несмотря на объявленную царём «свободу», беспорядки усиливались. Почта работала плохо. Отец перестал получать из Москвы газету «Русские ведомости» и сидел по вечерам молчаливый, расстроенный, не зная, что делается на свете и как надо думать о событиях.
Приготовительный класс распустили на неопределённое время. Петя целый день болтался без дела. За то время он успел проиграть Гаврику в долг столько, что страшно было подумать.
Однажды пришёл Гаврик и, зловеще улыбаясь, сказал:
— Ну, теперь ты не ожидай так скоро своих ушек. На днях пойдёт всеобщая.
Может быть, ещё месяц тему назад Петя не понял бы, о чём говорит Гаврик. Но теперь было вполне ясно: раз «всеобщая» — значит, «забастовка». Сомневаться же в достоверности Гавриковых сведений не приходилось. Петя уже давно заметил, что на Ближних Мельницах всё известно почему-то гораздо раньше, чем в городе. Это был нож в сердце.
— А может, успеют дойти?
— Навряд ли.
Петя даже побледнел.
— Как же будет насчёт долга? — спросил Гаврик настойчиво.
Дрожа от нетерпения поскорее начать игру, Петя поспешно дал честное благородное слово и святой истинный крест, что завтра, так или иначе, непременно расквитается.
— Смотри! А то — знаешь... — сказал Гаврик, расставив по-матросски ноги в широких бобриковых штанах лилового, сиротского цвета.
Вечером того же дня Петя осторожно выкрал знаменитую копилку Павлика. Запершись в ванной, он столовым ножом извлёк из коробки все сбережения — сорок три копейки медью и серебром.
Проделав эту сложную операцию с удивительной ловкостью и быстротой, мальчик набросал в опустошённую жестянку различного гремучего хлама: гвоздиков, пломб, костяных пуговиц, железок.
Это было совершенно необходимо, так как бережливый и аккуратный Павлик обязательно два раза в день — утром и вечером — проверял целость кассы: он подносил жестянку к уху и, свесив язык, тарахтел копейками, наслаждаясь звуком и весом своих сокровищ. Можно себе представить, какие вопли поднял бы он, обнаружив покражу! Но всё сошло благополучно.
Ложась спать, Павлик потарахтел жестянкой, набитой хламом, и нашёл, что касса в полном порядке.
Впрочем, известно, что богатства, приобретённые преступлением, не идут человеку впрок. В три дня Петя проиграл деньги Павлика.
Надежды на быстрое получение дедушкиного мундира не было. Гаврик опять стал настойчиво требовать долг.
Ежедневно, сидя на подоконнике, Петя дожидался Гаврика. Он с ужасом представлял себе тот страшный день, когда всё откроется: ушки, и сандалии, и вицмундир, и копилка Павлика. А ведь это обязательно — рано или поздно — должно обнаружиться. О, тогда будет что-то страшное! Но мальчик старался об этом не думать, его терзала вечная и бесплодная мечта проигравшихся игроков — мечта отыграться!
Ходить по улицам было опасно, но всё же Гаврик обязательно появлялся и, остановившись посредине двора, закладывал в рот два пальца. Раздавался великолепный свист. Петя торопливо кивал приятелю в окно и бежал чёрным ходом вниз.
— Получил ушки? — спрашивал Гаврик.
— Честное благородное слово, завтра непременно будут! Святой истинный крест! Последний раз.
В один прекрасный день Гаврик объявил, что ждать больше не желает. Это значило, что отныне Петя как несостоятельный должник поступает к Гаврику в рабство до тех пор, пока полностью не расквитается.
Таков был жестокий, но совершенно справедливый закон улицы.
Гаврик слегка ударил Петю по плечу, как странствующий рыцарь, посвящающий своего слугу в оруженосцы.
— Теперь ты скрозь будешь со мною ходить, — добродушно сказал он и прибавил строго: — Вынеси ранец.
— Зачем... ранец?
— Чудак человек, а ушки в чём носить?
И глаза Гаврика блеснули весёлым лукавством. По правде сказать, Пете весьма улыбалась перспектива такого весёлого рабства: ему давно уже хотелось побродяжничать с Гавриком по городу. Но дело в том, что Пете ввиду событий самым строжайшим образом было запрещено выходить за ворота. Теперь же совесть его могла оставаться совершенно спокойной: он здесь ни при чём, такова воля Гаврика, которому он обязан беспрекословно подчиняться. И рад бы но ходить, да нельзя: такие правила.
Петя сбегал домой и вынес ранец.
— Надень, — сказал Гаврик.
Петя послушно надел. Гаврик со всех сторон осмотрел маленького гимназиста в длинной, до пят, шинели, с пустым ранцем за спиной. По-видимому, он остался вполне доволен.
— Билет гимназический есть?
— Есть.
— Покажь!
Петя вынул билет. Гаврик его раскрыл и по складам прочёл первые слова:
«Дорожа своею честью, гимназист не может не дорожить честью своего учебного заведения...»
— Верно, — заметил он, возвращая билет. — Сховай. Может, сгодится.
Затем Гаврик повернул Петю спиной и нагрузил ранец тяжёлыми мешочками ушек, — — Теперь мы всюду пройдём очень свободно, — сказал Гаврик, застёгивая ранец, и с удовольствием хлопнул по его телячьей крышке.
Петя не вполне понял значение этих слов, но, подчиняясь общему уличному закону — поменьше спрашивать и побольше знать, — промолчал. Мальчики осторожно вышли со двора.
Так начались их совместные странствия по городу, охваченному беспорядками.
С каждым днём ходить по улицам становилось всё более опасно. Однако Гаврик не прекращал своей таинственно увлекательной жизни странствующего чемпиона. Наоборот. Чем в городе было беспокойнее и страшнее, тем упрямее лез Гаврик в самые глухие, опасные места. Иногда Пете даже начинало казаться, что между Гавриком и беспорядками существует какая-то необъяснимая связь.
С утра до вечера мальчики шлялись по каким-то чёрным дворам, где у Гаврика были с тамошними мальчиками различные дела по части купли, продажи и мены ушек. В одних дворах он получал долги. В других играл. В третьих — вёл загадочные расчёты со взрослыми, которые, к крайнему Петиному изумлению, по-видимому, так же усердно занимались ушками, как и дети.
Таща на спине тяжёлый ранец, Петя покорно следовал за Гавриком повсюду. И опять в присутствии Гаврика город волшебно оборачивался перед изумлёнными глазами Пети проходными дворами, подвалами, щелями в заборах, сараями, дровяными складами, стеклянными галереями, открывая все свои тайны.
Петя видел ужасающую и вместе с тем живописную нищету одесских трущоб, о существовании которых до этого времени не имел ни малейшего представления.
Прячась в подворотнях от выстрелов и обходя опрокинутые поперёк мостовой конки, мальчики колесили по городу, посещая самые отдалённые его окраины.
Благодаря Петиной гимназической форме им без труда удавалось проникать в районы, оцепленные войсками и полицией. Гаврик научил Петю подходить к начальнику заставы и жалобным голосом говорить:
— Господин офицер, разрешите нам перейти на ту сторону, мы с товарищем живём вон в том большом сером доме, мама, наверное, сильно беспокоится, что нас так долго нет.
Вид у мальчика в форменной шинели, с телячьим ранцем за плечами был такой простодушный и приличный, что обыкновенно офицер, не имевший права никого пропускать в подозрительный район, делал исключение для двух испуганных детишек.
— Валяйте, только поосторожней! Держитесь возле стен. И чтоб я вас больше не видел! Брысь!
Таким образом мальчики всегда могли попасть в любую часть города, совершенно недоступную для других.
Несколько раз они были на Малой Арнаутской, в старом греческом доме с внутренним двором. Там был фонтан в виде пирамиды губчатых морских камней, с зелёной железной цаплей наверху. Из клюва птицы в былые времена била вода.
Гаврик оставлял Петю во дворе, а сам бегал куда-то вниз, в полуподвал, откуда приносил множество мешочков с необыкновенно тяжёлыми ушками. Он поспешно набивал ими Петин ранец, и мальчики быстро убегали из этого тихого двора, окружённого старинными покосившимися галереями.
В этом же дворе Петя как-то увидел дедушку Гаврика. Он тихо шёл на согнутых ногах через двор к мусорному ящику.
— О! Дедушка! — закричал Петя. — Послушайте, что вы здесь делаете? А я думал, вы — в участке.
Но дедушка посмотрел на мальчика, как видно не узнавая.
Он переложил из руки в руку ведро и прошамкал глухо:
— Я здесь теперь... Сторожу... Ночной сторож... да...
И тихонько пошёл дальше.
Мальчики заходили в порт, на Чумку, в Дюковский сад, на Пересыпь, на завод Гена. Они побывали всюду, кроме Ближних Мельниц. На Ближние Мельницы Гаврик возвращался один после трудового дня. Тётя и папа сошли бы, вероятно, с ума, если бы только могли себе представить, в каких местах побывал за это время их Петя.
37. БОМБА
Но вот однажды настал конец этой восхитительной, но жуткой бродячей жизни.
В этот памятный день Гаврик пришёл раньше обыкновенного, и мальчики тотчас отправились в город.
У Гаврика было серое, необычайно собранное неподвижное лицо с пёстрыми от холода, крепко сжатыми губами. Он быстро и валко шёл, глубоко засунув руки в карманы своих широких бобриковых штанов, маленький, сгорбившийся, решительный. Только в его прозрачных, как у дедушки, стоячих глазах мелькало иногда недоброе оживление. Петя еле поспевал за своим другом. Мальчики почти бежали по улице, безлюдной, как во сне.
Напряжённое ожидание чего-то висело в сером воздухе. Шаги звонко раздавались по плиткам тротуара. Под каблуком иногда ломалось оконное стекло льда, затянувшего пустую лужу.
Вдруг где-то далеко, в центре, раздался лёгкий грохот. Можно было подумать, что везли на ломовике пирамиду пустых ящиков и внезапно они развязались и рухнули на мостовую.
Гаврик остановился, прислушиваясь к слабому шуму эха.
— Что это? — шёпотом спросил Петя. — Ящики?
— Бомба, — сухо и уверенно сказал Гаврик. — Когось трахнули.
Через два квартала навстречу мальчикам из-за угла выбежала женщина с корзиной, из которой сыпались древесный уголь и айва.
— Ой, господи Иисусе Христе, ой, мать пресвятая богородица... — бессмысленно повторяла женщина, стараясь дрожащей рукой натянуть сбившийся с головы платок. — Ох, господи, что же это делается! На кусочки разорвало...
— Где?
— На Полицейской... Вот так я иду, а вот так он едет... И как рванёт... На мелкие кусочки... Господи, помилуй... Лошадей поубивало, экипаж на мелкие кусочки...
— Кого?
— Пристава... С Александровского участка... Вот гак — я, а вот так — он... А тот боевик — напротив, и у него в руках, представьте себе, обыкновенный пакетик, даже завёрнутый в газету...
— Поймали?
— Боевика-то? Куда там! Как бросились все в рапные стороны — его и след простыл... боевика-то... Говорят, какой-то переодетый матрос...
Женщина побежала дальше... Несмотря на всю свою суровую сдержанность, Гаврик схватил Петю за плечо и притопнул ногами.
— Это того самого, который деда бил кулаком по морде! — быстро, горячо зашептал он. — А пускай не даёт волю своим рукам. Верно?
— Верно, — сказал Петя холодея.
В этот день мальчики два раза заходили на Малую Арнаутскую улицу, во двор с фонтаном и цаплей.
В первый раз, забрав «товар», как выразился Гаврик, они отправились на Александровский проспект, оцепленный войсками. Их без особого труда пропустили.
Пройдя несколько домов, Гаврик втащил Петю в какие-то ворота. Мальчики прошли через большой безлюдный двор, мимо казачьей коновязи, по пустым обоймам и винтовочным гильзам, вбитым солдатскими подошвами в тугую, промёрзшую землю.
Мальчики спустились в подвал и долго шли в сырой темноте мимо дровяных сараев, пока не вышли на другой двор. Из этого двора узкой щелью между двумя высокими и мрачными кирпичными стеками можно было пробраться ещё в один двор.
Как видно, Гаврик хорошо знал здесь все ходы и выходы. Щель была такая узкая, что Пётр, пробираясь за Гавриком, то и дело царапал ранец о стены. Наконец они выбрались на этот третий двор, узкий, высокий и тёмный, как цистерна. Судя по тому, как долго пришлось сюда пробираться и сколько сделали поворотов и зигзагов, дом этого двора выходил на какую-то другую улицу.
Весь двор был усеян битым стеклом и штукатуркой. Окна дома, окружавшего двор, были плотно закрыты ставнями. Казалось, что дом необитаем.
Гулкая тишина стояла вокруг. Но за этой тишиной, по ту сторону дома, на незнакомой улице, не столько слышался, сколько угадывался тревожный шум какого-то движения.
Кроме того, сверху, будто с неба, изредка хлопали громкие выстрелы, наполняя двор колодезным шумом. Петя прижался ранцем к стене и, дрожа, зажмурился. Гаврик же не торопясь вложил в рот два пальца и свистнул.
Где-то наверху стукнул ставень, и раздался голос:
— Сейчас!
Через минуту, показавшуюся Пете часом, из двери чёрного хода выскочил красный, потный человек без пальто, в пиджаке, испачканном мелом.
Петя увидел и ахнул. Это был Терентий.
— Давай, давай, давай! — бормотал Терентий, обтирая рукавом мокрое лицо.
Не обращая внимания на самого Петю, он бросился к его ранцу:
— Давай скорей! Спасибо, в самый раз! А то у нас ни черта не осталось.
Он нетерпеливо расстегнул ремешки, сопя, переложил мешочки из ранца в карманы и бросился назад, успев крикнуть:
— Пущай Иосиф Карлович сей же час присылает ещё! Тащите что есть. А то не продержимся.
— Ладно, — сказал Гаврик, — принесём.
Тут под крышу ударила пуля, и на мальчиков посыпалcя розовый порошок кирпича.
Они поспешили той же дорогой назад, на Малую Арнаутскую, и взяли новую партию «товара». Ранец на этот раз был так тяжёл, что Петя его еле тащил.
Теперь мальчик, конечно, прекрасно понимал уже, какие это ушки. В другое время он бросил бы всё и убежал домой. Но в этот день он, охваченный до самого дна души азартом опасности, гораздо более могущественным, чем азарт игры, ни за что не согласился бы оставить товарища одного. К тому же он не мог отказаться от славы Гаврика. Одна мысль, что он будет лишён права рассказывать потом о своих похождениях, сразу заставила его пренебречь всеми опасностями.
Гаврик и Петя отправились обратно. Но как изменился за это время город! Теперь он кипел.
Улицы то наполнялись бегущим в разные стороны народом, то вдруг пустели мгновенно, подметённые железной метёлкой залпа.
Мальчики подходили уже к заставе, как вдруг Гаврик схватил Петю за руку и быстро втащил в ближайшую подворотню.
— Стой!
— Что?
Не выпуская Истиной руки, Гаврик осторожно выглянул из ворот и тотчас отвалился назад, прижавшись спиной к стене под чёрной доской с фамилиями жильцов.
— Слышь, Петька... Дальше не пройдём... Там ходит тот самый чёрт, который мне ухи крутил... Смотри...
Петя на цыпочках подошёл к воротам и выглянул. Возле заставы, мимо вывернутых чугунных решёток сквера и винтовок, составленных в козлы, по мостовой прогуливался господин в драповом пальто и каракулевой шляпе пирожком. Он повернулся, и Петя увидел бритое грубое лицо с мясистым носом. Что-то было в этом незнакомом лице очень знакомое. Где-то Петя его уже видел. Но где? Что-то мешало мальчику вспомнить. Может быть, мешала синева над верхней губой? И вдруг он вспомнил. Конечно, это был тот самый усатый с парохода «Тургенев», но только бритый, без усов. Он тогда врезался в памяти на всю жизнь. Петя узнал бы его из тысячи даже бритым.
— Усатый, — прошептал Петя, становясь рядом с Гавриком, ранцем к стенке.
— Который ловил матроса. Только теперь без усов. Помнишь, я тебе говорил, а ты ещё смеялся.
— Ишь, побрился, чтоб не узнали... Шкура... Он меня знает как облупленного, — сказал Гаврик с досадой. — Ни за что не пройдём.
— А может, пройдём?
— Смеёшься?
Гаврик выглянул из ворот.
— Ходит...
Гаврик сжал кулачок и стал со злостью грызть костяшки пальцев.
— А они тама сидят и дожидаются... У, дракон!
В наступившей на минуту полной и глубокой тишине восстания слышались отдалённые выстрелы. Их шум перекатывался где-то по крышам города.
— Слышь, Петька, — сказал вдруг Гаврик, — понимаешь, они тама сидят и даром дожидаются... без товара... Их тама всех перестреляют, очень просто... А я не могу идти, потому что этот чёрт непременно за мной прилипнет!
Злые слёзы закипели на глазах Гаврика. Он сильно потянул носом, высморкался в землю и сердито посмотрел Пете в глаза:
— Чуешь, что я тебе говорю?
— Чую, — одними губами проговорил Петя, бледнея от этого сердитого, дружеского, настойчивого и вместе с тем умоляющего взгляда товарища.
— Сможешь пойтить один? Не сдрейфишь?
От волнения Петя не мог выговорить ни слова. Он крупно глотнул, кивнув головой. Воровато озираясь по сторонам и выглядывая из ворот, Гаврик стал набивать Петины карманы своими мешочками.
— Слышь, всё отдашь, весь товар. И что в ранце, отдашь, и что в карманах. А если поймаешься, молчи и отвечай, что нашёл на улице и ничего не знаешь. Понял?
— Понял.
— Как только отдашь, так беги сюда обратно, я тебя буду тута дожидаться, в воротах. Понял?
— Понял.
С неудобно раздутыми карманами Петя, почти ничего не сознавая от страха и волнения, подошёл к заставе.
— Куда лезешь, не видишь, что ли? — закричал усатый, бросаясь к мальчику.
— Дяденька, — захныкал Петя привычным тоненьким голосом Гаврика, — пожалуйста, пропустите, мы живём тут недалеко, на Александровском проспекте, в большом сером доме, мама очень беспокоится: наверное, думает, что меня убили.
И совершенно натуральные слёзы брызнули из его глаз, катясь по замурзанным пухлым щёчкам. Усатый с отвращением посмотрел на маленькую фигурку приготовишки и взял Петю за ранец. Он подвёл мальчика к обочине мостовой и слегка поддал коленом:
— Жарь!
Не чувствуя под собой ног, Петя побежал к известному дому.
38. ШТАБ БОЕВИКОВ
Мальчик шмыгнул в ворота, стал пробираться через двор. Проходя здесь час тому назад с Гавриком, Петя не испытывал особенного беспокойства. Тогда он чувствовал себя под надёжной защитой друга, ловкого и опытного. Избавленный от необходимости думать самому, он был всего лишь послушным спутником, лишённым собственной воли. За него думал и действовал другой, более сильный.
Теперь мальчик был совершенно один. Он мог рассчитывать только на самого себя и ни на кого больше.
И тотчас в отсутствие Гаврика мир стал вокруг Пети грозным, громадным, полным скрытых опасностей.
Опасность пряталась в каменных арках внутренней галереи, среди зловещих ящиков и старой, поломанной мебели. Она неподвижно стояла посредине двора за шелковицей, ободранной зубами лошадей. Она выглядывала из чёрной дыры мусорного ящика.
Все вещи вокруг мальчика приобретали преувеличенные размеры. Громадные казачьи лошади теснились, напирая на Петю золотисто-атласными танцующими крупами. Чудовищные хвосты со свистом били по ранцу. Чубатые казаки в синих шароварах с красными лампасами прыгали на одной ноге, вдев другую в стремя.
— Справа-а по три-и-и! — кричал осипший голос хорунжего.
Вырванная из ножен шашка зеркальной дугой повисла в воздухе над приплюснутыми набекрень фуражками донцов.
Петя спустился в подвал.
Он долго шёл ощупью в душном, но холодном мраке, дыша пыльным воздухом сараев. Ужас охватывал мальчика всякий раз, когда его ресницы задевала паутина, казавшаяся крылом летучей мыши. Наконец он выбрался на второй двор. Здесь было пусто.
Только сейчас, среди этой небывалой пустоты, в полной мере ощутил Петя своё страшное одиночество. Он готов был броситься назад, но тысячи вёрст и тысячи страхов отделяли его от улицы, от Гаврика.
В щели между вторым и третьим двором стояла такая немыслимая тишина, что хотелось изо всех сил кричать, не щадя горла. Кричать отчаянно, страстно, исступлённо, лишь бы только не слышать этой тишины.
Такая тишина бывает лишь в промежутке между двумя выстрелами. Теперь надо было сунуть в рот пальцы и свистнуть. Но вдруг Петя сообразил, что не умеет свистеть в два пальца. Плевать сквозь зубы давно научился, а свистеть — нет. Не сообразил. Забыл.
Мальчик неловко вложил в рот пальцы и дунул, но свиста не вышло. В отчаянии он дунул ещё раз, изо всех сил. Ничего. Только слюни и шипение.
Тогда Петя собрал все свои душевные силы и, зажмурившись, крикнул:
— Э-э!
Голос прозвучал совсем слабо. Но гулкое эхо тотчас наполнило пустую цистерну двора. Однако никто не откликнулся. Тишина стала ещё страшней. Вверху что-то оглушительно щёлкнуло, и вниз полетело колено сбитой водосточной трубы, увлекая за собой куски кирпича, костыли, извёстку.
— Э-э! Э-э! Э-э! Э-э! — закричал мальчик изо всей мочи.
Наверху приоткрылся ставень, и выглянуло незнакомое лицо.
— Чего кричишь? Принёс? Беги сюда наверх! Живенько!
И лицо скрылось.
Петя в нерешительности оглянулся. Но он был совершенно один, и не с кем было посоветоваться.
Вверху опять щёлкнуло, и вниз полетел большой кусок штукатурки, разбившейся вдребезги у самых Петиных ног.
Съёжившись, мальчик бросился в дверь чёрного хода. Путаясь в полах слишком длинной, сшитой «на рост», шинели, он стал взбираться по гремучей железной лестнице наверх.
— Давай, давай, давай! — кричал сверху сердитый голос.
Тяжёлый ранец больно колотил по спине. Раздутые карманы стесняли шаг. Сразу стало жарко. Фуражка внутри стала горячая и мокрая. Пот лился на брови, на глаза. Лицо пылало.
А раздражённый, умоляющий голос продолжал кричать сверху:
— Давай! Давай же, ну тебя к чёрту!
Едва Петя, тяжело дыша и даже высунув от напряжения язык, добрался до площадки четвёртого этажа, как его сразу схватил за плечи человек в хорошем, но грязном пальто с барашковым воротником, без шапки, с мокрыми волосам, прилипшими ко лбу.
Его франтоватые усики и бородка совершенно не соответствовали воспалённому простому, курносому лицу, осыпанному извёсткой.
Отчаянные, весёлые и вместе с тем как бы испуганные глаза жарко блестели под побелевшими от извести колосистыми бровями. У него был вид человека, занятого какой-то очень трудной и, главное, очень спешной работой, от которой его оторвали.
Он ужасно торопился назад. Он схватил Петю сильными руками за плечи. Мальчику показалось, что сейчас его будут трясти, как папа в минуту ярости. Петя даже присел от страха. Но человек ласково заглянул в глаза.
— Принёс? — торопливым шёпотом спросил он и, не дожидаясь ответа, втащил мальчика в пустую кухню какой-то квартиры, в глубине которой — Петя сразу это почувствовал — делалось что-то громадное и страшное, что обычно в квартире делаться не может.
Человек бегло осмотрел Петю и сразу же, не говоря ни слова, полез в его оттопыренные карманы. Он торопливо стал вытаскивать из них грузные мешочки. Петя стоял перед ним, расставив руки.
Что-то было в этом незнакомом человеке с усиками и бородкой очень знакомое. Несомненно, где-то Петя его уже видел. Но где и когда?
Мальчик изо всех сил напрягал память, но никак не мог вспомнить. Что-то ему мешало, сбивало с толку. Может быть, усики и бородка?
Между тем человек проворно вытащил из карманов мальчика все четыре мешочка.
— Всё? — спросил он.
— Нет, ещё есть в ранце.
— Молодец, мальчик! — закричал человек. — Ай, спасибо! А ещё гимназист!
Он в знак восторга крепко взялся за козырёк Петиной фуражки и глубоко насунул её мальчику по самые уши.
И тут Петя увидел возле самого носа закопчённую, тухло пахнущую порохом коренастую руку с маленьким голубым якорем.
— Матрос! — воскликнул Петя.
Но в этот же миг в глубине квартиры что-то рухнуло. Рванулся воздух. С полки упала кастрюля. Матрос мягким, кошачьим движением бросился в коридор, успев крикнуть:
— Сиди тут!
Через минуту где-то совсем рядом раздалось подряд шесть отрывистых выстрелов. Петя поскорей сбросил ранец и стал его расстёгивать дрожащими пальцами.
В это время из коридора в кухню, шатаясь, вошёл Терентий. Он был без пиджака, в одной сорочке с оторванным рукавом. Этим рукавом была перевязана его голова. Из-под перевязки по виску текла кровь. В правой руке он держал револьвер.
Увидев Петю, он хотел что-то сказать, но махнул рукой и сперва напился воды, опрокинув лицо под кран.
— Принёс? — спросил он, задыхаясь, между двумя глотками воды, шумно бившей в его неправдоподобно белое лицо. — Где Гаврюшка? Живой?
— Живой.
Но, как видно, расспрашивать не было времени. Не вытирая с лица воду, Терентий тотчас стал доставать из ранца мешочки.
— Всё равно не удержимся, — бормотал он, еле держась на ногах. — Будем по крышам уходить... Они тама орудие ставят... А ты, мальчик, тикай, а то тебя здесь подстрелят... Тикай скорей. Спасибо, будь здоров.
Терентий присел на табурет, но тотчас встал и, обтирая револьвер о колено, побежал по коридору туда, откуда слышались беспрерывное хлопанье выстрелов и звон разбивающихся стёкол.
Петя схватил лёгкий ранец и бросился к двери. Но любопытство всё-таки заставило его на минуту задержаться и посмотреть в глубину коридора. В раскрытую настежь дверь Петя увидел комнату, заваленную сломанной мебелью. Посредине стены, оклеенной обоями с коричневыми букетами, Петя заметил зияющую дыру с обнажившейся решёткой дранки.
Несколько человек, среди которых Петя узнал высокую, страшно худую фигуру Синичкина, припав к подоконвинам высаженных окон, часто стреляли вниз из револьверов.
Петя увидел перевязанную голову Терентия и барашковый воротник матроса. Мелькали ещё какая-то чёрная косматая бурка и студенческая фуражка. И всё это плыло и тонуло в синеватых волокнах дыма. Матрос стоял на одном колене у подоконника, на котором лежала стальная тумбочка, и поминутно высовывал наружу дёргающуюся от выстрела руку. Он кричал бешеным голосом:
— Огонь! Огонь! Огонь!
И среди всего этого движения, беспорядка, суеты, дыма лишь один человек — с жёлтым, равнодушным, восковым лицом и чёрной дыркой над закрытым глазом — был совершенно спокоен.
Он неудобно лежал поперёк комнаты, лицом вверх, на полу, среди пустых обойм и гильз.
Разбитое пенсне, зацепившееся чёрным шнурком за его твёрдое и белое ухо, лежало рядом с головой на паркете, запудренном извёсткой. И тут же, на паркете, аккуратно стояла очень старая техническая фуражка с треснувшим козырьком.
Петя посмотрел на этого человека и вдруг понял, что это — труп.
Мальчик бросился назад. Он не помнил, как выбрался и добежал до подворотни, где его ждал Гаврик.
— Ну как, отнёс?
— Отнёс.
Петя, захлёбываясь, рассказал всё, что видел в страшной квартире.
— Они всё равно не удержатся. Будут уходить по крышам... — шептал Петя, тяжело дыша. — Там против них пушку ставят...
Гаврик побледнел и перекрестился. Первый раз в жизни Петя видел своего друга таким испуганным.
Совсем недалеко, почти рядом, ударил орудийный выстрел. Железное эхо шарахнуло по крышам.
— Пропало! — закричал Гаврик в отчаянии. — Тикай!
Мальчики выскочили на улицу и побежали по городу, в третий раз изменившемуся за это утро.
Теперь в нём безраздельно хозяйничали казаки. Всюду слышалось льющееся цоканье подков.
Чубатые сотни донцов, спрятанных во дворах, стремительно выскакивали из ворот, лупя направо и налево нагайками.
От них некуда было спрятаться: все парадные и ворота были наглухо заперты и охранялись нарядами войск и полиции. Каждый переулок представлял собой ловушку.
Остатки рассеянных демонстраций бежали врассыпную, куда глаза глядят, без всякой надежды на спасение. Казаки настигали их и рубили поодиночке.
На Малой Арнаутской мимо мальчиков посредине мостовой пробежал кривоногий человек без пальто и шапки. Он держал под мышкой палку с красным флагом. Это был хозяин тира. Он бежал, прихрамывая и виляя, бросаясь то туда, то сюда.
Может быть, в другое время это могло бы вызвать в мальчиках удивление, но сейчас это вызывало только ужас.
Через каждые десять шагов Иосиф Карлович поворачивал назад страшно бледное, истерзанное лицо с безумными глазами. За ним дробной рысью мчались два донца.
Звонко выворачивались подковы, высекая из гранитной мостовой искры, бледные при дневном свете.
Через минуту Иосиф Карлович оказался уже между лошадьми. Он пропустил их, увернулся и, бросившись в сторону, схватился за ручку парадного.
Дверь была заперта. Он рвал её с отчаянием, он бил в неё изо всех сил ногами, ломился плечом. Дверь не поддавалась. Казаки повернули лошадей и въехали на тротуар.
Иосиф Карлович сгорбился, наклонил голову и обеими руками прижал к груди флаг. Блеснула шашка. Спина покачнулась. Пиджак лопнул наискось. Хозяин тира дёрнулся и повернулся.
На один миг мелькнуло его искажённое болью лицо с косо подрубленными бачками.
— Негодяи! Сатрапы! Палачи! — страстно закричал он на всю улицу. — Долой самодержавие!
Но в тот же миг — резко и одновременно — блеснули две шашки. Он упал, продолжая прижимать знамя к раскрытой волосатой груди с синей татуировкой. Один из донцов наклонился над ним и что-то сделал. Через минуту оба казака мчались дальше, волоча за собой на верёвке тело человека, оставлявшее на мертвенно-серой мостовой длинный красный, удивительно яркий след.
Из переулка хлынула толпа и разъединила мальчиков.
39. ПОГРОМ
В этот день Петя потерял всякое представление о времени. Когда он наконец добрался домой, ему показалось, что уже сумерки, а на самом деле не было ещё и двух часов.
В районе Куликова поля и штаба всё было тихо, спокойно. События в городе доходили сюда в виде слухов и отдалённых выстрелов. Но к слухам и выстрелам давно уже привыкли.
Низкое, почти чёрное небо дышало крепким холодом недалёкого снега. В такую пору вечер начинается с утра. В мутном, синеватом воздухе уже пролетело несколько совсем маленьких снежинок. Но твёрдая земля всё ещё была совершенно чёрной, без единой сединки.
Петя вошёл через чёрный ход, сбросил пустой ранец в кухне и осторожно пробрался в детскую. Но было так рано, что о мальчике ещё и не начинали беспокоиться.
Петя увидел тихие, спокойные комнаты, услышал почти бесшумный зуд разогнанной швейной машинки, ощутил запах кипящего борща, и вдруг ему захотелось броситься папе на шею, прижаться щекой к сюртуку, заплакать и рассказать всё.
Но это чувство возникло в потрясённой душе мальчика лишь на миг, тотчас уступив место другому, новому — сдержанному и молчаливому чувству ответственности и тайны. Первый раз в жизни мальчик просто и серьёзно, всем сердцем, понял, что в жизни есть такие вещи, о которых не следует говорить даже самым родным и любимым людям, а знать про себя и молчать, как бы это ни было трудно.
Отец качался в качалке, заложив за голову руки и сбросив пенсне. Петя прошёл и уселся рядом на стуле, чинно сложив на коленях руки.
— Ну что, сынок, скучно ничего не делать? Ничего, поскучай. Скоро всё уляжется, в учебных заведениях опять начнутся занятия. Пойдёшь в гимназию. Нахватаешь двоек. Легче станет на сердце.
И он улыбнулся своей милой, близорукой улыбкой. В кухне хлопнула дверь, по коридору быстро застучали шаги. На пороге столовой появилась Дуня. Она бессильно прислонилась к дверному косяку, тесно прижимая руки к груди.
— Ой, барин...
Больше она не могла выговорить ни слова. Дуня трудно и часто дышала, глотая воздух полуоткрытым ртом. Из-под сбившегося платка на небывало бледное лицо упала прядь волос с повисшей шпилькой.
За последнее время в доме привыкли к её неожиданным вторжениям. Почти каждый день она сообщала какую-нибудь городскую новость. Но на этот раз её безумные глаза, за, судорожное дыхание, весь её невменяемый вид говорили, что произошло нечто из ряда вон выходящее, ужасное. Она внесла с собой такую тёмную, такую зловещую тишину, что показалось, будто часы защёлкали в десять раз громче, а в окна вставили серые стёкла. Стук швейной машинки тотчас оборвался. Тётя вбежала, приложив пальцы к вискам с лазурными жилками:
— Что?.. Что случилось?..
Дуня молчала, беззвучно шевеля губами.
— На Канатной евреев бьют, — наконец выговорила она еле слышно, — погром...
— Не может быть! — вскрикнула тётя и села на стул, держась за сердце.
— Чтоб мне пропасть! Чисто все еврейские лавочки разбивают. Комод со второго этажа выбросили на мостовую. Через минут десять до нас дойдут.
Отец вскочил бледный, с трясущейся челюстью, силясь надеть непослушной рукой пенсне.
— Да что ж это, господи!
Он поднял глаза к иконе и дважды перекрестился. Дуня приняла это за некий знак. Она очнулась, полезла на стул и стала порывисто снимать икону.
— Что вы делаете, Дуня?
Но она, не отвечая, уже бегала по комнате, собирая иконы. Она суетливо расставляла их на подоконниках лицом на улицу и подкладывала под них стопки книг, коробки, цибики из-под чаю, — всё, что попадалось под руку. Отец растерянно следил за ней:
— Я не понимаю... Что вы хотите?
— Ой, барин, да как же? — испуганно бормотала она. — Да как же? Разбивают евреев... А русских не трогают... У кого на окнах иконы — до тех не заходят!
Вдруг лицо отца исказилось.
— Не смейте! — закричал он высоким, срывающимся голосом и начал изо всех сил дробно стучать кулаком по столу. — Не смейте... Я вам запрещаю!.. Слышите? Сию же минуту прекратите... Иконы существуют не для этого... Это... это кощунство... Сейчас же...
Круглые крахмальные манжеты выскочили из рукавов. Лицо стало смертельно бледным, с розовыми пятнами на высоком лепном лбу.
Никогда ещё Петя не видел отца таким: он трясся и был страшен. Он бросился к подоконнику и схватил икону.
Но Дуня крепко держала её и не отпускала.
— Барин!.. Что вы делаете?.. — с отчаянием кричала она. — Они же всех чисто поубивают! Татьяна Ивановна! Ясочка! Чисто всех побьют! Ни на что не посмотрят!..
— Молчать! — заорал отец, и жилы у него на лбу страшно вздулись. — Молчать! Здесь я хозяин! Я не позволю у себя в доме... Пускай приходят! Пускай убивают всех!.. Скоты!.. Вы не имеете права... Вы не имеете...
Тётя хрустела пальцами:
— Василий Петрович! Умоляю вас, успокойтесь!..
Но отец уже стоял, прислонясь головой к обоям и закрыв руками лицо.
— Идут! — крикнула вдруг Дуня.
Наступила тишина. На улице слабо слышалось стройное пение. Можно было подумать, что где-то очень далеко — крёстный ход или похороны.
Петя осторожно посмотрел в окно. На улице не было ни души. Ещё более опустившееся и потемневшее небо грифельного цвета висело над безлюдным Куликовым полем. Несколько длинных ниток лёгкого, как лебяжий пух, снега, собранного ветром, лежало в морщинах голой земли.
Между тем пение становилось всё явственнее. Тогда Петя с полной ясностью увидел, что та низкая и тёмная туча, которая лежала на горизонте Куликова поля справа от вокзала, вовсе не туча, а медленно приближающаяся толпа.
В доме захлопали форточки. В кухне послышались чьи-то сдержанные, очень тихие голоса, топтанье, шум юбок, и в коридоре совершенно неожиданно появилась пожилая женщина, держа за руку ярко-рыжую заплаканную девочку.
Женщина была одета, как для визита, в чёрные муаровые юбки, мантильку и фильдекосовые митенки. На голове у неё несколько набок торчала маленькая, но высокая чёрная шляпка с куриными перьями. Из-за её плеча выглядывали матово-бледное круглое лицо Нюси и котелок «Бориса — семейство крыс».
Это была мадам Коган со всей своей семьёй. Не смея переступить порог комнаты, она долго делала в дверях реверансы, одной рукой подбирая юбки, а другую прижимая к сердцу. Сладкая, светская и вместе с тем безумная улыбка играла на её подвижном, морщинистом личике.
— Господин Бачей! — воскликнула она пронзительным птичьим голосом, простирая обе дрожащие руки в митенках к отцу. — Господи Бачей! Татьяна Ивановна! Мы всегда были добрыми соседями!.. Разве люди виноваты, что у них разный бог?..
Она вдруг упала на колени.
— Спасите моих детей! — исступлённо закричала она, рыдая. — Пусть они разбивают всё, но пусть пощадят детей!
— Мама, не смей унижаться! — злобно крикнул Нюся, засовывая руки в карманы, и отвернулся, показав свою подбритую сзади, синеватую шею.
— Наум, замолчишь ли ты наконец? — прошипел «Борис — семейство крыс». — Или ты хочешь, чтобы я тебе надавал по щекам? Твоя мать знает, что она делает. Она знает, что господин Бачей — интеллигентный человек. Он не допустит, чтоб нас убили...
— Ради бога, мадам Коган! Что вы делаете? — бормотала тётя, бросаясь и поднимая еврейку. — Как вам не стыдно? Конечно же, конечно! Ах, господи, прошу вас, входите... Господин Коган... Нюся... Дорочка... Какое несчастье!
Пока мадам Коган рыдая, рассыпалась в благодарностях, от которых папа и тётя готовы были провалиться со стыда сквозь землю, пока она рассовывала детей и мужа по дальним комнатам, пение за окном росло и приближалось с каждым шагом.
По Куликову полю к дому шла небольшая толпа, действительно напоминавшая крёстный ход.
Впереди два седых старика, в зимних пальто, но без шапок, на полотенце с вышитыми концами несли портрет государя.
Петя сразу узнал эту голубую ленту через плечо и жёлудь царского лица. За портретом качались церковные хоругви, высоко поднятые в холодный, синеватый, как бы мыльный воздух.
Дальше виднелось множество хорошо, тепло одетых мужчин и женщин, чинно шедших в калошах, ботиках, сапогах. Из широко раскрытых ртов вился белый пар. Они пели:
— Спаси, го-о-споди, лю-у-ди твоя и благослови до-стоя-я-а-ние твоё...
У них был такой мирный и такой благолепный вид, что в лице у отца на одну минуту даже заиграла нерешительная улыбка.
— Ну, вот видите, — сказал он, — идут себе люди тихо, мирно, никого не трогают, а вы...
Но как раз в этот миг шествие остановилось против дома на той стороне улицы. Из толпы выбежала большая, усатая, накрест перевязанная двумя платками женщина с багрово-синими щеками. Её выпуклые чёрные глаза цвета винограда «изабелла» были люто и решительно устремлены на окна. Она широко, по-мужски, расставила толстые ноги в белых войлочных чулках и погрозила дому кулаком.
— А, жидовские морды! — закричала она пронзительным, привозным голосом. — Попрятались? Ничего, мы вас сейчас найдём! Православные люди, выставляйте иконы!
С этими словами она подобрала спереди юбку и решительно перебежала улицу, выбрав на ходу большой голыш из кучи, приготовленной для ремонта мостовой.
Следом за ней из толпы вышло человек двадцать чубатых длинноруких молодцов с трёхцветными бантиками на пальто и поддёвках. Они не торопясь один за другим перешли улицу мимо кучи камней, и каждый, проходя, наклонялся глубоко и проворно.
Когда прошёл последний, на месте кучи оказалась совершенно гладкая земля. Наступила мёртвая тишина. Теперь часы уже не щёлкали, а стреляли, и в окнах были вставлены чёрные стёкла.
Тишина тянулась так долго, что отец успел проговорить:
— Я не понимаю... Где же, наконец, полиция?.. Почему из штаба не посылают солдат?..
— Ах, да какая там полиция! — закричала тётя с истерической запальчивостью.
Она осеклась. Тишина сделалась ещё ужаснее. «Борис — семейство крыс», присевший на край стула посредине гостиной, в котелке, сдвинутом на лоб, смотрел в угол косо и неподвижно больными глазами.
Нюся ходил взад и вперёд по коридору, положив руки в карманы. Теперь он остановился, прислушиваясь. Его полные губы кривились презрительно, натянутой улыбкой.
Тишина продолжалась ещё одно невыносимое мгновение и рухнула. Где-то внизу бацнул в стекло первый камень. И тогда шквал обрушился на дом. На тротуар полетели стёкла. Загремело листовое железо сорванной вывески. Раздался треск разбиваемых дверей и ящиков. Было видно, как на мостовую выкатываются банки с монпансье, бочонки, консервы.
Вся озверевшая толпа со свистом и гиканьем окружила дом. Портрет в золотой раме с коронкой косо поднимался то здесь, то там. Казалось, что офицер в эполетах и голубой ленте через плечо, окружённый хоругвями, всё время встаёт на цыпочки, желая заглянуть через головы.
— Господин Бачей! Вы видите, что делается? — шептал Коган, потихоньку ломая руки. — На двести рублей товару!
— Папа, замолчите! Не смейте унижаться! — закричал Нюся. — Это не относится к деньгам.
Погром продолжался.
— Барин! Пошли по квартирам, евреев ищут!
Мадам Коган вскрикнула и забилась в тёмном коридоре, как курица, увидевшая нож.
— Дора! Наум! Дети!..
— Барин, идут по нашей лестнице...
На лестнице слышался гулкий, грубый шум голосов и сапог, десятикратно усиленный в коробке парадного хода. Отец трясущимися пальцами, но необыкновенно быстро застегнулся на все пуговицы и бросился к двери, обеими руками раздирая под бородой крахмальный воротник, давивший ему горло. Тётя не успела ахнуть, как он уже был на лестнице.
— Ради бога, Василий Петрович!
— Барин, не ходите, убьют!
— Папочка! — закричал Петя и бросился за отцом.
Прямой и лёгкий, с остановившимся лицом, в чёрном сюртуке, отец, гремя манжетами, быстро бежал вниз по лестнице.
Навстречу ему, широко расставляя ноги, тяжело лезла женщина в белых войлочных чулках. Её рука в нитяных перчатках с отрезанными пальцами крепко держала увесистый голыш. Но теперь её глаза были не чёрными, а синевато-белыми, подёрнутыми тусклой плёвой, как у мёртвого вола. За ней поднимались потные молодцы в синих суконных картузах чёрнобакалейщиков.
— Милостивые государи! — неуместно выкрикнул отец высоким фальцетом, и шея его густо побагровела. — Кто вам дал право врываться в чужие дома? Это грабёж! Я не позволяю!
— А ты здесь кто такой? Домовладелец?
Женщина переложила камень из правой руки в левую и, не глядя на отца, дала ему изо всех сил кулаком в ухо.
Отец покачнулся, но ему не позволили упасть: чья-то красная веснушчатая рука взяла его за шёлковый лацкан сюртука и рванула вперёд. Старое сукно затрещало и полезло.
— Не бейте его, это наш папа! — не своим голосом закричал Петя, обливаясь слезами. — Вы не имеете права! Дураки!
Кто-то изо всей мочи, коротко и злобно, дёрнул отца за рукав. Рукав оторвался. Круглая манжета с запонкой покатилась по лестнице.
Петя видел сочащуюся царапину на носу отца, видел его близорукие глаза, полные слёз — пенсне сбили, — его растрёпанные семинарские волосы, развалившиеся надвое.
Невыносимая боль охватила сердце мальчика. В эту минуту он готов был умереть, лишь бы папу больше не смели трогать.
— У, зверьё! Скоты! Животные! — сквозь зубы стонал отец, пятясь от погромщиков.
А сверху уже бежали с иконами в руках тётя и Дуня.
— Что вы делаете, господа, побойтесь бога! — со слезами на глазах твердила тётя.
Дуня, поднимая как можно выше икону спасителя с восковой веточкой флёрдоранжа под стеклом, разгневанно кричала:
— Очумели, чи шо? Уже православных хрестиян бьёте! Вы сначала посмотрите хорошенько, а уж потом начинайте. Ступайте себе, откуда пришли! Нема тут никаких евреев, нема. Идите себе с богом!
На улице раздавались свистки городовых, как всегда явившихся ровно через полчаса после погрома. Женщина в белых чулках положила на ступеньки голыш, аккуратно вытерла руки о подол юбки и кивнула головой:
— Ну зараз здесь будет. Хорошенького помаленьку. А то уже слышите, как там наши городовики разоряются, от Аида теперь до жида на Малофонтанской, угол Ботанической.
И она, подобрав тяжёлые юбки, кряхтя, стала спускаться с лестницы.
40. ОФИЦЕРСКИЙ МУНДИР
Несколько дней после этого тротуар возле дома был усеян камнями, битым стеклом, обломками ящиков, растёртыми шариками синьки, рисом, тряпками и всевозможной домашней рухлядью.
На полянке, в кустах, можно было вдруг найти альбом с фотографиями, бамбуковую этажерку, лампу или утюг.
Прохожие тщательно обходили эти обломки, как будто одно прикосновение к ним могло сделать человека причастным к погрому и запятнать на всю жизнь.
Даже дети, с ужасом и любопытством спускавшиеся в разграбленную лавочку, нарочно прятали руки в карманы, чтобы не соблазниться валяющимися на полу мятным пряником или раздавленной коробочкой папирос «Керчь».
Отец целыми днями ходил по комнатам, какой-то помолодевший, строгий, непривычно быстрый, с заметно поседевшими висками, с напряжённо выдвинутым вперёд подбородком. Сюртук зашили так искусно, что повреждений почти не было видно.
Жизнь возвращалась в свою колею.
На улицах уже не стреляли. В городе была мирная тишина. Мимо дома проехала первая после забастовки трам-карета, это громоздкое и нелепое сооружение вроде городского дилижанса с громаднейшими задними колёсами и крошечными передними. На вокзале свистнул паровик.
Принесли «Русские ведомости», «Ниву» и «Задушевное слово».
Однажды Петя, посмотрев в окно, увидел у подъезда жёлтую почтовую карету. Сердце мальчика облилось горячим и замерло. Почтальон открыл заднюю дверцу и вынул из кареты посылку.
— От бабушки! — закричал Петя и хлопнул ладонями по подоконнику.
Ах, ведь он совсем об этом забыл! Но теперь, при виде жёлтой кареты, сразу вспомнились и ушки, и окончательно испорченный вицмундир, и проданные сандалии, и копилка Павлика — словом, все его преступления, которые могли открыться каждую минуту.
Раздался звонок. Петя бросился в переднюю.
— Не смейте трогать, — кричал он возбуждённо, — это мне! Это мне!
Действительно, к общему изумлению, на холсте было выведено крупными лиловыми буквами: «Петру Васильевичу Бачей в собственные руки».
Ломая ногти, мальчик содрал парусину, крепко прошитую суровой ниткой. У него не хватило терпения аккуратно отделить скрипучую крышку, прибитую длинными, тонкими гвоздиками.
Петя схватил кухонную секачку и грубо раскроил ящик, лёгкий, как скрипка. Он вынул нечто любовно завёрнутое в очень старый номер газеты «Русский инвалид».
Это был офицерский сюртук.
— Дедушкин мундир! — торжественно провозгласил Петя. — Вот!
Больше в посылке ничего не было.
— Я... не понимаю... — пробормотала тётя.
— Странная фантазия — посылать ребёнку какие-то военные реликвии, — сухо заметил отец, пожав плечами. — Удивительно... непедагогично!
— Ах, замолчите, вы ничего не понимаете! Молодец бабушка! — воскликнул мальчик в восторге и бросился с заветным свёртком в детскую.
Из тончайшей шёлковой бумаги блеснули старательно завёрнутые золотые пуговицы. Петя торопливо стал их разворачивать.
Но, боже мой, что это? Они оказались без орлов!
Пуговицы были совершенно гладкие и ничем не отличались от самых дешёвых солдатских одинарок. Петя, правда, насчитал их шестнадцать штук. Но за всё это нельзя было получить больше трёх пятков.
Что же случилось? Впоследствии, много лет спустя, Петя узнал, что во времена императора Александра Второго пуговицы у офицеров были без орлов. Но кто же мог это предвидеть? Мальчик был совершенно подавлен. Он сидел на подоконнике, опустив на колени ненужный мундир.
За окном, мимо термометра, летели снежинки. Мальчик равнодушно следил за ними, не испытывая при виде первого снега обычной радости.
Перед его глазами одна за другой возникали картины событий, участником и свидетелем которых он был совсем недавно. Но теперь всё это казалось мальчику таким далёким, таким смутным, неправдоподобным, как сон. Как будто всё это произошло где-то совсем в другом городе, может быть, даже в другой стране.
Между тем Петя знал, что это не был сон. Это было вон там, совсем недалеко, за Куликовым полем, за молочным дымом снега, несущегося между небом и землёй.
Где сейчас Гаврик? Что стало с Терентием и матросом? Удалось ли им уйти по крышам?
Но не было ответа на эти вопросы.
А снег продолжал лететь всё гуще и гуще, покрывая чёрную землю Куликова поля чистой, весёлой пеленой наступившей наконец зимы.
41. ЁЛКА
Пришло рождество.
Павлик проснулся до рассвета. Для него сочельник был двойным праздником: он как раз совпадал с днём рождения Павлика.
Можно себе представить, с каким нетерпением дожидался мальчик наступления этого хотя и радостного, но вместе с тем весьма странного дня, когда ему вдруг сразу делалось четыре года!
Вот только ещё вчера было три, а сегодня уже четыре. Когда ж это успевает случиться? Вероятно, ночью.
Павлик решил давно подстеречь этот таинственный миг, когда дети становятся на год старше. Он проснулся среди ночи, широко открыл глаза, но ничего особенного не заметил. Всё как обычно: комод, ночник, сухая пальмовая ветка за иконой.
Сколько же ему сейчас: три или четыре года?
Мальчик стал внимательно рассматривать свои руки и подрыгал под одеялом ногами. Нет, руки и ноги такие же, как вечером, когда ложился спать. Но, может быть, немного выросла голова? Павлик старательно ощупал голову — щёки, нос, уши... Как будто бы те же, что вчера. Странно. Тем более странно, что утром-то ему непременно будет четыре. Это уже известно наверняка. Сколько же ему сейчас? Не может быть, чтобы до сих пор оставалось три. Но, с другой стороны, и на четыре что-то не похоже.
Хорошо было бы разбудить папу. Он-то наверное знает. Но вылезать из-под тёплого одеяльца и шлёпать босиком по полу... нет уж, спасибо! Лучше притвориться, что спишь, и с закрытыми глазами дождаться превращения.
Павлик прикрыл глаза и тотчас, сам того не замечая, заснул, а когда проснулся, то сразу увидел, что ночник уже давно погас и в щели ставней брезжит синеватый, томный свет раннего-раннего зимнего утра.
Теперь не было ни малейшего сомнения, что уже — четыре.
В квартире всё ещё крепко спали; даже на кухне не слышалось Дуниной возни. Четырёхлетний Павлик проворно вскочил с кровати и «сам оделся», то есть напялил задом наперёд лифчик с полотняными пуговицами и сунул босые ножки в башмаки.
Осторожно, обеими руками открывая тяжёлые скрипучие двери, он отправился в гостиную. Это было большое путешествие маленького мальчика по пустынной квартире. Там впотьмах, наполняя всю комнату сильным запахом хвои, стояло посредине нечто громадное, смутное, до самого паркета опустившее тёмные лапы в провисших бумажных цепях.
Павлик уже знал, что это ёлка. Пока его глаза привыкали к сумраку, он осторожно обошёл густое, бархатное дерево, еле-еле мерцающее серебряными нитями канители. Каждый шажок мальчика чутко отдавался в ёлке лёгким бумажным шумом, вздрагиванием, шуршанием картонажей и хлопушек, тончайшим звоном стеклянных шаров.
Привыкнув к темноте, Павлик увидел в углу столик с подарками и тотчас бросился к нему, забыв на минуту о ёлке. Подарки были превосходные, гораздо лучше, чем он ожидал: лук и стрелы в бархатном колчане, роскошная книга с разноцветными картинками: «Птичий двор бабушки Татьяны», настоящее «взрослое» лото и лошадь — ещё больше, ещё красивее, а главное, гораздо новее, чем Кудлатка. Были, кроме того, жестяные коробочки монпансье «Жорж Борман», шоколадки с передвижными картинками и маленький тортик в круглой коробке.
Павлик никак не ожидал такого богатства. Полон стол игрушек и сластей — и всё это принадлежит только ему.
Однако мальчику это показалось мало. Он потихоньку перетащил из детской в гостиную все свои старые игрушки, в том числе и ободранную Кудлатку, и присоединил к новым. Теперь игрушек было много, как в магазине, но и этого показалось недостаточно.
Павлик принёс знаменитую копилку и поставил её посредине стола, на барабане, как главный символ своего богатства.
Устроив эту триумфальную башню из игрушек и налюбовавшись ею всласть, мальчик снова вернулся к ёлке. Его уже давно тревожил один очень большой, облитый розовым сахаром пряник, повешенный совсем невысоко на жёлтой гарусной нитке. Красота этого звездообразного пряника с дыркой посредине вызывала непреодолимое желание съесть его как можно скорее.
Не видя большой беды в том, что на ёлке будет одним пряником меньше, Павлик отцепил его от ветки и сунул в рот. Он откусил порядочный кусок, но, к удивлению своему, заметил, что пряник вовсе не такой вкусный, как можно было подумать. Больше того, пряник был просто отвратительный: тугой, житный, несладкий, с сильным запахом патоки. А ведь по внешнему виду можно было подумать, что именно такими пряниками питаются белоснежные рождественские ангелы, поющие на небе по нотам.
Павлик с отвращением повесил обратно на ветку надкушенный пряник. Было очевидно, что это какое-то недоразумение. Вероятно, в магазине случайно положили негодный пряник.
Тут Павлик заметил другой пряник, ещё более красивый, облитый голубым сахаром. Он висел довольно высоко, и пришлось подставить стул. Не снимая пряника с ветки, мальчик откусил угол и тотчас его выплюнул — до того неприятен оказался и этот пряник.
Но трудно было примириться с мыслью, что все остальные пряники тоже никуда не годятся.
Павлик решил перепробовать все пряники, сколько их ни висело на ёлке. И он принялся за дело. Высунув набок язык, кряхтя и сопя, мальчик перетаскивал тяжёлый стул вокруг ёлки, взбирался на него, надкусывал пряник, убеждался, что дрянь, слезал и тащил стул дальше.
Вскоре все пряники оказались перепробованными, кроме двух — под самым потолком, куда невозможно было добраться. Павлик долго стоял в раздумье, задрав голову. Пряники манили его своей недостижимой и потому столь желанной красотой.
Мальчик не сомневался, что уж эти-то пряники его не обманут. Он подумывал уже, как бы поставить стул на стол и оттуда попытаться достать их.
Но в это время послышался свежий шелест праздничного платья, и тётя, сияя улыбкой, заглянула в гостиную:
— А-а, наш рожденник встал раньше всех! Что ты здесь делаешь?
— Гуляю коло ёлочки, — скромно ответил Павлик, глядя на тётю доверчивыми, правдивыми глазами благовоспитанного ребёнка.
— Ах ты, моя рыбка ненаглядная! Коло! Не коло, а около. Когда ты отвыкнешь наконец от этого! Ну, поздравляю, поздравляю!
И мальчик очутился в горячих, душистых и нежных объятиях тёти. А из кухни торопилась красная от конфуза Дуня, держа перед собой хрупкую голубую чашку с золотой надписью: «С днём ангела».
Так начался этот весёлый день, которому суждено было закончиться совершенно неожиданным и страшным образом.
Вечером к Павлику привели гостей — мальчиков и девочек. Все они были такие маленькие, что Петя считал ниже своего достоинства не то что играть с ними, но даже разговаривать.
Чувствуя на сердце необъятную тоску и тяжесть, Петя сидел в тёмной детской на подоконнике и смотрел в нарядно замёрзшее окно, где среди ледяных папоротников мерцал золотой орех уличного фонаря.
Зловещее предчувствие омрачало Петину душу. А из гостиной струился жаркий, трескучий свет ёлки, пылающей костром свечей и золотого дождя. Слышались подмывающие звуки фортепьяно. Это отец, расправив фалды сюртука и гремя крахмальными манжетами, нажаривал семинарскую польку. Множество крепких детских ножек бестолково топало вокруг ёлки.
— Ничего, терпи, казак, — сказала тётя, проходя мимо Пети. — Не завидуй. И на твоей улице будет праздник.
— А, тётя, вы совсем ничего не понимаете! — жалобно сказал мальчик. — Идите себе.
Но вот наступил желанный миг раздачи орехов и пряников. Дети обступили ёлку и, став на цыпочки, потянулись к пряникам, сияющим, как ордена. Ёлка зашаталась, зашумели цепи.
И вдруг раздался звонкий, испуганный голосок:
— Ой, смотрите, у меня надкусанный пряник!
— Ой, и у меня!
— У меня — два, и все объеденные...
— Э! — сказал кто-то разочарованно. — Они уж вовсе не такие новые. Их уже один раз кушали.
Тётя стояла красная до корней волос среди надкусанных пряников, протянутых к ней со всех сторон.
Наконец её глаза остановились на Павлике:
— Это ты сделал, скверный мальчишка?
— Я, тётечка, их только чуть-чуть хотел попробовать, — сказал Павлик, невинно глядя на разгневанную тётю широко открытыми, янтарными от ёлки глазами. И прибавил со вздохом: — Я думал, они вкусные, а они, оказывается, только для гостей.
— Замолчишь ли ты, сорванец? — закричала тётя, всплеснув руками, и бросилась к буфету, где, к счастью, оставалось ещё много лакомств.
Все обиженные тотчас были удовлетворены, и скандал замяли. Скоро сонных гостей стали уносить по домам. Праздник кончился. Павлик занялся приведением своих сокровищ в порядок.
В это время в дверях детской таинственно появилась Дуня и поманила Петю.
— Паныч, вас на чёрной лестнице дожидается той скаженный Гаврик, — прошептала она, оглядываясь.
Петя бросился на кухню. Гаврик сидел на высоком подоконнике чёрного хода, прислонившись плечом к ледяному окну, игравшему синими искрами месяца. Из башлыка блестели маленькие злые глаза. Мальчик тяжело сопел.
В первый миг Петя подумал, что Гаврик пришёл за долгом. Он уже приготовился рассказать о несчастье, постигшем их с дедушкиными пуговицами, и дать честное благородное слово, что не позже как через два дня расквитается. Но Гаврик торопливо вытащил из-за пазухи ватной кофты четыре хорошо знакомых мешочка и сунул их Пете.
— Сховай, и будем с тобой в расчёте, — тихо и твёрдо сказал он. — От Иосифа Карловича остаток, царство ему небесное. — При этих словах Гаврик истово перекрестился. — Сховай и держи, пока не пригодятся.
— Сховаю, — шёпотом ответил Петя.
Гаврик долго молчал. Наконец резко вытер кулачком под носом и сполз с подоконника.
— Ну, Петька... Будь здоров...
— А те — ушли тогда?
— Ушли. По крышам. Теперь их повсюду ищут.
Гаврик задумался, не сказал ли чего-нибудь лишнего, но потом доверчиво приблизился к самому Петиному уху и прошептал:
— Уй, сколько народа похватали! Ну, их не споймают. Я тебе говорю. Они в катакомбах отсиживаются. Все ихние боевики тама. Весной опять начнут. А Терентия жену с маленькими детьми — с Женечкой и Мотечкой — хозяин дома с квартиры выселяет. Такое дело...
Гаврик озабоченно почесал брови.
— Не знаю теперь, что мне с ними делать. Верно, придётся всем вместе переезжать с Ближних Мельниц в дедушкину хибарку. А дедушка, знаешь, совсем никуда стал. Верно, скоро помрёт. Ты до нас когда-нибудь, Петька, всё-таки заскочи. Только пережди время. Главное, мешочки хорошенько сховай. Ничего. «Ты не плачь, Маруся, будешь ты моя». Дай пять.
Гаврик сунул Пете руку дощечкой и побежал, дробно стуча своими разбитыми чоботами по лестнице. Петя вернулся в детскую и спрятал мешочки в ранец под книги.
Но тут вдруг с невероятным стуком распахнулась дверь, и в комнату вошёл быстро отец, держа в руках изуродованный вицмундир.
— Что это значит? — спросил он таким тихим голосом, что мальчик чуть не потерял сознание.
— Святой истинный крест... — пробормотал Петя, но находя в себе сил перекреститься.
— Что это значит? — заорал отец и затрясся, багровея.
И в ту же секунду, как бы откликаясь на гневный голос отца, из гостиной раздался душераздирающий рёв Павлика.
Маленький мальчик вбежал, шатаясь на ослабевших от ужаса ножках, и обнял отца за колени. Его четырёхугольный ротик был так широко разинут, что ясно виднелось орущее горло. Дрожал крошечный язычок. Текли слёзы. В пухлой ручке прыгала открытая копилка, полная вместо денег всякой гремучей дряни.
— П... па... п... па! — икая, лепетал Павлик. — Пе-еть... ка меня... обо... ик... обо... крал!
— Честное благород... — начал Петя, но отец уже крепко держал его за плечи.
— Негодный мальчишка, сорванец, — кричал он, — я знаю всё! Ты играешь в азартные игры! Лгунишка!
Он с такой яростью стал трясти Петю, точно хотел вытрясти из мальчика душу. Нижняя челюсть его прыгала, и прыгало на чёрном шнурке пенсне, соскользнувшее с вспотевшего носа, пористого, как пробка.
— Сию же минуту давай сюда эти... как они там у вас называются... чушки или душки...
— Ушки, — криво улыбнувшись, пролепетал Петя, надеясь как-нибудь обернуть дело в шутку.
Но, услышав слово «ушки» из уст сына, отец вскипел ещё пуще:
— Ушки? Отлично... Где они? Сию же минуту давай их сюда. Где эта уличная мерзость? Где эти микробы? В огонь! В плиту! Чтобы духу их не было!
Он стремительно осмотрел комнату и бросился к ранцу.
Петя, рыдая, бежал за ним по коридору до самой кухни, куда отец, широко и нервно шагая, быстро и брезгливо, как дохлых котят, нёс мешочки.
— Папочка! Папочка! — кричал Петя, хватая его за локти. — Папочка!
Отец грубо оттолкнул Петю, затем шумно сдвинул кастрюлю, и, яростно пачкая сажей манжеты, сунул мешочки к пылающую плиту.
Мальчик замер от ужаса.
— Тикайте! — закричал он не своим голосом.
Но в этот миг в плите застреляло. Раздался небольшой взрыв. Из конфорки рванулось разноцветное пламя. Лапша вылетела из кастрюльки и прилипла к потолку. Плита треснула. Из трещин повалил едкий дым, в одну минуту наполнивший кухню.
Когда плиту залили водой и выгребли золу, в ней нашли кучу обгоревших гильз от револьверных патронов.
Но ничего этого Петя уже не помнил. Он был без сознания. Его уложили в постель. Он весь горел. Поставили термометр. Оказалось тридцать девять и семь десятых.
42. КУЛИКОВО ПОЛЕ
Едва кончилась скарлатина, началось воспаление лёгких. Петя проболел всю зиму. Лишь в середине великого поста он стал ходить по комнатам.
Приближалась весна. Сначала ранняя весна, совсем-совсем ранняя. Уже не зима, но ещё далеко и не весна.
Недолгий, южный снег, которым мальчику так и не пришлось насладиться в этом году, давно сошёл. Стояла сухая серая погода одесского марта.
На слабых ногах Петя слонялся по комнатам, сразу сделавшимся, как только он встал с кровати, маленькими и очень низкими. Он становился на цыпочки перед зеркалом в тёмной передней и с чувством щемящей жалости разглядывал своё вытянувшееся белое лицо с тенями под неузнаваемыми какими-то испуганно-изумлёнными глазами.
Всю первую половину дня мальчик оставался в квартире совершенно один: отец бегал по урокам, тётя гуляла с Павликом.
От шума пустынных комнат нежно кружилась голова. Резкий стук маятника пугал своей настойчивостью, неумолимой непрерывностью. Петя подходил к окнам. Они были ещё по-зимнему закупорены — с валиком пожелтевшей ваты, посыпанной настриженным гарусом, между рамами.
Мальчик видел нищету серой, сухой мостовой, чёрствую землю Куликова поля, серое небо с еле заметными, водянистыми следами голубизны. Из кухонного окна виднелись голубые прутики сирени на полянке. Петя знал, что если сорвать зубами эту горькую кожицу, то обнаружится изумительно зелёная фисташковая плоть.
Редко и погребально дрожал в воздухе низкий бас великопостного колокола, вселяя в сердце дух праздности и уныния.
И всё же в этом скудном мире уже были заложены — и только дожидались своего часа — могущественные силы весны. Они ощущались во всём. Но особенно сильно — в луковицах гиацинтов.
Комнатная весна была ещё спрятана в тёмном чулане. Там среди хлама, в мышином запахе домашней рухляди, тётя расставила вдоль стен узкие вазончики. Петя знал, что прорастание голландских луковиц требует темноты. В темноте чулана совершалось таинство роста.
Из шёлковой истощённой шелухи луковицы прорезывалась бледная, но крепкая стрела. И мальчик знал, что как раз к самой пасхе чудесно появятся на толстой ножке тугие, кудрявые соцветия бледно-розовых, белых и лиловых гиацинтов.
А между тем Петино детское сердце ныло и тосковало в этом пустом, сером мире весеннего равноденствия.
Дни прибывали, и мальчику уже нечем было заполнить невероятно растянувшиеся часы между обедом и вечером. О, как они были длинны, эти тягостные часы равноденствия! Они были ещё длиннее пустынных улиц, бесконечно уходивших в сторону Ближних Мельниц.
Пете уже разрешали гулять возле дома. Он медленно ходил взад и вперёд по сухому тротуару, жмурясь на солнце, садившееся за вокзалом.
Ещё год тому назад вокзал казался ему концом города. За вокзалом уже начиналась география. Теперь же мальчик знал, что за вокзалом продолжается город, тянутся длинные пыльные улицы предместий. Он ясно представлял себе их уходящими на запад.
Там в перспективе, заполняя широкий просвет между скучными кирпичными домами, висит чудовищный круг красного допотопного солнца, лишённого лучей и всё же ослепляющего резким, угрюмым светом.
За две недели до пасхи биндюжники привезли на Куликово поле лес. Появились плотники, землекопы, десятники. Во всех направлениях по земле протянулись ленты рулеток. Подрядчики со складными жёлтыми аршинами в наружных карманах зашагали, отмеривая участки. Это началась постройка пасхальных балаганов.
Для Пети не было большего удовольствия, чем бродить по Куликову полю среди ящичков с большими гвоздями, топоров, пил, брёвен, щепы, гадая, где что будет выстроено. Каждый новый ряд вкопанных столбов, каждая новая канава, каждый обмеренный рулеткой и отмеченный колышками участок тревожили воображение.
Разыгравшаяся фантазия рисовала сказочной красоты балаганы, полные чудес и тайн, в то время как рассудительный опыт твердил, что всё будет точно таким же, как и в прошлом году. Не хуже, не лучше. Но фантазия не могла примириться с этим — она требовала нового, небывалого. Петя подходил к рабочим, к подрядчикам, тёрся возле них, желая что-нибудь выпытать:
— Послушайте, вы не знаете, что здесь будет?
— Известно, что. Балаган.
— Я знаю, что балаган, а какой?
— Известно, какой. Деревянный.
Мальчик притворно хохотал, стараясь подольститься:
— Да я сам знаю, что деревянный. Вот комик! А что в нём будет? Цирк?
— Цирк.
— Как же цирк, когда цирк круглый, а это не круглое?
— Значит, не цирк.
— Может быть, паноптикум?
— Паноптикум.
— Такой маленький?
— Значит, не паноптикум.
— Нет, серьёзно, что?
— Нужник.
Багровея от неприличного слова, Петя хохотал ещё громче, готовый на все унижения, лишь бы узнать хоть что-нибудь.
— Ха-ха-ха! Нет, серьёзно, скажите, что здесь будет?
— Иди, мальчик, иди, тебе здесь не компания. На уроки опоздаешь.
— Я ещё не хожу в гимназию. У меня была скарлатина, а потом воспаление лёгких.
— Так иди и ляжь в постелю, чем путаться под ногами. Не морочь людям голову!
И Петя, натянуто улыбаясь, отходил прочь, продолжая ломать голову над неразрешимым вопросом.
Впрочем, было отлично известно: всё равно до тех пор, пока балаганы не обтянут сверху холстом и не увешают картинами, ничего нельзя узнать. Это было так же невозможно, как угадать, какого цвета распустится к первому дню пасхи гиацинт из бледной ножки.
В страстную субботу в балаганы привезли в высшей степени таинственные зелёные ящики и сундуки с надписью: «Осторожно». Но в Одессе не было ни одного мальчика, который знал бы, что находится в этих сундуках.
Можно было только предполагать, что это восковые фигуры, волшебные столики фокусников или тяжёлые плоские змеи с тусклыми глазами и раздвоенным жалом.
Было также известно, что в одном из этих сундуков находится женщина-русалка с дамским бюстом и чешуйчатым хвостом вместо ног. Но как она там живёт без воды? Или, может быть, в сундуке заключена ванна? Или женщина-русалка упакована в мокрую тину? Обо всём этом можно было только догадываться.
Петя сходил с ума от нетерпения, дожидаясь начала ярмарки. Ему казалось, что ещё ничего не готово, что всё пропало, что вдруг ярмарка в этом году так и не откроется.
Но его опасения оказались напрасны. К первому дню праздника всё было готово: картины развешаны, столбы из флагов выбелены, площадь обильно полита из длинных зелёных бочек, которые целый день накануне разъезжали между балаганами, черня сухую землю сверкающими граблями воды.
Одним словом, пасха пришла и расцвела в тот самый день, в который ей и полагалось по календарю.
Утомительно трезвонили колокола, среди взбитых облаков летело свежее солнце. Тётя в белом кружевном платье резала ветчину, отогнув кожу окорока, толстую и круглую, как револьверная кобура.
Сахарные барашки стояли на куличах. Розовый Христос летел, как балерина, на проволочке, подняв бумажную хоругвь. Вокруг зелёной кресс-салатной горки лежали разноцветные крашенки, до глянца натёртые коровьим маслом, выпукло отражая вымытые окна.
Кудрявые гиацинты в вазонах, обёрнутых розовой гофрированной бумагой, исходили удушающе-сладким и вместе с тем смертным, погребальным своим ароматом, таким густым, что казалось: это он курился сиреневыми волокнами в солнечных лучах над пасхальным столон.
Но именно этот первый день пасхи и был для Пети особенно невыносимо долог и скучен. Дело в том, что на первый день пасхи запрещались все без исключения зрелища и гуляния. Этот день полиция посвящала богу. Но зато в двенадцать часов следующего — с разрешения начальства — люди начинали веселиться.
Ровно в полдень раздался свисток дежурного околоточного, и посредине Куликова поля на высокой выбеленной мачте развернулся трёхцветный флаг.
И тотчас началось нечто невообразимое. Ударили турецкие барабаны полковых оркестров. Грянули шарманки и органчики каруселей. Раздались обезьяньи картавые крики рыжих и фокусников, пронзительно зазывающих публику с выбеленных помостов балаганов. Завертелся стеклярус, понеслись коляски и лошадки.
В головокружительное голубое, облачное небо ударили утлые кораблики качелей. Всюду настойчиво, без передышки, колотили в небольшие медные колокола и треугольники. Разносчик пронёс на голове сверкающий стеклянный кувшин с ледяной крашеной водой, где болталось несколько кружочков лимона, кусок льда и пыльное серебряное солнце.
И рябой солдат-портартуровец в косматой чёрной папахе, проворно скинув сапоги, уже лез, окружённый толпой, по намыленному столбу, на верхушке которого лежали призовая бритва и помазок.
В продолжение семи дней с полудня до заката гремела головокружительная карусель Куликова поля, наполняя квартиру Бачей разноголосым гамом предместий, пришедших повеселиться.
Целый день, с утра до вечера, Петя проводил на Куликовом поле. Он почему-то был уверен, что непременно встретится здесь с Гавриком. Очень часто, завидев в толпе лиловые бобриковые штаны и морскую фуражечку с якорными пуговицами — так был одет Гаврик в прошлую пасху, — Петя бросался, расталкивая людей, но всегда напрасно.
Что-то общее с Ближними Мельницами было в этом простонародном гулянье, где у многих мужчин оказывались тоненькие железные тросточки, как у Терентия, и у множества девочек — бирюзовые серёжки, как у Моти.
Но ожидание обмануло Петю. Кончился последний день ярмарки. Оркестры сыграли последний раз марш «Тоска по родине». Флаг был спущен. Повсюду раздавались трели полицейских свистков. Площадь опустела. Всё было кончено до следующей пасхи.
Печальный закат долго и угрюмо горел за нарядными, страшно тихими балаганами, за железными колёсами неподвижных перекидок, за пустыми флагштоками.
Лишь изредка среди невыносимо густой тишины пролетевшего праздника раздавались потрясающий утробный рёв льва и резкий хохот гиены.
Наутро приехали биндюжники, и через два дня от ярмарки не осталось и следа. Куликово поле опять превратилось в чёрную, скучную площадь, с которой по целым дням долетали поющие голоса ефрейторов, обучавших солдат.
— Напра-а-а... ва! Ать, два!
— Нале-е-о-е... оп! Ать, два!
— Кр-р-ру-у... хеш! Ать два!
А дни становились всё длиннее, всё незаполнимей. И вот однажды Петя отправился на море, в гости к Гаврику.
43. ПАРУС
Дедушка умирал.
И Гаврик, и Мотя, и Мотина мама, и Петя, проводивший теперь почти всё время на море, — все знали, что дедушка скоро умрёт.
Знал это и сам дедушка. С утра до вечера он лежал на провисшей железной кровати, вынесенной из хибарки на свежий воздух, на тёплое апрельское солнце.
Когда Петя в первый раз подошёл к нему поздороваться, мальчик был смущён чистотой и прозрачностью дедушкиного лица, светившегося на красной подушке тонкой подкожной лазурью.
Обросшее довольно длинной белой бородой, спокойное и ясное, лицо это поразило Петю своей красотой и важностью. Но самое удивительное и самое жуткое было в нём то, что оно как бы не имело возраста, находилось уже вне времени.
— Здравствуйте, дедушка, — сказал Петя.
Старик повернул глаза с бескровными фиалковыми веками, долго смотрел на гимназистика, но, по-видимому не узнал.
— Это ж я, Петя, с Канатной, угол Куликова.
Дедушка неподвижно смотрел вдаль.
Вы ему, дедушка, прошлый год ещё грузило из пломбы отливали, — напомнил Гаврик. Не узнаёте?
Тень воспоминания, далёкого, как облако, прошла по лицу старика. Он ясно, сознательно улыбнулся, показав дёсны, и проговорил тихо, но без особого усилия:
— Грузило. Да. Делал. Свинцовое.
И ласково посмотрел на Петю, жуя губами.
— Ничего. Подрос. Иди себе, деточка, иди. Поиграйся на бережку в кремушки. Поиграйся. Только в воду, смотри, не упади.
Вероятно, Петя представлялся ему совсем ещё маленьким ребёнком, вроде правнучка Женечки, ползавшего тут же в жёлтых цветах одуванчика. Время от времени старик приподнимал голову, желая полюбоваться своим хозяйством.
После переезда семьи Терентия всё здесь стало неузнаваемо. Можно было подумать, что они привезли с собой сюда кусочен Ближних Мельниц.
Жена Терентия вымазала к пасхе глиняный пол, выбелила хибарку внутри и снаружи.
Помолодевшая хатка весело блестела на солнце вымытыми стёклами, обведёнными синькой.
Вокруг неё зеленели готовые распуститься петушки, и в петушках были рассажены Мотины куклы, изображавшие знатных дам, выехавших на дачу.
На верёвках сушилось разноцветное бельё. Мотя с волосами, как у мальчика, поливала огород, обеими руками прижимая к животу большую лейку. На проволоке между двумя столбами бегала, кисло улыбаясь, собака Рудько. Возле огорода дымилась глиняная печь с вмазанным вместо трубы чугунком без дна. Вкусно пахло придымлённым кулешом.
Мотина мама в сборчатой юбке стояла, наклонившись над корытом. Вокруг неё в воздухе плавали мыльные пузыри.
И дедушке иногда казалось, что время повернуло вспять, что ему, дедушке, скова сорок лет. Покойница-бабка только что выбелила хибарку. По одуванчикам ползёт внучек Терентий. На крыше лежит мачта, обёрнутая новеньким, только что купленным парусом.
Вот сейчас дедушка взвалит мачту на плечо, захватит под мышку вёсла, деревянный руль, зашпаклеванный суриком, и пойдёт на бережок снаряжать шаланду.
Но память быстро возвращалась. Старика вдруг начинали одолевать хозяйские заботы. Он с трудом приподнимался на локте и подзывал Гаврика.
— Что вам, дедушка?
Старик долго жевал губами, собираясь с силами.
— Шаланду не унесло? — спрашивал он наконец, и брови его поднимались горестно, домиком.
— Не унесло, дедушка, не унесло. Вы лучше ляжьте.
— Её смолить надо...
— Засмолю, дедушка, не бойтесь. Ляжьте.
Дедушка покорно ложился, но через минуту подзывал Мотю:
— Ты что там делаешь, деточка?
— Картошку поливаю.
— Умница. Поливай. Не жалей водички. Л бурьян вырываешь?
— Вырываю, дедушка.
— А то он скрозь весь огород заглушит. Ну, иди, деточка, отдохни, поиграйся в свои куколки.
Дедушка снова тяжело отваливался на спину.
Но тут начинал лаять Рудько, и старик поворачивал сердитые глаза с нависшими бровями. Ему казалось, что он очень громко, по-хозяйски, кричит на разбаловавшуюся собаку: «А ну, Рудько, цыц! Вот скаженная! На место! Цыц!»
А на самом деле выходило чуть слышно:
— Тсц, ты, тсц...
Но большую часть времени дедушка неподвижно смотрел вдаль. Там, между двумя прибрежными горками, виднелся голубой треугольник моря со множеством рыбачьих парусов. Глядя на них, старик не торопясь разговаривал сам с собой:
— Да, это верно. Ветер любит парус. С парусом совсем не то, что без паруса. Под парусом иди себе куда хочешь. Хочешь, иди в Дофиновку, хочешь — в Люстдорф. Под парусом можно сходить и в Очаков, и в Херсон, и даже в Евпаторию. А без паруса, на одних вёслах, это что ж: курям на смех! До Большого Фонтана за четыре часа не догребёшь. Да назад четыре часа. Нет, если ты рыбак, то тебе надо парус. А без паруса лучше в море и не выходи. Один только срам. Шаланда без паруса всё равно что человек без души. Да.
Всё время, не переставая, дедушка думал о парусе.
Дело в том, что как-то ночью на минуточку заходил Терентий повидаться с семьёй. Он принёс детям гостинцев, оставил жене на базар три рубля и сказал, что на днях постарается справить новый парус.
С этого времени дедушка перестал скучать. Мечты о новом парусе наполняли его. Он так ясно, так отчётливо видел этот новый парус, как будто бы тот уже стоял перед ним — тугой, суровый, круглый от свежего ветра.
Обессиленный навязчивой мыслью о парусе, дедушка впадал в забытье. Он переставал понимать, где он и что с ним, продолжая только чувствовать.
Сознание, отделявшее его от всего, что было не им, медленно таяло. Он как бы растворялся в окружавшем его мире, превращаясь в запахи, звуки, цвета...
Крутясь вверх и вниз, пролетала бабочка-капустница с лимонными жилками на кремовых крылышках. И он был одновременно и бабочкой и её полётом.
Рассыпалась по гальке волна — он был её свежим шумом. На губах стало солоно от капли, принесённой ветерком, — он был ветерком и солью.
В одуванчиках сидел ребёнок — он был этим ребёнком, а также этими блестящими цыплячье-жёлтыми цветами, к которым тянулись детские ручки.
Он был парусом, солнцем, морем... Он был всем. Но он не дождался паруса.
Однажды утром Петя пришёл на море и не нашёл возле хибарки старика. На том месте, где обычно стояла его кровать, теперь были устроены козлы, и на них чужой рослый старик с киевским крестиком на чёрной шее стругал доску. Длинная стружка, туго завиваясь, штопором лезла из рубанка.
Тут же стояла Мотя в новом, но некрасивом, ни разу не стиранном коленкоровом платье и в тесных ботинках.
— А у нас дедушка сегодня умер, — сказала она, близко подойдя к мальчику.
— Хочешь посмотреть?
Девочка взяла Петю за руку холодной рукой и, стараясь не скрипеть ботинками, ввела в мазанку.
Дедушка с выпукло закрытыми глазами и подбородком, подвязанным платком, лежал на той же самой жидкой кровати. Из крупных рук, высоко выложенных на груди поверх иконы св. Николая, торчала жёлтая свечечка. Сквозь вымытое стекло падал столб такого яркого и горячего солнечного света, что пламени свечки совсем не было видно. Над расплавленной ямкой воска виднелся лишь чёрный крючок фитилька, окружённый зыбким воздухом, дававшим понять, что свеча горит.
На третий день дедушку похоронили.
Ночью накануне похорон явился Терентий, ничего не знавший о смерти деда. На плече Терентий держал громадный, тяжёлый свёрток. Это был обещанный парус. Терентий свалил его в угол и некоторое время стоял перед дедушкой, уже положенным в сосновый некрашеный гроб. Потом, не перекрестившись, крепко поцеловал старика в твёрдые, ледяные губы и молча вышел вон.
Гаврик проводил брата берегом до Малого Фонтана. Отдав кое-какие распоряжения относительно похорон, на которые он, конечно, не мог прийти, Терентий пожал младшему брату руку и скрылся.
... Четыре русоусых рыбака несли на плечах дедушку в лёгком открытом гробу.
Впереди, рядом с матросом в изодранном мундире, нёсшим на плече грубый крест, шёл чистенький, умытый, аккуратно причёсанный Гаврик. Он держал на полотенце громадную глиняную миску с колевом.
Гроб провожали Мотина мама с Женечкой на руках, Мотя, Петя и несколько соседей-рыбаков в праздничных костюмах, всего человек восемь. Но по мере приближения к кладбищу народу за гробом становилось всё больше и больше.
Слух о похоронах старого рыбака, избитого в участке, непонятным образом облетел весь берег от Ланжерона до Люстдорфа.
Из приморских переулков целыми семьями и куренями выходили рыбаки — малофонтанские, среднефонтанские, сдачи Вальтуха, из Аркадии, с Золотого Берега, — присоединяясь к процессии.
Теперь за нищим гробом дедушки в глубоком молчании шла уже толпа человек в триста.
Был последний день апреля. Собирался дождик. Воробьи, расставив крылья, купались в мягкой пыли переулков. Серое асфальтовое небо стояло над садами. На нём с особенной резкостью выделялась молодая однообразная зелень, вяло повисшая в ожидании дождя.
Во дворах сонно кукарекали петухи. Ни один луч солнца не проникал сквозь плетёные облака, обдававшие духотой.
Возле самого кладбища к рыбакам стали присоединяться мастеровые и железнодорожники Чумки, Сахалинчика, Одессы-Товарной, Молдаванки, Ближних и Дальних Мельниц. Кладбищенский городовой с тревожным удивлением смотрел на громадную толпу, валившую в ворота.
Кладбище, как и город, имело главную улицу, соборную площадь, центр, бульвар, предместья. Сама смерть казалась бессильной перед властью богатства. Даже умерев, человек продолжал оставаться богатым или бедным.
Толпа молча прошла по главной улице тенистого города мертвецов, мимо мраморных, гранитных, лабрадоровых фамильных склепов — этих маленьких роскошных вилл, за чугунными оградами которых в чёрной зелени кипарисов и мирт стояли, опустив крылья, каменные высокомерные ангелы.
Здесь каждым участком земли, купленным за баснословные деньги, по наследству владели династии богачей.
Толпа миновала центр и свернула на менее богатую улицу, где уже не было особняков и мавзолеев. За железными оградами лежали мраморные плиты, окружённые кустами сирени и жёлтой акации. Дожди смыли позолоту с выбитых имён, и маленькие кладбищенские улитки покрывали серые от времени мраморные доски.
Затем пошли деревянные ограды и дерновые холмики.
Потом — скучные роты голых солдатских могил с крестами, одинаковыми, как винтовки, взятые на караул.
Но даже и этот район кладбища оказался слишком богатым для дедушки. Дедушку зарыли на узкой лужайке, усеянной лиловыми скорлупками пасхальных крашенок, у самой стены, за которой уже двигались фуражки конной полиции. Люди тесным кольцом окружили могилу, куда медленно опускалась на полотенцах лёгкая лодка нищего гроба.
Всюду Петя видел потупленные лица и большие чёрные руки, мявшие картузы и фуражки.
Тишина была такой полной и угрюмой, а небо — таким душным, что мальчику казалось: раздайся хоть один только резкий звук, и в природе произойдёт что-то страшное — смерч, ураган, землетрясение...
Но всё вокруг было угнетающе тихо.
Мотя, так же как и Петя, подавленная этой тишиной, одной рукой держалась за гимназический пояс мальчика, а другой — за юбку матери, неподвижно глядя, как над могилой вырастает жёлтый глиняный холм.
Наконец в толпе произошло лёгкое, почти бесшумное движение. Один за другим, не торопясь и не толкаясь, люди подходили к свежей могиле, крестились, кланялись в пояс и подавали руку скачала Мотиной маме, потом Гаврику.
Гаврик же, дав Пете держать миску, аккуратно и хозяйственно насупившись, выбирал новенькой деревянной ложкой колево — каждому понемногу, чтобы всем досталось, и клал его в протянутые ковшиком руки и в шапки. Люди с бережным уважением, стараясь не уронить ни зёрнышка, высыпали колево в рот и отходили, уступая место следующим.
Это было всё, что могла предложить дедушкина семья друзьям и знакомым, разделявшим её горе.
Некоторым из подходивших за колевом рыбакам Гаврик говорил с поклоном:
— Кланялся вам Терентий, просил не забывать: завтра часов в двенадцать маёвка на своих шаландах против Аркадии.
— Приедем.
Наконец в опустошённой миске осталось всего четыре лиловых мармеладки. Тогда Гаврик с достоинством поклонился тем, кому не хватило, сказал: «Извиняйте», — и распределил четыре лакомых кусочка между Женечкой, Мотей и Петей, не забыв, однако, и себя. Давая Пете мармеладку, он сказал:
— Ничего. Она хорошая. Братьев Крахмальниковых. Скушай за упокой души. Поедешь завтра с нами на маёвку?
— Поеду, — сказал Петя и поклонился могиле в пояс, так же точно, как это делали все другие.
Толпа не спеша разошлась. Кладбище опустело. Где-то далеко, за стеной, послышался одинокий голос, затянувший песню. Её подхватили хором:
Прощай же, товарищ, ты честно прошёл
Свой доблестный путь благородный!
Но тотчас раздался полицейский свисток. Песня прекратилась. Петя услышал шум множества ног, бегущих за стеной. И всё стихло.
Несколько капель дождя окропило могилу. Но дождик лишь подразнил — перестал, не успев начаться. Стало ещё более душно, сумрачно.
Мотя с мамой, Гаврик и Петя в последний раз перекрестились и пошли домой.
Петя простился с друзьями у Куликова поля.
— Так не забудь, — сказал Гаврик многозначительно.
— Говоришь! — Петя с достоинством кивнул головой.
Затем он, как бы невзначай, подошёл к Моте. Унизительно краснея от того, что приходится обращаться с вопросом к девчонке, он быстро шепнул:
— Слышь, Мотька, что такое маёвка?
Мотя сделала строгое, даже несколько постное лицо и ответила:
— Рабочая пасха.
44. МАЁВКА
Тёплый дождик шёл всю ночь. Он начался в апреле и кончился в мае. В девятом часу утра ветер унёс последние капли.
Море курилось парным туманом, сливаясь с ещё не расчищенным небом. Горизонт отсутствовал. Купальни как бы висели в молочном воздухе. Лишь извилистые и глянцевитые отражения свай покачивались на волне цвета бутылочного стекла.
Гаврик и Петя гребли, с наслаждением опуская вёсла в воду, тёплую даже на вид.
Сначала наваливались — кто кого перегребёт. Но Пете трудно было тягаться с Гавриком. Маленький рыбак без особого труда одолевал гимназистика, и лодка всё время крутилась.
— А ну, хлопцы, не валяйте дурака! — покрикивал Терентий, сидевший на корме, играя своей железной палочкой. — Шаланду перекинете!
Мальчики перестали тягаться, но сейчас же придумали новую игру — кто меньше брызнет.
До сих пор брызгали довольно мало. Но едва только начали стараться, брызги, как нарочно, так и полетели из-под вёсел. Тогда мальчики стали толкать друг друга плечами и локтями.
— Уйди, босявка! — кричал Петя, заливаясь хохотом.
— От босявки слышу! — бормотал Гаврик, поджав губы, и вдруг нечаянно пустил из-под весла такой фонтан, что Терентий едва успел спастись, сев на дне.
Оба мальчика задохнулись от смеха, у Пети изо рта пошли даже пузыри.
— Что ж ты брызгаешься, чертяка?
— А ты не каркай под руку!
Терентий хотел было не на шутку рассердиться, но тут и его самого разобрало неудержимое, мальчишеское веселье. Он сделал зверское лицо, схватился руками за оба борта и стал изо всех сил качать шаланду.
Мальчики повалились друг на друга, стукнулись головами, заорали благим матом. Потом принялись бешено колотить вёслами по воде, окатывая Терентия с двух сторон целыми снопами брызг.
Терентий не остался в долгу: он проворно сунулся к воде, отворотил зажмуренное лицо и, молниеносно работая ладонями, стал обливать мальчиков. Через минуту всё трос оказались мокрыми с ног до головы. Тогда они, хохоча и отдуваясь, повалились на банки и в изнеможении застонали.
Ветерок уносил туман. Из воды в глаза ударило солнце, словно под лодку вдруг подставили зеркало.
Берег проявлялся из мути, как переводная картинка.
Яркий майский день заиграл всеми своими голубыми, сиреневыми и зелёными красками.
— Ну, побаловались, и будет, — строго сказал Терентий, вытирая рукавом мокрый лоб с белым атласным шрамом. — Пошли дальше.
Мальчики стали серьёзны и налегли на вёсла. Петя старательно сопел, высунув язык. Правду сказать, он немного уже устал. Но он ни за что не сознался бы в этом перед Гавриком.
Кроме того, мальчика сильно беспокоил вопрос: маёвка это уже или ещё не маёвка? Однако ему не хотелось спрашивать, чтобы опять не оказаться в дураках, как тогда с Ближними Мельницами.
Мотя сказала, что маёвка — это рабочая пасха. Но вот они уже добрых полчаса плывут вдоль берега, а до сих пор что-то не видать ни кулича, ни окорока, ни крашеных яиц. Впрочем, может быть, это так и полагается. Ведь пасха-то не просто пасха, а рабочая.
Вес же в конце концов мальчик не выдержал.
— Послушайте, — сказал он Терентию, — это уже самая маёвка или ещё нет?
— Ещё не маёвка.
— А когда она будет? Скоро?
Сказав это, Петя тотчас приготовил преувеличенно весёлую, льстивую улыбку.
На основании долголетнего опыта разговоров со взрослыми он знал, что сейчас ему ответят: «Как начнётся, так и будет». — «А когда начнётся?» — «Как будет, так и начнётся».
Но, к Петиному удивлению, Терентий ответил ему совершенно как взрослому:
— Сначала подъедем до Малого Фонтана — заберём одного человека, а там и маёвку будем начинать.
Действительно, на Малом Фонтане в шаланду прыгнул франтоватый господин с тросточкой и верёвочной кошёлкой. Он со всего маху сел рядом с Терентием, воровато оглянулся на берег и сказал:
— Навались. Поехали.
Это был матрос. Но боже мой, как он был наряден!
Мальчики смотрели на него с полуоткрытыми ртами, восхищённые и подавленные его неожиданным великолепием. Они до сих пор даже не предполагали, что человек может быть так прекрасен.
Мало того, что на нём были кремовые брюки, зелёные носки и ослепительно белые парусиновые туфли.
Мало того, что из кармана синего пиджака высовывался алый шёлковый платок и в галстуке рисунка «павлиний глаз» сверкала сапфировая подковка.
Мало того, что на груди коробком стояла крахмальная манишка, а щёки подпирал высокий крахмальный воротник с углами, отогнутыми, как у визитной карточки.
Наконец, мало того, что твёрдая соломенная шляпа «канотье» с полосатой лентой франтовски сидела на затылке.
Всего этого было ещё мало.
На животе у него болталась цепочка со множеством брелоков, а на изящно растопыренных руках красовались серые матерчатые перчатки. И это окончательно добивало.
Если до сих пор для мальчиков ещё не вполне был выяснен вопрос, кто роскошнее всех на свете — писаря или квасники, то теперь об этом смешно было думать. Можно было смело — не глядя! — отдать всех квасников и всех писарей за одни только закрученные усики матроса.
Мальчики даже грести перестали, заглядевшись на франта.
— Ой, Петька! — воскликнул Гаврик. — Смотри, у него перчатки!
Матрос сплюнул сквозь зубы так далеко, как мальчики никогда даже и во сне не плевали, и, сердито посмотрев на Гаврика, сказал:
— А кому это надо, чтобы кажный-всякий клал глаза на мой якорь? Я на него чехол надел. Ну, братишечки, будет дурака валять.
Матрос вдруг приосанился, закрутил усы, чёртом посмотрел на Терентия, подыхавшего со смеху, и гаркнул:
— Эй, на катере! Слушать мою команду! Вёсла-а-а.. на воду! Ать! Ать! — запел он, представляя боцмана. — Правое табань, левое навались! Ать!.. Ать!..
Мальчики навалились. Лодка повернула в открытое море, горевшее впереди серебряным пламенем полудня. Там, в полуверсте от берега, виднелось скопление рыбачьих шаланд. Жгучее чувство радостного страха охватило Петю.
С таким же точно чувством он в первый раз шёл за Гавриком осенью по оцепленным кварталам города. Но тогда мальчики были одни. Теперь же с ними находились могущественные и таинственные взрослые, которые даже и виду не подавали, что когда-нибудь прежде видели Петю.
А между тем мальчик понимал, что они его прекрасно помнят и знают. Матрос даже один раз подмигнул Пете, как бы желая сказать: ничего, брат, живём!
Со своей стороны, Петя тоже делал вид, что в первый раз в жизни видит матроса. И это было весело, хотя и жутковато. Вообще у всех в лодке настроение было приподнятое, взвинченное, какое-то чересчур радостное.
Скоро шаланда очутилась среди множества других рыбачьих шаланд, болтавшихся на одном месте против Аркадии, как это и было условлено заранее.
Целая флотилия разноцветных лодок окружила старую, облезшую посудину покойного дедушки.
Все рыбаки, шедшие вчера за гробом старика — малофонтанские, среднофонтанские, с дачи Вальтуха, из Арка дни, с Золотого Берега, — собрались сегодня здесь. Пришли некоторые дальние — люстдорфские и дофиновские. Затесался даже один очаковский. Все были между собой хорошо знакомы — друзья и соседи.
Пользуясь случаем, рыбаки переговаривались, свесивши руки и чубы за борт. Гам стоял, как на привозе. Каждую новую шаланду встречали криками, брызгами, плеском вёсел.
Едва дедушкина шаланда, стукаясь о борты, въехала в круг, где уже плавало несколько пустых бутылок из-под пива «Санценбахера», как со всех сторон послышались восклицания:
— Здорово, Терентий!
— Осторожно! Не потопи наши калоши своим броненосцем!
— Эй, босяки, пропустите главного политического!
— Тереха! Дорогой друг! И где это ты споймал такого молодого человека? Нет спасения — жилет пике, бламанже, парле франсе!..
Терентий надул толстые щёки и с застенчивой важностью раскланивался на все стороны, размахивая картузиком с пуговичкой.
— Все на одного! — кричал он тонким голосом. — Бейте хоть не сразу, а по очереди. Здоров, Федя! Здоров, Степан! Здоров, дедушка Василий! О! Митя! Живой-здоровый! А я думал — тебя тута уже давно малофонтанские бычки съели! Ну, сколько вас на фунт сушёных? Саша! Выходи на левую!
Отгрызаясь таким образом от наседавших на него старых друзей-товарищей, Терентий жмурился и улыбался, растянув рот до ушей. Он с удовольствием посматривал вокруг, читая вслух названия лодок, окружавших его.
— «Соня», ещё одна «Соня», и ещё «Соня», и опять «Соня», и «Соня» с Люстдорфа, и ещё три «Сони» с Ланжерона! Вот это да! Восемь Соней, один я! «Надя», «Вера», «Люба», «Шура», «Мотя»... Ой, мамочка-мама! Куда мы заехали? Вертай назад! — кричал он, с притворным ужасом закрывая картузиком лицо.
Кроме этих шаланд, было ещё штуки четыре «Оль», штук шесть «Наташ», не меньше двенадцати «Трёх святителей» и ещё одна большая очаковская шаланда с несколько странным, но завлекательным названием: «Ай, Пушкин молодец».
Когда водворилась тишина и порядок, Терентий ткнул матроса локтем:
— Начинай, Родя.
Матрос не спеша снял шляпу, положил её на колени и крошечным гребешком расчесал усики. Затем он встал и, расставив для устойчивости ноги, произнёс ясно и громко, так, чтобы его услышали все:
— Здравствуйте, товарищи одесские рыбаки! С Первым вас мая!
Лицо его сразу сделалось скуластым, курносым, решительным.
— Тут мне послышалось, кому-то было интересно узнать, что я за такой сюда к вам приехал — интересный господинчик в перчаточках и в крахмалке, парля франсе. На это могу вам ответить, что я есть член Российской социал-демократической рабочей партии, фракции большевиков, посланный сюда к вам от Одесского объединённого комитета. И я есть такой же самый рабочий человек и моряк, как вы здесь все. А что касается крахмале жилет-пике, белые брючки, то на этот вопрос тоже могу я вам с удовольствием ответить одним вопросом. Вот вы все здесь одесские рыбаки и, наверное, знаете. Почему, скажите вы мне, рыба скумбрия носит на себе такую красивую голубую шкуру с синими полосками, вроде муаровыми? Не знаете? Так я вам могу свободно это объяснить. Чтоб тую скумбрию незаметно было в нашем голубом Чёрном море и чтоб она не так скоро споймалась на ваш рыбацкий самодур. Ясно?
На шаландах послышался смех. Матрос подмигнул, тряхнул головой и сказал:
— Так вот я есть тая же самая рыба, которая специально одевается в такую шкуру, чтоб её не сразу было заметно.
На шаландах засмеялись ещё пуще:
— Добрая рыба!
— Целый дельфин!
— А не страшно тебе попасть один какой-нибудь раз на крючок?
Матрос подождал, когда кончатся возгласы, и заметил:
— А ну, споймай меня. Я скользкий.
Затем он продолжал:
— Вот я смотрю вокруг, товарищи, и думаю про нашу воду и землю. Солнышко светит. В море до черта всякой рыбы. На полях до черта пшеницы. В садах разная фрукта: яблуки, аберкосы, вишня, черешня, груша. Растёт виноград. На степу кони, волы, коровы, овечки. В земле золото, серебро, железо, всякие разные металлы. Живи — не хочу. Кажется, на всех хватает. Кажется, все люди свободно могут быть довольные и счастливые. Так что же вы думаете? Нет! Всюду непременно есть богатые, которые совсем не работают, а забирают себе всё, и всюду есть бедные, нищие люди, которые работают день и ночь, как проклятые, и не имеют с этого ни черта! Как же это так получается? Могу вам на это ответить: очень просто. Возьмём рыбака. Что делает рыбак? Ловит рыбу. Наловит и идёт на привоз. И сколько ж ему, например, дают на привозе за сотню бычков? Тридцать — сорок копеек!
Матрос остановился и посмотрел вокруг.
— Ещё спасибо, если дадут тридцать, — сказал похожий на дедушку старик, прилёгший на носу неуклюжей шаланды «Дельфин». — Я позавчера принёс четыре сотни, а она мне больше как по двадцать пять не хочет платить, хоть ты что! И тут же их сама продаёт по восемь гривен.
Все оживились. Матрос попал в самое больное место. Каждый старался высказать свои обиды. Кто жаловался, что без паруса не жизнь. Кто кричал, что привоз держит за горло.
Пока взрослые шумели, мальчики тоже не зевали. Некоторые рыбаки взяли с собой на маёвку детей. В шаландах сидели благонравные девочки в новеньких коленкоровых платьицах и босые, насупившиеся мальчики с солнечными лишаями на абрикосовых щёчках. Они были в сатиновых косоворотках и рыбацких фуражечках с якорными пуговицами. Разумеется, все — друзья-товарищи Гаврика.
Конечно, дети не отставали от взрослых.
Они тотчас начали задираться, и не прошло двух минут, как разгорелся настоящий морской бой, причём Гаврику досталось по морде дохлым бычком, а Петя уронил в воду фуражку, и она чуть было не утонула.
Поднялась такая возня и полетели такие брызги, что Терентию пришлось крикнуть:
— А ну, хватит баловаться, а то всем ухи пообрываю!
А матрос, перекрывая шум, продолжал:
— Значит, выходит, что у нас буржуй отнимают три четверти нашего труда. А мы что? Как только мы подымем голову, так они нас сейчас шашкой по черепу — трах! Бьют ещё нас, товарищи, сильно бьют. Подняли мы красный флаг на «Потёмкине» — не удержали в руках. Сделали восстание — то же самое. Сколько нашей рабочей крови пролилось по всей России — страшно подумать! Сколько нашего брата погибло на виселицах, в царских застенках, в охранках! Говорить вам об этом не приходится, сами знаете. Вчерась, кажется, хоронили в: л одного своего хорошего старика, который тихо и незаметно жизнь свою отдал за счастье внуков и правнуков. Перестало биться его старое благородное рабочее сердце. Отошла его дорогая нам всем душа. Где она, тая душа? Нет её и никогда уже не будет... А может быть, она сейчас летает над нами, как чайка, и радуется на нас, что мы не оставляем своего дела и собираемся ещё и ещё раз драться за свою свободу до тех пор, пока окончательно не свергнем со своей спины ненавистную власть...
Матрос замолчал и стал вытирать платочком вспотевший лоб. Ветер играл красным шёлковым лоскутком, как маленьким знаменем.
Полная, глубокая тишина стояла над шаландами. А с берега уже доносились тревожные свистки городовых. Матрос посмотрел туда и мигнул:
— Друзья наши забеспокоились. Ничего. Свисти, свисти! Может, что-нибудь и высвистишь, шкура!
Он злобно согнул руку и выставил локоть в сторону берега, усеянного нарядными зонтиками и панамами.
— На, укуси!
И сейчас же красавец Федя, развалившийся на корме своей великолепной шаланды «Надя и Вера», заиграл на гармонике марш «Тоска по родине».
Откуда ни возьмись на всех шаландах появились крашенки, таранька, хлеб, бутылки.
Матрос полез в свою кошёлку, достал закуску и разделил её поровну между всеми в лодке. Пете достались превосходная сухая таранька, два монастырских бублика и лиловое яйцо.
Маёвка и вправду оказалась весёлой рабочей пасхой.
Городовые, свистя, бегали по берегу. Шаланды стали разъезжаться в разные стороны. Гипсовые головы облаков поднимались из-за горизонта.
Федя повернул лицо к небу, уронил руку за борт и чистым и сильным тенором запел известную матросскую песню:
Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали.
Товарищ, мы едем далёко,
Далека от грешной земли!
Сверкали вёсла. Песня уплывала.
— Товарищ, нет силы мне вахту держать, — Сказал кочегар кочегару...
Песня уже еле слышалась.
Тогда матрос скомандовал мальчикам:
— Вёсла-а-а... на воду!.. Ать! Ат-ать! Ать!
И, хлопнув Терентия по спине, закричал:
Чёрное море,
Белый пароход,
Плавает мой милый
Уж четвёртый год.
Ну, босяки! Что же вы не помогаете?
И Терентий и оба мальчика весело подхватили:
Ты не плачь, Маруся,
Будешь ты моя.
Я к тебе вернуся,
Возьму за себя!
Белая чайка на неподвижно раскинутых крыльях бесшумно скользнула над самой шаландой. Казалось, она схватила на лету весёлую песенку и унесла её в коралловом клюве, как трепещущую серебряную рыбку.
Мальчики долго смотрели вслед птице, думая, что, может быть, это белоснежная дедушкина душа прилетела посмотреть на свою шаланду и на своих внуков.
Маёвка кончилась.
Но к берегу пристали не скоро — часа два ещё крутились в море, выжидая удобного момента.
Сначала высадили Терентия возле Золотого Берега, а потом отвезли матроса на Ланжерон.
Прежде чем сойти на берег, матрос долго осматривался по сторонам. Наконец он махнул рукой: «Ничего. Авось-небось, как-нибудь...», подхватил под мышку свою щегольскую тросточку с мельхиоровой ручкой в виде лошадиной головы и выпрыгнул из шаланды.
— Спасибо, хлопчики! — пробормотал он поспешно. — До приятного свидания.
И с этими словами исчез в толпе гуляющих.
Петя вернулся домой к обеду, с пузырями на ладонях и красным, за один день обгоревшим лицом.
45. ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР
Прошла неделя.
За это время Петя ни разу не побывал на море. Он был занят приготовлениями к отъезду в экономию. Приходилось то с папой, то с тётей отправляться в город за покупками. Всё вокруг было уже летнее.
Одесский май ничем не отличается от июня. Город изнемогал от двадцатипятиградусной жары. Над балконами и магазинами были спущены косые полосатые маркизы с красными фестонами. На них лежала резкая тень начинающих цвести акаций.
Собаки бегали с высунутыми языками, разыскивая воду. Между домами вдруг открывалось пламенное море. В «центре» за зелёными столиками под большими полотняными зонтиками сидели менялы и цветочницы. Каблуки вязли в размягчённом асфальте. В адских котлах повсюду варилась смола.
О, какое это было наслаждение — целый день ходить по магазинам, делая весёлые дачные покупки: серсо, сандалии, марлевые сетки для ловли бабочек, удочки, мячи, фейерверк... и потом с лёгкими пакетами странной формы возвращаться домой на летней, открытой конке!
Петино тело ещё томилось в знойном городе, но нетерпеливая душа, залетев далеко вперёд, уже ехала на пароходе, насквозь прохваченная голубым ветром путешествия.
Но однажды рано утром во дворе раздался знакомый свист. Мальчик подбежал к окну и увидел посредине двора Гаврика.
Через минуту Петя очутился внизу. У Гаврика был необыкновенно озабоченный вид. Его сероватое лицо, решительно поджатые губы и слишком блестящие глаза говорили о том, что произошло какое-то несчастье.
Сердце у Пети сжалось.
— Ну, — против воли понижая голос до шёпота, спросил он, — что?
Гаврик, насупившись, отвернулся:
— Ничего. Хочешь идти с нами на шаланде?
— Когда?
— А сейчас. Я, Мотька и ты. Под парусом.
— Брешешь?
— Собака брешет.
— Под парусом?
— Плюнешь мне в глаза.
— Кататься?
— Пускай кататься. Хочешь?
— Спрашиваешь!
— Тогда быстро!
Идти на шаланде под парусом! Нечего и говорить, что Петя даже не сбегал домой за фуражкой. Через десять минут мальчики были уже на берегу.
Шаланда со вставленной мачтой и свёрнутым парусом, до половины выдвинутая в море, покачивалась на лёгкой волне. Босая Мотя возилась на дне лодки, укладывая в ящик под кормой дубовый бочоночек с водой и буханку житного хлеба.
— Петька, берись! — сказал Гаврик, упираясь плечом в корму.
Мальчики навалились и, без особого труда столкнув шаланду, вскочили в неё уже на ходу.
— Поехали!
Гаврик ловко развязал и поднял новый четырёхугольный парус. Слабый ветерок медленно его наполнил. Шаланду потянуло боком. Став коленями на корму, Гаврик с усилием надел тяжёлый руль и набил на него румпель.
Почувствовав руль, шаланда пошла прямее.
— Побережись!
Петя едва успел присесть на корточки и нагнуться. Повёрнутый ветром гик грузно перешёл над самой головой слева направо, открыв сияющее море и закрыв глинистый берег, где по колено в бурьяне и дикой петрушке стояла Мотина мама, приложив руку к глазам.
Гаврик нажал на румпель и навалился на него спиной. Мачта слегка наклонилась. Вода звучно зажурчала по борту. Подскакивая и хлопая плоским дном по волне, шаланда вышла в открытое море и пошла вдоль берега.
— Куда мы едем? — спросил Петя.
— Увидишь.
— А далеко?
— Узнаешь.
В глазах у Гаврика опять появился тот же недобрый, сосредоточенный блеск. Петя посмотрел на Мотю. Девочка сидела на носу, свесив босые ноги за борт, и неподвижно смотрела вперёд. Её щёки были строго втянуты, и ветер трепал волосы, ещё недостаточно отросшие, чтобы заплести их в косичку.
Некоторое время все молчали. Вдруг Гаврик полез в карман и вытащил довольно большие часы чёрной воронёной стали. Он с важностью приложил их к уху, послушал, как они тикают, и затем не без труда отколупнул крышку мраморным ногтем со множеством белых пятнышек, как известно приносящих человеку счастье.
Если бы Гаврик вытащил из кармана живую гадюку или горсть драгоценных камней, то и тогда Петя был бы удивлён меньше.
Собственные карманные часы! Это было почти то же самое, что собственный велосипед или собственное монтекристо. Даже, может быть, больше. У Пети захватило дух. Он не верил своим глазам. Он был подавлен.
А Гаврик между тем принялся сосредоточенно отсчитывать указательным пальцем цифры, шепча себе под нос:
— Один час, два, три, чечире, пьять... Девьять и ещё трошки. Ничего. Поспеем.
— Покажи! — закричал Петя вне себя от изумления.
— Не лапай, не купишь.
— Это твои?
— Не. — И, притянув Петю за рукав, Гаврик таинственно шепнул ему: — Казённые. С комитета. Понятно?
— Понятно, — прошептал Петя, хотя ему совершенно ничего не было понятно.
— Слухай здесь, — продолжал Гаврик, искоса поглядывая на Мотю. — Матроса нашего споймали. Чуешь? Он теперь сидит в тюрьме. Шестой день. Его после той самой маёвки прямо на Ланжероне схватили. Только у него, понятно, документ на другую фамилию. Пока ничего. Ну только если те драконы его откроют, то молись богу, ставь чёрный крест — сейчас же и повесят. Чуешь? А они его могут открыть каждую минуту. Снимут с него усы. Найдут какого-нибудь Иуду, сделают очную и откроют. Теперь чуешь, какое выходит некрасивое дело?
— Врёшь! — испуганно воскликнул Петя.
— Раз я тебе говорю — значит, знаю. Теперь слухай здесь опять. Пока он сидит тама ещё не открытый, ему па воле подстраивают убежать. Комитет подстраивает. Сегодня как раз в десять с половиной ровным счётом он будет бежать с тюрьмы прямо на Большой Фонтан, а оттеда на нашей шаланде под парусом обратно в Румынию. Теперь чуешь, куда мы идём? На Большой Фонтан. Шаланду переправляем. А часы мне Терентий из комитета принёс, чтобы не было опоздания.
Гаврик снова достал часы и начал на них старательно смотреть:
— Без чуточки десять. Успеем в самый раз.
— Как же он убежит? — прошептал Петя. — Его же там сторожат тюремщики и часовые?
— Неважно. У него как раз в десять и с половиной прогулка. Выводят погулять на тюремный двор. Ему только надо перебежать через огороды, а на малофонтанской дороге его уже Терентий дожидается с извозчиком. И — ходу прямо к шаланде. Чуешь?
— Чую. А как же он перелезет через тюремную стену? Она же высокая. Во какая! До второго этажа. Пока он будет лезть, они его застрелят из винтовки.
Гаврик сморщился, как от оскомины:
— Та не! Ты слухай здесь. Зачем ему лезть через стенку? Стенку Терентий подорвёт.
— Как это — подорвёт?
— Чудак! Говорю — подорвёт. Сделает в ней пролом. Ночью под неё один человек с комитета — товарищ Синичкин — подложил танамид, а сегодня в десять и с половиной утра, аккурат как начнётся у нашего матроса прогулка, Терентий с той стороны подпалит фитиль и — ходу к извозчику. И будем ждать. Танамид ка-ак бабахнет...
Петя строго посмотрел на Гаврика:
— Что бабахнет?
— Танамид.
— Как?
— Танамид, — не совсем уверенно повторил Гаврик, — который взрывает. А что?
— Не танамид, а динамит! — наставительно сказал Петя.
— Нехай динамит. Неважно, лишь бы стенку проломало.
Петя сейчас только вдруг понял как следует значение Гавриковых слов. Он почувствовал, что его спина покрывается «гусиной кожей».
Тёмными большими глазами он посмотрел на труха:
— Дай честное благородное слово, что правда.
— Честное благородное.
— Перекрестись.
— Святой истинный крест на церкву.
Гаврик истово и быстро перекрестился на монастырские купола Большого Фонтана. Но Петя верил ему и без этого. Креститься заставил больше для порядка. Петя всей своей душой чувствовал, что это правда.
Гаврик опустил парус. Шаланда стукнулась о маленькие лодочные мостки. Берег был пуст и дик.
— У тебя платочка нема? — спросил Гаврик Петю.
— Есть.
— Покажь!
Петя достал из кармана носовой платок, при виде которого тётя, наверное, упала бы в обморок.
Но Гаврик остался вполне доволен. Он серьёзно и важно кивнул головой:
— Годится. Сховай.
Затем он посмотрел на часы. Было «десять и ещё самые трошки».
— Я останусь в шаланде, — сказал Гаврик, — а ты и Мотька бежите наверх и стойте в переулочке. Будете их встречать. Как только они подъедут, замахайте платочком, чтоб я подымал парус. Соображаешь, Петька?
— Соображаю... А если их часовой подстрелит?
— Промахнётся, — с уверенностью сказал Гаврик и сурово усмехнулся. — Часовой как раз с Дофиновки, знакомый. Бежи, Петька. Как только их заметишь, так сразу начинай махать. Сможешь?
— Спрашиваешь!
Петя и Мотя вылезли из шаланды и побежали наверх. Здесь, как и на всём побережье от Люстдорфа до Ланжерона, детям была знакома каждая дорожка. Продираясь сквозь цветущие кусты одичавшей сирени, мальчик и девочка взобрались на высокий обрыв и остановились в переулочке между двумя дачами. Отсюда было видно и шоссе и море. Далеко внизу маленькая шаланда покачивалась возле совсем маленьких мостков. А самого Гаврика было еле видно.
— Мотька, слушай здесь, — сказал Петя, осмотревшись по сторонам. — Я влезу на шелковицу — оттуда дальше видно, — а ты ходи по переулку и тоже хорошенько смотри. Кто раньше заметит.
По правде сказать, на шелковицу можно было и не лазить, так как снизу тоже всё было прекрасно видно. Но Петя ужо почувствовал себя начальником. Ему хотелось совершать поступки и командовать.
Мальчик разбежался, кряхтя, вскарабкался на дерево, сразу же разорвав на коленях штаны. Но это не только его не смутило, а, наоборот, сделало ещё более суровым и гордым.
Он уселся верхом на ветке и нахмурился.
— Ну? Чего ж ты стоишь? Ходи!
— Сейчас.
Девочка посмотрела на Петю снизу вверх испуганными, преданными глазами, обеими руками обдёрнула юбочку и чинно пошла по переулку к дороге.
— Стой! Подожди!
Мотя остановилась.
— Слушай здесь. Как только их увидишь, сейчас же кричи мне. А как только я увижу — буду кричать тебе. Хочешь?
— Хочу, — тоненьким голоском сказала девочка.
— Ну, ступай.
Мотя повернулась и пошла в густой тени зеленовато-молочных, вот-вот готовых распуститься акаций, оставляя в пыли маленькие следы босых пяток.
Она дошла до угла, постояла там и вернулась обратно.
— Ещё не едут. А у вас?
— И у меня ещё не едут. Ходи дальше.
Девочка снова отправилась до угла и снова вернулась, сообщив, что у неё ещё не едут.
— И у меня ещё не едут. Ходи ещё.
Сначала мальчику очень нравилась эта игра. Необыкновенно приятно было сидеть высоко на дереве, с напряжением вглядываясь в конец переулка — не покажется ли мчащийся извозчик.
О, как ясно представлял он себе взмыленную лошадь и кучера, размахивающего над головой свистящим кнутом! Экипаж подлетает. Из него выскакивают с револьверами в руках Терентий и матрос. За ними бегут тюремщики. Терентий и матрос отстреливаются. Тюремщики один за другим падают убитые. Петя изо всех сил машет платком, кричит, ловко прыгает с дерева и мчится, обгоняя всех, к лодке — помогать ставить парус. А Мотька только сейчас догадалась, что это приехали они. Ничего не поделаешь: девчонка.
... Но время шло, а никого не было. Становилось скучновато.
Пете надоело смотреть на ослепительно белое шоссе — то катила карета с английским кучером, одетым, как Евгений Онегин, то с громом проезжала фура с искусственным льдом. Тогда становилось особенно жарко и особенно сильно хотелось пить.
Мальчик уже давно успел рассмотреть во всех подробностях соседнюю дачу: ярко-зелёные газоны, гравий на дорожках, туи, статую, испещрённую лиловыми кляксами тени, вазу, из которой ниспадали длинные, острые листья алоэ, и художника, пишущего пейзаж.
Художник, с закрученными усиками и эспаньолкой, в бархатном берете, сидел под зонтиком на складном полотняном стульчике и, откинувшись, ударял длинной кистью по холсту на мольберте.
Ударит и полюбуется, ударит и полюбуется. А на оттопыренный большой палец левой руки надета палитра — эта гораздо более красивая, чем сема картина, овальная дощечка, на которой в безумном, но волшебном беспорядке смешаны все краски, все оттенки моря, неба, глины, сирени, травы, облаков, шаланды...
... А между тем уже давно подъехал пыльный извозчик, и по переулку медленно шли два человека. Впереди них бежала Мотя, крича:
— У меня уже приехали! Махайте, махайте!
Петя чуть не свалился с дерева. Он вырвал из кармана платок и стал отчаянно крутить им над головой. Шаланда закачалась сильнее, и Петя увидел, что Гаврик прыгает и машет руками.
Под шелковицей, на которой сидел Петя, прошли Терентия и матрос. По их пламенно-красным лицам струился пот. Мальчик слышал их тяжёлое дыхание.
Матрос шёл без шапки, сильно хромая. Его щегольские кремовые брюки — те самые, в которых Петя видел его в последний раз, на маёвке, — были порваны и выпачканы кирпичным порошком. Грязная полуоторванная манишка обнажала выпуклую, блестящую от пота грудь. Сжатые кулаки были как бы опутаны голубыми верёвками жил. Усики висели. На обросшем лице сильно выдавались скулы. Глаза сухо искрились. Горло двигалось.
— Здравствуйте, дядя! — крикнул Петя.
Терентий и матрос посмотрели на мальчика и усмехнулись. Пете показалось даже, что матрос подмигнул ему. Но они уже бежали вниз, оставляя за собой облако пыли.
— А я первая увидела, ага! — сказала Мотя.
Петя слез с дерева, делая вид, что не слышит. Мальчик и девочка стояли рядом, глядя вниз на шаланду, подымавшую парус. Они видели, как маленькая фигурка матроса прыгнула в лодку. Парус надулся. Его стало относить от берега, как лепесток. Теперь на опустевших мостках стояли только Терентий и Гаврик. Через минуту Терентий исчез.
Остался один Гаврик. Он махнул Пете и Моте рукой и стал не торопясь подниматься по обрыву.
Шаланда, подпрыгивая и разбивая волну, быстро уходила в открытое море, ярко синевшее крепкой зыбью.
— Поехал один, — сказал Петя.
— Ничего. Мы ему хлеба положили. Целую буханку. И восемь таранек.
Скоро к Пете и Моте присоединился и Гаврик.
— Слава богу, отправили, — сказал он, перекрестившись. — А то прямо наказание.
— А как же шаланда? — спросил Петя. — Так теперь и пропала?
— Шаланда пропала, — сумрачно сказал Гаврик, почесав макушку.
— Как же вы будете без шаланды?
— Не дрейфь. Не пропадём как-нибудь.
Торопиться было некуда. Дети перелезли через забор и тихонько остановились за спиной художника. Теперь почти уже весь пейзаж был готов. Затаив дыхание они засмотрелись, очарованные чудесным возникновением на маленьком холсте целого мира, совсем другого, чем на самом деле, и вместе с тем как две капли воды похожего на настоящий.
— Море есть, а шаланды нету, — шепнула Мотя, как бы нечаянно положив руку на Петино плечо, и тихонько хихикнула.
Но вот художник набрал тонкой кистью каплю белил и в самой середине картины на лаковой синеве только что написанного моря поставил маленькую выпуклую запятую.
— Парус! — восхищённо вздохнула Мотя.
Теперь нарисованное море невозможно было отличить от настоящего. Всё — как там. Даже парус.
И дети, тихонько толкая друг друга локтями, долго смотрели то на картину, то на настоящее, очень широко открытое море, в туманной голубизне которого таял маленький парус дедушкиной шаланды, лёгкий и воздушный, как чайка.
... Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой.
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
|