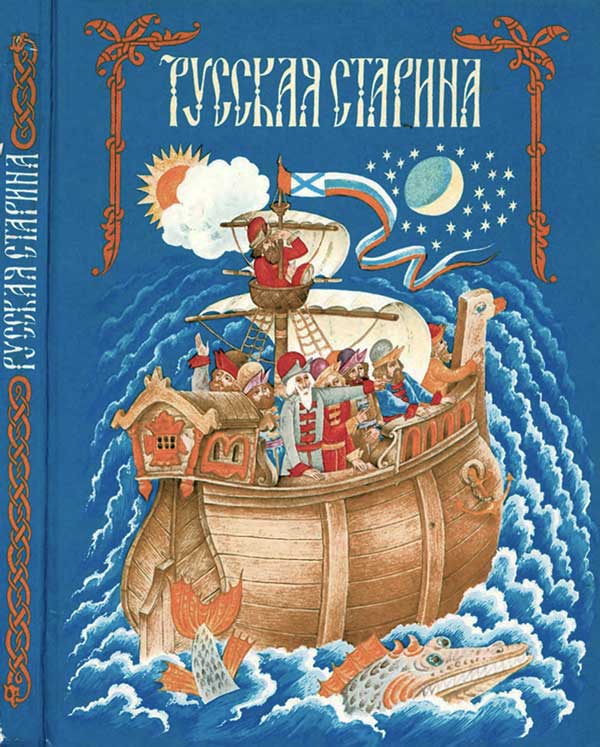Сохранить как TXT:
ru-starina-1991.txt
Сделала и прислала Светлана Сибирцева.
_________________
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 7
Михайло Козарин 11
Царь Саул Леванидович 20
Королевичи из Крякова 29
Женитьба Пересмякина племянника 38
Князь Роман и Марья Юрьевна 46
Михайло Потык 58
Дюк Степанович 94
Иван Гостиный сын 110
Сорок калик со каликою 122
Сухман-богатырь 134
ПРЕДИСЛОВИЕ
Жили когда-то на Руси Великой люди — песенники-сказители. Они сочиняли и пели-рассказывали былины — разные истории — про великого князя киевского Владимира Красно Солнышко и княгиню Апраксию, их дружинушку могучую, про битвы с лютыми ворогами, про царства-государства чужеземные, заморские, про чудеса невиданные: Змеище Горынчище, морского царя Водяника с царицей Водяницей, Идолище-великанище... И сложено было этих былин и ходило их по Руси — несчётное число.
Если спросить живущего сейчас человека, кого он может назвать из былинных героев, он, пожалуй, сможет перечислить лишь привычную троицу: Илья Муромец, Добрыня Никитич да Алёша Попович. Ну, кто-то ещё вспомнит Святогора, Волъгу, Василия Буслаева. А между тем, о скольких богатырях пели-рассказывали былинщики! Тут и Самсон Самсонович, и Михайло Потык с Чурилушкой Пленковичем, и Иванище с Бермятой Васильевичем, и Тороп, и Бутман Колыбанович, и Аксенко, и Пересвет-богатырь, и Долк Стефанович, и Семён Леховитый блад, и Михайлушко Игнатьевич, и ещё многие, многие другие.
Кто были эти люди? За какие дела попали они в народные предания? Почему имена их дошли до нас в веках? Да и жили ли они на самом деле? Может быть, это всё — вымысел сказителей?
Конечно, в былинах многое — сказка, многое выдумка. Вряд ли можно всерьёз принимать рассказ о приключениях Садко на дне морском, о том, что у героя-богатыря палица весом «в сорок пуд», то есть — целых шестьсот сорок килограммов. Не очень-то помахаешь такой палицей! Но это мы говорим об обыкновенном человеке. А сказитель вкладывал палицу в руки человека, наделённого силой необыкновенной, богатырской, способного одолеть любую рать недругов. У него и конь, бурушка-косматушка, не чета простому коню: с горы на гору перескакивает, горы-долы между ног пускает, по поднебесью летит ясным соколом.
Трудно сейчас определить, кто из богатырей действительно существовал, а кто — лишь плод народной фантазии. Как трудно и сказать, кто скрывался за образами злых ворогов-завоевателей: Калин-царя, Кунгур-царя, Соловья-разбойника, Идолища Поганого. Ясно одно: за всем этим — долгая, тяжкая борьба Руси против захватчиков и поработителей — хазар, немцев, половцев, татаро-монгольских орд... Наша история.
Вместе с невероятным, сказочным, трудно поддающимся установлению, былины содержат и настоящие, конкретные исторические факты. Например, былинный князь Владимир Красно Солнышко — это не кто иной как русский князь Владимир Святославович, который правил киевским княжеством с 980 по 1015 год. И была у него дружинушка хоробрая, и заставы, на которых стояли воины, охранявшие рубежи молодой Руси. Об этом и ещё обо многом другом рассказывали былины.
Можно сказать — по ним народ изучал историческое прошлое своего государства.
Но не одни ведь князья да богатыри жили на земле! И не только о битвах за святую Русь пели сказители. Есть былины весёлые и грустные, о царях и простых людях, о жизни, что текла где-нибудь рядом, и о том, что происходило в дальних царствах-королевствах. О мужестве и трусости, о лукавстве и правдивости, о коварстве, стойкости, верности, мудрости и глупости... О путешествиях за синь-море солёное... Долгие годы, целые века передавались былины от человека к человеку, от одного к другому. И часто первые сведения о земле, на которой живут, о её героях и недругах дети получали из уст певцов-сказителей. Они ведь жили среди народа и сами были простыми людьми.
Представьте себе тихий зимний вечер. В крестьянскую избу пришли и дети, и взрослые послушать старую бабушку. Как поёт она, наговаривает:
— Ише было-жило у короля деветь сынов....
Все сидят тихо, слушают. А у маленькой Машутки даже губы шевелятся: тоже пытается напевать, повторяет за бабушкой.
Пройдут годы. Маша вырастет, проживёт долгую жизнь. И настанет время, когда будут в её избе собираться дети и взрослые и слушать, как она рассказывает. Вот как начиналось в устах сказительницы былина о Михайле Козарине:
— Ише было-жило у короля деветь сынов, Зародиласе у короля десята доць Ише душоцъка Настасья Королевисъня;
После того зародилсэ у их всё десятой сын
Ише на имя Михайло королевиць-сын.
А отец Михайлушка, ни мать не возлюбил,
Родны братъица ёго невознавидели;
Захотели Михайлушка конём стоптать,
Захотели Михайлушка копьём сколоть.
А увидяла родима его сестрица
Ише та-ли Настасья Королевисъня,
Да брала она Михайлушка да на белы руки,
Уносила Михайлушка в свои палаты белы-камянны,
Ай поила, кормила, ёго росътила,
Ише стал у ей Михайлушка двенадцетъ лет,
Ише стал-то Михайлушка у ей выспрашивать:
— Уж ты гой еси, девиця-душа красная!
У меня есъ ли на роду-то родной батюшко?..
МИХАЙЛО КОЗАРИН
Когда родился на свет Михайло Козарин, предсказали волхвы-кудесники:
— Быть этому младеню разбойным атаманом!
Рассердился его отец, могучий король Коромыслов Пётр:
— Как так?! Есть у меня девять сынов, да дочь любимая, Настасья Королевишна — все они будут род мой королевский славить да подвигами, хорошими делами метить — а этот в разбойники уйдёт, станет позорить меня да матушку свою, всю семью нашу! Эй, мамки, няньки, слуги мои королевские, возьмите чадо малое, бросьте его в свиной хлев, и чтобы я больше о нём слыхом не слыхивал.
Схватили мамки-няньки, слуги королевские маленького Михайлу утащили в свиной хлев, там и оставили. А старшая сестра Михайлова, Настасья Королевишна, пробралась в тот хлев тайком, да и унесла оттуда своего маленького брата. Жалко ведь дитё! Принесла его в свои покои, стала поить, кормить, растить. Так и рос он у неё, не зная своего роду-племени, не зная, кто его пестует, кроме верной мамки-слуги.
Минуло время — исполнилось ему двенадцать лет. И стал он выспрашивать:
— Хоть скажи ты мне, мамка верная, поилица-кормилица, есть ли у меня на свете родной батюшко, есть ли родная матушка, есть ли братья с сестрицами?
Вздохнула мамка, позвала Настасью Королевишну. Пришла та, погладила Михайлу по голове:
— Ах ты, чадо малое, свет Михайлушко! Ведь отец твой — сам король Коромыслов Пётр, а королева — твоя родная матушка, есть у тебя девять братьев, а сестриц — только я одна, Настасья Королевишна. Как явился ты на свет, наколдовали волхвы-кудесники, что быть тебе атаманом разбойников. За то батюшка-король рассердился, велел бросить тебя в хлев свиной, а я тебя из хлева того выкрала, унесла в свои покои, отдала мамке верной, велела поить-кормить, пестовать.
Упал тут ей Михайло в резвы ноги:
— Милая моя спасительница, сестрица любезная, молодая Настасья Королевишна! Болит у меня душа — не нужен я стал ни батюшке, ни матушке, ни родным своим братьям. Не стану я больше жить в твоих покоях, в королевских палатах белокаменных. Об одном слёзно прошу: сходи ты к нашему батюшке, попроси саблю вострую, копьё летучее, седёлышко черкальское, да коня доброго, да сбрую богатырскую.
— Обожди, братец родимый, больно мал ты ещё по свету ездить, долю свою искать.
Прошло ещё четыре года — вырос Михайло Козарин молодцем статным, сильным, удалым. И снова говорит сестре: никому я здесь не нужен, не могу здесь жить, иди, попроси у своего батюшки коня да справу богатырскую.
Послушала его на этот раз Настасья Королевишна, пошла к батюшке, могучему королю Коромыслову Петру, ударилась ему в ноги:
— Батюшко мой родимый, не вели казнить, вели слово молвить! Дай-ко ты мне коня доброго, востру сабельку, копьё летучее, палицу тяжёлую, седёлышко черкальское да сбрую богатырскую.
Удивился батюшка, могучий король:
— Да кому, дочь моя любезная, Настасья Королевишна, всем этим добром владеть? Уж не тебе ли самой? Разве это дело для красной девушки?
— Нет, батюшко родимый! Не себе, а братцу прошу своему, а твоему младшему сыну Михайле, которого ты в свиной хлев бросить велел. Ведь я тогда его от смерти спасла, вынесла оттуда, выпоила-выкормила, вырастила — а теперь собрался он со двора ехать, доли-судьбы себе по свету искать.
Разгневался король:
— Как посмела ты тогда ослушаться моего повеления?! Уйди с глаз моих и больше не смей показываться! Была ты у меня дочь любимая, будешь теперь дочь постылая.
Заплакала горько Настасья Королевишна, пошла прочь. Пришла к братцу, говорит:
— Не даёт тебе, Михайлушко, отец ни коня доброго, ни справы богатырской.
— Ну ин ладно, сестрица любезная. Не даёт — так я и сам уведу!
Побежал на королевский двор, зашёл в конюшню, взнуздал коня самолучшего. Увидали это конюхи, стали ворота закрывать, стражу кликать — гикнул Михайло, свистнул громко, скакнул конь — и прыгнул прямо через ограду высокую.
Поехал молодец во чисто поле: ездил, ездил, искал, на ком силушку попробовать, удаль молодецкую испытать — да не встретил ни богатыря, ни богатырши чужеземной. Подался он тогда к темным дремучим лесам, охотиться на зверя бегучего, гада ползучего, птицу летучую. Ехал, ехал по лесной дороге — вдруг засвистел кто-то, аркан вокруг Михайлы захлестнуло, и свалился он на землю. Подбежали к нему разбойники — тати лесные, стали одежку-обувку срывать, в карманах шарить. Натужился Михайло, порвал аркан, разметал разбойников. Ухватил за кафтан ихнего атамана:
— Ах вы, тати-бродяги! Зачем на бедного человека набег творите? Нету у меня ни злата, ни серебра. А вам негоже злодейство творить, несчастных людей губить.
— Никого мы не губим,— отвечает атаман.— У богатого лишнее отнимаем, а бедного отпускаем. Иди к нам, добрый молодец, что тебе одному по лесам скитаться!
Подумал Михайло Козарин: а ведь и вправду несподручно одному по белу свету ходить, может зверь свирепый помять, хворь напасть; да еду раздобыть — и то одинокому человеку труднее, чем в компании.
И стал он разбойником. И не было ему равного по удальству, смелости и силушке молодецкой. Выбрали его атаманом. Тут далеко слава Михайлова пошла: знал его имечко и купец, и боярин знатный, и воин, и простой путник, все боялись Козарина! Но знали: Михайло бедного не тронет, напрасно разбоя не учинит.
Но вот отправился как-то он один на охоту в дальние лесные места. Ездил день, ездил другой, настрелял разной дичи и повёз её в разбойничий стан. Подъезжает, смотрит — сидят трое его братьев-разбойников и добычу делят, что сами, пока атамана не было, промыслили. Стоит Михайло тихонько за деревьями, наблюдает. Вдруг один разбойник зашёл в землянку и выводит оттуда младу-красну девицу красоты неописанной.
— А это, братья, чья будет добыча?
Вскочили тут все, заругались, замахали саблями: каждому хочется красу-девицу себе получить. Потом похваляться стали: к кому она сама захочет пойти?
Один говорит:
— Увезу тебя в края далёкие, заморские, к синь-морю тёплому, заживём там в тепле и радости — еда в тех местах на деревьях растёт, а реки текут молочные!
Другой такие речи сказывает:
— Добуду тебе шелков-бархатов, перстней да ожерелий, всю с ног до головы изукрашу, будешь у меня всех на белом свете наряднее!
Третий соловьём разливается:
— Кормить тебя буду разными сладостями, только белый хлеб станешь есть, запивать сытой медовою!
— Не надо мне этого ничего, — отвечает девица.
Вскочили опять разбойники, заругались. Вышел тут перед ними Михайло Козарин:
— А мой пай, братья, не забыли вы? Я ведь атаман ваш, со мной тоже делиться надо. Берите всё, что у меня есть — злато и серебро, жемчуга, ткани, коня доброго — только отдайте мне красную девицу.
— Зачем она тебе?
— На волю её отпущу, отцу-матери увезу. Разве вы мой закон не знаете — невинного человека не смей обидеть!
— Нет уж, атаман!— закричали разбойники.— Мы её украли, лучше на три части меж собой разрубим, чем тебе отдадим. Наша, наша добыча!
Выхватили сабельки свои острые, встали между ними, замахнулись — вот-вот порубят обоих. Видит Козарин — делать нечего, затмила им ум жадность и злоба, на всё готовы. Тогда он одного конём стоптал, другого копьём заколол, третий со страху сам убежал.
Сошёл тогда Михайло с коня, схоронил бывших братьев, помолился над могилками. Взял девицу за руку белую, посадил на седло рядом с собой и повез в град-столицу. Дорогой спрашивает:
— Ты скажи-ка мне, красная девица, какого ты роду-племени?
— Я Настасья Королевишна, дочь могучего Петра Ко-ромыслова.
— Так ведь и я Петра Коромыслова младший сын, Михайло Козарин. Эх, сестрица любезная, как же мы с тобой друг дружку не признали? Видно, оттого, что я возрос-воз-мужал, а ты ещё красивее стала.
— Спасибо тебе, родной братушко! Выручил ты меня из неволи, спас от гибели неминучей. Пошла я вечером в зелен сад погулять, налетели разбойники, увезли меня в чащу тёмную.
— Это тебе спасибо, сестрица любезная, что раньше, во младенчестве, меня не покинула, вспоила-вскормила, не дала погибнуть смертью напрасною. Вот как добро твоё теперь откликнулось!
Привёз он её в батюшкино королевство, подъехал ко дворцовому окошечку косящату, да крикнул зычным голосом:
— Эй, гой еси ты, король Коромыслов Пётр! Не было ли у тебя родной дочери?
Выглянул король скорёхонько:
— Была, была у меня дочь любимая, молодая Настасья Королевишна! Пошла вечером в зелен сад погулять, да домой и не воротилась.
— А был ли еще сын у тебя, Михайло Козарин?
— Не было у меня такого сына, добрый молодец!
— Ну так слушай, король: привёз я к тебе твою дочь любимую, Настасью Королевишну. Украли её тогда из сада тати-разбойники, а я её у них отнял. Только вот что скажу: если не признаешь во мне своего сына младшего, Михайлу, которого ты велел во младости свиньям отдать — уедем мы вместе с ней снова туда, где увиделись, в леса тёмные, дремучие, и не увидишь ты больше ни её, ни меня.
Испугался король:
— Ой, куда?! Был, был у меня такой сын! Да это разве ты, Михайлушко? Это ты спас, привёз дочь любимую, а свою сестру Настасьюшку? Спасибо тебе! Вот,
наколдовали волхвы-кудесники, что будет Михайло разбойником, а он — глядите, какой стал добрый молодец!
Сходил он с крыльца своего дворца королевского, прижимал Михайлу к груди:
— Сын мой возлюбленный, Михайлушко! Всех любезнее стал ты мне теперь. Посажу тебя на своё место королевское.
ЦАРЬ САУЛ ЛЕВАНИДОВИЧ
Поехал царь Саул Леванидович в дальнюю орду, в землю Половецкую, собирать дани-подати, и оставил дома молодую жену Елену Александровну, царицу Азвяковну. Провожая его, возрыдала она:
— Ой, муж мой, Саул Леванидович! На кого оставляешь меня, молоду жену? Ведь у меня дитё родиться должно, чадо малое!
И ответил ей царь:
— Не печалься, жена моя молодая! Коли сын родится у тебя — пошли чадо, как десять годов минет ему, ко мне, в землю Половецкую, в орду дальнюю; коли дочь родится — держи при себе. А я вернусь через двенадцать лет.
Сказал царь — и уехал со своим войском. Осталась царица одна-одинёшенька. И через малое время родила мальчика — да такого крепкого, такого красивого, настоящего царевича! Назвала его Константином Сауловичем. И стал он расти не по дням, а по часам, не по годам, а по месяцам. Минуло ему семь лет — а и ростом, и видом, и умом он уж иного двадцатилетнего превзойдёт. И силой тоже. Посадила его матушка грамоте учить — ему и грамота, и писание легко дались. А как исполнилось десять годов — стал Константинушка по улицам похаживать, с большими ребятами шутки пошучивать. Ребятам-то тем уж за двадцать лет, и все они дети не простолюдные, все дети княжеские, боярские, дворянские да купеческие. А он их задирает, да и шутки шутит не по-малолетнему: кого за руку ухватит — руку из плеча выдернет, кого за ногу возьмёт — ногу свихнёт, кого по спине хватит — тот кричит-ревёт, на карачках дальше бежит. Стали князья-бояре, дворяне, купцы богатые жалобы приносить царице Азвяковне: уйми-ка ты свою малолеточку! Призвала Елена Александровна сына в свой терем, стала бранить-журить, на ум наставлять, смирению учить. Слушал-слушал её Константинушка, да и спрашивает:
— Никогда ты мне, матушка, о батюшке моём не сказывала. Кто он такой, коли он есть на свете?
— Чадо моё милое! Есть у тебя батюшка, славный царь Саул Леванидович, поехал он, когда ты ещё не рождён был, за море синее, в дальнюю орду, в землю Половецкую, собирать дани-подати, сроком на двенадцать лет. И сказал, со мной прощаясь: «Коли сын у тебя родится, то, как десять лет минет ему, пошли его ко мне, в дальнюю орду, в землю Половецкую». Да только куда же я тебя пошлю, ты ведь ещё малолеточек, дитя неразумное!..
Недослушал матушку Константин Саулович, побежал на крылечко красное:
— Эй, конюхи-приспешники! Оседлайте-ка мне доброго коня седёлышком черкальским, к лукам того седёлышка приладьте по тирон-камню самоцветному — не для красы, не для крепости богатырской, а чтобы освещали те камни мне путь-дороженьку тёмной ночью осеннею.
Вывели ему конюхи снаряженного доброго коня, вспрыгнул он в седёлышко черкальское — только и видела его родная матушка. Заехал по дороге к оружейникам, взял у них палицу литую, медную, весом в триста пудов.
За городом — чисто поле широкое, далёкое, отрада сердцу богатырскому. Скачет по нему Константинушко — лишь пыль дыбом из-под копыт выбивается.
Доехал до середины чистого поля, смотрит — стоит часовенка, и лежат от неё три дороги на три стороны. И плита каменная с надписью:
«Кто правой дорогой поедет, у того конь сыт будет, а самому живому не быть. Кто левой дорогой поедет, тот сам сыт будет, а конь голодный останется. А кто средней дорогой поедет — пропадет вместе с конем».
Разгорелось у молодого Константина Сауловича сердце богатырское, расправились плечи могучие:
— Ну, знать, пришла пора мне со смертью увидеться! Посмотрим, кто кого одолеет!
Поехал он дорогой среднею, прямо к речке Смородине. Глядит — переправляется через речку Кунгур-царь со своей ратью татарской, хочет воевать землю Русскую. Налетел на них Константин-царевич и давай бить рать своей тяжкой палицей. Бился он с ними с утра до вечера, до заката красного солнышка. Побил их видимо-невидимо. Только когда совсем стемнело, ускакал с места битвы. Уехал во чисто поле, разнуздал коня, пустил гулять во травы шёлковые, сам спать лёг. Утром встал, росой умылся, утёрся белым полотенчиком, сел на коня сытого, отдохнувшего и — снова поскакал ко речке Смородине, добивать рать татарскую.
А Кунгур-царь стал со своими мурзами тем временем совет держать: как-де могучего русского богатыря одолеть-победить? И решили они копать рвы глубокие, ставить из дерева стены высокие, вколачивать в землю надолбы* железные. Стали, не мешкая, те заслоны ставить.
* Торчащие из земли крест-накрест железные прутья для удержания коней.
Только взошло солнышко — появился снова Константинушка Саулович на своём добром коне. Лишь увидал, что татары наделали, — сразу и угадал все их хитрости. Через рвы глубокие на коне своём летает, стены на землю валит, надолбы стороной обходит, бьёт татар палицей тяжёлою. Бился он, бился с силой несметною, прибился к шатру самого Кунгур-царя, разметал шатёр в клочья, а самого царя насмерть прибил: не ходи воевать землю Русскую! Тут и остальные татары взмолились: пощади, богатырь! Отпустил, только наказал:
— Свою родину любите да обиходьте, а на чужую не зарьтесь!
А сам поехал к Углич-городу. Остановился перед городскими стенами, подал голос:
— Эй, горожане угличские! Не найдётся ли среди вас мне супротивника, сильномогучего богатыря, чтобы сойтись нам с ним во чистом поле, силой-удалью помериться, потешить стать молодецкую!
Испугались мужички угличские: заперли городские ворота, толкуют меж собой:
— Это что за богатырь объявился? Побьёт он, порушит наших лучших воинов. Надо его хитростью одолеть да посадить в темницу глубокую, чтобы не ездил он, не нарушал покой Углич-города.
Забрались на городскую стену и кричат оттуда:
— Гой еси, удалой добрый молодец! Ты поезжай-ко к нам сюда, мы тебе ворота откроем. У нас тут послы сидят, просят себе царя в Орду, да ещё одни послы сидят, просят короля в Литву. Если согласен, принимай царство Ордынское или королевство Литовское.
Соблазнился Константинушко ихними речами лукавыми, подъехал к городским воротам. А мужички угличские со стены на него сети набросили, баграми-крюками стали цеплять, метнули арканы крепкие, опутали, свалили на землю вместе с добрым конем. Связали ему руки белые чембурами шелковыми*, а ноги сковали железами немецкими, отобрали палицу медную весом в триста пудов, сняли платье цветное, царское, одели платье простое, опальное, тюремное, повели молодца в погреби глубокие, в темницу подземельную. Заперли дверями железными, засыпали галькой, песком сыпучим.
* Конские поводья.
Сидит царевич в подземелье,— а тем временем идёт через Углич-город рать великая, рать его батюшки, самого царя Саула Леванидовича проходом-проездом из-за моря синего, из дальней орды, из земли Половецкой, в землю Русскую, в свое царство Алыберское. Двенадцать лет царя дома не было. Побежали по дворам его десятники подряжать угличских извозчиков везти подводы с данью. И двинулась рать дальше, домой.
Встречает Саула Леванидовича дома царица, Елена Александровна.
— Здравствуй, жена моя любезная, царица Азвяковна! — говорит он ей.— Ведь у тебя скоро по моему отъезду дитя должно было родиться. Где оно, чадушко моё милое?
Заплакала царица, рассказала всё, как есть. Хлопнул царь в ладоши:
— Конюхи вы мои, приспешники! Седлайте мне коня самого наилучшего, поеду я искать своего сына!
Оседлали ему доброго коня, взял Саул Леванидович востру сабельку, копьё летучее и вместе с мужичками-извозчиками поехал к Углич-городу. Дорогой рассказали ему извозчики, какого молодца посадили у них в темницу подземельную, обсказали и его приметы, и приметы его коня богатырского. Догадался царь, что это и был сын его Константинушко, сказал тем извозчикам:
— Глупые вы мужики, неразумные! Не спросили у молодца его дядины-вот-чины, его роду-племени, какие он дела для нашей земли совершил. А ведь по белу свету великий слух бежит, что точно такой богатырь, как вы мне описали, немало у Кунгур-царя силы порубил, самого Кунгура насмерть прибил, шатёр его в клочья разметал, а остальных татар домой прогнал. За такое дело надо его всем народом благодарить и подарками богатыми жаловать, а вы его назвали вором-разбойником, сорвали с него платье цветное, царское, посадили в погреба глубокие, в темницу подземельную! А он всего-то хотел с вашими богатырями силой молодецкой помериться!
Подъехал царь под стены угличские, стал просить бояр-воевод, чтобы выдали ему удалого доброго молодца, что сидит у них в подвалах глубоких, в темнице подземельной. Отпираются те, врут в глаза: нету-де у нас такого и никогда не бывало, не видывали видом, не слыхивали слыхом! И не пускают царя в Углич-город, не отпирают ему ворот.
Пришли тогда к ним старики угличские, восплакали:
— Что же вы это делаете, бояре-воеводы, знатные люди! Не за пустым делом, за сыном пришёл сюда царь Саул Леванидович и даром отсюда не уйдёт. А если уйдёт — вернётся обратно с войском великим, и тогда не будет никому пощады, ни правому, ни виноватому, ни старому, ни малому, ни бедному, ни богатому, весь город спалит и прахом развеет. Отдайте ему молодца!
Не послушали их бояре-воеводы — надсмеялись, да приказали слугам взашей прогнать. Пошли тогда сами старики угличские вечером к подвалам глубоким, напоили сторожей пьяной брагой медовою, взяли ключи, отпёрли двери железные и вывели Константинушку Сауловича из темницы подземельной. Тайными дорогами проводили из Угдич-города в стан отца, царя Алыберского, сняв с ног железы немецкие, развязав чембуры шёлковые. Привели ему и коня богатырского, отдали палицу медную весом в триста пудов, платье цветное, царское.
В том платье и предстал царевич-богатырь пред отцом своим Саулом Леванидовичем.
— Кто ты таков есть, добрый молодец, расскажи мне! — велел царь.— Как жил на белом свете, какие дела творил?
Рассказал ему Константинушко всю историю. Встал тут царь, взял его за руки белые, поцеловал в уста сахарные:
— Здравствуй, моё чадо милое, молодой сын Константинушко Саулович! Спасибо и поклон тебе от всей земли нашей за то, что разбил войско поганого Кунгур-царя!
Пошло тут у них обниманье-целованье. Сели они на добрых коней своих и поехали вместе в землю Русскую, в царство Алыберское, к Елене Александровне, царице Азвяковне. Устроили там на радостях большой пир-гостеванье. На том и старина кончилась.
КОРОЛЕВИЧИ ИЗ КРЯКОВА
Стояло близ города Крякова славное село Берёзово. В том селе Берёзове, на улице Рогатице, жила королева-вдова Настасья Васильевна, с сыном-богатырем Петроем Петровичем. Больше всего на свете любил Петрой Петрович охоту да дела богатырские, молодецкие: из лука пострелять, на коне поскакать, силушкой помериться.
Поехал он как-то из дому птицы настрелять: гусей, лебедей, диких уточек. День ездил по лесам-полям — никого не подстрелил. Заночевал во чистом поле, утром снова поехал охотиться. Ездил-ездил — и не встретил опять ни гуся, ни лебедя, ни дикой уточки. Выехал в полдень к синь-морю, глядит — плавают на море, в тихой заводи, две белых лебёдушки. Остановил он своего коня богатырского, отстегнул тугой лук разрывчатый от правого стремечка булатного, вложил в него стрелочку калёную, натянул тетивочку шёлковеньку... Только хотел пустить стрелу, вдруг слышит — возговорили лебёдушки голосом человечьим:
— Гой еси ты, добрый молодец, славный богатырь святорусский! Не стреляй нас, белых лебёдушек. Не утомишь ты тем плеча могучего, не утешишь сердца молодецкого, не добудешь себе славы-доблести. А и мы ведь не лебёдушки белые, а две девицы красные, две Настасьи Митриевичны. Пришёл на нашу землю пан-полянчище из государства Литовского, вот и превратились мы в птиц да улетели за синь-морюшко солёное и летаем по свету белому вот уже три года. Идёт тот пан-полянчище ко стольному граду Киеву, хочет его покорить, а людей в полон увести. Скачи-ка ты, могуч-богатырь, скорей ко князю Владимиру, он теперь, поди, ест-пьёт, прохлаждается, а над собой невзгодушки не ведает. И не губи ты птицы малой. Поедешь отсюда по чисту полю раздольному — увидишь могучий дуб раскидистый. Там в ветвях сидит птица-ворон белокрылая, крылья до земли распущены. Ни один богатырь не может того ворона с дуба сырого снять. Вот на ком испытай меткость свою да сноровку молодецкую!
Призадумался Петрой Петрович:
— Ехал я день, еду другой за птицею — а никого мне, кроме вас, не встретилось. А и вас губить — только позор класть на руку богатырскую, негоже ей губить бесповинные головы. Не будет тут утехи сердцу молодецкому. Я-то думал — две белых лебеди в заводи плавают, а это — две красных девушки за синь-морем солёным от пана-полянчища укрываются!
Стегнул коня и поехал прочь. Долго ли ехал, коротко ли — выехал в чисто поле раздольное. Стоит в нём могучий дуб раскидистый. Вгляделся — сидит в ветвях ворон чёрный-чёрный, крылья белые-белые, распущены перья до самой земли. Эдакой птицы королевич Петрой Петрович раньше видом не видывал, слыхом о ней не слыхивал.
Подъехал он под дерево, отстегнул тугой лук разрывча-тый от правого стремечка булатного, наложил стрелу каленую, натянул тетивочку шёлковую.
Провещал тут ворон, птица чёрная, человечьим голосом таковы слова:
— Гой еси, удалый добрый молодец, славный богатырь святорусский! Не слыхал ли ты такую поговорку на святой Руси: «Старца в келье убить — великий грех на душу принять, чёрного ворона подстрелить — ещё хуже согрешить!»? Хоть собьёшь ты меня стрелой калёною, прольёшь кровь мою по сыру дубу, сронишь тело на землю — не порадуешь тем плечо могучее, не потешишь сердце молодецкое. Лучше послушай меня, ворона, птицу мудрую, да сделай, как я скажу. Поезжай ты во славный Киев-град, ко князю Владимиру Красно Солнышко. У него сейчас во дворце пир горой, он там ест-пьёт, прохлаждается, а над землёй Русскою невзгодушки не ведает: уж ездит во чистом поле возле Киева пан-полянчище, кличет себе поединщика-супротивника, грозится: «Коли не даст мне князь поединщика-супротивника, во чистом поле наездника — разорю я стольный Киев-град, жителей смерти предам да в полон угоню, дома огнём спалю, самому князю Владимиру да княгине Апраксии головы отрублю!»
Опять призадумался королевич Петрой Петрович:
— Слыхал я такую поговорку на святой Руси: «Старца в келье убить — великий грех на душу принять, чёрного ворона подстрелить — ещё хуже согрешить!» Подстрелю я чёрного ворона, пролью кровь его по сыру дубу, сроню тело на землю, распущу перья по чисту полю да широкой долинушке — а порадую ли тем плечо могучее, потешу ли сердце молодецкое?..
Отпустил богатырь тетиву шёлковую, снял стрелочку калёную, пристегнул тугой лук разрывчатый к правому стремени булатному.
— Если ехать сейчас в стольный Киев-град дорогой прямоезжею — не будет мне чести-хвалы от русских богатырей, от князя Владимира. Лучше ехать прямо во чисто поле, встретиться в бою с удалым паном-полянчищем. А коли уж убьёт меня пан-полянчище во чистом поле, в честном бою — то, знать, и судьба моя будет: не бывать-живать боле на святой Руси, не видать больше молодцу света белого.
Гикнул Петрой Петрович, подстегнул коня богатырского. Взвился конь, помчался путём-дороженькой прямоезжею во чисто поле возле Киев-града. Видит там королевич из-под Крякова, из славного села Берёзова, с улицы Рогатицы — ездит по чисту полю пан-полянчище, кличет себе пое-динщика-супротивника из русских людей, грозит киевской земле пожаром и разорением.
Съехался с ним богатырь, поздоровался, говорит:
— Послал меня Владимир-князь помериться силушкой с тобой, поганым паном-полянчищем. Давай сговор делать, как бой станем вести.
Первый сговор такой был — биться на палицах. Разъехались они по концам поля чистого, повернули добрых коней и — поскакали навстречу друг другу. Ударились грудь в грудь кони богатырские, заржали пронзительно, ударили поединщики палицами булатными со всего размаха. Загремели латы, переломились палицы булатные — ускакали кони в разные стороны вместе с седоками, живыми-целёхонькими.
Снова сходились вместе, другой сговор делали: биться копьями. С дальних краёв поля чистого снова понеслись навстречу, наставив копья мурзамецкие. Сшиблись, ударили — погнулись копья, отломались острия ихние — а сами кони с седоками умчались по разным сторонам.
Сошлись на третий сговор и порешили так: драться рукопашным боем до смертного исхода. Схватились богатыри могучие и давай друг дружку мять-ломать, к земле гнуть. А то так расцепятся, разойдутся и — ударят кулаками. У славного Петроя Петровича в обеих руках сила была одинакова: размахнулся он левой рукой, стукнул, подставил ногу — кувырнулся пан-полянчище, покатился по сырой земле. Бросился на него королевич из Крякова, сел сверху, вынул нож булатный, замахнулся. Да вдруг стало ему жалко своего ворога, от той жалости аж замутился в глазах белый свет; опустил Петрой Петрович руку с ножом, спрашивает:
— Скажи хоть перед смертью своей, поганый пан-полянчище, из каких ты литовских краёв, какого роду-племени? Как тебя зовут по имени, величают по отчеству?
Говорит сквозь слёзы пан-полянчище:
— Что, базыка новодревная, смеёшься ты надо мной, надсмехаешься? Ведь одолел ты меня во честном бою, смерть готовишь, нож булатный в руке держишь — а спрашиваешь о роде моём, о племени, об имени-отчестве! Не позорь ты звания богатырского, лучше ударь в сердце скорее ножом своим. Ведь сидел бы теперь я на тебе — уж я-то с тобой не разговаривал бы! Не спросил бы ни о батюшке твоём, ни о матушке, не полюбопытствовал о роде-племени.
От той обиды ударила кровь Петрою Петровичу в буйну голову: замахнулся он ножом булатным, хотел снова ударить — и опять удержалась рука, замутился в глазах белый свет, и молвил богатырь таковы слова:
— Нет, скажи ты мне, пан-полянчище, доверься русскому богатырю: из какой ты земли, какого роду-племени, как тебя зовут по имени, величают по отчеству?
И ответил поединщик:
— Ладно, будь по-твоему! Родом я из города Крякова, из славного села Берёзова, с улицы Рогатицы, с подворья королевского, королевич Лука Петрович. Наехали набегом на наше село паны-полянчищи и увезли меня к себе, в Литву славную и хоробрую, там взрастили до полного возраста. А как я заматерел-возмужал, набрался силушки великой, то выбрал себе коня богатырского и поехал Русь воевать.
Заплакал Петрой Петрович:
— Ах, славный ты королевич, богатырь могучий! Зачем же ты поехал воевать свою родину, землю святорусскую? Не боя бы тебе искать с русскими богатырями, а поехать в село Берёзово, на улицу Рогатицу, повидать родных своих!
— Сказали мне паны литовские, что сжёг, порушил князь Владимир Красно Солнышко то село Берёзово вместе с улицей Рогатицей, убил мою матушку Настасью Васильевну вместе с братом-королевичем!
Поднял тут Петрой Петрович брата с сырой земли, обнял, поцеловал:
— Лука Петрович, братец мой родной! Вот я, брат твой, королевич Петрой Петрович из-под Крякова! И мамушка наша, Настасья Васильевна, жива-здорова!
Обнялись молодцы, залились слезами горючими. Сели на добрых коней и поскакали к богатырскому подворью в селе Берёзово, на улице Рогатице. Приехали братья на широкий двор, спрыгнули с коней; забежал Петрой Петрович в палаты белокаменные, в матушкину горенку:
— Здравствуй, свет ты мой, родна матушка! Принимай сына пропащего!
— Здравствуй, дитятко, родной сынок! Где это ты был-пропадал?
— Был я, родна моя матушка, во чистом поле, встретил там пана-полянчища. Угощал его яствами вкусными, поил питьём медвяным.
— Что же это ты, чадо любимое, Петрой Петрович, королевский сын! Раз уж наехал ты во чистом поле на пана-полянчища, то не яствами отборными кормил бы его, не питьём поил медвяным, а бил бы его палицей булатною, колол бы его копьём своим острым — ведь увезли они, поганые полянчищи, твоего родного брата малым ребёночком!
— Родная моя матушка! Не злого пана-полянчища встретил я во чистом поле, — а встретил братца родного, сына твоего, королевича Луку Петровича!
Глянула честная вдова Настасья Васильевна на широкий двор — ходит по тому двору молодой Лука Петрович, коня в поводу проваживает. Босиком, как была, в тонкой рубашке без пояса кинулась она во двор, обняла сына своего найденного, брала его за руки белые, целовала в уста сахарные. Повела в палаты белокаменные, садилась с обоими сыновьями за столы дубовые, угощались они вкусными яствами, питьём медовым.
Плачет матушка слезами счастливыми: нашёлся сын потерянный, ворогом увезённый!
Сидят рядом королевичи, глядят друг на друга, радуются. Еще прибавился на Руси один могучий богатырь!
ЖЕНИТЬБА ПЕРЕСМЯКИНА ПЛЕМЯННИКА
Жил во стольном Киев-граде знатный Пересмяка-боярин. И был у него племянник, удалой богатырь, дружинник княжеский. Крепко стоял он за землю Русскую, берёг границы её, верно служил князю с княгинею, но больше всего на свете любил ходить на лёгких ладьях по синь-морю солёному. И вот как-то сказал он Владимиру Красно Солнышко на честном пиру:
— Позволь мне, княже, нагрузить на чернёные корабли товары русские и пойти с ними в страны дальние, заморские!
— Что ж, удалой добрый молодец,— отвечает князь Владимир,— а отпустит ли тебя родной твой дядюшка, славный мой боярин Пересмяка свет Васильевич?
— Дядюшка, княже, давно согласен!
Нагрузили чернёные корабли товарами русскими и отплыли они в синь-море солёное. Дунул ветер в расшитые паруса полотняные — и полетели лёгкие ладьи, словно белые лебеди, в даль лазурную. Долго ли плыли, коротко ли — показался вдали за дымкой голубой Царьград. Пристали корабли к гавани, начал Пересмякин племянник товары выгружать да продавать. Быстро, выгодно продал всё, что привёз, накупил взамен того товару заморского, чужеземного, — и поплыли в обратную дорогу корабли чернёные, в стольный Киев-град. Половину пути прошли — вдруг задул ветер в другую сторону и понёс их к Милитрийским островам. Растерялись ладьи по морю бурному, а корабль с Пересмякиным племянником выбросило на сам Милитрис-остров. Не было на том далёком острове никаких мирных жителей, только водились в камышах удалые разбойники-камышники.
Как бросило ночью корабль на остров — погибла на нём вся командушка, остался жив только Пересмякин племянник-богатырь. Но и он от удара чувств лишился. Набежали к месту крушения разбойники, глядят — лежит перед ними на песке статный добрый молодец. Сжалились над ним разбойники, не стали убивать, принесли в свою избу, положили на кровать, на периночку пуховую. А когда тот очнулся через трое суток — расспросили, кто таков есть, какого роду-племени, какой земли-изотчины. Лишь узнали, что из славной князя Владимира дружинушки богатырь — сразу выбрали его над собой атаманом. И стал Пересмякин племянник верховодить над разбойниками-камышниками на пустынном Милитрис-острове. Верховодил ни много ни мало — целых пять лет. Много печалились в стольном Ки-ев-граде о его пропаже: ездили по разным землям-странам богатыри, разыскивали своего товарища — да так и не смогли нигде сыскать.
А жила в это время во славном городе Харастине, у князя харастинского, дочь любимая, Марфида-княженична. Очень любила Марфида тоже по морю гулять: попросит батюшку снарядить кораблик, сядут туда воины из дружины княжеской, поднимут матросики паруса — и летит ладья под лёгким ветром по синь-морю солёному, по широкой, лазурной воде.
И вот захотелось как-то той Марфидушке в море выйти. А на ту пору не оказалось дома ни батюшки её, ни дружинушки хороброй — ушли они на рубеж своей земли биться с супостатами. Перед походом наказал ей батюшка не ходить в море без него, без его дозволения, да не послушалась дочь, велела снарядить кораблик, позвала с собой двух подружек и — отправилась. Тёплый ветерок дует, вода журчит за бортом, парус белый полощет, — стоят девицы на палубе, морем дивуются. Вдруг налетел сильный вихрь, понёс ладью незнамо куда. Потемнело небо, молнии по нему скачут, кругом волны крутые, возносят малый кораблик вверх да вниз бросают. Страшно! Плачут девицы, с жизнью прощаются.
А в Харастине-городе стон стоит — пропала, в море гуляючи, Марфида-княженична. В ту пору как раз князь с дружиной воротился, послал корабли с богатырями по морю плавать, дочь искать. Плавали они, плавали по всему морю синему, да так ни с чем и воротились. Восплакался князь, воскручинился: нету любимой дочери, Марфидушки!
Горевала и Марфида с подругами, к смерти готовилась — носит и носит кораблик ихний по буйной воде, уже и каюты все затопило, как вдруг — показалась вдали земля, и несет их к той земле! Ударился кораблик о сушу, набок повалился.
Увидали разбойники-камышники с Милитрис-острова, что несёт к ним ладью убогую — кинулись к берегу. Вышли на палубу люди, смотрят — а к ним разбойники бегут, саблями, палицами, кинжалами машут, — закричали от страха, бросились в воду и утонули. Осталась одна девица, красоты неописанной, — вышла на берег, упала на землю, стала плакать, вопить, руки заламывать. Подошёл к ней Пересмякин племянник, атаман разбойничий, опустился на колени:
— Ты откуда будешь, молода красна девица, из какой земли, какого роду-племени?
Ничего она ему не ответила — упала без чувств. Перенёс её атаман в избу, в свою светёлку, уложил на перину, дал напиться воды ключевой холодной. Уснула она крепким сном, — а богатырь все трое суток, пока она спала, под окном светёлки просидел, её сон стерёг, чтобы никто его не нарушил. Наконец слышит — проснулась девица, воскликнула:
— Ой, где это я оказалась?
Вошёл он тогда в светёлку, низко поклонился:
— Принесло вашу ладью, красна девица, на Милитрис-остров, живут здесь разбойники-камышники, а я атаманом набольшим над ними.
— Ах!..
— Не бойся. И я ведь не разбойником родился, не всю жизнь среди них жил. Жил я раньше во стольном Киев-граде, служил князю Владимиру Красно Солнышко в его дружине богатырской, а дядей мне приходился сам Пересмяка свет Васильевич, боярин всемогущий. И вот поплыл я на корабле с товарами в Царьград-город, а на обратном пути застала нас буря да и выбросила сюда. Изо всей команды я один жив тогда остался. Так что у нас с тобой, душа-девица, судьба одинакова. Ну, так доверься мне, скажи, кто ты, откуда?
— Родом я, богатырь, атаман-разбойничек, из Харастина-города, любимая дочка князя тамошнего, Марфида-княженична. Ты скажи, как мне теперь жить среди вас, какую вы мне долю готовите?
— Успокойся, княженична, будешь мне как родная сестра, никому не дам тебя в обиду.
Вышел он из избы, собрал своих разбойников-камышников и объявил им чтобы относились к Марфидушке как к его родной сестре и никаких обид чинить ей не думали.
И стали они жить все вместе на Милитрис-острове и прожили так три года. А молодой богатырь, Пересмякин племянничек, всё думу про себя думает: как бы уплыть-убежать отсюда вдвоём со знатной пленницей? На лошади не ускачешь — кругом море. Тем более пешком не уйдёшь. Если и получится — далеко не скроешься: следы-то всё равно останутся. Хватятся разбойники: где атаман? Нет его, скрылся. Настигнут и убьют вместе с Марфидой. Потому что у разбойников такой закон: из шайки обратного выхода нет. Значит, только морем можно уйти — оно следов не оставляет, угадай попробуй, куда, в какую даль исчез челнок?
И стал он тайком от товарищей своих ночами из остатков разбитых кораблей лодку мастерить. Сделал легкую челнок-лодчоночку и однажды, когда крепко спали его товарищи-камышники, ватага буйная,— пришёл и сказал Марфиде-княженичне:
— Пойдём, душа-девица, в мой челнок, а там уж — как судьба да море повелят: или погибнем, или спасёмся.
Сели они в лёгкую лодочку, поставил Пересмякин племянник парус, из тряпок сшитый, и поплыли они по синь-морю солёному, по зыби неверной. Спокойны на этот раз были воды, и такой подул лёгкий ветерок — вынес челнок прямо ко владениям князя Харастинского: скоро увидели беглецы берег, а на берегу ветхую избушечку. Причалили они, вышли из лодки, постучали. Открыл им человек, впустил их. Тепло в избушечке, натоплено, а они иззябшие, усталые. Сразу легли на пол и уснули. А рыбак, что там жил, пошёл сразу в Харастин-город, за пять вёрст, сказать о незнакомых людях, что в его жильё пожаловали. Приехали на берег княжеские дружинники, вошли в избушку, стали спящих оглядывать — да Марфиду, любимую дочь князя Харастинского, и признали. Обрадовались, что увидали в живых-здоровых молодую княженичну свою!
Проснулись от их радостных криков красна девица да млад-богатырь. Стали её дружинники спрашивать:
— Это что же, свет-княженична, за добрый молодец с тобой пожаловал?
— Это богатырь святорусский, стольного князя Владимира дружинничек, а знатного Пере-смяки-боярина племянничек. И от смерти, и от неволи он меня спас.
Посадили дружинники доброго молодца и красну девицу на своих резвых коней и повезли в Харастин-город, ко князю. Устроил тот на радостях, что сыскалась дочь любимая, почестей пир и спросил на том пиру:
— Гой еси, добрый молодец, славный богатырь русский! За то, что дочь мою Марфидушку мне возвратил, проси какую хочешь награду.
И ответил ему Пересмякин племянник:
— Ничего от тебя не надо, княже, самая лучшая награда не по сердцу будет мне, доброму молодцу, если не отдашь ты мне в жёны дочь свою любимую, Марфиду-княженичну! Нас ведь с ней одна беда свела.
Спросили у Марфидушки: согласна ли? Зарделись её щёчки алые, кивнула она. И поплыли все вместе на кораблях чернёных, под парусами белополотняными, в стольный Киев-град. А там честным пирком да за свадебку!
КНЯЗЬ РОМАН И МАРЬЯ ЮРЬЕВНА
Жили-были в Царьграде князь Роман да жена его, княгиня Марья Юрьевна. Часто приходилось князю исполнять службу царскую: всё ездил он по дальним сёлам, городам, собирал дани-пошлины. Долго иной раз длились поездки его — по полгода, ещё дольше. А молодая княгиня одна дома оставалась. И вот собрался как-то Роман ехать в землю чужедальнюю, за данями великими. Узнала это Марья Юрьевна — припала к мужу, заплакала, забилась рыбкой:
— Ой, горе, княже! Ты послушай-ко меня, жену свою верную: не езди на этот раз в земли дальние собирать дани заморские! Снилось мне прошлой ночью, что упал и рассыпался у меня дарёный тобой злат-перстень с правой руки.
Не послушал её князь Роман Иванович: как-де можно царский приказ не исполнить? Попрощался скоренько да и выехал со двора своего широкого. Осталась княгиня одна лить горькие слёзы.
Лишь двое суток минуло после княжеского отъезда — показались с восточной сторонушки в синь-солёном море три корабля чернёных с парусами расписными, флагами шёлковыми. Пристали гости к берегу, бросили мосточки дубовые, настлали на них сукна зелёные. Сходит по ним на землю торговый гость царя Грубиянища Васька Таракашка, сын Заморенин. Идёт прямой дорогой к дому князя Романа, в его палаты белокаменные и говорит Марье Юрьевне таковы слова:
— Дома ли хозяин, князь Роман свет Иванович?
— Уехал хозяин в землю чужедальнюю собирать дани-пошлины.
— Заказывал князь нам, людям торговым, товары из нашего царства-государства. Привезли мы тех товаров целых три корабля, иди, принимай их, княгинюшка.
— Да что же ты за товары привёз, торговый гость?
— Много на моих кораблях товаров всяческих да богатых, ценных: сибирские чёрны соболи, заморские ясны соколы, шелка разноцветные, сукна отменные красок диковинных, напитки сладкие, на любой вкус — собирайся, хозяйка, живым глазом всё увидишь!
Стала Марья Юрьевна собираться — подходит к ней мамушка старая, верная:
— Не ходи ты, милая хозяюшка, на корабли царя Грубиянища! Ведь этот гость заморский — сам Васька Таракашка, сын Заморенин, бесчестный человек, его во всех городах знают, никто с ним дел не ведёт. Увезёт он тебя хитростью, красоту нашу, за синь-море солёное.
— Успокойся, мамушка! Я не буду там, на кораблях, долго сидеть, с Васькой разговаривать. Откуплю товары заморские да тут же и домой ворочусь.
А Васька сидит в уголке, ухмыляется. Посмотрела мамушка на него, вздохнула:
— Ведь не торговать ты, Васька,— воровать пришёл! Увезти хочешь, разбойник, у князя Романа молодую жену, нашу хозяюшку, Марью свет Юрьевну!
Оделась княгиня, нарядилась в шубку кунью, взяла с собой золотой казны и пошла на заморские корабли чернёные. Ступает по мосточкам дубовым, по сукнам зелёным; ведёт её Васька Таракашка, сын Заморенин, с палубы убранной в каюту, красным бархатом обшитую. Несёт гость заморский в ту каюту товары богатые:
— Ты выбирай тут, что приглянется, а я пока пойду на палубу.
Загляделась княгиня на товары, забыла мамушкины слова про Ваську-обманщика, не вспомнила про лукавство его. А он на палубе говорит тихонько матросам-корабельщикам:
— Уж постарайтесь вы, други-корабельщики, будет вам за то и угощенье, и злато-серебро: не убирайте вы мостки дубовые, не трогайте сукна зелёные, — выбирайте потихоньку якоря булатные, увезём мы Марью-княгиню ко своему царю Грубиянищу, одарит он нас за это дорогими подарками.
Подняли быстро корабельщики якоря булатные, распустили тонкие паруса расписные,— отчалил корабль от берега царьградского, а за ним и остальные два тронулись. Спрашивает в каюте Марья Юрьевна:
— Что это корабль у вас — будто как покачивается?
Отвечает ей Васька Таракашка, сын Заморенин:
— Это, княгинюшка, непогода на море разгулялась, вот и шевелят корабль волна да ветер.
Выбрала она себе товары заморские, рассчиталась за них золотой казной, попрощалась с гостем торговым, вышла на палубу, чтобы идти в свои палаты белокаменные, — а родимая-то сторонушка уж еле виднеется! Только крыши видно, да купола белые у теремов, словно лебёдушки. Кругом кораблей чайки летают, криком исходят. Заплакала горько княгиня Марья Юрьевна:
— Ах ты, Васька Таракашка, сын Заморенин! Верно о тебе сказала мамушка: не торговать ты, а воровать пришёл!
50
Сторона ты моя, сторонушка родимая, любезные края, видеть ли мне вас когда-нибудь?
А тот стоит, подбоченясь, подло усмехается.
Долго ли, коротко ли было дело — приплыли корабли в царство Грубиянское, зашли в гавань. Велел Васька Таракашка вывесить на мачтах флаги шёлковые, сам, только причалили, побежал бегом во дворец царский. Сидит там царище Грубиянище, обедает со своей дружиною поганой. Как узнал, что привёз ему Васька молодую княгиню заморскую, — не стал и дообедывать, стол с едой опрокинул, в гавань во весь дух бросился. Велел на мостки дубовые настлать новые ковры, красным золотом расшитые. По тем коврам поднялся на корабль чернёный, вступил в каюту, где полонянку везли. Отворачивается она от него, а царище Грубиянище кругом неё вертится, ладони от её лица отводит. Никак налюбоваться не может:
— Уж сколько я, царь Грубиянище, по белу свету ни хаживал — а такой, как ты, красавицы, не встречал!
Взял он её за правую ручку, за перстни её драгоценные и потащил в свои палаты. Чтобы не сбежала дорогая пленница, поставил вокруг дворца стражу, крепких караульщиков, обил окошечки частой железной решёткою.
И устроил на радостях пир великий: позвал князей своих, бояр, дружину поганую — сидит впереди стола, похваляется чудесною добычей да чарку за чаркой пьёт. Обнимает, ласкает слугу своего бесчестного, вороватого, Ваську Таракашку:
— За твою услугу великую дарю я тебе, верный слуга, сын Заморенин, все три корабля чернёные вместе с командою, чтобы плавал ты на них по окиян-морю синему, торг вёл, воровство чинил да славил царство мое Грубиянское!
Наелся царище, напился и свалился под стол как свинья. И князья его, бояре, слуги царские, дружина поганая тоже под столы свалились. Лежат вповалку, храпят. А Марья Юрьевна вышла в полночь к караульщикам и давай их одаривать золотой казной, что при ней еще оставалась,— они её из дворца-то и выпустили. Трое суток спал-храпел со своими гостями царище Грубиянище — а за те трое суток молодая княгиня далеко ушла. Идёт по лесам-лугам, плачет, ноженьки белые в кровь сбила, грибами-ягодами лесными питается. Приходит она на берег По-чай-реки:
— Не броситься ли мне, бедной молодушке, во Почай-реку, не утонуть ли в волнах её? Всё лучше будет — не достанусь хоть тогда тому царищу Грубиянищу поганому!
Хотела уж кинуться в Почай-реку с крутого берега, вдруг видит — плывёт по реке лодочка с перевозчиком, правит на тот берег, где она стоит. Побежала она к лодочке, перевозчик ей и говорит — маленький, старый, бородатый:
— Ты садись скорее, молода княгиня, в мою лодочку, перевезу тебя на другую сторону, подальше от царища Грубиянища поганого.
Переехала она в лодочке на другую сторону, вылезла на берег, даёт последние остатки золота перевозчику:
— Благодарствую, дедушко, за твоё дело доброе, спас ты меня, горемычную.
— Не надо мне, княгиня, никакого золота.
— Да ты кто таков будешь? Уж не угодник ли, свят-человек, явился на заступу невинному?
Ничего не ответил старик — исчез, невидим стал. Удивилась Марья Юрьевна: что за чудо такое? Постояла на берегу да пошла в лес.
А царище Грубиянище проснулся тем временем, очухался, кликнул к себе молодую пленницу, — а её, оказывается, и след простыл. Рассвирепел он, велел
казнить лютой казнью всех караульщиков да подать себе книгу волшебную, где все тайны записаны. Поглядел в книгу, закричал своим дружинникам:
— Вы подите, возьмите да привезите мне княгиню заморскую, она за Почай-рекой укрывается!
Вскочили те на быстрых коней, поскакали к Почай-реке. А славная матушка Почай-река течёт широкая, вольная, воды у неё быстрые, глубокие — не так-то просто перебраться через неё! Испугалась царская дружина поганая, говорит между собой:
— Нет, не будем мы плыть через Почай-реку — Почай-река широкая, глубокая, быстрая, в ней можно и смерть свою найти. Лучше скажем мы своему царишу Грубиянишу, что молодая княгиня сама в ней утонула.
О том они, вернувшись, царю и поведали. Повздыхал он да и забыл о молодой прекрасной пленнице.
Может, больше о ней и не вспомнил бы, если бы не князь Роман. Вернулся он с данью из земли чужедальней:
— Где жена моя, княгинюшка пресветлая?
— Украл, князь, твою Марью Юрьевну хитрый слуга царища Грубиянища, Васька Таракашка сын Заморенин, да и увёз в подарок своему хозяину.
Кликнул тут, не теряя времени, Роман по своему царству-государству войско великое:
— Кто желает сразиться с поганым Грубиянищем, отомстить за Князеву честь поруганную?
Собралось войско, двинулось на царство Грубиянское. Подошли к столице, разбили наголову всю царёву армию, самого его с Васькой Таракашкой в полон взяли. Стали спрашивать — те отвечают, что не знают-де, где княгиня Марья Юрьевна, куда девалась,— убежала из дворца да, сказывают, и потонула в Почай-реке. Услыхал такие вести князь Роман, закручинился, поехал обратно в Царьград. А Грубиянища да Ваську Таракашку за ним повезли в клетках.
Вот год проходит, другой, третий... Горевал-горевал князь Роман и решил так: делать нечего, нет любезной Марьюшки, придётся, видно, снова жениться. Приглядел девушку, тоже из княжеской семьи, и посватался к ней. Стали к свадьбе готовиться. Зовёт он тогда к себе лучшего своего охотника-лесовика, молодого полесничка. Был тот полесни-чек из простого роду, бедных отца-матери, но лучше его не было охотника во всем Царьграде.
— Ступай-ка ты, охотник-полесничек, по лесам, лугам, по речкам, тихим заводям, настреляй мне птицы к свадьбе — что гусей, что лебедей, что диких уточек!
Пошёл охотник гулять по лесам, лугам, тихим заводям стрелять добычу для княжьего стола. И вот подстрелил он однажды в лесной заводи дикую уточку, зашёл за ней в воду и слышит вдруг — окликает его кто-то:
— Ты постой, послушай меня, млад-полесничек!
Оглянулся охотник: видит — стоит за кустами прибрежными женщина красоты неописанной, в платье из травы да листьев сплетённом.
— Ты кто будешь? Русалка? Лесная девица? Лешего дочь?
— Не русалка я, не лесная девушка, я дочь человеческая, да не простого роду, знатного. Три года хожу я по лесу, никого из людей не могу встретить, кто бы меня отсюда вывел, в Царьград дорогу показал. Выручи, спаси ты меня, млад-полесничек!
— Изволь, душа-красавица! Выведу тебя отсюда и дорогу покажу.
— Так ведь не могу я в таком платье к людям выйти! Своё-то у меня давно сносилось да оборвалось, связала я себе это из травы да из листьев. Ты уж поделись со мной, млад-полесничек, своим платьем верхним, вернусь домой — щедро за это награжу тебя.
— Не надо мне твоей награды. Охотник другому человеку в несчастье всегда поможет.
Снял он с себя верхнее платье, отдал женщине-красавице. Переоделась она, молит опять:
— Уж ты дай мне ещё, добр человек, хлебушка! Ведь три года я его не едала, все только травы, грибы сырые, ягоды да коренья лесные.
Накормил он её пирожками-подорожниками, матушкой испеченными. Наелась она и спрашивает:
— Ты откуда будешь, добрый молодец?
— Я из Царьграда, послал меня тамошний князь Роман Иванович настрелять к своей свадьбе гусей-лебедей, диких уточек.
Залилась она слезами:
— Так князь Роман женится?!
— Только на той неделе посватался. А сегодня будет у него смотренье, а завтра венчанье. Ты что плачешь-то, душа-красавица?
— Ах, полесничек! Да ведь я — князя Романа молодая жена, Марья Юрьевна. Украл меня хитростью царища Грубия-нища злой слуга Васька Таракашка сын Заморенин, убежала я от них да вот с той поры по лесу и мыкаюсь.
— Ну, пойдем тогда к мужу твоему, князю Роману! Негоже ему от живой жены на другой жениться.
Пришли они вдвоем в Царьград, заходят в палаты княжеские, оба в одежде охотничьей. Встречает их князь, принимает птицу принесенную — гусей-лебедей, диких уточек. Обрадовался Роман богатой добыче, пригласил их в свои покои, подал чару мёду млад-полесничку:
— Спасибо, охотник, за добрую службу твою!
Говорит ему охотник:
— А ведь я, князь, не один охотился! Налей-ка ещё моему товарищу.
Засмеялся князь Роман:
— Эх, полесник-охотник, мужик-мужичина! Ещё станешь ты учить, кого мне в своём доме угощать! Ну ладно, быть
по-твоему... Угощайтесь, молодцы, оба из рук моих!
Налил он чару мёду сладкого, поднёс товарищу полес-ничка-охотника. Подал — и вдруг увидал на руке у него княгинин перстень обручальный, перстенёк дорогой своей ненаглядной жены Марьи Юрьевны. Прижал он ту руку к сердцу:
— Где же нашёл-встретил ты, добрый молодец-полес-ничек, своего друга-товарища? Ну-ка расскажи мне правду всю.
— Что, княже, не признал в моём товарище жену свою молодую, Марью Юрьевну? В лесу я встретил её, переодел в своё платье да к тебё привёл.
Упали тут Роман Иванович с княгинюшкой на колени друг перед другом, обнялись крепко и заплакали. Много было в тех слезах и печали, и радости. А когда поднялся князь, то объявил свою волю:
— Ты бери уж за себя, млад-полесничек, молодую княжну, мною просватанную. А я буду дальше жить со своей любезной Марьюшкой свет Юрьевной! Эй, собирайте пир честной да свадьбу новую!
Собирали здесь почестей пир, свадебку весёлую, обвенчали молодого охотника с красавицей роду княжеского. Была на той свадьбе княгиня Марья Юрьевна сватьей, а Роман Иванович — тысяцким. И сделал князь полесничка знатным человеком, своим помощником.
А Ваську Таракашку да царища Грубиянища до старости в железных клетках по городам возили — малым ребятам на просмеянье, взрослым людям — на поученье. А потом пожалели, отпустили на четыре стороны: ступайте да злодейств больше не творите!
МИХАЙЛО ПОТЫК
Как во стольном граде Киеве собирались три богатыря святорусских, три брата названных: старый казак Илья Муромец да молодые Михайло Потык с Добрыней Никитичем. И сказал Илья таковы слова:
— Хватит нам, русским богатырям, по домам сидеть, словно тараканам запечным! Пора нести службу богатырскую — ехать по дальним землям-краям, глядеть, не собирается ли походом недруг на землю Русскую, показывать нашу удаль да силу молодецкую. Поезжай-ка ты, Добрынюшка, за синь-море солёное, ты, Михайло, скачи ко тёмным лесам дремучим, а я, старик, поеду во чисто поле, в дальнее раздольюшко.
И разъехались богатыри в разные стороны. Ехал-ехал Михайло Потык сын Иванович к дальним лесам дремучим; притомился дорогою и решил отдохнуть. Выехал в чистое место, смотрит — вдалеке терема высятся, красивый дворец стоит. Раздёрнул шатёр свой белополотняный, отпустил коня доброго по траве погулять. Открыл короба походные, достал оттуда еду да питье, поел да и лёг спать.
А стояла неподалеку столица могучего царя Вахрамея Вахрамеевича, и была у него дочь любезная, молодая Марья лебедь белая. Вышла она на балкон, приставила к глазам трубочку подзорную: что интересного окрест происходит? Что-то там, в широком поле, белое виднеется? Вгляделась — стоит шатёр белополотняный, рядом ходит по траве конь богатырский. В шатре спит крепким сном кудрявый добрый молодец красоты невиданной. Забилось сердце Марьи лебеди белой, пошла она к своему батюшке:
— Родной ты мой батюшка, царь Вахрамей Вахрамеевич! Как стала я красной девушкой, дал ты мне разрешение стать белой лебедью на три года. Три года летала я, лебедь белая, над тихими заводями, лугами зелеными, болотами-трясинами, отведала вольной воли-волюшки. Отпусти теперь меня на три года гулять во чистых полях, зелёных лугах красной девушкой, узнать девичью волю-волюшку.
Держит царь таковой ответ:
— Летала ты, дочь моя любезная, над полями-просторами, тихими заводями, лугами зелёными, болотами-трясинами белой лебедью да, видно, не хватило тебе вольной воли-волюшки. Так и быть — гуляй ещё красной девицей во чистых полях, во зелёных лугах три года. А как минут эти три года, да вернёшься ты домой, то готовься замуж выходить.
Поклонилась Марья батюшке царю Вахрамею Вахрамеевичу, оделась для гулянья и отправилась во чисто поле — вместе с мамками-няньками, верными служанками. Они тихо идут, а царевна быстро бежит ногами лёгкими, далеко убежала вперед тех мамок-нянек. Запыхались они, кричат: — Смилуйся над нами, госпожа наша любезная, не можем мы за тобой угнаться!
— И не угонитесь! — отвечает им Марья.— Мои ноги лёгкие, быстрые. Вы идите-ка лучше домой, обратно в палаты. Отпустил ведь меня царь-батюшка гулять во чисто поле, в раздольные луга.
Воротились обратно мамки с няньками, а Марья лебедь белая пошла к шатру полотняному. Увидал её добрый конь богатырский, стал землю копытом бить. Стала матушка сыра-земля подрагивать, постанывать. Пробудился от того стона молодой Михайло Потык, вышел из шатра в одних чулках, белой рубашке до колен. Крикнул на коня:
— Ай ты волчья сыть, травяной мешок! Что ты без дела ржёшь да копытом мнёшь матушку сыру-землю? Что тревожишь мой сон богатырский?
Глянул по другую сторону шатра — стоит там краса-девица, белая лебёдушка. Подбежал к ней Михайло, схватил за руки, хотел целовать-миловать, а девушка говорит ему:
— Ай, удалой добрый молодец! Ведь не знаю я ни твоего имени, ни твоего отчества, ни звания — царь ты, королевич ли — вижу лишь по обличью, что русский богатырь. А я Марья лебедь белая, могучего царя Вахрамея дочь любезная. Если по сердцу я тебе пришлась — так и быть, сади на своего доброго коня, вези к себе в Киев-град, веди под венец, стану я тебе женою верною.
Посадил Михайло красну девицу, Марью лебедь белую, на своего доброго коня, повёз в стольный Киев-град. Ввёл в дом свой, обвенчался с нею, стали они мужем и женой. Сыграли свадьбу, а после свадьбы дали они друг другу такую заповедь великую:
— Если кто из нас первым умрёт, то и другому идти за ним в мать сыру-землю и провести с мёртвым вместе ещё три года.
Много ли, мало ли после того времечка прошло — созывает великий князь стольно-киевский Владимир Красно Солнышко своих князей, бояр, могучих богатырей на почестей пир. Съехались знатные мужи в палаты белокаменные, терема высокие, стали пить-есть, собой похваляться.
Говорит старый казак Илья Муромец:
— Эх, и погулял я, други мои, во чистом поле, во широком раздельюшке! Потешил сердце, показал силушку богатырскую!
Вторит ему Добрынюшка Никитич:
— А и был я, добрые господа, за синь-солёным морем! Долго будут помнить недруги руку русского богатыря, скок его коня могучего!
Только Михайлушко Потык сидит, понурился. Чем ему похвастать? Никого он в своём походе не покорил, ни с кем силой богатырской не померился. Станешь хвастать, что молодую жену привёз — засмеются: «Нашёл чем хвастать — молодой женой! Это глупец молодой женой хвалится, а умный — старой матушкой».
Думал, думал, да и сказал:
— Как ездил я, братья, к тёмным лесам дремучим, ко грязям чёрным — встретился с могучим царём Вахрамеем Вахрамеевичем. Играли мы с ним в шашки золочёные, и выиграл я у царя сорок телег золотой казны. Повёз ту казну домой, в стольный Киев-град, да дорогою подломились у телеги оси железные, пришлось мне копать ямы глубокие да схоронить всю казну золотую во сырой земле.
Донеслись эти его слова до слуха самого великого князя стольно-киевского Владимира Красно Солнышко. И объявил он свою волю княжескую:
— Слушай меня, Михайло Потык сын Иванович! Приехали на днях сюда, в стольный Киев-град, послы от могучего царя Вахрамея Вахрамеевича. Требуют с Руси дань за двенадцать лет. Грозит царь войной пойти, если не уплатим ему те дани великие. Ты поезжай-ка, свет Михайлушко, не мешкая, к тем местам, где закопал золотую казну, достань её из земли, заплати ею Вахрамею Вахрамеевичу дани за двенадцать лет да ещё за нынешний. А то пойдет он приступом на Киев-град, перебьёт дружинушку хоробрую, а меня с княгиней Апраксией, жёнок да деток ваших в полон возьмёт. Ступай, Михайло, бери коней да исполняй мою волю княжескую!
Невесел вернулся домой Михайло Потык, рассказал жене про царский наказ. Заплакала Марья лебедь белая горючими слезами.
— Не уезжай, свет мой Михайлушко! Не вынесу я разлуки с тобой, помру смертью горькою!
— Что делать, жена любимая!— вздохнул Михайло.— Не исполню воли княжеской — самому головы не сносить. Давай-ка лучше собирай меня да прощаться станем.
Три месяца ехал Михайло к дремучим лесам, топким болотам — владениям могучего царя Вахрамея. А царь живёт, не ведает, что дочь его любезная Марьюшка в стольном Киев-граде, замужем за русским богатырём, думает, что как отпустил он её на три года — так и гуляет она по чистым полям, по раздольным лугам.
Приехал Михайло в столицу царства Вахрамеева, заехал на широкий двор, привязал коня богатырского ко столбу точёному, насыпал ему пшеницы белояровой, сам взошёл по золочёному крыльцу в царские палаты белокаменные. Провели его к царю. Поклонился Потык на все четыре стороны, Вахрамею особый поклон отвесил:
— Здравствуй, могучий царь Вахрамей Вахрамеевич!
— Здравствуй, удалой добрый молодец! Кто таков будешь? Не знаю ни звания твоего, ни имени, ни отчества. Не царь ты, не царевич ли? Не король ли, не королевич? Не с тихого ли Дону казак? Не грозный ли посол ляховитский? Не могучий ли старый богатырь Илья Муромец?
— Не царь и не царевич я, не король и не королевич. Не с тихого Дону казак, не посол ляховитский. Не могучий богатырь Илья Муромец, хоть и названый брат он мне. Я Михайло Потык, сын Иванович, из дружины великого князя стольно-киевского.
— Честь тебе, молодой богатырь! Проездом через моё царство или с нуждой пожаловал?
— Идёт, царь, слух по свету белому, что охоч ты играть на досках шахматных в шашки золочёные. И мне та игра больно люба. Вот и спешил я из дальних земель, чтобы с тобой сразиться. Давай играть!
Согласился Вахрамей Вахрамеевич. Стали они об закладе договариваться и порешили так: выиграет Потык — насыплет ему царь сорок телег золотой казны, выиграет царь — будет ему богатырь служить сорок лет.
Хлопнул Вахрамей в ладоши — принесли им слуги столик резной из моржовой кости с доской шахматной да ша-шечки-тавлеи золочёные. Сели играть. Смеётся царь:
— Тебе ли, русский богатырь, садиться со мной в шашки играть?
Сделали по одному ходу, по другому — царя всё смех разбирает. На третьем ходу умолк Вахрамей, на четвертом — призадумался, на пятом — закручинился, на шестом — голову повесил. Ай да игрок попался!
Пришлось царю сдаться — выиграл у него Михайлушко сын Иванович. Выиграл и говорит:
— Возьми, царь, те сорок телег с золотой казной, что я у тебя выиграл, в уплату за дань от княжества русского. Будет той дани за двенадцать прошлых лет да ещё за нынешний годичек.
Жалко стало Вахрамею Вахрамеевичу своей золотой казны, жалко дани, с Руси не полученной. И зло берёт: как посмел безвестный богатырь обыграть в шашки его, про которого по всему белу свету молва идет, лучшего игрока!
— Давай, Потык, ещё раз играть! Выиграешь — дам тебе ещё сорок телег золотой казны, я выиграю — станешь служить мне сорок лет да ещё один год.
— Ну что ж, давай.
Стали снова играть, двигать по доске из зуба моржового шашки золочёные. Сделал Михайло ход, другой, третий — приуныл царь Вахрамей, ещё немного поиграли — и сдался он Михайлушке сыну Ивановичу.
— Ну, русский богатырь, и добрый же ты игрок! Я такого ещё не видывал, с таким не игрывал. Моё слово царское верное — бери сорок телег золотой казны! Да давай ещё раз сыграем, может, отыграюсь я...
— Может, хватит, царь?
— Не заставляй меня гневаться! В последний раз станем играть. Выиграешь — стану сам двенадцать лет да ещё нынешний годичек платить дань в сорок телег золотой казны великому князю стольно-киевскому. Проиграешь — будешь мне служить до самой смерти.
— Ладно, будь по-твоему!
Долго играли. А как кончили игру — заплакал царь Вахрамей бессильными слезами: так и не сумел одолеть русского богатыря. А Михайло сидит, от усталости сам не свой.
Тут влетел в открытое окошко голубь, сел на доску резную шахматную и возгласил человечьим голосом:
— Молодой ты Михайло Потык сын Иванович! Сидишь ты теперь во чужих палатах, за игрою прохлаждаешься, а большой невзгодушки над собой не ведаешь. Ведь жена-то твоя любезная, Марья лебедь белая, разлуки с тобой не выдержала, без тебя в Киев-граде почила, померла.
Услыхал добрый молодец таковы слова — куда и усталость девалась! Вскочил на ноги свои резвые, схватил доску шахматную резную из зуба моржового да как бросит в окно! Разлетелась там доска на камнях на мелкие кусочки, от того удара кругом терема закачалися, порассыпались стёклышки в хрустальных оконницах. Сам царь Вахрамей на пол упал, закричал:
— Что делаешь ты, сильный, могучий богатырь святорусский?! Гляди — от твоего удара в теремах маковки качаются, с оконниц хрустальные стёклышки сыплются, воины мои по двору раскорякою ходят, а князья-бояре без памяти лежат! Не губи ты ни моих дворцов-теремов, ни меня самого со знатью-челядью!
А Михайло уже во дворе, коня от столба отвязывает. Кричит оттуда Вахрамею Вахрамеевичу:
— Царь, дань и казну сам в Киев-град свези! Помни своё слово царское.
Ударил коня шпорами железными, взвился тот под небеса, скакнул через стены столицы Вахрамеевой и — был таков. А Михайло наклонился, говорит ему в ухо:
— Конь ты мой добрый, конь ты мой быстрый! Сослужи хозяину службу верную: нёс ты меня до царства Вахрамеева три месяца, донеси теперь до дома в три часа.
Заржал конь, сверкнул глазом огненным, ударил острым копытом об матушку сыру землю да как начал реки-озёра перескакивать, тёмные леса между ног пускать — в три часа домчал Потыка до Киев-града.
Остановился он возле своих палат белокаменных, вбежал в дом. Тихо там, словно опустело всё, только ходят люди дворовые, головы понуривши. Лежит в светлых покоях во гробу Михайлова жена любезная, Марья лебедь белая. Заплакал богатырь горькими слезами:
— Жена ты моя, Марьюшка милая, ты пошто-зачем меня спокинула? Не будет мне без тебя жизни на белом свете!
Собрались у него вечером братья названные, дружинники киевские, богатыри святорусские. И сказал им Михайло:
— Братья вы мои названные, старый казак Илья Муромец да молодой Добрынюшка Никитич! Сделайте-ка вы, братья, дело доброе: постройте большую колоду белодубо-ву, чтобы вошли туда гроб с Марьюшкой, сам я, запас хлеба-соли да воды на три года — уйду я с ней вместе в матушку сыру землю, буду её покой сторожить.
Поклонились ему братья названные, пошли строить колоду белодубову. А сам Потык отправился в кузницу, сковал там трое клещей железных да трое прутьев: прутья железные, прутья оловянные, прутья медные.
Построили Илья с Добрыней большую колоду белодубову. Занесли туда гроб с Марьюшкой, хлеб-соль, воду, вошёл туда и Михайлушко сын Иванович. Набили названные братья на ту колоду обручи железные и опустили её в яму глубокую, во матушку сыру-землю. Закидали песком сыпучим, постояли, поклонились тому месту да по домам отправились. Остались внизу, в темноте земной, Михайло да Марья лебедь белая наедине друг с дружкой.
Льёт Михайло слёзы, убивается по жене любезной. И вдруг слышит — шуршит что-то за колодой, трётся об стальные обручи.
Это Змей подземельный, хозяин царства земного, обходил-обползал свои владения да наполз на колоду белодубову. Принюхался, почуял дух человека живого, обрадовался: «Будет чем мне полакомиться!» Ухватил Змей обручи железные, дёрнул — они и лопнули. Ударил в тесину дубовую — проломилась тесина, сунул Змей внутрь голову. Глядит — стоит во колоде гроб, в нём девица красоты неописанной, на гробе свечка горит. Увидал Змей живого добра молодца, зашипел:
— Ох, пришло мне времечко поесть-попировать! Съем и мертвого, и живого!
Схватил тут Михайло Потык клещи железные, зажал ими Змееву голову — ни туда, ни сюда не стало ходу гаду ползучему, а вырваться из рук богатырских — сил не хватает. Как начал тут бить его молодец прутьями железными! Бьёт, что есть сил, без продыху.
Взмолилась тварь подземельная:
— Молодой Михайло Потык сын Иванович! Не бей-ко ты Змея, не кровавь меня. Принесу тебе живой воды через три года.
— Нет, окаянный, это мне больно долго ждать!
И бьёт Змея без продыху.
— Молодой Михайло Потык сын Иванович! Не бей-ко ты Змея, не кровавь меня. Принесу я живой воды в один год.
Кончились тут у Михайлы прутья железные, схватил он оловянные — и ну снова бить Змея!
— Молодой Михайло Потык сын Иванович! Не бей-ко ты Змея, не кровавь меня. Принесу живой воды в полгода.
— Нет, окаянный, это мне долго ждать!
Дальше бьёт Змея.
— Молодой Михайло Потык сын Иванович! Не бей-ко ты Змея, не кровавь меня. Принесу живой воды в три месяца.
69
— Нет, поганый, это мне долго ждать!
Тяжко Змею под рукой богатырскою, под прутьями оловянными, снова взмолился он:
— Молодой Михайло Потык сын Иванович! Не бей-ко ты Змея, не кровавь меня! Принесу тебе живой воды в два месяца.
Кончились тут у Михайлы прутья оловянные, взялся он за медные. Бьёт Змея, не жалеючи.
— Молодой Михайло Потык сын Иванович! Не бей-ко ты Змея, не кровавь меня. Принесу тебе живой воды в месяц.
— Нет, тварь, это мне долго ждать!
Больно Змею, летит чешуя, извивается он в Михайловых крепких клещах.
— Молодой Михайло Потык сын Иванович! Не бей-ко ты Змея, не кровавь меня. Принесу тебе живой воды в неделю.
— Нет, окаянный, это мне больно долго!
Через малое время опять взмолился гад подземельный: — Молодой Михайло Потык сын Иванович! Не бей-ко ты Змея, не кровавь, пожалей меня! Принесу тебе живой воды в три дня.
— Долго, долго, не могу я столько, поганый ты, ждать!
Обессилел Змей под прутьями, еле дышит, хвостом землю буровит.
— Молодой Михайло Потык сын Иванович! Да пожалей ты, не кровавь меня боле! Принесу тебе живой воды в два дня!
— А и это мне — больно долог срок!
Ударил Змей хвостом из остатков сил:
— Молодой Михайло Потык сын Иванович! Не жалеешь меня — пожалей малых моих детушек. Принесу тебе живой воды в один день!
— Нет, мне и один-то день долог!
Чует змей, что близок его конец, забьёт его насмерть Михайло Потык, взмолился слабым шипом, просит: — Молодой Михайло Потык сын Иванович! Не бей ты больше меня — принесу тебе живой воды в три часа!
Опустил тут богатырь свои прутья.
— Ладно, Змеище, вели ползти сюда своим детёнышам. Пускай у меня в закладе побудут, покуда ты за живой водой ползаешь. Не принесёшь вовремя, как сказал, через три часа — не быть им живыми.
Облился Змей слезами горючими, кликнул своих змеёнышей. Увязал их Михайло в мешок, поставил в угол колоды белодубовой.
— Теперь ступай. Да помни уговор.
Утянулся Змей в толщу земную. Сидит Михайло, ждёт его. Не прошло указанного сроку — ползёт Змей обратно, во рту — скляночка с водой.
— На тебе живую воду, молодой Михайло Потык сын Иванович! Да выпускай на волю моих детушек, хватит их в своём мешке держать.
— Э, нет, погоди, тварь подземельная!
Вынул Потык из мешка одного змеёныша, разорвал его надвое.
— Поглядим, что за воду ты мне принёс!
Сложил у змеёныша обе половинки, помазал водой из скляночки — сросся змеёныш, как прежде. Ещё помазал — зашевелился змеёныш. Еще помазал — бойко пополз тот к своему батюшке, Змею подземельному.
Взмолился Змей опять:
— Да отпусти ты моих детушек, молодой богатырь!
— Ай, нет, погоди, ещё дело есть: дай ты мне сейчас заповедь великую, что не станешь с этих пор ползать в матушке сырой земле, поедать тела мертвые.
Дал Змей подземельный Михайле Потыку заповедь великую, отпустил богатырь с миром его и малых змеиных детушек. А сам подошёл к гробу, где лежала любезная жена его Марья лебедь белая, брызнул на неё раз живою водой — вздрогнула она, брызнул другой раз — села в гробу, брызнул третий — встала. Поднёс он склянку ко рту её, смочил губы — заговорила Марья лебедь белая.
— А и долго же я нынче спала, свет Михайлушко!
— Кабы не я, век бы спала, не проснулась.
Поцеловал богатырь жену, рассказал ей про смерть, про то, как закопали их вместе в колоде белодубовой его братья названные, про чудесное её исцеление. Была у них радость, да недолгая: живы-то они живы, да только как теперь из тьмы земной на белый свет выбраться? Задумался, затужил Михайло, а Марья льнёт к нему, ластится:
— Не горюй, милый муж мой, свет Михайлушко! Лучше соберись с духом да крикни во весь свой голос богатырский, чтобы он доверху донёсся.
Вышел Михайло на середку колоды белодубовой да как крикнет! Марья лебедь белая от того крика могучего без памяти упала, а под Киев-градом задрожала мать сыра земля. Стали жители киевские собираться, меж собою разговаривать: что за гуд из-под земли идёт, словно мёртвые снизу голоса подают? Услыхали тот гуд и Михайловы братья названные, старый казак Илья Муромец да молодой Добрынюшка Никитич. Вскочили они на резвых коней, поехали на Потыков двор, к яме, где схоронили они его с женой в колоде белодубовой. Говорят братья:
— Не иначе как Михайлушко из-под земли голос свой могучий подаёт. Сдавила его матушка сыра земля, душно стало с мёртвым телом — вот и кричит он, до нас хочет докричаться. Надо его оттуда вызволять.
Взяли они заступы железные, разрыли яму глубокую, достали из неё колоду белодубову. Вышел оттуда их названный брат Михайло свет Иванович с молодой женой, оба живые да невредимые. Были тут удивление и радость великие по всему граду Киеву.
Зажили Михайло да Марьюшка в своём доме по-прежнему. И пошёл по белу свету слух о чудесном их избавлении из тьмы земной. Да вместе с этим слухом катится по земле великой, городам её, ордам, малым селениям и другой — слух об уме и красоте неописанной царской дочери Марьи белой лебеди, жены могучего Михайлы Потыка.
Дошла та молва до царства-государства славного царя сарацинского Ивана Окульевича, до самых царских ушей, и
73
решил он ехать в стольный Киев-град, повидать Марью, её красоту неописанную, услыхать её речи мудрые. Кликнул свою дружинушку хоробрую и тронулся в дальнюю дорогу.
А тем временем призвал великий князь Владимир Красно Солнышко Михайлу Потыка с его братьями названными на свою службу княжескую: ходит-де у наших застав богатырских орда немалая, надо её разбить-одолеть, чтобы не двинулся ворог на землю Русскую.
Заседлал Михайло своего доброго коня, надел доспехи, взял копьё острое, щит, меч булатный, поцеловал Марью лебедь белую и поскакал на ратную службу.
Покуда бился он с несметной ратью лютою — доехал до Киев-града красавец-царь сарацинский Иван Окульевич. Пришли его послы на двор ко князю Владимиру, принесли подарки богатые. А следом за ними и сам Иван Окульевич пожаловал.
— Брат мой, царь Иван свет Окульевич! — сказал князь Владимир. — Дороги твои подарки богатые — что ты хочешь взамен их получить, какие мои сокровища?
— Не надо мне ни сокровищ, ни подарков твоих, — отвечает царь.— Дозволь только увидать жену твоего богатыря-дружинника, Михайлы Потыка, Марью лебедь белую, да поговорить с ней.
— Что ж, к ним на двор дорога не заказана. Коли захочет Марья лебедь белая тебя принять — воля твоя, гляди на неё, разговаривай!
Послал царь Иван Окульевич гонцов с подарками на Потыков двор. А до Марьюшки, покуда она без мужа скучала, донеслись разговоры о том, что приехал в Киев-град прекрасный чужеземный государь, богатый, могучий. Обрадовалась она его гонцам, приняла от них подарки богатые, велела передать, что ждёт знатного гостя в своих палатах белокаменных.
Сидит она в покоях своих, вдруг видит в окошке: подъезжает ко крыльцу карета резная, золочёная, разноцветными каменьями убранная: пожаловал сам царь сарацинский Иван Окульевич! Как вошёл он к Марье, увидали они друг друга и замерли: поразила их любовь в самые сердца.
Протянули они руки, взялись за них, и говорит царь-красавец:
— Брось свой дом, своего мужа, любезная моя Марья лебедь белая. Поедем со мной, в мое сарацинское царство-государство. Буду любить тебя больше жизни, больше свету белого, одену в платья лучшие, богатые, осыплю каменьями драгоценными...
— Ой, да как же я поеду, Иван свет Окульевич! И ты люб мне, да как можно жене бросить мужа?..
— Какой он тебе муж? Ты — дочь царская, в тебе кровь царская, не простолюдная, а он — мужик, дружинник, солдат, на посылках у князя Владимира. За мной ты царицей будешь, а со своим Михайлушкой — простой дворней княжеской, захочет Владимир — заставит тебя своей челяди портки стирать! Выходи за меня!
Зарделась тут Марья лебедь белая, резвой ножкой гневно топнула:
— Твоя правда, Иван свет Окульевич, — мне ли, царской дочери, жить среди служивых людей, мужиков-дружинников княжеских! Сама хочу быть царицей. Стану я твоей женой, пускай сбудется твоя воля. Жди меня вечером у городских ворот, поеду я убегом в твое царство-государство.
На том и порешили.
А муж её, Михайло Потык, бился, бился с лютым ворогом, покуда не побежала орда несметная прочь от рубежей русских. Поворотил он тогда своего доброго коня, домой поскакал. Едет, торопится, хоть изнемог от ран, усталости да бессонницы. Даже на привал, на ночлег нигде не останавливается, думает — ждёт его дома жена любезная, беспокоится. Доехал до Киев-града, остановил коня на своём дворе, расседлал, разнуздал его, отвёл на конюшню, насыпал пшеницы белояровой, налил чистой водицы. Встретила его на крыльце жена любезная, Марья лебедь белая, кинулась на грудь. Поцеловал её Михайло, пошёл в свои покои и уснул сном богатырским.
Проснулся утром, пошёл по дому — нет нигде Марьи, и челядь ходит понурая. Кликнул Михайло верного слугу:
— Скажи, слуга верный, почему хмур, невесел ходишь?
И где Марьюшка лебедь белая, моя жена любезная?
— Ой, господин! Вчера вечером пошла твоя жена погулять по Киев-граду, не вернулась, где она — знать никто не знает, ведать не ведает.
Застучали тут копыта под окнами, вошли в горницу названные братья Михайловы: старый казак Илья Муромец да молодой Добрынюшка Никитич. Восплакался им богатырь:
— Братья мои названные, богатыри святорусские! Потерялась моя жена любезная, Марья лебедь белая, ушла вчера из дому гулять и не вернулась обратно. Где мне теперь искать её?
Молчат богатыри, в пол глядят. Наконец сказал Илья Муромец:
— Неверная, братец названный, оказалась твоя жена. Были мы сейчас во дворце у князя Владимира — получил он весточку от царя сарацинского, Ивана Окульевича, что твоя Марья лебедь белая убегом замуж за него пошла. А царь тот вчера вечером из Киев-града выехал вместе со своей дру-жинушкой.
Зарыдал Михайло пуще прежнего:
— Горе мне, братья названные, горе горькое! Эй, седлайте мне коня моего доброго! Поеду я следом за ними. И вы, Илья да Добрыня, со мной вместе езжайте.
— Нет, Михайло свет Иванович, не богатырское и не братское это дело — ездить вдогон за чужими жёнами. Хочешь ехать — езжай один. И совет наш прими: если нагонишь их, застанешь во чистом поле — руби сразу царю его буйную голову, а Марью обратно вези.
Недолго собирался богатырь — тотчас вылетел со двора его резвый конь.
Долго ли скакал, коротко ли — нагнал он царя Ивана Окульевича с Марьей лебедью белой. Стоит в чистом поле раскинутый шатёр, а в шатре — жена Потыкова, Марьюшка. Увидала она его — побледнела, на грудь кинулась:
— Муж мой ненаглядный, Михайлушко свет Иванович!
Оттолкнул её Потык:
— Расскажи-ка лучше мне, жена любезная, как ты, пока я спал-отдыхал после дороги да битвы жестокой, к другому убегом ушла? Где он, тот Иван Окульевич? Будете оба передо мной ответ держать!
— Наговорили тебе злые люди про меня худые слова, — ластится Марья. — Разве я могла убегом от тебя уйти, муженька моего любимого? Это царь Иван Окульевич виноват — он украл и увёз меня, когда я вечером по Киев-граду погулять пошла. С него и спрашивай.
— Где он, окаянный?
— Уехал на охоту со своей дружинушкой. Отдохни, покуда его нет, попей-поешь с дороги, развей грусть-досаду чарой зелена вина.
Выпил Михайло Потык чару зелена вина — ему Марья другую подаёт:
— Выпей, свет-муженёк, ещё чару!
Выпил её — она третью несёт. А после неё — пал на матушку сыру землю.
Приехал с охоты царь Иван Окульевич, показывает ему Марья спящего богатыря:
— Вот мой муж вдогонку за нами пожаловал, отруби ему голову!
И ответил ей царь:
— Стану бить сонного — не будет мне ни хвалы, ни почести. Сонного бить — что мёртвого. Вот проспится он, протрезвится — тогда другая стать, тогда можем мы сойтись в честном бою, и будет за победу мне, Ивану Окульевичу, честь и хвала.
Ушёл царь в шатёр отдыхать, а Марья тут же кликнула верных слуг, велела им копать яму глубокую и бросить туда Михайло Потыка свет Ивановича. Кинули его вниз, закидали жёлтым песочком.
А сама Марья лебедь белая поехала дальше с Иваном Окульевичем в его царство-государство сарацинское. Осталась в чистом поле свежая могила, а кругом неё бегает, криком кричит богатырский конь. Побегав, заржал прощально и поскакал ко стольному Киев-граду. Миновал ворота городские, стал по улицам носиться, громким криком ржать. Попался он на глаза Михайловым братьям названным, старому казаку Илье Муромцу да молодому Добрынюшке Никитичу, и сказали они меж собою:
— А ведь это Михайлы конь! Верно, его уж и живого нет, если конь один по городу бегает, по хозяину плачет. Надо нам собираться да следом за Михайловым конём ехать, приведёт он нас к могиле братца названного.
Сели они на своих добрых коней, кликнули коня Михайлова. Подскакал он к ним, фыркнул, вынесся из стольного града Киева во чисто поле и — пошёл вёрсты ногами мерить. А Илья Муромец с Добрыней следом скачут, еле поспевают. Добежал конь до могилы хозяина, ударил копытом и встал на краю её. Подъехали богатыри, смотрят — стоит конь и ржёт над ямой, жёлтым песком засыпанной.
— Видно, тут и лежит наш братец названный, Михайлушко свет Иванович.
Взяли они заступы железные, раскидали яму скорым-скоро. Лежит на дне её могучий богатырь. Закручинились Илья Муромец с Добрыней Никитичем, сняли шлемы — а Потык вдруг открыл глаза, потянулся, вскочил на резвы ноги:
— Ай и славно поспал я, братья мои названные! И снилось мне, будто жена моя любезная, Марья лебедь белая, убегом ушла к царю заморскому, сарацинскому, а я за ними вдогон поскакал. И будто встречает она меня в шатре белополотняном, подаёт чару зелена вина... Глупый, плохой то был сон! Где же она, мой свет, моя Марьюшка?
Отвечают ему богатыри:
— Не сон то был, Михайло. Уехала от тебя Марья с царём сарацинским, Иваном Окульевичем.
Повесил богатырь буйну голову.
— Вот как! Тогда, видно, такова и судьба моя — им бежать, а мне за ними гнаться. Не мила мне жизнь без любимой жены. Догоню, отберу её у царя чужеземного! И вы, братья названные, со мной поезжайте.
— Нет, Михайло, давай-ко один управляйся. Не к чести богатырской за чужими жёнами гоняться. Прими только наш совет: настигнешь царя с Марьей — сперва руби ему буйну голову, потом уж с ней разговаривай. А ещё лучше — сади её на коня и вези обратно в Киев-град.
Снова скачет Михайло Потык во чистом поле, гонится за царём Иваном Окульевичем и Марьей лебедью белой. Нагнал их на этот раз у самого креста Леванидова, где раньше Соловей-разбойник сидел. Шатёр возле креста раскинут, в шатре Марьюшка сидит. Увидала она мужа, испуга своего не выказала, а бросилась на грудь ему:
— Свет Михайлушка, муженёк мой любимый! Не своей волей еду я с коварным Иваном Окульевичем! Выручай меня от него! В прошлый раз, когда ты уснул, он приехал, увидал тебя и велел живого закопать.
— Где он теперь, окаянный враг? Хочу вызвать его на честный бой, чтобы знал, как чужих жён увозить, позорить.
— Вызови, Михайлушка, поделом ему будет! Да ведь ты ослаб, устал, проголодался с дороги-то, подкрепись немного, а то одолеет тебя царь.
А сама думает: «Эх, Иван свет Окульевич! Говорила ведь тебе: отсеки ты Потыкову голову. Не послушал меня, а теперь и конец твой близок, если я его хитростью не возьму, русского богатыря».
Вынул Михайло из ножен свой острый меч булатный, спрашивает Марью:
— Ну, так где он? Пускай выходит против меня в чистое поле, станем силою мериться, счёты сводить!
— Не торопись, Михайлушко! Опять на охоту ускакал Иван Окульевич. Прими вот пока чару зелена вина да поешь, подкрепи силу молодецкую.
Налила ему чару зелена вина и подсыпала туда зелья сонного тайком. Подносит ему и ластится:
— Вот как летний день не может жив быть без красного солнышка, так и я без тебя, Михайлушко Потык сын Иванович, не могу ни есть, ни пить, ни жива быть. Забудь свою тоску-кручину, опять ведь мы с тобою вместе! На, выпей чару зелена вина, развей думы тяжкие.
Выпил Михайло чару зелена вина, мигом сморило его Марьино зелье, упал он, покатился по сырой земле. Тут и копыта застучали — едет с охоты царь Иван Окульевич со дружинушкой. Показала Марья лебедь белая царю на спящего богатыря:
— Опять настиг нас муженёк мой, Михайло Потык! Если бы не я — быть бы тебе сегодня убитым во чистом поле, в поединке молодецком. Ой, царь, сделай по моему слову: сруби ты Михайле буйну голову. А то ждёт нас беда неминучая.
Отвечает ей могучий царь:
— Ай, Марьюшка лебедь белая! Разве можно трогать сонного? Ведь сонного бить, что мёртвого. Вот когда проспится он — сойдусь я, Иван Окульевич, с ним в честном бою.
— Не хвались, царь! Не одолеть тебе этого богатыря, побьёт он тебя, и не таких бивал, побьёт и твою дружинушку, и любую силушку великую.
Не послушал её царь, велел сворачивать шатёр и отправляться в путь-дорогу, в царство чужеземное. Уехал он вперёд с дружиной да челядью, а Марья лебедь белая задержалась возле сонного мужа, взяла его за пояс шёлковый, подняла с сырой земли и перебросила через своё плечо. И заговор нашептала:
— Где был удалый добрый молодец, там встань бел-горюч камешек, камешек тот пусть на земле лежит три года, через три года пусть пройдет сквозь матушку сыру землю.
Догнала царя Ивана Окульевича и поехала с ним в его царство-государство, в землю сарацинскую.
А в стольном граде Киеве старый казак Илья Муромец да молодой Добрынюшка Никитич ждут-пождут своего братца названного. Но нет и нет его. Обеспокоились богатыри:
— Где это Михайлушко? Не мог он просто так пропасть что в своей, что в чужой земле. Надо искать его!
Сняли свои одежды богатырские, нарядились каликами перехожими, вышли из Киев-града и побрели дальнею дорогою, пыльною. Идут, идут, притомились все,— нет нигде следа пропавшего братца названного, Михайлы Потыка. И встретился им на дороге стар-старичок:
— Здравствуйте, удалые добрые молодцы, русские богатыри, старый казак Илья Муромец да молодой Добрыня Никитич!
Удивились богатыри: как это так — он их знает, а они его — нет. Но виду не подали, сказали вежливо:
— Здравствуй, дедушка.
— Бог вам на пути, добрым молодцам! А не возьмёте ли меня к себе во товарищи, а то и в атаманы?
Переглянулись братья названные:
— Ну и посылают нам судьба да дорога товарища! Стар-старичок, еле ногами двигает, а к нам в атаманы просится. Но не след богатырю святорусскому обижать старого человека.
— Пойдём, дедушка, будь у нас в дороге товарищем и атаманом!
Пошли дальше. Богатыри шаг свой сдерживают, всё боятся: вдруг устанет, будет отставать их новый атаман? А он как начал шагать, палочкой по дороге постукивая, — обогнал братьев названных и пошёл далеко впереди. Уж они и бегом, и широким шагом за ним гонятся, — а нисколько не приближаются. Вроде бы тихо идёт стар-старичок, не торопится... Тёмной точкой видится впереди богатырям.
Долго ли, коротко ли шли они так — и пришли наконец в дальнюю землю сарацинскую, в царство-государство могучего царя Ивана Окульевича. Подождал дедушка Илью Муромца и Добрыню Никитича, вошли они вместе в стольный град чужеземный, встали втроём под царскими окошками да и запели:
— Ой же ты прекрасный царь Иван свет Окульевич! Да жена его любезная, царица Марья лебедь белая! Вы подайте-ка божью милостинку каликам перехожим, нищим, сирым, голодным детинушкам!..
От этого крику во всей земле сарацинской терема по-шатнулися, хрустальные оконницы посыпались, люди замертво на землю попадали. Бросилась к окну Марья лебедь белая, увидала их и говорит царю Ивану Окульевичу:
— Ох, царь-государь! Да ведь это не калики никакие, а богатыри святорусские, Михайлы, моего мужа, братья названные: старый казак Илья Муромец да молодой Добрыня Никитич, а с ними ещё стар-старичок. Зови их, царь, во дворец, пои, корми, глаз с них не вели спускать, дай злата-серебра, чтобы они о Потыке и думать забыли.
Выбежали слуги царские, подхватили калик под локотки, повели в палаты убранные, посадили за столы дубовые, яствами уставленные, стали поить-кормить, деньгами задаривать — насыпали каждому полную суму злата-серебра. Наелись калики, напились, на мягких перинах поспали-по-валялись— и стали в обратную дорогу собираться, во стольный Киев-град. Вышли утром за стены городские, идут-бредут, под тяжестью злата-серебра сгибаются, добром поминают царя Ивана Окульевича. Отошли от города три версты, присели передохнуть, и вдруг спросил стар-старичок у братьев названных:
— Вы после еды-питья, перин пуховых да злата-серебра, что вам в сумы насыпали, не забыли ли, богатыри святорусские, зачем в царство сарацинское ходили?
Поглядели Илья Муромец с Добрыней друг на друга, заплакали горькими слезами:
— Забыли, забыли мы про нашего братца названного, Михайлушку свет Ивановича! Улестил нас Иван Окульевич яствами отборными, перинами пуховыми, златом-серебром, забыли мы своё дело братское. Надо теперь обратно ворочаться!
Пришли обратно, снова встали под резны окошечки:
— Эй, выгляни в окно, Марья лебедь белая!
Опять словно гром великий сгрохотал над царством сарацинским: терема пошатнулися, хрустальные оконницы посыпались, люди замертво наземь попадали. Выглянула Марья в окно:
— Что надо вам, калики-богатыри?
— Скажи-ка ты нам, Марья лебедь белая, куда девала ты нашего братца названного, мужа своего, Михайлушку По-тыка свет Ивановича? Говори, а то разнесём сейчас все палаты царские, а тебя с ним смерти предадим!
— Ступайте-ка вы к росстаням крестовым, ко кресту Леванидову, найдите там бел-горюч камушек — это и будет ваш братец названный.
Повернулись они, тронулись обратной дорогою. Идут, головы повесили, кручинятся о судьбе братца названного, славного богатыря святорусского. Идут, дороги не замечают. Вдруг остановился стар-старичок, атаман ихний:
— Что же идёте вы, Илья да Добрынюшка, пути своего не видите, по сторонам не глядите! Опять за кручиной-то дело своё забыли! Так и до Киев-града добрели бы. Ведь прошли давно и росстани крестовые, и Леванидов крест. Эх, богатыри, ненадежно вам одним на поиски-то ходить. Ступайте теперь за мной!
Вывел он их к росстаням крестовым, ко кресту Лева-нидову, и видят они — лежит перед тем крестом бел-горюч камушек. Вот и нашли братца названного Михайлушку. Погубила тебя, Михайло, злодейка жена.
— Скидывайте-ка, молодцы,— говорит стар-старичок, — сумы со своим златом-серебром, высыпайте его на землю, в одно место.
Высыпали в одно место злато-серебро— и стал стар-старичок его делить на четыре части. Удивились богатыри:
— Ты зачем, стар-дедушка, атаман наш, злато-серебро неладно так делишь? Нас ведь трое, не четверо.
Показал им стар-старичок на бел-горюч камушек:
— Кто из вас, молодцы могучие, этот камушек поднимет да кинет через свое плечо — тому две кучи злата-серебра. Ну-ка, братья, пробуйте!
Смеются богатыри:
— Да ты, дедушка-атаман, видно, шутки с нами шутить надумал. Разве это дело для нас — поднять да бросить через плечо столь малый камушек? Ну-ка, Добрынюшка, давай!
Подошёл Добрыня к камушку, схватил — а поднять не может. Тужился, тужился — так выше колен и не поднял. Бросил на сыру землю.
Крякнул старый казак Илья Муромец, собрал свою силу, ухватил камушек и давай тянуть. И тоже как ни старался — не мог поднять выше пояса.
Подошёл тут ихний атаман, стар-старичок, к бел-горюч камушку, поднял его легонько в одной руке:
— Где был бел-горюч камушек, стань удалой добрый молодец, Михайло Потык сын Иванович! Стань снова, русский богатырь, скор да легок!
И бросил камушек через плечо. Смотрят богатыри — на том месте, куда камушек упал, стоит их братец названный, Михайло Потык сын Иванович. Бросились они к нему, давай обнимать-целовать. Потом спрашивают старичка:
— Да кто же ты есть таков, стар-старичок, добрый дедушка, кого нам благодарить-поминать?
— Зовут меня Никола Можайский, помогаю я и сирому, и неправедно обиженному. И не дам на Руси человеку погибнуть неправедно. Прощайте, братья названные, славные богатыри святорусские!
И исчез он — словно и не было.
Говорит тут Михайло Потык таковы слова:
— Скажите-ка вы мне, братья названные, где моя молодая жена, Марья лебедь белая?
— Эх, Михайлушко! Опять ведь, пока на земле бел-го-рюч камнем лежал, всё забыл. Убежала от тебя жена твоя коварная, Марья лебедь белая, к царю Ивану Окульевичу, в царство-государство сарацинское.
— Ну, стало быть, и мне туда за нею дорога лежит.
— Одумайся, Михайло, забудь свою жену неверную! Поедем домой, в стольный Киев-град, посватаешься там к любой душе-красавице — что княжьего, что боярского, что купеческого роду!
— Нет, братья, не могу, поеду за Марьей лебедью белой. И вы со мной езжайте.
— Нет, Михайло. Мы братское своё дело сделали, а за чужими жёнами гоняться — дело не братское и не богатырское. Езжай один. Только послушай нас на этот раз — отсеки ты царю буйну голову, увези жену безо всяких разговоров — а то не миновать опять беды.
Попрощался Михайло с братьями названными и двинулся пешком в землю сарацинскую, в царство могучего царя Ивана Окульевича.
Пришёл он в то царство, к палатам-теремам, дал слуге злата-серебра, чтоб позвал тот к нему Марью лебедь белую. Вышла Марья, увидала его, от страха сама не своя сделалась — а виду не подала. Бросилась, как раньше, на грудь ему, заголосила:
— Ой, Михайлушка, муж мой любимый! Увёз меня силой и хитростью поганый Иван Окульевич. Один раз в яме тебя сгубить хотел, в другой раз сонного превратил в бел-горюч камень. Ну, не горюй, одолеешь ещё окаянного Окульевича! Пойдём ко мне в покои, отдохни пока, подкрепись, набери после дороги силу богатырскую.
Повела его в свои покои, налила чару зелена вина и зелья сонного туда насыпала:
— Выпей, свет Михайлушка, на здоровье!
А сама опять думает: «Эх, эх, Иван Окульевич! Ведь говорила я тебе - отсеки Потыку буйну голову. Ведь если не возьму я его теперь хитростью — придёт тебе конец, одолеет тебя богатырь во честном бою».
Забылся опять Михайло возле жены своей любезной, выпил чару зелена вина — и свалился без памяти в её покоях. Привела туда Марья Ивана Окульевича, показала ему богатыря, и говорит:
— Слушай меня, царь! Отруби ты хоть в этот раз буйну голову Потыкову, не то не миновать нам с тобой беды неминучей.
Отвечает ей могучий царь:
— Нет, Марья лебедь белая, не след мне, могучему царю сарацинскому, рубить украдкой голову сонному человеку. Пускай лучше проспится да выходит на открытый бой, во чисто поле, там силами и померимся. А как побью его — пойдет тогда обо мне, Иване Окульевиче, слух по всей земле, по всем странам и городам, и будут мне честь и хвала!
— Ах, царь! Третий уж раз сей богатырь настигает нас. Не отсечёшь ему буйну голову — поплатишься своей, не одолеть тебе его во честном бою!
Но не послушал её Иван Окульевич, оставил Михайлу Потыка живым. Решила тогда Марья лебедь белая сама богатыря сгубить. Побежала в кузницу, велела кузнецам сковать пять больших гвоздей. Положила Михайлу на телегу, свезла к городской стене и стала его к той стене прибивать, чтобы он там и кончился. Вбила по большому гвоздю в каждую руку, ногу, хотела ещё в лоб вколотить, да не нашла пятого гвоздя — видно, по дороге потеряла. Рассердилась, ударила что есть силы бывшего мужа молотом трёхпудовым в лицо, так, что кровью облился богатырь, села на телегу и уехала обратно во дворец Ивана Окульевича, царя сарацинского.
— И без гвоздя, своей смертью умрёт Михайло на стене от боли, жажды и голода!
Пошла тем вечером гулять по городу сестра могучего царя сарацинского, Настасья Окульевна. Видит — висит на городской стене человек. Подошла она, откинула чёрный плат, которым укрыла Марья Михайлу свет Ивановича, стерла с лица кровь — и увидела доброго молодца, красавца писаного. И полюбила его без памяти. Пока любовалась она на Михайлу — очнулся он, открыл глаза.
— Кто таков будешь, молодец?— спрашивает его Настасья Окульевна.
— Русский богатырь я, Михайло Потык,— застонал Михайло.— Дружинник Владимира, великого князя стольно-киевского. Приехал сюда за женою своей, Марьей ле-бедью белой...
И рассказал ей всю свою историю. Заплакала горько царевна сарацинская:
— Сколь тяжка судьба твоя, добрый молодец! Великое страдание принял ты через моего брата Ивана Окульевича и жену свою Марью лебедь белую. Полюбила я тебя за те страдания, за красоту и верность твою. Если спасу тебя, выручу из беды — возьмёшь ли замуж за себя царевну сарацинскую, Настасью Окульевну?
— Возьму, свет-девица!
— Тогда избавлю тебя от смерти напрасной.
Поехала Настасья Окульевна к кузнецам, взяла у них клещи железные, вытащила теми клещами большие гвозди кованые из Михайловых рук и ног, сняла его с городской стены. Велела людям своим верным взять из темницы убийцу невинных людей, грешника-разбойника, и повесить его вместо Михайлы на стене и чёрным платом закрыть. А Михайлу увезла в свои покои тайные, стала лечить снадобьями целебными. А когда затянулись раны на теле богатырском — такие речи повела:
— Что теперь молодцу надо, чтобы могучим богатырём стать?
— Надо мне для того латы и кольчугу крепкие, саблю вострую, палицу богатырскую да доброго коня!
Улучила Настасья минутку и говорит родному брату своему, царю Ивану Окульевичу:
— Всё-то мне, братец родимый, немило с недавних пор, навалилась на меня злая болезнь, сохну и чахну, словно перед смертной кончиною!
— Что с тобой,— встревожился царь,— сестрица моя любезная? Соберу я для тебя со всего царства сарацинского и из других земель лучших врачей-лекарей, пускай готовят снадобья целебные...
— Не надо мне ни тех врачей-лекарей, ни их снадобий. А видала я нынче во сне, что если бы подарил ты мне коня доброго, латы да кольчугу крепкие, палицу богатырскую да сабельку вострую, оделась бы я в одежды военные, взяла оружие богатырское, села на коня — тут-то и прошла бы моя болезнь, и была бы я опять, красная девица, здорова.
— Дам я тебе, сестрица моя любезная, всё, что просишь!
В тот же день привели к её дому слуги царские богатырского коня, а на крыльцо сложили латы и кольчугу богатырские, сабельку вострую да палицу тяжёлую. Тогда выпустила она Михайлу Потыка из своих палат белокаменных и наказ дала:
— Ступай из города во чисто поле и жди там меня.
Вышел Михайло тихонько из города, пришёл во чисто поле и стал там ждать Настасью Окульевну. И вот едет к нему сарацинская царевна, ведёт в поводу коня доброго, а к седлу у него привязаны латы да кольчуга крепкие, палица богатырская да сабелька вострая. Оделся Потык, принял облик богатырский. А Настасья Окульевна обратно домой поехала. Пришла там к родному братцу:
— Братец ты мой родимый, могучий царь Иван свет Окульевич! Как дал ты мне коня доброго, всё снаряженье богатырское, как оделась я в него, как съездила прогуляться во чисто поле — так и ушла из меня злая болезнь, стала опять здорова я, красна девица.
Обрадовался царь, просил её остаться посидеть за трапезой с ним и Марьей лебедью белой.
Вдруг дрогнула земля, послышался зычный крик, от которого маковки в царских теремах зашаталися, стёкла в оконцах зазвенели. Кинулась к окну Марья лебедь белая, увидала — подъезжает ко дворцу Михайло Потык на добром коне, в богатырском снаряжении.
Закричала тут в голос Марья лебедь белая:
— Ах, Иван Окульевич! Сгубила нас с тобой сестра твоя родная, Настасья Окульевна!
Дрожит, трясётся дворец царя сарацинского — то входит в палаты русский богатырь Михайло Потык. Только вступил в трапезную — бросилась навстречу с чарой зелена вина бывшая жена любезная, Марья лебедь белая. А в чару опять сонного зелья насыпала.
— Ах, муж мой, молодой Михайлушко сын Иванович! Хитростью, убегом взял меня к себе коварный сарацинский царь! Три раза он, этот Иван Окульевич, тебя сонного к смерти присуждал. Вот он сидит — бейся теперь с ним до смерти в честном бою за свои печали да кручину молодецкую! Выпей только перед тем чару зелена вина, подкрепи дух богатырский, чтобы был удар твой крепче да вернее! И слетят с сердца тоска да досадушка, не станут мешать в том честном бою.
Криком кричит, слезами обливается — и чару к нему протягивает. Дрогнуло сердце Потыково, протянул он руку к чаре с зеленым вином, только хотел взять её — подлетела тут к нему сбоку царевна Настасья Окульевна, толкнула под руку — упала, пролилась та чара. Опомнился молодой богатырь, вспомнил все проделки Марьины, все беды, что из-за неё перенес — и срубил ей буйну голову. Тут же и Ивану Окульевичу конец пришёл. Взял Михайло под руку царевну сарацинскую, Настасью Окульевну, вывел из дворца, посадил на добра коня, привёз её в Киев, там с нею и обвенчался.
А после обратно отправились, и стал Михайло Потык царём в том царстве-государстве сарацинском, а Настасья Окульевна — царицей, и пошло у них житьё-бытьё лучше прежнего.
ДЮК СТЕПАНОВИЧ
В богатых краях заморских, в стране Индейской, у честной вдовы Мамелфы Тимофеевны жил да поживал сын, молодой боярин Дюк Степанович. Вот вырос Дюк Степанович, и не стало в тех землях молодца краше и статнее, ловчее и умнее, богаче снаряжением воинским: на нём кольчуга из золота червонного, панцирь из золота чистого, под ним конь, как лютый зверь: и бур, и космат, и грива до самой земли. На реке он броду не ищет, сразу с берега на берег перескакивает — вот какой конь!
Лук у молодого боярина тугой, разрывчатый, полосы на нем серебряные, рога* — из золота червонного, и тетивочка шёлковая, из белого шёлка шемаханского.
* Загнутые концы лука.
В колчане, златом-серебром вышитом, бисером украшенном, триста стрелочек калёных. Триста, да ещё три стрелы — вот этим-то трём стрелам цены нет. Колоты они из трость-дерева, строганы в Нове-городе, клеены клеем из осетра-рыбы, перьены пером орла сизого, орла-царя, каждому перу цена в тысячу рублей. У оперения горят огнём по два камня дорогих самоцветных, камня-яхонта, и наконечников золотая нитка вьётся, нитка аравийская. Ездит Дюк Степанович с теми стрелами на охоту, днём дичь стреляет, а ночью её собирает, потому что во тьме ночной стрелы Дюковы как свечи горят, огнями светятся. Оттого эти стрелы дороги, нет им цены.
Вошёл Дюк Степанович в возраст и силушку богатырскую, захотелось ему белый свет повидать, потешить стать молодецкую.
Пошёл он к матушке, честной вдове Мамелфе Тимофеевне:
— Родная моя матушка, Мамелфа свет Тимофеевна! Дай ты мне поехать по свету белому, ко стольному граду Киеву, на двор к великому князю русскому Владимиру Красно Солнышко! Да разреши поехать туда дорогой ближней, прямоезжей, не окольною!
Говорит ему родная матушка:
— Пора уж тебе, моё дитятко, белый свет повидать — так и быть, отпущу тебя во стольный Киев-град. Только одно велю: не езди туда дорогой ближней, прямой, не окольною! На той дороженьке неокольной стоят три заставы великих, непроезжих. Первая застава — по бокам дороги две горы высокие. Конный ли мимо них едет, пеший ли идет — сразу сходятся эти горы вместе и давят путника или всадника. Другая на пути застава великая — сидят по сторонам дороги две птицы огромные, с клювами железными — те птицы тебя вместе с конем склюют. На третьей заставе великой лежит Змеище Горынчище о двенадцати головах — та гадина поганая тебя вместе с конём спалит и сожрёт, не подавится. Ни на одной из трех застав тебе, дитятко моё, живым не бывать. Езжай-ка ты в стольный Киев-град дорогой дальнею, дальнею, да верною.
Поклонился Дюк Степанович родной матушке, распрощался с нею и на конюшню отправился. Ждёт уже его там верный конь бурушка-каурушка, фыркает, глазом огненным сверкает, бьёт землю тяжёлым копытом.
Напоил богатырь коня сытой медвяною, накормил пшеницей белояровой. Надел на него узду тесмяную, оседлал седёлышком черкальским, снизу седла клал потнички, на потнички войлочки, подтянул двенадцать подпруг шёлковых. Вскочил в седло по-молодецки, выехал на широк-двор. Стоит на крыльце боярских палат белокаменных честная вдова Мамелфа Тимофеевна, руки тянет, наказ прощальный дает:
— Дитятко моё родимое, молодой Дюк Степанович! Гляди, не бездоль по дороге жен-матерей, не сироти малых детушек ради похвальбы богатырской!
Взмахнул Дюк Степанович рукой на прощанье, ударил бурушка-каурушка копытами об сыру землю, скакнул со двора и был таков вместе с богатырём. Вынес хозяина за городскую стену, остановился и провещал голосом человечьим:
— Эй, молодой боярин Дюк Стапанович! Слезь-ка теперь с меня, завяжи в два платка по щепотке матери сырой земли. Один узелок привяжи к правому плечу, другой — к левому, чтобы не страшно было сидеть на мне, не свалиться со страху, как стану я с горы на гору поскакивать, с холма на холм, через реки и озёра перелетать, широкие раздолья между ног пускать.
И поскакали они дорогой ближнею, прямой, не окольною. К первой заставе подъехали — стали сходиться горы высокие, вот-вот раздавят коня вместе со всадником. Прыгнул тут бурушка-каурушка — пролетел между гор, не успели горы сойтись, их раздавить. Дальше поскакали. Увидали их птицы огромные, защёлкали клювами железными. Ударил копытами богатырский конь по матушке сырой земле, оторвался от нее — и проскочил между теми птицами страшными, не успели они и крыльев расправить. Вот и третья застава. Лежит там Змеище Горынчище, из двенадцати пастей огонь с дымом пускает. Увидал коня со
98
всадником, ударил хвостом, вытянул головы, пасти разинул, — а конь с Дюком Степановичем как взлетели в поднебесье, — попробуй их достать! Вот они уж и скачут далеко от заставы. Заревел Змеище, забил хвостом, заизвивался: ушла добыча!
А индейский богатырь уже к стольному Киев-граду подъезжает. Умерил бурушка-каурушка свой бег ретивый, стал простым конём. Приехали к палатам белокаменным великого князя Владимира, остановил Дюк Степанович своего коня посреди двора, оставил его там непривязанного, сам прошёл в покои княжеские. Встречает гостя княгиня Апраксия:
— Здравствуй, добрый молодец, ты кто будешь, и кто тебе надобен?
— Зовут меня Дюк Степанович, роду я боярского, приехал из Индейского царства ко Владимиру Красно Солнышко, великому князю стольно-киевскому.
— Честь тебе, добрый гость! Да только князя Владимира теперь дома нет, ушёл он в ряды торговые, поглядеть товары, с торговым людом потолковать.
— Там я его и искать буду, княгинюшка!
Идет Дюк Степанович по Киеву, по сторонам, под ноги поглядывает,— грязен город. Засыпали в нём мостовые чёрной простой землёй, прошёл дождь — и раскисла та земля, вязнут в ней, мажутся его сапожки сафьяновые.
В торговых рядах — шум, разноцветье: ходят в нарядном платье купцы иноземные, послы заморские, торговцы свой товар восхваляют, на площади скоморохи крутятся, горожане в рядах торг ведут.
Ходит меж рядов с дружинниками, с князьями-боярами сам князь Владимир Красно Солнышко. Увидал его Дюк Степанович, подошёл, положил ему поклон глубокий, поклоны на все стороны свите княжеской.
— Здравствуй, князь Владимир стольно-киевский, вы, князья-бояре, и вы, богатыри-дружинники!
Нахмурил князь густые брови:
— Ты кто таков есть, удалый молодец? Из какой орды, из какой земли, какого роду-племени, как тебя зовут?
Отвечает ему богатырь:
— Родом я из богатого царства Индейского, молодой боярин Дюк Степанович. Еще нынче утром, славный князь, я у себя дома был, а к обеду уж в твоей столице объявился.
Засмеялась, взроптала свита княжеская:
— Глупые речи ведет этот детинушка, одурачить нас хочет! Разве так можно — столь скоро, за полдня, доскакать до нас от царства Индейского? Не слушай его, княже, никакой он не боярин, не гость заморский из богатой страны, а тать-разбойник, лихой человек — убил боярина, надел его одежду, а носить её не умеет — гляди, как кафтан да сапоги у него грязью замараны, заляпаны!
— Мне моя родна матушка, Мамелфа Тимофеевна, сказывала, что в Киев-граде чистенько, мостовые в нём каменные. А они у вас, оказывается, чёрной землей засыпаны, водой дождевой их полило — вот грязь по колено и сделалась, замарал я в той грязи и кафтан парчовый, и сапожки сафьяновые, от княжеских палат в торговые ряды идучи.
— Ладно, добрый человек! — говорит ему Владимир-князь. — Кто бы ты ни был, а гостевой наш обычай мы нарушать не станем. Пойдем ко мне в гости.
Сели у князя все гости за столы дубовые, начали есть-пить, угощаться. Несут повара яства сахарные, питья медовые, кладут калачики крупичатые. Стал Дюк Степанович есть те калачики — мякиш съедает, а корку под стол мечет. Дивится княжеская свита, а один богатырь-дружинник, Чу-рила Пленкович, давай выговаривать:
— Негоже гостю за чужим столом чваниться! Что же ты, Дюк, мякиш у калачиков ешь, а корки под стол мечешь? Брезгуешь, что ли, угощеньем княжеским?
Всё больше князь Владимир хмурится, мрачно глядит на Дюка Степановича. А тот и говорит ему:
— Не гневайся, Владимир-князь, Красно Солнышко! Как у нас в городах мостовые чище, так и калачики у моей матушки пекут вкуснее твоих. У тебя, князь, печки глиняные, поды в них кирпичные, помазок мочальный в лохань с водой макают. А матушка моя калачики печёт в печках муравленых, в них поды медные, помазок шёлковый в сыту медовую обмакивают. Как съешь калачик один — сразу другого хочется, другой съешь — по третьему душа горит, третий съешь — четвёртый с ума нейдет. Вот какие моя матушка калачи печет!
Разгневался князь Красно Солнышко, стукнул кулаком по столу дубовому:
— Ты, я вижу, молодец захвастливый. И богат-то, и знатен, и ездишь быстро, и чище в твоём царстве, и калачики вкуснее наших пекут. А у самого сапоги в грязи по колено и кафтан запачканный. Коли и правда ты такой знатный да богатый, ударься-ка об заклад с нашим Чурилушкой Пленковичем: что поедете вы с ним жить во чисто поле и что будет у вас на каждый день по коню сменному, и по коню переменному — да все разные. И чтобы было у вас на каждый день по платью сменному, да по цветному платью переменному — да каждый день новому, ненадёванному. И сроку тому закладу будет три года и три дня. Если выиграешь тот заклад — признаю в тебе боярина знатного и богатого, а нет — велю посадить в темницу подземельную, как татя-разбойника.
Делать нечего — пришлось принять заклад, ударить по рукам с Чурилою Пленковичем. Чуриле сам князь Владимир поручился коней и платье менять. А что делать гостю заморскому, индейскому?
Стал проситься домой поехать за конями да платьем — не пускает Красно Солнышко. Вот ведь какая беда!.. Закручинился Дюк, запечалился, повесил буйну голову, утопил ясны очи во сыру землю. Увидал это бурушка-каурушка, подбежал к хозяину, ударил копытом землю, провещал голосом человечьим:
— Ты, хозяин мой, удалой добрый молодец! Что закручинился, запечалился, буйну голову повесил? Расскажи-ка всё как есть!
Поведал ему богатырь свою печаль-тоску.
Говорит конь:
— Не кручинься, добрый молодец! То ещё невелика беда. Я тебе помогу. Пиши-ка письмо своей родной матушке, чтобы послала тебе со мной всё, что для заклада надобно.
Сел тут Дюк Степанович на стульчик ременчатый, написал письмо скорописное, положил бурушке в сумку переметную.
— Скачи, верный конь, бурушка-каурушка, в царство Индейское, к родной моей матушке, честной вдове, боярыне Мамелфе Тимофеевне!
Взвился конь под облако — только его и видели. Начал с горы на гору, с холма на холм, через реки-озера перескакивать, широкие раздолья между ног пускать,— и часу не прошло, как раздалось его ржание под резными оконцами палат белокаменных, где жила Мамелфа Тимофеевна. Увидала его боярыня, всплеснула руками, заплакала:
— Видно, нет уж больше жива моего родимого детушка, Дюка Степановича,— стоит у моего крыльца один его добрый конь.
Вышла во двор, подошла к коню, увидала на седле сумку перемётную, догадалась:
— Хвастлив у меня сын, — не попал ли из-за своего хвастовства в какую беду?
Прочитала письмо Дюково, отдала слугам приказ, чтобы готовили на три года да еще три дня платьев разноцветных, по три пары на каждый день. Увязали эти платья, навьючили на бурушку-каурушку и отправили его. Скакнул конь со двора — только его и видели. С горы на гору, с холма на холм, через реки-озёра перескакивает, широкие раздолья между ног пускает. Долетел он так до стольного Киев-града, встал на широком подворье у великого князя Владимира Красно Солнышко, заржал громко. От того ржания лошадиного зашатались терема, зазвенели стёклышки в резных оконницах, люди перепугались. Выбежал из палат белокаменных Дюк Степанович, увидал своего верного коня с поклажей великой, обрадовался.
Поехали они с Чурилой Пленковичем во чисто поле. У Чурилушки телеги с платьями по дороге одна за другой тянутся, лошадиные табуны в тучах пыли идут, а у гостя заморского — только конь с поклажей, один все платья на себе везёт да ещё и всадника.
И вот живут они во чистом поле, каждый день платье меняют, Дюк Степанович даже не по два, по три раза — да всё у него одежда новая, разноцветная, одно платье краше другого. Чурила Пленкович что ни утро — на новой лошади выезжает, а молодой боярин заморский как выгонит пораньше своего бурушку-каурушку в росные луга — у того шерсть и переменится, словно всякий раз другой конь оттуда выходит.
Так и прошло у них три года, да еще три дня. Как истёк этот срок — поехали они в Киев-град, пред светлые очи самого князя Владимира. Доехали, слезли с коней, встали возле крыльца высокого — кого теперь князь в закладе победителем назовёт? Набежала тут тьма народу киевского — стоят, ждут приговора: кто кого одолел?
Стоял, стоял Чурила Пленкович, да и давай своим кнутовищем по пуговкам кафтанным постукивать, постукивать-позванивать. И словно туча вдруг небо
закрыла: летит на зов киевского богатыря-дружинника сам Змеище Горынчище, из двенадцати пастей огнём-дымом дышит. Перестал Чурила по пуговкам постукивать — и улетело чудо поганое.
— Ну, — говорят в толпе люди киевские, — большая сила стоит за нашим Чурилой Пленковичем, не совладать с ним чужеземному гостю.
Взял тут Дюк Степанович тоже кнутовище, начал по своим кафтанным пуговкам постукивать-позванивать. Закричали разом все птицы в Киев-граде, в городских полях, в лесах окрестных зарычали звери рыкучие — такой случился шум, такой пришёл страх, что упали все люди на землю, обмерли. Сам Владимир Красно Солнышко испугался, замахал руками с крыльца высокого:
— Эй, молодой боярин, Дюк Степанович! Приуйми-ка ты птиц крикучих, зверей рыкучих, оставь нам людей хоть на семена, не дай умереть от страху великого!
Отвечает ему Дюк Степанович:
— Не твоё я сегодня, князь, ем, не тебе мне и приказывать! Не хочу сегодня тебя слушать.
Взмолился тут перед ним весь честной люд:
— Челом тебе бьём, добрый молодец! Уйми-ка ты птиц крикучих, закличь зверей рыкучих, не дай погибнуть людям невинным напрасной смертью!
Перестал богатырь кнутовищем по пуговкам кафтанным постукивать-позванивать, умолкли птицы и звери.
— Ну, княже,— говорит Дюк, — теперь скажи: кто в нашем закладе победитель?
Молчит князь Красно Солнышко. Тут Чурило Пленкович вперед выступил:
— Давай-ка, Дюк Степанович, новый заклад держать: станем через Почай-реку на конях прыгать. Кто туда и обратно Почай-реку перескочит — тот и победитель.
Сели они на своих добрых коней и поскакали к Почай-реке.
— Ты заклад сей предложил — тебе и прыгать первому,— сказал Дюк Степанович Чурилушке. Разогнался тот, ударил коня плёткой, воткнул ему шпоры в бока — взвился конь над Почай-рекой. Но не смог до другого берега допрыгнуть, упал в воду на середине реки.
Настал черед чужеземного гостя. Гикнул он, прыгнул бурушка-каурушка — и вмиг оказался на другом берегу. Повернулся там, снова скакнул и полетел над водой обратно. На середине Почай-реки нагнулся Дюк Степанович, протянул руки — и вытащил Чурилу Пленковича вместе с конём. Да так и вёз их в руках до самого Киев-града стольного. Довёз, бросил к ногам князя Владимира:
— Ну, Владимир-князь, признаёшь мой верх?
Вздохнул Красно Солнышко:
— Твой верх, молодой боярин заморский! Ты заклад выиграл, теперь проси, чего хочешь.
— Выдай ты мне, князь, с головой супротивника моего, Чурилу Пленковича.
— Воля твоя.
Подошёл Чурило, чернее ночи тёмной, протянул свой острый меч:
— Вот я, перед тобой, руби голову.
— Ай, оставил бы ты его живым, Дюк свет Степанович! — воскликнул тут стольный князь киевский. — Не руби ему головы, пожалей слугу моего верного!
— Да не хочу я рубить ему буйной головы, хочу только наказ дать: не езди-ка ты боле никуда, Чурила Пленкович, не держи заклада с настоящими богатырями, сиди себе в Киев-граде, вышивай с бабами бисером!
Опять не удержался, похвалился, побахвалился заморский гость Дюк Степанович! Ведь если бы не бурушка-каурушка — не выиграть бы ему закладов.
Обрадовался князь Владимир Красно Солнышко, что отпустил молодой боярин его верного дружинника! Закатил большой почестей пир во славу Дюка Степановича. И на пиру том сказал ему:
— Разрешаю тебе, гость заморский, наезжать в Киев-град с товаром, будешь торговать у нас безо всякой пошлины.
— Наша Индейская держава, князь, больно богата: хоть с пошлиной, хоть без пошлины — мы убытку и не заметим!
Снова сдвинул князь брови свои густые:
— Уж больно хороша, по твоим разговорам, та Земля Индейская! Пошлю-ка я в неё своих оценщиков, пускай поглядят, каков ты на самом деле богат есть! Собирайтесь-ка, богатыри, верные дружинники: старый казак Илья Муромец да смелый молодец Алеша Попович!
— Не посылай, князь,— стал его уговаривать Дюк Степанович, — с Ильей Муромцем Алешу Поповича: у него глаза поповские, завидущие — останется он в нашем царстве Индейском, не вернется обратно к тебе. Пошли ты лучше верного, некорыстного Добрынюшку Никитича.
Остался Дюк Степанович во стольном Киев-граде дорогим гостем у князя Владимира, а Илья Муромец с Добрыней Никитичем поскакали в далекое царство Индейское.
Долго ли, коротко ли ехали — выехали на гору высокую. Глянули с той горы — впереди словно жар горит, аж глазам больно. Огнем полыхает.
— Это что же такое,— толкуют между собою богатыри киевские.— Не послал ли боярин Дюк Степанович вперёд нас весточку, чтобы зажгли со всех сторон державу Индейскую, чтобы ничего о ней не узнать* было русским гостям-оценщикам?
Подъехали поближе, смотрят — а то горят ярким светом на домах-теремах крыши золочёные, маковки на храмах самоцветные. По родному Дюка Степановича городу едут — улицы в нём широкие, мостовые красно-жёлтым песочком посыпаны, на крылечках сукно сорочинское разостлано — негде замарать сапожки да зелены кафтаны.
Приходят они в Дюковы палаты белокаменные — сидит там старая женщина, вся в злате-серебре. Низко кланяются ей богатыри:
— Бьём тебе челом, честная вдова, Дюкова матушка!
— Не Дюкова я матушка, добрые молодцы, я Дюку нижняя слуга, одёжу ему да его матушке стираю. Вы подите-ка в другие покои, там найдете Дюкову матушку.
Пошли они в другие покои, увидали там старую женщину, вся она златом-серебром украшена.
— Здравствуй, честная вдова, Мамелфа Тимофеевна!
— Не Мамелфа я Тимофеевна, а здешняя калачница, пеку молодому боярину да его матушке калачики крупичатые. Ступайте, добрые молодцы, в другие покои, дальние, увидите там Мамелфу Тимофеевну.
Встречает их в дальних покоях женщина старая, видом величавая, вся в злато-серебро убранная. Отвесили ей богатыри низкий поклон:
— Уж ты-то, верно, и есть матушка Дюка Степановича! Челом тебе бьют, Мамелфа свет Тимофеевна, богатыри, послы русские. Привет тебе от сына твоего и от Владимира Красно Солнышко, великого князя стольно-киевского!
Поклонилась она им в пояс, пригласила пожить в её палатах белокаменных. Позвала за столы дубовые отведать индейских калачиков крупичатых. Съедят Илья Муромец с Добрыней Никитичем калачик — другой сразу хочется, другой съедят — по третьему душа горит, третий съедят — четвёртый с ума нейдёт.
— Просто так, али с делом ко мне пожаловали? — спрашивает их за столом Мамелфа Тимофеевна.
— Послал нас сюда князь стольно-киевский поглядеть-посчитать, столь ли вы богаты, сколь Дюк Степанович сказывает.
— Считайте, сколько хотите. С чего начинать будете?
— Да хоть со сбруи лошадиной.
— Будь по-вашему.
Велела она слугам отвести послов княжеских в подвалы-склады глубокие, где хранилась сбруя лошадиная. Стали они ту сбрую пересчитывать. Считали целых три года, да еще три дня, — тут кончилась и бумага, и чернила ихние.
Вздохнули богатыри, пошли к Мамелфе Тимофеевне:
— Три года, да еще три дня считали мы твоё богатство, а не могли одной сбруи лошадиной сосчитать. Видно, матушка, честная вдова боярская, и правда твоё богатство несметно, несчитано.
Провела она их по своим складам-погребам глубоким: полны те подвалы злата-серебра, скатного жемчуга, а во дворе течет из желоба струйка золочёная. Во всю жизнь не сосчитать богатства! Оседлали Илья Муромец и Добрыня Никитич своих добрых коней и — обратно ко князю Владимиру, в Киев-град. Приехали, рассказали князю, как живёт Дюкова матушка в царстве Индейском. Удивился князь: сколь диковинны, неведомы есть страны чужеземные! И разрешил любезным гостям индейским торговать на киевской земле без пошлины. А молодого боярина Дюка Степановича отпустил с честью на родину, к матушке, честной вдове Мамелфе Тимофеевне.
ИВАН ГОСТИНЫЙ СЫН
Как во стольном граде Киеве, у великого князя Владимира, был почестей пир на весь мир. Собрался на него народ киевский: и князья, и бояре, и дворяне, и дружинники, и торговые люди, и мещане городские, и крестьяне из окрестных сел-деревень. Сидят гости княжеские за столами белодубовыми, устланными
скатертями расшитыми, едят яства сахарные, пьют питва медовые. За передним столом сидит сам Владимир Красно Солнышко, смотрит, чтобы стольники-чашники кого-нибудь не обнесли. А когда развеселился, разговорился люд честной, встал князь из-за своего стола и такое слово молвил:
— Эй, люди русские, любезные гости! Князья, бояре, дворяне, дружина моя верная! Купцы, мещане, крестьяне! Скажите-ка вы мне, кто согласен со мной об заклад биться?
— Каков тот заклад, княже? — загудели столы.
— Да хочу я узнать — есть ли у кого из вас конь, что бегает быстрее ветра? Чтобы съездил на нём добрый молодец за едину ночь от Киев-града до града Чернигова и обратно к утру воротился.
— Сколь это далёко будет?
— Три раза по девяносто вёрст. От меня заклад таков: тысяча, да еще сто рублёв, а от смельчака-охотника — его буйна голова. Ну, добрые молодцы, у кого есть такой конь? У кого есть удаль богатырская? Кто хочет княжеский немалый заклад выиграть?
Приумолкли гости, задрожали от страха: меньшой хоронится за среднего, средний за старшего, а от старшего князю ответа нет. Встал тут из-за стола белодубова удалой добрый молодец, Иван Гостиный сын, подошёл к князю, поклонился ему низенько:
— Не вели, княже, казнить-пытать, в дальню ссылку посылать, вели слово молвить. Буду я биться с тобой об заклад, коли проиграю — вели рубить буйну голову.
— Ладно, Гостиный сын! Где твои поручители?
Встали из-за своих столов белодубовых Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович — вся княжеская дру-жинушка хоробрая. А за Владимира поручились бояре киевские. Скрепили тот заклад, как положено, и пошёл Иван Гостиный сын с княжьего двора. Очи ясные потупил в мать-сыру землю. Вернулся к себе домой, зашёл на конюшню к коню своему верному, упал перед ним на колени:
— Уж ты маленький мой, бурушка косматенький! Вызывал сегодня на честном пиру Владимир-князь людей с ним об заклад биться — кто за ночь от Киева до Чернигова доскачет да обратно вернётся. А дорога туда — длиной три раза по девяносто вёрст. Приумолкли тут все, приужаснулись — меньшой хоронится за среднего, средний за старшего, а старший и язык прикусил. И богатыри-дружинники молчат. Чтобы не было всем позору, чтобы князь над людьми не насмехался, побился я с ним об заклад. Поскачем теперь мы с тобой до Чернигов-града, — да только придется, видно, мне после того расстаться с буйной головушкой.
Проговорил тут конь голосом человечьим:
— Слушай меня, хозяин, Иван сын Гостинович! Иди теперь ко князю Владимиру, проси у него времени трое су-точек, прежде чем в путь-дорогу отправляться. Те трое су-точек корми меня только пшеницей белояровой досыта, пои сытой медовой*, выезжай на мне во чисто поле по трём зорям вечерним.
* Сыта медовая — настоянный на хлебу медовый напиток.
Отправился Иван ко князю стольно-киевскому, ударил ему челом:
— Дай, княже, трое суточек перед дорогой дальнею да тяжёлою отдохнуть молодцу с конём.
Отсрочил ему Владимир путь на трое суточек. Все это время Иван Гостинович коня холил-кормил, по вечерним трём зорям выезживал. А как прошло три дня — стал собираться-снаряжаться. Надевал коню узду узорную, клал на спину плотны потнички, на потнички клал мягки войлочки, сверху — седёлышко черкальское; подстегивал двенадцать подпруг шёлковых, тринадцатую чересхребетницу — не ради красоты, ради крепости, чтобы не соскользнуло седло с коня, не оставил косматушка всадника во чистом поле или на дороженьке. Вскочил на коня, поехал на двор княжеский, — а там уж собрались и князь, и бояре киевские, и богатыри-дружинники — Ивановы поручители. Слез Иван с коня, поклонился князю:
— Бью тебе челом, великий князь стольно-киевский! Скачу я теперь к Чернигов-граду, исполнять наш заклад, добывать себе славу молодецкую. А не добуду — твой, княже, меч, моя голова с плеч!
Вступил в стремя — только его на дворе и видели. Лишь пыль взвилась столбом за копытами.
Как пошёл косматушка вёрсты отмахивать! Скачет с горы на гору, с укатистой на увалистую, долы между ног пускает, по поднебесью, как ясный сокол, летит. Вот и Чер-нигов-град показался вдали. Домчался до него Иван Гостиный сын и сразу — на городскую площадь. Ходят по ней купцы, бояре, всякий люд честной. Стали они незнакомого всадника расспрашивать, кто он такой, откуда, по каким делам пожаловал, но он долго разговаривать не стал, сказал только:
— Здравствуйте, люди добрые, народ черниговский! Мало мне времени стольно-киевским князем Владимиром отпущено — дайте-ка мне теперь ярлык скорописный, что я у вас побывал, да пора уж мне и обратно скакать — ведь утро настает, боюсь, не успею!
Выписали они ему скорую грамотку, печатью запечатанную, повернул Иван своего доброго коня и пустился в обратный путь. Торопится косматушка — с горы на гору, с укатистой на увалистую скачет, долы-поля между ног пускает, по поднебесью, как ясный сокол, летит. Вбежал конь на княжеский двор, соскочил всадник, подошёл, от усталости качаясь, ко князю стольно-киевскому, отдал ему грамотку — тут и ударили колокола, отбивая час его возвращения.
Дивятся окружающие — бояре и дружинники, Ивановы поручители, прочий люд киевский, глядя на Ивана и его коня — оба от усталости еле на ногах держатся, у косматушки из ноздрей идёт пламя огненное, из ушей дым валит. Взял Иван Гостиный сын коня за узду, повёл его в конюшню, насыпал ему пшеницы белояровой, налил сыты медовой — и сам тут же улёгся на попону лошадиную спать-отдыхать.
Вечером встал, умылся, переоделся да и пошёл ко князю Владимиру за закладом выигранным.
— Отдай-ка мне теперь, княже, тысячу рублей да еще сто!
Злится князь:
— Отдам тебе заклад, добрый молодец, Иван свет Гостинович, если сослужишь мне ещё службу вот какую: сведи-ка коня своего доброго во чисто поле, выпушу я на него триста жеребцов быстрых, проворных, пускай они его растопчут, косточки по полю разнесут!
Запечалился Иван Гостиный сын, повесил буйну голову, ясны очи потупил в мать сыру-землю. Обнял дома своего косматушку, заплакал:
— Накинул на меня, миленький мой бурушка, косматушка, Владимир-князь службу тяжкую: велел свести тебя во чисто поле, напустит он там на тебя триста скорых жеребцов, чтобы растоптали тебя, тело по полю развеяли. Давай-ка станем прощаться, видно, в последний раз видимся, конь ты мой верный!
Говорит ему косматушка голосом человеческим:
— Хозяин ты мой, Иван свет Гостинович! Это разве служба? Это службишка, служба еще впереди будет. Выпускай меня из конюшни, побегу я во чисто поле, а ты меня здесь, на своем дворе, дожидайся.
Прибежал косматушка во чисто поле, стал там гулять-погуливать, траву шёлковую пощипывать. Вдруг слышит громкий топот — скачут на него по полю триста быстрых жеребцов. Набежали на него — стал их бурушка покусывать, прочь от себя гнать. Да жеребцы назад не бегут, сердятся, лягают его, грозят рас-топтать-разорвать. Рассердился тут Иванов конь, ударил копытом в мать сыру-землю. Задрожала мать сыра-зем-ля, в чистом поле дубы зашаталися, вершинами вместе стали сплетаться, всколыхнулись воды в озерах глубоких. Кони княжеские со страху как мешки овсяные повалилися, а их конюхи-погонщики едва живы стоят. Заржал бурушка и домой побежал.
Не успел Иван Гостиный сын оглянуться, — а уж конь его в конюшне стоит. Засыпал он ему пшеницы белояровой, налил сытушки медовой и отправился ко князю Владимиру Красно Солнышко.
— Сослужил я тебе, княже, службу верную, службу тяжкую. Должно мне теперь свой заклад получить — тысячу рублей да еще сто.
Хмур князь, гневен:
— Не видать тебе заклада, коли не сослужишь мне еще одну службу: гони-ка своего коня опять во чисто поле. Есть у меня тридцать жеребцов — злые те жеребцы, страшные, много прежних сильнее, не уйти от них живым твоему косматушке.
Запечалился Иван, закручинился. Обнял на конюшне за шею своего коня верного:
— Бурушка ты мой, косматушка! С малых лет я тебя выхаживал. Холил ноги твои быстрые, спереди-то правая нога по колено бела, левая — по нижнюю косточку. В последний раз мы с тобой сейчас видимся, да и простимся навек: велел тебя князь Владимир снова в чистое поле пустить. Выгонит он там на тебя тридцать жеребцов — злые те жеребцы, страшные, много прежних сильнее, растопчут они тебя, залягают, загрызут, тело по полю разнесут.
Снова провещал ему бурушка:
— Не печалься, хозяин! Это разве служба? Это не служба, службишка малая. Служба-то ещё впереди будет. Открывай конюшню, выпускай меня.
Во чистом поле травы вкусные, шёлковые. Ходит по ним бурушка, пощипывает. Вдруг слышит — шум великий приближается: скачут на него тридцать свирепых жеребцов. Налетели, заржали-завизжали, стали Иванова коня за шкуру острыми зубами хватать, ногами лягать, копытами острыми метить. Ударил тут косматушка правым копытом о сыру-землю. Задрожала мать сыра-земля, дубы в чистом поле зашаталися, вершинами сплелись, вода в глубоких озёрах всколыхнулась. Жеребцы свирепые от страха словно мешки овсяные наземь повалились, княжьи конюхи-погонщики едва живы стоят.
Забежал косматушка на конюшню, впустил его Иван Гостиный сын, засыпал ему полные закрома пшеницы белояровой, налил сытушки медовой и опять ко Владимиру Красно Солнышко пошёл.
— Вели, княже, заклад мне выплатить — тысячу да еще сто рублей, нехорошо знатному господину простого человека обманывать.
Покачал князь головой:
— Прежде еще одну службу сослужи мне, удалой добрый молодец: выгони своего коня еще раз во чисто поле. Есть у меня три жеребца — против них никто на свете не устоит. Пущу-ка я их нынче на твоего бурушку — тут ему и конец придет, и не станет в моем княжестве коня лучше, чем мои кони.
Идёт Иван обратно, глаза в землю упёр, да всё равно не видит пути-дороженьки — взор слёзы застлали. Упал коню в ноги, возопил:
— В последний раз с тобой прощаюсь, бурушка мой верный, косматенький! Выпускает нынче князь на тебя трёх жеребцов, которых нет на свете сильнее-могучее.
— Успокойся, хозяин мой, Иван свет Гостинович! Знаю я этих трёх жеребцов: один из них брат мне названный, другой конь синегривый, ему одному со мной не справиться, а третий конь из полона приведён, по родине тоскует, он за князево дело тоже смерть принимать не станет.
Открыл ему Иван конюшню, побежал косматушка во чисто поле. Только прискакал — летят на него три жеребца сильных, могучих. Ударили с разбегу своими грудями крепкими, широкими — и давай грызть, лягать. Удержался конь на ногах, стукнул, как раньше, правым копытом об матушку-сыру землю. Задрожала земля, дубы во чистом поле зашаталися, верхушками сплелись, во глубоких озёрах вода всколыхнулася. Увидал конь, из полона пригнанный, какой перед ним страшный враг — повернулся, ускакал в свои родные края. Синегривый от страха замешкался — тем временем ухватил его бурушка-косматушка за хребет, бросил на землю — да так крепко, что тому и конец пришёл. А третьему жеребцу морду на спину положил, заржал тихонько — тот и узнал братца своего названного, покорился ему, говорит:
— Коли победил ты двух таких могучих жеребцов, то быть тебе отныне старшим братом, а мне младшим.
А в конюшне Иван ждёт своего бурушку, кручинится: непросто ему будет нынче выстоять! Слышит — фыркнул кто-то во дворе, стукнул копытом в ворота конюшни. Открыл — стоит конь весь мокрый, бока искусанные, а смотрит весело, ржёт заливисто. Засыпал ему Гостиный сын зерна отборного, налил сыты медовой, сам стал собираться во дворец:
— Когда же князь мне заклад отдаст, заклад немалый: тысячу рублей да еще сто? Или князьям свои слова-то исполнять ненадобно?
Владимир Красно Солнышко в ответ на его вопросы только глазами сверкнул:
— Подожди с закладом своим, надоеда! Когда захочу, тогда и отдам! Прежде того исполни ты для меня еще одну службу: выгони своего коня во чисто поле в последний раз. Соберу я там всех своих ловчих, доезжачих, конюхов, призову дружинушку богатырскую — поглядим, нельзя ли его поймать на аркан шёлковый.
Опять, не видючи свету, Иван домой отправился. Говорит коню своему верному:
— Конь ты мой верный, бурушка-косматушка! Задумал князь Владимир на сей раз тебя в свои конюшни увести. Велел выгнать тебя во чисто поле, там у него ловилыциков-погонщиков собралось великое множество, все с арканами шёлковыми — от них тебе никак не уйти.
Молвит конь:
— Как поскачу я нынче в чисто поле — и ты тоже туда приходи. Да надень на себя шубу кунью. Станут меня ловить ловилыцики-погонщики арканами шёлковыми, буду я бегать от них — и пробегу мимо тебя. Ты тогда протяни в мою сторону правую руку, чтобы я мог ухватить зубами за рукав да вырвать его из шубы прочь. Устрашится тогда князь со своими ловилыциками: «Это что за такой дикий у Ивана конь — не знает хозяина, оторвал у него шубий рукав».
Выпустил Иван Гостиный сын коня, сам надел кунью шубочку и пошёл-пошагал во чисто поле. А там уж князь Владимир Красно Солнышко со многими слугами, дружинниками, у всех в руках арканы крепкие, шёлковые, носятся по полю, ловят Иванова коня, бурушку-косматушку. А тот бегает вокруг них, не дается никому.
Увидал Иван Гостиный сын, что конь прямо к нему скачет, вытянул в его сторону свою правую руку. Оскалился бурушка, хватил зубами за рукав и вырвал его прочь из шубы куньей. Загалдели тут, зашумели княжьи слуги, а князь Владимир воскликнул:
— Какой же это добрый конь?! Добрый конь всегда своего хозяина узнает. А этот не узнал, чуть не убил, чуть руку ему не оторвал, кунью шубу испортил. Собирайтесь, слуги, домой, мне такой дикий конь не надобен — кто знает, какой от него беды ждать!
Только Красно Солнышко к себе во двор вступил — а там его уже Иван Гостиный сын поджидает:
— Изволь, княже, заклад платить по-уговоренному!
Вздохнул князь, да делать нечего — выплатил ему тысячу рублей да еще сто. После того обнял добрый молодец своего косматушку:
— Ну, спасибо тебе, мой добрый конь, сослужил я с твоей помощью все службы тяжёлые, да и заклад немалый получил с князя Владимира.
СОРОК КАЛИК СО КАЛИКОЮ
Собрались как-то сорок да ещё один инок* из пустыни Ефимьевой, монастыря Боголюбова, идти в дальний Иерусалим-град, поклониться святыням.
* Иноки — люди, удалившиеся из мира и посвятившие свою жизнь Богу.
Звались раньше такие путешественники — кАликами перехожими. Стали они вместе думать думу крепкую, как столь великий путь одолеть. Выбрали атамана — Касьяна Михайловича, мужа честного, многомудрого.
И сказал он такую речь:
Пустынь — отдельный, самими монахами образованный монастырь, монашеская коммуна. Иерусалим — город, где жил и проповедовал свое учение Иисус Христос, основоположник христианской религии.
— Дорога наша, братья-иноки, будет неблизкая, много вёрст придётся идти дорогами большими и малыми, сёлами и деревнями, городами и подгородками. Давайте же теперь, загодя, положим промеж себя такую заповедь: кто из нас украдёт, или солжёт, или загуляет, да не скажет, не повинится атаману, а атаман сам про то дело проведает — такого человека закопать по плечи в землю во чистом поле и оставить одного.
«Верно!— сказали калики.— Соглашайтесь, братья! Нельзя нам лихого человека среди себя держать». Присудили составить атаманову заповедь письменно и скрепили её своими руками сам Касьян Михайлович да податаман, родной брат его Михайло Михайлович.
После того уложили сорок калик со каликою еду да нехитрое своё имущество в котомочки дорожные и двинулись в далекий Иерусалим-град. День бредут, а ночь отдыхают, где закат ни застанет. Долго ли так брели, коротко ли — оказался перед ними славный Киев-град, столица городов русских. Остановились калики на острове Череги-реки, любуются на городские терема чудесные, церквей маковки золоченые. А в то самое время охотился на Череге-реке сам князь Владимир стольно-киевский со своими свитой и дружиною. Переночевали калики на острове, утром проснулись от шума великого. Смотрят — плывут к острову струги разукрашенные, на них кони стоят, люди в охотничьей одежде, с охотничьим снаряжением... Испугались путники, собрались все во единый круг, клюки-посохи в землю повтыкали, на них свои котомки повесили дорожные да как вскричат все разом зычными голосами — дрогнула от того великого крика матушка сыра-земля, с деревьев верхушки попадали, под князем Владимиром Красно Солнышко, что со свитой и дружинушкой уже на берег выехал, конь на колени сел, а богатыри его с сёдел попадали. Едва опомнился князь — слез с коня, подошел к каликам.
— Вы кто такие будете, войско громогласное? По какому праву на моих землях пошаливаете?
— Мы, великий князь, не тати, не разбойники, мы калики перехожие, из пустыни Ефимьевой, монастыря Боголюбова. Идём во Иерусалим-град, поклониться святым местам. А и одари, княже, нас, сирых, хоть малой милостынькой! И добрым путникам поможешь, и душу свою спасёшь.
Засмеялся Красно Солнышко:
— Ах вы, калики-молодцы! Речи у вас смиренные, а по виду вы — богатыри богатырями. Дал бы я вам милостыню немалую, да вот беда: не беру я на охоту ни еды, ни злата-серебра: что настреляем, то и едим. Вы ступайте-ка, калики, в стольный Киев-град, в мой дворец, к моей жене княгине Апраксии, дочери королевской, передайте ей, что меня на охоте встретили, и велел-де я вас накормить-напоить, дать в дорогу злата-серебра.
Ускакал князь со свитой и дружиною, а калики отправились в стольный Киев-град. Встали там посреди княжеского двора широкого, клюки-посохи в землю упёрли, сумы дорожные на них подвесили, встали в круг да и грянули песню величальную в честь светлой княгини Апраксии. От той песни на теремах верхушки закачались, в погребах бочки раскатилися, с крыш коньки-гребешки свалились. Сама Апраксия испугалась, задрожала, послала мамок-нянек узнать, кто это столь громко возглашает. Побежали во двор, возвращаются:
— То, княгиня-матушка, калики перехожие тебе величанье воспели. Идут они, сорок да еще один инок, в далёкий Иерусалим-град, ко святым местам, встретили в дороге князя Владимира, и велел он через них передать тебе, чтобы ты их напоила-накормила и милостынькой одарила.
Кликнула княгиня стольников и чашников, чтобы вели они калик во гридню* княжескую.
* Гридня — место во дворце, где жили княжеские дружинники.
Вошли калики в гридню, низко поклонились хозяйке Апраксии, чинно сели за столы белодубовые. Во главе сидит сам атаман их, Касьян сын Михайлович. А вокруг княгини весь двор княжий собрался: она стоит, всех красой своей затмевает; стоят её мамушки и нянюшки, красные сенные девушки — смотрят во все глаза как трапезничают гости нежданные.
Побежали тут между столами стольники-чашники княжеские, угощают путников: несут яства сахарные, несут питья медовые. Наелись-напились гости до отвала, ударили челом княгине Апраксии, ее дворне, стольникам-чашникам, что их едой обносили. Пошли в покои просторные, им княгиней для отдыха отведённые, так между собой рассуждаючи: оделила бы их пресветлая Апраксия, не мешкаючи, свежим хлебушком, златом-серебром на дорожку, да и пошли бы они дальше своим путём, во дальний Иерусалим-град.
А у молодой княгинюшки Апраксии совсем другое на уме: больно понравился ей молодой атаман иноков, славный и статный Касьян сын Михайлович. Как он сел в трапезной впереди убранных столов белодубовых — так от кудрей, от лица его молодецкого словно лучики солнечные засветились — до того атаман красив был. Обхождение ласковое, голос словно ручей журчит, речи учтивые, неглупые — запал он в сердце княгинюшки золотой иглой, и не может она ту иголку вынуть. Мучилась, мучилась — да и послала тайком к Касьяну Михайловичу прислужника своего хитрого, княжьего дружинника Алёшу Поповича, чтобы уговорил он атамана вечерком к ней прийти, в покои княжеские, в её спальню, посидеть, поговорить, любовное свидание сотворить.
Рассердился молодой Касьян Михайлович, как услыхал, что сговаривают его на дело нечестное, хитрое, обманное — отказал наотрез Алёше Поповичу:
— Не годится в доме, где нам честь оказали, хозяину пакостить. Эй, братья мои, калики перехожие, вставайте ото сна, собирайтесь в дорогу далекую, во Иерусалим-град! Не надо нам ни отдыха в покоях княжеских, ни злата-серебра, ни другой милостыни, коли за неё обманом платить надо!
Рассказал про всё это Алёша Попович княгине Апраксии, — разгневалась княгиня и задумала отомстить атаману калик перехожих, красавцу молодому Касьяну Михайловичу: дала слуге хитрому, Алёше Поповичу, чарочку резную серебряную, и велела ему сунуть тихонько ту чарочку в суму дорожную к Касьяну Михайловичу. И покуда калики в дорогу собирались да между собою совет вели, как дальше идти — украл Алёша Попович у Касьяна Михайловича суму дорожную, пропорол в ней дыру, засунул туда чарочку узорную серебряную, которой князя Владимира всегда по его приезде встречали. Засунул, зашил снова гладенько и подкинул суму на старое место.
Кончили калики свой совет и пошли с княжеского двора, не простившись с молодою княгиней. Отошли вёрст пять от Киев-града — догоняет их во чистом поле Алёша Попович и начинает кричать-ругаться:
— Не калики вы, а бродяги пакостливые! Честными людьми, святошами прикидываетесь, а сами — блудни, воры, разбойники!
— Зачем лаешь нас, добрый молодец? Какая обида тебе от нас была, скажи?
— Не меня вы, тати, обидели, а самого князя стольно-киевского и жену его, пресветлую княгиню Апраксию! Бродите по свету крещёному, воруете то, что в руку ляжет и глазу приглянется! Ведь княгинюшка вас, как дорогих гостей, приняла, накормила-напоила, спать в покоях уложила, а вы, люди бесчестные, украли у неё чарочку серебряную, резную-узорную, из которой князь Владимир Красно Солнышко, когда домой возвращается, пьёт! Ну-ка, разбойники, кладите на землю свои котомки дорожные, сейчас я вас обыскивать начну!
— А попробуй-ка!— ответили ему калики.— Мы тебе живо бока наломаем — да так, что ты и на коня сесть не сможешь. Нету среди нас бесчестных людей, и убирайся отсюда!
Видит Алёша Попович, что плохо может кончиться дело: калики уже за посохи схватились, размахивают ими, подступают, вот-вот колотить начнут — стегнул коня и поскакал обратно в Киев-град.
Тем временем воротился домой с охоты князь Владимир, а с ним вся его дружинушка богатырская. Князю Апраксия ничего не сказала, а позвала к себе в покои Добры-нюшку Никитича, поведала ему, что пропала вместе с каликами чарочка серебряная, резная-узорная. Попросила, чтобы догнал их Добрынюшка и розыск учинил.
Не смел Добрыня ослушаться госпожи, кинулся в погоню за каликами. Догнал их во чистом поле, соскочил с коня богатырского, поклонился всем и говорит вежливо, уважливо:
— Бью челом вам, иноки, люди праведные, и тебе, атаман Касьян Михайлович, муж честной, многомудрый! Не дайте вы мне, братья-калики, изведать гнев князя Владимира и жены его, Апраксии! Дозвольте всем вам осмотр сделать — не найду ли чарочки серебряной, резной-узорной, из какой князь, когда возвращается, пьёт? Может, завёлся среди вас человек лихой да вороватый? А если не найдём — забейте меня посохами своими дорожными насмерть за позор да напраслину!
Поглянулась каликам такая речь княжьего дружинника — прямая, уваж-ливая. Встали они в один круг и начали друг друга обыскивать, все — от мала до велика. Начал Михайло Михайлович досматривать суму дорожную брата своего, атамана Касьяна Михайловича — и нашёл ту чарочку серебряную. Заплакали калики от позору великого, отдали чарочку Добрыне Никитичу, на колени перед ним встали, в землю кланялись, прощенья просили.
Умчался богатырь, а они принялись исполнять свою заповедь великую: выкопали яму во сырой земле и зарыли в неё по плечи своего атамана, Касьяна Михайловича. Оставили его одного во чистом поле, поклонились низко на прощанье и пошли дальше своей дорогою, во Иерусалим-град.
Вернулся Добрыня Никитич в стольный Киев-град, отдал чарочку серебряную княгине Апраксии:
— Прими, матушка, пресветлая княгиня, сию чарочку серебряную! Твоя оказалась правда — украли её калики перехожие, а самый вороватый оказался атаман их, Касьян Михайлович! Хотел я ему там же, во чистом поле, голову срубить, да калики отговорили, сказали, что припасли ему сами смерть тяжкую, мученскую: вкопать в землю по плечи, да так и оставить. Будет он там стоять посреди поля чистого, покуда у него душа нечестная не отлетит. Или своей смертью помрёт, или волки сверху набежат, или снизу Змеище поганый подземельный подберётся...
Охнула княгиня Апраксия, всплеснула руками, заплакала: поняла, сколь недоброе дело сотворила. И начала она с той минуты чахнуть-болеть, отказали ей служить и руки, и ноги. Лежит недвижимая и плачет. .
А каликам от того места, где они атамана оставили, путь до Иерусалима-града еще немалый лежал: три месяца шли они туда, терпели голод, холод, лишения, не раз от разбойников отбивались. Повидали они там святыни, помолились, походили по местам заветным, искупались в Иордань-реке, положили по поклону за бывшего атамана своего, Касьяна Михайловича, и в обратную дорогу отправились. Идут месяц, другой, третий... А как проходили близ того места, где Касьяна оставили — Михайло Михайлович и говорит:
— Стойте, стойте! Блазнится мне, будто братов голос послышался...
— Истинно блазнится, брате Михайло! Ведь больше трёх месяцев нас здесь не было, а такой срок в сырой земле никто не выстоит: коли своей смертью не помрёт, так волки сверху набежат, или снизу Змеище поганый подземельный подберётся...
— Нет, это Касьян кричит! Пойду я на его голос...
Двинулись калики следом за Михайлой. Подходят туда, откуда голос доносился, видят — стоит на том самом месте, где оставили, вкопанный в землю по плечи бывший атаман ихний, Касьян свет Михайлович, живой-невредимый. Подбежал к нему Михайло, упал на землю, целует брата родного. Окружили их все калики, дивятся чуду великому, кланяются
Касьяну Михайловичу. Ухватили его за руки, потянули, вытащили из земли, обнимать начали.
— Да как же ты, Касьянушка, экой срок в земле выстоял?
— Как день — единым духом! Приходила ко мне Смерть, да я ей так сказал: невиновного, оговоренного человека не смей трогать, покуда он своей правды не доказал! Дай мне с княгиней-злодейкой поквитаться, разговор договорить! Кивнула Смерть, ушла, и с той поры на меня не садились мухи летучие, не касались в земле черви ползучие — никакая нечисть не трогала.
Глянули калики перехожие — все такой же их атаман молодец, такой же удалой да красивый, как и раньше. Лицо румяное, кудри льняные до плеч вьются, глаза глядят словно синь-море.
Приняли они, обласкали Касьяна Михайловича, снова выбрали своим набольшим, и отправились дальше в путь-дорогу, к пустыни Ефимьевой, к своему монастырю Боголюбову. Не доходя до стольного Киев-града, остановились они у креста Леванидова, встали в круг, послали самого молодого спросить у князя Владимира:
— Нельзя ли каликам перехожим приют найти у великого князя стольнокиевского?
А Владимир-князь, не зная о той чарочке серебряной, о беде, которую сотворила его жена Апраксия с каликами, вспомнил свою встречу с ними на острове Череги-реки, обрадовался, послал своих клюшников-ларешников бить че
лом братьям-путешественникам, пригласить их отобедать в палатах княжеских, а атамана их могучего, Касьяна свет Михайловича — пригласить наособицу.
Середь своего двора княжеского, широкого встретил калик Владимир-князь, пригласил на трапезу в палаты белокаменные, за столы дубовые, а молодого Касьяна Михайловича взял за руки белые, повёл в свою горницу. Сели они напротив друг друга, завели разговор душевный да учтивый; Касьян Михайлович и спрашивает:
— Здорова ли, княже, твоя жена, княгинюшка-свет Апраксия?
Повесил Красно Солнышко на грудь свою голову, молвил с трудом:
— Занемогла она тогда, после ухода вашего, уж полгода не встаёт, навалилась на неё болезнь-лихоманка неведомая, ни рукой не может двинуть, ни ногой.
— Дозволь глянуть на неё.
— Не ходи, Касьян свет Михайлович, больно дух у неё в покоях тяжёл.
— Нет, пойду.
Зашёл в покои княгинины — сразу велел слугам дверь настежь растворять, окошки резные распахивать. Только увидала его Апраксия — горько заплакала. Плачет и шепчет:
— Ты прости, прости меня, добрый молодец, удалой калика-богатырь Касьян свет Михайлович, за то, что напрасно тебя оговорила. Как привёз тогда мне Добрыня Никитич чарочку серебряную, резную-узорную — так и отнялись мои рученьки-ноженьки, и сердце болит беспрестанно. Прости ты меня, бабу слабую, обманщицу...
— Зарок мне дай, княгинюшка, что не оговоришь больше никогда никого — ни сильного, ни слабого, ни старого, ни малого, ни бедного, ни богатого...
— Клятву в том даю.
— Тогда встань.
Чувствует Апраксия — снова силой налились её руки и ноги. Встала, подошла к Касьяну и упала перед ним на колени. Взял он её за руку, повёл ко князю Владимиру. Устроил тот на радостях, что жена исцелилась, честной пир на весь Киев-град. Три дня гуляли у князя калики перехожие, а как подошло время им снова в дорогу отправляться — горько плакали и сам князь Красно Солнышко, и Апраксия, и дружина, и слуги их, уговаривали ещё остаться погостить. Но сказал атаман Касьян Михайлович:
— Пора нам, братья, в путь идти.
И вышли из Киев-града сорок калик со каликою, и пошли потихоньку к себе, в пустынь Ефимьеву, в монастырь Боголюбов.
СУХМАН-БОГАТЫРЬ
обирался во стольном Киев-граде у князя Владимира Красно Солнышко пир на весь честной мир. Сидят на том пиру князья да бояре, да Князева дружинушка богатырская. Напились гости, наелися, стали друг перед другом хвастаться: глупый хвастает молодой женой, а разумный — родным батюшкой да родной матушкой.
Князь Владимир между гостями похаживает, слушая
речи похвальные, усмехается:
— Что-то мои богатыри-дружинники сегодня сидят молчаливые, словно взяла их тоска-кручинушка! Чтой-то делами своими не хвастают! Ну-ка ты, славный мой силач
Сухман Сухмантьевич, скажи — что печален сидишь, не пьёшь, не похваляешься?
Отвечает Сухман князю Владимиру:
— Чем тебе похвастать, свет мой, княже? Разве тем, что привезу тебе из чистого поля лебёдушку — руками её поймаю, живую привезу, некровавлену.
— Быть по сему, Сухманушка! Привези мне ту лебёдушку завтра, к утру самому раннему.
Встал Сухман, поклонился князю, поклонился княгине Апраксии, гостям княжеским, вышел из-за столов белодубовых, скатертей шёлковых и покинул почестей пир. Оседлал своего коня доброго, взял сабельку вострую и поехал во чисто поле. Течет возле того поля чистого вольная Почай-река. Тихи у нее заводи, нет на них ни одной лебёдушки.
Загоревал богатырь:
— Горюшко теперь мне, доброму молодцу! Зачем хвастал перед князем Владимиром, что поймаю ему птицу живу? Не исполнив слова богатырского да наказа княжеского — лучше не ехать обратно в стольный Киев-град, страшен Владимир Красно Солнышко в гневе своём. Поеду, съезжу еще к Непре-реке, может, там найду лебёдушку.
Приехал богатырь на берег Непри-реки. Течёт река вся мутная, быстрая, и вдруг слышит Сухман — говорит она человечьим голосом:
— Эй, богатырь святорусский, Сухман свет Сухмантьевич! Не гляди ты на меня, на матушку Непрю-реку, а коли глядишь, так не дивись, не бойся: я ведь нынче, матушка-река, из силы вышла: стоят за мной, на другом берегу, татарские силы могучие, целых десять тысяч. Они теперь, поутру, мосты через меня мостят, мосты калиновы. Какой мост намостят — я его быстрой своей водою вырою да сорву. Вот и помутилась я, изнемогла, силу свою истратила. Остался один мост калиновый — скачи по нему, прими бой с силой татарскою, чтобы не вошла она на землю святорусскую!
Поскакал Сухман к мосту калинову, переехал по нему через матушку Непрю-реку, ворвался в войско татарское.
Стал бить, рубить, конём топтать поганых захватчиков. Увидал его царь татарский, Идолище Поганое, пустил в него стрелочку калёную. Прошла та стрела через Сухмана, от левого бока до правого, упала на сыру-землю. Полилась кровь из тела богатырского. Свалился с коня раненый Сух-ман, сорвал с сырой земли травы, с дерева листьев, приложил к ранам своим кровавым и снова в бой кинулся: выдернул из земли лесину, и давай той лесиной помахивать, посвистывать, татар ею охаживать. Побил он силу великую, всю рать татарскую, не пощадил и царя ихнего, Идолище Поганое. Остался у него от той лесины малый обломочек. Бросил он его среди побитых врагов и поехал в Киев-град.
Выходит встречать его на широкий двор сам князь Владимир Красно Солнышко:
— Здрав ли, богатырь мой Сухман свет Сухмантьевич? Ну, покажи, какую добыл мне лебёдушку — ведь ты её мне из своих рук отдать обещал, живую, некровавлену?
— Не вели казнить, вели слово молвить, свет мой княже, Красно Солнышко! Было мне сегодня утром совсем не до лебёдушки: подошла к земле Русской рать татарская, встала у матушки Непри-реки сила огромная — целых десять тысяч. Мостили они через реку мосты калиновы: что намостят, то у них Непря и выроет. От того вся река обессилела, помутилася. Как узнал я это, увидел — поскакал через Непрю-матушку, принял бой с погаными, одолел ту силу великую, не оставил их даже на семена.
Потемнел лицом великий князь стольно-киевский, махнул рукой страже:
— Эй, отведите-ка в темницу этого молодца, посадите под землю под крепкие запоры! Пусть узнает, как перед князем пустые речи говорить да своими подвигами богатырскими, которых и быть-то не было, похваляться! Одолел он, хвастун, рать татарскую в десять тысяч числом!
Схватили Сухмана Сухмантьевича, отвели в темницу подземную, посадили под запоры крепкие, железные.
Проходит немного времени — вспомнил о нём князь, призывает славного богатыря Добрыню Никитича:
— Поезжай-ка ты, Добрынюшка, к Непре-реке, погляди, нет ли там на берегах побитой татарской силушки.
Поехал Добрынюшка к Непре-реке, смотрит — стоят на берегах её остатки водой снесённых мостов калиновых, лежит побитая несметная сила татарская, и набольший их, сам царь Идолище Поганое. Нашёл русский богатырь и разбитый обломок лесины, которой Сухман татар колошматил, взял с собою в Киев-град, показал князю Владимиру. Рассказал, что увидел. Подивился князь рассказу Добрынину, велел взвесить обломок Сухмановой дубиночки — оказалось в нём весу девяносто пудов.
Отдает князь приказ:
— Идите, стражи, в темницу подземельную, отоприте запоры крепкие, железные, выпустите на волю слугу моего верного, могучего богатыря святорусского, Сухмана свет Сухмантьевича! Стану я теперь его миловать да славу ему воздавать, славу-почести: дам ему тканей, коней, злата-серебра, одарю городами да сёлами, старшим поставлю в дружинушке своей! Пускай все видят, что могу не только гневаться, а и жаловать за службу верную.
Отперли стражи запоры крепкие, железные, вывели Сухмана Сухмантьевича из темницы подземельной. Вышел он на белый свет, жмурится, спрашивает:
— Вы зачем, слуги Князевы, меня из темницы вывели? Или придумал Владимир Красно Солнышко казнить меня за всю службу верную?
Отвечают ему слуги:
— Не казнить тебя хочет великий князь стольно-киевский, а миловать, наградить тебя за битву с татарами на Непре-реке: тканями, конями, златом-серебром, городами да сёлами. Великие слава да почести выпадают тебе отныне, Сухман Сухмантьевич!
Покачал головой богатырь:
— Скажите вы великому князю стольно-киевскому: нет ему от меня прощения за то, что не поверил тогда мне, своему верному воину. Не хочу я его видеть. Дайте мне коня моего верного.
Привели к нему коня верного, богатырского, сел на него Сухман и поехал во чисто поле. Заплакал там от обиды великой на князя Владимира слезами горючими. Сорвал и траву, и листки со своей раны глубокой, и потекла кровь из тела богатырского. Сначала ручейком, потом быстрой речкою. Превратилась в той речке кровь в воду чистую, прозрачную, и потекла она по русской долине... Раскинулись по речным берегам луга зелёные, травы выросли шёлковые, засверкали-заплескались тихие заводи. И сказал Сухман последние слова:
— Конь мой верный, конь богатырский! Не стой, не плачь у тела моего, а иди в те луга зелёные, рви травы шёлковые, пей чистую воду из Сухман-реки, вспоминай своего хозяина.
И упал бездыханный на матушку сыру-землю. Исчезло, истаяло его тело в воде той Сухман-реки, в тех лугах зелёных, тихих речных заводях и быстрых омутах...
А на святой Руси Сухману и поныне славу поют.
_________________
Распознавание текста — sheba.spb.ru
|